Елена Арсеньева Преступления страсти. Месть за любовь (новеллы)
Жемчужина страсти (Маргарита Наваррская, Франция)
Ее имя значит по-гречески — жемчужина. Но цветок маргаритка, тезкой которого она была, французы используют так же, как мы — ромашку. На нем гадают о любви, отрывая лепесточки и приговаривая: «Немножко, очень, страстно, безумно…»
Все эти слова вполне применимы к героине нашей любовной истории. Немножко, очень, страстно, безумно… Королева Марго была преданной — каких мало! — служительницей Афродиты или Венеры, воскурявшей ей фимиам преданно и верно. Однако Афродита (как и Венера!) умеет отомстить тем из своих жриц, которые…
Но об этом — ниже!
Марго было не более одиннадцати, когда, казалось, какой-то нестерпимый огонь начал сжигать ее изнутри. Она так посматривала на лиц противоположного пола — на мальчиков и на взрослых мужчин, — что окружающие не могли не забеспокоиться. Историк Брантом уверяет, будто «Екатерина Медичи, видя, что у дочери слишком горячая кровь, принялась давать ей с любой едой сок барбариса, который во Франции зовется кислицей». Но, видимо, средство годилось для всех, кроме Марго, а на нее оно никак не подействовало: спустя самое малое время у нее появились два любовника — Антраг и Шарен. История умалчивает, кто оказался первым, известно лишь, что уже на заре своего истового служения Венере Марго показала столько усердия, что довела Антрага до преждевременной кончины. Да-да, юноша просто не выдержал буйного темперамента принцессы! Тогда она соблазнила придворного по имени Мартиг, сделав его третьим в своем списке. Она была еще ребенком внешне, однако, если ей приходило в голову завлечь мужчину, она устремляла на него столь пылкий взор, что разум в голове человека просто таял, оставалось одно лишь неистовое желание: как можно скорей схватить принцессу в охапку и свалиться с ней на ближайшее ложе. К слову сказать, кое-какие внешние приличия соблюдать Марго все же приходилось, поэтому иногда нельзя было искать самое ложе… тогда она отдавалась стоя, что научилась делать весьма ловко. Кто-то из женщин сочтет позу не слишком удобной, но Марго находила в ней массу удовольствия. А впрочем, в том-то и состоял ее счастливый дар, что она находила массу удовольствия во всех позах без исключения!
Если кому-то взбредет в голову упрекать юную Марго в развращенности, пусть он вспомнит, в какой среде произрастала сия маргаритка. Отец ее, король Генрих II, мог, конечно, служить примером высокой нравственности — но лишь в том смысле, что всю жизнь любил и обожал одну женщину… к несчастью, не жену свою и мать Марго, королеву Екатерину Медичи, а прекрасную Диану де Пуатье. Матушка Марго тоже не пренебрегала адюльтером. Правда, с ее интимными историями не было связано таких легенд, как с романом короля, зато Екатерина умудрилась сделать разврат средством государственной политики, создав из первостатейных шлюх-красавиц так называемый Летучий эскадрон, обросший в веках легендарной славой (девицам ее Летучего эскадрона предписывалось без разговоров следовать самым первобытным инстинктам мужчин, да и своим собственным…). Поэтому и Марго находила вполне естественным следовать своим инстинктам и забираться в постель к молодым людям, которые ей нравились.
Любовь, плотская любовь для Марго была вовсе не грехом, а удовольствием и счастьем, и она отдавалась зову плоти радостно, не ведая стеснения. Слишком рано отведав запретный плод, она то, что было связано с постелью, воспринимала просто, все было позволительным, и в самых, казалось бы, необычных галантных ситуациях она не испытывала никакого смущения.
Вот так просто и естественно в пятнадцать лет она и стала любовницей трех своих братьев: Карла, Генриха и Франсуа.
Звучит ужасно, но это исторический факт, подтвержденный, к примеру, таким беспристрастным бытописателем, как Агриппа д’Обинье. Впрочем, подтверждение имеется и самой Маргариты, выражавшей в своих мемуарах недовольство средним братом после того, как он стал королем Генрихом III: «Он жалуется, что я провожу время в занятиях любовью, вот это да! Он что, забыл, что первым уложил меня?»
Между прочим, Клеопатра тоже грешила со своим братом Птолемеем, да и Цезарь не обходил вниманием сестру свою… А если вспомнить примеры из любовного опыта многочисленных жителей Олимпа — богов-кровосмесителей или, скажем, божеств Севера..
Марго считала себя если и не вполне богиней, то уж полубогиней-то во всяком случае, а потому позволяла себе не стесняться.
Когда ей исполнилось восемнадцать, красота ее стала просто-таки сводить мужчин с ума. Они были готовы на все, чтобы заполучить в свои объятия эту брюнетку с глазами цвета черного янтаря. Ее глаза способны были одним своим взглядом воспламенить все вокруг! Кожа ее была такой молочной белизны, что Марго из желания похвастаться, да и забавы ради, принимала своих любовников в постели, застеленной черным муслином, но она и днем виртуозно умела подчеркнуть свою ошеломляющую внешность.
«Ее красиво-причудливые одеяния, ее украшения, — пишет Брантом, — приводили к тому, что все вокруг в нее влюблялись, и ни одно платье не осмеливалось скрыть ее великолепную грудь из опасения обеднить то прекрасное зрелище, которое открылось миру; потому что никогда еще человеческому взору не приходилось созерцать ничего красивее, белее, полнее и телеснее того, чем обладала Маргарита. Большинство придворных буквально обмирали при виде такого богатства, в том числе и дамы из самого близкого ее окружения, коим разрешалось поцеловать ее от избытка восхищения».
Следует сказать, что Марго была чувствительная девушка и любила декорировать чувственность — чувствами.
Например, она была безумно влюблена в своего кузена герцога Генри де Гиза. Ему испонилось двадцать, он был высок, статен и славился красивым лицом, обрамленным роскошными белокурыми волосами. Спустя некоторое время красоту его несколько подпортит шрам, полученный от шпаги наемного убийцы, но пока Генрих был воистину ослепителен. И ему удалось ослепить Марго. Они очень подходили друг другу по темпераменту и полному отсутствию какой бы то ни было стыдливости. По словам историка, они отдавались любовным играм там, где их настигало желание, будь то в комнате, в саду или на лестнице. Однажды их застали даже в одном из луврских коридоров, где они занимались, так сказать, вселенским грехом…
Король Карл IX, старший брат Марго, ничего не знал об их романе, пока его приближенный дю Гаст, известный, кстати, своей просто-таки патологической склонностью к доносительству, не подал ему однажды письмо. То было любовное послание Маргариты герцогу де Гизу, и оно не оставляло ни малейшего сомнения относительно характера отношений между корреспондентами.
Король ненавидел де Гиза за ум и широкую образованность, а еще больше — за неотразимую внешность. В припадке невероятной ревности он помчался к Екатерине Медичи.
— Читайте, — сказал он.
Королева-мать сама была интриганка и во всем видела интриги. Другая женщина разбранила бы распутницу-дочь, а она воскликнула:
— Это преступное оскорбление Вашего величества! Де Гиз хочет хитростью и обманом пробраться в королевскую семью!
Послали за Маргаритой, и не успела та войти в комнату, как король и мать набросились на нее. Ее били ногами и кулаками, называя «кошелкой, мешком для пожитков, чистильщицей трубок»… Когда Марго вырвалась из их рук, у нее был разбит нос, распухло лицо, растрепанные волосы торчали во все стороны, а одежда была изодрана в клочья. Екатерина, всегда чувствительная к внешним приличиям, схватилась за компрессы и приказала принести теплой воды. Мало того, она еще целый час сама зашивала порванное платье дочери.
Но если высокородная матушка отвела душу и угомонилась, то Карлу IX показалось мало. Он поручил своему сводному брату, бастарду герцогу Ангулемскому, убить герцога де Гиза во время охоты.
Но Марго прослышала про его план, предупредила любовника, и тот остался дома. Несколько недель спустя, желая создать впечатление, что с их связью покончено, Марго убедила герцога жениться на Екатерине Клевской, вдове принца Поркена, давней любовнице де Гиза.
Убедившись, что одна сторона нейтрализована, королева-мать принялась искать мужа не в меру распутной дочери. По ее мнению, принц Наварры, Генрих Бурбон, подходил во всех отношениях… Правда, он был протестант, такими же протестантами были и родители его, Антуан и Жанна Наваррские. Екатерина взялась за дело весьма ретиво. С помощью одной из красавиц Летучего эскадрона был нейтрализован Антуан Наваррский, а Жанну д’Эльбре Екатерина пригласила в Париж, где потихоньку отравила ее, чтобы та не восстанавливала Генриха против католиков вообще и Маргариты в частности.
Кстати, хоть Жанна и испытывала ненависть к католикам, Марго ей, скорее, понравилась. Королева Наваррская писала сыну: «Она красива, рассудительна, любезна, но выросла в гнусной, испорченной среде, где я не увидела ни одного человека, от кого не исходил бы дух развращенности. Я бы не хотела ни за что на свете, чтобы вы приехали сюда и здесь остались. Вот почему я желаю вас женить, с тем чтобы потом вы и ваша жена уехали из этого растленного места. Если до сих пор я думала, что развращенность двора велика, то теперь я увидела, что она безмерна. Здесь не мужчины берут женщин, а женщины — мужчин. Если бы вы здесь оказались, вам бы не удалось от этого ускользнуть, разве что вас спасла бы величайшая милость Божья».
В конце концов 18 августа 1572 года у портика собора Парижской Богоматери произошло странное бракосочетание. Странным оно было потому, что духовенство, желая удовлетворить всех, отслужило торжественную мессу, но так, что она не соответствовала правилам ни одной религии…
Честно говоря, Марго не слишком-то хотелось выходить за неотесанного гугенота. Когда священник задал сакраментальный вопрос о согласии невесты, она даже замешкалась. Но король Карл, который и понимал государственную необходимость брака, и изнывал от ревности к мужчине, который нынче ночью будет владеть его сестрой, решил сорвать злость на Маргарите и ударил ее кулаком по затылку. Едва не закричав от боли, она опустила голову, и священник счел сей жест за знак согласия…
На свадьбу съехалось множество протестантов, которые менее недели спустя, в Варфоломеевскую ночь, все до одного были убиты. И на следующий день после резни Карл IX с хохотом воскликнул:
— А неплохая… у моей толстой Марго. Черт побери, я думаю, второй такой во всем мире не сыщешь: она приманила всех моих мятежных гугенотов.
Ну что же, один из них, Генрих Наваррский, принужден был перейти в католичество, чтобы спасти жизнь, однако не стал менее мятежным. Он плел заговоры вместе с младшим братом Марго, Франсуа Алансонским. В одного из заговорщиков Марго и влюбилась со всем пылом своей неугомонной душеньки, весьма огорченной тем, что ей достался в супруги мужлан, Беарнец (так называли Генриха Наваррского).
Бонифас де Ла Моль числился среди фаворитов герцога Алансонского Это был блестящий танцор на придворных балах и любимец всех дам. «Монсеньор герцог, в услужении у которого он находился, — рассказывает мемуарист Пьер де Л’Этуаль, — дарил его своей дружбой и бесконечными милостями, в то время как королю он был ненавистен по причине некоторых своих особенностей, имеющих отношение скорее к миру любви, чем к миру войны, поскольку данный дворянин прослыл не столько поклонником Марса, сколько усерднейшим почитателем богини Венеры; к тому же он был очень суеверен, очень набожен и от частого посещения месс весь пропах ладаном (так, во всяком случае, говорили гугеноты). Он действительно не ограничивался ежедневным присутствием на мессе, но слушал их по три, а то и четыре в день, бывало и пять, и шесть раз, даже находясь в армии, — явление крайне редкое для людей этой профессии. Если верить слухам, то день, когда он не был на мессе, он считал проклятым днем. Остаток дня и ночь он обычно проводил в занятиях любовью, будучи глубоко убежден, что прослушанная с набожным рвением месса очищает от всех грехов и распутств, которые до сего совершались; знавший об этом его убеждении покойный король часто говорил со смехом, что «тем, кто пожелал бы вести учет развратных деяний де Ла Моля, достаточно сосчитать количество месс, на которых тот присутствовал».
Марго была точно такой же богобоязненной развратницей, как Ла Моль. Они оказались просто созданы друг для друга!
Однажды Ла Моль увидел Марго, одетую в платье из брокара с большим вырезом, позволявшим «видеть высокую и полную грудь, по которой обмирали все придворные», и, конечно, сразу в нее влюбился. Он совершенно потерял голову и внушил себе, что недостоин внимания красавицы, однако если усердно попросить Пресвятую Деву, то может повезти.
Теперь он целыми днями упорно перебирал четки, даже натер мозоль на указательном пальце. Но ему казалось, что Марго на него и не глядит. Тогда Ла Моль ударился в другую крайность и решил обратиться за помощью к нечистой силе. У королевы-матери служил знаменитый маг и лекарь по имени Козимо Руджиери. Его-то и умолил Ла Моль заняться приворотом королевы Марго.
Мэтр Руджиери вылепил из воска статуэтку, похожую на принцессу, надел ей на голову корону и, взяв виноградную косточку, уколол статуэтку в то место, где должно располагаться сердце. При этом он бормотал какие-то заклинания на древнееврейском…
Обретший уверенность Ла Моль на другой же день кинулся на колени перед Марго и объяснился ей в страстной любви. А между тем он совершенно напрасно тратил столька сил. Маргарита и сама давно заприметила красавца Бонифация и с нетерпением ждала, когда он сделает ей хотя бы малейший намек на свое желание.
И вот прозвучал даже не намек, а целый каскад намеков! Марго немедля дала понять, что готова на все. Спустя час восторженные вопли, доносящиеся из ее покоев, дали всему двору понять, что у королевы Наваррской появился еще один любовник.
Она была потрясена силой его любви. Вспомнила, что о Ла Моле рассказывли, будто он любимчик самой Венеры, оттого и обладает столь непревзойденными мужскими качествами. Теперь Марго была готова поверить, что так оно и есть…
Ла Моль был провансальцем, южанином, а значит, болтуном. Лежа в постели, он рассказал Маргарите о заговоре, который замышлял Генрих Наваррский, и о той важной роли, которую в заговоре должны были сыграть он сам и один из его друзей по имени Коконас, любовник герцогини Неверской.
Маргарита, выслушав признание, ужаснулась. Любовь любовью, но ведь она из королевской семьи! Сестра короля правящего вовсе не желала оказаться сестрой короля свергнутого. И Марго немедля сообщила о заговоре Екатерине Медичи.
Герцог Алансонскнй и король Наваррский были тут же посажены под домашний арест, королевская армия получила приказ выступить против мятежников.
Франсуа всерьез испугался за свою жизнь и бросился в ноги Екатерине. Он рыдал, просил прощения и уверял, что именно Ла Моль и Коконас являлись душой заговора. Генрих Наваррский вообще изобразил дело так, будто Ла Моль его оклеветал.
На Ла Моля и Коконаса пал гнев короля. Им и пришлось заплатить за всех, а больше всего — за любовь к двум принцессам.
В мае 1574 года на Гревской площади им отрубили головы. Тела их были четвертованы и вывешены на городских воротах. Однако наутро головы казненных исчезли.
А ведь дело в том, что герцогиня Неверская и Маргарита, которая понимала, что именно она фактически отправила Ла Моля на смерть, и чувствовала некоторые угрызения совести, послали одного из своих друзей, Жака д’Орадура, выкупить у палача головы казненных. Поцеловав их в охладевшие уста, дамы затем старательно уложили головы в ларцы и на другой день приказали их набальзамировать. Затем, по свидетельству историка, «они наполнили рот каждого убиенного драгоценными камнями, которые те дарили своим дамам при жизни, и обернули головы в свои самые роскошные юбки; потом все было залито свинцом и помещено в деревянные ящики. Наконец с помощью самодельных орудий женщины выкопали две ямы на Монмартре, ведь погибшие были мучениками, и захоронили головы».
Несколько дней Маргарита добросовестно старалась сохранять верность памяти драгоценной пропажи. Она даже носила на вороте своей блузки маленькую головку мертвеца в качестве памятки о любимом. А потом…
Понятно, что сталось потом. Маргарита осталась верна себе, а не памяти о мертвом любовнике.
Но не зря о Ла Моле поговаривали, будто он любимец Венеры. Кажется, богиня была возмущена тем, что красавец погиб из-за женщины, которую любил. И Марго с ужасом начала замечать, что ее чувствительность дала некую слабину.
То есть с чувственностью все обстояло как надо: Марго по-прежнему была готова лечь в постель с первым встречным красавцем и не могла устоять перед зовом природы. Возбуждение нарастало, доводило ее почти до отчаяния, но… прежнего восторга Марго уже не испытывала. Там, где на нее прежде обрушивался водопад наслаждения, она ловила теперь только жалкие крохи. Вся ее жизнь превратилась отныне в погоню за наслаждением, и это было только первой местью, которую уготовила ей разгневанная богиня.
Следующим любовником Марго стал молодой придворный по имени Сен-Люк. Он славился неистощимой мужской силой. Измучив его и измучившись сама, молодая королева познакомилась с красавцем, которого звали Шарль де Бальзак д’Антраг, и стала его любовницей.
Двор тогда находился в Лионе, где праздновал возвращение из Польши Генриха III. Король (Карл) умер, да здравствует король (Генрих)!
Он тоже начал ревновать сестру и решил призвать ее к порядку тем, что сообщил Генриху Наваррскому и о новом любовнике, и о прежнем… вернее, одном из прежних, а именно, о герцоге Анжуйском (данный титул перешел теперь к Франсуа Алансонскому). Король надеялся рассорить между собой руководителей недавнего заговора.
Однако Наваррец был прекрасно осведомлен о поведении своей жены, но ему было наплевать, ведь он и сам без зазрения совести предавался безудержному разврату.
Однако так или иначе слух о предательстве братца Генриха до Марго дошел и заставил ее стать чуть-чуть осторожней. Она совсем не хотела, чтобы ее отправили в монастырь! Несколько дней молодая королева вела себя очень разумно и совсем не смотрела на мужчин, чтобы избежать искушения. К тому же ее смущало то, что они не могут дать ей того, чего она так желает, — наслаждения.
Именно тогда дорогу ей перешел некто Луи Клермон д’Амбуаз, сеньор де Бюсси. Сей весьма элегантный молодой человек проводил все время на дуэлях или в объятиях придворных дам. А еще, по словам современника, «у него был часослов, в котором он записывал истории знакомых ему незадачливых мужей, посвящая каждому хвалебный гимн».
Ему тоже всегда было мало наслаждения, поэтому отношения любовников свелись к безудержной похоти. И очень скоро они допустили неосторожность. Однажды вечером кто-то увидел их в тот момент, когда они совокуплялись прямо в одежде, стоя в дверях комнаты.
Общеизвестно, что взбешенный от ревности Генрих III призвал Наваррца:
— Твоя жена обманывает тебя с Бюсси!
Муж Марго лишь пожал плечами и ничего не ответил. Его это не волновало. Равнодушной осталась и матушка. Она еще и короля призвала к порядку:
— Не знаю, как клеветники подсовывают вам подобные фантазии, — возразила она строго. — Все несчастье моей дочери в том, что она живет в ужасное время. Во времена моей молодости мы свободно разговаривали с кем угодно, и все порядочные люди, сопровождавшие короля, вашего отца, спокойно заходили в спальню мадам Маргариты, вашей тети, и в мою; никто не находил в том ничего странного, потому ничего странного и не было. Бюсси видится с моей дочерью на глазах у вас и у ее мужа, в присутствии свиты ее мужа у себя в комнате, в присутствии всех, а вовсе не тайком, не за запертой дверью. Бюсси знатный человек и первый при вашем брате. Есть ли тут повод для подозрений?
Так оно и длилось до тех пор, пока Бюсси не влюбился во Франсуазу де Монсоро (да-да, ее звали именно Франсуазой, а вовсе не Дианой, как уверял нас достопочтенный господин Дюма!) и не пал жертвой ревности ее мужа и отчасти предательства герцога Анжуйского. Но это — совсем другая история!
Муж Марго оставался по-прежнему равнодушен к похождениям жены. Казалось, он совершенно поглощен своим романом с дамой из окружения королевы-матери, с грациозной мадам де Сов.
Однако Наваррец был большим хитрецом. Он спал с мадам де Сов, но мечтал о побеге из Парижа. И вот однажды он исчез, и в следующий раз парижанам суждено было увидеть Генриха только через двадцать лет…
Он тут же поспешил отречься от католической веры, в которую перешел исключительно ради спасения своей жизни. И сообщил при том, что «сожалеет лишь о двух вещах, оставленных в Париже: о мессе и о своей жене. Что касается первой, то он постарается без этого обойтись, а вот без второй не может, да и не хочет обходиться».
То был первый раз, когда он выразил беспокойство о Марго.
Беарнец написал супруге письмо, в котором извинялся, что покинул Лувр, не попрощавшись с ней, и поручил сеньору Дюрасу поехать за женой.
Но Генрих III отказался отпустить сестру, сказав, что та является самым лучшим украшением его двора и он не в силах расстаться с ней. Фактически же Марго стала пленницей. Она не имела права выйти из своей комнаты, у дверей день и ночь стояла стража, а все ее письма прочитывались.
Во всеуслышание брат обвинял сестру в организации побега Наваррца. В действительности же Генрих III подозревал, что Марго участвовала вместе с мужем в заговоре в пользу их брата Франсуа, герцога Анжуйского, и отчаянно к тому ревновал. Все-таки воспоминания юности были еще живы у членов этой семьи, которые были связаны не только кровными узами.
Ужасно страдая от вынужденного целомудрия, Марго пыталась скрасить свое заточение поэзией, древней литературой и музыкой, но Ронсар и Овидий оказались никудышными любовниками. К концу третьего месяца режима воздержания она превратилась в настоящую тигрицу, лишенную самца. «Пронзительное желание, сжигавшее ее плоть, временами доводило ее до болей в пояснице, до невозможности сдержать какой-то нечеловеческий крик. Без сомнения, на том месте, где у нее рос пушок, — писал один современник, — можно было при желании сварить яйцо, настолько там было горячо и даже жарко».
И вот однажды Марго упала к ногам Генриха III и стала молить его о разрешении отправиться к мужу. Король не собирался ее отпускать, но помогла мать: она решила, что в обмен на свободу Маргариты ее мятежный младший сын откажется от противоборства с короной.
Разрешение было дано, хотя очень неохотно. И то с условием, что Марго должна приложить все силы, чтобы помирить протестантов с католиками, а вовсе не о личной жизни думать.
К тому времени бедняжка Марго находилась уже на грани полного безумия: по ночам она кусала простыни, видела непристойные сны и выкрикивала непристойности вслух.
Путешествие было для нее тягостным, так как их карету сопровождали красивые и потому в высшей степени соблазнительные офицеры, каждый из которых охотно успокоил бы ей нервы. Но молодая королева побаивалась матери и дождалась встречи с герцогом Анжуйским…
Их встреча принесла ей самое некачественное облегчение из всех, испытанных в жизни. Маргарита увидела в том знак, что пора прекратить сношения с братом, и твердо вознамерилась это сделать, чтобы с другим мужчиной испытать наконец полноту физического блаженства. Пришлось переспать с несколькими симпатичными господами. Самочувствие несколько улучшилось, и она смогла отправиться во Фландрию для переговоров с протестантами.
Проезжая по городам, Марго восседала в носилках, над которыми на пилонах высился балдахин, подбитый пурпурным испанским бархатом с золотым и шелковым шитьем. За королевскими носилками следовали верхом десять обворожительных девушек, а также восемь карет со свитой молодой королевы. На улицах, по которым двигался кортеж, толпились горожане, встречавшие громкими криками Маргариту, чей бурный темперамент им был хорошо известен.
— Это самая большая шлюха во всем королевстве, — говорили люди друг другу.
И все смеялись.
Они смеялись бы куда больше, если бы знали: в городке Катле, что в провинции Камбрези, Марго, направлявшаяся для примирения с протестантами, назначила свидание главе католической Лиги — герцогу де Гизу. Но речь на нем шла отнюдь не о способах причастия. А в принципе, речь вообще ни о чем не шла, раздавались только вздохи, стоны и крики.
Когда де Гиз тайно покинул Марго на рассвете, она устало вздохнула и подумала, что ее любовник, видимо, порастратил на других женщин часть своего баснословного пыла, а потому встречаться с ним тоже не стоит.
Но все же ей стало полегче… ненадолго. Правда, по прибытии в Камбре Маргарите уже незачем было вызывать кого-то срочно из Парижа: там, на месте, она нашла то, что ей требовалось, в лице господина д’Энши, губернатора, с которым она познакомилась на балу, данном местным епископом. Нет, не подумайте чего дурного — сам епископ не присутствовал на празднике, который начался сразу после танцев, а сбежал, напуганный тем, какой оборот начали принимать события.
В разгар оргии королева Наваррская удалилась в свои покои в сопровождении г-на д’Энши, который проявил себя столь доблестным любовником, что она обрадовалась своей воскресшей чувствительности и поинтересовалась, не желает ли молодой человек сопровождать ее во время путешествия. Губернатор согласился. Правда, в своих «Мемуарах» Марго придала ситуации вполне благопристойный вид: мол, приглашая губернатора Камбре принять участие в ее поездке, она надеялась привлечь его на сторону герцога Анжуйского: «Воспоминания о моем брате ни на минуту не покидали меня, и ни к кому я не питала такого расположения, как к нему. Поэтому я постоянно помнила инструкции, которые он мне дал, и, видя представившуюся мне прекрасную возможность содействовать его предприятию во Фландрии, по отношению к которой город Камбре и его цитадель можно было считать ключом, я не хотела упустить случай и употребила весь данный мне Богом разум, чтобы расположить г-на д’Энши к Франции и в особенности к моему брату. Богу было угодно, чтобы он почувствовал ко мне расположение, нашел удовольствие в беседах со мной и попросил разрешения сопровождать меня во время моего пребывания во Фландрии…»
Вся штука состояла в том, что лекарство под названием «д’Энши» очень быстро перестало действовать, так что Марго ощутила к приему его внутрь самое величайшее отвращение и скоро прекратила прием, отправив губернатора восвояси.
Правивший во Фландрии дон Хуан Австрийский, незаконнорожденный брат испанского короля Филиппа II и губернатор Нидерландов, принял Маргариту с особым почетом в Намюре. За полгода до того он побывал инкогнито в Париже. Благодаря помощи испанского посла ему удалось проникнуть во французский двор, где в тот вечер давали бал, и неузнанным увидеть королеву Марго, о которой говорила вся Европа. Само собой разумеется, он в нее влюбился, хотя молнии, сверкавшие в ее взоре, его немного напугали. После бала впавший в задумчивость дон Хуан признался друзьям:
— Она обладает скорее божественной, нежели человеческой красотой, но в то же время она создана для погибели мужчин, а не для их спасения…
Маргарита знала отношение к себе дона Хуана и рассчитывала использовать свои опасные чары, чтобы склонить его к нейтралитету в тот момент, когда братец Франсуа попытается совершить в стране переворот. Она намеревалась как можно скорее уложить дона Хуана в свою постель, для чего надела парчовое платье, «которое облегало ее самым бесстыднейшим образом, а декольте обнажало грудь до самых кончиков нежно-розовых сосков». Но дон Хуан повел себя крайне сдержанно, не воодушевившись, а скорее испугавшись открывавшихся перед ним сосков и возможностей, и крайне разочарованная в испанских католиках Марго двинулась дальше по пути в Спа, продолжая в каждом городе, который она проезжала, агитировать против испанцев.
— Поднимайте мятеж, — говорила она местной знати, — и призывайте на помощь герцога Анжуйского!
Результаты оказались сверх всякого ожидания. «Никогда еще ни одному дипломату не удавалось во время непрерывных увеселений и чествований справиться с поставленными перед ним задачами», — писал историк Целлер. В результате деятельности Марго очень скоро в стране начались сильнейшие волнения. В Льеже ей оказали горячий прием фламандские и немецкие сеньоры, которые устроили в ее честь грандиозные празднества. Столь грандиозные, что у нее не хватало времени доехать до знаменитого своими водами Спа, который находился в семи лье, и она приказала привозить ей целебную воду в бочках…
Все шло как нельзя лучше, но тут из письма герцога Франсуа Анжуйского Марго узнала, что королю донесли о ее переговорах с фламандцами. Придя в неописуемую ярость, Генрих III предупредил об этом испанцев, надеясь, что они арестуют Маргариту как заговорщицу.
Через два часа насмерть перепугавшаяся Марго и вся ее свита, побросав вещи, верхом во весь опор мчались в сторону Франции. Через пять дней измученные беглянки прибыли в Ла-Фер, принадлежавший герцогу Анжуйскому. Франсуа был уже там и с нетерпением ждал сестру. В тот же вечер Марго позабыла о своих клятвах никогда более не предаваться кровосмесительной связи и решила испробовать, каков он теперь, братец Франсуа… В течение двух месяцев множество сеньоров из Фландрии посещали герцога в Ла-Фере и осуществляли кое-какие приготовления к походу против испанцев. И каждому, кто его посещал, Анжуйский дарил в качестве сувенира золотую медаль, на которой были изображены его собственный профиль и профиль сестры.
Свидетели уверяют, что они «ложились в одну постель, нежно прижавшись друг к другу, на глазах у горничных», при всех обнимались без малейшего стыда. «Франсуа без конца, — писала Марго в «Мемуарах», — повторял мне: «О, моя королева, как мне хорошо с вами. Мой Бог, быть рядом с нею — это ли не рай со всеми его наслаждениями, а там, откуда я прибыл, сущий ад, кишащий фуриями и полный страданий». Мы провели вместе около двух месяцев, которые пронеслись, как два кратких дня, и были постоянно счастливы».
Надо сказать, в это время у Марго появилась одна черта — она и всегда любила приврать, а теперь стала врать постоянно. Дело в том, что она неосторожно проболталась своей придворной даме, мадемуазель де Монморанси, что перестала получать от мужчин то наслаждение, которое они ей давали прежде. Мадемуазель де Монморанси была пятнадцатилетней любительницей наслаждений, то есть ровно вдвое младше Марго. Строго говоря, Марго вполне могла иметь дочь таких лет. И малышка имела глупость, услышав неосторожное признание, посмотреть на свою королеву с искренним сожалением и пробормотать что-то вроде:
— Ну оно и понятно в вашем возрасте, ваше величество…
Марго едва не откусила себе язык. Она с удовольствием выгнала бы Франсуазу де Монморанси из числа своих фрейлин, однако род Монморанси был не таков, чтобы с ним можно было не считаться. Монморанси могли так настроить против нее братца Генриха, что все предыдущие неприятности, испытанные Марго по его вине, вообще ничего бы не значили! Поэтому ей пришлось проглотить обиду — и прикусить язычок. Отныне Марго во всеуслышание восхваляла всех своих любовников напропалую и завиралась порой до того, что сама начинала верить в доблести того или иного кавалера. Это проскальзывало даже на страницы ее вовсе не правдивых «Мемуаров». Однако все же кое-кому из придворных дам она иногда жаловалась… Именно благодаря им постельные огорчения обворожительной Марго и стали ведомы современникам и потомкам.
Тем временем события приняли такой оборот, что Маргарита должна была покинуть брата. Иначе ее объявили бы вне закона. Король Генрих III настоятельно рекомендовал ей уехать в Нерак, где находился ее муж.
Мысль о встрече с супругом заинтересовала Марго. Все-таки Франсуа уже поднадоел ей, а изменять ему с офицерами его свиты было не вполне пристойно — ведь он был в курсе каждого шага сестрицы… и мог быть очень ревнивым, злобным и мстительным… Марго порадовалась, что маменьке в свое время взбрело в голову выдать ее замуж, и, пролив при прощании с Франсуа приличное количество слез, равным образом притворных и правдивых, она со свитой отправилась в Нерак.
В пути королева Наваррская должным образом тренировалась, чтобы пылко принять супруга в свои объятия, буде он захочет посетить ее постель. Среди сопровождавших ее мужчин она выбрала молодого человека, мужскую силу и искусство которого она уже имела возможность оценить во время остановок. Она называла его «мой маленький дорожный любовник».
Гийом Распо играл на лютне и входил в состав частного квартета королевы. В Этампе Маргарита пригласила его в свою комнату под предлогом, что хочет послушать, как он играет соло. Отныне они играли вместе, дуэтом, почти каждую ночь.
История эта стала известна не только среди сопровождающих Марго лиц, но и среди населения тех мест, через которые проезжал кортеж.
Во время остановки в Шинонском лесу Марго вместе с Гийомом Распо углубились в чащу. Выбрав уютную поляну, они решили предаться любви. Неожиданно раздался треск ветвей, и любовники, подняв головы, увидели великолепного оленя, который стоял совсем близко. Храбрый лютнист всем телом, словно щитом, прикрывал Марго. Олень оказался любопытен. Он приблизился, обнюхал не смевших пошевелиться любовников, а потом своим огромным языком лизнул Марго в лицо. Она едва не лишилась чувств!
На счастье, тут на поляне появилась толпа крестьян, и олень скрылся в лесу. Один крестьянин сказал, внимательно разглядывая Марго и Гийома, по-прежнему лежавших в той же сакраментальной позе, в какой их застал олень:
— Вы можете встать, он убежал.
Гийом пробормотал:
— Спасибо! — Но не встал.
Как говорит мемуарист, поведавший сей исторический анекдот, «лютнист и королева Наваррская, оставаясь прижатыми друг к другу и напоминая животное о двух спинах, хотя Гийом Распо давно лишился всяких сил, не решались подняться из боязни обнаружить свой срам».
Тут только крестьяне поняли, что молодой человек не просто так прикрывает своим телом даму! Всех их охватил столь неудержимый и громогласный хохот, что на смех сбежались многие дамы из свиты.
Сообразив, кто такая Маргарита, крестьяне разбежались, опасаясь порки: ведь они подняли на смех королеву! И только после этого любовники смогли «привести себя в порядок, принять невинный вид собирателей цветочков и вернуться к своей карете».
В дальнейшем путешествие продолжалось без осложнений, и 2 октября королева Наваррская встретилась со своим мужем в городе Ла-Реоль. Генрих не выказал особой радости при виде супруги, зато в ее свите разглядел мадемуазель де Монморанси…
Так начался один из самых бурных романов будущего короля Генриха IV с женщиной, которая войдет в историю его жизни как прекрасная Фоссез. А Марго похвалила себя, что не поддалась первому импульсу и не выгнала малышку Франсуазу еще в тот, прошлый раз. Ведь, зная, что ее муж — натура непостоянная, порхающая, Марго подумала, что при этой малышке, зависящей от нее, риск получить от мужа развод заметно уменьшается. Ей также казалось, что она сможет использовать новую связь короля для оправдания собственного беспутства в глазах окружающих…
По свидетельству Сюлли, старый замок, принадлежащий дому Альбре, был далеко не так благоустроен, как Лувр. Не было в нем и привычного веселья. Принцы-гугеноты, окружавшие Генриха Наваррского, отличались суровым нравом, демонстрировали сверх меры добродетель и презрительное безразличие к увеселениям.
Марго же, наоборот, обожала роскошь, удовольствия, балы, и потому она решила, не откладывая в долгий ящик, изменить тягостную атмосферу, царившую в Нераке.
Сразу же по своем приезде она устроила несколько веселых танцевальных вечеров, во время которых Гийом Распо и его друзья привели наваррцев в замешательство, сыграв для них танец «Вольта» в новом трехдольном размере, от которого Генрих III был просто без ума и который немцы впоследствии окрестили Walzer, прежде чем он распространился повсюду под названием «вальс»…
Так как первые танцевальные вечера пользовались очень умеренным успехом, девицам из Летучего эскадрона было поручено как следует расшевелить протестантов. Что им и удалось гораздо лучше, нежели упомянутому танцу, ведь все они были восхитительны и славились способностью зажечь самых целомудренных. «В результате, — пишет один хронист, — дворяне очень быстро переняли привычку, танцуя с дамами, все чаще класть руку значительно ниже талии, хотя все, что было выше, выглядело не менее аппетитно».
Сюлли рассказывает в своих «Мемуарах»: «Отныне для придворных любовь стала самым серьезным занятием; смешение двух королевских дворов, ни один из которых не уступал другому в галантности, привел к неожиданному для всех результату: придворное общество безоглядно отдалось удовольствиям, пирам и галантным празднествам».
Итак, Генрих увлекся Фоссез, а Марго стала любовницей молодого и красивого виконта де Тюренна, герцога Буйонского, преданнейшего друга Наваррца. Он был очень хорош в постели, но не отличался изысканностью манер. Однажды вечером, сообщает Тальман де Рео, «будучи совершенно пьян, он облевал Маргарите всю грудь, пытаясь повалить ее на кровать. У Маргариты, которая тратила долгие часы на уход за своим телом, умащивая его всевозможными маслами, выходка вызвала крайнее отвращение. И все-таки она простила своего поклонника, не желая лишиться возможности пользоваться тем лучшим, что она в нем обнаружила».
Она опасалась ссориться с Тюренном прежде всего потому, что он был болтлив и мог во всеуслышание сообщить, что королева Марго — «ледяная рыба, которая всего лишь поддерживает славу своих былых похождений. Зачем-то она хочет, чтобы ее по-прежнему считали королевой шлюх!»
Ну, а Марго жила надеждой вернуть былые ощущения, только и всего. Кроме того, она так привыкла затаскивать в свою постель всех мало-мальски привлекательных мужчин, что уж не могла расстаться с весьма полюбившейся ей привычкой.
Вместе с пылким виконтом она устраивала бесконечные балы и маскарады, во время которых хорошим тоном считалось вести себя безобразно. Разумеется, Марго хватало такта не требовать у мужа денег на оплату увеселений, где она ему же наставляла рога. Нет, за деньгами она обращалась к казначею Пибраку, влюбленному в нее и потому постепенно разорявшемуся без малейшей надежды на взаимность.
Но при том Марго еще и посмеивалась над ним! Казначей оскорбился так сильно, что возвратился в Лувр и в подробностях рассказал Генриху III о том, что происходит при дворе короля Наваррского.
Король пришел в ярость, обозвал сестру потаскухой и тут же послал Беарнцу письмо, в котором сообщал ему о беспутстве Маргариты.
Король Наваррский сделал вид, что ничему из написанного не верит, однако не отказал себе в удовольствии показать письмо французского короля Тюренну и Маргарите. Маргарита, возмущенная очередной низостью брата, решила отомстить ему — побудить мужа объявить королю Франции войну. Предлог был найден очень незамысловатый: города Ажан и Кагор, преподнесенные ей мужем в качестве приданого, были незаконно присвоены Генрихом III.
Агриппа д’Обинье назвал войну «войной влюбленных». В своей «Всемирной истории» он писал:
«Мы коснулись ненависти, которую питала королева Наваррская к королю, своему брату. Она сделала все, чтобы любой ценой навязать ему войну. Эта искусная дама воспользовалась влюбленностью своего мужа в прекрасную Фоссез, чтобы внедрить в его сознание именно те решения, которые нужны были ей. Девочка по молодости лет была сначала робкой и боязливой и не могла выполнить то, что ей поручено хозяйкой. Тогда в помощь ей королева пригласила свою горничную по имени Ксент, с которой король сблизился. Горничная, более смелая и решительная, без всякого стеснения сообщала королю все новости, которые королева Наваррская получала из Франции или сочиняла, будь то слова презрения, произнесенные французским королем у себя в кабинете, или насмешливые замечания, сказанные на его счет монсеньором братом короля или герцогом де Гизом в разговорах с дамой де Сов. Королева сумела привлечь к задуманному ею делу любовниц всех тех, кто мог так или иначе повлиять на короля. Ей и самой удалось использовать для этого виконта Тюренна, сильно влюбившегося в нее…»
Пока длились боевые действия, на которые отправился Тюренн, в Нерак прибыл братец Франсуа со свитой.
В присутствии мужа, пусть даже открыто сожительствующего с юной Фоссез, Марго сочла невозможным бегать, хотя бы и украдкой, по ночам к брату. Однако не проводить же ночи в одиночестве! Это было противно самой сути Марго. К тому же она не теряла надежды вернуть прежнюю пряную остроту ощущений.
В числе молодых сеньоров, сопровождавших герцога Анжуйского, находился молодой человек по имени Жак-Арле де Шанваллон. Назвав его красавцем, мы бы не погрешили против истины. Он произвел на Марго такое впечатление, что бедняжка потеряла покой.
Заметив отчаянные взоры, которые Марго на него бросала, Шанваллон обошелся с ней очень грубо: взял да и изнасиловал ее. Марго пришла в восторг, испытав нечто вроде давно забытых эмоций.
Не медля, на другой же день, она написала своей подруге, герцогине д’Юзе, и поделилась с нею впечатлениями: «Я получила такое огромное удовольствие, что для описания всего понадобилось бы слишком много времени».
В глубине души она признавалась себе, что это лишь бледный отсвет прежних восторгов, однако и на том спасибо! Она была так признательна Шанваллону, что немедленно влюбилась в него.
Еще больше похорошевшая, позабывшая всех — и мужа, и Тюренна, и даже братца Франсуа, — она жила лишь обожанием красавчика, которого, впадая в некоторую экзальтацию, называла «своим прекрасным солнцем», «бесподобным ангелом», «несравненным чудом природы».
Однажды д’Обинье, который, по своему обыкновению, всюду все вынюхивал, застал ее в Кадильяке, «где она предавалась всяким вольностям» со своим любовником. Обрадованный возможностью сообщить друзьям свеженькую историю, он поспешил предать ее огласке, к великому ужасу Маргариты, которая боялась гнева мужа.
К счастью, Генрих Наваррский был в тот момент озабочен совсем иными вещами: герцог Анжуйский влюбился в прекрасную Фоссез, и король очень опасался, как бы малышка, чьи амбиции ему были хорошо известны, не дала себя соблазнить законному наследнику французского престола.
Сделав вид, что ничего не знает про Кадильяк, он явился к жене, без всякого стеснения поделился с нею своими сердечными тревогами и умолил ее поговорить с герцогом Анжуйским.
Маргарита была женщиной широкого ума. В тот же вечер она отправилась к брату, чтобы попросить его оставить в покое любовницу своего мужа.
«Я так его умоляла, — пишет она в своих «Мемуарах», — обращая внимание на то, в какое трудное положение он меня ставит своим домогательством, что он, для которого мое благополучие было важнее его собственного, подавил свою страсть и никогда больше о ней не заговаривал».
Но чтобы легче было забыть Фоссез, Франсуа решил покинуть Нерак и вернуться к себе. Через несколько дней он уехал и увез с собой верного Шанваллона.
Марго на собственном опыте смогла убедиться в правдивости старинной истины: не делай людям добра — и не наживешь себе зла. Она заперлась в своей комнате, чтобы всласть наплакаться и заодно сочинить стансы на отъезд возлюбленного. Кроме стансов, она беспрестанно писала Шанваллону письма: «Ваш отъезд, наша неожиданная разлука настолько же усилили мою любовь, насколько у слабых натур, сжигаемых вульгарным пламенем, она в подобных обстоятельствах ослабевает. И даже если вам захотелось бы новой любви, не бросайте меня, потому что, поверьте мне, тот час, когда вы мне измените, будет моим последним часом, так что срок моей жизни зависит от вашей воли».
Все ее письма кончаются одинаково: «Вся моя жизнь в вас, мое прекрасное все, моя единственная и совершенная красота. Я целую миллион раз эти прекрасные волосы, мое бесценное и сладостное богатство; я целую миллион раз эти прекрасные и обожаемые уста».
Между тем шло время, и отношения Генриха Наваррского и крошки Фоссез привели к тому, к чему сплошь и рядом приводят подобные отношения мужчины и женщины: барышня забеременела. Минуло девять месяцев, и подступил срок родов.
Марго очень волновалась. Если у Фоссез родится сын, взбалмошный Генрих может развестись с Маргаритой, которая была — вернее, считалась им — бесплодной, и жениться на м-ль де Монморанси. Вот будет смеху разведенной Марго оказаться во фрейлинах у ее бывшей фрейлины, новоявленной королевы Наваррской!
Такая перспектива столь же угнетала Марго, как и разлука с любовником. Однако небеса были за нее: «Богу было угодно, чтобы она произвела на свет девочку, которая к тому же была мертвой».
Генрих находился в тот момент на охоте, и Марго волей-неволей пришлось присматривать за Фоссез. Убедившись, что Фоссез родила мертвого ребенка, но сама жива, королева спокойно легла спать. Когда Генрих вернулся, он так разгневался, так скандалил, что Марго решила вернуться в Париж.
Честно говоря, она немножко преувеличивала свою обиду на мужа. Но ей хотелось вырваться из опостылевшего Нерака любой ценой. Ведь в Париже Шанваллон!
Однако в Париже был и Генрих III… Побаиваясь короля, который никогда не переставал ее ревновать, Марго оказалась вынужденной прибегать к поистине водевильным ухищрениям, чтобы принять любовника у себя в комнате. Она затеяла устройство в своих покоях небольшой внутренней лестницы. И подкупленный ею столяр под предлогом доставки материалов, необходимых для работы, являлся к ней каждый день и притаскивал на спине тяжеленный сундук, в котором, скрючившись и не смея дохнуть, сидел Шанваллон.
Историк Брантом рассказывает:
«Она принимала его в постели, застланной и покрытой черной тафтой, освещенной множеством факелов и в окружении прочих мелких, но способствующих сладострастию выдумок: именно тогда, в атмосфере изощренного кокетства и фантазий, Маргарита, подобно Урании, на имя которой она посягнула совершенно незаслуженно, зачала не только некую Лину, но и Эспландена, который и теперь еще живет при родителях, признанных законными, и даже подает неплохие надежды на будущее».
Но сколько веревочке ни виться… И вообще, нет ничего тайного, что не стало бы явным! Однажды Генрих III все же узнал о том, что происходит в комнате сестры…
В коридорах немедленно была расставлена стража с приказом арестовать Шанваллона, как только тот появится. Однако кто-то из стражников чихнул, и звук донесся до Марго. Она сразу почувствовала недоброе и сделала любовнику знак исчезнуть через окно. Мгновенно натянув на себя одежду, Шанваллон свесился с балкона и канул в темноту ночи, спустившись по веревке, с помощью которой каждое утро покидал Лувр. На набережной его, как всегда, с двумя лошадьми наготове ждал один из друзей. А спустя несколько мгновений королева Наваррская уже слышала удаляющийся стук копыт, уносивших Шанваллона к воротам Сент-Оноре, где у него были верные друзья.
На следующий день спозаранку Генрих III вызвал к себе капитана стражи и сразу понял, что сестра его перехитрила.
— С этого момента, — приказал он, — взять весь дворец под наблюдение, как снаружи, так и внутри.
Узнав о его решении, Маргарита была ошеломлена, потому что виконт был ей просто необходим. Тогда она сняла дом на улице Кутюр-Сент-Катрин.
Получив возможность делать то, что хочется, Маргарита украсила спальню дома зеркалами, обучилась у итальянского астролога новым утонченным ласкам и изощрялась как могла, заказывая повару для своего любовника остро приправленные блюда. Меню придумывала сама. Историки тех времен уверяют, что «Маргарита кормила любовника артишоками, кресс-салатом, сельдереем, пасленом, спаржей, морковью, перцем, лавровым листом, гвоздикой, креветками, зайчатиной, петушиными или бекасиными потрохами, то есть блюдами, чьи благотворные свойства к тому времени были хорошо известны».
Но вполне возможно, что она, как достойная дочь Екатерины Медичи, использовала необычные рецепты, составленные, как утверждают, самим Никола Фламелем, чьи сборники таких рецептов имели огромный успех у галантной публики. Вот, например, что великий алхимик предписывал для удвоения мужской силы. «Надо взять зерна цветка «satyrion pignon», зеленого аниса, сурепки в равных частях. Прибавить немного мускуса, измельченный хвост ящерицы, унцию крысиного яичка, печень малиновки, разрезанный на мелкие кусочки кошачий ус, два рога улитки, мозг воробья и траву, называемую птичьим языком, а по-научному omittiogioss, c небольшим количеством мух кантарид. Весь этот набор следует сварить в очищенном меду. Каждое утро натощак принимать приготовленной смеси весом в одну драхму в течение первых восьми дней и весом в один денье все последующие дни. Следует также использовать в пищу турецкий горох, морковь, лук и сурепку в виде салата, анис и кориандр, сосновое семя и с каждой едой выпивать стакан крапивного отвара».
Но рецепты подобного рода годятся лишь для простых людей. Тем, кто владеет большими финансовыми средствами, Никола Фламель рекомендует смесь из куда более дорогих компонентов и, само собой разумеется, значительно более эффективных. Вот один из таких рецептов.
«Возьмите семя репейника, истолките его в ступке, добавьте левое яичко трехлетнего козла, щепотку порошка, изготовленного из шерсти, взятой со спины собаки чисто белого окраса, и не когда-нибудь, а только в первый день новолуния, но сожженной на седьмой. Все это всыпать в бутылку, наполовину заполненную водкой, и откупорить только через три недели, в течение которых настойка подвергается влиянию звезд.
На двадцать первый день, который одновременно является первым днем следующего новолуния, прокипятить смесь до тех пор, пока она не загустеет; затем добавить четыре капли семени крокодила и все процедить через фильтровальный мешок. Процеженная жидкость и есть то, чем следует растирать половые органы человека, лишенного мужской силы. Эффект от жидкости мгновенный и чудодейственный. Она столь активна, что уже приходилось видеть женщин, забеременевших только лишь потому, что растерли себе соответствующие части тела, откуда она, естественно, переносилась на мужской орган, о чем мужчина даже не подозревал.
Но так как крокодилы редки в нашей стране, — осторожно замечает Никола Фламель, — и потому трудно раздобыть семя этого животного, его можно без ущерба заменять семенем очень многих пород собак. Но как бы там ни было, многие прибегали к этому средству довольно часто, и всякий раз с успехом».
Увы! Любовная диета не помогла Марго вернуть остроту ощущений, а Шанваллона вся приготовленная ею еда довела до того, что в один прекрасный день, обессилевший, исхудавший, раздраженный, он тайком покинул Париж и укрылся в деревне.
Маргарита, обезумевшая от горя, написала ему: «Нет ни справедливости на небе, ни верности на земле! Торжествуйте, торжествуйте над моей слишком пылкой любовью! Похваляйтесь тем, как вы меня обманули, смейтесь надо мной, насмехайтесь вместе с той, которая служит мне утешением лишь в одном: в том, что ее ничтожные заслуги станут для вас вечным укором за вашу вину. После того как вы получите это письмо, последнее, умоляю вас вернуть его мне, потому что не хочу, чтобы во время предстоящей вам встречи оно послужило поводом для отца и дочери поговорить на мой счет».
До Франсуа Анжуйского наконец-то дошли слухи о романе Шанвалона с Марго, и Шанваллону сообщили, что его не станут принимать при дворе герцога. Ему было просто некуда деваться, кроме как броситься в ножки Марго.
Не дав любовнику пролепетать все те оправдания, которые он приготовил по дороге, Марго принудила его подняться с пола, а затем снова опуститься — на постель, где они и оставались несколько недель, позабыв даже о необходимости появляться в Лувре.
Маргарита была счастлива. Любовник был с ней, и каждое мгновение, как сказал бы поэт, она могла видеть свое отражение в любимых глазах.
С ней стало происходить что-то странное. Порой ей начало казаться, что видеть это самое отражение в этих самых глазах куда важнее и нужнее для нее, чем ощущать сладостный прилив крови к некоему местечку. Именно это составляло прежде главную радость ее существования, а теперь вдруг какие-то духовности начались…
«Старею я, что ли?» — испуганно подумала она.
Неприятное открытие. Но куда бо amp;#769; льшая неприятность ждала ее впереди.
Король Генрих III, заинтригованный тем, что не видит своей сестры, приказал расспросить горничную Марго, и та сообщила ему о возобновившейся связи королевы Наваррской с Шанваллоном. Сообщила субретка также много других подробностей, которые, по словам историка, могли бы вогнать в краску даже солдат в казарме.
Король, который почему-то решил, что Марго ведет праведный образ жизни, страшно разозлился и решил отомстить ей так, как никто еще не задумывал ото-мстить особе королевской крови. Конечно, по сравнению с местью богинь это была сущая мелочь, однако сия «мелочь» надолго отравила Марго жизнь. Король задумал изгнать из Парижа королеву Наваррскую, но прежде нанести ей публичное оскорбление.
В воскресенье 7 августа при дворе должен был состояться большой бал. Генрих III пригласил на него и сестру.
Внезапно, в самый разгар праздника, король приблизился к Маргарите и громким голосом отчитал ее при всех, обозвав «гнусной потаскухой» и обвинив в бесстыдстве.
Слышать такое от мужчины, который практически перестал встречаться с женщинами и все свое внимание перенес на лиц одного с ним пола, называемых в народе «милашками», было, конечно, смешно. Всем, кроме Маргариты. Словно окаменев, она стояла посреди зала, а король с искаженным от злобы лицом, трясясь от ревности, называл имена всех ее любовников, о которых ему сообщила горничная. Наконец, пересказав все подробности ее интимных отношений, вплоть до самых непристойных, он воскликнул:
— Ваша распущенность отравляет столицу. Я приказываю вам освободить двор от вашего присутствия и немедленно покинуть Париж. Отправляйтесь к вашему мужу, если он еще вас желает.
Не произнеся ни слова, Марго встала, прошла сквозь молчащую толпу и добралась до своего дома. Но там ее ждал еще один удар: Шанваллон, опасаясь гнева короля, сбежал, даже не простившись с ней…
Но и это не было еще пределом унижений, которые ей предстояло испытать.
Когда ее карета (Марго спешно покинула Париж в сопровождении только двух своих ближайших приятельниц, мадам де Дюра и мадам де Бетюн) следовала по дороге, ведущей в Палезо, из леса неожиданно появился отряд стрелков, вооруженных аркебузами, и выстроился поперек дороги.
Карета остановилась.
Офицер приблизился к дверце и спросил, здесь ли находится королева Наваррская.
— Это я! — сказала Маргарита.
— По приказу короля снимите вашу маску, и пусть то же самое сделают те, кто вас сопровождает.
А надо сказать, что в те времена ни одна знатная дама не отваживалась пускаться в путь без маски, скрывающей лицо. Наверное, она и впрямь помогала сохранять инкогнито… разумеется, в том случае, если карета была без гербов!
В любом случае три женщины подчинились офицеру и открыли лица.
— А две дамы, без сомнения, мадам Дюра и мадам Бетюн? — спросил тот.
— Да!
— Тогда от имени короля я должен передать им вот это.
Сказав так, офицер влепил обеим дамам по увесистой пощечине. Марго и шевельнуться не успела, как вслед за тем вся группа стрелков окружила карету и выволокла из нее обеих приятельниц королевы, которые, разумеется, истошно вопили.
— Посадить их на лошадей и привязать к седлам, — скомандовал офицер. Затем, поприветствовав совершенно ошеломленную королеву Наваррскую, приказал кучеру продолжить путь.
Когда карета, скрипя колесами, вновь покатила по дороге на Палезо, Маргарита выглянула в окошечко и увидела, что королевские солдаты умчались вместе с пленницами.
Она была в ужасе и не могла понять, что произошло. Однако это была лишь часть задуманного Генрихом III плана мести сестре. Потеряв всякое королевское достоинство, забыв о том, что он мужчина («милашки» помогли, что и говорить!), Генрих думал только о том, как бы еще больше унизить и опорочить Марго.
Обе ее дамы были доставлены в Феррьерское аббатство и там подвергнуты допросу. «Король сам задавал им вопросы, — сообщает Брантом, — требуя подробностей, касающихся любовников сестры, тех мест, где Маргарита встречалась с ними, и «тысячи мелких деталей, зачастую крайне непристойных, которые заставляли обеих дам краснеть от смущения».
— Вы просто вредоносная нечисть, — заявил он, — я считаю вас соучастницами тех гнусностей, которые совершала королева Наваррская.
И он приказал бросить их в тюрьму. После чего написал своему шурину письмо, в котором недвусмысленно давал понять, что тот женился на потаскухе».
А между тем Беарнец, давно забывший Фоссез и всецело занятый любовью к графине де Грамон, известной в истории как прекрасная Коризанда, вовсе не желал воссоединяться с супругой. Более того, он считал ее присутствие в Нераке крайне нежелательным. Однако не так-то легко дать от ворот поворот законной жене, королеве, и Анрио, как частенько называли будущего Генриха IV французы, пришел в восторг от письма короля. Он решил не принимать к себе жену, о которой ее собственный брат был такого ужасного мнения. Узнав об этом, французский король понял, что перестарался, и написал второе письмо Наваррцу, где говорил, что его, короля Франции, обманули и что теперь он знает, что Маргарита — образец целомудрия.
Беарнец ответил, что его решение остается прежним. Тогда Генрих III, который никогда не отличался дипломатичностью, написал третье письмо, столь же глупое, сколь и сердитое: «Я знаю, как королям часто приходится ошибаться по причине ложных доносов и как самые благочестивые принцессы иногда не могут избежать клеветы, даже когда речь идет о покойной королеве, вашей матери; я хорошо знаю, что о ней говорили и как всегда плохо о ней отзывались».
Получив это ядовитое письмо, Анрио громко расхохотался и сказал находившимся рядом друзьям:
— Король оказал мне большую честь своими письмами: в первом он называет меня рогоносцем, а в двух других — сыном шлюхи. Я весьма благодарен ему.
Так или иначе, у Анрио появилась любопытная идея. Он понимал, что от Марго отделаться вряд ли удастся, однако решил шантажировать короля.
— Я приму обратно жену, — сообщил он Генриху III, — только если ваши, сир, войска, стоящие гарнизоном в соседних с Нераком городах, будут отозваны.
Король был ошеломлен. Его бессмысленная вспышка гнева теперь грозила для него обернуться потерей военных позиций на юге королевства… Пока он поносил сестру, из-за которой все и случилось, да раздумывал, Наваррец дал ему понять, что ждет скорейшего решения, захватив Мон-де-Марсан…
Ужаснувшись, Генрих III пообещал Беарнцу отозвать гарнизоны из Ажана и Кондона, а также сократить гарнизон города База до пятидесяти лошадей.
Анрио сообщил, что уже распростер объятия для встречи супруги… Однако всем, кто имел возможность наблюдать их встречу в Пор-Сент-Мари, сразу стало ясно, что примирение не будет долгим.
«На протяжении нескольких месяцев, — по свидетельству мемуариста, — Генрих и Маргарита сосуществовали без особых трений. Правда, супруги виделись не особенно часто, поглощенные каждый своими делами: пока королева Наваррская принимала у себя в комнате всех офицеров Нерака, которым желала добра, король, чей требовательный темперамент нелегко было удовлетворить, щедро одаривал своих любовниц плотскими радостями.
— Иметь одну женщину — значит ударяться в целомудрие, — говорил он».
Вскоре, однако, отношения между супругами вновь накалились. Вот тут-то мадам де Грамон, мечтавшая выйти замуж за Беарнца и потеснить Марго, начала осуществлять свой план.
Мало того, что прекрасная Коризанда была крайне неучтива. Однажды она попыталась отравить Маргариту.
Ту вовремя предупредили, но Марго испугалась и решила покинуть Нерак.
Жители Ажана оказали ей восторженный прием. Они надеялись, что пребывание королевы Наваррской будет способствовать развитию местной торговли. Однако им пришлось горько разочароваться. К Марго явился посланец от герцога де Гиза с предложением помочь Лиге в Лангедоке и начать войну против короля Наваррского.
Страшно обрадовавшись возможности расплатиться за все обиды, нанесенные ей в Нераке, Марго приняла предложение и поручила своему новому любовнику Линьераку, исполнявшему должность бальи[1] в горной части Оверни, захватить провинцию, набрать из местных жителей солдат и укрепить город.
Оказавшись во главе армии, Марго потеряла голову. Она начала с того, что взяла себе титул Маргариты Французской, а мужа своего стала называть принцем Беарнским. Потом приказала своей армии начать наступление. Но плохо подготовленные и совсем не воинственные люди Линьерака были наголову разбиты.
Марго стала снова набирать солдат и приобретать оружие. Однако деньги, обещанные Гизом, не приходили. Тогда она ввела новые налоги и замучила жителей Ажана всякими повинностями. Ничего себе — развитие торговли! В городе вспыхнул бунт, и он был сдан королевским войскам, которыми командовал маршал Матиньон. Перепуганная Марго уселась на круп коня позади Линьерака и спешно покинула город, чтобы не быть выданной брату или мужу, от которых ей не приходилось ждать ничего хорошего.
Вот как описывает данный эпизод автор «Сатирического развода» (заметки приписываются историку Пальме Кайету), где он говорит от лица Генриха Наваррского: «Труднее рыбе вернуться к наживке и ворону к падали, чем этой трехзадой короткоштаннице вновь отдаться похоти и разврату, после того как она, не сказав ни слова, покинула меня и уехала в Ажан, город, враждебный моей партии, чтобы там заняться новыми шашнями и на свободе продолжить свои гнусности; однако жители, предчувствуя, что при недостойной жизни их ждут такие же последствия, вынудили ее убраться так поспешно, что с трудом нашлась верховая лошадь для нее и не нашлось ни наемных, ни почтовых лошадей для половины девиц из ее свиты, следовавших повсюду за ней хвостом, кто без маски, кто без передника, а кто без того и другого; и покидали они город в таком жалком, беспорядочном виде, что больше напоминали шлюх, сопровождавших ландскнехтов, возвращавшихся в лагерь, чем девиц из приличного дома…»
Верхом, без седла и без заменяющей его подушки, Марго, сидя позади Линьерака, проделала пятьдесят лье. Совершенно без сил, с растертыми в кровь ногами, прибыла в хорошо укрепленный замок неподалеку от Орильяка.
Лишь после того, как за нею был поднят мост, она вздохнула с облегчением… но несколько преждевременно. Во-первых, у нее не было ни денег, ни вещей, ни даже сменного белья. Во-вторых, замок, называвшийся Карла amp;#769;, больше «походил на логово разбойника, чем на жилище королевы».
Узнав, что, она укрылась в замке Карла, Генрих III выразился публично следующим образом:
— Гасконские новобранцы не насытили королеву Наваррскую, и теперь она отправилась к овернским погонщикам мулов и медникам!
Ну, насчет медников и погонщиков мулов история умалчивает, а вот офицеры местного гарнизона побывали у нее все до единого. В погоне за ускользавшим наслаждением она шла на страшный риск, потому что Линьерак, который так и не покинул свою королеву, был бешено ревнив. Как-то весной 1586 года он вошел в комнату королевы. Марго нездоровилось, и она лежала в постели. У ее изголовья стоял сын аптекаря. Не говоря ни слова, Линьерак заколол несчастного кинжалом, залив кровью жертвы всю постель…
Убил он невиновного — юноша всего лишь принес Маргарите лекарство… Однако это была чистая случайность, мог ведь убить и виновного, и виновную, то есть саму Марго.
Она решила избавиться от непомерно опасного любовника и сделала все для того, чтобы восстановить против него офицеров замка. Линьераку пришлось бежать, спасая свою жизнь. Марго нашла другого. Теперь ее избранником стал лейтенант Обиак, которого она сделала своим шталмейстером, главным конюхом. Он был благороден, обаятелен и очень влюблен. Говорят, увидев Маргариту в первый раз в Ажане, лейтенант не смог сдержать возгласа: «О прекрасное создание! Я хотел бы переспать с ней, даже если после этого меня повесят».
Все случилось согласно его желанию — его-таки повесили. Правда, некоторое время спустя.
Агриппа д’Обинье рассказывал: «Она вознесла его из конюшни до своей спальни и дала себя так ужалить, что чрево ее вздулось, как шар, и в положенный срок исторгло маленького мальчика. Это происходило при помощи повитухи, которую из любви к сыну привела туда мать Обиака, и под наблюдением врача дю Мея. Последний не ограничился выполнением своих профессиональных обязанностей и собственноручно отнес юного принца в деревню Эскувиак, чтобы отдать кормилице. Из-за сильного холода, а до деревни было не близко, ребенок простудился и навсегда остался глухонемым. По этой причине собственная мать отказала несчастному в любви и заботах и, забыв о радостях материнства, бросила его на попечение гасконских простофиль, и м-ль д’Обиак, его бабка, пока была жива, спасала мальчика от голодной смерти».
Едва оправившись от родов, Маргарита покинула замок Карла под защитой д’Обиака и тайно направилась в замок Ибуа, где намеревалась найти более комфортабельное убежище.
«Она и не подозревала, — предрекал историк, — что на этот раз ей предстояло лишиться своего очаровательного любовника, а вместе с ним и свободы на долгие девятнадцать лет!»
Хозяин замка, к несчастью для Маргариты, очень хотел заручиться расположением короля и предал ее. Не прошло и нескольких дней после ее приезда, как к замку подступила небольшая армия, которой командовал маркиз де Канильяк, губернатор Юссона:
— Именем короля, я прибыл за королевой Наваррской!
Марго поняла, что ее ждет тюрьма. Но беспокоилась она не только о себе. Она распорядилась сбрить Обиаку бороду и усы для маскировки, а потом спрятать его, чтобы спасти от неизбежного возмездия. К несчастью, Канильяк, получивший приказ арестовать не только даму, но и ее любовника, обшарил весь замок, содрал со стен всю обивку, вспорол всю мебель и в конце концов нашел Обиака «в уголке, под колпаком камина».
Король, который не мог простить сестре, что она не только шлюха, но еще и сторонница Лиги, пришел в страшную ярость и отправил следующее распоряжение:
«Сообщите Канильяку, пусть остается на месте, пока мы все обдумаем и решим. Однако напишите ему, чтобы он перевез ее в замок Юссон и чтобы с этого момента был наложен арест на ее земли, а денежные поступления пусть пойдут на выплату жалованья маркизу и подчиненным ему гвардейцам. Что касается женщин и мужчин ее свиты, пусть маркиз немедленно прогонит всех, оставив при ней только какую-нибудь честную девицу и горничную, пока королева, моя добрая мать, не примет тех мер, которые сама сочтет нужными, но, главное, пусть маркиз хорошенько ее стережет. Во всех моих указах я теперь буду называть ее просто «сестрой», а не «дорогой и горячо любимой сестрой». Королева, моя мать, настаивает, чтобы я приказал повесить Обиака и чтобы казнь его свершилась в присутствии этой несчастной во дворе замка Юссон. Распорядитесь, чтобы все наилучшим образом исполнилось. Распорядитесь также, чтобы мне отправили все ее кольца с подробной описью и чтобы они были доставлены мне как можно скорее».
Как только пришло письмо, Канильяк затолкал Марго в хорошо охраняемую карету и под надежным эскортом приказал доставить пленницу в замок Юссон, старую крепость, построенную на неприступной вершине скалистой горы. Лучшей тюрьмы нельзя было и придумать. Замок с его квадратным донжоном и двадцатью башнями с бойницами представлял собой настоящее орлиное гнездо, которому не страшны никакие атаки. Живший в замке монах говорил, что «одно лишь солнце может туда проникнуть, да и то с трудом…».
Затем Канильяк приказал казнить Обиака.
— Власть короля лишает меня жизни, но не достоинства, — воскликнул молодой любовник королевы Наваррской, когда ему объявили, что он должен погибнуть.
После этого он прильнул губами к рукаву камзола из голубого бархата, подаренного ему Маргаритой, и взошел на эшафот. Дерзкое желание его вполне осуществилось…
На некоторое время имя Маргариты словно бы покрылось пылью забвения. Никто толком не знал, жива она или нет. Прошел даже слух, будто Генрих III приказал убить сестру. Но Марго была жива и еще не утратила способности сопротивляться своему мстительному братцу.
Однажды утром она попросила передать Канильяку, что умоляет зайти его к себе по важному делу. Дальнейшее в мемуарах современника описано следующим образом:
«Ничего не подозревающий маркиз явился к ней и застал свою пленницу в постели в более чем легкой одежде, открывавшей его взору белоснежные холмы грудей, с вишенками сосков на их вершинах. Его это смутило, а взгляд его единственного глаза (маркиз был одноглаз) утратил достоинство, уступив место вожделению. Марго, наблюдавшая за ним из-под полуприкрытых век с легкой улыбкой, поняла, что то, что она выставила на его обозрение в качестве образца, выглядит достаточно многообещающе, чтобы ее тюремщику захотелось заполучить весь кусок…
Она пригласила его присесть рядом с ней и долго беседовала с ним о поэзии, искусстве, литературе, притворяясь, что не замечает того сверхнапряженного состояния, в котором пребывает несчастный. Но наконец она отпустила его со словами:
— Буду счастлива, если смогу беседовать с вами каждое утро.
Канильяк, с горящими от возбуждения щеками, обещал заходить. На следующий же день игра возобновилась с большим ущербом для кровеносных артерий маркиза. На восьмой день, не имея больше сил выносить искушение, он упал перед Маргаритой на колени и в словах простых, но от этого не менее трогательных, попросил разрешения лечь с нею.
— Я дам вам все, чего вы пожелаете, — воскликнул он.
Марго потянулась, точно кошечка:
— Отдайте мне город Юссон.
Он согласился, и Маргарита отбросила простыню… Именно так королева Наваррская перестала быть пленницей и стала одновременно и властительницей укрепленного города, и любовницей маркиза де Канильяка».
В это время случилось событие, которое имело громадную роль и для истории всей Франции, и для самой Маргариты. В декабре 1588 года умер герцог де Гиз, и непосредственным наследником Генриха III стал не кто иной, как король Наваррский. Его любовница мадам де Грамон, прекрасная Коризанда, взволновалась. Она хотела стать королевой!
Но Генрих, который отнюдь не возражал против этого, был женат…
Так что же, развод? Нет, процедура развода слишком длинна и сложна. Не лучше ли стать вдовцом?
Марго… Марго, значит, должна умереть.
Однако по природе своей Беарнец (Генриха IV называли как Беарнец, так и Наваррец, потому что области Беарн и Наварра входили в состав его королевства) не склонен был спешить с такими важными делами, как убийство собственной жены, пусть даже он с ней и не жил. Историк Дре дю Радье сообщает: «Прежде чем предпринять в этом направлении какие бы то ни было шаги, он решил посоветоваться с несколькими друзьями. Обратившись к д’Обинье и де Тюренну, признался им в своем намерении жениться на м-м де Грамон и в том, какое дал ей обещание.
— Как вы думаете, должен ли я стремиться к этому браку? — спросил он у них.
Речь шла о самом важном в его жизни поступке. Тюренн, знавший о серьезном увлечении Генриха, не решился задеть его чувства. Он сослался на то, что ему срочно надо ехать в Маран, и на следующий же день действительно уехал. То был жест честного человека, который не хочет дать плохой совет своему господину, тогда как на хороший у него не хватает мужества. Д’Обинье остался один на один с опасной необходимостью быть искренним и выполнил свой долг, высказавшись со всей откровенностью».
Агриппа д’Обинье, адъютант короля Наваррского, сам описывал в своей «Истории», что именно он сказал Беарнцу: «Я не утверждаю, что вы должны отказаться от вашей любви. Я был влюблен и понимаю ваши переживания; но отнеситесь к этому, сир, как к обстоятельству, побуждающему вас быть достойным вашей любовницы, которая сама же станет вас презирать, если вы опуститесь до женитьбы на ней. Вам следует держаться принципа Aut Caesar, aut nihil;[2] появляться у себя в совете, который вам так ненавистен; уделять гораздо больше времени серьезным делам, чем вы это делали до сих пор; наиболее существенным делам отдавать предпочтение перед всеми другими и в особенности перед развлечениями и удовольствиями. Герцог Анжуйский умер. Вам осталось сделать всего шаг, чтобы занять престол. Если вы станете мужем своей любовницы, презрение, которое вы навлечете на себя, сделает для вас заветную цель недосягаемой».
Анрио был умен и не мог не признать справедливость рассуждений своего адъютанта. Он поблагодарил его за совет и дал слово, что не женится на графине, по крайней мере в ближайшие два года. Д’Обинье достаточно хорошо знал своего господина и не сомневался, что за это время какая-нибудь красотка отвлечет его мысли от прекрасной Коризанды.
Таким образом, можно считать, д’Обинье спас королеву Марго. А ей перепало от жизни немало удовольствий. В конце концов, ей было только тридцать пять, и на свете оставалось еще немало мужчин, которые не побывали в ее постели. Кроме того, она увлекалась искусством. Ее замок превратился в литературный салон одновременно. Там можно было встретить и Сен-Видаля, и Брантома, который так подробно описал ее жизнь, и Оноре д’Юрфе, автора «Астреи». Последний оказался даже в числе любовников Марго, вообще испытывавшей особый пиетет к людям искусства. Неведомо, с чего она взяла, будто они лучшие любовники, чем прочие? Д’Юрфе не смог ее удовлетворить, и Марго пришлось приложить немало усилий, чтобы сохранить хорошую мину при плохой игре. Она знала болтливость пишущей братии и ужасно боялась, что Юрфе ее ославит. Она отпустила его с выражениями такого преувеличенного восторга, что он надолго возомнил себя неотразимым и был очень удивлен, не встретив в Париже у дам никакого энтузиазма. И тогда он исполнился к ним немалым презрением и отточил свой сатирический талант.
Ученый Скалигер был поражен тем, какое положение занимала Марго в Юссоне, в «орлином гнезде, вокруг которого, словно папская тиара, ярусами располагались три города. Она была свободна, — писал Скалигер, — и могла делать все, что хотела; она имела мужчин, когда желала, и тех, кого сама выбирала».
Да уж… Под предлогом создания церковного хора в своей часовне Марго пригласила в Юссон юношей, среди которых и находила себе новых любовников. Один из них, сын местного котельщика, юный Клод Франсуа, был ею крепко любим.
Марго сделала его сеньором де Помнин и бенефициаром Нотр-Дам-дю-Пюи. Разумеется, это были не более чем громкие наименования, однако они страшно радовали простодушного красавца, который возомнил о себе невесть что. Еще больше способствовала его самомнению та ревность, которую испытывала к нему Марго. Она страшно боялась, что юноша увлечется какой-нибудь красоткой помоложе, и потому все время следила за ним. «Из-за него она заказала для всех дам Юссона кровати такой высоты, чтобы можно было заглядывать под них, не наклоняясь и тем более не заползая туда на четвереньках с риском содрать кожу на спине и еще ниже, как это бывало с ней до сих пор, когда она разыскивала любовника. Из-за него же ее часто видели ощупывающей ковры и обивку стен из опасения обнаружить его там. Он, от которого она требовала слишком большой любви, был причиной того, что взор ее постоянно и напряженно устремлялся на двери и стены», — свидетельствовал мемуарист.
Не только ревность приводила ее в отчаяние. Возбуждение, любовное неистовство по-прежнему владело ею, но желанное наслаждение испытать было уже невозможно. Она снова и снова требовала ласк от Клода Франсуа и довела его до того, что бедняга умер от изнеможения.
Слухи о том, что королева Марго способна кого угодно в могилу свести, начали расходиться, как круги по воде. Господа офицеры Юссона стали ее остерегаться, да и Канильяк что-то занемог и не мог восходить на ее ложе. Плохо ей приходилось… «Она взяла привычку ложиться на постель обнаженной, оставляя при этом открытым окно, чтобы всякий, кто, проходя мимо, заглянет в него, почувствовал желание зайти и поразвлечься с нею», — сообщал Брантом. Однако таких желающих находилось все меньше, и желания были, так сказать, разовые.
Марго мечтала любым путем вырваться из Юссона. Ведь фактически она была там пленницей! Пользуясь полной властью в крепости, она не имела никакого права шагу ступить за ее пределы, опасаясь быть схваченной и заключенной в гораздо менее комфортабельную тюрьму.
Тем временем во Франции произошло некое событие, которое имело огромное значение. Был убит Генрих III, и на престол взошел Беарнец, муж Марго. Он стал зваться королем Генрихом IV, а Марго… А Марго оставалась в Юссоне. Она знала, что муж никогда не призовет ее к себе, тем более он задумал жениться на Марии Медичи, чего требовали интересы династии. Ей было сорок лет, и жизнь ее оказалась разбитой из-за навязанного ей брака.
И Маргарита с огромным энтузиазмом восприняла предложение Генриха Наваррского о разводе, от души надеясь, что тогда сможет покинуть осточертевший Юссон.
Что предложил ей король в обмен на корону? Двести пятьдесят тысяч экю для оплаты долгов, которые накопились за десять лет, пожизненную ренту и безопасное проживание. Взамен он требовал доверенность на предъявителя и устное заявление в присутствии церковного судьи о том, «что ее брак был заключен без обязательного разрешения, которое требовалось с учетом запрещенной степени их родства, и без добровольного согласия», и потому она просит его аннулировать.
Прошло, впрочем, еще очень немало лет, прежде чем развод был осуществлен, потом еще очень немало лет, прежде чем Генрих позволил бывшей жене покинуть Юссон. Все годы они вели между собой дружескую переписку, в которой было столько же лицемерия, сколько и искренности. Он ей писал: «Мне бы хотелось заботиться обо всем, что имеет к вам отношение, больше, чем когда бы то ни было, а также чтобы вы всегда чувствовали, что впредь я хочу быть вашим братом не только по имени, но и по душевной привязанности…» Вспоминал ли он в тот момент, что она почти двадцать лет находится в заточении?
А она, пытавшаяся воевать против него, отвечала: «Ваше величество, подобно богам, вы не довольствуетесь тем, что осыпаете своих подданных благодеяниями и милостями, но еще удостаиваете их своим вниманием и утешаете в печали…»
Она послала свои поздравления, когда он снова женился, и трогательнейшее поздравительное письмо по случаю рождения дофина.
И вот наконец король позволил ей вернуться в Париж…
Потрясенная, взволнованная до слез Марго ринулась в путь, и вот состоялась встреча тех, кто когда-то назывался мужем и женой.
Генрих IV, конечно, постарел за те годы, что они не виделись. Но Марго… он с трудом ее узнал, потому что она превратилась в даму громадных размеров. Тальман де Рео так описывает бывшую королеву: «Она была безобразно толста и в некоторые двери просто не могла пройти. Ее когда-то белокурые волосы теперь напоминали высушенный и вылинявший на траве лен. Полысение у нее началось довольно рано. Поэтому у нее всегда были светловолосые выездные лакеи, которых время от времени стригли… Она всегда носила в кармане немного таких чужих волос на случай, если придется прикрыть еще одну залысину на голове…»
Да, парики войдут в моду значительно позже…
Король поцеловал ей руки, назвал «своей сестрой» и пробыл у нее в Мадридском замке, предоставленном ей в качестве резиденции, целых три часа.
На следующий день Маргарита отправилась с визитом к Марии Медичи. Проезжая по Парижу, она слышала приветственные крики горожан, которые рады были увидеть ее снова. Однако всех удивило, как она выглядела. Старики находили, что она сильно изменилась, и покачивали головами; молодежь же, слышавшая столько пикантных историй про Марго, с изумлением взирали на толстую огромную пятидесятилетнюю женщину, «чьи непомерные груди иногда вываливались из декольте, когда карету особенно сильно встряхивало на каком-нибудь ухабе».
В Лувре король встретил ее с почестями и выразил свое неудовольствие Марии Медичи, которая не пожелала пойти навстречу дальше парадной лестницы.
— Сестра моя, — сказал он Маргарите, — моя любовь всегда была с вами. Здесь вы можете чувствовать себя полновластной хозяйкой, как, впрочем, повсюду, где распространяется моя власть.
Она пробыла во дворце немало дней, и все старались сделать ей что-нибудь приятное. Ее жалели…
Наконец ей представили дофина, будущего Людовика XIII.
— Добро пожаловать, матушка, — сказал тот и поцеловал ее.
А Марго подумала о том, скольких радостей себя лишила, не имея детей, и прослезилась.
На другой день она подарила Людовику игрушку, довольно странную, надо сказать, для четырехлетнего ребенка, потому что это был маленький купидон, у которого, «если дергать за веревочки, двигались крылышки и знак его мужского достоинства», как свидетельствовал беспристрастный историк. Между прочим, эта игрушка имела для нее особое значение…
Марго редко смотрелась теперь в зеркало. Она не могла понять, как ей удалось так постареть и так подурнеть. Это была словно бы чья-то злая шутка, чья-то месть. Будь жив ее омерзительный братец Генрих, когда-то донимавший ее своей ревностью, она решила бы, что он подослал к ней какого-нибудь отравителя. Мысль о возмездии богини любви иногда приходила ей в голову, но, начисто уже позабыв о де Ла Моле, Марго не могла понять, в чем вообще дело, чем она виновата.
Забавно… Такое ощущение, что за давностью прожитых ею лет и сама мстительница подзабыла о наказании и смягчила его. Именно в ту пору, когда у обычных женщин пропадает и чувственность, и способность испытывать наслаждение, Марго вновь испытала забытое ощущение постельного восторга!
Помог ей двадцатилетний лакей Деа де Сен-Жюльен, вызванный ею из Юссона. Об этом великом, можно сказать, историческом событии в своей жизни Марго немедленно записала в дневнике, благодаря чему оно и стало впоследствии достоянием истории. Теперь Деа де Сен-Жюльен стал поистине ее идолом, затмившим все прежние привязанности.
«С его приезда, — рассказывает автор «Сатирического развода», — чтобы он не слонялся без дела, они часто проводили время вдвоем, запершись в комнате, по семь-восемь дней безвылазно, в ночных рубашках, допуская к себе одну лишь м-м де Шатийон, которая несла неустанную службу у их двери и изо всех сил старалась сохранить тайну, которая всем давно была известна».
К сожалению, жестокая судьба скоро отняла у Марго ее любимую игрушку… очень напоминавшую того купидончика, которого она подарила маленькому Людовику.
В Марго влюбился другой паж, восемнадцатилетний Вермон. Ну что ж, не он первый, не он последний в череде тех мальчиков, которые проникаются страстью к опытным дамам (да еще некоторым образом королевам) и не мыслят себе жизни без них. В былые времена Марго просто-напросто присоединила бы его к своей коллекции, вот и все. Но теперь она так опасалась утратить воскресшие восторги, что и помыслить не могла отдаться другому и изменить Сен-Жюльену.
Отвергнутый Вермон буквально спятил от ревности! И вот в один апрельский день 1606 года, в тот момент, когда королева возвращалась с мессы в карете (конечно, в сопровождении Сен-Жюльена), Вермон внезапно выхватил заряженный пистолет и в упор выстрелил в фаворита. Разумеется, тот был убит на месте.
Забрызганная кровью любовника, Марго чуть с ума не сошла. Она сорвала с ног подвязки для чулок и, протягивая их страже, кричала:
— Убейте его! Вот мои подвязки, задушите его!
Вермон между тем оставался совершенно спокоен.
— Переверните его, — сказал он стражникам, — чтобы я мог убедиться, что он мертв.
Ошеломленные таким хладнокровием, те выполнили его просьбу.
— О, как я доволен! — вскричал убийца. — Если бы он не был мертв, я бы его прикончил.
Что случилось далее? Предоставим слово хронисту.
«Ослепленная гневом, королева вернулась к себе, сказав, что не желает ни пить, ни есть, пока не увидит, как казнят убийцу ее фаворита, и, не откладывая, написала королю просьбу свершить скорый суд. Через день на том месте, где Вермон совершил свое преступление, был воздвигнут эшафот.
Маргарита, стоя у окна, с нетерпением ждала того мгновения, когда топор палача опустится на шею молодого человека. Но она так сильно нервничала, что с ней случился обморок, испортивший удовольствие. Самое интересное она пропустила».
После казни Марго перебралась в поместье, которое недавно приобрела на левом берегу Сены, прямо позади аббатства Сен-Жермен-де-Пре.
Из своих окон она могла видеть Лувр, что послужило анонимному поэту поводом для сочинения довольно злого куплета, смысл которого сводился к тому, что от былой богини осталась лишь похоть, от королевского достоинства — лишь портрет, и теперь, не имея возможности жить в Лувре как королева, она живет как потаскуха напротив дворца. Это был намек на публичные дома, которые плодились и размножались на набережной Лувра.
Стихи были посредственными, но очень позабавили короля. Он даже взял за привычку после каждого визита к Маргарите говорить своим придворным:
— Я вернулся из своего борделя!
И все вокруг разражались хохотом.
Впрочем, Марго стихов не слышала и никак не волновалась по их поводу. Она была совершенно поглощена открытием того, что свет клином не сошелся на Сен-Жюльене. В объятиях других мужчин она испытывала вожделение и восторги снова и снова, раз за разом.
Беда состояла только в том, что мужчин, у которых могла вызвать вожделение она, становилось все меньше и меньше! И прекрасная Марго (к сожалению, слово «прекрасная» нужно было уже взять в кавычки), которая могла раньше выбирать мужчин из сотен, из тысяч, теперь принуждена была дорожить одним-единственным оставшимся. Право, богиня отомстила ей даже лучше, чем собиралась!
Юнец из Гаскони по имени Бажомон отличался силой и неутомимостью, заставлявшей Маргариту просить пощады в постели, но в остальном он был совершенно неотесанным и даже глупым малым. Марго пыталась хоть немного подучить его светским манерам, образовать, но, увы, напрасно. Он часто ставил Марго в неловкое положение перед друзьями, которых она завела в Париже и которых с удовольствием принимала. Чтобы сгладить впечатление и сделать вид, что она всем довольна, Марго даже сочинила нечто вроде маленькой комедии с довольно прозрачным названием «Альковные неприятности, или Любовный диалог между Маргаритой Валуа и Животным с берегов Соммы». Вот маленький отрывок из комедии:
«Подойдите же ко мне, мой Пелу, мое сокровище, потому что вблизи вы куда лучше, чем на расстоянии. А так как вы созданы больше для услаждения вкуса, чем слуха, поищем вдвоем среди бесконечного разнообразия поцелуев самый приятный, и пусть он длится бесконечно. О, как теперь сладостны эти поцелуи и как они мне нравятся. Они приводят меня в восторг, потому что нет во мне ни одной даже самой маленькой частички, которая бы в этом не участвовала и куда бы не проникали искры сладострастия. Но я так взволнована и так краснею до корней волос, что готова умереть! О, вы совершаете больше того, что вам поручено, но боюсь, вас могут в эту дверь увидеть. Ну вот, теперь вы наконец вернулись в свою стихию, и здесь вы выглядите лучше, чем на амвоне. Ах, у меня больше нет сил, я не могу прийти в себя; в конце концов должна сказать, что какими бы красивыми ни были слова, лучше всяких слов любовная борьба, и можно с уверенностью сказать: «Нет ничего сладостнее любовной схватки, если бы она не была еще так коротка…»
Марго ужасно ревновала Бажомона, опасалась его измены, однако вышло так, что ему сама изменила. Ей было пятьдесят восемь, но она могла еще пленять мужчин, причем молодых мужчин!
Маргарита всегда носила платья с глубоким вырезом, позволявшим видеть «ее все еще соблазнительную грудь», чем она очень гордилась. Однажды какой-то священник-кармелит в своей проповеди сравнил ее груди «с сосцами Пресвятой Девы». Маргарита пришла в такой экстатический восторг, что в знак благодарности послала проповеднику пятьдесят пистолей.
Вот на прекрасную грудь, на все еще обворожительные глаза Марго и польстился молодой певец по имени Виллар. Его прозвали «король Марго». Она очень ревновала своего нового красивого любовника, обладавшего к тому же вполне утонченными манерами, и, чтобы он не мог соблазнять девушек, выставляла его на публике в смешном виде. Если прежде Марго не скупилась на самые щедрые подарки своим мужчинам, то теперь принуждала Виллара носить дырявые чулки и совершенно нелепого вида шляпу с перьями, какую можно было встретить разве что во времена Генриха III.
Она не оставляла его одного ни на минуту ни днем, ни ночью, потому что Марго, сжигаемая огнем вожделения, стала еще ненасытней, чем в молодые годы. Говорят, что каждый вечер «он тщетно взывал к ней о пощаде и уверял, что у него нет вдохновения, но несчастному приходилось покоряться, и королева снова и снова заставляла петь ей серенады, как во времена ее безумной молодости».
Виллар мог отдохнуть только в те дни, когда Маргарита отправлялась с визитом в Лувр. Нет, не только желание встретиться с бывшим супругом влекло ее туда. Гораздо приятней были для нее встречи с другим человеком… Но он был совсем еще ребенком, тот, кто назвал ее матушкой…
Принц Людовик рос одиноким. Отец был занят своими фаворитками, мать — своим, по имени Кончино Кончини. Королева Мария Медичи не любила сына. По словам хрониста, она навещала его только для того, чтобы или самой лично высечь, или приказать одной из находящихся при нем дам надавать ему пощечин. Тальман де Рео сообщает, что «в годы регентства она ни разу не обняла его». Только Марго была нежна с ним. «Она заходила к нему в комнату, осыпала его подарками, рассказывала ему сказки и забавные истории и научила его играть с маленькой галерой, которая могла передвигаться благодаря пружинам, а сидевшие на ней гребцы с помощью тех же пружин двигали веслами».
Когда она уходила, мальчик сразу делался грустным и упрашивал поскорее снова прийти. Марго в такие моменты казалось, что сердце ее разрывается, и, совершенно расстроенная, она осыпала маленького короля поцелуями.
Но однажды она ушла — и не вернулась.
Весной 1615 года Марго простудилась в ледяном зале дворца Малый Бурбон и слегла в постель. У нее начался жар, и 27 марта духовник предупредил, что дело ее плохо. Она и сама чувствовала, что сочтены не только дни ее, но и минуты. Она позвала Виллара, припала к его губам долгим прощальным поцелуем, а потом лишилась сознания. Через несколько часов Маргариты не стало.
Виллар вздохнул с сожалением… и с облегчением враз.
И только юный Людовик горько оплакал потерю. Ведь он лишился единственного существа в мире, по-настоящему любившего его! Не раз он потом вспомнит Маргариту, потому что никто, кроме нее, его вообще не любил больше.
И он был последним мужчиной, который благодарил ее за любовь и нежность.
Злая жена (Андрей Боголюбский, Россия)
Эта история, как и вообще всё на свете, началась именно с любви: пылкой, страстной, неудержимой — и запретной. Впрочем, запретная любовь всегда бывает только пылкой, страстной и неудержимой, ибо нет ничего слаще запретного плода, что было известно еще праотцам нашим.
Было известно и знаменитому князю Юрию Долгорукому, основателю Москвы.
Кстати, на самом деле — коли уж строго следовать букве истории — основал столицу России вовсе не он. И если рассматривать в качестве основателя человека, который первым поселился на том или ином месте, тогда нужно назвать не князя Юрия, а боярина Кучку. Таково было его «родимое», то есть данное при рождении, имя, а вовсе не фамилия, как принято считать. Потому что во всех исторических документах дети его зовутся Кучковичи, а не Степановичи. Видимо, Степаном был Кучка окрещен уже в достаточно зрелые годы. Подобные чудеса случались на Руси, особенно на ее севере, не вполне еще охваченном христианским угаром. В любом случае — христианские и «родимые» имена еще долго будут мирно уживаться вместе. Навскидку можно вспомнить хотя бы воинственных иноков Александра-Пересвета и Родиона-Ослябю, а также мрачного Малюту Скуратова, которого «официально» именовали Григорием Ефимовичем Скуратовым-Бельским.
Но мы несколько отвлеклись.
Строго говоря, и Кучка был не первый обитатель будущей столицы Руси: славянские племена селились тут задолго до него. На Москве-реке, в районе современного Коломенского, располагалось так называемое Дьяковское городище. Стояли славянские селения и на месте Нескучного сада, в районе Самотеки, по берегам Неглинки. Однако история начинает именной отсчет со Степана Кучки.
Был он богат, и очень может статься, что Кучкой стал зваться именно потому, что предок его собирал «в кучку» свое добро, в числе которого было недвижимое имущество: «красные села» по реке Москве — Воробьево, Высоцкое, Кудрино, Сущево… А может быть, сей предок был рачительным хозяином, ибо по-старославянски «куча» — дом. Впрочем, это не суть важно.
Сей Кучка был не просто так боярином-помещиком, а суздальским тысяцким.[3] Он находился в прямом подчинении у князя суздальского Юрия Долгорукого. А младший сын Владимира Мономаха, в летописях, как правило, называемый на скандинавский и старорусский лад Гюрги, был славен не только храбростью и воинскими подвигами. Он был великий жизне- и женолюб.
Жизнелюбие его выражалось во многих пирушках, которые он проводил, «ночи играя на скомонех и пия со дружиною», по выражению летописца. «Скомони» — это дудки, гудки. А слово «женолюбие» в расшифровке не нуждается. И среди множества жен, которыми обладал любвеобильный Гюрги, была одна, которая надолго привлекла к себе его, выражаясь языком классиков, непостоянное сердце.
Ее звали Ульяновна. Вот так, без имени, и вошла она в историю. Ведь замужних женщин принято было называть по отчеству — для солидности. Именно поэтому всем отлично известно отчество супруги злополучного князя Игоря — Ярославна, — но мало кому знакомо ее имя: Евфросинья.
Так или иначе, но Гюрги крепко любил ту самую Ульяновну. Настолько крепко, что пользовался любой возможностью повидаться с ней. В изложении В. Татищева, автора знаменитой «Русской истории», выглядело это так: «Юрий, хотя имел княгиню, любви достойную, и ее любил, но при том многих жен подданных часто навещал и с ними более, нежели с княгиней, веселился, ночи, сквозь музыку проигрывая и пия, препровождал, чем многие вельможи его оскорблялись, а младые, последуя более своему уму, нежели благочестному старейших наставлению, в том ему советом и делом служили. Между всеми полюбовницами жена тысяцкого суздальского Кучки наиболее им владела, он все по ее хотению делал».
Но, как ни велики были «хотение» Ульяновны и власть князя над своими подданными, а все-таки боярин Кучка изрядно мешал им обоим своим присутствием. И пусть он порою навещал свои владения, но все же рано или поздно возвращался. И в «служебные командировки» (существовало же нечто подобное и в то время, хоть и называлось, конечно, иначе!) его не удавалось посылать так часто, как мечталось Долгорукому.
Гюрги злобился на судьбу, разлучавшую его с возлюбленной, досадуя, что все выходит точно по пословице: «Жене глава муж, а мужу — князь, а князю — Бог». С Богом Гюрги обходился по-свойски — делал вид, что знать не знает ту из его заповедей, которая гласит: «Не прелюбодействуй!» А вот муж — Кучка — по-прежнему оставался главой своей жене. И хоть князь считался, в свою очередь, главой мужа, а все же не мог устранить его со своего пути. Ах, кабы война какая-нибудь случилась, что ли! Тогда Кучка вместе со своей тысячей отправился бы в поход и был бы устранен надолго, а если повезет, то и навсегда (ведь на войне, случается, убивают!).
С другой стороны, война — палка о двух концах. Ведь вести войско в поход должен не кто иной, как князь…
Длился роман Гюрги, длился, и вот однажды войско князево приготовилось выступить на Торжок: Долгорукий желал досадить ненавистным своим племянникам — Мстиславичам. Однако случилось так, что именно в то время боярин Кучка получил неоспоримое свидетельство того, что он — обманутый муж.
У него уже было два старших сына: Иоаким и Илья, по семи и пяти лет, а еще четырехлетняя дочь Улита. После ее рождения Ульяновна никак не чреватела (это любимое слово старинных авторов переводится очень просто — не беременела), и тому были совершенно естественные причины: Кучка утратил некоторые мужские способности. В принципе, именно это и заставило пылкую боярыню искать утешения в объятиях другого мужчины, ибо естество человеческое пребывает неизменно во все времена. Но нетрудно догадаться, что именно подумает мужчина, который с женой не спит, однако вдруг видит, что она делается бледна и худа, со всякой пищи ее воротит, а горничные девки, строго допрошенные хозяином, признаются, что женские дни у боярыни уже давно не приходили…
Кучка подступил к Ульяновне с прямыми обвинениями, и она не выдержала: созналась в измене. Но кто сказал «А», тот скажет и «Б». Кучка пригрозил жене, что выбьет у нее «плод из чрева кулаками», если она не признается, кто ее, грубо говоря, обрюхатил. Ульяновна испугалась за свою жизнь и выдала любовника.
Бог ее знает, может быть, она не очень и запиралась, убежденная, что имя грозного Гюрги испугает Кучку, тот смирится со своим позором и отстанет от жены. Может быть, поймет, сколь невыгодно ему ссориться со всесильным князем. Подумает, не лучше ли ему смириться, тем паче что позор уже все равно свершился, дело как бы прошлое, а кто старое помянет…
Однако лавры нового Амфитриона[4] боярина нисколько не привлекали — хотя бы потому, что он о них и слыхом не слыхал. Разъярился люто: князь, которому он служил верно и преданно, на это наплевал, опозорил старого слугу! И Кучка решил, что теперь он свободен от обязательств перед таким господином и не станет больше проливать за него кровь. И не стал: самовольно сложил с себя обязанности тысяцкого и удалился с семьей из Суздаля в Кучково, на Москву-реку, вместо того чтобы отправиться в поход. Фактически дезертировал.
Кучка, впрочем, хорошо знал вспыльчивый и неуемный нрав своего князя: ясно дело, тот не простит прямого отступничества — особенно в военное время. Поэтому на Москве-реке Кучка долго задерживаться не собирался: хотел только взять из тайника зарытое на черный день золото (вот он и настал, такой день!) и двинуть с сыновьями и дочкой в стольный Киев-град, где в то время княжил Изяслав Мстиславич, племянник Гюрги. Между князьями была откровенная вражда, ибо «Гюрги сам зарился зело на великокняжеский стол», по словам летописца, поэтому Кучка мог быть уверен, что найдет у Изяслава приют и покровительство.
Жену боярин немедля по приезде в Кучково заточил в «истопницу», как сказано в летописи, а сам начал собирать добро. Бежать он намеревался только с детьми. А беременная женщина была оставлена в истопнице — проще говоря, дровяном сарае без пищи и воды: на верную смерть.
Однако выехать в Киев так скоро, как хотел Кучка, ему не удалось: помешали сыновья. Они были еще совсем дети, однако даже и малым детям нетрудно догадаться, для чего избитую, полуживую женщину запирают в холодном сарае и не берут с собой, когда собираются отъезжать в дальний путь.
Мальцы боялись и почитали отца, однако не хотели расставаться с матерью и подняли крик, умоляя батюшку взять с собой и матушку. Рыдала и нянька Улитушки, Микитовна. Старший сын Иоаким (попросту Аким, Акимка) вообще убежал в лесок и спрятался где-то.
Бросить сыновей Кучка не мог. Акимку начали ловить. А тем временем… А тем временем Гюрги, уже выступивший было в поход, обнаружил, что одного из его тысяцких на месте нет.
Не составило труда выяснить, куда именно подался беглый. И Гюрги понял, что его полюбовнице грозит беда бедучая.
Видимо, был князь не столь бессердечен, каким его привыкли считать. Он отложил выступление и ринулся по следам Кучки. Так Гюрги в первый раз попал туда, где впоследствии встанет его знаменитый памятник — тот самый, с простертой десницею, со взором, устремленным куда-то вдаль…
В первую минуту ему было, впрочем, не до далей. Более близкие и конкретные дела требовали незамедлительного рассмотрения!
Московское предание повествует обо всем случившемся весьма уклончиво: «Тот Кучка встретил князя зело гордо и недружелюбно. Возгордился зело и не почтил подобающею честию, а к тому и поносил ему. Не стерпя той хулы, князь повелел того боярина ухватить и смерти предать».
Скороспелую вдову извлекли из пресловутой истопницы и ввергли в объятия князя. Вдоволь нацеловавшись и ободрив детей, которые плакали от горя по отцу, но радовались, что жива осталась мать, князь Гюрги огляделся наконец — да так и ахнул. Теперь ему стало понятно, почему покойный Кучка, едва выпадала малая возможность, отъезжал от Суздаля в свое дальнее имение. Прекрасные места! Этот простор, открывающийся с высокого холма, эти две извилистых реки, эта немыслимая даль… Вот и до нее дошел черед! Оглядевшись, Гюрги решил, что здесь будет город. Его город!
Вот так оно и вышло, что на Боровицком холме поставил Гюрги свой княжий терем и дал тому месту новое название. В 1147 году он писал своему союзнику, новгород-северскому князю Святославу Ольговичу: «Приди, брате, ко мне на Москов». Тот год и считается годом основания будущей столицы Руси. Именно благодаря пиру, который устроил Гюрги для Святослава, упоминание о ней и попало впервые в летописи. Между прочим, на пиру Олег, сын Святослава, подарил Долгорукому редкостного по своей красоте парда, то есть барса. Н. Карамзин ссылается на летописцев, которые так оценивают строительство нового города: «Москва есть третий Рим, — говорят сии повествователи, — а четвертого не будет. Капитолий заложен на месте, где найдена окровавленная голова человеческая: Москва также на крови основана и, к изумлению врагов наших, сделалась царством знаменитым».
Однако окончательно вытравить память об убитом им сопернике Гюрги все же не удалось. «Она долгое время именовалась Кучковом», — пишет Карамзин о Москве. А когда в 1174 году возвращались в родные земли из Византии двое сыновей Юрия Долгорукого, летописец упомянул, что они благополучно прибыли «до Кучкова, рекше до Москвы». И, кстати сказать, аж до ХVII века один из районов Москвы, между Сретенкой и Лубянкой, назывался Кучковым полем.
Однако отвлечемся от топонимики и обратимся вновь к любви.
Через некоторое время вдова Кучки умерла в преждевременных родах. Умер и младенец, и с тех пор Гюрги взял осиротевших (при его прямом и непосредственном участии) троих детей Ульяновны под свое покровительство. Улиту продолжала воспитывать нянька, Иоакима и Илью поселили при сыне Гюрги, Андрее, и определили их ему в служение. Впоследствии этого молодого человека назовут Андреем Боголюбским. Его и отроков, выросших около него, свяжет кровавая трагедия, от которой содрогнулся бы даже Шекспир — если бы знал хоть что-нибудь о русской истории.
К слову — следуя принципу «нет пророка в отечестве своем», наши родимые драматурги ничего особенного в истории Андрея Боголюбского не находили. К примеру, А.К. Толстой в свое время писал: «Сейчас я ищу — и не могу найти — сюжет для драмы в дотатарском периоде нашей истории… Андрей Боголюбский убит был пьяницами и трусами, а мне нужно что-то другое…»
А между тем Андрей Боголюбский был человеком неоднозначным, это раз, а самое главное — он с малолетства был определен сыграть в трагедии роль жертвы. Именно ему предназначено было стать козлом отпущения за грехи своего отца. Месть за любовь Юрия Долгорукого настигла его сына!
Характер у Андрея был совершенно неуемный. Он многое унаследовал от отца: здоровую беспринципность, беспощадность к врагам, жуткое упрямство — и державное честолюбие. Не унаследовал Андрей от Гюрги только жадной любви к Киеву и к Южной Руси вообще. Когда Долгорукий воссел наконец на вожделенный великокняжеский стол (в 1155 году), он выделил сыну в вотчину Вышгород, в старинные времена, между прочим, принадлежавший прародительнице суздальских князей — княгине Ольге.
Видимо, Андрей был глубоко равнодушен к историческим и родовым традициям: хотя он мог спокойно княжить в Вышгороде, пользуясь соседством, покровительством и защитой отца, ему там никак не сиделось. Нет, его тяготило отнюдь не мирное житье, его влекла не война сама по себе, хотя он был верным сподвижником отца во всех его походах, а при осаде Луцка в 1150 году проявил исключительную храбрость и даже чуть не погиб. Тогда он, не дав знать своим братьям, пошел с дружиною отражать вылазку, сделанную из города; прогнав врагов, молодой князь в запальчивости не заметил, что дружина отстала от него и что он один очутился в толпе обступивших неприятелей; только два «детских» (члены младшей дружины), и то позднее, последовали за ним. Андрей был ранен двумя копьями; какой-то ворог напирал на него с рогатиной. Помолясь святому Федору, память которого праздновалась в тот день, Андрей вынул меч, оборонился от нападения и ускакал из окружавшей его толпы. Когда он был вне опасности, раненый конь его пал, и Андрей велел похоронить его над рекою, «жалуя комоньство его», прибавляет летописец.
Именно большей самостоятельности, чем та, которую он имел в Вышгороде, жаждал Андрей. К тому же его неумолимо влекло на север.
Что и говорить, юг Руси в то время был изрядно измучен набегами половцев, истощен княжескими усобицами. Разраставшемуся древу, некогда посаженному Игорем Рюриковичем, было уже тесно в пределах Киевского княжества. А северо-восток Руси набирал силу, восстанавливал свою историческую роль, поскольку как раз отсюда, а не из Киева, строго говоря, «есть пошла Русская земля».
И вот в том же 1155 году, даже не ощутив вкуса власти над Вышгородом, Андрей самовольно покинул княжество свое и отправился в обратный путь, в Суздаль.
Кто знает, может быть, он и не решился бы вот так откровенно выступить из воли отца, однако, по словам летописца, его на это «лестию подъяша Кучковичи». И правда: у двух отроков, к тому времени повзрослевших, ставших мужчинами и пользовавшихся полным доверием Андрея, была прямая и конкретная цель — рассорить отца с сыном.
Кровь не вода. Они помнили об убийстве отца, и хоть не могли отомстить за него, убив самого Долгорукого, но намерены были расквитаться с Гюрги, вбив клин между ним и сыном. Кроме того, они хотели заставить Андрея жениться на своей младшей сестре. Ее звали, как мы помним, забавным для современного слуха именем Улита. К указанному времени ей, правда, было только двенадцать лет от роду, однако ранние браки в те давние времена, когда люди, особенно женщины, старели рано и стремительно, были вполне в обычае.
Князь Андрей Юрьевич прежде был женат, однако уже несколько лет как овдовел. От первого брака у него остались три сына: Мстислав, Всеволод и Глеб. Но если бы сестра Кучковичей сделалась княгиней Андреевой, она уж как-нибудь порадела бы за братьев, добилась для них высших чинов, а то и земель при князе. Она была бы лазутчиком Кучковичей в самом доме Боголюбского.
Итак, Кучковичи были очень заинтересованы в этом браке и не сомневались, что поймать Боголюбского в свои сети им удастся. Ничего, что Улита — бесприданница. О ее красоте уже сейчас, когда Улита была еще ребенком, ходили легенды. Можно было ожидать, что через год-другой она сделается вовсе уж баснословной красавицей. А Андрей Юрьевич, кроме всего прочего, унаследовал от отца и склонность к приятному времяпрепровождению. Однако жениться сызнова он пока не собирался, и для всех людей, близко знавших вышгородского князя, причина была ясна.
Несмотря на любовь Андрея к Северо-Восточной Руси, ему был не по вкусу холодноватый, северный тип женской красоты. Как раз такой была его покойная жена, и она жила, совершенно заброшенная мужем.
Идеалом женской красоты (да простится нам сие чуждое тому времени выражение!) Андрей считал Богородицу. Вернее сказать, изображение ее на иконе, которая находилась в женском монастыре в Вышгороде. Икона сия была писана, как говорили, самим святым евангелистом Лукой. В середине V века образ был перевезен из Иерусалима в Царьград, а в середине XII века послан греческим императором в дар Юрию Долгорукому.
Красота Богородицы на этой иконе приводила князя вышгородского в исступление, а женщины, схожие с ней ликом, вызывали у него странную смесь вожделения и поклонения. Однако среди невест, которых ему время от времени находил отец, не было ни одной, хотя бы отдаленно подходящей под его мерки. Именно поэтому он пока еще ни к кому не посватался, хотя вроде следовало бы.
Ну так вот Улита была похожа на икону, описное изображение, как две капли воды. Илья, недавно побывавший в Суздале и повидавший сестру, клялся брату, что сначала даже оторопел. Можно было не сомневаться, что юница произведет на князя ошеломляющее впечатление. Но прежде следовало устроить так, чтобы над ним не довлела воля отца. Проще говоря, Кучковичи делали все, чтобы убедить Андрея отъехать из Вышгорода в Суздаль — причем отъехать со скандалом.
Замысел братьев блестяще удался.
Андрей не просто покинул Вышгород самовольно: он еще совершил поступок, враз святотатственный — и умилительный. Он украл из монастыря икону Богородицы!
В такое трудно поверить, поэтому автор постарается отстраниться от описания столь невероятной истории и обратится к «Русской истории в жизнеописании ее важнейших деятелей» Н. Костомарова:
«Рассказывали о ней[5] чудеса, говорили, между прочим, что, будучи поставлена у стены, она ночью сама отходила от стены и становилась посреди церкви, показывая как будто вид, что желает уйти в другое место. Взять ее явно было невозможно, потому что жители не позволили бы этого. Андрей задумал похитить ее, перенести в суздальскую землю, даровать таким образом этой земле святыню, уважаемую на Руси, и тем показать, что над этой землей почиет особое благословение Божье. Подговоривши священника женского монастыря Николая и дьякона Нестора, Андрей ночью унес чудотворную икону из монастыря и вместе с соумышленниками тотчас после этого убежал в суздальскую землю. Путешествие этой иконы в суздальскую землю сопровождалось чудесами: на пути своем она творила чудеса исцеления».
Ну, рассказы насчет брожения иконы по храму, конечно, чистой воды позднейшая выдумка, призванная оправдать несусветный и беспрецедентный поступок князя, который уже в те годы всячески декларировал свое благочестие, хотя поступил в высшей степени странно. Да и что касается чудес — они, скорее, принадлежали хитрости человеческой, нежели небесному произволению.
Надо сказать, что Андрей вовсе не намеревался везти обожаемую икону в Суздаль или Ростов. Он страстно мечтал о своем городе. Ему очень нравился Владимир, в ту пору местечко более чем захолустное. Впрочем, Андрей при своей самоуверенности не сомневался, что способен любое захолустье сделать центром вселенной. Кроме того, он хотел абсолютной, непререкаемой власти, а в Ростове и Суздале добиться ее было бы невозможно. Там существовали свои вечевые традиции, причем очень сильные: князя непременно избирало вече, и во всех своих поступках он тому вече был подотчетен. Во Владимире же, который Андрей намеревался сделать полноценным городом (что и говорить, решительности ему было не занимать!), он был бы сам себе господин.
Себе — и всем прочим.
Стоило Андрею принять решение, как немедленно начались чудеса, упомянутые Н. Костомаровым. Лишь только конь, который вез икону, прошел десять верст за Владимир по направлению к Суздалю, как на Рогожских полях, на Клязьме, уперся — и вперед ни тпру, ни ну.
Князь объявил: сие-де знак свыше, коему надлежит повиноваться. Поскольку день клонился к вечеру, стали устраиваться на ночлег. Дальнейшее Н. Костомаров описывает сдержанно, однако с оттенком иронии:
«Князь заснул, а поутру объявил, что ему являлась во сне Божия Матерь с хартией в руке и приказала не везти ее икону в Ростов, а поставить во Владимире, на том месте, где произошло видение, соорудить каменную церковь во имя Рождества Богородицы и основать при ней монастырь. В память такого видения написана была икона, изображавшая Божию Матерь в том виде, как она явилась Андрею, с хартией в руке. Тогда на месте видения заложено было село, называемое Боголюбовым. Андрей построил там богатую каменную церковь; ее утварь и иконы украшены были драгоценными камнями и финифтью, столпы и двери блистали позолотою. Там поставил он временно св. икону; в окладе, для нее сделанном Андреем, было пятнадцать фунтов золота, много жемчуга, драгоценных камней и серебра».
Видение явилось как по заказу, не правда ли? Ни раньше, ни позже… Но вся штука в том, что видение было вовсе не видением, и явилось оно именно по заказу. Богородицу узрели не только восторженный князь, но и другие люди. В частности, братья Кучковичи. Оно и понятно! Ведь являлась Андрею не кто иная, как красавица Улита Кучковна, которую он, в суеверии своем, принял за Богородицу.
Надо сказать, что святотатства Кучковичи не умышляли. Они просто-напросто привели сестру в палатку ко князю со вполне понятной целью…
Ожидали приступа вожделения — но отнюдь не суеверного, благочестивого восторга! Однако князь обошелся с подсунутой ему девицею как со святыней, и Кучковичам потребовалось немалое время, чтобы убедить его: идеальный образ, запавший ему в душу, вполне может сделаться реальной супругой.
Спустя некоторое время Андрей заложил на том месте, где его посетило «видение», село Боголюбово, сделавшееся его любимым местом пребывания. Именно поэтому он и стал зваться в истории Андреем Боголюбским.
Минуло чуть более года, и великий князь киевский Юрий Долгорукий покинул сей мир. Смерть его приключилась 15 мая 1157 года и совпала по времени с двумя событиями: пиром у боярина Петрилы и получением известия от сына. Андрей Юрьевич сообщал, что намерен жениться на девице суздальской по имени Улита Кучковна.
Предполагается, что на пиру у Петрилы князь Гюрги был отравлен (на радость, между прочим, Изяславу Черниговскому, грезившему Киевом и великим княжением). Не исключено. Правда, кто-то утверждал: князь-де упал замертво, когда ему прочли письмо сына… Но на сие не было обращено никакого внимания.
Имя Петрилы вошло в историю как имя возможного губителя «властолюбивого, но беспечного» (по меткому отзыву Н. Карамзина) основателя Москвы.
Князя Гюрги отпели и похоронили.
А Андрей Юрьевич обвенчался с Улитой Кучковной.
Наконец-то исполнилась мечта братьев Иоакима и Ильи Кучковичей! Даже две мечты. Во-первых, лютой смертью умер убийца их отца. Во-вторых, сестра стала женой князя Андрея Боголюбского. Она была послушной игрушкой в руках братьев, Иоаким и Илья вертели ею как хотели, а она как хотела вертела супругом. Но — лишь до поры до времени.
В принципе, Улита Кучковна могла быть вполне довольна своей жизнью, кабы не одно «но»: муж относился к ней чрезмерно благоговейно. Сначала сходство жены с образом на обожаемой иконе возбуждало его, а затем, напротив, стало охлаждать. Проще говоря, Андрею Юрьевичу чудилось, будто, отправляясь с женой в постель, он совершает некое святотатство. Поэтому он очень скоро — как только жена сделалась беременна — оставил супругу в покое и даже после рождения сына Юрия не переменился. Продолжал исполнять все ее прихоти, однако не прикасался к ней даже пальцем.
Ну какие там у нее были особенные прихоти, у молодой княгини? В ее теле буйствовала кровь Ульяновны! И участь иконы, до которой опасаются дотронуться хоть пальцем, с каждым днем все больше раздражала Улиту Кучковну.
Женщина хотела еще детей, хотела страсти мужа! Однако тот мало того, что ночи проводил на коленях в храме и строил все новые и новые церкви во Владимире и Боголюбове, — он еще беспрестанно укреплял свою княжескую власть и порою забывал о существовании жены на долгие месяцы.
История рисует нам Андрея Боголюбского столь же воинственным, каким был его отец, однако еще более последовательным и неумолимым в утверждении своего господства. По меткому выражению одного из исследователей его биографии, «Андрей Боголюбский хотел «самодержцем быти» еще за три века до того, как на Руси созрели для этого условия».
Он отказался от неинтересного ему великого княжения в Киеве и основал новое Владимиро-Суздальское княжество — несмотря на то что Гюрги завещал Суздаль младшим сыновьям. Андрей просто выгнал из своих владений всю родню, братьев и племянников, вдобавок часть их отправил в ссылку.
Впрочем, преданный князю летописец изображает свершившееся куда более благообразно: «В лето 1157 сдумали ростовцы, и суздальцы, и владимирцы и взяли Андрея, старшего сына Юрия, и посадили его на отцовском столе в Ростове, и Суздале, и Владимире, ибо он был любим всеми за премногую свою добродетель».
Да, князь сделал Владимир достойным своего присутствия. Город сильно разросся и населился. Именно при Андрее Боголюбском появились там знаменитые Золотые ворота, Печерский город и Десятинная церковь Богородицы, монастыри Спасский, Вознесенский и т. д. «Понимая, что духовенство составляло тогда единственную умственную силу, — пишет Костомаров, — Андрей умел приобрести любовь его, а тем самым укреплял свою власть в народе. В приемах его жизни современники видели набожного и благочестивого человека. Его всегда можно было видеть в храме на молитве, со слезами умиления на глазах, с громкими воздыханиями. Хотя его княжеские тиуны и даже покровительствуемые им духовные позволяли себя грабительства и бесчинства, но Андрей всенародно раздавал милостыню убогим, кормил чернецов и черниц и за то слышал похвалы своему христианскому милосердию. Нередко по ночам он входил в храм, сам зажигал свечи и молился перед образами».
В том и состояла «добродетель», которую возвеличивает летописец, но которую втихомолку проклинала молодая жена князя…
Андрей Юрьевич, обретя огромную силу (ему не трудно было враз собрать под свои знамена пятидесятитысячное войско!), попытался навязать свою волю Южной Руси — просто для того, чтобы утвердить свою идею о непререкаемом главенстве северо-востока. Для этого Боголюбский осадил Киев, затем взял его «на щит» и учинил там страшный разгром и грабеж. Конечно, Киев не раз становился предметом ожесточенных раздоров русских удельных князей, однако ни один из Рюриковичей еще не пытался уничтожить священный город. Суть в том, что князь Владимиро-Суздальский не считал его таковым. Его дед, половецкий хан Аепа, и все прочие многочисленные половецкие ханы, мечтавшие о разорении Киева, могли быть довольны! Именно после этого бессмысленно-варварского деяния киевские князья утратили свою ведущую государственную роль.
Правда, Боголюбский рановато возомнил себя самодержцем. Ему оказал стойкое сопротивление Новгород, который он решил лишить вековых вольностей, дарованных еще Ярославом Мудрым. Причем, словно в возмущение творимыми Боголюбским беззакониями, помощь новгородцам оказала… икона Божьей Матери.
По преданию, накануне решающего штурма архиепископ новгородский Иоанн молился перед образом Спаса и услышал глас от иконы, повелевший ему выставить наутро на забрале крепостной стены икону Пресвятой Богородицы. Она-де спасет Новгород. Иоанн так и сделал. Когда тучи суздальских стрел обрушились на крепостную стену, одна попала в икону. Из глаз Богоматери потекли слезы, а на суздальцев нашло помрачение ума, и они начали стрелять друг в друга. Штурм провалился.
Вот чудо так чудо! Икона Знаменской Божьей Матери сделалась весьма почитаемой на Руси. Кстати сказать, так же, как и возлюбленная Андреем Юрьевичем икона Владимирской Божьей Матери. Немного странно, конечно, что она не помогла ему овладеть Новгородом. Но оставим это непостижимое противоречие на совести летописцев и теологов.
Вслед за тем Боголюбский потерпел сокрушительное поражение от южнорусских князей, которые попытались восстановить величие Киева. Там едва не погиб его старший сын Всеволод, а послам Боголюбского, которые передали его наглые требования к князьям Ростиславичам — немедленно покинуть пределы Руси, ни больше, ни меньше! — нанесли великое бесчестие, обрив им головы. Это означало такую плюху самому Андрею Юрьевичу, от которой он не скоро оправился. Новый штурм Киева успеха не имел, потому что войском овладела необъяснимая паника. Князь Боголюбский приписал ее Божьему гневу… И надо сказать, что небесам было за что на него гневаться!
А что же Кучковичи? Что же их мстительные планы?
Планы были на время отложены. «Козла отпущения» решили сначала как следует выдоить. Родственникам князя с каждого его завоевания полагалась богатая добыча, и привилегиями своими Кучковичи старательно пользовались.
Убить Андрея они успеют, сначала нужно разбогатеть с его помощью!
А между тем в доме князя начали и без участия Кучковичей твориться трагические события. Повинна в них была женщина. Но — не Улита.
В том же 1173 году, когда князь Владимиро-Суздальский потерпел ужасную неудачу в Южной Руси, в Боголюбово прибыла особа, известная более всего как мать той самой Евфросиньи Ярославны, о которой мы уже упоминали выше и которая стала героиней «Слова о полку Игореве». В описываемое время до злополучного похода новгород-северского князя Игоря было еще далеко (он состоится в 1185 году), и княгиню Ольгу Юрьевну, попросившую приюта у брата своего Андрея Боголюбского, заботило совершенно другое. Прежде всего — ее собственная горькая женская доля.
Несчастья Ольги Юрьевны имели роковые последствия для семьи ее брата, а потому на них следует остановиться подробнее.
Она вышла замуж в 1155 году — как раз когда ее отец Юрий Долгорукий воссел на великокняжеский стол в Киеве и находился на пике своего могущества. Гюрги отдал дочь за князя Галицкого Ярослава Владимировича. Это был очень выгодный брак. О могуществе Ярослава можно судить по нескольким строкам из того же «Слова о полку Игореве»:[6]
Ярослав, князь Галицкий! Твой град Высоко стоит под облаками. Оседлал вершины ты Карпат И подпер железными полками. На своем престоле золотом Восемь дел ты, князь, решаешь разом. И народ зовет тебя кругом Осмомыслом — за великий разум. Дверь Дуная заперев на ключ, Королю дорогу заступая, Бремена ты мечешь выше туч, Суд вершишь до самого Дуная. Власть твоя по землям потекла, В Киевские входишь ты пределы, И в салтанов с отчего стола Ты пускаешь княжеские стрелы.Можно было считать, что Ольге Юрьевне чрезвычайно повезло в жизни. Она родила сына Владимира и нескольких дочерей. Однако количество детей — еще не залог семейного счастья. И даже самый мудрый мужчина не заговорен от неразумных поступков. Как тут не вспомнить размышления великого Одина из «Старшей Эдды»:
Никто за любовь никогда осуждать другого не должен; часто мудрец опутан любовью, глупцу непонятной.Этой самой любовью, «глупцу непонятной», был опутан премудрый Осмомысл — князь Ярослав Галицкий. Он безумно влюбился в какую-то женщину, о которой известно лишь то, что ее звали Настаской и была она незнатной жительницей Галича. Страсть охватила Осмомысла, когда он был уже вполне зрелым человеком: дети выросли. Он почувствовал, что его больше ничего не сдерживает, и открыто высказал Ольге Юрьевне, что она ему опостылела, видеть он ее больше не может и хочет сделать своей княгиней Настаску, у которой, между прочим, тоже рос сын от князя Ярослава — Олег.
К чести Настаски, следует сказать, что княгиней она быть вовсе не желала. Однако еще пуще не желали того Ольга Юрьевна и бояре галицкие. Бояре принялись увещевать князя, а Ольга Юрьевна, уверенная, что с мужьями, особенно прелюбодеями, надо обращаться как можно круче, взяла да и уехала с детьми в Польшу. Пожила там некоторое время, а потом поселилась на Волыни, уверенная, что муж вот-вот приползет на коленях и станет умолять ее — дочь Юрия Долгорукого! — воротиться назад.
Однако Ярославу была нужна вовсе не знатная Ольга, дочь Долгорукого, а незнатная Настаска. Стоило жене исчезнуть из Галича, как Осмомысл поселил возлюбленную в княжеском доме, даже не подозревая всеми своими восемью «смыслами», то есть своей многомудрой головушкой, какую ярость вызвал у бояр.
Они договорились с княгиней и по ее тайному приказу схватили князя. Но не для того, чтобы свергнуть с престола заблудшего правителя! Они всего лишь заточили Ярослава в темницу, а беззащитную Настаску обвинили в том, что она — ведьма, чародейка! — опоила Ярослава приворотным зельем и тем лишила его ума-разума. А потом красавицу сожгли на костре.
Надо сказать, что в данной ситуации православные бояре оказались натурально «впереди планеты всей» и своих недругов-католиков — в частности. Здесь просто невозможно удержаться от прелюбопытнейшего экскурса в историю «охоты на ведьм».
Еще в 785 году высшие церковные власти Западной Европы собрались на Падерборнский собор и приняли такое постановление: «Кто, ослепленный дьяволом, подобно язычнику, будет верить, что кто-либо может быть ведьмой, и на основании этого сожжет ее, тот подлежит смертной казни». Следовательно, тогда считалось достойным наказания не чародейство, а вера в него! Причем постановление сие продолжало действовать аж до конца XIII (!!!)века, пока Фома Аквинский, самый выдающийся из учителей Церкви того времени, не убедил прогрессивное человечество в том, что ведьмы все-таки существуют. Вот и запылали костры по всей Европе, заработала инквизиция… Однако самый первый костер вспыхнул в Галиче.
Забавно, не правда ли? Начало средневековой «охоты на ведьм» было положено на Руси!..
Но вернемся в Галич.
Когда пепел несчастной Настаски развеялся по ветру, бояре выпустили из узилища Осмомысла и повелели ему жить с законной женой. Ольга Юрьевна с великой пышностью воротилась домой и решила, что все ее беды закончились.
Увы, из мужчин веревки вить удается с большим трудом. Когда прошло первое потрясение, Ярослав наотрез отказался не только жить с женой, но и вообще видеть ее около себя. Слишком уж жестоко отомстили ему за любовь! Тень убитой возлюбленной незримо витала между супругами.
Княжеская семья распалась. Дочь Евфросинья, к счастью, уже была замужем за князем Игорем. Она приютила сестер, а брат ее, Владимир, долго скитался по разной другой родне, пока тоже не пристроился у сестры.
Чтобы закончить разговор об этой трагической любовной истории, скажем, что сын Настаски, Олег, был заключен в тюрьму, но когда Ярослав избавился от супруги, он забрал мальчика к себе и, умирая, оставил ему — ни больше ни меньше! — все Галицко-Волынское княжество. Владимир же, законный сын, получил Перемышль. Разумеется, бояре взбунтовались. Олега — Настасьича, как его презрительно именовали не по отцу, а по матери! — изгнали (а вскоре и отравили). На княжеский престол посадили Владимира. И — вот чудеса бывают на свете! — Владимира охватила пагубная страсть к какой-то молодой попадье, которую он увел от мужа. Разумеется, бояре снова были недовольны. Начали грозить князю, как грозили некогда его отцу. Владимир, еще помнивший пламя костра, на котором жгли Настаску, испугался за свою милую попадью. Испугался не на шутку! Бросил все к черту: и княжество, и бояр, — и скрылся в Венгрии. Многими годами позже воротился он в Галич «на штыках» немецкого императора Фридриха Барбароссы и польского короля Казимира. Больше бояре к нему не лезли!
Тем временем виновница гибели Настаски, княгиня галицко-волынская Ольга Юрьевна приехала к брату Андрею и поселилась в его доме, готовясь к поступлению в монастырь. Озлобленная, исстрадавшаяся, немолодая женщина, помешанная на ревности, на оскорблении, нанесенном не только ей, но и, как она считала, всей семье великого Юрия Долгорукого… И оскорбление было нанесено какой-то простолюдинкой! Вот что больше всего сводило Ольгу Юрьевну с ума.
И что же она видит в доме брата? Тот вечно занят то строительством монастырей, то военными походами, а заправляет всем его жена. Да кто она такая?! Какая-то Кучковна! Еще молодая и такая красивая, что иссохшая от злости княгиня Галицкая посчитала это оскорбительным, — простолюдинка! Подумаешь — дочка боярина! Не иначе она околдовала брата, эта ведьма! Так сразу и прикинула Ольга Юрьевна. А когда до нее дошли слухи о некоторых странностях, творившихся вокруг столь почитаемой братом иконы (например, о той забытой истории основания Боголюбова), она окончательно уверилась, что князь Андрей Юрьевич пал жертвой колдовства. И, поскольку княгиня считала себя большим авторитетом в данной области, она порешила сжить Улиту со свету.
Впрочем, Ольга Юрьевна была отнюдь не глупа и умела извлекать уроки из своих ошибок. Она ведь бежала из Галича не только от ненависти мужа — она бежала от ненависти всего города. Ее поддерживала только горстка бояр — они были властны над поступками людей, но не властны над их мыслями и над теми словами, которые те выкрикивали вслед княгине-убийце. А здесь вообще никто не поддерживал княгиню — все любили Улиту Кучковну. Она была полной противоположностью суровому, жестокому, ханжески-богомольному мужу.
Ольга Юрьевна решила погубить ее тихо. Она стала выспрашивать, вынюхивать и наконец-таки вытащила на белый свет то, что уже давно забылось: Улита — дочь любовницы Юрия Долгорукого.
Еще жила на свете прежняя нянька Улиты, отлично помнившая ту историю. И Ольга Юрьевна подолгу выспрашивала старушку о прежних днях, снова и снова заставляла возвращаться в прошлое. У княгини Галицкой не шла из головы одна малость, на которую она в свое время просто не обратила внимания: отец-то, князь-батюшка, умер после того, как получил известие, что Андрей намерен жениться на Улите! В ту пору Ольга Юрьевна не понимала значения совпадения, но теперь она узнала: Кучка озлобился на Ульяну не только из-за того, что она была любовницей великого князя, но и оттого, что она беременна от Гюрги. Да, тот ребенок умер. Но что, если… что, если он был не первым совместным ребенком Гюрги и Ульяновны? Ведь их связь длилась несколько лет! Может, Улита — тоже их общее дитя, и Гюрги умер от потрясения, узнав, что его сын намерен жениться на своей… единокровной сестре?!
Старая нянька ничего такого не говорила. Сначала уверяла, что ничего не помнит, не знает. Но Ольга Юрьевна была так ласково-упорно-настойчива… она покоя не давала старушке. И в конце концов та совершенно запуталась в том, что было, а чего не было. Поверила, что все было именно так, как хочет услышать приставучая княгиня. Поверила, что помнит это! И когда Ольга Юрьевна, словно невзначай, привела к ней Улиту и заставила няньку рассказать давнюю историю, старушка заявила своей госпоже, что отец ее, Улиты, вовсе не боярин Кучка, а князь Юрий Владимирович.
Повторяю: никто не знает, правда это или нет. Существуют лишь домыслы на тему рождения Улиты Кучковны, по сей день существуют… Но Ольга Юрьевна в те далекие, непредставимые годы выложила свои домыслы снохе с торжеством и уверенностью как очевидность.
И Улита поверила…
Поверила — и ужаснулась! Той же ночью она пошла на Клязьму — да и бросилась с обрывистого берега в воду.
Утопилась.
Случись такое с кем-нибудь другим, не с женою князя Боголюбского, шум поднялся бы до небес. Самоубийство считалось смертным грехом! Однако вся епископия владимирская была в кулаке у князя Андрея Юрьевича. Он использовал свое влияние, чтобы замять скандал.
Княгиню, которую, по обычаю, надо было бросить в жальник при дороге либо зарыть где попало, чтоб и следа к ее могиле никто не сыскал, похоронили на кладбище, в освященной земле, но — тихо, украдкой, словно бы стыдясь. Произносить ее имя было запрещено под страхом смерти. И в устах сурового, неумолимого Боголюбского это отнюдь не звучало как пустая угроза или преувеличение.
Он возненавидел жену, которая так его опозорила. И что странно — ненависть его распространилась и на сына, на Юрия.
Братья Улиты, не настолько закоренелые в благочестии, как их зять, ужасались такой жестокости, однако говорить с князем было бессмысленно. В ответ на все увещевания он пригрозил вовсе вышвырнуть княжича из дому, а шурьев своих прогнать с дарованных им земель, дома огню предать — коли не угомонятся Аким и Илья.
Что было делать? Угомонились. И ради себя, и ради племянника. Опять же, Аким совсем недавно выдал замуж за одного из людей князя свою юную дочь. Угомониться пришлось и ради нее.
Планы их мести снова были задвинуты в дальний угол. Получилось, что отмщение воздавалось именно им! Как тут не остережешься?
В доме оказался только один человек, который не только поддерживал Андрея Юрьевича в его ожесточении, но и укреплял в нем губительное чувство. Нетрудно угадать, кем был тот человек — конечно, княгиня Галицкая.
Само собой — Ольга Юрьевна и словом не обмолвилась о своей жуткой, кошмарной роли в случившемся, о том, что она сама и подтолкнула сноху к погибельному обрыву. Запуганная ею нянька дала слово молчать до самой смерти. Княгиня Галицкая пуще всех шпыняла осиротевшего княжича, попрекала его самоубийством матери, про себя потешаясь, что он назван был Юрием — в честь отца князя Андрея.
Как бы не так! В честь отца обоих родителей!
В конце концов Ольга Юрьевна, с приятным чувством исполненного долга, затворилась во владимирском монастыре и приняла постриг.
Прежде чем проститься с этой пугающей, кровожадной женщиной, вспомним весьма известное произведение древнерусской литературы, а именно — «Моление Даниила Заточника». До сих пор не установлено, кто был его автор — то ли дворянин, то ли дружинник, то ли вовсе холоп или ремесленник. Исследователи даже сомневаются, в какую эпоху он жил и творил, тот Даниил: то ли при Юрии Долгоруком, то ли в позднейшую эпоху, чуть ли не при Всеволоде Большое Гнездо (1154–1212). Ну, Юрий Долгорукий тут определенно ни при чем, ибо в тексте упоминается село Боголюбово, построенное его сыном Андреем уже после смерти отца…
В «Молении» вообще масса интересного, однако наиболее любопытны и, не побоюсь даже сказать, скандальны строки, посвященные «злой жене». Даниил Заточник развивает тему, затронутую в свое время Соломоном, — развивает весьма творчески! Вот только некоторые из его пассажей, под которыми охотно подпишутся многие мужчины, но с которыми не соглашаются женщины:
«Что такое жена злая? Людская смута, ослепление уму, заводила всякой злобе, в церкви сборщица дани для беса, защитница греха, засада для спасения.
Если какой муж смотрит на красоту жены своей и на ее ласковые и льстивые слова, а дел ее не проверяет, то дай Бог ему лихорадкой болеть и да будет он проклят.
Хорошая жена венец мужу своему и беспечалие, а злая жена — горе лютое и разорение дому. Червь дерево точит, а злая жена дом своего мужа истощает. Лучше в дырявой ладье плыть, нежели злой жене тайны поведать: дырявая ладья одежду замочит, а злая жена всю жизнь мужа своего погубит. Лучше камень бить, нежели злую жену учить; железо переплавишь, а злой жены не научишь.
Ибо злая жена ни ученья не слушает, ни церкви не чтит, ни бога не боится, ни людей не стыдится, но всех укоряет и всех осуждает.
Что злее льва среди четвероногих и что лютее змеи среди ползающих по земле? Всех тех злее злая жена. Нет на земле ничего лютее женской злобы! Из-за жены прадед ваш Адам из рая был изгнан; из-за жены Иосиф Прекрасный в темницу был заключен; из-за жены пророка Даниила в ров ввергли, где львы ему ноги лизали. О злое, острое орудие дьявола и стрела, летящая с ядом!
У некоего человека умерла жена; он уже по смерти ее начал продавать детей. И люди сказали ему: «Зачем детей продаешь?» Он же ответил: «Если родились они в мать, то, как подрастут, меня самого продадут».
Вот такой впечатляющий текст. Написано, конечно, с чувством. Явно о какой-то конкретной женщине! Отчего-то расхожим стало у некоторых историков, будто прообразом злой жены послужила для Даниила Заточника Улита Кучковна — поскольку вместе со своими братьями участвовала в убиении благочестивого князя Боголюбского. И утверждается так, притом что уже доказано: Улита умерла раньше! Ко времени своей смерти Андрей Боголюбский был вновь женат.
На другой!
Возможно, конечно, что пассажи Заточника относятся к новой жене. Однако мне почему-то кажется, что Даниил был знаком с Ольгой Юрьевной, княгиней Галицкой. О ней и писал в своем «Молении», она и есть «злая жена». Ведь ни к кому из персонажей этой истории так, как к ней, не подходит восклицание: «Нет в мире ничего лютее женской злобы!»
Вернемся, впрочем, в Боголюбово.
Князь Андрей Юрьевич, желая всем показать, как сурово осуждает покойную жену, даже не стал ждать, пока закончится жалевой (печальный) срок, то есть траур. Всего лишь полгода прошло после ее смерти, как он женился вновь.
На сей раз его избранницей стала осетинская княжна, имени которой история не сохранила. Ее называли просто Яся, то есть осетинка.
Надо сказать, что князь Боголюбский вообще любил окружать себя инородцами — воспользуемся терминологией тех времен. Он ведь и сам был крови смешанной, не вполне русской: по матери половец. А если еще вспомнить происхождение самого Гюрги, матерью которого была англичанка Гита… Ну и так далее, глядя в глубь веков.
Русский человек — не столько происхождение, сколько национальное самосознание. Так вот этого предрассудка оголтелый князь Боголюбский был начисто лишен. Потому он в свое время и опоганил Киев грабежом. Потому в его окружении и появлялись личности, мягко говоря, колоритные — вроде ключника ясина (то есть осетина) Анбала.
Ключник — ясин, вторая жена — Яся… Не исключено, что брак состоялся не без участия Анбала. Все-таки не столь часто появлялись в ту пору на Руси люди, так сказать, кавказской национальности. Однако появлялись! И русские на Кавказе возникали сплошь и рядом, более того — поднимались до самых верхов власти. Одним из таких людей станет Юрий, сын Андрея Боголюбского… но до сего события еще должно пройти более десяти лет. Пока же — у осиротевшего княжича появилась мачеха.
Рассказывают, она была красавица, та Яся… Но — не родись красивой, а родись счастливой. Пылкая осетинка очень скоро убедилась, что вышла замуж для того, чтобы жить в довольстве днем, но проводить ночи в одиночестве: боголюбие ее мужа с каждым годом лишь росло и процветало. Каждую сладкую минуту, проведенную с женой, князь Андрей Юрьевич воспринимал как грех и, вскочив с постели, немедленно бежал в храм — грех замаливать. И грешить старался все реже, реже, реже… А после медового месяца и вовсе перестал. То есть Яся переживала все, что в свое время пережила несчастная Улита.
Неведомо, как складывались бы отношения супругов далее. Возможно, что и Яся смирилась бы со своим унылым существованием, как смирилась ее предшественница на безрадостном супружеском ложе. Но тут как раз случилось некое происшествие.
Старая нянюшка покойной Улиты Кучковны затеяла помирать.
Она ни словом не нарушила клятву, данную Ольге Юрьевне. Прежде всего потому, что боялась. Вот и молчала мертво, молчала до смерти… но в последние свои минуты все же разомкнула уста — для исповеди. Она почти уже ничего не сознавала, не заметила, что в опочивальне, кроме священника, присутствует еще один человек. Он очень любил нянюшку: ведь она вынянчила и его, прежде чем ей передали Улиту. Неудивительно, что тот человек бодрствовал возле смертного одра старушки.
Брат Улиты Кучковны, Илья.
Страшная, невероятная история, рассказанная нянюшкой, ошеломила тех, кто ее услышал. Священник, понятное дело, никому ничего не сказал — из страха Божия, из чувства долга, ради сохранения тайны исповеди. На уста же потрясенного Ильи налагала печать любовь к сестре. Поэтому он сообщил о страшном открытии только одному человеку: своему брату. И испытал новое потрясение: оказывается, Аким уже знал обо всем. Узнал давно, сразу после самоубийства Улиты. И сказал ему не кто иной, как… сам Боголюбский!
Ольга Юрьевна все-таки решилась открыть глаза брату. Это произошло в тот самый день, когда ужасная правда (а может, и выдумка!) стала известна Улите. Женщина побежала за утешением к мужу, надеясь, что тот ее разуверит, скажет, что ничего подобного быть не может… Однако великий воин, строитель монастырей и городов, ничем не мог утешить жену. Напротив — начал упрекать, вспоминать, как братья привели ее к нему в шатер… По его мнению, выходило, что сами Кучковичи и виновны в случившемся. А еще Боголюбский заявил жене, что, если она не хочет быть с позором выгнанной из дому, пусть немедля, завтра же, отправится в монастырь. Да пострижется не здесь, во Владимире или в Суздале, а где-нибудь далеко на севере или лучше в ненавидимом Боголюбским Киеве. Чтобы даже слухи о ней никогда в Боголюбово не доходили и она больше никогда не могла увидеть сына — «плод ее греха».
Словом, всю вину за случившееся князь Андрей Юрьевич взвалил на жену. И она той вины не выдержала — утопилась, за что Боголюбский возненавидел ее еще больше. Ее и сына, которого держал теперь в доме только ради того, чтобы «не осудили люди».
Илья ушел от брата не в себе. Его занимала только одна мысль — отомстить Боголюбскому! Но как?
Не в добрый час попалась ему на глаза молодая княгиня. Ее Илья с самого начала невзлюбил — как же, заняла место сестры… Но теперь он понял, кто станет орудием его мести.
Илья дождался ночи и пробрался в опочивальню к Ясе. Был уверен, что Боголюбский, как всегда, бьется лбом по полу в молельне. Однако, как говорится, осечка вышла. На сей раз князь решил провести ночь с женой. И тут в опочивальню вломился Илья, у которого ярость до того затуманила мозги, что он даже об осторожности забыл.
И был схвачен, что называется, на месте преступления. На зов Боголюбского набежали слуги верные и, орудуя кто ногами, кто руками, забили «татя нощного» до смерти прежде, чем разобрались, кто он такой. Только потом дали себе труд заглянуть ему в лицо… И ужаснулись все, кроме князя, который равнодушно изрек:
— По собаке собачья и смерть.
Илью Кучковича уволокли со двора за ноги, бросили на обочине дороги, будто падаль какую-то. Брату пришлось долго искать его тело, чтобы похоронить…
Времена настали тяжелые. Аким Кучкович понимал, что милостей ему князь больше расточать не станет — напротив, попытается сжить со свету. И не его одного — зятя его, Петра, тоже не пощадит, даром что тот ничем пред господином своим не провинился.
Сам не свой ходил и Анбал — Боголюбский мордовал его, подозревая в сводничестве. Он-де потакал «блуднице-распутнице» Ясе, он-де сводил ее с Ильей Кучковичем. Хуже всех приходилось Ясе — муж избил ее так, что она встать не могла. Лежала в черном чулане, и стоны ее разносились по всему дому.
Неведомо, у кого первого зародилась мысль — отомстить наконец князю. Возможно, как и сообщает нам «Повесть об убиении Андрея Боголюбского», у Акима Кучки.
— Он убил брата моего, глядишь, следующими и мы будем, — сказал он своему зятю Петру, ключнику Анбалу Ясину и другим примкнувшим к ним заговорщикам. (Всего «Повесть» исчисляет их двадцатью. Видимо, благочестивый князь успел «достать» не только самых близких людей, но и многих других.)
Кстати сказать, «других» набрался целый город. Но об этом — ниже.
И вот в условленное время заговорщики ворвались в спальню князя. Безымянный автор «Повести об убиении…» уверяет, что они предварительно крепко выпили. Что, как мы помним, и вызвало брезгливое отторжение у чистоплотного А.К. Толстого. Но, во-первых, автор «Повести…» — лицо официальное, он был явно призван всячески возвеличить образ убиенного князя, поэтому на его убийц он вешает всех мыслимых и немыслимых собак. А во-вторых — ну что и когда на Руси (и не только на Руси!) делалось на трезвую голову?! Можно, кстати, вспомнить убийство в Ропше, да и в Михайловском замке. Участники тех комплотов тоже были глубоко нетрезвы. Понятно, что те люди взбадривали себя вином, готовясь учинить кровопролитие: ведь они не были профессиональными киллерами!
Итак, заговорщики взломали дверь и ворвались в спальню князя. Боголюбский вскочил, стал искать меч святого Бориса, который всегда висел над его ложем. Но меч еще накануне был снят Анбалом.
Двое заговорщиков схватили князя.
— Горе вам, нечестивые, — говорил Андрей, — зачем хотите походить на Горясера.[7] Какое зло я вам сделал? Если прольете мою кровь, то Бог отомстит вам на небеси.
Петр отсек князю руку.
— Господи, в руце Твои предаю дух мой, — сказал Андрей и умер.
Конечно, убийство — не способ решения проблем. Но поразительно, как себя ведет князь Боголюбский. Самообладанию его перед лицом смерти можно позавидовать, им можно восхититься. Однако вызвано оно не отвагой, не храбростью, а непомерной гордыней. Он словно заранее уверен, что попадет в разряд небожителей, которые стоят у престола Господня, и сравнивает себя со святым Глебом, заодно равняя своих погубителей с его убийцами. Да еще железная уверенность: «Бог отомстит вам на небеси…»
Отомстили убийцам люди, не Бог, но далеко не сразу.
Пока же тело князя Боголюбского шесть дней (!) лежало непогребенным. Попросту сказать, валялось. И никому не было до него дела. Только слуга князя, Кузьма, приехавший в Боголюбово спустя два дня после смерти господина, позаботился отнести его тело в церковь. Однако священники, которые отлично помнили самоуправство князя в церковных делах, вовсе не скорбели о нем. Кузьме они небрежно сказали:
— Брось его в притворе, что тебе за печаль?
Наконец священник по имени Арсений отпел убитого. Но минуло еще четыре дня, пока владимирское духовенство не проспалось после радостной попойки по поводу смерти самовластца и не сообразило, что как-то неудобно получается… Князя пышно перенесли во Владимирский Успенский собор.
А народ все шесть дней самозабвенно грабил княжие терема, погреба, дворы что во Владимире, что в Боголюбове. Заодно крепко били и грабили всех, кто осуществлял княжеские распоряжения: посадников, управителей, всадников. Боголюбского мало сказать не любили — его ненавидели!
С другой стороны, говорят, по народу и правитель. Человек валяется непогребенным, а подданные мародерствуют. Ох погано все это!
В конце концов народ то ли опомнился, то ли испугался мести муромского и рязанского князей.
Те тоже спохватились: князь-де убит, значит, надо учинить расправу над виновниками. Похватали всех: Акима, Петра, Анбала, Ясю, еще кого-то. Они ждали в узилище решения своей участи два года. Не до них было — шла ожесточенная драчка окрестных князей за обладание Владимиро-Суздальским княжеством.
Наконец всех одолел Всеволод Юрьевич, прозванный Большое Гнездо. Он был братом Андрея — одним из тех, у кого Боголюбский в свое время отнял завещанные Гюрги суздальские земли.
Конечно, никакой злости на убийц своего самовластного брата он не испытывал. Но… но понимал, что надо показать грозу, дабы другим неповадно было сводить со свету своих князей.
Кое-где сохранились сведения, что Всеволод Большое Гнездо велел повесить убийц Боголюбского на воротах и расстрелять из луков. Та же участь будто бы постигла и Ясю. Трупы их бросили в озеро в трех верстах от Владимира.
Впрочем, есть предание, будто Всеволод Юрьевич приказал бросить в воду лиходеев живьем в коробах и будто до сих пор те короба, обросшие мхом, показываются на поверхности озера, а из них слышатся стоны. Кто не знает, принимает их за плавучие кочки. По словам Татищева, озеро потом долго звалось Поганым.
Напрасно говорят, что время все ставит на свои места. Ничего оно никуда не ставит. Что получилось? Князя Андрея Боголюбского церковь причислила к лику святых. Кучковичи стонут в Поганом озере. Про Ясю забыли, словно ее не было, даже имя ее настоящее неизвестно. Улиту ни за что ни про что считают пособницей убийц и в веках клеймят злой женой… Более того! В вымышленном «Сказании об убиении Андрея Суздальского и о начале Москвы» (XVI век) она выведена в образе жуткой прелюбодеицы Улиты Юрьевны (Юрьевны, заметьте!), которая соблазняет каких-то братьев Кучковичей и подстрекает любовников на убийство своего мужа. Умышленное им удается, и злодеи «жили с княгиней той в бесовском вожделении, сатанинским законом связавшись, удручая тело свое блудной любовной похотью, оскверняясь прелюбодейством». По прошествии некоторого времени князь Андрей Александрович, брат Данилы (вообще-то это имена сыновей Александра Невского, произвольно используемые автором «Сказания»), отомстил за убитого. «И взял он княгиню Улиту, и казнил всякими муками различными, и предал ее смерти лютой, что она, злая, бесстыдная, Создателя не убоялась, людей не посрамилась, добрых жен укору и посмеху не постыдилась, мужа своего злой смерти предала и сама такую же злую смерть приняла».
Удалось ли нам хоть немного очистить от грязи, налипшей со временем, имя страдалицы — Улиты Кучковны? Дай Бог, если так.
Но только… Хоть и говорят, месть, мол, такое блюдо, которое лучше всего есть остывшим, а не следовало Кучковичам тянуть столь долго… ибо остыло оно уже чрезмерно!
P.S.
Можно было бы и закончить новеллу, однако к ней очень близко, ну просто-таки по-родственному, примыкает еще одна история. Я говорю — «по-родственному», потому что речь пойдет о супруге княжича Юрия Андреевича, сына Андрея Боголюбского и Улиты Кучковны. Звали женщину Тамара.
И не просто Тамара, а царица Тамара!
Помните, у Лермонтова?
В глубокой теснине Дарьяла, Где роется Терек во мгле, Старинная башня стояла, Чернея на черной скале. В той башне высокой и тесной Царица Тамара жила. Прекрасна, как ангел небесный, Как демон, коварна и зла.Ну просто в унисон «Молению Даниила Заточника» звучат стихи! Однако Тамар (правильно именно так) была не просто грузинской царицей, но обладала массой достоинств: красавица, мудрая правительница; она вела победоносные войны, строила монастыри, вдохновляла поэтов — Шота Руставели посвятил ей «Витязя в тигровой шкуре» (кстати, правильно — в барсовой). Она же изображена в поэме в образе царевны Нестан-Дареджан — той самой, которая «красотой равна тигрице», с очами «как озера из агата».
У Тамар имелся официальный жених — Демна, однако ей был по сердцу осетинский царевич Давид Сослан. Демна куда-то исчез: современники подозревали, что его убрал Давид по приказу Тамар. Чтобы отвести от нее кровавые подозрения, влюбленные должны были расстаться.
Тетка Тамар Русудан недолго была замужем за Изяславом Мстиславичем Киевским (двоюродным братом Андрея Боголюбского и злейшим врагом его отца — Юрия Долгорукого). Она хорошо знала жизнь Киевской Руси и всегда интересовалась тем, что там творится. Именно по ее тайным интригам и послали за мужем для царицы на Русь. Царя искали из другой страны, однако принадлежащего к той же православной вере, которую исповедовали и в Грузии. Почему бы ему не быть родом из Руси?
Юрий, сын Боголюбского, после убийства отца княжил в Новгороде, однако дядюшка Всеволод Большое Гнездо изгнал его оттуда. Превратности судьбы забросили Юрия в Сурож — так называлась в прошлом крепость Судак в Крыму. Каким-то образом о том стало известно Русудан и другим влиятельным людям в Грузии, которые сочли, что русский княжич (почти царевич!) вполне годится в мужья Тамар.
Дело было слажено, и Юрий Андреевич стал грузинским царем Георгием.
Пылкая Тамар влюбилась в мужа, но… он был равнодушен к ней, смотрел на брак как на сугубо государственное мероприятие и вовсю наслаждался реальной властью в Грузии. Два с половиной года русский супруг царицы провел в почти непрерывных (и победоносных) походах против внешних врагов. Его военная слава сделала его популярным среди горских князей, что не могло не насторожить озлобившуюся Тамар. Она стала опасаться, что муж полностью отстранит ее от власти, и показала себя воистину «злой женой».
Любовь ее — любовь женщины, оскорбленной мужниным пренебрежением! — уже прошла. Теперь она думала только о том, как отомстить за это самое пренебрежение, а заодно — обезопасить себя, свою власть. И однажды Тамар приказала своим слугам тайно арестовать Юрия. Его обвинили в грубости по отношению к царице, пьянстве и содомском грехе. Супругов молниеносно развели, Юрия выслали из страны в Византию.
Но вот кое-что еще о пресловутом грехе… В замечательном средневековом труде «Жизнь царицы цариц Тамар» сказано о Юрии: «Можно было его пожалеть, причем он был несчастен не столько ввиду низвержения его с царского престола, сколько вследствие лишения прелестей Тамар».
Или то, или другое, однако! Или содомский грех, или «несчастен вследствие лишения прелестей», ибо эти понятия взаимоисключающие.
Через несколько лет в Тбилиси вернулся Давид Сослан и женился на Тамар.
Однако Юрий не мог смириться с несправедливостью судьбы и предательством жены. Он вырвался из Византии и в 1191 году с небольшим отрядом своих сторонников появился в Грузии. При любом правителе всегда найдутся недовольные! И в Грузии имелись недовольные вельможи. Они с восторгом встретили Юрия. Юг страны признал его законным царем, и правители Самцхе и Имеретии привели под его знамена свои войска. Юрий занял Кутаиси и Гори, короновался в Гегути и подошел к Тбилиси.
Однако Тамар и Давид не потеряли присутствия духа. Их войска вторглись в самый преданный Юрию край — Самцхе. Воины Юрия, бывшие оттуда родом, потребовали отправить их назад — на помощь своим родным и близким.
Войско царя Георгия уменьшилось, он потерпел поражение в долине Нигала и вновь был выдворен из Грузии своей «злой женой».
С тех пор след русского грузинского царя, сына Улиты Кучковны и Андрея Боголюбского, затерялся на запутанных тропах истории.
И сказания о нем, да и о прочих участниках трагедии, начавшейся с любви, а окончившейся ненавистью, замело в веках пылью забвения.
История в назидание влюбленным (Элоиза и Абеляр, Франция)
В Париже, на Цветочной набережной, сразу за собором Нотр-Дам-де-Пари, стоит маленький домик, в котором когда-то жили служители собора. На одном из них можно увидеть надпись: «Здесь жили Элоиза с Абеляром. Искренние возлюбленные. Драгоценные образцы для подражания. Год 1118».
Хотелось бы знать, в чем увидел автор надписи «драгоценный образец для подражания»? В мучительной любви, которую некогда испытывали друг к другу эти двое? В той мести, жертвами которой стали они оба — да, оба, потому что неведомо, чьи страдания были горше: изувеченного Абеляра или покинутой Элоизы, к которой он совершенно охладел?
Впрочем, начнем сначала…
Двадцатилетний красавец Пьер Абеляр прибыл в 1108 году в Париж, чтобы покорить его «силой своего разума». Самый разгар знаменитых крестовых походов, куда так и ринулась за Божьей славой — и вполне мирской, конечно! — вся тогдашняя молодежь, как происхождения самого благородного, так и не вполне. Однако военная стезя не влекла Абеляра, свое бешеное честолюбие он намеревался утолить другим путем.
Собственно, из Нанта он явился в столицу Французского королевства уже известным богословом. Всю свою жизнь провел, переходя из одних школ и монастырей в другие, почему и был прозван «Палатинским перипатетиком»,[8] странствующим ученым-богословом. У него были великие учителя логики и диалектики — Росцелин из Лоше (представитель номинализма) и Гильом из Шампо (представитель реализма), который возглавлял школу при соборе Нотр-Дам в Париже. Но у Абеляра был свой метод, впоследствии доведенный до совершенства в сочинении «Да и Нет» («Sic et Non») и дававший ему огромное преимущество в спорах, поэтому он был не столько учеником своих учителей, сколько их соперником.[9] Так что, когда он появился в Париже, у него уже было имя.
Вообще-то он мечтал занять место учителя, возглавив соборную школу Нотр-Дам, однако для начала пришлось удовольствоваться преподаванием в собственной школе на горе Св. Женевьевы (к слову сказать, вокруг именно этой его школы впоследствии сформировался Парижский университет). Абеляр стал знаменитым в Париже теологом, хотя, как говорили мудрые, а не только ученые, люди, неосмотрительность и дерзость некоторых его формулировок восстановили против него церковные круги и сделали его уязвимым для обвинений в ереси.
Но пока дела шли удачно. В 1113 году он добился, чего хотел, и все же возглавил соборную школу Нотр-Дам, хотя и не имел еще священнического сана.
Париж в ту пору был крохотным городком, расположенным посреди Сены, на острове Сите. Один мост связывал островок с правым берегом, за которым простирались поля, другой вел на левый берег. Тут тянулся квартал, где главенствовал латинский язык и проживало несколько тысяч студентов со всех концов Европы, город уже в ту пору являлся духовным центром цивилизованного мира. А место позднее так и назовут — Латинский квартал.
В небольшом городе все были на виду, все знали друг друга, точно в большой деревне. Слава Абеляра вышла за пределы его школы, его приходили послушать не только студиозусы, но и горожане, а также и жены. Многие женщины, между прочим, тянулись к знаниям, а посмотреть на молодого, красивого священника, послушать его высокоученые речи — такое наслаждение для взоров и слуха. И не одна из дам и девиц, являвшихся послушать Абеляра, думала тогда: ну какая жалость, что он — священник, для которого закрыт доступ в мир радостей земных.
Но уж таковы были законы жизни! Принимать духовный сан (и, следовательно, целибат — обет безбрачия) были обязаны все преподаватели средневековых университетов. Согрешивших лишали сана, и на том заканчивалась их карьера.
К слову сказать, обязательный духовный сан для университетского профессора был обычным явлением вплоть до начала ХХ века. Таким «духовным профессором» был Чарльз Додсон (Льюис Кэрролл). В основу его сказок об Алисе в Стране Чудес и Зазеркалье легла неразделенная любовь автора к реально существовавшей девушке по имени Алиса. Профессор не мог связать с Алисой свою судьбу (не позволял духовный сан), однако их дружба продлилась до самой смерти писателя.
Но вернемся в Париж XII века.
Элоиза потом так напишет об этом времени:
«Когда ты выступал публично, разве не все бежали сломя голову послушать твою речь, не вытягивали шею, стараясь хоть краешком глаза увидеть тебя, и разве не все восторженно провожали тебя глазами? Каждая девица и замужняя дама мечтала о тебе, и сердце их пылало от страсти, когда ты проходил рядом; королевы и герцогини желали разделить с тобой ложе…»
Абеляр не слишком-то обращал на свою популярность внимание и был совершенно поглощен делами школы. Он получал хорошие деньги и стал богат. Красивый, богатый, знаменитый, он был чрезвычайно доволен собой. Ко всему прочему миру, особенно к женщинам, он относился весьма высокомерно и полагал, что только слабые духом клирики могут испытывать нужду в них, легкомысленных созданиях.
Однако Господь наш любит испытывать самонадеянных детей своих… Абеляру было тридцать восемь лет, когда он влюбился в одно из таких легкомысленных созданий.
Потом, много позднее, ввергнутый в пучины отчаяния и всеми силами пытаясь излечить исстрадавшееся самолюбие, он станет уверять, будто сам, собственной волею, решил отведать радостей мирской жизни. Все люди должны заплатить дань любви, ну, заплатит дань и он… Но тот, кто добровольно идет своим путем, волен в любую минуту свернуть с него. Абеляр же был невольником судьбы — он не только не смог свернуть с выбранного пути, но и окончательно заблудился в дремучей чаще чувств. Разум не помог ему устоять и спастись от безумной — да, поистине безумной! — страсти к Элоизе, семнадцатилетней воспитаннице и приемной дочери каноника Фульбера.
Она была красавица. Правда, сам Абеляр в свои печальные последующие года даст ей весьма скупую характеристику: «С физической стороны она была неплохо сложена», — но вряд ли столь избалованный и самовлюбленный мужчина потерял бы голову от всего лишь «неплохо сложенной» девицы.
Между прочим, ходили слухи, будто Элоиза — родная, а вовсе не приемная дочь Фульбера, которую родила ему некая знатная дама, умершая, производя на свет прелестную девочку. Поэтому он не мог бросить ребенка, но не мог и дать ей своего имени. Внешние приличия, впрочем, были соблюдены, девушка росла под присмотром почтенного человека и благодаря соседству с богословом была начитанной, образованной — знала латинский, греческий и древнееврейский языки, римских классиков, особенно почитала Овидия, его «Искусство любви» и «Метаморфозы», — и не по летам (и не по полу, как скажут некоторые ворчливые женофобы!) умной и разумной.
Однако женский ум и разум еще менее, чем мужской, способен противостоять велениям сердца…
Абеляр увидел Элоизу на одной из своих проповедей и понял, что жизнь ему будет не в жизнь, если он не соблазнит ее. Обстоятельства сложились так, что сгорел дом, где жил он прежде. Абеляр решил воспользоваться случаем. Он знал, что в доме Фульбера пустует несколько комнат, и предложил канонику: пусть сдаст ему одну из комнат, а взамен Абеляр станет заниматься с Элоизой иностранными языками и философией. Предложение показалось Фульберу и лестным, и выгодным.
Элоиза пришла в восторг. Как многие парижские дамы, она втайне вздыхала по Абеляру, а тут вдруг оказаться с ним в одном доме… Весьма соблазнительные мысли реяли в ее голове: прогулки по саду в сумерки, пожатия рук, молчание и вздохи, может быть, поцелуй, сорванный украдкой с красивых, твердых, насмешливых губ, на которые она с таким восторгом взирала, когда Абеляр произносил свои знаменитые речи…
Реальность превзошла самые смелые ее ожидания!
«Сначала, — признается затем Абеляр в автобиографии «История моих бедствий», — нас соединила совместная жизнь в одном доме, а затем и общее чувство. Уединившись под предлогом занятий, мы целиком отдавались любви. Книги лежали раскрытыми на столе, и над ними чаще звучали любовные признания, нежели ученые разговоры, больше было поцелуев, чем мудрых изречений; руки чаще блуждали по груди, чем по страницам учебника, а глаза охотнее отражали любовь, чем следили за написанным… Охваченные страстью, мы не упустили ни одной из любовных ласк с добавлением и всего того необычного, что могла придумать любовь. Случалось, учитель даже бивал свою ученицу, но и эти удары в скором времени превратились в удовольствие и были приятнее любого бальзама. Так мы прошли через все фазы любви».
Утонченный схоластик вдруг убедился, что живая жизнь прекраснее и привлекательнее изысканных теоретических постулатов. Все ушло на второй план: преподавание в школе, занятия науками, работа над учеными трактатами. Теперь он сочинял не теогемы, а стихи, посвящая их Элоизе. А вскоре обнаружил в себе музыкальный талант (ах, не зря говорят, будто любовь — наилучший учитель!) и принялся слагать мелодии к собственным же стихам, и они превращались в песни.
«А кроме научных способностей, обладаешь ты еще двумя дарами, которые способны покорить любое сердце, — писала много лет спустя Элоиза. — Я говорю о твоем умении слагать стихи и песни, что редко встречается среди философов. Для тебя это всего лишь развлечение, отдых после философских занятий, но, отдыхая так, ты уже оставил после себя множество любовных стихов и песен, которые полюбились многим за их красоту и благодаря которым имя твое не сходит с уст всех, кто умеет читать. А музыка твоих песен понятна даже неграмотным, и благодаря им многие женщины вздыхали от любви по тебе. А поскольку большинство песен повествуют о нашей с тобой любви, то они прославили на весь мир и меня, и многие женщины сгорали от зависти ко мне».
Да, в стихах на все лады повторялось ее имя… Так тайное стало явным, и слухи об этой баснословной любви поползли по Парижу.
Только Фульбер еще оставался в неведении. Наконец и он постиг истину, когда застал любовников врасплох, на месте преступления, то есть в постели.
Абеляр был изгнан из дома. Впрочем, без шума. Слухи затихли… но ненадолго! Ведь неосторожная связь не осталась без последствий, самых, впрочем, естественных. Элоиза оказалась беременной. И вот однажды ночью, когда Фульбер отсутствовал, Абеляр пробрался в комнату Элоизы, заставил ее нарядиться в мужской костюм и отвез в таком виде к своей сестре в Бретань. Там она и родила сына, которого назвали Астролябием… Странное имя, понять, почему оно было дано, невозможно. В Бретани младенец и остался — ради сохранения тайны.
Поездка проходила не столь просто и легко. Сам Абеляр, под конец жизни проникшийся печальным отвращением к своему любовному прошлому, так вспоминал о ней в одном из писем к Элоизе:
«Нужно ли мне вспоминать еще все мерзости, которые творили мы прежде нашего брака и как я обманывал твоего дядю, когда жил с ним под одной крышей? Кто осудит твоего дядю, предавшего меня, если мое предательство было намного бесстыднее? А разве кратковременная боль от нанесенной мне раны искупает все совершенные мною бесчинства? Так разве не по милости Божьей я отделался всего лишь увечьем? Ведь никакое увечье не может служить достаточным возмещением хотя бы за бесстыдство, совершенное пред очами Божьей Матери? Если я не пребываю в заблуждении, то искуплением за мои грехи может служить не та рана, но скорее скорби, что терплю я сейчас день за днем.
Помнишь ты также, когда ты была беременна и я отвез тебя в родную деревню. Чтобы скрыть, кто ты на самом деле, мы переодели тебя монахиней — великое кощунство над призванием, которому мы сами теперь последовали. Рассуди же, насколько заслужили мы это наказание от Бога (а вернее — милость Божью), приняв духовный сан, над которым потешались. То, над чем смеялись мы, чем скрывали свой позор, стало теперь жизнью нашей. Пусть же оно будет напоминанием за ложь, в которой мы жили, и послужит к нашему раскаянию и исправлению».
Но в ту пору о раскаянии и исправлении речи вообще не шло — влюбленные мечтали лишь о том, как бы поскорее предаться греху вновь. И предаваться ему опять и опять.
Между тем Фульбер разъярился до полной потери разума. Элоиза сбежала, у нее появился незаконнорожденный сын, а человек, который разрушил ее жизнь, как ни в чем не бывало продолжает учить студентов и тешить свое тщеславие теоретизированиями на нравственные темы. Каноник задумал отомстить.
Слух о его замыслах дошел до Абеляра. Он явился к Фульберу и умолял о прощении. Абеляр пытался втолковать, что со дня творения женщины увлекали в пучину самых великих людей мира. В конце концов, чтобы окончательно умиротворить Фульбера, Абеляр сказал, что не против жениться на Элоизе. Но с одним условием: брак будет сохранен в тайне, чтобы не чернить репутацию Абеляра и не вредить его карьере.
Однако как же сохранить в тайне церемонию бракосочетания? Наверняка о ней сразу же донесут начальству Абеляра. А потом над женатым философом, который принужден будет подчиняться капризам своей супруги, начнут потешаться студенты…
Так-то оно так, но Фульбера предложение устраивало. Самым главным было для него, чтобы «грех был венцом прикрыт». Однако планы жениха и приемного отца неожиданно разбились об упрямство Элоизы. Она убеждала Абеляра, что брак унизит их обоих. И его, и ее церковники проклянут, а коллеги и студиозусы будут сокрушаться о том, что великий ученый попал в зависимость от женщины и вынужден будет теперь, читая философские труды, качать колыбель новорожденного. А впрочем, брак, если о нем узнают, вообще закроет Абеляру дорогу к кафедре.
В поэме английского поэта Александра Поупа «Элоиза Абеляру», написанной на основе ее писем к возлюбленному, в уста Элоизы вложен трогательный монолог о сути ее чувств:
Ты для меня был верхом совершенства!.. О, как скучны небесные блаженства В сравненьи с той несбывшейся судьбой, В которой ты со мной и я с тобой! Когда меня со свадьбой подгоняли, Я отвечала, что земной морали Нет места там, где царствует любовь, И лишь любви ничто не прекословь! Нет ничего, что б с ней могло сравниться, Любовь — крылата и вольна, как птица! Пускай замужних ждет и честь, и власть; Тем, кто изведал подлинную страсть, Уж не нужны ни почести, ни слава… Для любящих все это вздор… и, право, Бог неспроста всегда так грозно мстил Тому, кто осквернил священный пыл Благой любви, тому, кто в ней на деле Не видел высшей и последней цели! И если бы у ног моих в пыли Лежал великий Властелин земли, Суля мне трон и все свои владенья, Я бы отвергла их без сожаленья. Что радости быть равной королю? Нет, дайте мне того, кого люблю! И пусть я буду тайною женою, Мне все равно — когда мой друг со мною, Когда неразделимы я и он, Когда любовь — свобода и закон! О, как тогда все полно и прекрасно! В груди — ни страхов, ни тревоги страстной, Мысль слышит мысль, мечта влечет мечту, Тепло — в другом рождает теплоту; Сердца напоены блаженным светом… О, это счастье! (Если в мире этом Возможно счастье.) Это божий дар! И некогда наш жребий, Абеляр!Элоиза напомнила возлюбленному слова апостола Павла о том, что супруги подчиняются терзаниям плоти и брак превращается в конце концов в позорное ярмо. Абеляра не убедили ее доводы. Тогда она напомнила ему слова Цицерона. Когда легат Гирций обратился к нему с просьбой о женитьбе, тот ответил отказом, объяснив тем, что Гирций не сможет в равной степени совмещать заботы о супруге с занятиями философией. Но и тут Абеляр не передумал.
Для Элоизы была ужасной сама мысль о том, что к ее возвышенной, без оглядки, любви примешаются какие-то житейские расчеты.
И она писала: «Бог свидетель: никогда не искала я ни твоей славы, ни твоего положения, ни твоих заслуг, ничего другого, принадлежащего тебе, — кроме тебя самого. Не желала я ни замужества, ни удела почтенной жены, и когда соединилась с тобою брачным союзом, делала я это не ради своего удобства, но только ради тебя. Слово «жена» может звучать почетно, достойно, даже свято, но ближе мне всегда были иные названия — любовница, дама сердца, наложница, содержанка, даже шлюха, если позволишь. Я верила, что чем более я смирюсь пред тобою, тем больше угожу тебе и тем меньше вреда нанесу твоему положению.
Бог свидетель, если бы сам Август, покоривший весь мир, решил оказать мне честь, взяв меня замуж, я бы предпочла остаться твоей любовницей, нежели его императрицей.
Ибо человек оценивается не по его силе или богатству, этих двух рабов ветреной Удачи, но по добродетелям его души. И если женщина выйдет скорее за богача, нежели за бедного, и стремится быть замужем не ради мужа, но ради его богатств, то, по сути дела, она выставляет себя на продажу. И если девица выйдет замуж ради денег, то пусть и получит она жалованье взамен любви, ибо ищет она не мужа, но его денег, и если могла, то отдалась бы другому, будь он побогаче».
Да, противясь браку с Абеляром, Элоиза не намеревалась противиться их любовным отношениям. Но Абеляр сделался ревнив. Он вспомнил их разницу в возрасте, вспомнил все разговоры о том, что женщина неверна по самой природе своей… Такие разговоры обожала заводить высокоученая братия! Он подумал: если Элоиза так легко отдалась мне, кто знает, не отдастся ли она так же легко и другому? Ему было невыносимо даже подумать об подобном. Мысли на сей счет в нем бушевали самые мещанские, обывательские. Он пришел к выводу, что единственным средством навсегда удержать Элоизу около себя является брак. «Я сгорал от желания удержать ее возле себя навечно, ее, которую я любил превыше всего на свете», — писал он. Тайный брак был для него средством, чтобы одним выстрелом убить двух зайцев — сберечь свою репутацию и удержать возле себя Элоизу.
В конце концов Элоиза подчинилась. Абеляр привез ее из Бретани в Париж, и они тайно обвенчались в одной из церквей в присутствии Фульбера и нескольких друзей. Теперь они встречались тайно и лишь время от времени, для всех оставаясь, как и прежде, неженатыми. Но такая ситуация уже не устраивала Фульбера. Тайная жена, рассуждал он, та же любовница. Он хотел вернуть доброе имя Элоизе. И, нарушив уговор, повсюду растрезвонил о браке.
Разумеется, грянул скандал. Обстановка настолько накалилась, что Абеляр вынужден был отправить Элоизу на время в женский монастырь, чтобы переждать, пока не утихнут пересуды. Но не могла утихнуть их страсть. Впоследствии Абеляр осуждающе описывал те крайности, на которые страсть их толкала:
«Я могу попытаться облегчить печаль твою, показав, что случившееся с нами случилось заслуженно и для нашего же блага, и, живя в браке, заслужили мы Божью кару гораздо более, нежели когда жили во грехе. После того как мы обвенчались и ты жила в келье среди монахинь обители в Аржантейле, я однажды приехал навестить тебя. Ты, полагаю, помнишь, что сделал я тогда с тобою в своей похоти, в углу трапезной (больше идти нам было некуда). Ты, полагаю, помнишь, как бесстыдно мы вели себя в столь святом и почитаемом месте, посвященном Пресвятой Деве. Даже если бы мы ничего не сделали, кроме этого бесстыдства, все равно даже за него мы уже заслужили бы величайшую кару».
Между тем Фульбер решил, что Абеляр увез Элоизу не ради спасения от скандала, а намереваясь навеки заточить ее в монастыре. И задумал отомстить лицемерному, как он был уверен, человеку. У него родился поистине дьявольский план.
Вот что писал спустя годы сам Абеляр: «Однажды ночью, когда я спал в одной из комнат в глубине дома, подкупленный слуга впустил злоумышленников, и те предали меня мести, самой варварской и самой постыдной: они отрезали мне те части моего тела, которыми я совершил то, что они так оплакивали. Затем они бежали из дома».
Двое злоумышленников были схвачены, в том числе и продажный слуга. Его ослепили и кастрировали — то есть предали каре, соответствующей преступлению. Был арестован и Фульбер. Его осудили, конфисковав его имущество, однако довольно скоро освободили.
В любом случае жизнь Абеляра была сломана.
Наутро после того, как он был оскоплен, возле его дома собрался весь город. «Невозможно описать всеобщее удивление и потрясение, слезы, плач, стенания, которые меня просто убивали, вспоминал он. Мои ученики измучили меня своими причитаниями и рыданиями. Их сострадание ко мне было для меня куда более жестоким, чем моя несчастная рана. Я больше страдал от конфуза, чем от боли…»
Да уж… Он не мог смотреть ни в одни глаза, не зная точно, встретит в них истинное сочувствие или лицемерие, смешанное с насмешкой.
Вспоминались слова Священного Писания, которые хулили евнухов, «осуждая их перед Богом, не допуская на порог храма как гнусных и нечестивых людей». Даже при жертвоприношении запрещалось употреблять изувеченное животное, и прежде всего кастрированное, чтобы не нанести оскорбление Богу.
Стыд и смятение заставили Абеляра постричься в монахи в одном из крупнейших аббатств — Сен-Дени, на холме Сакре-Кёр. Ту же участь он уготовил и Элоизе, заставив и ее принять монашеский обет, принудив, в сущности, на добровольное заточение. Она безропотно согласилась. «Да будет на то твоя воля», — сказала молодая женщина и приняла постриг в бенедиктинском монастыре Аржантейля.
Друзья пытались уговорить ее, но не изменили ее намерения утратить свободу на заре жизни и избежать «монашеского ярма». В ответ она приводила слова римской героини Корнелии, которая решила покончить с собой, узнав о смерти своего супруга Помпея: «О, мой благородный супруг, как мало пребывали мы в этом супружестве! Имела ли моя судьба право на столь светлую голову? Преступница, должна ли я была выйти за тебя замуж, чтобы навлечь на тебя несчастье? Прими же в качестве раскаяния мою кару, впереди которой я последую».
Когда влеклась я к грозным алтарям, Переступив права святые, то на тебя, супруг мой, Все на тебя глаза мои глядели, отвратившись от креста… Она такой и осталась в глубине души — «отвратившейся от креста». Не то Абеляр.Испытания не оставили его и в монашестве. Его теологические взгляды были сурово осуждены на Суассонском соборе. Дошло до того, что Абеляр был принужден сжечь уже написанный богословский трактат «Введение в богословие» только за то, что утверждал: «Понимаю, чтобы верить», а не общепринятое — «Верую, чтобы понимать».
Его публично заставили читать наизусть «Символ веры», который он многократно и блестяще истолковывал. Наконец Абеляр был изгнан из монастыря, после чего вынужден был бежать в Бретань, спасая собственную жизнь. Но и здесь ему досталось тяжело.
«Я нашел тут варварскую землю… Население грубое и дикое, а среди монахов царили обычаи и манеры жизни постыдной и разнузданной: они жили с наложницами и подростками». Его страдания и мытарства продолжались. «Дьявол обрушил на меня такое гонение, что я не нахожу себе места, где бы мог успокоиться или даже просто жить; подобно проклятому Каину, я скитаюсь повсюду как беглец и бродяга». Его мучили страхи, он опасался насилия со стороны своих врагов, когда выходил за стены монастыря. Внутри же обители приходилось сплошь и рядом терпеть козни духовных сыновей — монахов, порученных ему, аббату, как их отцу.
Опасения его были не напрасны. Не раз его пытались накормить отравленной едой (однажды ее по ошибке съел сопровождавший его монах и упал замертво), подбрасывали записки с угрозами, оскорбляли, подстерегали в темноте.
Разумеется, от такой жизни блекли воспоминания о былом. А пост и молитва и вовсе выхолащивали их.
Абеляр почти забыл о существовании Элоизы, как вдруг в 1129 году монастырь, где она была аббатисой, закрыли, и ей пришлось искать новое пристанище для себя и своих монахинь. Он поспешил ей помочь устроиться в новом аббатстве Парасклет, а вскоре и сам пожаловал туда. Так произошла их встреча после десяти лет разлуки.
Однако визиты Абеляра вновь породили подозрения в том, что плотская любовь не прекратилась меж ними. Он с горечью воскликнул: «Злоба моих врагов, вероятно, не пощадила бы и самого Христа!»
В том-то и дело, что плотские желания, любовь умерли в искалеченном теле и в ожесточенной душе Абеляра. Он совершенно похоронил прошлое и просил Элоизу об одном: оставить его в покое и не тревожить воспоминаниями о минувшем счастье. В его книге, написанной в те годы, все отчетливее начинают звучать иронические ноты по отношению к «земной славе», тщеславию и суете сует. Он заканчивает книгу словами: «Да исполнится воля твоя».
Книга «История моих бедствий» попала в руки Элоизы. И вызвала в ее душе новый взрыв чувств.
Исполненный бесстрастно-скорбной Думой, В краю Печали, в сумрачной тиши, Что значит этот вихрь на дне души? Зачем опять мечта моя крылата И сердце вновь бунтует, как когда-то, Вновь чувствует давно забытый жар, И губы снова шепчут: «Абеляр»? Уж я не та… Угаснул прежний пламень, Но все ж душа не обратилась в камень. Мне мир — не мир и райский свет — не свет, Когда со мною Абеляра нет. Посты, молитвы до конца не властны Соперничать с моей природой страстной. Мятежной воли тлеющий костер Душой моей владеет до сих пор. Любимый мой, молю, приди скорее И снова назови меня своею! Поверь, ни шелест сосен на ветру, Ни блеск ручьев, подобный серебру, Ни эхо гротов, ни глухие стоны Ночного ветра, треплющего кроны Раскидистых дубов, ни рябь озер Не тешат слух, не услаждают взор, Не облекают душу светом веры… Я вижу только мрачные пещеры, Могилы и пустые островки; Сия земля — прибежище Тоски, Держава леденящего Покоя… Я чувствую дыханье колдовское На каждой травке, на любом цветке, Все сопричастно гибельной Тоске! А ты не знаешь боли, ибо Парки Избавили тебя от страсти жаркой. В твоей душе отныне — мертвый хлад: Кровь не бунтует, чувства не кипят. Утихнул шторм, судьба безбурна снова, Как мирный сон угодника святого. В твоих очах — покой и тишина; Как проблеск Рая, жизнь твоя ясна. Приди! Своей не потеряешь веры. Что мертвецу до факела Венеры?! Ты дал обет. Твой пыл давно угас… Но Элоиза любит и сейчас. О, этот жар! О, этот огнь бесплодный, Пылающий над урною холодной! Надежды нет! Как сердцем ни гореть, Погибшего уже не отогреть.«Один лишь только Бог отнимет у тебя Элоизу, — писала когда-то она своему тайному супругу. — Да, милый Абеляр! Он дарует моей душе то спокойствие, которое мимолетным напоминанием о нашем несчастье не позволяет мне предаваться наслаждениям. Великий Боже! Какой другой соперник мог бы отнять меня у тебя? Можешь ли ты представить себе, чтобы какому-нибудь смертному оказалось по силам вычеркнуть тебя из моего сердца? Можешь ли ты представить меня повинной в том, что я жертвую благородным и ученым Абеляром ради кого бы то ни было, кроме Бога?»
Но так случилось, что Абеляр пожертвовал всем ради Бога.
Однако Элоиза слишком сильно любила этого мужчину, чтобы отдать его даже Господу. Она продолжала борьбу за душу Абеляра! И на него обрушились ее письма, которые, чудилось, были способны растрогать и камень:
«Господину — от рабыни.
Отцу — от дочери.
Супругу — от супруги.
Брату — от сестры.
Абеляру — от Элоизы.
Полагаю, что никто не сможет прочитать историю твоих бедствий со спокойным сердцем и сухими глазами.
Благодарение Богу за то, что благодаря письмам мы можем быть вместе, не опасаясь ни врагов, ни злоумышленников.
Вот только скажи мне об одном. Почему после того, как мы посвятили себя христианскому служению (а ведь это было твое желание), ты пренебрегаешь мною? Ответь мне, если сможешь, — или я отвечу так, как я думаю и как считает весь мир. Объяснение я могу найти только одно — ко мне тебя привела не любовь, но вожделение плоти, и искал ты во мне не друга, но способ насытить похоть. Поэтому, когда плотские утехи стали для тебя недоступны, то незачем было уже делать вид, будто любишь. Любимый! Думать так страшно, но так думаю не я одна — так считают все. Во мне говорит не обида — я передаю суждение всех. Хотела бы я, чтобы слова мои были пустым опасением и чтобы любовь, в которой ты клялся мне, оказалась истинной. Докажи мне это, чтобы горечь моя могла утихнуть, объясни мне, почему ты, который клялся мне в любви, теперь ни в грош меня не ставишь. Скажи — ведь я так желаю, чтобы нашлось объяснение, которое оправдает твои дела! Прошу, не откажи — ведь тебе ничего не стоит оказать мне эту милость. Мы разлучены с тобой, явись же мне хоть в письме. Дай мне прочесть слова, написанные твоей рукой, — уж у тебя-то слов хватит. Если же ты не желаешь одарить меня добрым словом, к чему тогда надеяться мне на добрые дела. Если ты отказываешь мне в любви на словах — как ожидать от тебя любви на деле?
Я не ожидаю награды от Бога ни за уход в монастырь, ни за что-либо другое, потому что делала все не ради Него — за Богом следовал ты, я же следовала за тобой. Да, я первой приняла монашеское покрывало, но ты настаивал на этом, боясь, как бы я не разделила участь жены Лотовой, и потому пожелал, чтобы мое обращение к Богу состоялось раньше твоего. Твое недоверие ко мне, признаюсь, наполнило мое сердце печалью и стыдом, ведь Бог знает — я не колеблясь пошла бы за тобой хоть в ад. Сердце мое не принадлежало мне — оно было с тобой и остается с тобой даже сейчас. Если сердце мое не с тобой, то где оно? И если нет тебя, то как я могу существовать?
Ты знаешь, мой возлюбленный, и знают все, что, теряя тебя, я утратила все… Только ты один можешь заставить меня не грустить, только ты можешь доставить мне радость и облегчение страданий. Ты единственный человек на свете, перед которым я чувствую настойчиво меня зовущий долг: ведь все твои желания я смиренно исполнила. Я не противоречила никогда ни единому твоему слову. Но во мне достало сил, чтобы не утратить и саму себя. Я сделала даже больше этого. Как удивительно! Моя любовь превратилась в истинный восторг. По твоему велению… я выбрала иной наряд и изменила сердце. Я показала тебе, что ты был единственным владыкой как моего сердца, так и плоти.
Вспомни о том, что я сделала, на что решилась, не убоявшись проклятия Божьего: пошла в монастырь не из-за любви к Богу, а из-за любви к тебе, Абеляру, знала, что от Бога не дождешься и толики вознаграждения.
Если уж я лишена возможности лично видеть тебя, то по крайней мере подари мне сладость твоего образа в твоих высказываниях, которых у тебя такое изобилие… Тогда за любовь ты отплатишь любовью и пусть немногим вознаградишь за многое, хотя бы словами за дела… Я не сохранила ничего, кроме желания быть по-прежнему целиком твоей.
В былые дни, когда ты приходил ко мне ради греховного наслаждения, письма от тебя приходили одно за другим, и песни твои прославляли Элоизу, и имя мое колокольным перезвоном шло от улицы к улице.
Прощай, моя единственная любовь!»
Прочитав письмо Элоизы, Абеляр ужаснулся, поняв, что монастырь не убил ее земные чувства. Богу она служит лишь по обязанности, а от него, Абеляра, ждет любви… или хотя бы дружеского, но искреннего чувства. Но ответить чем-то, кроме сухих письменных строк, у него не было ни сил, ни желания.
«Элоизе, дорогой сестре во Иисусе Христе
Абеляр, ее брат в Иисусе Христе.
Если со времени нашего обращения от мирской жизни к служению Богу ты не слышала от меня ни слова утешения, ни слова наставления, то прошу, не приписывай это моему безразличию. Причина всего — твой здоровый ум, в котором я всегда был уверен, насколько вообще могу быть уверен хоть в чем-то. Я даже не думал, что ты можешь нуждаться в моей помощи, ибо благодать Божья пребывала на тебе еще тогда, когда ты была настоятельницей своего монастыря. Уже тогда ты с Божьей помощью могла ободрить верных, укрепить слабых и наставить сбившихся с пути истинного. Я и решил, что если ты служишь своим дочерям во Христе так же, как служила тогда своим сестрам, то наставления от меня будут совершенно излишни. Впрочем, если ты в смирении своем думаешь иначе и считаешь, что нуждаешься в моем совете, — что ж, тогда напиши мне, в чем именно просишь ты моего совета, и я отвечу насколько хватит Божьей благодати».
Элоиза была обескуражена его ответом. Она мечтала о любовных речах, а Абеляр предпочел рассуждать о Боге, о пользе молений, цитировал Библию. В конце письма, правда, прозвучала просьба: «Труп мой, где бы он ни оказался погребенным или брошенным, прикажите перенести на ваше кладбище».
И снова последовал ответ Элоизы:
«Единственному после Христа — одинокая во Христе.
Моя единственная любовь, я удивлена тем, что наперекор всем обычаям написания писем и естественному порядку вещей ты поставил мое имя впереди своего. Получается, жену ты поставил выше мужа, рабыню — выше господина, монахиню — выше монаха, диаконису — выше священника и аббатису — выше аббата. Вассал, пишущий своему господину, ставит его имя вперед своего, но не делается так, когда господин пишет слугам или отец — сыновьям. Всегда имя высшего ставится впереди.
А мы все удивлены еще и тем, что вместо слов утешения ты только усугубил наши тревоги. Мы просили тебя отереть слезы наши, ты же заставил их литься с утроенной силой.
Из всех страдалиц я — самая жалкая. Из всех женщин я — несчастнейшая. Чем большим было мое счастье, когда ты любил меня больше всего на свете, тем горше мои страдания сейчас, после твоего падения и моего позора. Ибо чем выше скала, тем губительнее падение с нее. Среди великих и благородных женщин разве кого-то превозносили, как превозносили меня? И кто из них перенес больший позор и страдания? Какую славу я обрела в тебе и какие страдания! Не знала я меры ни в счастье, ни в горе и, прежде чем стать величайшей страдалицей, вкусила сперва величайшего счастья, и избыток радости завершился избытком скорби.
Если же к моим страданиям прибавить все, что пришлось перенести тебе, то разве была судьба хоть как-то справедлива к нам? Наслаждаясь любовью тайно, в блуде (или как еще назвать то, что было межу нами), мы избегали Божьего гнева. Но когда мы решили исправить содеянное беззаконие, поступив по закону, и скрыли позор блудодеяния священными узами брака, Господь тяжко покарал нас. Не препятствуя так долго греховному союзу, Он разрушил союз священный. Наказание, которому подверг Он тебя, подобало разве что мужу, застигнутому в прелюбодеянии. Но участь, полагающаяся прелюбодеям, пала на тебя за заключение брака — а ведь ты верил, что, раскаявшись и обвенчавшись, мы искупим совершенный грех. Но наказание, которое жены неверные наводят на любовников своих, навела на тебя жена твоя же, верная тебе, как никому.
Каково же мне? Неужели я была рождена на свет, чтобы стать причиной несчастья? Неужели удел женщин — приносить горе любимому, особенно если он талантлив и велик? Не зря же в Притчах мудрец учит юношу опасаться женщин и бегать от них, ибо многих мужей погубили они! Не зря Экклезиаст пишет, что горше смерти — женщина!
Радости любви, которые мы испытали вместе, были чересчур сладки, чтобы сожалеть о них, да и вряд ли удастся изгнать их из сердца. Куда бы я ни глянула, о чем бы ни помышляла — они всегда перед глазами моими и всегда в памяти у меня, пробуждая успокоившиеся было воспоминания и вновь раздувая костер былых чувств. Память о том, что пережили мы, не оставляет меня даже во сне. И во время святой мессы, когда, казалось, помыслы должны быть чище, а молитвы — идти из самых глубин сердца, в воображении моем снова возникают утехи, которым предавались мы, и я думаю больше о грехе моем, нежели о молитве к Господу. Воистину, мне следовало бы сокрушаться в грехах, которые совершила, но вместо этого только вздыхаю об утраченном счастье.
Юность и любовь, пережитые мною, только разжигают во мне желание и тем самым приносят мучения плоти. У меня нет твоей силы духа, и потому превозмочь искушение мне нелегко.
Люди зовут меня святой, но в сердце ко мне им не заглянуть, и потому они не знают о том, что святость моя лицемерна. Я кажусь им святой за целомудренную жизнь, однако истинное целомудрие кроется не в теле, а в душе человека.
Говорят, что я целомудренна. Это только потому, что не замечают, насколько я лицемерна. Люди принимают за добродетель чистоту телесную, тогда как добродетель — свойство не тела, а души. Бог, который читает в сердцах и познает чресла, который зрит и во тьме, он понимает все лучше, видит сокровенное.
Поэтому я, может, и заслуживаю похвалу у людей — но не у Бога, который испытывает сердца и видит сокрытое. Меня, лицемерку, считают религиозной; но ведь и в религии нашей лицемерия намного больше, нежели искренности, и потому наивысшую похвалу у людей получает тот, кто потакает их вкусам.
Богу ведь хорошо известно, что на протяжении всей своей жизни я искала угодить тебе больше, нежели Ему. Даже служение церкви и путь монахини избрала я не из любви к Богу, но из послушания тебе. И вот, взгляни, сколь несчастен мой удел — скорби, скитания и притеснения в этом веке безо всякой надежды на воздаяние в веке будущем».
Абеляр был потрясен и решил раз и навсегда прекратить переписку, не желая читать послания, больше похожие на излияния юной влюбленной девушки, чем умудренной жизнью аббатисы. Он пишет уже даже не проповеди — дает отповедь, словно дьявола из ее души изгоняет:
«Отвергните жалобы, которые чужды любящему сердцу. Несмотря на все ваши упреки, не скрою, что нахожусь я в такой опасности, что мне только и подобает, что заботиться о душе своей и делать для нее все, что смогу только. Если же вы любите меня, то не сочтете злыми слова мои. Воистину, если уж так вы хотите для меня Божьей милости, то, наоборот, подобает вам желать, чтобы освободиться мне от трудностей земной жизни (вы уж знаете, как досаждают они мне). Во всяком случае, вам известно, что лишивший меня жизни избавит меня от величайших страданий. Неизвестно, конечно, какое наказание положит мне Бог после смерти, но от какого наказания избавлюсь я по смерти — об этом спрашивать не приходится. Да и всякая, даже самая несчастная жизнь завершается счастливым концом, и кто желает добра ближнему, должен желать увидеть скорое завершение его скорбей. Не должно бояться разлуки с любимым ради его же блага, если любовь непритворна и любящий ищет добра любимому прежде, нежели себе. Любая мать, видя, как страдает от болезни ребенок ее, предпочтет скорее увидеть смерть ребенка, нежели долгие его страдания. И любой друг предпочтет скорее, чтобы друг его был в разлуке с ним, но счастлив, предпочтет разлуку со счастливым другом, нежели присутствие несчастного. Ибо страдания любимого становятся еще невыносимее, если ты не в силах облегчить их.
Говоря о нас с тобой, ты не можешь видеть меня в любом состоянии — хоть счастливого, хоть несчастного. Зачем же ты желаешь, чтобы я жил в скорбях, а не упокоился в смерти? Ищешь ли ты в этом своей корысти? Но если ты стремишься ради своего довольствия продлить мои муки, то ты скорее враг, нежели друг. Если же ты друг мне, то прошу — не жалуйся более.
Впрочем, я преклоняюсь перед тобой, читая строки, где ты говоришь, что не заслуживаешь никакой похвалы. Воистину, венец твой от этого только прибавляется!
Перестав гневаться на Бога и признав, что бедствия наши могут быть вызваны Божьей справедливостью, ты сможешь увидеть, что судьба, которую Бог положил нам, является скорее не справедливым приговором, но незаслуженной милостью, благодатью с небес. Возлюбленная моя! Взгляни, как в милости Своей Господь выудил нас из погибельного моря, в котором мы обретались; исторг из пасти Харибды, не глядя на то, что мы не желали спасения; спас с тонущего корабля, чтобы могли мы сказать вместе с псалмопевцем: «Я беден и нищ, но Господь печется о мне!» Вспоминай снова и снова, в каких бедах погрязли мы и от скольких избавил нас Господь, говори о судьбе нашей не иначе как с благодарностью! Историей о наших бедствиях ты сможешь утешить любого страдальца, который разуверился в благости Божьей! Пусть каждый знает, как благ Господь, который слышит молитвы детей своих и приходит им на выручку, даже когда они не желают этого. Взгляни на то, сколь велика оказалась Божья милость к нам, с каким состраданием вершил Господь свой суд над нашими грехами, сколь мудро обратил он во благо то, что является злом по природе своей. Милостиво Он спас нас от греха, в котором жили мы, и, нанеся рану всего лишь одному члену моего тела (рану, вполне заслуженную), Он смог исцелить две души — твою и мою. Сравни опасности, которым подвергали мы себя, живя в грехах, и путь, каким пришла к нам Божья помощь. Сравни болезнь и лекарство. Сравни то, что заслужили мы, и жалость, с которой Бог отнесся к нам.
Тебе известны все глубины распутства, в которые моя необузданная похоть завлекла наши тела, презрев все людские и Господни заповеди, не почитая даже недели страстей Господа нашего, и даже святые таинства не могли удержать нас от мерзостей, каким мы предавались. Даже когда ты не желала быть со мною, пыталась отвратить меня и охладить мой пыл, я угрозами и побоями принуждал тебя к соитию — ведь женщина создана слабее мужчины по природе своей. Огонь похоти, сжигавший все внутри меня, был настолько силен, что я стал почитать превыше себя самого и даже Бога мои греховные удовольствия, одно упоминание которых приводит в смущение добропорядочного человека. Посему я и сейчас не могу представить, чтобы мог быть иной выход, кроме как запретить мне вовсе любую возможность плотского сношения. Потому хоть дядя твой и предал меня, но с Божьей стороны было целиком правильно и даже милосердно изувечить всего лишь одну часть моего тела — ту, где обитала похоть и которая служила источником моих греховных желаний, — и дать мне тем самым жить ради иных благ. Тем самым одна часть моего тела совершенно справедливо поплатилась за все прегрешения, совершавшиеся ради ее насыщения, а сам я смог освободиться от искушения, которое довлело над разумом моим и плотью. Потому я мог теперь приходить к священным алтарям, будучи уверенным, что никакое плотское искушение не сможет более совратить меня. Разве не милостиво это — причинить боль всего лишь одной части тела, утратив которую я мог снова печься о спасении души моей, и более того — утрата которой никак не препятствовала мне в моих трудах. Да и к прочим делам служения Бог подготовил меня, освободив навеки от плотских искушений.
Поэтому, когда Божья благодать лишила меня (вернее сказать, освободила меня) от частей, именуемых обычно «срамными частями» за частое злоупотребление ими и не имеющих подобающего им приличного названия, что еще оставалось ей сделать, чтобы омыть меня от всякой скверны и содержать в совершенной чистоте? Многие мудрецы стремились к подобной чистоте так ревностно, что готовы были оскопить себя, чтобы не отягощаться постыдным желанием. Сам апостол Павел трижды просил Господа, чтобы Он удалил от него жало в плоти, но Бог не соизволил ответить на его молитвы. Ориген, великий христианский философ, являет нам пример того, как должно желать такой непорочности, ибо он сам оскопил себя ради победы над плотским огнем, бушевавшим внутри него. Он будто истолковал буквально слова Господа, что блаженны скопцы, оскопившие себя ради Царствия Небесного, и что следует отторгнуть от себя ту часть тела, которая тебя искушает.
Прошу тебя, сестра моя, не смущайся и не гневайся, не хули Отца нашего, который в заботе своей воспитывает нас, ибо написано: «Кого любит Господь, того наказывает».
Желая, чтобы мои молитвы были услышаны, я написал молитву, которую посылаю тебе, дабы ты могла принести ее к престолу Господнему в заступничество за меня:
Боже, который от начала мира сотворил женщину из мужеского ребра и тем самым освятил великое таинство брачных уз! Господи, одаривший брачные узы безмерными почестями, родившись от девы, готовящейся к принятию брачных уз, и совершив первое из своих чудес на свадебном пиру! Господи, по благодати своей и волеизъявлению своему даровавший мне целебное лекарство, чтобы излечить невоздержание моей греховной плоти! Не отвергни молитв смиренной рабыни Твоей, заступницы моей пред престолом небесным, моей верной возлюбленной. Прости, о милосердный, Тот, который есть сама милость, прости прегрешения мои, и пусть величие и богатство Твоего милосердия испытает множество грехов моих. И если виновен я — накажи меня сейчас, дабы избежал я наказания в вечности. Пусть раб Твой испытает целительную отцовскую розгу, а не меч хозяйского гнева. Наказывай тело, дабы спасти душу. Приди к нам как спаситель, а не разбойник, скорее в милости, нежели в правде, в обличье Отца, нежели Повелителя. Как сказал пророк, «искуси меня, Господи, и испытай меня; расплавь внутренности мои и сердце мое», и по малым силам моим посылай мне испытания. Об этом учил Павел, говоря, что «и верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так чтобы вы могли перенести». Ты соединил меня с возлюбленной моей, Господи, и пожелал вновь разлучить нас. Теперь же, Боже, что в милости своей Ты начал, в милости своей и заверши, и кого на время разлучил на земле, соедини навеки в тебе на небесах. Ты, который есть упование наше, удел наш, утешение и ожидание грядущего. Ты будь благословен во веки веков. Аминь.
Прощай во Христе, невеста моя, навеки прощай и живи во Христе».
Прощай навеки…
Она исполнила его волю, как исполняла ее всегда, и написала в ответ только: «Прощай, мой возлюбленный, мой супруг, приветствую тебя, мой духовный учитель».
Это было последнее письмо Элоизы Абеляру.
Шло время. Абеляр вернулся в Париж и вновь начал читать лекции студентам в Латинском квартале. Впрочем, это не спасло его от преследования церковников, которые традиционно ополчались против его попыток рационального познания мира, сотворенного Господом для того, чтобы остаться не познаваемым человеком. Абеляра обвинили в еретических проповедях. Был составлен список его прегрешений и издан «Трактат против некоторых заблуждений Пьера Абеляра». На Сенском церковном соборе должен был состояться диспут Абеляра и автора трактата. Присутствовал король Людовик VII, епископы, аббаты и даже один архиепископ. Абеляр предвкушал удовольствие от спора. Но, увы, ничего подобного не случилось. Ему не дали слова сказать! Было произнесено, что все «ереси» Абеляра признаны зловредными и ему надлежит публично от них отказаться. Так вместо дебатов состоялся судебный процесс. Его результаты были записаны и направлены папе Иннокентию II в Рим. Собор предлагал осудить ереси Абеляра и отлучить его от Церкви.
Абеляру было немного за шестьдесят, но он был болен, совершенно разбит и превратился в старика. Он отправился в Рим, чтобы лично оспорить решение собора, но по дороге узнал, что папа формально осудил его на «вечное молчание» и что книги его сожжены на площади Св. Петра. Второй раз горели его книги… Этого он не смог пережить. 12 апреля 1142 года Абеляр умер, и аббат, бывший его спутником, написал Элоизе письмо, сообщив о его смерти.
Итак, она его окончательно утратила… Тогда Элоиза решила выполнить последнюю волю покойного и похоронить его в своем аббатстве. Тот же аббат, знавший историю злоключений, которым подвергалась их любовь, тайно извлек уже захороненное тело и доставил его Элоизе.
Отслужили заупокойную мессу и погребли тело несчастного Абеляра в часовне. Элоиза получила грамоту об отпущении Абеляру всех грехов и добилась, чтобы ее сыну Астролябию выделили небольшую пребенду — доход духовных лиц от владения земельным участком. Да, он воспитывался при монастыре как сирота и был монахом от рождения. Наверное, и хорошо, что он и слыхом не слыхал о тех страстях, которые терзали его мать и отца.
Элоиза прожила еще двадцать один год. Она так рачительно руководила своим аббатством, что ее называли «одной из самых великих аббатис Церкви». Она ухаживала за могилой Абеляра и, как и он, скончалась в шестьдесят три года. Случилось это в 1163 или 1164 году. Ее похоронили рядом с супругом. Но потом останки их не раз переносили в разные места, пока не доставили в Париж, на кладбище Пер-Лашез. Здесь и спят вечным сном герои нашей истории.
Если верить легенде, в тот момент, когда тело Элоизы опускали в могилу Абеляра, он простер к ней руки, чтобы обнять ее. Ну наконец-то она дождалась того, о чем так мечтала и что воспето в письмах ее и в стихах:
И если век спустя чета младая К могиле нашей прибредет, гуляя, Пускай они, склонив главы на грудь, У родников присядут отдохнуть И скажут, камень обозрев надгробный: «Храни нас, Боже, от любви подобной». И если некий бард с огнем во взоре В моих скорбях свое узнает горе, Пусть, перекличкой судеб потрясен, О призрачной красе забудет он И, собственным страданьем вдохновленный, Расскажет о любви неутоленной. Пускай не ищет вымышленных тем. Мой скорбный дух утешен будет тем.Да, все так, и, может быть, ее дух и впрямь утешен. Вот только не устает преследовать мысль — кому больше отомстил каноник Фульбер, желавший расквитаться с Абеляром: ему или Элоизе?
Люблю больше всех — больше всех ненавижу (Анна Козель, Саксония)
У него никогда не было меньше трех женщин сразу. Не в одной постели одновременно, Боже избавь, — таких излишеств он не любил, хотя справиться с тремя женщинами было для него плевое дело, при его-то силище, — а в жизни. Само собой жена — куда от нее деваться? Ну и две, а то и три фаворитки. Обычно дамы знатного происхождения, хотя, сказать по правде, не брезговал он и простолюдинками, а также военной добычей.
Скажем, однажды, когда он отправился из Дрездена в Варшаву, при нем находились три дамы (кроме жены, которая путешествовала в отдельной карете, останавливалась в отдельном доме и мужа видела только издалека): любимая женщина — Аврора Кенигсмарк, затем женщина, которая очень сильно его забавляла в постели, — фрейлейн Ламберг, и женщина, которая придавала экзотический налет его страстям, — пленная черкешенка, носившая почему-то фамилию Шпигель (так звали человека, который подарил ее Августу). В Вене же он оставил свою официальную, так сказать, но уже несколько поднадоевшую ему куртизанку фрейлейн Кессель, удачно выдав ее замуж за весьма высокопоставленного человека. Кстати, крошку Ламберг он тоже потом выдал замуж — за своего камердинера, который получил за это дворянство и чин полковника. Черноглазую Шпигель он тоже за кого-то пристроил. Аврора Кенигсмарк замуж, правда, выдана не была, но родила сына, который стал в свое время маршалом Франции и был известен под именем Мориса Саксонского, а сама пожизненно находилась на очень, очень щедром содержании у бывшего любовника.
С ними со всеми — и со многими другими — он расстался ради женщины по имени Анна фон Гойм. Ее этот человек, саксонский король Август Сильный, любил, по его собственному признанию, больше всех других, однако ее пуще всех других он и возненавидел, и отомстил ей за то, что она превратила его любовь в ревность, поистине по-королевски — щедро, безудержно, безоглядно.
Августа Сильного часто сравнивали с Макиавелли. У него была такая же непостижимая натура. Правда, там, где Макиавелли брал хитростью, Август любил продемонстрировать доблесть порой бессмысленную, но, безусловно, тешащую его непомерное тщеславие. Так, однажды он вскарабкался на лошади по винтовой лестнице на верхнюю площадку дрезденского замка. История, впрочем, умалчивает о том, спустился ли он верхом, или несчастное животное как-то свели и без него, а то и просто пристрелили и сбросили вниз, во двор… От этого человека всего можно было ожидать. Он был хитер, коварен, да, но мало задумывался о конечных последствиях, к которым могли бы привести его поступки!
Вообще такая небрежность к жизням окружающих частенько характеризует королей, которые превыше всего ставят исполнение своей сиюминутной прихоти. Вот таким же — подчиненным влиянию минуты, влиянию прихоти — был и Август Сильный. И самой сильной его прихотью была страсть к Анне фон Гойм.
Рассказывают, что, когда Август Сильный первый раз пришел к Анне, в одной руке у него была подкова, которую он при ней сломал, а в другой — мешок с сотней тысяч талеров. Таким образом он демонстрировал, что готов добиваться этой женщины силой и деньгами. Насчет силы все понятно из его прозвища, данного, кстати, не случайно. Он спокойно мог согнуть серебряную тарелку, сломать подкову и двумя пальцами поднять с земли большое, длинное и тяжелое ружье. Мешок с деньгами стал неким символом их будущих отношений, потому что если со стороны Августа была неистовая страсть, то Анна просто-напросто расчетливо продала себя королю.
Себя и свое тело, которому очень неуютно было в постели законного супруга. Анна была страстная двадцатитрехлетняя женщина, а барон фон Гойм — старше ее на двенадцать лет. Дело было не в его летах, а в темпераменте, вернее, в полном и окончательном отсутствии такового. Уже через год после свадьбы Анна заявила, что хочет жить отдельно, и написала мужу: «Если Вам мои манеры и поведение кажутся невыносимыми, то могу Вам сказать, что испытываю те же чувства в отношении Вас, и создавшееся положение приводит меня в такое отчаянье, что я уже не раз хотела бы умереть. И я не вижу другого выхода из создавшейся ситуации, кроме как, если на то будет Ваше согласие, расставание, и чем быстрее, тем лучше…»
Что ж там за манеры и поведение такие были, которые казались невыносимыми ее супругу? Да что иное тут могло быть, кроме как неудержимое кокетство…
Анна была поистине красавица. Причем природная красота и грация сочетались в ней с мужским умом, силой характера и решительностью. Современник пишет, что у нее было овальное лицо, прямой нос, маленький рот, удивительной красоты зубы, огромные, черные, блестящие, лукавые глаза. Походка ее всегда была грациозна, а смех — чарующим и способным пробудить любовь даже в самом холодном из сердец… «Волосы у нее были черные, руки и плечи — само совершенство, а цвет лица — всегда натуральный. Фигуру ее можно было сравнить с произведением великого скульптора. Выражение лица у нее было величественным, а в танце она была непревзойденной».
И вот как-то раз сам Гойм, восхищенный внешностью жены, затеял спор о том, что его дорогая баронесса превосходит всех придворных дам в красоте и грации. С этим не был согласен князь фон Фюрстенберг, увлеченный какой-то другой дамой. Он поставил 1000 дукатов против Гойма. А в качестве третейского судьи был призван сам король. Вот тут-то он и присмотрелся к придворной даме своей жены, тут-то и пришел в ошеломляющий восторг, тут-то и назвал ее первой красавицей, после чего и возникла любовная связь между Августом и баронессой…
Август влюбился до полусмерти. Он отправился к барону фон Гойму и прямо заявил ему, что отныне его жизнь и смерть зависят от обладания Анной, и говорил так, описывал впоследствии Гойм, как будто был околдован ею. Разумеется, барон уступил. Позднее он писал одному своему приятелю: «Все, что со мной произошло, я мог представить себе заранее, учитывая все пороки Его Величества в полном соответствии с его прежними оргиями и адскими злодеяниями, о чем я прямо и заявил, однако без какого бы то ни было эффекта. В результате его деяний не было ничего, кроме бесчестья и ущерба. За свое согласие она получила 12 000 талеров, множество серебряных изделий и драгоценностей, кроме многого другого, уже потраченного на нее и ее близких, чтобы заткнуть им рты. Они утверждали, что она покинула отцовский дом, чтобы продолжать свое победоносное любовное шествие при Его Королевском Величестве».
Сам фон Гойм уверял, что ничего не получал от короля, однако ему втайне было выплачено Августом 50 000 талеров.
Итак, один мужчина продал женщину, второй ее купил, ну и сама она получила свои комиссионные…
22 января 1705 года Гойм подал в оберконсисторию иск о расторжении брака, и в нем, а также во всех других имевших отношение к процессу бумагах речь идет только об отвращении жены к мужу, без какого-либо более подробного разъяснения. В иске выдвигалось требование полного расторжения брака, а в дополнение — требование запретить «злонамеренной грешнице» когда-либо вступать в брак. Молодая женщина ни под каким видом не хотела возвращаться к своему супругу и поспешно заявила, что лучше предпочла бы завтра же умереть…
Бракоразводный процесс еще длился, а Август уже осыпал свою любовницу подарками: она стала получать вино, мебель, дома, турецкие ковры… Вручил и 30 000 талеров деньгами. Вообще в отношениях Анны с королем причудливым образом уживались страсть и расчетливость: с одной стороны, она бешено ревновала его и громогласно требовала, чтобы он окончательно расстался со своей прежней возлюбленной княгиней фон Тешен, а с другой — столь же громогласно требовала для себя полное содержание в 15 000 талеров, которое до сих пор получала княгиня. Но это бы ничего… Чуть ли не с первого дня отношений с Августом Анна взяла с него торжественное обещание, что после смерти королевы она займет ее место, а дети, если они родятся, будут признаны законными детьми Августа.
Король в полном смысле слова сошел по ней с ума. Наверное, ему в самом деле нужно было встретить женщину, которая была бы прекрасна, как Анна, страстна, как Анна, и в то же время холодна, как Анна. Все другие дамы слишком сильно в него влюблялись. Оказывается, он только и ждал, чтобы из господина сделаться рабом! Анна разгадала его натуру. Доводя его до изнеможения своей неутомимостью и изобретательностью в постели, она, лишь оторвав голову от подушки, принимала холодновато-пресыщенный вид, и Август был готов на все, чтобы стереть пренебрежительную гримаску с ее прелестного лица. «На все» прежде всего означало — на все мыслимые и немыслимые расходы, титулы и подписание самых безрассудных в мире обещаний, к числу которых относился, например, вот такой документ: «Мы из достаточно веских и особых соображений, по примеру королей Франции и Дании, а также других европейских властителей, признаем ее (т. е. баронессу) нашей законной супругой и при этом обещаем помогать ей всеми возможными способами, а также сердечно любить ее и всегда оставаться ей верными…» Выглядит как фактическое обещание возвести Анну на трон, буде умрет королева.
Разумеется, баронского титула для морганатической супруги Августа было недостаточно, и в феврале 1706 года Анна стала графиней фон Козель. Кроме того, теперь к ней надо было обращаться «Ваша светлость». А чтобы подчеркнуть ее высокое положение перед всем белым светом, специально для нее на Кляйнен Брудергассе был построен дворец, к которому от королевского замка через танцевальный зал проложили проход. С обеих его сторон были поставлены часовые, и пользоваться этим путем могли только король и сама Анна.
Примерно с того же времени все деньги, которые король до сих пор тратил на княгиню фон Тешен и прочих красоток, стали поступать Анне. Август не тронул только деньги Авроры Кенигсмарк — ради Мориса, графа Саксонского, которого он хоть и не признал своим законным сыном, но не оставлял покровительством всю жизнь, до самой смерти. Однако Анне и так более чем хватало. Она получила поместье Пильниц, виноградник, права на медицинское обслуживание при дворе, на получение рыбы из придворных прудов, на получение строительных материалов из королевских лесов, а из сокровищницы короля — драгоценной утвари: столов, зеркал, шалей, гобеленов, турецких ковров, кружев, драгоценностей, а кроме того, что было ей важней всего, огромных сумм наличными.
Оно и понятно, наличные требовались. Все-таки у нее был большой двор, к которому принадлежали юноши-пажи самых благородных фамилий. Анна регулярно выходила на прогулки в Большом Саду, построенном по проекту самого Августа, играла и гуляла здесь, а также преследовала короля, когда он удирал от нее после слишком непродолжительного визита. Новоиспеченная графиня постоянно требовала у короля денег и стоила Августу столько же, как утверждает Лоэн, сколько целая армия. Она давала взаймы значительные суммы знатным господам с весьма сомнительной репутацией, а затем ей приходилось участвовать в длительных судебных процессах и нести большие убытки…
Анна постоянно сопровождала Августа. Смелая и искусная наездница, истинная амазонка, она к тому же великолепно стреляла из пистолетов и из ружья, из лука и из арбалета. Она была единственной женщиной, которая принимала участие в путешествиях Августа и в его поездках на охоту. Анна участвовала во всех соревнованиях по стрельбе, а 1 августа 1707 года, например, стала чемпионом и получила в качестве награды подзорную трубу из слоновой кости и денежную премию… в 7 (!) талеров.
Говорят, когда женщина совершенна, это начинает утомлять мужчину. Не то чтобы Август так уж сильно утомился… просто захотелось немножко отдохнуть. Именно так он и сообщил своим министрам, когда из Пильница, где он проводил лето у графини, тайно отправился в увеселительное путешествие в Голландию: «чтобы отдохнуть от забот, которые уже давно одолевают меня». Анна тем временем была всецело занята новорожденной дочерью, появившейся на свет полгода назад.
Отдушиной для отдохновения король избрал танцовщицу мадемуазель Дюпарк из Брюсселя.
Классическая картина! Обремененная малюткой жена (Анна совершенно искренне считала себя теперь женой короля, несмотря на то что обвенчаны они не были и вообще где-то там, в Дрездене, имела место быть ее величество королева!), муж, который вдруг рванул на сторону, ну и танцорка…
Август, впрочем, напрасно рассчитывал, что ускользнул из-под присмотра Анны. Она очень скоро получила не только сведения об этой поездке, но полные и несомненные доказательства его неверности.
Надо сказать, она сохранила присутствие духа. Анна прекрасна знала, что ей не стоит принимать всерьез интрижки Августа с дамами такого типа, как Дюпарк: бесцветными блондиночками. Сама-то Анна привязала к себе короля своей совершенной красотой, о которой наперебой и весьма восхищенно упоминали чужеземные визитеры! Но дело было не только в красоте, а еще в уме и остроумии. Впрочем, у нее не хватило чувства юмора пропустить мимо ушей, когда один священник осмелился назвать ее саксонской Вирсавией.[10] Сказать по правде, она была вне себя от ярости.
Когда в 1709 году в Дрезден прибыл с визитом датский король, он тотчас обратил на Анну особое внимание, и она стала центральной фигурой всех устраиваемых им балов. Ее усыпанное бриллиантами платье сияло ярче, чем платье королевы. А на устроенном у нее во дворце балу она сама принимала гостей короля. Ее величество была задвинута в какой-то пыльный угол и могла вволю скорбеть там о своей несчастной судьбе. А между тем у Анны не было ни минуты свободной от удовольствий.
В одном из праздников она участвовала в представлении, одетая Дианой, в окружении тридцати шести валторнистов ехала в открытой карете, запряженной двумя белыми оленями. А три дня спустя на охоте она появилась одетая французской крестьянкой.
Ей все было к лицу, любая одежда, любой наряд!
Понятно, что король не пропускал ни одной ночи, которую мог бы провести у нее, и Анна снова забеременела. После рождения второй дочери жизнь ее долго висела на волоске, однако ее сильная натура победила, и вскоре она уже принимала депутацию саксонских прелатов, знати, представителей города и других высших слоев общества и просила их быть крестными ее ребенка. В результате же получила «на зубок» 4000 талеров.
Обе девочки были признаны «законными королевскими дочерями и высокородными графинями».
Каждая женщина, которую король пускает в свою постель и после этого не гонит прочь от себя, а осыпает благодеяниями, рано или поздно начинает о себе слишком много мнить. По сути дела куртизанки (ну ладно — просвещенные куртизанки), они вдруг непременно желают играть выдающуюся политическую роль в своей стране и влиять на управление ею. То есть быть ближайшими советниками, вернее, советницами своих любовников.
Во Франции такой «советницей» стала мадам Помпадур, ну а в Саксонии — графиня Козель. Она была горда, отважна, в ней было много мужских черт характера. А кроме того, она отлично понимала, что успехи Августа на королевском поприще гарантируют ее собственные успехи как его фаворитки, матери его детей и будущей супруги.
Порой взгляды графини Анны на политику были наивны и слишком категоричны, но часто весьма разумны. Однако ей не хватало дипломатичности. К примеру, фаворит Августа, его премьер-министр Флемминг настаивал на размещении королевской резиденции в Польше, и Август был полностью согласен со своим фаворитом. Анна пыталась убедить короля не делать этого. Разумно утверждая, что Августу нечего делать в Польше, нечего надеяться на то, что его сын будет ему там наследовать, Анна не стеснялась в выражениях. И это просто обижало ее оппонентов, восстанавливая их против нее.
Например, в одном из писем Анна так формулировала свою точку зрения по польскому вопросу: «Должно быть, поляки дураки, если они терпят такого неудачливого правителя, как король… Кроме того, король хочет принести в жертву своего сына и ради напрасных и необоснованных надежд хочет обратить его в католичество… Ведь если король возьмет кронпринца с собой в Польшу, что он намеревается сделать, от него отвернутся англичане, французы и все протестантские князья Германии. А католические князья морочат ему голову, утверждая, что, если его сын перейдет в католичество, перед Августом откроются огромные возможности в Германии. Но все это химеры».
Еще Анна считала, что нельзя доверять и русским, и так же высказывалась против Венского двора, подозревая, что он преследует только свои интересы. К австрийцам она вообще относилась настороженно и выступала против графа Вакербарта, который по ходатайству Флемминга был назначен министром и всюду совал свой нос, ища только свою выгоду и полностью поддерживая политику Венского двора. Флемминг взял своего протеже под защиту, и их отношения с Анной обострились. Однако если не получалось с Флеммингом, то на других министров графиня вполне распространяла свое влияние. Стараясь по-женски уберечь своего мужчину от неразумных поступков и ради этого ссорясь с влиятельными людьми, она писала: «Я люблю короля совершенно бескорыстно, и его репутация значит для меня больше, чем моя собственная». И, между прочим, после того как армия Карла XII была разбита и он неожиданно с небольшой свитой посетил Дрезден, именно она дала Августу совет взять короля в плен, как это сделала когда-то герцогиня д’Этамп, фаворитка французского короля Франциска I.
Шло время, и честолюбие Анны росло. Теперь ей мало было быть графиней, она мечтала о титуле герцогини Герлицкой. Король, обиженный на ее амбициозные выпады против своей политики, тянул с предоставлением этого титула, и Анна начала понимать, что любовь его не вечна, что в один далеко не прекрасный день ее может постигнуть участь отвергнутой…
Она была умна. Иллюзии насчет «гарантийного письма» рассеялись. Король есть король, он волен не только в собственных поступках, но и в жизни и смерти своих подданных! Не стоит слишком пылко мечтать о короне, нужно взять от жизни все, что она дает сейчас. И Анна старалась разбогатеть еще больше благодаря королевским милостям.
Но это не значило, что она вульгарно вымогала у него деньги. Графиня пыталась использовать в свою пользу те достижения и прибыли, которое обещало развитие ремесел, торговли, науки. Ее очень интересовали опыты Бёттигера, основавшего впоследствии производство фарфора, она даже оборудовала для него лабораторию в своем Пильнице. Анна собирала рецепты алхимиков, от придворного аптекаря получала различные снадобья для «химических изысканий» и наняла собственных лаборантов. Результат ее изысканий позднее обнаружили в шкатулке — это были «два железных гвоздя с вкраплениями золота и серебра», которые Август взял себе.
После одного из своих визитов в Варшаву, когда она получила новые доказательства неверности короля, при посредничестве некоего полковника фон Ратцау вступившего в связь с Генриеттой Дюваль, Анна отправилась в Голштинию к своим родителям и депонировала в банк Гамбурга тридцать один большой ящик с различными ценностями.
И все же Анна надеялась на лучшее. В мае 1712 года она появлялась на прогулках в Карлсбаде, куда сопровождала короля, окруженная толпой придворных и лакеев, «разодетая и красивая, как греческая Венера», и преследуемая, как всегда, многочисленными поклонниками, на что король, видя среди них нескольких аббатов, язвительно отозвался о ее кокетстве с «маленькими воротничками». Но при дворе множились сплетни о ней, об охлаждении к ней короля… Их собирала и распространяла самая опасная придворная интриганка, фрау фон Глазенапп, сестра прежней фаворитки Августа княгини фон Тешен. Анна была вспыльчива, легко впадала в ярость, пыталась выяснять отношения с королем, который то шел ей навстречу, то пытался искать развлечений на стороне…
В 1712 году, когда Анна должна была вот-вот родить третьего ребенка, она добилась от Августа юридических гарантий своего положения, «что она, а также ее наследники могут беспрепятственно владеть всем тем, что значится в перечне недвижимого имущества, а также всем движимым имуществом, которое она имеет теперь, а также всем тем, что может быть пожаловано ей Нашей Милостью в будущем. Без оговорок она может пользоваться этим и в дальнейшем, так же, как и ее наследники, не внося за это никакой платы, в том числе и в случае утраты. А также обладать полной властью над всем этим и по желанию продать, обменять или, другими словами, рассматривать как наследное имущество и иметь возможность завещать кому угодно и т. д.». Одним словом, по данному документу все дары короля навечно оставались в семье графини. Август был обязан заботиться о будущем благополучии и нормальном обеспечении ее самой и «ее с Нами общих детей». А графиня должна была «быть полностью и совершенно спокойной во владении как своим, так и пожалованным ей Нами имуществом, никогда и никому не давать отчета в его использовании, ни Нам, ни Нашим наследникам, ни будущим членам правительства, и что никто не смог бы опротестовать любое ее распоряжение касательно этого имущества и т. д.».
То ли письменные гарантии подействовали, то ли после родов Анна и впрямь так разительно похорошела, как о том свидетельствуют современники, однако ее власть над королем не только не ослабела, но и еще пуще упрочилась. Придворные были счастливы малейшим знаком ее внимания и с гордостью обменивались письмами, где хвастали визитами графини Козель. И вдруг…
На день Св. Михаила в 1712 году Анна с Августом были в Лейпциге, и здесь появились первые признаки охлаждения с его стороны. Как пишет в своем письме некая придворная дама, король купил графине всего несколько метров материи; она поселилась с ним, он ужинал у нее, «однако вечером он сказал ей „Спокойной ночи!“ и удалился, одним словом, уверяю Вас, любовь пошла на убыль, и, да будет на то Божья воля, скоро с ней будет покончено».
Такие сплетни распространялись частенько, вообще интриги постоянно сопровождали Анну, и до сих пор, уже почти восемь лет, графине удавалось успешно противостоять им. Ее положение нельзя было сравнить с положением других фавориток Августа — Кенигсмарк, Эстерле, Тешен. Они были для него всего лишь любовницами, тогда как Анна была названа его супругой, дети других были бастардами, а ее — официально признаны. Однако она приобрела много могущественных противников, а еще напрасно, конечно, она отпустила Августа в Варшаву, где интриганы смогли развернуться вовсю, выставляя свои интриги против Анны как заботу о государственном благе. Мол, чтобы поляки не чувствовали себя обиженными пренебрежением к ним короля, он должен иметь не только любовницу из Саксонии, но и любовницу-польку. Августу тотчас представили некую графиню Марию-Магдалину фон Денхоф.
Анна узнала об этом, но, вместо того чтобы ринуться в Варшаву, непонятным образом начала медлить, улаживать какие-то имущественные дела… К тому же здоровье ее ухудшилось… Раньше она была склонна видеть подвох в самых искренних и пылких письмах Августа, теперь же, словно околдованная, верила откровенной и грубой лести короля, который не затруднялся изобретением новых любовных объяснений, а изо дня в день писал одно и то же: «Если бы я мог этим письмом сокрушить все преграды и преодолеть все расстояния между нами, я бы тотчас так и сделал!»
Когда доброжелатели пытались предупредить ее, она в ответ только смеялась. Ее уверяли, что она просто забыла свойственное Августу лицемерие и необыкновенную способность скрывать свои настоящие чувства, она преувеличивает свое влияние на него, и это делает ее чересчур беспечной, а ведь ей больше нечего на него рассчитывать, и в любой момент она может получить отставку. А то, что Август засыпал ее нежными письмами, может говорить только о том, что он имеет обыкновение удваивать свою нежность, чтобы нанести удар.
Анна никого и ничего не слушала. В ее поведении было что-то фатальное, с чем невозможно бороться. Она до сих пор повсюду сопровождала короля, не оставляла его ни на одну ночь, ни на один день. А теперь, когда решалась ее судьба, вернее, когда судьба висела на волоске, Анна, казалось, чувствовала себя усталой, пресыщенной и хотела только, чтобы ее оставили в покое.
Она напрасно потеряла очень много драгоценного времени, а когда собралась наконец отправиться в Варшаву, было уже поздно. И в начале июля 1713 года между придворными начали ходить такие письма: «Кажется, с графиней фон Козель покончено, однако еще не ясно окончательно, как с ней быть, так как у нее в руках та самая грамота и она может жить, как ей хочется. Ясно только, что больше никаких дел с ней вести нельзя…»
Теперь сплетни, которые клубились вокруг Анны, были самого низменного свойства. Раньше на нее ополчались за полновластие — теперь ей стали приписывать любовные похождения. Один из врагов Анны, министр Левендаль, уверял, что Анна имела виды на одного своего молодого и красивого придворного, а потому помешала его женитьбе на одной из дочерей Левендаля.
«Я не так уж любвеобильна, — отвечала на это Козель, — и я всегда достаточно осторожна, чтобы иметь при себе свидетелей (во время визитов указанного дворянина).
В конце концов, невозможно запретить мужчинам влюбляться, однако можно проследить за реакцией женщин, а затем прийти к выводу, что они ни в чем не виноваты, так как не давали мужчине поводов для возникновения интриги, тем более для тайного свидания.
Черт бы меня побрал, если бы я не сторонилась мужчин так, как я это делаю. Ведь они созданы только для того, чтобы соблазнять бедных женщин, а я уже достаточно стара, чтобы претендовать на соблазнение ими…»
Она могла оправдываться сколько хотела, ей никто не верил.
Письма от короля прекратились, а новости, окольными путями доходившие из Варшавы, стали совсем уж тревожными. И графиня летом 1713 года в конце концов решилась поехать туда. Хотя она и объявила, что собирается в Гамбург, чтобы купить там дом, ее противники догадались об истинной цели поездки и сумели убедить короля, больше не питавшего к ней никаких чувств, задержать ее. Вдобавок Анна и сама слишком задержалась во Вроцлаве. Там ее и застали посланные королем ей навстречу в сопровождении гвардейцев камер-юнкер Монтаргон и подполковник Де Лаэ и передали ей приказ возвращаться в Дрезден.
Вышел грандиозный скандал. Графиня не хотела подчиняться и позднее от всей души сожалела, что не воспользовалась пистолетом, дабы проложить дорогу в Варшаву. Однако в конце концов она сдалась и в сопровождении своей обезоруженной свиты повернула обратно, в Дрезден. Но и оттуда ей пришлось убираться.
Ее карьера фаворитки была окончена. Король больше не хотел ее видеть, а его новая страсть, мадам Денхоф, нипочем не хотела перебираться в Дрезден до тех пор, пока там будет находиться Козель, так как она опасалась за свою жизнь. К тому же графиня часто угрожала самому королю, если он будет ей неверен.
Анна получила приказ отправиться в Пильниц.
Услышав, какая участь ей угрожает, она пришла в неописуемую ярость, изругала короля на чем свет стоит, начала кричать: «В какой помойной яме он теперь сидит?», намекая на Денхоф, о которой ходили сплетни самого скабрезного свойства. Анна кричала, что, связавшись с такой особой, он потерял всякую честь и репутацию, а потом начинала рыдать, вспоминая, как они с Августом были счастливы в любви, как много он для нее сделал, как клялся ей в вечной верности, как много радости они доставляли друг другу, какую любовь она к нему испытывала и как невероятно жестоко он с ней поступил.
И снова начинала упрекать его в неблагодарности, в лицемерии…
В конце концов к ней явился Флемминг, показал приказ короля и пригрозил насильственной высылкой, если графиня не уедет в Пильниц добровольно.
И вот в один печальный вечер после Рождества Анна покинула Дрезден, и весь двор мог наблюдать за ее отъездом…
Конечно, Анна покорилась только внешне. Она ломала голову, как бы вернуть милость короля, как бы изгнать ненавистную соперницу и отомстить интриганам, которые, она не сомневалась, и восстановили против нее искренне любившего ее Августа.
Чтобы воротить его любовь, Анна испробовала все мыслимые и немыслимые магические средства: приказывала варить приворотные зелья и произносить заклинания, чтобы «наслать напасть» на своих врагов…
Не веря в бесповоротность своего изгнания, Анна писала матери, что король сетует на свою судьбу, так как попал в руки непорядочных людей, которые думают только о своей выгоде, в то время как она, возможно, единственная, кто принимает все это близко к сердцу, потому что любит его больше, чем себя, и никогда в жизни не забудет его…
Через шпионов, засланных в Пильниц, при дворе вскоре узнали о речах графини, доносили, что она готовит заговор против короля.
Слухи о таких разговорах доходили до Анны, и в одном из своих писем к родным она с горечью упоминала, что ее обвиняют в самых немыслимых вещах, что она якобы «самая изощренная ведьма и колдунья», что каждый день она напивается вдрызг, что все, кто к ней приходит, либо ее любовники, либо чародеи, что у нее есть яды, чтобы отравить кого угодно, — короче, ей приписываются все возможные и невозможные пороки.
А между тем король, который был щедр с теми, кого любил, и мелочен до скупости с теми, к кому охладел, предписал своим министрам заставить графиню Козель возвратить переданные ей ранее важные документы, например, жалованную грамоту Августа и две связки писем Авроры Кенигсмарк. Анну также пытались убедить продать ее дрезденский дворец, который ей больше было не под силу содержать.
Однако Анна не думала сдаваться. Она потребовала 200 000 талеров за свои поместья и дома и разрешения жить там, где захочет, а потом предупредила, что обвести вокруг пальца ее не удастся. Анна отлично понимала, что отказом возвратить грамоту подвергает опасности свою жизнь, но была готова скорее умереть, чем расстаться с ней. Если на нее будут слишком сильно давить, ей придется заговорить и многое рассказать о короле. Графиня справедливо полагала, что при дворе предпочтут, чтобы она молчала.
На фоне переговоров с озлобившейся графиней случилась одна очень трогательная история. Август, решив собственноручно уговорить Анну вернуть документ, отправил к ней со своим письмом не одного из придворных советников, которых Анна ненавидела и которые ненавидели ее, а послал к ней высокородного юного полковника фон Тинена.
А молодой человек немедленно влюбился в романтическую отставную фаворитку и принял ее сторону. Теперь он везде и всюду защищал ее и даже, когда полковник фон Ратцау, главный пособник варшавской любовной связи Августа, начал распространять слухи, что Тинен стал любовником Анны, вызвал его на дуэль.
Август распорядился взять Тинена под стражу, дуэль не состоялась, Анна осталась без всякой защиты. После долгих переговоров ей был оставлен Пильниц, она продолжала получать почти полностью свое прежнее денежное содержание, однако была лишена прежних привилегий, и вся ее переписка строго контролировалась.
В конце концов она вроде бы начала уставать от борьбы. Отдала ключ от своего дрезденского дворца, отдала, правда, с большой неохотой, кольцо, которое «носила на пальце, чтобы показать то, что раньше было правдой…». Видимо, то самое кольцо, которое Август подарил ей вместе с жалованной грамотой.
Кроме того, Анна подписала обязательства никогда не появляться в Польше и Саксонии в тех местах, где собирался бы остановиться король. «Я обязуюсь, — следовало далее, — никогда не говорить и не делать ничего такого, что может быть неприятно королю или противно его интересам. А также воздерживаться от участия в любых интригах и сплетнях, никогда более ни в письмах, ни в разговорах не вмешиваться в дела, касающиеся короля, и вообще постоянно вести себя так, как следует из этой грамоты, которую я подписала. А если я в чем-либо нарушу данные условия, то вызову справедливый гнев короля и признаю, что тогда Его Величество имеет полное право лишить меня всех своих милостей, которые он мне оказал при условии, что я не нарушу условия договора.
И да поможет мне Бог до конца дней моих».
В конце 1715 года она согласилась на предложение Августа кончить дело миром и вернуть драгоценный документ.
Однако это была лишь видимость. Анна отважилась на очень важный шаг, который имел решающее значение для ее судьбы: она решила бежать. Графиня тайно передала дворцовому управляющему Йонасу Майеру большое количество ящиков и сундуков, полных драгоценностей, затем должным образом проинструктировала своего поверенного Клуге и передала еще пятнадцать ящиков с ценностями еврею Перлхефтеру, который должен был отослать их в Теплиц.
12 декабря 1715 года она тайно покинула Пильниц, оставив там своего трехлетнего сына, в то время как обе дочери уже некоторое время жили у ее матери, и 14 декабря приехала в Берлин инкогнито. Какое-то время жила там под именем мадам Лакапитэн у некоего Винцента, и ее расходы составляли редко более двух талеров в день. Она вела себя очень скромно, не имела выезда и нанимала экипаж, если нужно было куда-то поехать. О ее пребывании в Берлине почти никто не знал.
И вдруг Анна, к своему ужасу, узнала, что посланные ею в Теплиц вещи конфискованы на богемской границе. Пришлось отправиться туда, выручить большую часть ящиков после уплаты значительной суммы, а потом вернуться в Берлин, забрав ящики с собой.
Итак, место ее пребывания открылось. Посыпались письма, к ней направили «переговорщика», чтобы убедить вернуться в Саксонию. Но Анна отвечала, что не хочет жить в Пильнице как изгнанница и вернется в Саксонию только в том случае, если Август собственноручно напишет ей, что «она может надеяться на уважение к своей личности и свободе, как все остальные порядочные люди».
Однако многие опасались «ее ядовитого и опасного языка, ее предприимчивости и дерзкого ума, способного на все, чтобы удовлетворить свои прихоти и свою ненависть, любыми средствами спровоцировать трения и разлад между обоими государствами». И саксонский посланник в Берлине получил задание добиться ареста графини и высылки ее на родину.
Королю Фридриху-Вильгельму I сообщили, что графиня отказалась отдать в общем-то не имеющие особой ценности бумаги, содержащие лишь некоторые интимные подробности, касающиеся польско-саксонского короля, что лишний раз доказывало полное сходство обычного мужчины с королем, и добавили: «однако было не очень-то приятно, если бы тайное стало явным». Мол, Август имел полное право строго покарать графиню, однако он не хотел навредить ей, а только якобы предупредить ее действия.
Это произвело впечатление на прусского императора, который сам был мужчиной, и, главное, тоже не без грешков. Он утратил интерес к персоне Анны Козель и ни за что не взял бы ее под защиту.
Между тем Анна об опасности узнала и переехала в Галле. Небольшой город был не самым удачным местом для того, чтобы в нем скрыться такой яркой женщине, как графиня. По городу немедленно распространился слух о красивой незнакомке. «Невозможно представить себе более прекрасной и возвышенной картины. Тоска, глодавшая ее, проявлялась изысканной бледностью у нее на лице и грустью в глазах… Это была смуглая тридцатишестилетняя красавица, у нее были огромные черные живые глаза, белоснежная кожа, красиво очерченный рот, безукоризненной формы нос. Во всем ее облике было нечто величественное и проникновенное. Наверное, королю было не так просто освободиться от ее чар…» — писал один из путешественников, видевших ее в те дни.
Здесь, в Галле, решилась ее судьба. Прусский король согласился на ее арест, и возле дома, где она проживала, была поставлена стража. В ее берлинской квартире провели обыск с целью обнаружить заветные бумаги, однако безуспешно. На часть ее вещей был наложен арест, а несколько сундуков просто украдены.
В Галле Анну охранял офицер по фамилии д’Ошар-муа. Он не устоял перед ее красотой и поклялся ей помогать. Анне удалось с его помощью переправить домой бумаги, письма, долговые книги, которые она ранее прятала под своим матрацем, а также некоторые драгоценности.
Через доверенных лиц, посетивших ее в Галле, Август передал, что Анна сама виновата в аресте: ведь ее неоднократно предупреждали, что в своих речах и письмах она должна проявлять сдержанность. Так как она не обратила внимания на предостережение, пришлось прибегнуть к чрезвычайным мерам. Если она все же отдаст заветные бумаги, ее тотчас освободят, однако она не должна отлучаться из Пильница.
Согласившись арестовать графиню, прусский король тем не менее не горел желанием выдавать ее Саксонии. Может быть, ей и удалось бы добиться отмены этого решения, если бы в дополнение к многочисленным просьбам к королю и к другим влиятельным персонам она прибавила бы могущественную власть денег. Она бы потеряла тогда небольшую часть своих богатств, но спасла бы остальное. А так потеряла все, потому что хотела все сохранить…
Между тем короли продолжали переговоры и наконец пришли к соглашению, что в ответ на собственноручное письмо Августа король Фридрих-Вильгельм объявит о выдаче графини, если ему будет дано письменное обязательство передать Берлину всех получивших пристанище в Саксонии прусских дезертиров. Однако выдача графини будет представлена всего лишь как дружеская услуга любезного соседа…
Август дал такое обязательство, и 21 ноября 1716 года в Галле был проведен доскональный обыск всех вещей графини: осмотрели даже ее кровать и одежду. Она сама вывернула карманы, однако ей посчастливилось спрятать один лист за зеркалом, которое находилось на самом видном месте и не вызывало подозрений. Следующим вечером ее передали на границе специально за ней прибывшей страже, командир которой оказался очень грубым…
Переночевали в Мерзебурге, а на следующий день отправились в Лейпциг и остановились в гостинице, где Анна пыталась уговорить хозяйку помочь ей бежать. Однако ее охватило такое волнение, что она упала в глубокий обморок, и саксонский полковник даже счел пленницу мертвой. Правда, довольно быстро графиня пришла в себя и сказала вызванному к ней врачу, что не будет принимать никаких лекарств, но если у него есть яд, она бы с удовольствием им воспользовалась, так как он мог бы вылечить ее тело, но не сердце…
Анна снова попыталась уговорить хозяйку дать ей простую одежду и найти «умного человека, который мог бы провести ее через лес и по окрестным дорогам», но из этого ничего не вышло.
Было перехвачено ее письмо к лейтенанту д’Ошар- муа, в котором она писала, что еще не знает, в какую дыру ее завезут. Даже ночью в ее спальне оставались два офицера, тогда как ее кровать была отгорожена ширмой.
Из Лейпцига Анну отправили в замок Носсен, где стерегли как особо опасную преступницу. От всего этого она начала сходить с ума. Некая госпожа фон Меленбург писала Флеммингу: «Бедная графиня Козель очень несчастна. Ее полумертвой привезли из Галле, у нее был удар и отнялась вся правая сторона. Она ничего не ест и не пьет, и надо бы над ней сжалиться. С ней постоянно находится священник, чтобы утешать ее. Она терпит страшную нужду. Увидев, что ее стережет целый отряд из 70 человек, она очень испугалась и спросила: „Что этим людям надо от меня, бедной женщины?“ Она так несчастна, что могла бы разжалобить и камень».
Ну, камень — может быть, но не человека, который ее некогда любил и который теперь был одержим желанием отнять у нее не только письмо, но и все состояние. Можно было подумать, Август не могущественный и богатейший король, а какой-то лавочник, который никак не может расчесться со служанкой!
Наконец Анна немного поправилась, и под усиленной стражей с несколькими офицерами, с максимальными предосторожностями ее отправили в крепость Штольпен.
Последняя остановка была в Блазевице, на постоялом дворе, где накрыли стол на пять блюд. Анна чувствовала себя совсем плохо. Наверное, ей стало бы еще хуже, если бы она знала, что это ее последний ужин на свободе, вне стен Штольпенского замка, который она покинет только после смерти, почти через пятьдесят лет…
Без суда и следствия она была приговорена к пожизненному заключению как жертва мести и страха короля, так как не подлежит сомнению, что Август Сильный боялся графини. Вернее, боялся того стыда, который она в нем вызывала. Он обещал ей жениться и гарантировал неприкосновенность ее имущества, однако обманул и бросил, как это было с его бывшими и будущими любовницами. Она считала себя единственной, а была всего лишь одной из многих. Когда иссякла его страсть, Август просто подыгрывал ей в ее амбициях, а на самом деле уже не видел различия между ней и какой-нибудь Шпигель или Дюваль. Однако все другие его любовницы заранее знали, что раньше или позднее король распрощается с ними. Графиня же была в плену своих иллюзий. Для Августа не существовало ни постоянства, ни настоящей любви, и для этой женщины, которая во всех отношениях была самой выдающейся из всех его многочисленных любовниц, он не нашел другого места, кроме мрачных стен горного замка. Необъятная жажда мести, переполнявшая его всякий раз, когда его пути и желания встречали какое-либо сопротивление, как никогда более ясно проявилась на этот раз.
Старое епископство Штольпен в те времена представляло собой хорошо укрепленный четырехбашенный замок. Поскольку Анна считалась теперь опасной государственной преступницей, в Штольпене был посажен целый гарнизон из сорока солдат с четырьмя унтер-офицерами и капитаном Лаутербахом во главе, а еще один капитан, Хайнекен, получил задание постоянно следить за пленницей. Основные пункты инструкции по содержанию графини составил лично Август. Невозможно поверить, что этих двоих некогда объединяла любовь… Инструкция была исключительно суровой. Согласно ей, графиня была полностью отрезана от внешнего мира. Она жила в доме, одна сторона которого выходила на замковую церковь, а другая — на так называемую башню Иоганна. Она приехала со свитой из пяти человек: камеристка, стряпуха, повар, накрывальщик и истопник — и занимала оба этажа дома. Кое-какое имущество — одежду, серебряную посуду и украшения — ей оставили.
Вскоре после прибытия Анна снова тяжело заболела. Приступы страшных головных болей порой заставляли ее терять сознание, а потом наступали долгие часы тягостного бреда. Когда сознание возвращалось к ней, она начинала жалобно плакать и причитать: «Чем же я так прогневала Бога, что попала в руки моих врагов?! Я не могу вернуть документ, которого у меня больше нет и который король сам мне отдал. Кто же мог знать: то, что он подарил мне от всего сердца, теперь стало предлогом, чтобы лишить меня чести, здоровья, рассудка и свободы».
Единственным развлечением Анны было писать письма, и она писала их во множестве, порою не отдавая себе отчета в своих словах, хотя знала, что вся ее почта перлюстрируется. Она горько жаловалась на судьбу, на мелкие пакости, чинимые стражей, и предупреждала свою мать, чтобы та никоим образом не противодействовала воле короля, что могло бы усилить и удлинить страдания дочери. Анна не могла поверить, что сама виновата в своем несчастье, «как будто дверь захлопнулась, и жизнь моя будет разбита, если мне не удастся раскрыть ее, однако мне не удается сосредоточиться на том, что необходимо сделать в первую очередь…».
А между тем в Дрездене не оставляли надежды найти злосчастный документ. Поступили сведения о д’Ошармуа и его любви к графине. Король Фридрих приказал ему выдать все имеющиеся бумаги. Но документа среди них не оказалось. Наконец удалось выяснить, что запечатанный пакет на имя баронессы фон Гойм может находиться в архиве Драге. Там-то и отыскали подписанный Августом 12 декабря 1705 года документ о пожизненных привилегиях графини! Король его немедленно уничтожил.
Многие вздохнули с облегчением. В том числе и графиня, которая писала, что теперь ее судьба полностью в руках людей, так как, «слава Богу, у них, кроме совести, есть еще чувство справедливости».
Можно было ожидать, что теперь, получив документ и уничтожив свидетельство своего вероломства, Август освободит Анну. Но нет, он еще не насытился своей местью.
Август хотел получить обратно как дома в Дрездене, так и Пильниц, что и было предложено Анне в обмен на определенную сумму. Графиня ожесточенно сражалась за свое и своих детей достояние. Тогда у нее было отнято денежное содержание. Она стала самой настоящей узницей… правда, ей позволили сохранить кое-какие книги и вещи. Среди книг были, например, сочинения Юлия Цезаря, историка Флора, Овидия, писателя Непоса на латинском языке, а еще много мемуарной литературы, труды по истории и политике. Среди рукописей встречается много написанных ею стихов на французском языке, которые, не представляя особой художественной ценности, указывают на несомненный ум и тонкий вкус.
Увы, и книги, и стихотворчество мало скрашивали ее заточение. Свое заключение, а главное, полнейшую бездеятельность Анна переносила очень тяжело и не переставала обращаться за помощью. Однако все было напрасно…
Минуло одиннадцать лет. Настал 1727 год. И вдруг однажды графиня из окна своего дома увидела короля! Он прибыл, чтобы присутствовать на стрельбах. Анна окликнула его, однако он только слегка приподнял шляпу и ускакал, не сказав ни слова.
Анна долго пребывала в лихорадочном ожидании. Она и теперь все еще продолжала надеяться на изменение своего положения. Снова, снова писала письма разным влиятельным людям, однако ответы сводились к тому, что «король еще недостаточно расположен освободить Вас».
В Штольпене сменился комендант. Фамилия его была Боблик, это был ограниченный и жестокий человек. Прихотливости его ума и жестокости можно только дивиться! Например, когда Август 1 февраля 1733 года умер в Варшаве, комендант почему-то подумал, что должен скрыть смерть короля от пленницы, и, когда Анна стала расспрашивать, почему и в чью честь звонят колокола, он уклонился от ответа, что-то соврав.
Однако слишком уж важное произошло событие, чтобы его можно было долго скрывать! Вскоре графиня узнала правду и стала еще сильнее уповать на скорое освобождение. Она написала прошение новому курфюрсту, его жене, всем влиятельным придворным: «Неужели нет никакой возможности снискать расположение Вашей милости и предоставить мне долгожданную свободу, так как ясно, что нескончаемые мучения старой больной женщины не могут представлять никакой выгоды для Вас, женщины, которая пережила столько несчастий. А ведь стоит сказать только слово, чтобы восторжествовала правда и справедливость вместо горя и несчастья, которые уже нет терпения переносить…»
Однако и теперь ее не освободили. Месть Августа продолжала ее преследовать. Относительно Анны ее бывший любовник дал непререкаемые распоряжения! Недаром он говорил, что если и любил ее больше всех, то и больше всех ненавидел. Правда, были сделаны некоторые послабления в режиме заключения. Графине разрешили получать и читать тонкий листочек «Лейпцигской газеты» в дополнение к нескольким газетам на французском языке. Она также могла теперь принимать гостей, несколько раз в году встречаться с детьми, однако они должны были жить под наблюдением в другом доме, чтобы исключить возможность ее бегства или передачи ей запрещенной корреспонденции. А между тем, предосторожности были напрасны. Дети выросли и обвиняли мать в том, что ее строптивость лишила их состояния. Отношения между ними стали весьма напряженными, и графиня, в свою очередь, обвиняла детей в том, что они желают ее смерти.
Анна Козель продолжала писать прошения об освобождении. Наконец осенью 1740 года король Август III сообщил, что «по зрелом размышлении он решил со временем предоставить ей полную свободу». Правда, когда настанет то время, не сообщил (забегая вперед, можно сказать, что оно так и не настало). Пока Анна получила возможность свободно вести переписку со всеми своими детьми, кураторами и врачами. Но она оставалась в Штольпене, хотя и лелеяла надежду когда-нибудь снова вернуться в «высший свет».
Но годы шли, шли… Годы шли, многое менялось, и только Анна фон Козель оставалась в заточении.
Иногда бурная жизнь, текущая мимо, заглядывала к ней.
Так, во время второй Силезской войны прусские гусары однажды ненадолго заняли Штольпен. А во время Семилетней войны замок был взят прусским подполковником фон Варнери, причем был ранен комендант Либенау, который относился к графине лучше всех предыдущих. А через четыре года Анна увидела множество костров во дворах замка, у которых грелись многочисленные прусские беженцы, которые, голодая, разграбили ее кухню и винный погреб.
Штольпен, Штольпен, неизбывный Штольпен… Ни намека на свободу. Для разнообразия Анна проводила много времени в своем крошечном садике, но все же предпочитала чтение и постоянно пополняла библиотеку. Она увлеклась мистическими и каббалистическими манускриптами, но больше всего читала Библию и особенно Ветхий Завет. Жертва столь долгой, почти вечной — с точки зрения смертного человека — мести, теперь она ставила мстителя Иегову, могущественного бога священного гнева, выше, чем кроткого, всепрощающего Иисуса из Нового Завета. Она также поддерживала отношения с евреями и попросила одного священника перевести для нее древнееврейские религиозные трактаты. В конце концов она изучила все религии и выбрала иудаизм именно потому, чтобы поклоняться мстителю Иегове.
Больше она ничем не могла выразить свою ненависть к мстителю Августу…
Анна постоянно болела, боялась грома и молнии, и, когда в результате обвала печки ей придавило левую ногу, она, не чувствуя себя больше в безопасности, перебралась в башню Иоганна напротив своего старого, обветшавшего дома.
Графиня жила на втором этаже башни, а кухня находилась на первом. На каждом этаже имелась одна сводчатая комната, в которой прежние орудийные бойницы были расширены до размеров окон, и, таким образом, получились уютные кабинеты.
Последние годы жизни Анна почти не покидала свою комнату в башне. Из всей ее прислуги остались только служанка и истопник. В небольшой жилой комнате с каменным полом не было ковров, стояли только два старых расшатанных стула, два небольших деревянных столика, большая деревянная кровать без балдахина и стул графини без спинки, на котором она обычно сидела, прислонившись спиной к печке. От чада свисающей с потолка масляной лампы, которая горела постоянно, все в комнате так прокоптилось, что с трудом можно было различить стрелки висящих на стене часов.
Вот так доживала свой век былая необыкновенная красавица. Она была давно уже не в себе, но именно это помогало ей выжить — то, что она существовала как бы в потустороннем мире, призрачные видения которого мелькали перед ее усталыми глазами…
Теперь старая женщина ждала только смерти, которая единственно могла принести ей свободу и которая так долго заставила себя ждать.
Ясным весенним днем конца марта 1765 года, в возрасте восьмидесяти пяти лет, графиня Анна фон Козель тихо угасла. Незадолго до своего конца она попросила, чтобы ее тело было похоронено на горе у села Лангенвольмсдорф, неподалеку от крепости. Однако ее погребли в церкви замка в присутствии сына и его жены.
Тело Анны фон Козель было завернуто в мягкую ткань, как это делают с новорожденными, положено в сосновый гроб, а на грудь по ее завещанию прикрепили пергаментный листок, на котором на идиш было написано: «Я выбрала правильный путь. И я знала, что твой суд ждет меня. Боже, ты не должен стыдиться за меня, я ведь следовала твоим предначертаниям, я хотела прожить по твоим заповедям, так как мое сердце обращено только к тебе».
Ни за что и никогда (Моисей Угрин, Россия)[11]
— Отче, преподобный отче, помоги мне! Исцели душу мою, освободи тело мое и разум мой от искушения нечистого! Ибо горю я в огне сладострастия и нет сил моих сдержать томление членов моих! Дьявол искушает меня, демоны его окружили меня и сводят с ума, жгут огнем медленным, пытают и мучают…
— Молчи, — хрипло перебил старик в черном рубище, сидевший на земляном ложе, выдолбленном в стене пещеры. Именно благодаря этим пещерам, по-церковному говоря — печерам, и звалась Печерской новая обитель, устроенная силами преподобного Антония в Киеве, матери городов русских. — Молчи… Что знаешь ты о муках? Что знаешь о пытках? Что знаешь о томлении?
Молодой монах, стоявший перед ним с отчаянно стиснутыми руками, рухнул на колени. Глаза его смотрели с отчаянной мольбой, и старик в черном рубище медленно раздвинул в улыбке сухие тонкие губы:
— Хорошо, если ты просишь меня о помощи, я помогу тебе. Но готов ли ты к боли?
— Я готов на все, что угодно, только бы избавиться от демона блуда, который гложет меня постоянно! — вскричал монах, и в голосе его зазвенели слезы.
Старик протянул руку к посоху и приподнялся, опираясь на него. Вот уж много лет он и шагу не мог сделать без него. С тех пор как лежал, почти бездыханный, а кровь по капле вытекала из его тела, думал, что и вовсе не выживет… но ничего, выжил и до сих пор живет, одолев свои сомнения и скорби. Небось и этот молодой дуралей одолеет!
— Приблизься, сыне, — велел старик.
Монах послушался.
— Совлеки одежды твои и обнажи тело твое.
Молодой монах, помедлив, все же развязал вервие, которое поддерживало его рясу. Глазам старика предстало обнаженное тело, иссушенное постом, однако сильное, крепкое… и уд торчал совсем не по-монашески: не знающий смирения и покаяния, ничем не усмиряемый, обуреваемый злой похотью уд.
Старик вздохнул, глядя на него, потом отвел глаза и посмотрел на плоский, сильный живот монаха. Снова сел, покрепче упер ноги в земляной пол и, резко взмахнув тяжелым посохом, с силой ударил по этому животу… в самом низу, в пах.
Жуткий крик вырвался изо рта молодого монаха, и он рухнул к ногам старика, обеспамятев от страшной боли.
Теперь оставалось только ждать, пока страдалец очухается. Старик с терпеливым вздохом отложил жезл и принялся умащиваться на своем убогом ложе.
Зашаркали торопливые шаги, и в келейку ворвался монашек, которому было наложено послушание ходить за преподобным. Одного взгляда достало ему, чтобы понять, что произошло. Покачал головой, глядя на лежащего в беспамятстве брата во монашестве. Не впервые видел он подобное… небось и еще увидит. Суров способ, коим врачевал преподобный от искушений плоти, зато надежен. Очухается брат — и более никогда не возгорятся чресла его вожделением.
Преподобный Моисей знал, что делал.
— Ништо, — пробормотал между тем старик, глядя на молодой уд, который безжизненно сник, обратившись в жалкое свое подобие. — Теперь тебе полегчает! По-хорошему, оно конечно, булатный вострый ножичек лучше всего лечит, однако ж кровищи-то сколько нальется… Ништо, и так ладно будет!
Келейник зябко содрогнулся. Преподобный знал, что делал, знал, о чем говорил… Ох, нет, не приведи Господи еще кому-нибудь изведать такое!.. Ведь когда-то он пережил жестокую, мучительную казнь… однако вовсе не за то, что возгорелся блудными помыслами и осмелился возжелать сосуда скудельного, вместилища греха, именуемого женщиной.
Нет! Кара постигла его именно за то, что той женщины он не желал. И не мог желать.
* * *
Эта история приключилась на Руси в самом начале XI века. В год 1015 от Рождества Христова, лишь только умер князь Владимир Киевский, нагрешивший при жизни без меры, однако все же названный Святым за то, что Русь крестил, и сыновья его начали борьбу за власть — борьбу кровавую. Ну что было бы Владимиру назначить наследника киевского стола! Старшим родился Святополк, но отец не назвал его своим преемником, а потому Святополку пришлось отстаивать свои владения и права. На пути стояли пятеро братьев — Ярослав, Борис, Глеб, Святослав и младший, Судислав. Святополк разделался со Святославом, Борисом и Глебом, однако с Ярославом было справиться не столь просто: он изгнал Святополка, а через некоторое время заточил в тюрьму последнего своего брата, Судислава, и стал полновластным правителем Руси.
Однако не о Ярославе, который позднее будет назван Осмомыслом, пойдет сейчас речь, и даже не о несчастном Святополке, прозванном Окаянным, вернее, Ока amp;#769; янным, то есть Оха amp;#769; янным, покрытым дурной славой, хотя без упоминания о нем не обойтись. Вообще же братья Владимировичи интересуют нас сейчас лишь постольку, поскольку у князя Бориса служили два отрока-угрина, то есть венгра (уграми называли венгров в старину), а звали тех отроков Георгий и… неизвестно имя второго, знаем мы о нем лишь то, что он позднее прославился как святой Ефрем Новоторжский. Звать его изначально Ефремом никак не могли, ибо все монашествующие принимают другие имена. Впрочем, и его судьба нам не столь интересна. Поговорим-ка лучше о Георгии.
Он слыл любимчиком князя Бориса. В те времена предметы роскоши были редкостны и дороги, однако князь не пожалел для Георгия золотой гривны, тяжелого ожерелья, выкованного из золотых пластин нарочно для него. Дороже всего на свете был для князя этот юнец, когда-то попавший в русский плен, а потом выкупленный вместе с другим молодым венгром — ну, с тем самым, которого позднее назовут Ефремом. Тот был всего лишь умен, расторопен, услужлив, а вот Георгий… Он был невероятно красив, и удивительно ли, что Борис, который был большим ценителем всего красивого и изящного, возлюбил его, как гласит летопись, «паче меры»? Да и сам Борис был красавец, каких мало, и, опять же, нет ничего удивительного в том, что обласканный им отрок смотрел на своего князя с восторгом, любовью и самозабвенной нежностью. В те поры молодые мужчины рано приобщались плотских радостей… любая пленница, невольница тотчас становилась наложницей, однако женские прелести никак не прельщали Георгия. И дело не только в том, что он был еще юн… слово «отрок» означает не только и не столько года его, сколько «служебное положение». Молодежь, повторимся, в те времена взрослела рано — и в любви, и в боях. Не смотрел Георгий на женщин лишь потому, что для него во всем мире существовал только один человек — его князь.
И вот наемники Святополка ворвались в шатер Бориса и пронзили его мечами. Вне себя от горя, Георгий рухнул на его тело, восклицая:
— Я не оставлю тебя, господин мой дорогой! Если красота тела твоего увяла, то и я готов умереть.
С этими словами он выхватил кинжал, чтобы заколоться, однако смерть красивого мальчишки не входила в расчеты убийц. Красота и юность ценились так же дорого, как золото! А потому с полубесчувственного Георгия стащили золотую гривну, а самого его связали и бросили на телегу, чтобы продать на первом же торжище невольничьем.
Другого молодого венгра при этом не случилось. Он отъезжал куда-то по поручению князя, а когда вернулся, нашел только несколько трупов, валявшихся близ княжьего шатра и обобранных до нитки. Среди них лежало чье-то обезглавленное тело, и юноша подумал, что, возможно, тело Георгия… Стали искать голову, чтобы воссоединить ее с телом для погребения, но не нашли, да так и похоронили тело обезглавленным, полагая, что схоронили именно Борисова любимца.
Потом родится легенда: убийцы-де не смогли справиться с застежкой золотой гривны и, чтобы ею завладеть, отсекли голову Георгия и забросили ее невесть куда. Согласно той же легенде, спустя много лет потерянная голова была-таки обнаружена вторым венгром, «братом» Георгия, святым Ефремом Новоторжским, легендарным основателем Новоторжского Борисоглебского монастыря. Голова оказалась нетленной. Умирая, Ефрем завещал положить ее в могилу, что и было сделано. Но по открытии мощей святого головы Георгия на месте не оказалось…
Удивительно, что нетленные мощи, бывшие чудом и достоянием церкви во все времена, Ефрем повелел зарыть в могилу, словно самый обычный труп. Удивительно и другое: как она могла исчезнуть, эта реликвия?
Да никак она не исчезала. Потому что не было ее никогда в могиле. Нельзя похоронить то, чего нет — голова-то Георгия довольно крепко сидела на его плечах!
Настолько крепко, что он умудрился очнуться на той телеге, которая везла его на невольничий рынок. И не только очнуться удалось ему, но и сбежать. Спастись от неволи!
Путь его лежал в Киев, где он надеялся найти укрытие у сестры обожаемого погибшего князя Бориса — у княгини Предиславы Владимировны. Израненный, измученный, он наблюдал, как восторжествовал над Святополком Ярослав и вернул себе Киев — на целых три года. Но князя Бориса было не вернуть, поэтому Георгий пребывал в тоске и унынии. Однако уже в августе 1018 года Святополк, которого поддерживал его тесть, польский круль Болеслав Храбрый, вновь отвоевал наследственный престол. Польское войско разгромило Ярослава и почти без сопротивления вошло в Киев… Как ни странно, Святополк был любим горожанами за удаль и щедрость. Но при этом был он мстителен: без спора отдал Болеславу в наложницы сестру свою Предиславу, которая поддерживала Ярослава, а не его, Святополка. Ну что ж, за помощь надо платить, а женщины хорошего происхождения, образованные и воспитанные, в ту пору считались дорогим товаром, вполне эквивалентным хорошему военному отряду!
Разумеется, одной Предиславой дело не ограничилось. Болеслав потешил свое тщеславие, «посидев» на троне Владимира, а также прихватил «червенские города» (западную область Руси). Он получил еще и изрядное количество золота, и несколько тысяч рабов — в том числе Георгия. Теперь его уже никто не называл по имени: ведь имя — привилегия свободных людей. Он стал просто Угрин (или просто Венгр, как сказали бы мы сейчас). Оставим же за ним это имя до тех пор, пока пленник еще не отрешился от мира и не обратил свои взоры только к Богу.
Итак, Польша, или Ляшская земля, как ее называли порою… Король Болеслав подарил Венгра одному из своих верных военачальников, и тот не мог нахвалиться исполнительным и старательным рабом. Венгр, подобно всем своим современникам, четко осознавал свое место и подчинялся своей участи. Если ты раб — значит, служи хозяину. Хорошо служишь — хозяин тебя бережет, вдосталь кормит и поит, платит щедро… Разве плохо? Нужно ли менять это положение на неверную жизнь беглеца — гонимого, словно дичь, порою затравливаемого до смерти? Венгру не свойственна была тоска по далекой, забытой родине, не тосковал он также и по семье, да и память о любимом князе начинала меркнуть, ибо время все лечит. Он отыскал друзей среди других рабов, и, как могли, они скрашивали и облегчали друг другу жизнь на чужбине, приноравливаясь к ней по мере сил. Порою Венгр думал, что не так уж плохо складывается его судьба… Он жил одним днем, так жили многие. Сегодня сыт — ну и ладно. Не свалил тебя мор — ну и благодари за это Бога, значит, хранит он тебя от бед и испытаний.
Однако беды и испытания были ему все же уготованы, ибо Господь порою любит проверять на прочность малых сих… А может быть, просто пытается по-своему обратить их на путь истинный? Помыслы его воистину неисповедимы…
Короче говоря и говоря короче, король Болеслав славился своим любвеобилием. Фавориток у него было — не счесть! Причем, когда они ему прискучивали, всех их он выгодно выдавал замуж и давал за ними такое приданое, которое прочно затыкало рты любителям сплетен и наветов. Впрочем, повторимся, у каждого времени — свои нравственные критерии, и любовь короля к девице или замужней женщине позором для нее тогда отнюдь не считалась. И среди его прежних любовниц, или, говоря уж по-польски, коханок, была некая Элька. Отдав свое девичество королю, она нимало не опечалилась, тем паче что кохал ее Болеслав довольно долго, аж три месяца (иных и на другое утро из его покоев выпроваживали и больше не звали!), а когда другую себе в постель взял, Эльку отдал замуж за своего воеводу, который на нее давно поглядывал и только и ждал, когда король ее расхочет. Ну и дождался, и с превеликим удовольствием взял Эльку в жены, даром что она была хоть и благородная, но из захудалой, обедневшей семьи. У него же, наоборот, — в крови, как говорилось в те времена, птичка напакостила… не мог, словом, он похвастаться чистотой и древностью своей родословной. Но, женившись на Эльке, так возгордился тем, что дети его станут исчислять род свой от самого Ляха, что немедля начал все силы отдавать для создания этих самых детей. И… надорвался, вот беда! Даром что еще не слишком стар был — сорок лет, да разве ж это старость?! Однако не сдюжил воевода в постельном единоборстве с молоденькой пылкой женой да и оставил ее вдовой.
Теперь пани Эльжбета (про Эльку пришлось забыть в угоду благопристойности) жила в свое удовольствие. Многие хотели бы прибрать к рукам и красотку, и ее богатство, однако молодая вдова полагала, что наигралась уже в замужнюю женщину. Она самовластно (и очень даже не бестолково!) управляла имением и вовсю заводила себе кавалеров из числа благородных ляхов, обладающих более крепким здоровьем, чем ее муж. Не брезговала она, впрочем, и рабами, потому что среди них можно было отыскать и красавцев, и людей благородных (война прихотлива!), тем паче что перед ними не нужно было пускаться во всякие ухищрения кокетства: скажешь пленнику — нынче, мол, ночью изволь пожаловать в господский дом, да и все. Иной раз Эльжбета и словами себя не затрудняла: тыкала пальцем в того или иного, потом многозначительно кивала стражнику — и все всё понимали, и все улаживалось к общему удовольствию. И совершенно так же она захотела ткнуть пальцем в Венгра, который однажды попался ей на глаза.
Эльжбета никогда не видела столь красивого мужчины… Да, прошло уже пять лет с тех пор, как Венгр попал к ляхам в плен, от прежнего нежного отрока остались только воспоминания, он повзрослел, а суровый труд не изнурил, но закалил его тело.
Однако тут возникло два затруднения. Первое — Венгр принадлежал не Эльжбете, а одному из ее знакомых. Правда, тот был человек широких, как бы мы сказали теперь, взглядов и совершенно спокойно смотрел на забавы Эльжбетиной ненасытности, а потому охотно предоставил ей возможность приватной встречи со своим рабом. Венгр был послан к Эльжбете с каким-то поручением, его привели в спальню госпожи — и он получил возможность зреть ее во всей красе.
И вот тут-то вышло на первый план затруднение номер два. Венгр решительно сделал вид, что не понимает, чего ожидает от него обнаженная женщина, приманчиво раскинувшаяся на постели. Воспользовался первым же случаем из комнаты выскользнуть, и как ни кричала вслед Эльжбета, как ни требовала вернуться, он не послушался, а отправился к своему хозяину и сообщил, что ослушался госпожи.
Пока хозяин переваривал новость и пытался понять, как такое вообще возможно, явилась разъяренная Эльжбета. Она всю дорогу обдумывала самые страшные кары, которым потребует подвергнуть раба, посмевшего так ее оскорбить, и требование содрать с него живого кожу было самым милосердным из всех, которые она намеревалась предъявить, но при виде Венгра пыл и ярость ее угасли, словно по волшебству. Красота его производила на нее действие укрощающее.
«Он просто ничего не понял, просто не поверил, какое счастье ему привалило», — решила Эльжбета и попросила прислать к ней Венгра вновь. На сей раз за ним явился доверенный сопровождающий из дома разохотившейся вдовы и по пути простыми словами объяснил незадумку, что от него потребуется.
— Этого не будет никогда, — угрюмо ответил Венгр… повернулся и отправился назад к своему господину, которого предупредил, что госпожа снова останется недовольной.
Дальше события очень напоминали сказку про белого бычка, потому что такая ситуация повторялась еще не раз и не два. Венгра уговаривал его хозяин, потом сама Эльжбета. Все было напрасно. По сути своей Эльжбета относилась к тому типу женщин, которых сопротивление только раззадоривает. Такие люди сплошь и рядом встречаются среди мужчин — их называют охотниками, ну а Эльжбета была сущей амазонкой в этом смысле, хоть и отнюдь не мужененавистницей. Она неистовствовала, настаивала — Венгр отказывал, убегал, скрывался. Со стороны все, наверное, было похоже на игру, однако игра сия наскучила хозяину Венгра. Он был должен Эльжбете крупную сумму, около тысячи гривен серебра, и просто боялся, что, обидевшись, она начнет требовать возврата долга. А поэтому решил строптивого раба наказать — и наказал так, что тот неделю не мог подняться со своего убогого ложа.
Когда слух об экзекуции дошел до Эльжбеты, она едва не умерла от ярости… но не на Венгра, отказавшего ей в очередной раз, а на его жестокосердного хозяина. Она немедля повелела присчитывать к его долгу такие проценты, которым позавидовал бы любой ростовщик, а к Венгру послала слугу с подарками, вкусными яствами, а также лекаря из собственного дома.
Лекарь, услышав сие приказание, откровенно вытаращил глаза, и его изумление и негодование многое сказали Эльжбете. Она внезапно осознала природу своих чувств к Венгру. Ну да, понятно, вожделела она его, как никакого другого мужчину, но ведь это была не просто похоть — это была любовь. Она влюбилась в этого раба… самого красивого и желанного на свете! Влюбилась, вот в чем дело. Вот почему терпела его отказы, вот почему так разгневалась на его хозяина…
Вдова немедля отправилась к тому и сказала, что перестает начислять проценты и прощает ему долг. Несчастный, уже простившийся было со своим благосостоянием, не поверил ушам… а потом не поверил им еще раз, потому что Эльжбета сообщила, на каких условиях прощает долг. Она хотела купить Венгра!
Конечно, он был хороший, сильный раб с отменным здоровьем, но за такие деньги можно было купить пару десятков таких же хороших, сильных и с отменным здоровьем рабов! Поэтому хозяин смотрел на Эльжбету, вытаращив глаза. И вдруг разглядел в ней нечто, чего не было в красавице раньше, — любовь!
— Я хочу поговорить с ним, — пробормотала Эльжбета, краснея, потому что поняла: хозяин Венгра разгадал ее.
И тот молча, только головой качая изумленно, позволил ей пойти на конюшню, где валялся избитый раб.
Летописи излагают диалог Эльжбеты и обожаемого ею раба следующим образом:
— Юноша, зачем ты напрасно переносишь такие муки, когда имеешь разум, который мог бы избавить тебя от мук и страданий?!
— Богу так угодно.
— Если мне покоришься, я избавлю тебя и сделаю великим во всей Польской земле, и будешь ты владеть мною и всеми поместьями моими.
Летопись называет желание вдовы «вожделением нечистым», но мне-то кажется, что владела Эльжбетой истинная любовь. Однако ожидал ее ответ суровый, сухой и безнадежный:
— Какой муж, взявши женщину и покорившись ей, спасся? Адам первозданный покорился женщине и из рая изгнан был. Самсон, превзойдя всех силою и всех врагов одолев, после женщиной предан был иноплеменникам. И Соломон постиг глубину премудрости, а повинуясь женщине, идолам поклонился. И Ирод многие победы одержал, поработившись же женщине, Иоанна Предтечу обезглавил. Как же я, рожденный свободным, сделаюсь рабом женщины, если я никогда с женщинами не сближался?
Из всего сказанного Эльжбета уразумела главное: Венгр не сближался с женщинами! Значит, она у него будет первой? Как же это замечательно! Он просто-напросто робок, он боится, что вполне естественно. Нужно его ободрить. И вообще, почему он сравнивает ее с легкомысленной Евой, предательницей Далилой, лицемерной Бавкис и плясавицей Иродиадой? Ведь она любит его! Любит больше жизни, на все для него готова! И Эльжбета воскликнула:
— Я тебя выкуплю, сделаю знатным, господином над всем домом моим поставлю, и будешь ты мужем моим, только исполни мою волю, утоли вожделение души моей, дай мне красотой твоей насладиться. Для меня довольно твоего согласия, не могу я перенести, что гибнет даром твоя красота, и сердечный пламень, сжигающий меня, утихнет. И перестанут мучить меня помыслы, и успокоится страсть моя, а ты насладишься моей красотой и будешь господином всему богатству моему, наследником моей власти, старшим между панами.
Но даже после такого признания Венгр остался неумолим:
— Твердо знай, что не исполню я воли твоей; я не хочу ни власти твоей, ни богатства, ибо для меня лучше всего этого душевная чистота, а более того телесная. Не пропадут для меня втуне те пять лет, которые Господь даровал мне претерпеть в оковах. Не заслужил я таких мук и потому надеюсь, что за них избавлен буду от мук вечных.
Однако слова его пропали втуне. Эльжбета их просто-напросто не услышала, ведь женщина от веку слышит лишь то, что хочет слышать. «Если я выкуплю его, он поневоле покорится мне», — снова подумала она.
Итак, сделка состоялась. Эльжбета уничтожила заемное письмо и стала полновластной хозяйкой Венгра. Его отвели в ее дом, однако не отправили в ту конуру, где жили рабы и слуги, а помыли, приодели — нет, не то слово, нарядили! — накормили и водворили в тот же спальный покой Эльжбеты, откуда он уже не раз пытался сбежать и куда был неуклонно возвращаем. И снова, снова приступила она к нему с обольщениями, только теперь рядом со словами похоти звучали слова самой нежной любви.
Но напрасно Эльжбета молила Венгра утолить ее страсть. Он совлек с себя дорогие одеяния и облачился в обычную одежду раба, день-деньской (от работ-то его освободили!) простаивал в углу на коленях, моля Бога о спасении, и находил некоторое утешение в том, что сравнивал себя с Иосифом Прекрасным, который тоже противостоял женщине-искусительнице и тем прославился. Дошел он также до того, что решил подурнеть. Понимая, что его цветущий вид искушает Эльжбету, Венгр стал пить только воду и есть только сухой хлеб, надеясь похудеть, иссохнуть, постареть и все такое.
Впрочем, он был молод, а потому всякие такие наивные ухищрения не шли ему на пользу, вернее, не причиняли вреда, и вожделение страстной Эльжбеты росло день ото дня.
Однако есть предел всему и даже — терпению влюбленной женщины. Отказ возлюбленного мужчины оскорбляет ее, озлобляет, и туда, где было только обожание, является на смену ему мстительность. Обидевшись на то, что Венгр отвергает все те сладкие яства, которыми она пыталась его искусить, Эльжбета однажды приказала вообще не давать ему еду. Поголодает, мол, и образумится.
Голодать Венгру не пришлось, потому что другие рабы его любили — кто больше, кто меньше, но любили — и тайком подкармливали. Чем и укрепляли его отвращение к притязаниям госпожи. Хотя, честно сказать, были среди рабов многие, которые ничего отвратительного в страсти Эльжбеты не видели. Они очень не прочь были бы оказаться на месте Венгра, а его упрямство казалось им ненормальным, честное слово. Поэтому они порою приступали к нему с такими или примерно такими уговорами:
— Да что мешает тебе жениться? Ты еще молод, а вдова, прожившая с мужем только один год, прекраснее многих других женщин, и богатство имеет бесчисленное, и власть великую в Польше; если бы она захотела выйти за какого-нибудь князя, и тот бы ею не погнушался; а ты, пленник и невольник женщины этой, господином ее стать не хочешь! Если же скажешь: «Не могу преступить заповеди Христовой», то не говорит ли Христос в Евангелии: «Оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей, и будут оба единой плотию; так что они уже не двое, а одна плоть». И апостол говорит: «Лучше вступить в брак, нежели распаляться». Вдовам же велено вступать во второй брак. Зачем же ты, когда ты не инок и свободен, предаешь себя на злые и горькие муки, чего ради страдаешь? Если придется тебе умереть в беде этой, какая тебе похвала будет? Да и кто же от первых людей доныне гнушался женщин, кроме монахов? Авраам, и Исаак, и Иаков жили с женщинами. И Иосиф сначала победил женскую любовь, а потом и он женщине покорился. И ты, если теперь жив останешься, все равно же потом женишься, и кто тогда не посмеется твоему безумию? Лучше тебе покориться и стать свободным, и господином быть всему.
Речи их вдохновляли и здравый смысл, и житейская расчетливость в одно и то же время. К тому же они не понимали главных резонов, которые двигали Венгром. Он же твердил свое:
— О братья и друзья мои! Добрые вы мне советы даете. Понимаю я, что слова ваши лучше тех, что нашептывал змей в раю Еве. Вы убеждаете меня покориться, но я никак не приму вашего совета. Если и придется умереть мне в оковах и страшных муках — знаю я, что за это от Бога милость приму. Пусть все праведники спаслись с женами, я один грешен и не могу спастись с женой. Ведь если бы Иосиф покорился жене Потифара, то не царствовал бы он после: Бог, видя стойкость его, даровал ему царство; за то и прошла слава о нем в поколениях, что остался целомудренным, хотя и детей прижил. Я же не Египетского царства хочу и не власти, не хочу быть великим между поляками, а желаю почитаемым во всей Русской земле сделаться — ради вышнего царства я всеми благами пренебрегаю. Если я живой избавлюсь от рук сей женщины, то монахом стану. А что в Евангелии Христос говорит? «Всякий, кто оставит отца своего, и мать, и жену, и детей, и дом, тот есть мой ученик». Христа ли мне больше слушаться или вас? Апостол же говорит: «Женатый печется о том, как угодить жене, а неженатый думает, как угодить Богу». Спрошу я вас: кому больше следует служить — Христу или жене? Написано ведь: «Рабы должны повиноваться господам своим на благое, а не на злое». Пусть же будет известно вам, заботящимся обо мне, что никогда не прельстит меня красота женская, никогда не отлучит от любви Христовой.
Да, многое открыл здесь о себе Венгр! «Пусть все праведники спаслись с женами, я один грешен и не могу спастись с женой». Он сознавал неестественность своего поведения с точки зрения обычных людей… но ничего не мог с собой поделать.
«Я не оставлю тебя, господин мой дорогой! Если красота тела твоего увяла, то и я готов умереть», — вот что звучало в его речи. Уж больше пяти лет прошло с тех пор, а он все не мог забыть ту ночь, когда убили его князя… и знал, что не забудет никогда. С человеком, которого единственного любил он в жизни, Венгр утратил и способность к вожделению, утратил плотское желание навеки. Но как было объяснить это потерявшей голову Эльжбете?!
Да никак.
Вот и оставалось, что замкнуться в себе, держаться отчужденно и угрюмо, принять вид человека, который настолько углубился в религию, что скорей в монастырь уйти готов (и ушел бы, да кто ж его отпустит туда… а если сбежать, кто ж беглого раба в монастырь примет?!), только бы не отдаться алчной и страстной женщине… сосуду скудельному, исчадию греха, вместилищу всех пороков.
Женщина внушала Венгру отвращение.
Но эта женщина любила его без памяти, ничего не понимала в его поведении — и шла на все, лишь бы его прельстить и искусить.
Эльжбета то и дело смотрелась в зеркало, чтобы убедиться: она по-прежнему красива и приманчива, а Венгр, не иначе, глаз лишен, если не видит ее прелести. Все чаще и чаще загоралась она обидой, все чаще и чаще хотелось бросить свою затею, завести красивого, пылкого любовника, а на недоумка-раба махнуть рукой… но в том-то и дело, что он один мог утолить ее телесный голод. И тогда она, стыдясь себя, пошла путем, коим часто идут богатые мужчины, которым больше нечем, кроме как богатством своим, прельстить молодую привередницу.
Она отправилась объезжать свои многочисленные имения и прихватила с собой Венгра. Разумеется, он был под охраной, шагу не мог свободно ступить, однако видеть мог — видеть земли просторные, луга заливные, леса дремучие, крепости, принадлежащие Эльжбете. А она постоянно говорила:
— Это все будет твоим, стоит тебе только пожелать! Тут все, что тебе угодно, делай со всем что хочешь.
А людям своим, многочисленным рабам и рабыням, она внушала:
— Перед вами господин ваш, а мой муж, встречая его, кланяйтесь ему.
Однако Венгр оставался угрюм и лишь иногда разжимал уста. Чтобы со скептической улыбкой сказать:
— Всуе трудишься: не можешь ты прельстить меня тленными вещами мира сего, ни отнять у меня духовного богатства. Пойми сие и не трудись боле.
Да, теперь он прятался за своей религиозностью, как за щитом. Но Эльжбета не принимала тот щит во внимание и снова, снова искушала его, заманивала, а то и пугала:
— Или ты не знаешь, что ты мне продан? Кто избавит тебя от рук моих? Я ни за что тебя живого не отпущу; после многих мук смерти тебя предам.
Венгр только плечами пожимал:
— Не боюсь я того, что ты говоришь; но на предавшем меня тебе больше греха. Я же отныне, если Богу угодно, стану иноком.
Да, таково единственное его спасение, понял Венгр. Он наивно полагал, что влюбленную женщину может остановить иноческий чин и рубище монаха…
Случилось так, что в те места именно в то время пришел некий инок с Афона, иерей, имеющий право облекать в иноческий образ, постригать в монахи. Как узнал об этом Венгр, неведомо, однако умудрился встретиться с пришлецом и Христа ради попросить у него пострижения и спасения. Тот, разумеется, согласился с охотою, и вот в один из дней перестал существовать мирянин по имени Георгий, а появился на свет смиренный инок Моисей.
Странствующий монах ушел своим странным путем, а Венгр гордо ответил на очередные признания Эльжбеты, что теперь он принадлежит Богу, а она на Божье достояние не имеет права посягать. Тут она просто потеряла голову от ярости! Кликнула слуг, повелела распластать его прямо перед ней и бить палками, да так, что и земля напиталась кровью. Само небо стало соперником ей в обладании возлюбленным!
Даже те слуги Эльжбеты, которые давно знали ее, испугались такого взрыва ярости и, избивая Венгра, говорили ему:
— Покорись госпоже своей и исполни волю ее. Если не послушаешься, то на куски раздробим тело твое; не думай, что избежишь мучений; нет, во многих и горьких муках предашь душу свою. Помилуй сам себя, сбрось измочаленные рубища и надень многоценные одежды, избавь себя от ожидающих тебя мук, пока мы не начали еще сильнее терзать тело твое.
Но все было бессмысленно.
— Братья, повеленное вам исполнять — исполняйте, не медлите, — стонал Венгр. — А мне уже никак нельзя отречься от иноческой жизни и от любви Божией. Никакие истязания, ни огонь, ни меч, ни раны не могут отлучить меня от Бога и от великого ангельского образа. А эта бесстыдная и безумная женщина показала свое бесстыдство, не только не побоявшись Бога, но и человеческий срам презревши, без стыда принуждая меня к осквернению и прелюбодеянию. Не покорюсь я ей, не исполню волю окаянной!
Его унесли чуть живого, а Эльжбета зарыдала в голос, как злое, избалованное, капризное дитя, которое не может смириться с тем, что заветный каприз невозможно исполнить.
Она ничего не могла поделать с собой. Была как заколдована, заворожена любовью — злою силою. Чем недостижимей был для нее Венгр, тем сильнее она алкала его.
Изверившись в своих силах, вдова кинулась за помощью к королю.
До Болеслава уже не раз и не два доходили слухи о том, сколько безумств натворила его бывшая любовница ради какого-то раба. Но, сами понимаете, у него имелись дела поважнее, чем думать о дамских глупостях. Однако ему было просто некуда деться, когда Эльжбета собственной персоной предстала перед ним, рухнула на колени и принялась рыдать так отчаянно, что у всякого слышавшего ее невольно начинало ломить в висках и сердце билось с перебоями. Болеслав вспомнил, как сильно любил ее когда-то, эту дурочку, которая, в шелках и бархате, валялась сейчас пред ним во прахе и рассказывала о безнадежной любви к какому-то упрямцу.
— Ты сам, — бормотала она сквозь слезы, — дал мне волю выйти замуж за кого захочу. Я же полюбила одного прекрасного юношу из твоих пленников, и, заплативши за него много золота, выкупила его, взяла его в свой дом, и все, что было у меня, — золото, серебро и всю власть свою даровала ему. Он же все это ни во что вменил. Много раз и ранами и голодом томила я его, но ему и того мало. Пять лет пробыл он в оковах у пленившего его, и вот шестой год находится у меня и за свое непослушание много мук принял от меня, которые сам на себя навлек из-за непреклонности сердца своего. А теперь какой-то черноризец постриг его в монахи. Что повелишь ты мне сделать с ним, так я и сделаю.
Королю пришлось подавить приступ зависти и ревности. Что делает с женщинами любовь, Боже мой! И это та самая Эльжбета, которая играла с сердцами мужскими, словно дитя играет со своими цацками? А вот его, короля, Эльжбета так никогда не любила!
Скрепя сердце согласился он на просьбу исстрадавшейся красавицы — и позвал к себе Венгра, чтобы поговорить с ним по-мужски.
И вот он смотрит на человека, из-за которого Эльжбета совершенно потеряла голову, забыла разум и стыд. Красавец, да, ничего не скажешь… Но есть что-то в нем странное, что-то настораживающее. Болеслав никак не мог понять что… Но просьбу надо выполнять, и он принялся увещевать Венгра:
— Можно ли быть таким бесчувственным, как ты? Стольких ты благ и какой чести лишаешь себя и отдаешься на горькие муки! Отныне, да будет тебе ведомо, жизнь или смерть ожидают тебя: если волю госпожи своей исполнишь, то от нас в чести будешь и великую власть примешь, а ежели ослушаешься, то после многих мук смерть примешь.
И он повернулся к Эльжбете, стоявшей тут же:
— Пусть никто из купленных тобою пленных не будет свободен, но делай с ними что хочешь, как госпожа с рабами, чтобы и прочие не дерзали ослушаться господ своих.
Венгр же посмотрел на короля дерзко:
— А нам, грешным, Господь говорит: «Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит, или какой выкуп даст человек за душу свою?» Что ты мне обещаешь славу и честь, которых сам ты скоро лишишься, и гроб примет тебя, ничего не имеющего! И эта скверная женщина жестоко убита будет, — ткнул он пальцем в Эльжбету и гордо отвернулся.
Да, он отвернулся, однако Болеслав успел увидеть, какая гримаса отвращения исказила его лицо. И он словно прозрел. Король понял, что amp;#769; казалось ему таким странным в облике Венгра.
Болеслав был опытным человеком. Он многое повидал, много знал. И теперь разглядел на лице Венгра отвращение не просто к Эльжбете, а вообще отвращение к женщине. И суть природы Венгра стала ему ясна, как белый день.
Король только головой покачал, предчувствуя, сколько горя придется еще испытать Эльжбете. И ведь что бы он ни сказал своей прежней подруге, та ему ни за что не поверит! Значит, ей придется самой совершить то же открытие, которое совершил Болеслав…
Да, ей будет больно. Но она прозреет.
Он подозвал Эльжбету поближе и шепнул ей:
— Да затащи ты его в свою постель! Нет тебе равной на ложе, ты и мертвого из могилы поднимешь, похотью обуянного! И тот, кто не сотворит с тобой греха, лежа в твоих объятиях, тот и не мужчина вовсе.
Эльжбета утерла заплаканные глаза и улыбнулась благодарно. Да уж… как же она сама не догадалась, что надо делать? Воистину, разум ее помутился от любви.
Поцеловав руку короля, вдова убежала из дворца, сгорая от нетерпения немедленно воплотить в жизнь его совет. Слуги волокли вслед за нею непокорного Венгра, а король с тоской смотрел им вслед, прекрасно понимая, что Эльжбету ждет страшный удар, и искренне желая, чтобы он все же ошибся в Венгре.
К несчастью, он не ошибся…
Эльжбета велела насильно положить Венгра в свою постель, она целовала и обнимала его, она трогала его за тайные уды и целовала их, уподобясь в своем любовном неистовстве и безрассудстве блудницам вавилонским… Но эти самые уды, вместо того чтобы затвердеть, как им самим Творцом положено, оставались мягки и недееспособны, а с лица Венгра не сходило выражение страшного отвращения к обнаженной красавице, которая искушала его.
— Да ты безумен или немощен?! — вскричала в конце концов Эльжбета.
— Напрасен труд твой, — ответил Венгр, кривясь брезгливо. — Не думай, что я безумный или что не могу этого дела сделать: я, ради страха Божия, тебя гнушаюсь, как нечистой.
Оторвавшись от него, Эльжбета взглянула на его равнодушное тело, на чресла его, выражавшие только ледяное презрение к ней, и вспомнила слова Болеслава: «Тот, кто не сотворит с тобой греха, лежа в твоих объятиях, тот и не мужчина вовсе».
И вот теперь настало для нее страшное мгновение прозрения. Поняла она, что расточала и любовь, и преклонение, и ласки воистину не мужчине, а тому, кто служил забавой мужчинам, а потому утратил вкус к женской красоте и женской любви.
Ох, как разъярилась Эльжбета, вспомнив и потерянное время, и попусту растраченные силы, и любовь, которую бросала она под ноги этому… этому НЕ-мужчине, словно жемчуг метала пред свиньями. Умерла в ней любовь, осталось только желание расквитаться за свое унижение. Поруганная, оскорбленная гордость диктовала ей самые изощренные планы мести, и она воплотила их все.
Для начала Эльжбета приказала давать Венгру по сто ударов палками и плетьми каждый день, а потом велела обрезать тайные его уды, сказав:
— Не пощажу его красоты, чтобы не насытились ею другие.
Летопись стыдливо опустила здесь существительное, которое было произнесено после прилагательного «другие»…
Долго лежал Венгр, как мертвый, истекая кровью, едва дыша. Но все-таки выжил.
А король Болеслав только угрюмо кивнул, когда узнал, чем кончилось дело между Эльжбетой и Венгром. И тут начали его донимать монахи, прослышавшие, что над одним из братьев их было учинено такое издевательство, что он так пострадал от рук грешной женщины. Настойчивость их доходила до того, что они требовали казнить Эльжбету, на крайний случай — изгнать ее из Польши. В ответ Болеслав только расхохотался и пригрозил изгнать из пределов королевства именно черноризцев!
Неведомо, решился бы он осуществить сие намерение или нет, однако настигла его внезапная смерть: воспалилась старая рана короля-воина, заразилась кровь — и болезнь свела его в могилу. В тот недолгий миг, пока страна пребывала в безвластии, поднялся мятеж во всей Польской земле: кто мог, пытался занять престол, на господ своих пошли и слуги, смешалось все… много было жертв. Погибла и Эльжбета, а кто убил ее, неведомо. То ли стала она жертвой случайного злодея, а может быть, кто-то свел с нею старые счеты.
Венгр же после кровавой бойни счел себя вольным человеком и пошел в Печерскую обитель монашествующих, где попросился к преподобному Антонию. Поскольку он имел на себе знаки такого мученичества, которых удостаиваются только избранные страдальцы, приняли его с охотой. Отныне он жил той жизнью, коя одна была и ему мила, и богоугодна, подвизаясь в молитве, посте, бодрствовании и во всех иноческих добродетелях, и победил все козни нечистого врага до конца, как гласит летопись.
Постепенно поучительная история его жизни стала известна многим монахам, и с особенным почтением смотрели на него те, кто был томим плотскими страстями и не мог справиться с ними.
Многие читали молитвы, обращенные к Моисею Угрину (теперь называли его на старинный лад только этим именем), и молитвы те дошли до наших дней:
Радуйся, преподобне отче Моисее, дивный чудотворче и чистоты поборниче. Радуйся, целомудрия дивное светило. Pадуйся, благоуханный крине девства и нетления. Радуйся, плоть духу покоривый. Pадуйся, вся по Бозе терпети изволивый. Радуйся, козни вдовы бодро отразивый. Радуйся, на высоту безстрастия возшедый. Радуйся, не приложивый сердца к земному наслаждению. Радуйся, твердее адаманта в терпении явивыйся, ибо кровию твоею, яко багряницею, Церковь украсися. Pадуйся, за девственную чистоту от Господа венчанный. Pадуйся, не словом точию, но множае паче делом нас поучаяй. Радуйся, преподобне отче Моисее, дивный чудотворче и чистоты поборниче.«Не словом точию, но множае паче делом нас поучаяй…» Сию молитву преподобный Моисей усердно воплощал в жизнь. В одном из кондаков (молений), к нему обращенных, сказано: «Странное чудо является притекающим к тебе, блаженне Моисее, ибо даровал тебе Господь побеждати страсти. Также подражая первому Моисею, творящему жезлом чудеса, жезлом страсть братнюю исцелил еси. Мы же, благодаря о сем Бога, даровавшего тебе таковую крепость, с любовию взываем: аллилуйа».
Но не жезл Моисея Угрина обладал волшебными свойствами, нет, не жезл. В его собственных иссохших, казалось бы, немощных руках оставалось еще достаточно силы, чтобы отбивать начисто всякое плотское помышление у нестойкой молодой братии. Удар по чреслам — и монах становился навеки бессилен как мужчина.
Жесток был Моисей Угрин к ним, слабым инокам, подверженным греху и искушению. Жесток был он по отношению к любви плотской, ибо сам некогда стал ее жертвой… жертвой мести за любовь.
* * *
Осталось добавить одну только цитату из Печерского Патерика:
«Своими мощами святой Моисей побеждает и по смерти нечистые страсти, как уведал святый многострадальный Иоанн. Ибо он, укрывшись в пещере и врыв себя до рамен[12] против мощей преподобного Моисея, долго страдал, побеждая в себе телесную страсть, и напоследок услышал глас Господень:
— Да помолится мертвецу, находящемуся против него, сему преподобному Моисею Угрину!
Когда многострадальный исполнил сие, немедленно был избавлен от нечистой страсти. Также и другого брата, страдавшего от той же мерзости, избавил тот же святой Иоанн, когда одну кость от мощей преподобного Моисея дал одержимому страстью, чтобы он приложил к своему телу, как о том рассказано в житии преподобного Иоанна многострадального. И нам, избавившимся от всякой нечистоты, да будет преподобный Моисей вождем, направляющим по пути спасения молитвами своими; да поклонимся с ним в Троице поклоняемому Богу, Ему же слава ныне и присно и во веки веков. Аминь».
Обреченная страдать (Царица Евдокия Лопухина, Россия)
Царица Наталья Кирилловна долго проклинала тот день, когда впервые увидела этого человека. А ведь в ту минуту чудилось, будто принес он поддержку и спасение… Звали его полковник Франц Лефорт, и он привел своих солдат на помощь молодому царю Петру, искавшему в Троице-Сергиевом монастыре спасение от сестры своей, царевны Софьи, замыслившей его убийство и захват власти. Вслед за Лефортом в монастырь прибыли и другие иноземные офицеры, и стрелецкий Сухарев полк, оставшийся верным Петру. Но они все же пришли потом, дорожку им проложил именно Франц Лефорт, а оттого он и награжден был щедрее других, и в чинах повышен, в генералы произведен, и облечен доверием молодого государя. Только ведь всем известно — судьба одной рукой дает, другой норовит отнять, а потому Лефорт стал молодому царю другом, а матери его да жене — злейшим и коварнейшим врагом.
Государыня Наталья Кирилловна, когда женила сына, думала оторвать его от иноземцев, с которыми он пропадал на Плещеевом озере, в Переславле-Залесском. Там строил он какие-то ладьи, флотилию какую-то ладил… Больно нужна она была кому-то, флотилия та, еще утонет дитя или застудится насмерть в ледяной водице! Вот и порешила царица отвлечь сына женитьбой на молодой красавице.
Она присматривала будущую невестку среди самых достойных московских боярышень и наконец приглядела девятнадцатилетнюю Евдокию Лопухину — красавицу, добрую, нежную, к тому ж хорошего, хоть и обедневшего рода. Небось Лопухины будут руки лизать царю Петру, многочисленных сторонников он приобретет через брак. А то, что Евдокия на три года старше Петра, никак не могло, по мнению Натальи Кирилловны, делу повредить, ибо жена и должна быть крепче, умней, опытней такого супруга, каким был Петруша. У него вечно ветер в голове, что с него возьмешь…
Свадьбу сыграли 27 января 1689 года, но счастье супружеское длилось недолго. Расчеты Натальи Кирилловны не оправдались: Евдокия не смогла удержать Петра около себя. Водяные забавы влекли его куда сильней, чем нежность молодой жены. И Наталья Кирилловна немедля на невестку озлобилась: пошто не сумела Петенькой владеть, да так, чтобы и шагу в сторону шагнуть не смел, не желал?
Да и не только Евдокия вызвала недовольство царицы — все Лопухины, на которых она так надеялась, оказались людьми злыми, скупыми, не знающими нимало в обхождении придворном, ябедниками, умов самых низких. Кругом начали шептаться, мол, если придут в милость и во власть Лопухины, то всем государством завладеют. И сам Петруша матушку укорял за то, что таких родственников скандальных ему подсудобила и жену немилую. Однако все это были вполне переживаемые мелкие нелады… А вот когда явился при дворе Франц Лефорт, тут-то и схватилась Наталья Кирилловна за голову.
Ведь увенчав себя шапкой Мономаха и взойдя на трон, Петр стал самодержавным государем, сам себе и всей державе Русской хозяином сделался, значит, считал, что все ему теперь позволено, от высокого до низменного. И когда невмоготу становилось ему терпеть монаршее благолепие, он облачался в кургузое и нелепое немецкое платье, натягивал на свои длинные, голенастые ноги женские чулки, всовывал ступни в башмаки с пряжками, прятал крутые кудри под париком, склеенным из волос каких-то иноземных баб, — и только его и видели! Теперь он не только на озерах пропадал, но и в Иноземной слободе. И слухи, которые о его подвигах тамошних доходили, повергали Наталью Кирилловну в ужас.
Лефорт, проклятущий Лефорт, сводил его то с одной девкой непотребной, то с другой. Распробует какую-нибудь сам, словно придворный отведыватель блюд, а потом подсовывает распочатую непотребницу русскому царю. Наталья Кирилловна слышала о дочери ювелира Боттихера, потом о дочери кабатчика Монса и не сомневалась, что имя девкам — легион.
А все почему? Потому что жена Петрушу не прельщает! Вот она-то, Наталья, в свое время так царя-батюшку Алексея Михайловича к себе причаровала, что он и глянуть в сторону не смел, не то чтобы по чужим постелям шарахаться. А Дунька Лопухина… Тьфу на нее, одно слово!
Наталья Кирилловна совершенно напрасно сравнивала сына с отцом, с государем Алексеем Михайловичем. Хоть и любил Алексей Михайлович постельные утехи, однако сравниться с Петром по одержимости никак не мог. То есть они вообще были как небо и земля. Лейб-медик Вильбуа сказал о молодом государе однажды: «В теле его величества сидит, должно быть, целый легион бесов сладострастия». Петр просто физически не мог оставаться верным одной женщине, тем более — такой робкой и стыдливой, какой была Евдокия Лопухина. Но даже окажись она, как принято выражаться теперь, раскованной, это вызвало бы у мужа только лютый гнев и ревность. Что желательно видеть в любовнице, то не прощается жене! Жена должна рожать, а не затейничать.
Евдокия, впрочем, исправно рожала: сначала сына Алексея, потом еще двух сыновей — Александра и Павла, однако они умерли во младенчестве, а старший остался жив. Но и сын был так же немил отцу, как и жена — мужу. Всё, как родила младших, так будто отрезало: ни ночи больше не проводил с нею Петр. Дневал и ночевал в Немецкой слободе.
Тошно было Евдокии. Доходили слухи о «Монсихе», которая прочно пришила к своей юбке ее, Евдокииного, мужа. Уж и этого было бы довольно, чтобы чувствовать себя несчастной. А тут еще матушка-свекровушка знай шипела, каждый шаг охаивала, каждое слово переговаривала, поедом ела. Да только ли она одна? И золовка, Наталья, туда же… Да разве дело, чтоб сестра брата так ревновала, как она ревновала Петра? Любовнице такое пристало, но не родной сестре. Или… или правду шепчут старухи по темным, тайным кремлевским закоулкам? Шепотки, невзначай улавливаемые Евдокией, приводили ее в ужас, заставляли отмахиваться, открещиваться, как от великого греха… разве ж кровосмешение — не великий грех? Она заставляла себя не верить в сие, но стоило увидеть косящие от злости глаза царевны Натальи, как волей-неволей верилось в самое дурное.
И все же Евдокия любила мужа и любовь свою выказывала в немудреных письмах:
«Государю моему радости, царю Петру Алексеевичу. Здравствуй, свет мой, на множество лет! Просим милости, пожалуй, государь, буди к нам из Переславля не замешкав. А я при милости матушки жива. Женишка твоя Дунька челом бьет».
«Лапушка мой, здравствуй на множество лет! Да милости у тебя прошу, как ты позволишь ли мне к тебе быть? И ты пожалуй о том, лапушка мой, отпиши. За сим женка твоя челом бьет».
«Предражайшему моему государю-радости, царю Петру Алексеевичу. Здравствуй, мой свет, на многие лета! Пожалуй, батюшка мой, не презри, свет, моего прошения: отпиши, батюшка мой, ко мне о здоровьи своем, чтоб мне, слыша о твоем здоровьи, радоваться. А сестрица твоя царевна Наталья Алексеевна в добром здоровьи. А про нас изволишь милостью своей памятовать, и я с Алешенькою жива. Женка твоя Дунька».
Сына Евдокия растила в любви к отцу, и Алексей тоже писал — трогательно и почтительно (с шести лет его начали учить грамоте): «Государю моему батюшку, царю Петру Алексеевичу, сынишка твой Алешка, благословения прося, и челом бьет. Прошу у тебя, государя-батюшки, милости: пожалуй, государь-батюшка, отпиши ко мне про свое многолетное здоровье, чтобы мне, государь-батюшка, слыша про твое многолетное здоровье, радоваться. Изволишь, государь-батюшка, милостью своей напаметовать, и тетушка и матушка в добром здравии, и я молитвами твоими при милости их жив. Сын твой Алексей бьет покорно челом».
А между тем над головой Евдокии, которая писала свои искренние, немудреные эпистолы, уже собирались тучи, и совсем сгустились они после смерти Натальи Кирилловны. Да-да, как ни странно, свекровь сдерживала своеволие Петра, своим пристрастием к старинной нерушимости брака утихомиривала его нежелание жить с Евдокией. Пусть и сама не любила ее, но — что Бог соединил, человек не разрушает.
Разрушает, еще как! Наталья Кирилловна умерла и не могла в том убедиться, а Евдокии вот привелось…
В 1697 году Петр и несколько ближних к нему людей (в их числе был непременный Франц Лефорт!) отправились в путешествие за границу. Переезжая из Курляндии в Пруссию, из Бранденбурга в Голландию, из Англии в Австрию, Петр не только учился западной науке и культуре, перенимал европейский политес. Он обдумывал свою личную жизнь и все отчетливее понимал, что не желает быть связанным с прежней, ненавидимой им старой Русью ни в чем. Даже через жену. Евдокия была в его глазах олицетворением боярской Руси — ненавидимой, постылой, отсталой. Он решил развестись с женой и окончательно отряхнуть с себя прах прошлого. Новую страну задумал он строить, новую женщину взять себе в царицы…
Дело было, впрочем, не только в нелюбви к самой тишайшей и скромнейшей Евдокии. Накануне отъезда Петра в Европу был открыт заговор Соковнина, Циклера и Пушкина, покушавшихся на жизнь царя. Был розыск, заговорщиков казнили, открыли их сообщников. Среди них оказалось много Лопухиных, пусть и дальних, но все же родственников царицы. Теперь Петру, который после панического бегства своего в Троицу был склонен к истерической панике (характер у него вообще был истерический!), чудилось, что гнездо предателей свито в самом Кремле. В том старом, шепотками и шелестами пронизанном Кремле, в его закоулках, в его покоях, в покоях Евдокии…
Напрасно продолжала она писать свои наивные письма, напрасно пеняла мужу на его охлаждение:
«Предражайшему моему государю, свету радости, Царю Петру Алексеевичу. Здравствуй, мой батюшка, на множество лет! Прошу у тебя, свет-милости, обрадуй меня, батюшка, отпиши, свет мой, о здоровье своем, чтобы мне, бедной, в печалях своих порадоваться. Как ты, свет мой, изволил пойтить, и ко мне не пожаловал, не отписал о здоровье ни единой строчки. Только я, бедная, на свете бесчастная, то не пожалуешь, не пишешь о здоровьи своем. Не презри, свет мой, моего прошения. А сестрица твоя, Наталья Алексеевна, в добром здоровьи. Отпиши, радость моя, ко мне… И я с Алешенькою жива».
Да, напрасно… Петр принял решение развестись с женой и поручил своему дяде, Льву Кирилловичу Нарышкину, а потом боярину Тихону Никитичу Стрешневу склонить Евдокию к пострижению в монастырь. Затем он мечтал жениться на Анне Монс.
Однако Евдокия от пострижения отказалась. Приступить вплотную к ее уговорам помешало страшное событие: стрелецкий бунт. Вернее сказать, бунт случился, когда Петр еще был в отъезде, к его возвращению мятеж подавили, но осталось сделать главное: казнить стрельцов, возмутившихся против царя.
«Царь, Лефорт и Меншиков взяли каждый по топору. Петр приказал раздать топоры своим министрам и генералам. Когда же все были вооружены, каждый принялся за свою работу и отрубал головы. Меншиков приступил к делу так неловко, что царь надавал ему пощечин и показал, как должно отрубать головы», — свидетельствовал в своих записках современник и свидетель описываемых событий, Георг Гельбиг.
То есть руки Петра были по локоть обагрены кровью, сердце зачерствело до немоты, когда он вновь вернулся к решению судьбы Евдокии. Он слышал предсмертные хрипы людей за секунду до того, как отрубал им головы, — разве могли его смягчить слезы женщины, которую он не любил, которая мешала ему? Он и ее убил бы, но такая слава стала бы уж слишком скандальной. Ведь всем известна была нежная любовь к нему Евдокии, не виновной была перед мужем ничем, совершенно ничем, кроме одного: он хотел другую.
Впрочем, рассудить этак у Петра ни ума, ни сердца не хватило. Снова пришел на помощь Лефорт, за что ему и спасибо.
После возвращения Петр встретился с Евдокией не сразу, а лишь через две недели. Все это время он жил у Анны Монс. Да и для судьбоносного разговора с женой отправился не в Кремль, а в дом приближенного своего, Андрея Виниуса. Туда же привезли Евдокию. Долго шел разговор… Домашние слышали слезы царицы, жалобы: опоили-де тебя зельями, остудила-де тебя царевна Наталья Алексеевна, она уже и сына от меня велела увезти… «За что мстишь мне, не за любовь ли мою?!» — рыдая, спрашивала она. В ответ раздавались угрозы и крики Петра. И все же Евдокия идти в монастырь не согласилась, а в заступники себе призвала патриарха Адриана.
Наивная женщина… Доводы семидесятилетнего иерарха церкви ничего не значили для своевольного Петра. Он накричал на священника, заявил, что никому не позволит вмешиваться в свои семейные дела. И вот спустя три недели царицу посадили в закрытый возок и под конвоем солдат-преображенцев отвезли в Суздаль, в Покровский девичий монастырь, где и постригли под именем Елены.
Первое время ей было совсем плохо. Тесная келейка, ни копейки не определено на содержание. По сути дела, Петр оставил ее умирать с голоду. Помогали монахини. Скупо, но помогали родственники, разжалобившись ее письмами: «Здесь ведь ничего нет: все гнилое. Хоть я вам и прескушна, да что же делать. Покамест жива, пожалуйста, кормите, да поите, да одевайте нищую!»
Царица такое писала! Вернее, бывшая царица…
Местный архимандрит Досифей, жалея ее и стыдясь за царя, взялся доставлять посылки, подарки, деньги. Тоскуя по Евдокии, в Суздаль постепенно перебрался весь ее двор, даже любимый «карла» Иван Терентьевич. Росло в Москве недовольство нововведениями Петра — росла и помощь Евдокии, в которой теперь видели олицетворение всей страдающей под гнетом «чертушки» России. А тут еще прошел слух, будто Досифей, который славился своими пророчествами, предрек: Евдокия еще вернется ко двору, еще будет царицей.
О времени он не сказал, но все почему-то решили, что совсем скоро.
В монастыре остерегались принуждать ее носить монашеское. Она ходила в мирском, красивом и богатом платье, жила уже не в келейке убогой, а в отдельном домике, принимала у себя суздальского архиерея и воеводу, развлекалась старинным задельем всех русских цариц — вышиванием жемчугом и златом, завела у себя песельниц, ела что хотела. А все же тоска ее донимала. Даже не от заточения — свободней ли было в Кремле? Тоска была по сыну… и женская тоска. Правда, сестра Петра, царевна Марья Алексеевна, сообщала, как живет-поживает царевич Алексей. А с томлениями женского тела приходилось смиряться постом и молитвою.
Так прошло десять лет.
За это время Петр «Россию вздернул на дыбы», перемежая великие государственные свершения со столь же размашистым разгулом. Он серьезно помышлял о женитьбе на Анне Монс, строил корабли в Воронеже, учинял «всепьянейшие соборы», хоронил Лефорта и горько по нему горевал, возвеличивал Алексашку Меншикова, воевал со Швецией, был бит Карлом XII и сам его бивал, путешествовал по Европе, знакомился с юным королем Людовиком XV и даже на руках его носил, бормоча при том: «Я несу на руках всю Францию!», ссорился с сыном, огорчаясь его небрежением к государственным делам…
Между делом Петр уличил свою возлюбленную Анхен в измене с саксонским посланником Кенигсеном. Угораздило того поскользнуться на скользком бревне, переброшенном через ручей, упасть да и шею сломать, а в карманах его нашли влюбленные письма Анны…
Петр помиловал изменницу. Более того — дал согласие выйти ей замуж за прусского резидента Георга Иоганна фон Кайзерлинга… Правда, семейная жизнь ее недолго длилась — Кайзерлинг умер через четыре месяца после свадьбы. Потом Анна снова устраивала свою судьбу, и царь на это смотрел благосклонно. Он простил, вырвал предательницу из сердца, забыл ее и полюбил другую — Марту Скавронскую, Катеринушку свою ненаглядную… Но все же не отправил Анну в монастырь, на плаху не послал.
Неужели смягчилось его сердце? Неужели он способен быть человеколюбивым и добрым? Всякие ползли тогда слухи… Не они ли заставили Евдокию потерять осторожность?
Не только они. Прежде всего — ее сердце, которое так жаждало любви, что однажды позволило себе это сделать. Позволило себе полюбить!
Прошло десять лет с того дня, как Евдокия поселилась в Покровском монастыре. И вот однажды эконом-ключарь монастыря, Федор Пустынный, бывший также и духовником Евдокии, привел к ней старинного ее знакомца — офицера-преображенца Степана Глебова. Ему было тридцать семь лет, как и ей, Евдокию он знал с детства: когда-то они жили соседями на Солянке в Москве, близ Ивановского монастыря. Дружили их родственники — Лопухины и Глебовы, служили вместе. Глебов приехал в Суздаль набирать рекрутов, ну и решил заодно навестить старинную знакомую.
О ее делах была наслышана вся страна, спрашивать у Евдокии особо было нечего, вот разве на свое семейное неустройство пожаловаться: уже шестнадцать лет был Степан Богданович женат, да бессчастно, потому что жена тяжело болела. «Болит у нее пуп и весь прогнил, все из него течет, жить с ней нельзя», — говорил он.
Евдокия его жалела. Он жалел ее. По-русски жалеть означает любить.
Степан задержался в Суздале. Прислал опальной царице дорогие подарки: две шкурки песцов, две шкурки соболей и отрез парчовой ткани. Снова и снова заезжал в монастырь. Подолгу задерживался в келье Евдокии. А однажды пришел тайно, средь ночи, и остался до утра.
Удивительное дело — об этом знали все монахини. Знали — и не судили, не доносили, молчали мертво. Очень жалели Евдокию? Или боялись грозы, которая неминуемо обрушится на обитель, если вскроются те дела, которые в ней творились? Или рассчитывали на милости, которыми пожалует их Евдокия, когда вновь окажется на престоле? Наверное, и то, и другое, и третье сыграло тут свою роль.
Шло время. Степан Глебов то уезжал из Суздаля, то вновь туда нагрянывал — все же он был государев человек, себе не принадлежал. Любовники встречались, а в разлуке письмами обменивались, отчаянно надеясь, что вот да вымолит себе Степан Богданович у государя место воеводы в Суздале, и тогда…
«Не покинь ты меня, ради Господа Бога, сюды добивайся!» — писала любовнику Евдокия.
А время шло, и жизнь шла, и новые тучи собирались над головой царицы, которую словно бы от самого рождения обрекли на страдания из-за любви.
И поводом к новым страданиям стала та нелюбовь к отцу, которую питал царевич Алексей.
Он чужд и петровским забавам, и петровским государственным устремлениям. Напрасно отец пытался приохотить его к разгулу — Алексей был скорее сын своей матери, чем отца. Для него европейская цивилизованность, которую пытался насадить Петр, означала только неуемный разврат, а главное — какую-то неприятную суету, разрушение вековых устоев быта и веры, бесконечные войны… Он не мог простить отцу разлуки с матерью и ее заточения. И если он согласился быть крестным отцом новой отцовской любовницы, Марты Скавронской, крещенной Екатериной Алексеевной, то это не значило, что сам примирился с отцом.
Замечательно писал Н. Костомаров: «После того, что случилось между царем Петром и царицей Евдокиею, сердце царевича Алексея неизбежно должно было склониться на сторону матери; сын не мог полюбить отца, и по мере того, как отец упорно держал несчастную мать в утеснении, в сердце сына укоренялись нелюбовь и отвращение к родителю. Так должно было произойти, так и случилось. Алексей не мог любить отца после того, что отец сделал с его матерью. Естественно, должно было возникнуть в нем и отвращение от того, что было поводом к поступку отца с его матерью или что близко способствовало гонению, которое терпела его мать. Петр отверг Евдокию оттого, что ему нравилась другая женщина, а эта другая понравилась ему по иноземным приемам; в Евдокии Петру казались противными ее русские ласки, русский склад этой женщины. Петр осудил невинную супругу на монастырскую нищету в то самое время, когда объявил гонение русскому платью и русской бороде, русским нравам и обычаям, и естественно сыну было возненавидеть иноземщину за свою мать и стало ему в противоположность с иноземщиной дорогим все московско-русское… Все, что страдало с его матерью, должно было возбуждать в нем сочувствие; разом с матерью терпел русский народ, разоряемый завоевательными предприятиями Петра, — и вот у сына должно было образоваться противное отцовским воинственным влечениям миролюбивое настроение. Алексей не любил ни войны, ни военщины, не пленялся завоеваниями и приобретениями: его идеал был мир и покой. Одним словом, все, что особенно любил отец, должно было сделаться особенно противным сыну, и все, что ненавидел отец, тянуло к себе сыновнее сердце».
А вот блестящая, очень точная психологическая характеристика Алексея, данная историком С.М. Соловьевым в «Истории России с древнейших времен»:
«Из дошедших до нас источников мы не можем изучить в подробности характера Евдокии Федоровны и потому не считаем себя вправе решать вопрос, был ли похож на мать царевич Алексей. Но нам известен достаточно характер отца, известен и характер деда, и мы имеем полное право сказать, что царевич, не будучи похож на отца, был очень похож на деда — царя Алексея Михайловича. Царевич был умен: в этом мы можем положиться на свидетеля самого верного и беспристрастного, на самого Петра, который писал сыну: «Бог разума тебя не лишил». Царевич Алексей был охотник приобретать познания, если это не стоило большого труда, был охотник читать и пользоваться прочитанным; сознавал необходимость образования, необходимость для русского человека знать иностранные языки. Вообще, говоря о борьбе старого с новым в описываемое время, о людях, враждебных Петру и его делам, и включая в это число собственного сына его, должно соблюдать большую осторожность, иначе надобно будет поплатиться противоречием. Мы видели, что в России прежде Петра сознана была необходимость образования и преобразования, прежде Петра началась сильная борьба между старым и новым; явились люди, которые объявили греховною всякую новизну, всякое сближение с Западом и его наукою. Но не одни эти люди, не одни раскольники боролись с Петром. До Петра были люди, которые обратились за наукою к западным соседям, учились и учили детей своих иностранным языкам, выписывали учителей из-за польской границы. Но мы видели, что это направление, обнаружившееся наверху русского общества при царе Алексее Михайловиче, царе Федоре Алексеевиче и правительнице Софье Алексеевне, явилось недостаточным для Петра; с учеными монахами малороссийскими и белорусскими, с учителями из польских шляхтичей, которые могли выучить по-латыни и по-польски и внушить интерес к спорам о хлебопоклонной ереси, — с помощью этих людей нельзя было сделать Россию одною из главных держав Европы, победить шведа, добиться моря, создать войско и флот, вскрыть естественные богатства России, развить промышленность и торговлю; для этого нужны были другие люди, другие средства, для этого нужна была не одна школьная и кабинетная работа, для этого нужна была страшная, напряженная деятельность, незнание покоя; для этого Петр сам идет в плотники, шкипера и солдаты, для этого призывает всех русских людей забыть на время выгоды, удобства, покой и дружными усилиями вытянуть родную землю на новую необходимую дорогу. Многим этот призыв показался тяжек. К недовольным принадлежали не раскольники, которые оставались верны своему старому, основному взгляду, только сильнее убеждались в пришествии антихриста; к недовольным принадлежали не одни низшие рабочие классы, которые без ясного сознания цели вдруг увидали на себе тяжкие подати и повинности; к недовольным принадлежали люди образованные, которые сами учились и учили детей своих, которые были охотники побеседовать с знающим человеком, с духовным лицом, а побеседовав, попить и понапоить ученого собеседника, которые были охотники и книжку читать ученую или забавную, хотя бы даже на польском или латинском языке, употребить иждивение на собрание библиотеки, были не прочь поехать и за границу, полечиться на водах и посмотреть заморские диковины, накупить разных хороших вещей для украшения своих домов; одним словом, они были никак не прочь от сближения с Западною Европою, от пользования плодами ее цивилизации, но надобно было сохранять при этом приличное сану достоинство и спокойствие; зачем эта суетня и беготня, незнание покоя, покинутие старой столицы, старых удобных домов и поселение на краю света, в самом непригожем месте? Зачем эти наборы честных людей, отецких детей в неприличные их роду службы и работы? Зачем эта долголетняя война, от которой все пришли в конечное разорение? И царь Алексей Михайлович вел долгую и тяжелую войну, но зато православных черкас защитил от унии и Киев добыл; а теперь столько крови проливается и казны тратится все из-за этого погибельного болота.
Царевич Алексей Петрович по природе своей был именно представителем этих образованных русских людей, которым деятельность Петра так же не нравилась, как и раскольникам, но которые относительно нравственности побуждений своих уступали жителям Выгорецкого скита и Керженских лесов. Царевич Алексей Петрович был умен и любознателен, как был умен и любознателен дед его — царь Алексей Михайлович или дядя — царь Федор Алексеевич; но, подобно им, он был тяжел на подъем, не способен к напряженной деятельности, к движению без устали, которыми отличался отец его; он был ленив физически и потому домосед, любивший узнавать любопытные вещи из книги, из разговора только; оттого ему так нравились русские образованные люди второй половины XVII века, оттого и он им так нравился. Россия в своем повороте, в своем движении к Западу шла очень быстро; в короткое время она изживала уже другое направление; царевич Алексей, похожий на деда и дядю, был образованным, передовым русским человеком XVII века, был представителем старого направления; Петр был передовой русский человек XVIII века, представитель иного направления: отец опередил сына! Сын по природе своей жаждал покоя и ненавидел все то, что требовало движения, выхода из привычного положения и окружения; отец, которому по природе его были более всего противны домоседство и лежебокость, во имя настоящего и будущего России требовал от сына внимания к тем средствам, которые могли обеспечить России приобретенное ею могущество, а для этого нужна была практическая деятельность, движение постоянное, необходимое по значению русского царя, по форме русского правления. Вследствие этих требований, с одной стороны, и естественного неодолимого отвращения к выполнению их — с другой, и возникали изначала печальные отношения между отцом и сыном, отношения между мучителем и жертвою, ибо нет более сильного мучительства, как требование переменить свою природу, а этого именно и требовал Петр от сына».
И вот в конце концов гибельные противоречия между отцом и сыном дошли до того, что в 1716 году царевич Алексей был заподозрен в измене, спустя год — привезен из заграницы в Петербург, брошен в тюрьму, подвергнут пыткам… То ли от них он умер, то ли рукой Петра был убит — никто не знает. Но при сыске над царевичем открылось многое, касаемое других людей, в том числе Евдокии.
Выяснилось, в частности, что Алексей тайком ездил в Суздаль. Но мало того — он переписывался с матерью, в чем ему помогала сестра самого государя Марья Алексеевна. Открылся также сам образ жизни Евдокии в Суздале, совсем даже не монастырский — гостей полон дом, а среди тех гостей и власти суздальские, и пророк какой-то местный, который наущает ее, будет она-де на престоле… А самое главное, завела она себе, по-старинному выражаясь, сударика.
Петр озверел…
В Суздаль был немедленно послан капитан-поручик Преображенского полка Григорий Скорняков-Писарев, известный своим сыскным азартом и преданностью царю. При нем находилась команда солдат. Скорнякову-Писареву предписано было арестовать и доставить в Москву, в Преображенский приказ, инокиню Елену, сиречь бывшую жену царя Евдокию. 10 февраля 1718 года команда прибыла в Суздаль и двинулась к обители. Здесь Скорняков-Писарев велел солдатам оставаться на карауле, а сам отправился в Покровский монастырь, причем умудрился войти не в ворота, а в какую-то боковую калитку, о которой вызнал заранее у местных жителей, кого застращав, кого подкупив.
Сия невоенная хитрость помогла ему оказаться в келье Елены — Евдокии неожиданно для нее. Захваченная врасплох, она смертельно испугалась. Уже кое-какие доказательства вины ее были налицо: одета была она отнюдь не в монашескую рясу и плат, а в телогрейку и повойник, что было несомненным нарушением монашеского устава.
Ни слова не сказав с побледневшей, лишившейся дара речи Евдокией, Скорняков-Писарев метнулся к сундукам и, разворошив все, что там лежало, отыскал-таки два письма от царевича Алексея.
Письма, кстати, были свойства самого невинного, какие могут писать разлученные мать и сын, мечтающие о встрече, однако несомненно изобличали факт «преступного сношения».
Заполучив первые вещественные доказательства, Скорняков-Писарев приободрился и отправил человека за своей воинской командою. Прибыли солдаты, и в монастыре грянул повальный обыск. Результаты его заставили было ретивого командира несколько приуныть… однако лишь до той поры, пока в Благовещенской церкви не нашли записку, в которой Лопухину именовали «благочестивейшей великой государыней, царицей и великой княгиней Евдокией Федоровной» и желали ей и царевичу Алексею «благоденственное пребывание и мирное житие, здравие же и спасение и во всем благое поспешение ныне и впредь будущие многие и несчетные лета, во благополучном пребывании многая лета здравствовать».
Эт-то какая еще благочестивейшая великая государыня, царица и великая княгиня Евдокия Федоровна?! О ней давно забыть надлежит, ведь ее заменила смиренная инокиня Елена!
То есть должна была заменить — по государеву указу. А коли не сделала того, стало быть, налицо не просто умысел преступный, но и прямое неповиновение!
Заговор против государя…
Уже 14 февраля, переворошив в монастыре все, что только можно было переворошить, Скорняков-Писарев арестовал-таки Евдокию и многих других монахинь, а также нескольких священников и монахов мужской обители. Их всех привезли в Преображенский приказ в Москву, и уже 16 февраля начался строгий розыск.
Первым — и очень суровым в те времена — обвинением Евдокии предъявили то, что она сняла монашеское платье вообще и жила в монастыре не по уставу, мирянкой. Отпираться было невозможно, ведь Скорняков-Писарев лично сам застал Евдокию одетой отнюдь не по-монашески. Вот тут ей припомнили и двор, приехавший к ней из Москвы, и трапезы отнюдь не монастырские, и прием гостей — воевод да родственников, и светскую запретную переписку…
Но главный удар ждал бывшую царицу впереди, когда старица-казначея Маремьяна, сверх меры испугавшись грозящих кар (да и то сказать, Скорняков-Писарев стращал всех, сил не жалея!), рассказала о том, что к Евдокии много раз приезжал из Москвы офицер-преображенец Степан Глебов, и не просто приезжал, а в келью к ней хаживал… причем не только днем, но и оставался на всю ночь до утра.
Ну ладно Маремьяна… Она славилась в монастыре своим неуживчивым нравом, и не было на свете человека, кому она не готова была б напакостить. Но среди монахинь имелась у Евдокии близкая подруга, сестра Каптелина. Она тоже оказалась боязлива и готова на все, чтобы кары за потачку бывшей царице избегнуть, а потому торопливо, немедля вслед за Маремьяной, дала показания в том, что «к ней-де, царице-старице Елене, езживал по вечерам Степан Глебов и с нею они «целовалися и обнималися. Я тогда выхаживала вон; письма любовные от Глебова она принимала и к нему два или три письма писать мне велела».
Итак, имя Глебова было названо. Его немедля арестовали, учинили обыск, при котором обнаружили некий пакет. В пакете лежали письма царицы Евдокии «числом девять штук».
В них Евдокия просила Глебова уйти с военной службы и добиться места воеводы в Суздале, советовала, как добиться успеха в том или ином деле. А все остальное — из мира самых нежных чувств.
Такие письма могла бы писать влюбленная, разлученная с возлюбленным. А Евдокия и была разлучена с Глебовым. Такие письма могла бы писать мужу нежно любящая его жена. А ведь Глебов и был ей фактически муж. Куда больше муж, чем царь Петр, с которым Евдокия, между прочим, до сих пор оставалась не разведена…
Но ни словом не было здесь упомянуто о Петре, о недовольстве его правлением, о заговоре каком-то, о притеснениях и обидах. Ни слова, которое вызывало бы подозрения в государственной измене. Только нежность, только любовь и забота, только смиренные жалобы…
«Где твой разум, тут и мой; где твое слово, тут и мое; где твое слово, тут моя и голова: вся всегда в воле твоей!»
«Чему-то петь, быть, горесть моя, ныне? Кабы я была в радости, так бы меня и дале сыскали; а то ныне горесть моя! Забыл скоро меня! Не умилостивили тебя здесь мы ничем. Мало, знать, лице твое, и руки твоя, и все члены твои, и суставы рук и ног твоих, мало слезами моими мы не умели угодное сотворить…»
«Не забудь мою любовь к тебе, а я уже только с печали дух во мне есть. Рада бы была я смерти, да негде ее взять. Пожалуйте, помолитеся, чтобы Бог мой век утратил. Ей! рада тому!..»
«Свет мой, батюшка мой, душа моя, радость моя! Знать, уж злопроклятый час приходит, что мне с тобою расставаться! Лучше бы мне душа моя с телом рассталась! Ох, свет мой! Как мне на свете быть без тебя, как живой быть? Уже мое проклятое сердце да много послышало нечто тошно, давно мне все плакало. Аж мне с тобою, знать, будет расставаться. Ей, ей, сокрушаюся! И так Бог весть, каков ты мне мил. Уже мне нет тебя милее, ей-богу! Ох, любезный друг мой! За что ты мне таков мил? Уже мне ни жизнь моя на свете! За что ты на меня, душа моя, был гневен? Что ты ко мне не писал? Носи, сердце мое, мой перстень, меня любя; а я такой же себе сделала; то-то у тебя я его брала… Для чего, батька мой, не ходишь ко мне? Что тебе сделалось? Кто тебе на меня что намутил? Что ты не ходишь? Не дал мне на свою персону насмотреться! То ли твоя любовь ко мне? Что ты ко мне не ходишь? Уже, свет мой, не к тому тебе будет и придти, или тебе даром, друг мой, я. Знать, что тебе даром, а я же тебя до смерти не покину; никогда ты из разума не выйдешь. Ты, мой друг, меня не забудешь ли, а я тебя ни на час не забуду. Как мне будет с тобою расстаться? Ох, коли ты едешь, коли меня, батюшка мой, ты покинешь! Ох, друг мой! Ох, свет мой, любонка моя! Пожалуй, сударь мой, изволь ты ко мне приехать завтра к обедне переговорить, кое-какое дело нужное. Ох, свет мой! Любезный мой друг, лапушка моя; скажи, пожалуй, отпиши, не дай мне с печали умереть… Послала к тебе галздук, носи, душа моя! Ничего ты моего не носишь, что тебе ни дам я. Знать, я тебе не мила! То-то ты моего не носишь. То ли твоя любовь ко мне? Ох, свет мой; ох, душа моя; ох, сердце мое надселося по тебе! Как мне будет твою любовь забыть, будет как, не знаю я; как жить мне, без тебя быть, душа моя! Ей, тошно, свет мой!»
«Послала я, Степашенька, два мыла, что был бы бел ты…»
«Ах, друг мой! Что ты меня покинул? За что ты на меня прогневался? Что чем я тебе досадила? Кто мя, бедную, обиде? Кто мое сокровище украде? Кто свет от очию моею отъиме? Кому ты меня покидаешь? Кому ты меня вручаешь? Как надо мною не умилился? Что, друг мой, назад не поворотишься? Кто меня, бедную, с тобою разлучил?.. Ох, свет мой, как мне быть без тебя? Как на свете жить? Как ты меня сокрушил!.. Ради Господа Бога, не покинь ты меня, сюды добивайся. Ей! Сокрушаюся по тебе!»
«Радость моя! Есть мне про сына отрада малая, что ты меня не покидаешь? Кому меня вручаешь? Ох, друг мой! Ох, свет мой! Чем я тебя прогневала, чем я тебе досадила? Ох, лучше бы умерла, лучше бы ты меня своими руками схоронил! Что я тебе злобствовала, как ты меня покинул? Ей, сокрушу сама себя. Не покинь же ты меня, ради Христа, ради Бога! Прости, прости, душа моя, прости, друг мой! Целую я тебя во все члены твои. Добейся, ты, сердце мое, опять сюды, не дай мне умереть… Пришли, сердце мое, Стешенька, друг мой, пришли мне свой камзол, кой ты любишь; для чего ты меня покинул? Пришли мне свой кусочек, закуся… Не забудь ты меня, не люби иную. Чем я тебя так прогневала, что меня оставил такую сирую, бедную, несчастную?»
Да, письма стали тяжкой уликой. Инокиня, бывшая царица… преступная связь… блудное дело…
20 февраля в селе Преображенском, в застенке, была учинена очная ставка Глебову и Евдокии. Сохранились протоколы допросов и описания следственного порядка.
У Глебова спрашивали: почему и с каким намерением Евдокия скинула монашеское платье? Видел ли Глебов письма Евдокии от царевича Алексея? Не передавал ли письма от сына к матери и от матери к сыну? Говорил ли о побеге царевича с Евдокией? Через кого помогал Евдокии? Чем помогал? Зачем письма свои писал цифирной азбукой (шифром)?
В отчетах сыскных приказных записано: «По сим допросным пунктам Степаном Глебовым 22 февраля розыскивано: дано ему 25 ударов. С розыску ни в чем не винился кроме блудного дела…»
Да уж, от блудного-то дела при наличии таких писем и показаний десятков свидетелей отказаться было никак невозможно. Остальное Глебов отрицал.
Ну что ж… в те времена отрицание как таковое во внимание не принималось. Если обвиняемый говорил «нет», когда от него требовалось «да», нужно было вырвать у него это «да» во что бы то ни стало!
Приступили к розыску. Глебова раздели донага и поставили босыми ногами на острые, но не оструганные деревянные шипы. Спиной он упирался в толстую доску с шипами, поставленную между ним и столбом, к которому он был прикован. На плечи ему положили тяжелое бревно, и под его тяжестью шипы пронзили ступни Глебова…
Однако он ни в чем, кроме блуда, не сознавался.
Палачи стали бить его кнутом, по пословице: «Кнут не Бог, но правду сыщет». Бывало, что после такого любой человек говорил все, что от него требуется. Иссеченный, окровавленный Глебов не признавался ни в чем, кроме блуда.
Тогда к его истерзанному телу стали прикладывать угли и раскаленные клещи. Глебов признавался только во блуде, к коему он сам склонил бывшую царицу… А допрос длился трое суток, его прекращали лишь на время беспамятства пытуемого.
И все это происходило на глазах Евдокии. Она и сама не раз теряла сознание от ужаса, но все же понимала, что возлюбленный ее отводит от нее главное обвинение — в измене и заговоре. Дурная слава — ну что ж, за нее не казнят. Он жизнь ей спасал ценой собственной жизни.
Да, Глебов не дал палачам ни малейшей возможности обвинить Евдокию в чем бы то ни было, кроме явного, но не смертельного греха — блудодейства.
На исходе третьих суток Глебова вынесли из пыточной, но не для того, чтобы оставить в покое, — его отнесли в подвал и положили на шипы, которыми был усеян пол камеры. На его теле живого места не было! Но он признавался только во блуде…
Глебова снова отвели на правеж, и он снова повторял одно и то же.
Видно было, что этот необычайно сильный, крепкий человек доживает последние дни. Тогда в дело вмешались лекари, которым был от царя дан строжайший приказ: Глебов не должен умереть на допросе, он должен окончить жизнь свою мучительно. То есть пока, значит, было еще не мучительно…
Палачи поторопились закончить пытки и вынести приговор. 14 марта Степану Глебову сообщили, что волею государевой ему велено «учинить жестокую смертную казнь». Но он не знал, что его ждет…
При казни Глебова и его пособников в блудодеянии присутствовал австрийский посланник Плейер, и он позднее описал своему императору Карлу VI подробности страшного действа.
«Привезли осужденного на Красную площадь в три часа дня 15 марта. Стоял страшный мороз, все было покрыто инеем, дыхание замерзало в гортани. Появился царь. Он намеревался наблюдать длительную и мучительную казнь до конца, а потому приехал в теплой карете, которая и остановилась напротив места казни. Рядом стояла телега, на которой сидела Евдокия. Ее стерегли два солдата. Не стеречь бывшую царицу предписывалось им, а держать Евдокию за голову и не давать ей закрывать глаза.
Глебова раздели донага и посадили на кол.
Да, казнь эта была мучительна и страшна…
По свидетельству историка В. Балязина, «кол мог быть любых размеров — тонкий или толстый, гладко обструганный или шершавый, с занозами; мог иметь острый или тупой конец.
Если кол был острым, гладким и тонким, да еще смазанный жиром, то палач, должным образом повернув жертву, мог сделать так, что кол за несколько мгновений пронзал казнимого и входил ему в сердце. При желании казнь умышленно затягивали. Все сказанное относится к турецкому колу. А был еще и кол персидский. Последний отличался тем, что рядом с колом с двух сторон аккуратными столбиками складывали тонкие дощечки, почти достигавшие конца кола.
Приговоренного сначала подводили к столбу, заводили руки назад и сковывали их наручниками. Потом приподнимали и сажали на кол. Но кол входил неглубоко — жертву удерживали столбики из дощечек. Через какое-то время палачи убирали две верхние дошечки, после чего кол входил глубже. Так, убирая дощечки одну за другой, палачи опускали жертву все ниже и ниже. При этом они следили за тем, чтобы кол, проходя в теле, не затрагивал жизненно важные центры и мучительная казнь продолжалась как можно дольше.
Глебова посадили на неструганый персидский кол, а чтобы он не замерз, надели на него шубу, шапку и сапоги. Причем одежду дал Петр, наблюдавший за казнью из теплой кареты до самого конца. А умер Глебов в шестом часу утра 16 марта, оставаясь живым пятнадцать часов».
Все это время «зрители», как добровольные, так и вынужденные, находились на площади.
Однако и после того, как Глебов умер на колу, Петр уехал не прежде, чем велел колесовать и четвертовать всех сообщников Евдокии и ее уже мертвого любовника. Среди них был и Досифей — тот самый, который пророчил ей сделаться царицею. Его расстригли, лишили монашеского чина, а потом колесовали. Остальных кого удавили, кому отрубили головы. После казни мертвые тела и части их подняли на высокий помост в три метра и кого «посадили», кого уложили в кружок вокруг трупа Глебова.
Плейер писал своему королю: «Эта жуткая картина напоминала собеседников, сосредоточенно внимавших сидящему в центре Глебову».
Однако Петру было мало. Он велел предать анафеме любовника своей бывшей жены и поминать его рядом с расколоучителями, еретиками и бунтовщиками наивысшей пробы — протопопом Аввакумом, Тимошкой Анкудиновым и Стенькой Разиным.
А Евдокию Федоровну оставили в живых. Ее не пытали ни разу. Петр правильно рассудил, что видеть смерть любовника будет для нее самой страшной карой. Все же он отомстил ей за измену… не себе как царю, так себе как мужчине.
Странный это был мужчина, что и говорить! Странный и пугающий!
Затем был созван собор священнослужителей. По указанию Петра Евдокию приговорили к публичной порке кнутом и ссылке на Ладогу, на север, в Успенский монастырь, а потом, спустя несколько лет, заточили в Шлиссельбургскую тюрьму.
Тело ее было живо, а душа… Душа мертва. Так она и жила много лет, до глубокой старости, и ожить ей предстояло лишь тогда, когда она узнала, что на престол российский взошел ее родной внук, сын Алексея, Петр II.
Ее вернули в Кремль, ее ласкали, любили и нежили. Ей воздавали почести. Она снова была царицею!
Пророчество Досифея сбылось-таки. Пережив гонителей своих, пережив внучку, царевну Наталью, и внука, императора Петра, злосчастная царица умерла на воле, в почете и достатке, прожив шестьдесят два года.
Изведав все страдания, которые могло измыслить мстительное воображение ее мужа, царя Петра.
Роковая любовь (Нинон де Ланкло, Франция)
— Нинон… Боже мой! Нинон, вы ли это? Помните меня?
— Маркиз де Жерсей… Неужели вы думаете, что я могла забыть вас? Я вас узнала с первого взгляда!
— Вы мне льстите, дорогая, ведь за те двадцать лет, что мы не виделись, я порядком постарел.
— Все стареют, маркиз, все стареют… — проговорила изящная дама с яркими синими глазами, нежным лицом и темными, небрежно уложенными кудрями. Она была поразительно хороша, и редкий мужчина, гуляющий в ту пору по Тюильри, не задерживал на ней восхищенного взгляда.
— Все, кроме вас, прекраснейшая! — усмехнулся человек с лицом, столь щедро изборожденным морщинами, что оно казалось изрезанным резцом. — Вы все такая же, вы все такая же, какой были во время наших незабываемых свиданий. Ничуть не изменились! Увидев вас, я уж решил было, что годы обратились вспять. Этих двадцати лет как не бывало!
— Что?! — раздался рядом недоверчивый возглас, и прекрасная дама повернула голову.
На нее изумленно и восторженно смотрел молодой человек, одетый столь же роскошно и изысканно, как и маркиз де Жерсей. Вообще между ними наблюдалось изрядное сходство, вот только глаза у молодого человека были не темными, как у маркиза, а синими, чем-то напоминающими глаза дамы.
— Дорогая моя, — сказал де Жерсей, — позвольте вам представить моего воспитанника. Альберт де Вилье — сын одной… одной моей давней приятельницы, которой… которой давно нет с нами. Я был в некотором долгу перед его матерью, а потому присматриваю за ним. Прошу извинить неотесанность молодого человека, он буквально несколько дней назад прибыл из провинции, из моего бургундского имения. У меня хватило времени только отправить его к хорошему портному и куаферу, однако заниматься его манерами было пока недосуг. Поэтому он и позволил себе прервать нашу беседу.
— Да будь я воспитан при дворе и проходи курс хороших манер у самого шевалье де Лозена, которого считали воплощением куртуазности, и то я потерял бы власть над собой, увидев вас, мадам де Ланкло! — пылко и вполне комильфотно воскликнул юноша.
У него был приятный голос, правильные черты, чудесная улыбка. Но самым красивым в его лице были все же глаза.
— О, вы знаете меня? — улыбнулась дама, которую и в самом деле звали Нинон де Ланкло. — Однако не стоит называть меня мадам. Я никогда не связывала себя узами брака.
— И материнских чувств… — пробормотал де Жерсей, как пишут драматурги, «в сторону».
— Это потому, что нет на свете мужчины, который оказался бы достоин такой красавицы, как вы, мадемуазель! — пылко воскликнул Альберт. Он, кажется, не слышал слов своего опекуна, а если даже и слышал, то не обратил на них никакого внимания.
Однако слуха Нинон они явно достигли, потому что она повернулась к Жерсею и чуть приподняла брови. Тот в ответ еле приметно кивнул.
По лицу Нинон прошла тень, что вряд ли кто мог заметить: красавица безупречно владела собой. Миг — и лицо ее выражало все то же милое спокойствие, которое составляло непременную часть его очарования.
— Ну что ж, маркиз, — проговорила Нинон приветливо, — я рада, что вы вернулись в Париж. Надеюсь видеть вас у себя на улице Турнель.
— Можете не называть вашего адреса, — улыбнулся маркиз. — Я помню его. Помнил все годы и мечтал снова побывать в вашем уютном домике. Благодарю за приглашение.
— Благодарю за согласие навестить меня, — улыбнулась Нинон, подавая ему руку для поцелуя. — И приводите с собой вашего протеже, — проговорила она, любезно улыбаясь, и лишь тот, кто знал ее очень, очень хорошо, расслышал бы в последних словах нотку принуждения и понял, что Нинон просто отдает дань вежливости. Но радость, которой озарилось лицо молодого человека, невольно тронула ее, она улыбнулась…
При виде этой улыбки Альберт де Вилье метнулся вперед, едва не оттолкнув своего патрона, и упоенно припал к тонким пальцам Нинон, обтянутым перчаткой и унизанным перстнями. Над его склоненной головой маркиз и Нинон обменялись взглядами. В глазах красавицы снова мелькнула тревога, но де Жерсей так лукаво подмигнул, так заразительно ухмыльнулся, что Нинон не могла не улыбнуться в ответ, и тревога ее прошла, словно и не появлялась.
А между тем тревога была вещая, и прекрасная Нинон еще вспомнит тот день как один из самых несчастных в своей жизни. Однако ей было чуждо чувство предвидения, она никогда не отягощала себя избыточными размышлениями… может быть, потому и была так красива — так невероятно красива! — и выглядела столь молодо… ну не более чем на тридцать… а между тем ей было уже пятьдесят шесть.
Да, беззаботность — одна из лучших помощниц красоты!
Беззаботность частенько ассоциируют с глупостью, но уж глупой-то Нинон (так маленькую Анн де Ланкло называли родители, и это кокетливое имя всю жизнь шло ей куда больше, чем высокомерное Анн), кажется, никогда в жизни не была, даже во младенчестве. Ее отец, туренский дворянин Анри де Ланкло, женился на девушке, урожденной Ракони, из древней орлеанской фамилии. Потом они переехали в Париж, и здесь-то 15 мая 1616 года родилась на свет их девочка — маленькая, хрупкая, словно цветок или фарфоровая игрушка.
Нинон росла словно бы меж двух огней. С одной стороны, ее баловали безмерно. Анри де Ланкло по взглядам своим был типичный философ-эпикуреец, который превыше всего ставил свое удовольствие, мало заботясь о том, что скажет свет. К такому же наплевательскому отношению к людской молве и к заботе (вернее, незаботе) о доброй репутации он приучил дочь. А вот матушка всегда помнила о своем знатном происхождении и была самых строгих правил, высокой нравственности и крайней религиозности. Она мечтала, что Нинон станет монахиней… но жизнь вдребезги разбила мечты матери. Нинон не усвоила никакого страха перед неумолимым Провидением и, может быть, поэтому стала однажды жертвой его мести. Но это случится еще не скоро, а пока ей гораздо более по сердцу была та легкая и приятная жизненная философия, которую внушал отец. Музыка, пение, танцы, декламация прелестных стихов — вот чему ее учили по настоянию Анри де Ланкло. Однако сама Нинон утаскивала из отцовской библиотеки Платона и пыталась проникнуть в суть его философии. Если и не проникла, то нахваталась склонности к отвлеченным рассуждениям, чем потом, гораздо позднее, поражала мужчин, которые не ожидали встретить даже подобие ума в ее хорошенькой головке. В те времена ум в женщине был не только не нужен, а считался даже чем-то предосудительным. Женщине следовало быть разумной, расчетливой, сообразительной, но совсем даже не умной. Потому Нинон скрывала свое знакомство с Платоном, а ее собственная библиотека состояла из сборников модных стихотворений — элегических, любовных и шуточных — и таких сочинений, как «Искусство нравиться и любить», «Истории знаменитых своим легкомыслием или любовью женщин» и многие другие. Обладая изумительной памятью, она знала почти наизусть все прочитанные книги и знай пересыпала свою речь сведениями, из них почерпнутыми. Это, конечно, до слез огорчало ее дорогую матушку и казалось ей греховным.
Ну а вкусы Нинон в одежде доводили мадам Ланкло до слез. Она уповала лишь на то, что своенравная девица выйдет замуж — и супруг заставит ее посерьезнеть. Небось при законном муже не больно-то побегаешь в платье с декольте чуть не до пупа! Матушка втихомолку присматривала для дочери жениха среди отпрысков семей самых суровых нравов, искренне полагая, что действует к ее пользе. Ей и в голову не приходило посоветоваться с Нинон, иначе она узнала бы, что напрасно тратит время. Уже тогда у Нинон сформировались совершенно четкие взгляды на то, как и по какому принципу нужно искать супруга. Позднее, усвоив склонность к отточенным фразам, она выразит эту мысль в следующем афоризме: «Благоразумная женщина не избирает себе мужа без согласия своего рассудка, как любовника без согласия своего сердца».
Своего рассудка… своего сердца… Нинон не намерена была ни отцу, ни матери позволить распоряжаться своей судьбой! К тому же все добропорядочные знакомые казались ей невыносимо скучными. Впрочем, она была не против добродетели и даже молилась иногда: «Боже, позволь мне стать добродетельным человеком — но не добродетельной женщиной!»
Своенравие дочери доводило до слез матушку, они беспрестанно ссорились. Но Анри де Ланкло оказался мудрее. У него были свои планы относительно красотки-дочери, и он постепенно, исподволь начал претворять их в жизнь, задумав сделать из нее светскую красавицу.
На такое понятие, как нравственность (пусть даже и собственного дитяти), он, повторимся, смотрел весьма снисходительно и даже, не побоимся так сказать, насмешливо. А потому однажды привел ее в квартал Марэ… Центром светской жизни в квартале Марэ была Королевская площадь (ныне площадь Вогезов). Прогулки, свидания, стычки мушкетеров с гвардейцами — вот что здесь обычно происходило. А кроме того, здесь находился некий дом, где собирались такие же, как мсье де Ланкло, любители жизненных удовольствий и сосредоточивалось все, что было в Париже прекрасного, изящного и богатого. Нинон немедленно провозгласили первой красавицей и начали за ней ухаживать. Судьба всякой девушки из «Дома Эпикура» — так назывался клуб — была предрешена, однако некоторые молодые люди так влюбились в нее, что пожелали повести к алтарю. Однако она не имела ни малейших намерений связывать себя с вертопрахами, пусть даже весьма состоятельными. Узы брака безумно пугали ее — как и всякие другие узы. Она отказала всем — кроме одного. За ней начал ухаживать человек очень знатный, принадлежащий к древнему роду, — герцог Шатильон, Гаспар Колиньи, внучатый племянник знаменитого адмирала Гаспара Колиньи, убитого в Варфоломеевскую ночь. Когда молодой Колиньи встретился с Нинон, родители уже устраивали его брак с Елизаветой-Анжеликой де Монморанси, сестрой герцога Люксембургского. Однако Гаспар так очаровался Нинон, что решил жениться на ней. Анри де Лакло пришел в восторг, немедленно распростился со своей апологией свободной любви и благословил дочь. Однако он плохо знал собственное дитя! Когда Гаспар явился к девушке с предложением руки и сердца, она посоветовала ему жениться на мадемуазель де Монморанси, однако немедленно сделаться любовником мадемуазель де Ланкло.
— Во-первых, женившись на мне, вы восстановите против себя два знатных рода, — сказала рассудительная красавица. — Во-вторых… брак и любовь — это дым и пламя. Я вовсе не желаю, чтобы наши отношения были «задымлены», ведь я… люблю вас!
Не успел изумленный Гаспар опомниться, как она бросилась ему на шею, и спустя самое малое время, которое потребовалось для того, чтобы поднять юбки ей и расстегнуть кюлоты ему, стала любовницей молодого герцога.
Но поскольку, следуя убеждению самой Нинон, «женщины чаще отдаются по капризу, чем по любви», однажды ее каприз прошел, и любовники расстались.
Герцог очень страдал… но его страдания просто ничто по сравнению с горем доброго Анри де Ланкло. Он так и не смог оправиться от разочарования и вскоре покинул сей свет, совершенно не предполагая той блестящей карьеры, которую сделает дочь, и тех богатых урожаев, которые она пожнет на ниве любовной. Почти тотчас последовала за ним и высоконравная матушка, которая, наоборот, предвидела тот «тернистый путь», который пройдет ее дочь. Она могла только молить Господа наставить Нинон на путь истинный, однако Всевышний, похоже, был в ту минуту занят судьбой какого-то другого человека, потому что позволил Нинон вести себя так, как ей заблагорассудится.
Итак, «полное собрание человеческих совершенств», как называли Нинон многочисленные поклонники, осталась одна-одинешенька. Ей было шестнадцать… Ну и, разумеется, со всех сторон налетели покровители, как пчелы на великолепный цветок. Герцог Шатильон дал ей наилучшие рекомендации, и Нинон их блистательно оправдывала.
Она жила, не бедствуя. С наследства, оставленного отцом, Нинон получала ежегодно 10 000 ливров, кроме того, всегда находились желающие осыпать ее подарками и золотом. Но в том-то и состояло отличие Нинон от прочих куртизанок того времени (к примеру, от ее подруги, знаменитой Марион Делорм) — она не брала денег от мужчин. «Любовь — самая рискованная торговля, — рассуждала она, — оттого-то банкротства в ней столь часты». Она никому не желала быть обязанной ничем, кроме нежных чувств и приятных воспоминаний. Строго говоря, ее и куртизанкой назвать было нельзя. Однако она обладала тем достоянием, которое ни за какие деньги не купишь: умом и хорошим вкусом, а потому вела себя достаточно скромно… и в то же время изысканно. «Скромность везде и во всем, — так полагала она. — Без этого качества самая красивая женщина возбудит к себе презрение со стороны самого снисходительного мужчины».
Скромность была одним из тех цветов, которыми себя украшала «изящная, превосходно сложенная брюнетка, с цветом лица ослепительной белизны, с легким румянцем, с большими синими глазами, в которых одновременно сквозили благопристойность, рассудительность, безумие и сладострастие, с ротиком, украшенным восхитительными зубками и очаровательной улыбкой. Нинон держалась с благородством, но без гордости, обладая поразительной грацией», — так описывал ее Сен-Эвремон, временный любовник, оставшийся на всю жизнь другом и воспевателем ее красоты и ума.
Купив домик номер 36 на улице Турнель, в том же квартале Марэ, который Нинон обожала с детства, она собрала вокруг себя не только воздыхателей и обожателей, но и выдающихся по уму людей, привлекая их, как бабочек, ярким огоньком своего ума. Посетители ее салона получили прозвище «турнельских птиц», которым гордились не меньше, чем посетители отеля Рамбуйе кличками «дражайших» и «жеманниц». Дебарро, Буаробер, супруги Скаррон… Мадам Франсуаза Скаррон станет спустя несколько лет фавориткой короля, известной как мадам де Ментенон, и прославится своим ханжеством… но в пору дружбы с Нинон она отнюдь не была ханжой, ведь в доме на рю Турнель унынию и лицемерию просто не было места. Бывали тут Дезивто, Саразэн, Шапель; Сен-Эвремон и Мольер были постоянными гостями Нинон. Именно здесь Мольер впервые прочел своего «Тартюфа», вызвав горячие аплодисменты. Нинон аплодировала громче всех, в каждой сцене встречая собственные рассуждения, превосходно схваченные гениальным комедиантом. Мольер не раз выводил ее в своих пьесах. Например, очаровательная Селимена в «Мизантропе» не кто иная, как «царица куртизанок» Нинон де Ланкло.
Да, многие ее высказывания, удивительно точные и забавные, можно встретить в произведениях Лабрюйера и Мольера, поскольку они, люди творческие, подобно пчелам, собирали нектар для своих творений на всех встречных цветах и часто записывали то, что говорила остроумная Нинон.
Попасть в ее салон не возражал бы и кардинал Арман де Ришелье, который, несмотря на свое высокое духовное звание, прославился как величайший женолюб. Ришелье был убежден, что покупается все, что угодно, и через свою любовницу Марион Делорм прислал Нинон 50 тысяч экю, уверенный, что она немедленно пригласит его в свою постель или сама ринется в постель кардинала. Нинон с негодованием вернула деньги, заявив, что она «отдается, но не продается». Граф де Шавеньяк пишет в своих мемуарах: «Этот великий человек (Ришелье), умевший доводить до конца самые крупные начинания, тем не менее потерпел поражение, хотя Нинон никогда не страдала от избытка целомудрия или благопристойности; напрасно он предлагал через ее лучшую подругу Марион Делорм пятьдесят тысяч экю, она отказалась, потому что в то время у нее была связь с одним советником Королевского суда, в объятия которого она бросилась добровольно…»
Отдается, но не продается…
О, с каким пылом она это делала.(в смысле, отдавалась)!
«Поэты безумны, коль скоро они вручили Амуру лук, колчан и светильник. Могущество Бога заключено в повязке на глазах», — напишет однажды Нинон в своих знаменитых «Афоризмах». Бывало так, что, расставаясь с тем или иным любовником, Нинон корила себя за слепоту и безоглядность, с какой бросилась она в авантюру. Так случилось, когда она безумно увлеклась графом Филибером де Граммон. Ей в то время было 24, ему — 19. Весь ее жизненный опыт, поднакопившийся к тому времени, не смог подсказать, что обворожительный блондин с ангельской внешностью — сущий дьявол. А впрочем, ей еще суждено было прийти к выводу, что «в любви, как и во всем, опыт — врач, являющийся после болезни». Но Филибер, как ни странно, был любим ветреной Нинон довольно долго и весьма верно. Права была она, говоря: «Пороки, так же как и достоинства, иногда имеют привлекательность». Не принимая деньги от мужчин, этого мужчину она содержала на свои деньги. Но однажды ей стало казаться, что содержимое ее шкатулки убывает с поразительной быстротой… «Когда любишь, не думаешь ни о чем. Если начинаешь задумываться, значит, уже не любишь». Видимо, так… Нинон стала присматриваться к любовнику, и он попался однажды ночью: полагая, что Нинон спит, украл из ее шкатулки сто пистолей.
Утром, уходя, граф с привычной нежностью поцеловал Нинон и сказал ей:
— До свидания.
— Нет, не до свидания, — сухо ответила Нинон, — а прощайте.
— Но почему?! — вскричал де Граммон.
— Ответ в вашем кармане.
Не денег было ей жаль, а обманутого доверия. Не зря же она исповедовала такое правило: «Лучше быть обманутым, чем оскорблять друга своим недоверием».
Ну что ж, она осталась обманутой и навсегда простилась с Граммоном.
Любопытное это было время! Постепенно слава о красоте, грации и изяществе де Ланкло распространилась по всему Парижу. Модные и знатные дамы добивались знакомства с нею, чтобы, как они говорили, научиться у нее хорошим манерам. Матери для того же приводили к ней своих дочерей, только что выпущенных из монастырей. Разумеется, Нинон никогда не пускала их дальше прихожей, не желая, как она сама говорила, чтобы невинность дышала воздухом, отравленным страстью и заряженным легкомыслием. Она сама отрицала общественные предрассудки, однако знала и их силу, и власть над людьми.
Услужливый дурак опаснее врага… Глупость мамаш причинила Нинон немало неприятностей. И без того она имела массу завистниц ее красоте, молодости, независимости. А тут еще пошли слухи, будто она совращает с пути истинного невинных девиц. Разговоры дошли и до королевского дворца. Кое-кому (не без участия оскорбленного герцога Ришелье) удалось убедить Анну Австрийскую, бывшую в то время регентшей Франции, что пора положить конец распутству «этой девицы». Королева-мать через своих приближенных предложила куртизанке добровольно уйти в монастырь кающихся девушек. Нинон возражала: во-первых, она не девушка, во-вторых, ей не в чем каяться. Но уж ежели королеве так хочется упрятать ее в монастырь, то она с удовольствием уйдет в обитель кордельеров (то был мужской монастырь, пользовавшийся самой дурной репутацией).
За столь вызывающую дерзость Нинон могло последовать суровое наказание, но у Нинон при дворе были не только враги и завистники, но и друзья и почитатели, которые умилостивили королеву.
Одним из таких друзей был знаменитый Конде, герцог Энгиенский. Когда он вернулся в Париж вскоре после битвы при Рокруа (1643), овеянный славой, Нинон стала для героя лучшей наградой. Герцог сходил по ней с ума, однако она прекратила связь с ним уже через несколько недель. Для такой пылкой красавицы герцог был любовником слишком величественным, а главное — слишком упоенным собственным величием.
«Его поцелуи замораживают меня, — жаловалась она. — Когда он подает мне веер, кажется, что вручает маршальский жезл».
Они расстались, но герцог продолжал любить Нинон и оказал ей немало услуг, в том числе — отвратил гнев королевы.
А между тем Нинон не просто так покинула его, а ради другого мужчины. Звали его маркиз Анри де Севинье, и в ту пору он был просто мужем Мари де Рабутен, но никто не знал, что в будущем она станет знаменитой писательницей, доведет так называемый эпистолярный стиль до высокой степени совершенства и даже в энциклопедии попадет. Но в ту пору очень многие писали красивые письма, Да вот та же Нинон! Причем самое смешное, что вдохновил ее на писательство тот же маркиз Анри де Севинье. Видимо, было в нем что-то такое… взывающее к эпистолярному жанру.
Из прелестных посланий можно очень многое узнать о «серьезной жрице любви», как называли Нинон. Редкостная все же была женщина!
Вот один образчик ее творчества. «Вы полагаете, многоуважаемый, что нашли неопровержимое доказательство, ставя мне на вид, что над собственным сердцем вы не властны: нельзя его подарить кому хочешь, и потому вы не свободны в выборе предмета влечения… Что за оперная мораль! Оставьте трюизм женщинам, которые всегда готовы оправдать свои слабости; им нужно иметь на что ссылаться. Это напоминает того доброго дворянина, которого описал Монтэн: когда его трепала подагра, он так сердился, что готов был закричать: проклятая ветчина!
Значит, все дело в сердечном влечении… Говорят, это сильнее меня… Можно ли управлять своим сердцем? Когда женщины приводят столь веские основания, то им не решаются возражать. Они даже так утвердили эти положения, что если бы кто захотел их оспаривать, то очутился бы в противоречии со всем светом. Но почему странные утверждения находят столько сторонников? Да потому, что весь свет заинтересован. Не замечают, что подобные извинения, далеко не оправдывая ошибок, укрепляют сознание своей неправоты; и не забывайте, что на судьбу ссылаются только тогда, когда дело идет о худом выборе. Упрекают природу, когда дело идет о беспорядочной склонности, и в то же время приписывают своему собственному уму всю честь разумной любви. Мы хотим оберегать свободу только для того, чтобы ее обманывать. Если же мы совершаем глупость, то нас вынуждает к тому неодолимая сила. Мы бы могли сказать о природе то же самое, что сказал Лафонтэн о счастье…
Добро создаем мы, а зло — природа. Мы правы всегда, неправа — лишь судьба.
Вы можете заключить, что я не соглашаюсь с суждением большинства. Любовь непроизвольна — это, разумеется, я признаю, т. е. мы не в состоянии предусмотреть или предотвратить первого впечатления, производимого кем-нибудь на нас. Но в то же время я утверждаю, что возможно — как глубоко бы ни казалось нам впечатление — его смягчить или вовсе парализовать, что дает мне право осудить всякую беспорядочную или позорную склонность. Как часто мы наблюдали, что женщины могли подавить охватившую их слабость, лишь только убеждались в недостойности предмета своей страсти. Сколькие из них побороли нежнейшую любовь и пожертвовали соображениями обеспеченности! Разлука, отъезд, время — все это лекарства, против которых никакая страсть — какой бы ни казалась она пылкой — не устоит: постепенно она ослабевает и, наконец, совсем потухает. Какой же вывод? Любовь сильна лишь благодаря нашей слабости.
Я знаю, что требуется напряжение всего нашего интеллекта, чтобы выйти с честью из такого положения; я понимаю также, что трудности, связанные с подобной победой, не всякому способны дать мужество — начать борьбу; и хотя я убеждена, что в данной области не существует непобедимого влечения, — то все же думаю, что на деле очень мало победителей. Почему? Потому что не решаются даже попытаться. В конце концов, я полагаю, что в вашем случае речь идет лишь об ухаживании, и было бы глупо вас мучить, чтобы победить влечение к какой-либо более или менее достойной любви даме. А так как вы еще ни в одну из них не влюбились, то я только хотела выяснить основания, которые, на мой взгляд, вернее всего способны обеспечить вам счастливое будущее. Было бы, конечно, желательно, чтобы тонкие чувства, действительные достоинства имели бы больше власти над нашими сердцами, чтобы они были в состоянии заполнить их и запечатлеться навсегда. Но опыт показывает, что на деле все не так. Ведь я рассуждаю не о том, чем вы должны быть, но о том, что вы представляете в действительности: мое намерение состоит в том, чтобы показать вам, каково ваше сердце, а не каким я бы желала его видеть. Я первая скорбела о порче вашего вкуса, как ни снисходительно я отношусь к вашим капризам. Но, не будучи в состоянии изменить вашего сердца, я хочу, по крайней мере, научить вас, как извлечь из него большую пользу: не имея возможности сделать вас благоразумным, я стараюсь сделать вас счастливым. В старину говорили: желать уничтожить страсти равносильно желанию уничтожить нас самих; надо только уметь управлять ими. В наших руках страсти — то же, что лечебные яды: приготовленные искусным химиком, они превращаются в благодетельные лекарства…»
Или другой пример.
«Нет, маркиз, любопытство г-жи де Севинье нисколько меня не оскорбило: напротив, мне очень лестно, что она пожелала увидать письма, которые вы получаете от меня. Разумеется, она предполагала, — если идет разговор о любви, то, конечно, это касается меня; но она убедилась в противном. Теперь она признает, что я менее легкомысленна, чем она себе представляла; я считаю ее достаточно справедливою, чтобы отныне она составила себе о Нинон другое представление, чем имела раньше: ибо мне небезызвестно, что обо мне обычно отзываются не слишком благоприятно. Однако ее несправедливость никогда не может повлиять на мою дружбу к вам. Я достаточно философски смотрю на жизнь, чтобы не огорчаться мнением людей, судящих меня, не зная. Но, что бы ни случилось, я буду продолжать говорить с вами с моей обычной откровенностью; я убеждена, что г-жа де Севинье, несмотря на большую свою сдержанность, в глубине души чаще будет соглашаться со мною, чем кажется. Перехожу к тому, что касается вас.
Итак, маркиз, после бесконечных стараний вам кажется, что вы наконец умилостивили каменное сердце? Я от этого в восторге; но мне смешно, когда вы начинаете разъяснять мне чувства графини. Вы разделяете обычную ошибку мужчин, от которой вам нужно отказаться, как бы ни была она для вас лестна. Вы предполагаете, что только ваши достоинства способны зажечь страсть в сердце женщины и что сердечные и умственные свойства служат единственными причинами любви, которую питают к вам женщины. Какое заблуждение! Разумеется, вы думаете так потому, ибо того требует ваша гордость. Но исследуйте без предубеждения, по возможности, побуждающие вас мотивы, и скоро вы убедитесь, что вы обманываете себя, а мы обманываем вас; и что по всем соображениям вы являетесь одураченным вашим и нашим тщеславием; что достоинства любимого существа только являются случайностью или оправданием любви, но никак не ее истинной причиной; что, наконец, чрезвычайные уловки, к которым прибегают обе стороны, как бы входят в желание удовлетворить потребность, которую я раньше еще назвала вам первопричиной страсти. Я высказываю вам здесь жестокую и унизительную истину; но от этого она не делается менее достоверной. Мы, женщины, являемся в мир с неопределенной потребностью любви, и если мы предпочитаем одного другому, скажем откровенно, мы уступаем не известным достоинствам, а скорее бессознательному, почти всегда слепому инстинкту. Я не хочу приводить доказательств того, что существует слепая страсть, которою мы опьяняемся иногда по отношению к незнакомцам или к людям, недостаточно нам известным для того, чтобы наш выбор не являлся всегда в своем основании безрассудным: если мы попадаем счастливо, то это — чистая случайность. Следовательно, мы привязываемся всегда, не производя достаточного экзамена, и я буду не совсем не права, сравнив любовь с предпочтением, которое мы отдаем иногда одному кушанью перед другим, не будучи в состоянии объяснить причины выбора. Я жестоко рассеиваю химеры вашего самолюбия, но я говорю правду. Вам льстит любовь женщины, ибо вы предполагаете, что она считается с достоинствами любимого существа: вы оказываете ей слишком много чести, скажем лучше, вы слишком высокого о себе мнения. Верьте, что мы любим вас совсем не ради вас самих: надо быть искренним, в любви мы ищем только собственного благополучия. Прихоть, интерес, тщеславие, темперамент, материальные затруднения — вот что тревожит нас, когда наше сердце не занято, вот причины тех великих чувств, которые мы хотим обожествлять. Вовсе не великие достоинства способны нас умилять: если они и входят в причины, располагающие нас в вашу пользу, то влияют они совсем не на сердце, а на тщеславие, и большинство свойств, нравящихся нам в вас, часто делают вас смешными или жалкими. Но что вы хотите? Нам необходим поклонник, поддерживающий в нас представление о нашем превосходстве, нам нужен угодник, который исполняет наши прихоти, нам необходим мужчина. Случайно нам представляется тот, а не другой; его принимают, но не избирают. Словом, вы считаете себя предметом бескорыстной симпатии, повторяю, вы думаете, что женщины любят вас ради вас самих. Несчастные простофили! Вы служите только орудием их наслаждений или игрушкой их прихотей. Однако надо отдать справедливость женщинам: все это совершается часто без их ведома. Чувства, которые я изображаю здесь, часто им самим совершенно не ясны; наоборот, с самыми лучшими намерениями они воображают, что руководствуются великими идеями, которыми питает их ваше и их тщеславие, и было бы жестоко и несправедливо обвинять их в фальши на тот счет: бессознательно они обманывают самих себя и вас также.
Вы видите, что я раскрываю пред вами секреты доброй Богини: судите о моей дружбе, если я, в ущерб моему же полу, стараюсь вас просветить. Чем лучше будете вы знать женщин, тем менее они заставят вас безумствовать…»
Как ни любила умничать Нинон, все же амплуа резонерши было не вполне в ее духе. Она была женщиной, созданной не для рассуждений, а для любви, поэтому, завершив переписку с Севинье, упала в объятия маркиза Эдма де ла Шатра, одного из самых красивых вельмож двора Людовика XIV.
Он был ревнив до невероятности, но своенравная Нинон, которая прежде не терпела покушения на свою свободу, ради него совершенно изменилась. Подтверждался один из ее любимых афоризмов: «Женщина не выносит ревнивца, которого не любит, но сердится, если не ревнует тот, кого она любит». Она жила теперь настоящей затворницей, нигде не показывалась и никого не принимала, кроме маркиза. Де ла Шатр, впрочем, по-прежнему ревновал и не доверял красавице. И, чтобы постоянно наблюдать за любовницей, поселился напротив ее дома. Однажды ночью маркиз увидел свет в ее окне. «Отелло» быстро оделся, но впопыхах вместо шляпы схватил серебряный кувшин и с такой силой водрузил на голову, что еле освободился. Наконец он ворвался к Нинон. Она сказала, что страдала бессонницей, поэтому решила почитать. Де ла Шатр не поверил. Он воротился домой и даже захворал от ревности. Нинон не знала, как его утешить… Тогда она отрезала свои роскошные волосы и послала де ла Шатру в знак того, что будет принадлежать лишь ему. Маркиз от счастья выздоровел. Нинон поспешила к возлюбленному и провела с ним наедине целую неделю.
Однако… Однако, по словам самой же Нинон, «сердце — это крепость, которую легче завоевать, чем удержать». Когда маркиз получил распоряжение выступить в Германию, он перед отъездом потребовал от Нинон расписку-гарантию в вечной любви: «Париж. Число. Год. Клянусь остаться верной маркизу Эдму де ла Шатру». Нинон подписала бумагу, и маркиз отправился воевать с легким сердцем. Ну и зря — «труднее хорошо вести любовь, чем хорошо вести войну». Нинон ощутила такое облегчение, избавившись от возлюбленного ревнивца, что незаметно для себя перестала его любить. Уже через две недели в ее постели и в ее сердце царил другой — граф де Миосан.
Может быть, она и воздержалась бы нарушить слово, однако виновата, ей-же-ей, оказалась сама природа! Граф явился с визитом к Нинон, сделал ей нескромное предложение, получил отказ и собрался откланяться, перенеся поражение с самым гордым видом. Но тут, как на грех, грянула гроза. Ударил гром… А Нинон кошмарно боялась грозы! Она кинулась к графу и невольно прижалась к нему, совершенно лишившись разума от ужаса. На счастье, граф грозы не боялся, сохранил трезвый рассудок и наилучшим образом воспользовался ситуацией. Нинон забылась в объятиях нового любовника… и вдруг в разгар ласк расхохоталась: «А славный векселек у де ла Шатра!..»
Граф де Миосан, конечно, вызнал у Нинон, что значат сии слова, и разнес шутку по всему Парижу. Слух об измене дошел и до маркиза де ла Шатра, который послал Нинон ее расписку с отметкой: «Уплачено после банкротства».
Шли годы. Нинон вполне исповедовала два своих принципа: «Когда женщине исполнится тридцать, первое, что она начинает забывать, это свой возраст; а в сорок он уже совершенно изглаживается из ее памяти» и «Нет в природе ничего более разнообразного, чем любовные похождения, хотя кажется, будто они всегда одинаковы».
Она выглядела поразительно молодо, оставалась обворожительной красавицей и продолжала сводить мужчин с ума.
Как-то раз два друга, граф д’Эстре и аббат д’Эффиа, встретили Нинон и страстно влюбились в нее. Они были молоды и красивы, нравились ей оба, вот она и придумала великолепное средство, чтобы не сердить друзей: одного она принимала днем, другого ночью. Результатом курьезной ситуации явилась беременность Нинон и рождение мальчика. Любовники Нинон мечтали получить права отцовства, но как быть, если даже она сама не знала, кому отдать почетный титул отца?! Молодые люди собирались уже стреляться… Наконец доверились судьбе: кто на костях выкинет большее количество очков, тот и будет считаться отцом ребенка. У д’Эстре оказалось 14 очков, у аббата д’Эффиа — 11. Нинон ничего не имела против разлуки с ребенком — у нее не было даже намека на материнские чувства. Ей просто нечего было дать детям: все отнимали мужчины! Ну что же, граф д’Эстре воспитал ребенка, дал ему фамилию де ла Бюсьер и отправил служить во флот, где он сделал замечательную карьеру, очень быстро получив чин капитана. Раз в год Нинон принимала сына, как совершенно постороннего, играла на лютне, а он восхищался ее игрой…
Их отношения остались дружескими, не более того.
Время шло. Умерла Марион Делорм, подруга и в то же время соперница Нинон. Теперь количество посетителей салона мадемуазель де Ланкло увеличилось. Как писал один из современников, «двор и аристократия прислушивались к голосу Нинон, побаиваясь ее крылатых словечек. Сам «король-солнце», Людовик XIV, находился под влиянием очаровательной женщины, с которой не был еще знаком, и по поводу всевозможных придворных событий интересовался: «А что сказала об этом Нинон?» Ее решения принимались без обсуждений. Скажи Нинон, что солнце светит по ночам, и все согласились бы с этим». И вдруг обворожительница исчезла со светского горизонта!
Куда же она пропала?
Ах, как порадовалась бы ее матушка, взгляни она в то время с небес! Нинон вела самый смиренный и уединенный образ жизни.
А впрочем, матушка Нинон все же вряд ли порадовалась бы, потому что дочь гуляла по дорожкам роскошного сада… бережно неся перед собой живот. Она была беременна! Причем беременность произошла от связи с мужчиной, пусть и вдовцом, но отнюдь не собиравшимся обременять себя узами брака. Он искренне любил Нинон, он хотел сына, но о женитьбе речи не шло.
Впрочем, Нинон тоже оставалась верна себе, верна той свободной любви, которую она избрала целью и кредо своей жизни. Она и не предполагала, что в лице этого ребенка, сына, которого она решила родить после горячих просьб Жерсея, судьба попытается отомстить ей.
Итак, в 1653 году маркиз де Жерсей увез беременную любовницу в свое тихое провинциальное поместье. Сам он остался в Париже, где его держали обязанности придворного. Почти полгода Нинон жила в провинции одна, утешая себя книгами и долгими прогулками. И вот как-то раз, гуляя по парку, она нашла на дерновой скамье томик «Идиллий» Феокрита, очевидно, кем-то забытый. Нинон невольно углубилась в чтение. Ей было скучно, и она читала вслух. И когда дошла до места, где пастушки с цветочными венками на головах танцевали вокруг статуи Амура, громко продекламировала:
— О, как вы были прекрасны, юные пастушки…
— Но не так, как вы, клянусь Венерой! — послышалось в ответ.
Нинон оглянулась. Рядом стоял, смущенно улыбаясь, поразительно приятный молодой человек. Оказывается, он жил по соседству, в имении друзей, и порою гулял в парке Жерсея, который смыкался с парком, принадлежащим его друзьям. Забытая книга Феокрита принадлежала ему.
Ум и начитанность нового знакомого произвели на Нинон огромное впечатление. Он назвался Аристом, и Нинон, расставшись с ним и гуляя по песчаным дорожкам, писала веткой на песке это имя.
Она влюбилась! Влюбилась именно тогда, когда не имела на то права. Да и выглядел избранник вовсе не соблазнительно. То есть она так считала, но Арист, похоже, думал иначе, потому что на другое утро уже ждал Нинон у той же скамейки.
Каждый день он являлся, чтобы увидеться с Нинон. Каждый день она бежала в парк, чтобы увидеться с ним. Нинон старалась не кокетничать, помня о своей несколько изменившейся фигуре. Арист относился к ней с глубоким почтением. В те дни и родился знаменитый афоризм Нинон: «Нас любят скорее за привлекательные недостатки, чем за существенные достоинства».
Вскоре Нинон по настоянию маркиза вернулась в Париж, на улицу Турнель, причем вынуждена была уехать так поспешно, что даже не смогла предупредить Ариста. Но она не забыла его и лелеяла мечту свидеться с ним снова, когда родит ребенка и освободится.
И вдруг он неожиданно предстал перед Нинон.
— Сударыня, — произнес молодой человек печально, — я позволил себе явиться, чтобы поблагодарить за то счастье, которое вы мне дали, и попрощаться с вами навсегда…
Его слова оказались слишком сильным потрясением для Нинон. Она лишилась чувств, а когда очнулась, ей принесли записку:
«Сударыня, до сих пор я не знал вашего настоящего имени, а когда узнал его, все мои надежды рухнули. Я мечтал о бесконечной любви, чтобы безраздельно владеть вами, но это невозможно для прекрасной Нинон. Прощайте, забудьте меня, если уже не забыли. Вы никогда не узнаете моего имени и никогда больше не увидите. Арист».
Воистину, права была Нинон, когда говорила: «Самые лестные признания не те, что делаются намеренно, а те, что вырываются помимо воли».
Нинон проклинала свое положение, свою зависимость от Жерсея. Ей казалось, она впервые влюблена так страстно, она всей душой хотела принадлежать только Аристу. Если бы удалось найти его, она убедила бы его в своей любви! Но все усилия разыскать молодого человека были напрасны. Поговаривали, это был испанский или итальянский вельможа, а может быть, лицо, принадлежащее к королевскому дому одной из этих стран. Он путешествовал по Франции инкогнито, но бежал на родину в отчаянии от разрушенных надежд. А Нинон… Она долго еще вспоминала его и, перечитывая его последнюю записку, с трудом сдерживала слезы…
Вскоре Нинон благополучно разрешилась мальчиком, которого маркиз де Жерсей тотчас увез к себе. Мать не возражала. Ей было все равно… она думала лишь о том, что «любовь — изменница: она царапает вас до крови, как кошка, даже если вы хотели всего лишь с ней поиграть».
«Освободившись», Нинон была готова на все, только бы забыться, изгнать из памяти Ариста. Среди ее афоризмов не имелось таких: «Клин клином вышибай» или «Лучшая встреча — новая встреча», однако она, без сомнения, следовала им. Теперь она меняла любовников воистину как перчатки, причем выбирала таких же неверных и легкомысленных, как она сама. Чтобы не разбивать им сердец. Чтобы оберечь свое, которое никак не могла исцелить.
Такие необременительные отношения нравились обеим сторонам, и мужчины, выходя из разряда любовников Нинон, с удовольствием переходили в разряд ее друзей. Сначала это был герцог де Ларошфуко, потом появился мсье Гурвиль, состоявший на службе у великого Конде. Когда начались события Фронды и Гурвилю пришлось спасаться от преследований Мазарини, он накануне отъезда из страны вручил Нинон 20 000 экю с просьбой сохранить их до его возвращения. Такую же сумму он передал одному из своих друзей, настоятелю монастыря, имевшему репутацию чуть ли не святого. Нинон он просил сберечь и деньги, и место в ее сердце. Настоятелю поручались только деньги.
Прошло несколько месяцев, гроза улеглась. Гурвиль, вернувшись во Францию, первым делом поспешил к настоятелю, однако тот сделал большие глаза и заявил: мсье перепутал, никаких денег ему не вручал, а значит, и возвращать ему нечего. Свидетелей нет, так что… Выслушав ответ, Гурвиль не счел нужным идти к Нинон. Он не сомневался, что куртизанка накупила на его деньги драгоценностей и нарядов. О том, что у нее новый любовник, ему донесла молва… Однако, к его огромному изумлению, Нинон сама разыскала его и объяснила, что он потерял свое место в ее сердце, но 20 000 экю по-прежнему лежат в той самой шкатулке, куда он сам когда-то их положил.
«Если любовница изменила вам, — сказала Нинон с улыбкой, — вы приобрели друга. Одно стоит другого, поверьте мне…»
Восхищенный Гурвиль рассказал всему свету о благородстве Нинон, которую сразу прозвали «прекрасной хранительницей шкатулки».
Ну да, она была по-прежнему прекрасной, хотя ей шел уже пятьдесят первый год. Обычно женщины в эту пору уже увядают… но не такова была Нинон. Ее выражение: «Если уж Богу было угодно дать женщине морщины, он мог бы, по крайней мере, часть из них разместить на подошвах ног», можно считать обыкновенным кокетством! Она выглядела ошеломляюще. Сын маркиза де Севинье — того самого, которому Нинон давным-давно писала свои знаменитые письма, — спустя двадцать четыре года после отца влюбился в Нинон до смерти и пользовался ее расположением. Что и говорить, к членам этой семьи она испытывала особую склонность! Его мать, знаменитая маркиза де Севинье, в шутку называла любовницу сына «своею невесткой» — но сама-то она была на десять лет моложе Нинон.
Спустя три года Нинон сошлась с молодым, красивым и изящным графом Фиеско, из известного генуэзского рода. Любовники обожали друг друга. Но граф был очень самолюбив. Он отлично помнил один из афоризмов подруги: «Искренняя сердечная связь — пьеса, где акты самые краткие, а антракты самые длинные» и все время боялся, что вот-вот начнутся те самые антракты. Он не хотел быть брошенным непостоянной Нинон и пополнить ряды ее отвергнутых поклонников. И видел только один способ избежать этого: опередить ее, то есть бросить ее первым. И вот однажды, после страстной ночи, граф прислал Нинон записку: «Дружок, не находите ли вы, что мы достаточно насладились любовью и пора прекратить наши отношения? Вы по натуре непостоянны, я по природе горд. Вы, вероятно, скоро утешитесь, потеряв меня, и мой поступок не покажется вам слишком жестоким. Вы согласны, не правда ли? Прощайте!» Нинон вместо ответа послала ему свой длинный локон. Граф Фиеско ринулся обратно и снова был у ее ног. Следующая ночь была еще восхитительнее… Но когда граф вернулся домой, ему подали записку от Нинон: «Дружок! Вы знаете, что я по натуре непостоянна, но вы не знали, что я так же горда, как и вы. Я не собиралась расставаться с вами, но вы сами навели меня на подобную мысль. Тем хуже для вас. Вы, вероятно, скоро утешитесь, потеряв меня, и это послужит мне утешением. Прощайте!» Граф Фиеско немедленно разделил присланный накануне локон: одну половину оставил у себя, а другую послал Нинон: «Спасибо за урок. Предполагая, что локон может пригодиться и для моего преемника, я счастлив дать вам возможность не обрезать снова роскошных волос. Для меня это не лишение: локон был очень густой».
Оба долго жалели о разрыве… оба утешились с другими. Нинон вскоре снова забеременела. Дочь родилась мертвой.
Впрочем, Нинон знала, что не создана для долгого горя. К детям она относилась скептически и однажды написала одной своей приятельнице: «Ваш ребенок не говорит? Да вы просто счастливица — он не будет пересказывать ваши слова!»
Наверное, не зря она так сторонилась детей, избегала всяких упоминаний о своих сыновьях, которые воспитывались под присмотром отцов. Вряд ли, впрочем, она чувствовала, какой удар может быть ей нанесен через одного из них… И никакое облачко не затуманило ее ясного взгляда, когда зимой 1667 года, гуляя в Тюильри, она встретила своего давнишнего обожателя маркиза де Жерсея в сопровождении молодого человека, синие глаза которого поразили ее. А улыбка Жерсея открыла ей, кто он такой, тот юноша.
Ее сын! Ее сын, которого она родила вскоре после того, как лишилась незабываемого Ариста!
Ах, все это принадлежало далекому прошлому…
— Ну что ж, маркиз, — проговорила Нинон приветливо, — я рада, что вы вернулись в Париж. Надеюсь видеть вас у себя на улице Турнель.
— Можете не называть вашего адреса, — улыбнулся маркиз. — Я помню его. Помнил все годы и мечтал снова побывать в вашем уютном домике. Благодарю за приглашение.
— Благодарю за согласие навестить меня, — улыбнулась Нинон, подавая ему руку для поцелуя. — И приводите с собой вашего протеже, — проговорила она, любезно улыбаясь, и лишь тот, кто знал ее очень, очень хорошо, расслышал бы в последних словах нотку принуждения и понял, что Нинон просто отдает дань вежливости. Но радость, которой озарилось лицо молодого человека, невольно тронула ее, она улыбнулась…
Все-таки ей было приятно видеть юношу, своего красавца сына, и она его принимали на рю Турнель с особым вниманием. Но бедняга неправильно истолковал внимание! Он влюбился в красавицу, о возрасте и склонностях которой ходили легенды. Ах, почему юность так тянется к зрелости? Какой ответ на какие вопросы она надеется получить? До мудрости нужно дорасти, нужно совершить свои собственные ошибки, нужно научиться думать своим умом…
Альберт де Вилье был готов на все, только бы оказаться в постели Нинон. Он не мог понять, почему всем можно, а ему — нельзя?! Расстаться с невинностью он мечтал только в объятиях сей прекрасной дамы.
Охи-вздохи незрелого юнца забавляли Нинон, она и не предполагала, что тот влюбился. Для нее это была игра… всего лишь игра, но любовь отомстила ей за склонность играть чувствами людей. Однажды Альберт кинулся перед Нинон на колени и признался, что обожает ее, что жаждет ее! У Нинон не было никакого желания разыгрывать из себя новую Иокасту,[13] и ей пришлось открыть Альберту, что она его мать.
Однако если Нинон ожидала, что мальчик кинется ей в объятия с криком: «Дорогая мамочка, как я счастлив!», то ошиблась. Такого ужаса она еще не видела на мужском лице! Она даже обиделась несколько, а между тем коленопреклоненный Альберт вскочил и кинулся вон из дому.
Нинон не успела его остановить. Она пожала плечами и отправилась спать. Однако утром ее разбудил садовник, принесший ужасную весть: в саду лежит молодой человек с перерезанным горлом, сжимающий в руке окровавленный кинжал.
Это был он, Альберт! Он покончил с собой!
Нинон, прослушав известие, упала в кресло почти без чувств. Приехал де Жерсей… Он обезумел от горя, но все же у него хватило сил собраться, повелеть унести Альберта. А Нинон все сидела в кресле, неподвижными глазами глядя в зеркало. И чудилось ей, что видит она не свое прекрасное лицо, а какую-то другую женщину, тоже очень красивую, но очень недобрую, с мстительным выражением лица.
— Ты думала, любовь — игра? — услышала она голос той женщины. — Ты думала, это лишь каприз твоего тела? И вот однажды благодаря капризу своего тела ты родила мальчика… а потом очередной каприз довел его до смерти… Неужели ты не перестанешь играть с чувствами людей? Неужели тебя не вразумил столь ужасный случай?
— Кто ты? — спросила Нинон, и собравшиеся вокруг слуги посмотрели на нее с ужасом: сидит напротив зеркала и разговаривает со своим отражением!
— Я — любовь, — последовал ответ. — Я хотела заставить тебя одуматься.
— Неужели? — скептически проговорила Нинон, вызвав новый припадок ужаса у прислуги. — Ты хотела вразумить меня… ты хотела отомстить мне за мою веселую жизнь… Но я осталась жива! Умер другой! Ты отомстила не мне, а моему сыну!
— Мадам, — услышала она иной голос, робкий и дрожащий, и увидела свою субретку, испуганно склонившуюся к ней. — Что с вами, мадам?!
— Ничего, — пробормотала Нинон. — Помогите мне встать. Где мальчик? Его уже увезли?
— Да, мадам.
— А я с ним так и не простилась… — пробормотала Нинон, поправляя волосы и придирчиво глядя на свое отражение.
Зеркало молчало. В нем и в самом деле было всего лишь отражение, ничего больше.
Нет, Нинон после этой истории не впала в прострацию, не ударилась в воинствующую добродетель. Она жила точно так же, как раньше… И все же что-то в ней изменилось. Она с жадностью меняла любовников — поток желающих вдохнуть аромат невянущей розы не иссякал! — но у нее было странное ощущение, что она проживает чужую жизнь. Она была совсем не молодой женщиной, а вместо нее умер юноша. Почему? Зачем судьба оставила ее в живых? Может быть, для того, чтобы она что-то новое узнала о жизни? Но что? Научилась не только любить, но и сострадать?
С той минуты Нинон перестала бояться увядания и смерти. Первое ее не касалось, что же касается второго, она была убеждена: смерть не настигнет ее до тех пор, пока она не узнает чего-то нового… о жизни и любви! То, чего уже не суждено узнать ее умершему сыну.
И снова пошли годы — в привычном ритме. Нинон де Ланкло исполнилось шестьдесят. В нее влюбился без памяти граф Шуазель, впоследствии маршал Франции. Он был на двадцать лет моложе красавицы и… то ли опасался ее оскорбить своими домогательствами, то ли боялся связи с женщиной столь намного старше его. За полтора месяца ухаживаний дело не сдвинулось ни на шаг, что раздражало и оскорбляло Нинон. Она то встречала Шуазеля в неглиже, то заставляла его искать муху под своей нижней рубашкой, но ничего не помогало…
В это время в «Опера amp;#769;» появился танцовщик по имени Пекур, великолепно сложенный, молодой и красивый, считавшийся одним из величайших бабников своего времени. И вот однажды Пекуру передали некое письмо — и он покраснел от удовольствия, прочитав: «Вы танцуете великолепно, — говорят, что вы так же умеете любить. Мне хотелось бы убедиться. Приходите завтра ко мне. Нинон де Ланкло».
Пекур с восторгом ответил на любовь легендарной красавицы, доказал ей, что слухи о его способностях ничуть не преувеличены, и вернул ей утраченную было уверенность в себе. Правда, особым умом танцовщик не отличался, с ним было довольно скучно, зато мужскими достоинствами обладал непревзойденными, и Нинон получила повод сказать: «Я заметила, что умные люди в постели не столь выносливы, как дураки». А Шуазель все продолжал играть в почтительную влюбленность… Но вот как-то раз, явившись к Нинон, Шуазель столкнулся у дверей ее спальни с Пекуром.
— Что вы там делали? — спросил возмущенный граф.
— Командовал корпусом, с которым вы не сумели поладить, — нагло сострил Пекур, имевший все основания быть довольным собой.
Оскорбленный граф ретировался, а Нинон немедленно дала отставку Пекуру, ибо с ним совершенно не о чем было говорить, разомкнув объятия.
Современник пишет: «В 1686 году в Париж приехал молодой барон Сигизмунд Банье, сын шведского генерала. Граф Шарлеваль, его двоюродный брат, один из отвергнутых поклонников неувядающей красавицы, предложил познакомить его с нею. Барон, еще в детстве слышавший о красавице Ланкло, решил, что семидесятилетняя женщина вряд ли представляет для него какой-либо интерес. Однако граф настаивал, и швед скрепя сердце согласился, поддержав пари: если даже Нинон и обратит на него внимание, он останется совершенно равнодушным к ее прелестям. Познакомившись с куртизанкой, барон признал, что был глупцом. Он часто посещал салон де Ланкло, не в силах оторвать восторженного взгляда от хозяйки… Когда в полночь барон выходил из ее спальни, он готов был поклясться, что Нинон не более восемнадцати. Молодой человек поделился своим счастьем с кузеном, который вызвал его на дуэль и убил. Куртизанка упрекала себя в том, что не предотвратила трагедии».
Итак, снова ее чары стали причиной гибели человека. И снова Нинон долго сидела перед зеркалом и рассматривала свое отражение, которое почему-то взирало на нее с ухмылкой весьма иронической, но в ней Нинон чудилось мстительное выражение.
«Кажется, я устала, — подумала красавица. — Кажется, пора заканчивать…»
Но это было легче сказать, чем сделать. Восьмидесятилетний аббат де Жедуаэн, мужчина весьма крепкий, прославленный своими подвигами на полях Амура, приударял за ней и добился победы лишь после того, как Нинон целый месяц томила кавалера. Она отдалась аббату в тот день, когда ей исполнилось восемьдесят… Целый год длилась их связь, но аббат Жедуаэн оказался ревнивее Отелло, и его ревность заставила Нинон расстаться с ним.
Наконец и «король-солнце», Людовик XIV, пожелал увидеть чудо своего века. И вот однажды по просьбе тайной супруги монарха Франции, госпожи Ментенон, Нинон явилась к обедне в придворной церкви. Людовик XIV долго ее рассматривал и выразил сожаление, что столь удивительная женщина отказалась украшать его двор блеском своей иронии и веселостью. Действительно, когда мадам Ментенон предложила ей место при дворе, «царица куртизанок» ответила: «При дворе надо быть двуличной и иметь раздвоенный язык, а мне уже поздно учиться лицемерию…»
И вот однажды Нинон обнаружила, что мужская любовь больше не интересует ее. Черт… Но зачем тогда жить?! Ну, наверное, судьба что-то имела в виду, если лишила ее чувственности. Может быть, она снова, как в ранней юности, сможет отыскать радость только в интеллектуальных играх?
Именно в то время ей как-то раз представили десятилетнего мальчика по имени Аруэ. Он был начинающий поэт, и Нинон с удовольствием слушала его прекрасные стихи, а по завещанию оставила ему 2000 франков на покупку книг. Мальчик вырос, но навсегда сохранил самые теплые воспоминания о женщине, которую не называл иначе, как «моя красивая тетя». Фамилию Аруэ он носил недолго, а прославился под псевдонимом Вольтер…
Нинон умерла 17 октября 1706 года, в возрасте девяноста лет, в своем маленьком домике на улице Турнель. Рассказывают, что, умирая в полном сознании, она сказала: «Если бы я знала, что это все так кончится, я бы повесилась».
У нее было такое ощущение, что жизнь ее обманула. Ни одна любовная история, испытанная в жизни, не приходила на ум. Все-таки любовь, к которой она относилась так несерьезно, сумела ей отомстить… совершенно наскучив своей легкомысленной служительнице!
* * *
А на прощанье — еще несколько любовных афоризмов Нинон де Ланкло:
— чем меньше страсти выказываешь, тем большую страсть возбуждаешь;
— привязанность начинается там, где кончается любовь; неверность начинается там, где кончается привязанность;
— никогда мужчина не бывает так нежен, как после того, как его простили за минутную неверность;
— коварство не в неверности, а в лицемерных ласках неверного. Неверность простить можно, коварство — никогда;
— желание нравиться рождается у женщин прежде желания любить;
— красота без очарования — все равно что крючок без наживки;
— сопротивление, которое оказывает женщина, доказывает не столько ее добродетель, сколько ее опытность.
И наконец — самое лучшее: «Выбирайте: либо любить женщин, либо понимать их».
Похоже, эту женщину никто никогда не понимал. Да вряд ли и она сама себя понимала!
Примечания
1 В греческой мифологии — мать легендарного царя Эдипа, ставшая по неведению его женой.
«Тело твое, косы твои…» (Ксения Годунова, Россия)
Хоть и сказал когда-то Господь, люди, мол, все для меня равны, все они чада мои, всех я их равно люблю и грехи прощаю, однако сами же его создания сих слов словно и не слыхали. То и дело отступают от Божьих заповедей! Ну ладно еще бы в миру, в юдоли греха, царили злоба и немилосердие, однако и в обителях Божиих такие же дела творятся!
…В Кирилло-Белозерском монастыре сестрой Ольгой брезговали, словно шелудивой собачонкой. И косоротились, и задирали носы, и строили из себя святых и праведных. А она была не праведная. Ольгу привезли в монастырь брюхатою, держали в стороне от других инокинь, в уединенной келейке, под присмотром, чтоб не сбежала. Она билась, тосковала, мирячила[14] с горя, а потом у нее вдруг случился выкидыш, причем на таком сроке, когда и ребенок не выживет, и матери опасность смертельная.
Младенца быстренько схоронили, Ольгу оставили выживать как ни попадя. Никто в монастыре за ней особенно не ходил. Да и в миру заступиться за нее, пожалеть, поинтересоваться ее жизнью было некому. Ольга сирота, всеми заброшенная, забытая и покинутая. Отец ее умер. Мать и брат были отравлены. Человек, любовницей которого она недолгое время была и от которого зачала ребенка, отослал ее прочь от себя, чтобы жениться на другой и ту, другую, возвести на престол. А между тем Ольга прежде была царевной, а та, другая, — всего лишь дочерью какого-то польского воеводы…
Отцом Ольги был бывший царь Борис Федорович Годунов. Ее любовника звали государь Дмитрий Иванович (иногда, впрочем, его презрительно кликали Гришкой Отрепьевым, расстригою и самозванцем). Имя польки-разлучницы было Марина Мнишек. Ну а саму Ольгу, прежде чем она накрыла клобуком все, что осталось от ее чудесных, роскошных кос, звали царевна Ксения Борисовна Годунова.
* * *
В июле 1605 года Москва встречала царя-победителя — Дмитрия Ивановича, сына Грозного. И те, кто верил, будто он истинно сын своего отца, и те, кто, напротив, убежден был, что к престолу стремится самозванец, с равным восторгом ждали его восшествия на трон московских государей. Все устали от мрачной власти Годунова, обернувшейся годами страданий и мрачного террора.
Мрачен, мрачен был прежний государь! Не зря говорили про Бориса Федоровича иноземцы: «Intravit ut inlpes, regnavit ut leo, mortus est ut canis(лат.)!»[15] Короче говоря, собаке — собачья смерть! А этот, новый, молодой, светлый…
Дмитрий и вошел-то в Москву в лучезарный солнечный день. Улицы были забиты народом — казалось, население столицы по такому случаю увеличилось не меньше чем вдвое. Люди нетерпеливо всматривались в восточную сторону, откуда по Коломенской дороге должен появиться государь. И вдруг там замаячила словно бы туча, прошитая сполохами молний: то мчались всадники, сверкая доспехами. В тот же миг ударили приветственно пушки, и залп заставил народ пригнуться к земле, пасть ниц, возопить счастливо:
— Челом бьем нашему красному солнышку!
Пышный царский поезд приближался с левого берега Москвы-реки: русские всадники в раззолоченных красных кафтанах, блистательные польские гусары, величественный строй русского духовенства… По слухам, Дмитрия сопровождало восемь тысяч русско-польского войска! Пышность, стремительность движения подавляли, вышибали слезу.
— Дай тебе Бог здоровья! — неистовствовал народ, силясь донести до государя свою преданность и любовь, а он отвечал, осеняя приветственными взмахами руки павшую ниц толпу:
— Дай вам тоже Бог здоровья и благополучия! Встаньте и молитесь за меня!
Наконец, переехав мост, молодой царь оказался на Красной площади. Он приближался к Кремлю, откуда двадцать два года тому назад был позорно изгнан вместе с матерью, царицей Марьей Нагой, последней женой Ивана Грозного.
Подъехав к Иерусалиму (так называлась церковь на горе у Кремля), Дмитрий остановился, снял с головы шапку, поклонился как мог низко и возблагодарил Бога за то, что тот сподобил его увидеть город отца своего, Москву златоглавую, и подданных, которые сейчас воистину были готовы отдать за него жизни свои.
Слава победителю! Счастье победителю! И горе побежденным!
Годуновых согнали в заброшенный дом, в котором некогда жил тесть царя Бориса, баснословный палач Малюта Скуратов, и там предложили им выпить яд. На всю жизнь запомнила Ксения нетерпеливые лица — нет, они больше походили на звериные морды! — князей Василия Голицына и Василия Михайловича Мосальского-Рубца и их подручного Андрюшки Шеферединова.
Храбрее всех оказалась Марья Григорьевна Годунова. Она была воистину дочерью своего отца Григория Ефимовича Скуратова-Бельского, более известного как Малюта Скуратов. Мать выпила смертоносное питье и умерла на глазах детей. Ксения от ужаса лишилась чувств и больше ничего не видела, но потом ей рассказали, что и Федора принудили принять яд. Ксения, едва живая от потрясения, очнулась в доме Мосальского-Рубца и узнала, что Дмитрию, ненавистнику Бориса Годунова, мало было уничтожить его семью, разрушить до основания его дом, мало было взойти на трон, с которого он согнал Годуновых, — ему нужно было и заполучить Ксению в рабыни-наложницы!
Горе побежденным! Женщинам побежденных — горе вдвойне…
Месяц прожила Ксения в доме князя Мосальского на положении узницы-затворницы. Первые дни лежала в горячке — молила, звала к себе смерть, однако та не послушалась. Ксения отказывалась от пищи, а как-то раз даже и впрямь попыталась наложить на себя руки, обкрутив вокруг шеи длинную, толстую, черную косу и сильно потянув. На беду, вошла в комнату служанка — подняла крик, созвала народ. Вбежал сам князь Василий Михайлович, и Ксения думала, он прибьет ее от злости, но досталось только ни в чем не повинной служанке. С тех пор с пленницы ни на миг не спускали глаз: горничные, сенные девки сменялись в ее комнате беспрестанно, ночью не спали, бессонно таращились на царевну. О, вот где настала мученическая мука! Ксения почувствовала, что от их неусыпного внимания вот-вот сойдет с ума.
Знала, почему ее не убили, почему так берегут. Вернее, для кого берегут! Настал ее черед. Ворвется, навалится потным, волосатым телом, вопьется щербатым ртом…
От одних мыслей таких Ксению начинало рвать желчью. Она исхудала, осунулась. Глядя на свои истончившиеся пальцы, вдруг почуяла надежду на спасение. Может, утратит красоту? Спадет с лица и с тела? Погаснут от слез глаза, разовьются кудри — ведь они от счастья вьются, а не с печали! Может, не захочет ее Самозванец? Другую найдет, передумает брать себе на ложе некрасивую дочь царя Бориса?
Не передумал. В комнату ворвался князь Мосальский — глаза так и скачут, рот в струнку:
— Пришло твое время, Ксения Борисовна!
За ним вбежали горничные девки, подхватили Ксению с постели, поволокли под руки в сени, оттуда в придомную баньку. Уж ее мыли-мыли, терли-терли, розовыми водами ополаскивали, не давали отдышаться. Наконец до скрипа промытые, влажные волосы заплели в две косы. Принесли одежду. Ксения так и ахнула, узнав свой любимый сарафан — шелковый, темно-синий, с вышивной вставкою от груди до подола, и еще по подолу вышивка. Как же нравилось отцу, когда Ксения надевала этот сарафан!
Слезы навернулись на глаза, но тут же высохли, когда в ошеломленную голову прокралась мысль: для чего ее намыли, для чего волосы заплели, для чего нарядили. И ларец зачем подали, в котором держала она свои наилучшие украшения: серьги, ожерелья, запястья и перстни, — выбирай, и зеркало принесли…
«Настал час!» — сказал Мосальский. Знать, и впрямь настал…
И все же Ксения гнала от себя эту мысль. Даже когда карета повезла ее вместе с князем Василием Михайловичем в Кремль. Даже когда повели ее по знакомым коридорам и переходам. Даже когда распахнули двери в просторную баню, в которой, знала Ксения, любил иногда париться отец. Для него баня и была нарочно выстроена: не как русская, а с какими-то хитрыми иноземными приспособлениями.
— Зачем в баню? — спросила Ксения, полуобернувшись к Мосальскому. — Я же только что…
И осеклась: Василий Михайлович, минуту назад следовавший на полшага позади, исчез. Дверь за спиной Ксении оказалась заперта.
Вдруг донесся громкий смех. Женские заливистые голоса сплетались с мужскими, басовитыми.
Ксения отскочила к стенке, забилась в угол. Прижала руки к сердцу: чудилось, оно вот-вот выскочит.
Отворилась тяжелая дверь, откуда понесло сырым горячим паром, и в предбанник вбежали три девки. Они были наги, мокрые; распаренные тела сверкали округлостями грудей, бедер, плеч; сырые косы змеились по спинам. Девки показались Ксении необыкновенно красивы — и в то же время страшны, словно ведьмы. Нет, водяницы-русалки! Вот именно: они были похожи на русалок, в которых, как известно, обращаются девушки, умершие от несчастной любви. А потом они безудержно веселятся и норовят вовлечь в свои объятия всякого пригожего молодца, чтобы защекотать его, зацеловать, залюбить до смерти.
Однако двое мужчин, которые появились в предбаннике вслед за развеселыми девками, меньше всего походили на покойников. Их статные тела были распарены до красноты, лица сияли здоровым румянцем, а зубы сверкали в улыбках.
Ксения какое-то мгновение оцепенело смотрела на полуголых мужчин. Чресла, правда, были прикрыты исподниками, однако натянули их мужчины на мокрые тела, поэтому они почти не скрывали ни мускулистых ног, ни обтянутого тканью, возбужденного естества.
— Что загляделась, Ксения Борисовна? — спросил один из мужчин, ростом повыше, черноглазый и черноволосый. Торс его густо порос черной шерстью. — По нраву я тебе пришелся?
Ксения его узнала. Не раз видела во дворце молодого воеводу Петра Федоровича Басманова, возвышенного ее отцом (род Басмановых, прежде бывший в несравненной милости у царя Ивана Грозного, потом впал в долгую опалу). Да, помнится, покойный брат Федор обещал ее в жены этому человеку, надеясь, что тот спасет его шаткий трон, его царство от самозванца. Ни мать, ни брат не спрашивали согласия Ксении на брак с Басмановым — да какое им всем было дело до ее согласия!
Второй был Мишка Молчанов, виденный мельком при отцовом дворе. Теперь они оба, что Басманов, что Молчанов, — первые сподвижники самозванца.
Что с ней сделают эти двое, как натешатся? Обратят в игрушку своих прихотей? Или, не получив чаемого удовольствия, просто-напросто перережут ей горло?
Тошнота накатила, вновь начала обморочно кружиться голова.
— Эй, девки! Евины дочки! — воскликнул вдруг Басманов. — Что стали? Разве не видите — новая подружка ваша закручинилась, запечалилась? А ну, нарядите Ксюшеньку, как следует в бане быть наряженной, да поднесите ей для возвеселения души чарочку-другую!
Девки, притихшие было в уголочке, со всех ног кинулись к гостье, и не успела та и глазом моргнуть, как сарафан, рубаха и исподняя сорочка слетели с нее, и оказалась она раздета донага. От изумления, от неожиданности, от потрясения и испуга Ксения даже сопротивляться не могла: только вяло отмахивалась, бормоча коснеющим языком:
— Оставьте! Христа ради, оставьте! Да пустите же меня!
Наконец-то девки отступились от нее, явно довольные делом своих рук. Басманов и его сотоварищ по блуду смотрели вприщур, тяжело дыша. Потом Молчанов сделал шаг вперед.
— Не-ет, Мишка, — протянул Басманов, хватая его за руку, — моя она будет! А сунешься вперед меня, хрип перегрызу.
— Ой, не шибко заносись, Петр Федорович, — не то насмешливо, не то чуточку обиженно ответил Молчанов. — И на хрип мой зубов не востри. Сдается мне, что нам с тобой лишь о втором да третьем череде спорить придется! — И он кивнул на дверь, отделявшую помещение мыльни от предбанника.
В ту минуту дверь из мыльни резко распахнулась, и на пороге в клубах горячего пара показалась фигура невысокого мужчины, одетого, вернее, раздетого так же, как и Басманов с Мишкою. Он поддерживал под руку пышнотелую девушку с мокрыми, полурасплетенными косами. Девушка была то ли усталой до полусмерти, то ли пьяной. Ноги ее подкашивались, глаза блуждали. Незнакомец заботливо довел ее до лавки, на которую она плюхнулась, словно ком сырого теста. Прислонилась к стене, завела глаза…
Ксения вдруг заметила, что на груди ее, на плечах и животе краснеют какие-то пятна. Да что ж такое? Мерещится ей или и впрямь отчетливо виднеются следы зубов?!
Перевела исполненный ужаса взгляд на незнакомого мужчину: да ведь именно он грыз-кусал измученную деваху, словно кровь из нее пил, жизнь высасывал! Не вурдалак ли стоит перед Ксенией?!
— Дмитрий Иванович, батюшка, — сказал в то мгновение Басманов с долей укоризны. — За что ж ты этак-то уходил бедную девушку? Чем она провинилась пред тобой?
— Да ну, холодная была, как студень, — с досадой ответил незнакомец Басманову, внимательно глядя на Ксению. — Уж я ее грел, грел… Ничего, разошлась, да больно крику много было поначалу. Словно я ее не невинности, а самой жизни лишал. Скучно, не водите мне таких больше. Мне по нраву горячие да смелые.
«Да ведь он в мыльне с девкой спознался блудным делом! — вдруг сообразила Ксения. — Изнасильничал так, что бедняжка на ногах не стоит. И не стыдится злодеяния, а кичится им, словно какой доблестью!»
— Горячие да смелые? — переспросил Мишка. — А вот не пожелаешь ли отведать новенькую? — предложил вкрадчиво. — Только поспеши, государь, на нее уж Петр Федорович зело губу раскатал.
Басманов украдкой показал приятелю кулак, Мишка довольно захохотал, но Ксении уже было не до них. Во все глаза, забыв о смущении, забыв о своем страхе и ужасной судьбе изнасилованной девушки, смотрела она на полунагого человека, которого охальник Мишка назвал государем, а Басманов — Дмитрием Ивановичем.
Самозванец! Губитель отца! Губитель всей семьи Годуновых!
Ксения думала, он страшен, аки зверь рыкающий, но Дмитрий отчего-то не похож на зверя. Невысок, но широк в плечах, а грудь его лишь слегка покрыта волосом. Отчего-то облик его не пугает Ксению, хотя красавцем незнакомца не назовешь. Хороши в его лице только темно-голубые глаза и очень белые зубы, которые порою просверкивают в стремительной, внезапно вспыхивающей и тотчас угасающей улыбке.
Ксения вдруг обнаружила, что губы ее дрогнули в ответной улыбке, ужаснулась этому и торопливо прикрыла рот ладонью. Слабо отмахнулась от неотступного, немигающего взгляда темно-голубых глаз. Почему он смотрит так ласково? Он же должен ее ненавидеть за грехи отца! И она ненавидит его, убийцу и насильника!
Ненавидит?
У нее вдруг мурашки пробежали по телу от его пристального взгляда. С ужасом ощутила, что соски встопорщились, и хоть Ксения пыталась прикрыть груди ковшиками ладоней, все успели заметить ее волнение.
— Кыш, девки! — негромко прикрикнул Мишка Молчанов и чуть всплеснул ладонями, словно и впрямь гонял кур. — Кыш, кому говорю!
Девки быстренько убрались из предбанника. Следом вышли Басманов и Мишка, отвесив поклоны тому, кого они называли государем.
Ксения спохватилась. Коли все уходят — наверное, и ей тоже можно уйти отсюда? Сделала было шаг к двери, другой…
— Погоди, — сказал он тихо. — Останься, останься со мной, прошу тебя.
Ксения глянула в его глаза; слабо шевеля губами, медленно опустилась на лавку — ноги не держали, сердце останавливалось.
Он подошел, протянул руку, скользнул пальцами по плечу, по груди.
— Косы твои, — пробормотал словно во сне. — Тело твое…
Ксения обмерла от звука его голоса. Наброситься на него, выцарапать глаза, изодрать ногтями щеки? Может, убьет, но пощадит девичью честь?
И вдруг, сама не сознавая, что делает, Ксения наклонилась к его ласкающей руке и поцеловала ее.
* * *
Ксению Годунову в Москве любили — не в пример ее отцу, государю! Любили за красоту, которой всегда молва наделяет девиц из царского дома. Но тут молва была ни при чем, ибо всем было известно, что Ксения и впрямь первая красавица на Москве, а может, и по всей Руси. Косы трубчаты, брови союзны, очи темны, щеки румяны, а лик и тело молочно-белы, словно вылиты из сливок.
Впрочем, не зря народная мудрость гласит: не родись красивой, а родись счастливой! По всему видно, судьба на сей дар для царевой дочки не больно расщедрилась, ибо засиделась красавица в невестах, а первая попытка отца-государя добыть для нее жениха закончилась неудачей, даром что портрет Ксении, весьма искусно сделанный придворным ювелиром Яковом Ганом и отвезенный послом Постником Дмитриевым в иноземные государства, привел в восторг всех, кто только видел лицо русской царевны.
Дело было не в ней. Дело было в ее отце-выскочке, с которым никто не хотел родниться!
В конце концов царь Бориска (именно так, презрительно, звали его на Руси) решил пригреть под своим крылышком шведского королевича, незаконного сына короля Эрика. По мнению Годунова, из этого робкого жениха при поддержке России в будущем можно будет сделать настоящего короля!
Королевич Густав прибыл в Москву тише воды, ниже травы, но от царских непомерных милостей раздулся, словно водяной пузырь. А нравом он оказался сущий позорник, нечестивец, охальник, каких свет не видывал.
Мыслимое ли дело? Привез с собой из Данцига в Россию полюбовницу! Мужнюю жену какого-то там Христофора Катера, с которой сошелся, покуда квартировал в его гостинице. Прижил с ней двоих детей и их тоже в Россию притащил. И поселился с ними в роскошном дворце, который нарочно для него выстроил царь Борис. Катал всех их в карете, запряженной четверней (тоже государев подарок!), а жили они на доходы с Калуги и трех других городов, выделенных Густаву «в кормление» щедрым русским государем. Долго терпел царь, пока наконец не потерял терпения и не сослал Густава в городок Кашин. Так лопнул пузырь по имени шведский королевич Густав. А царь Борис принялся выискивать дочери другого жениха…
Теперь его выбор пал на датского принца Иоганна, родного брата короля Христиана IV. Все надеялись, что с ним участь Ксении будет счастливей. По слухам, королевич Иоганн и собой пригож, и нравом добр, и смирен — не в пример прежнему жениху.
Встречать его вышла чуть ли не вся Москва. И вот появился поезд королевича Иоганна, состоявший из множества великолепных карет и роскошно одетых всадников.
Вблизи Тверских ворот стоял красивый боярин в алтабасовом кафтане, по которому волной шел свет от множества украшавших его разноцветных каменьев. Боярин держал в поводу аргамака, сбруя коего сияла золотом. Это был Михаил Иванович Татищев, ясельничий государев, державший коня самого царя. Конь был знаком высокой чести, который Борис Годунов намеревался оказать своему будущему зятю.
Затаив дыхание, смотрели москвичи, как из самой красивой кареты, затканной изнутри алым шелком, а сверху покрытой литыми золотыми пластинами, вышел хрупкий молодой человек в черной шляпе с пером, в черном бархатном камзоле с широченным белым кружевным воротом, на который спускались светлые, длинные, вьющиеся волосы. Его лицо было нежным, словно у отрока, и то и дело заливалось застенчивым румянцем. Правда, нежные черты несколько портил большой горбатый нос, но, судачили в толпе, с лица воду не пить, а красоты царевой дочки вполне хватит на двоих: и на нее саму, и на жениха.
Да, юноша в черном бархате и был брат датского короля, герцог Иоганн, которому здесь предстояло пересесть на государева коня и далее проследовать в Кремль верхом, в сопровождении ясельничего Татищева и дьяка Афанасия Власьева, который и устраивал, собственно говоря, будущий брак, ведя переговоры с датским правительством от имени Бориса Годунова.
Королевич медленно — возможно, медлительность сия была вызвана важностью, но, возможно, и неловкостью — взобрался на коня, умостился в высоком, затейливо украшенном седле, и поезд снова тронулся в путь, сопровождаемый стрельцами в белоснежных кафтанах.
— Ох и обоз у него! Ох и поезд! — раздавались в толпе голоса. — Неужто это все наш царь ему надарил? А слуги? Свои у него слуги или нанятые? И хорошее ли жалованье им дают?
— Сказывают, людей он своих привез к нам на прокорм, — говорил знающим голосом какой-то немолодой купец. — Кого только не набрал! Попа своего и разных попиков, поваров со стряпками и поварятами, служителей комнатных, учителей, чтоб его обучали шпагами ширяться, музыкантов своих, на ихней музыке играть обученных… Да еще что! — палача даже своего прихватил!
Народ хохотал.
Однако не миновало и нескольких дней, как на улицах речи зазвучали печальные.
— Что русскому здорово, то немцу смерть, — качали головами москвичи. — Небось обкушался королевич после своей иноземной голодухи. Слыхали? Сказывают, царь его с золотой посуды угощал! Ну, у того брюхо и не выдержало. Сомлел…
Спустя самое малое время после своего приезда принц Иоганн внезапно заболел. Царский дом, все придворные и свита герцога сначала лишь немного встревожились, но уже через день-другой тревога сделалась нешуточной. Герцога поразила горячка, которая усиливалась уже не по дням, а по часам. Царь весьма испугался и послал к иноземному королевичу своих докторов, аптекарей и хирургов, наказав им быть при его высочестве неотлучно днем и ночью. Даже и сам он посетил Иоганна — проливал над ним горючие слезы…
Как ни жалко было москвичам красивенького, беленького королевича, как ни желали они своей царевне счастья с пригожим женихом, однако слухи о горькой печали царя их оскорбили. Теплота, с какой народ встречал Иоганна, мигом обратилась в свою противоположность. В столице судачили: дескать, посетив самолично какого-то язычника, латина, царь сильно унизил свою честь и честь всей России. Не иначе, лишился разума! Ну а уж когда все государево семейство собралось в Троице-Сергиеву лавру — служить молебны во здравие умирающего герцога (а по всему выходило, Иоганн помрет-таки!), тут уж развел руками даже царев двоюродный брат Семен Никитич Годунов, ранее поддерживавший его в каждом шаге, преданно ловивший каждое его слово, вынюхивавший его неприятелей и даже называемый в народе «ухом государевым».
И все же царская семья пустилась в Лавру. Неуместная пышность сего почти погребального выезда вновь поразила народ. Впереди государева поезда двигалось шестьсот всадников и двадцать пять свободных коней, покрытых чепраками из сплошь златотканой парчи. За ними ехало две кареты — одна пустая, та самая, обитая изнутри алым шелком и сверху крытая золотыми пластинами, в которой доехал до Москвы королевич Иоганн, и другая, изнутри бархатная, где сидел сам государь. Первую окружали всадники, вторую пешие царедворцы. Далее скакал верхом юный царевич Федор, брат Ксении; коня его вели знатные чиновники.
Позади следовали толпой бояре, за ними — придворные. Обочь дороги, сдерживаемые стрельцами, бежали простолюдины, держа наготове свои челобитные, которые они желали передать государю. Сначала стрельцы гнали народ, однако потом по приказу царя, соизволившего хоть на время отереть слезы по чужеземцу и снизойти к своему народу, чиновники собрали челобитные, сложили в особый красный ящик и пообещали вскорости представить вниманию государя.
Через полчаса после царя из Кремля выехала царица Марья Григорьевна в великолепной карете, а в другой, поменьше и со всех сторон закрытой, сидела царевна Ксения. Первую везла десятка белых коней, вторую восьмерка. Впереди вели в поводах сорок свободных коней, а за ними следовала дружина всадников, состоявшая сплошь из почтенных, седобородых бояр; позади карет царицы и царевны ехали на белых лошадях двадцать четыре боярыни, принадлежащие к приближенным той и другой. Их охраняли триста алебардщиков.
Словом, выезды такой пышности видели в Москве не часто — жаль, что поводом к сему послужило столь печальное событие.
Сидя в своей карете рядом с ближней боярыней — она была тоже из Годуновых, каких-то дальних родственников, Ксения думала о своей неудачливой участи. Когда матушка сообщила о королевиче Густаве, которого прочили в женихи царевне, Ксения невзлюбила его за одно только имя. При мысли, что придется с ним в одну постель ложиться, на душе делалось тоскливо до слез, словно в студеный и пасмурный октябрьский день. А уж когда прослышала про его полюбовницу и двоих незаконных детей, и вовсе хоть в петлю лезь. Ксения не скрываясь обрадовалась, когда отец дал шведскому королевичу отставку. Датский герцог Иоганн ей понравился куда больше. Ох и нахохотались они с любимой служанкой Дашуткой, воображая, как королевич полезет к ней целоваться, а нос-то его мешать станет! Дашутка что-то такое нашептывала, мол, мужики с большими носами большие умельцы в постельных утехах, но Ксении все равно было смешно…
Увы, Ксении не дано было узнать, как счастлива была бы ее жизнь с датским королевичем. И все усилия докторов, и пышная поездка царской семьи в Троице-Сергиеву лавру оказались напрасны. Десять дней молились Годуновы над ракой с мощами святого Сергия Радонежского, но не дошли их молитвы до чудотворца: жених царевны Ксении умер, так ни разу и не увидав свою невесту. Похоронили его в Немецкой слободе. Вновь высыпал народ на улицы — поглазеть на похороны, и не могли люди решить, что устроил их государь с большей пышностью: въезд королевича Иоганна в Москву либо отбытие его к месту последнего упокоения.
Набальзамированное тело злосчастного герцога положили в дубовый гроб, отделанный медью, обитый большими крепкими обручами и кольцами черного цвета. Гроб поставили на большую черную колесницу, запряженную четверкой вороных коней, а впереди шли еще восемь коней под черными попонами, везли гербы королевича и его корону. Придворные все шли в черном, жалевом[16] платье, несли свечи черного воска.
Царь с сыном, сопровождаемые боярами, дворянами и дьяками, провожали усопшего по Москве с великим плачем: пешком прошли две улицы, чем несказанно удивили и уязвили московитов. Мыслимо ли такое почтение к чужеземцу проявлять? Свой народ голодом царь морит, а ради латина не гнушается ножки в пыли запачкать?! А из Дании между тем поползли слухи, что в России герцог Иоганн не просто так взял себе да и помер, — непременно отравили его по приказу царя Бориса, который убоялся соперника, коего мог бы обрести в лице королевича.
Ксения о тех слухах, по счастью, не слышала: плакала, не осушая слез, над своей горькой долей. Молила мать, подсылала ее к отцу: дескать, пустил бы дочь в монастырь, что проку стареть в унылом девичестве! Однако того участь дочери вдруг перестала волновать. Понял, что с помощью ее брака вряд ли сыщет достойных союзников. Теперь он всецело увлекся женитьбой меньшого сына Федора и начал искать ему невесту в окрестных землях. Одно посольство даже отправилось в Грузию! Однако Ксении в монастырском затворничестве все-таки было отказано.
А между тем из Польши ползли все новые и новые слухи о самозванце, и были они один страшней другого.
* * *
И вот Ксения стала любовницей самозванца — нового государя. И поняла, что участь ее не позорна, не страшна, а желанна и сладка. Потому что она полюбила своего властелина.
Для Ксении простое слово «люблю» было равнозначно клятве перед алтарем, она почитала себя не наложницей, не любовницей, но женою, и днем, в ожидании возвращения Дмитрия, вела смиренную затворническую жизнь, приличную от века всем прежним обитательницам кремлевских теремов. Дочь государя, она была воспитана в уверенности, что рано или поздно станет женою государя. Какое дело было Ксении до того, что отец ее обманом взял престол московский, а тот, чьей невенчанной супругою она сделалась, иными людьми звался беззаконным царем? Что ей было до того, что из-за него приняли смерть ее отец, мать, брат? Все чудилось теперь совершенно неважным. Даже то, что сама Ксения некогда замышляла самоубийство, только бы не достаться самозваному чудовищу, беглому монаху-расстриге, порождению диаволову…
Чьим промыслом она избегнула смерти? Кто спас ее? Бог ли, враг ли его?
Неважно. Она жила только любовью.
А Дмитрий, наслаждаясь ее прекрасным телом, играя ее чудными косами, вспоминал невероятные, безумные мечтания прошлых лет, когда он еще жил в России, таился о своем происхождении, еще не пошел искать счастья на чужбине, еще не встретил гордую полячку, завладевшую его душою. В те прежние времена он позволял себе помечтать, как воссядет на московский престол, а рядом с ним будет сидеть красавица Ксения….
Любовь поглотила ее всю. Она считала часы и минуты до появления Дмитрия, до его зова. Время, проведенное не с ним, было пустым и унылым. Как же обрадовалась Ксения, когда однажды не пришли ее месячные дни, когда она поняла, что беременна! Тихо надеялась, что теперь Дмитрий женится на ней. Ведь она — царевна, мужем ее должен быть царь. Вот и будет…
Она забыла, что где-то в Польше у Дмитрия есть невеста — дочь сендомирского воеводы, Марина Мнишек. Отчего-то была уверена, что там все давно закончено, что не может он любить другую, когда у него есть Ксения!
А потом настало то страшное утро, когда ее разбудил не Дмитрий — жарким поцелуем, а Петр Басманов — неласковым прикосновением. Пряча глаза, словно стыдясь, велел собраться в дорогу и ни словом не ответил на мольбы и расспросы. Только уже на пороге Ксения поймала его взгляд, полный жалости.
Не от Басманова — гораздо позднее, стороной, Ксения узнала, что отец невесты Дмитрия, пан Юрий Мнишек, прислал ему возмущенное письмо.
«Есть у вашей царской милости неприятели, — писал Мнишек после витиеватых и приличных приветствий, — которые распространяют о поведении вашем молву. Хотя у более рассудительных людей эти слухи не имеют места, но я, отдавши вашему величеству сердце и любя вас, как сына, дарованного мне от Бога, прошу ваше величество остерегаться всяких поводов, а так как девица Ксения, дочь Бориса, живет вблизи вас, то, по моему и благоразумных людей совету, постарайтесь ее устранить от себя и отослать подалее…»
Хитрый Юрий Мнишек писал как истинный иезуит, достойный ученик учителей своих, сынов Игнатия Лойолы.[17] Мнишек не угрожал, не стращал Дмитрия. Но уже само получение его письма, само имя Ксении, названное в нем, значило для понимающего неизмеримо много. Как говорится, умный поймет с полуслова. Вот и Дмитрию стало понятно: отец Марины не просто рассержен — он в ярости! Насчет мягкости укора будущему зятю за откровенное распутство обманываться не стоит — мягкость сия мнимая. И если Дмитрий не внемлет предупреждению, Мнишек посчитает, что он нарушает принятые меж ними соглашения, а значит, сам сочтет себя вправе нарушить главное свое слово: отпустить из Польши дочь.
Прочитав письмо, Дмитрий быстро зажмурился, словно пред ним где-то вдали блеснул страшный огненный меч. Он знал, что в его любви к Марине Мнишек есть нечто роковое, нечто пугающее его самого. Наваждение… Может быть, бесовское наваждение, но… Но одна только мысль о том, что, быть может, он никогда не увидит ее больше, заставляла дыхание пресечься. Нет, лучше не думать, не размышлять, отчего так складывается, отчего душа его скручивается в тугой комок необъяснимой боли при одной мысли, что он никогда не увидит Марину.
Мнишек знал, что делал, когда писал свое письмо. До его получения присутствие Ксении во дворце могло быть сколь угодно долгим. Но с той минуты, как Дмитрия известили о письме, все изменилось. Он принял решение расстаться с любовницей мгновенно. Не тянул, не колебался: разрубил узел одним махом. Теперь Марине путь в Россию вполне открыт.
Марина — венец его трудов, венец его стараний и страданий, его заслуженная награда, не менее желанная, чем московский престол. Может быть, даже более… Так думал Дмитрий.
А Ксения думала: «Уж лучше бы ударил ножом под сердце…»
Ну да, она была для Дмитрия всего лишь любовницей, наложницей, игрушкой. Ксения просто забыла об этом и поверила в невозможное счастье.
Кажется, Петр Басманов, сообщивший ей о немедленном изгнании, был последним, кто смотрел на нее, бедную, с жалостью, потому что в глазах Михаила Татищева, который вез ее в монастырь на Белозере, в глазах его сестры, настоятельницы монастыря, в глазах сестер-монахинь Ксения потом читала только злорадство, в лучшем случае — равнодушие.
Надобно сказать, что настоятельница Белозерского монастыря, мать Феофилакта, в миру Неонила Татищева, принадлежала к числу ярых неприятельниц как Годунова, так и нового государя. Она состояла в переписке с епископом астраханским Феодосием, который вслед за отправленным в узилище патриархом Иовом во всеуслышание протестовал против воцарения Дмитрия и не побоялся сказать ему: «Бог знает, кто ты, ибо истинный царевич убит в Угличе!» Она открыто ссорилась с братом Михаилом, который присягнул сомнительному сыну Грозного, полагала, что все права на трон после смерти царя Федора Ивановича принадлежат Романовым, родственникам покойной царицы Анастасии. На худой конец мать Феофилакта была готова увидеть на престоле князя Василия Ивановича Шуйского — ладно уж, тоже имеет право по древнему происхождению, хоть и лжив не в меру да слабоват норовом. Можно не сомневаться, что мать Феофилакта не побоялась бы и самому царю Дмитрию высказать свои крамольные взгляды, — поэтому трудно было ожидать от нее смирения и жалости по отношению к его брошенной любовнице. Вдобавок ко всему дочери Годунова! Будь ее воля, настоятельница выгнала бы блудницу за порог обители, однако ограничилась тем, что против воли государя, велевшего пока что подержать Ксению в белицах, незамедлительно постригла ее в монахини, дав имя Ольги, да еще присовокупила мстительно: «Что ему за забота теперь, в миру живет девка или ушла в Христовы невесты? У него небось своя есть обрученная невеста, безбожная полька, вот пускай с ней и утешается. Безбожнику — безбожное! А у нас тут свои законы, нечего нам указывать!»
Так что положение Ксении (вернее, Ольги) в обители было самое незавидное.
Правда, там была одна юная девушка, послушница Дария, которая жалела Ольгу и даже выходила ее после тяжелых преждевременных родов. Ах, как проклинала Ольга глупую девчонку Дарию, пусть и втихомолку! Если бы не она, смерть давно уже прибрала бы никому не нужную страдалицу.
Ради чего она выжила? Чтобы однажды увидеть на своем окошке двух белых голубей и угадать, что в эту минуту погиб Дмитрий?
После того как царя Дмитрия Ивановича, сына Грозного, убила подстрекаемая боярством чернь, тело его раздели донага и выволокли на площадь.
— Видали охальника? — сказал какой-то боярин, озирая могучее и после смерти естество убитого. — Уж и баб-то он испаскудил — слов нет. Сказывают, тридцать брюхатых монахинь после него остались по ближним монастырям.
Говоривший был сморчковат сложением, и в голосе его звучали явственная зависть и тоска по недостижимому. Знал ли он, что у Дмитрия была только одна «брюхатая монахиня» — Ксения Годунова?
Неважно, знал или нет. Главным сейчас было — как можно сильнее унизить павшее величие царя. Гонимый мелкой, гнусной мстительностью, мужичонка принялся помогать тем, кто привязывал веревку к ногам Дмитрия, дабы тащить его на позор, как падаль, и особым пакостным образом накинул петлю на его естество.
Кругом захохотали. К тому времени, как труп вытащили из Кремля через Фроловские ворота на Красную площадь, он был настолько обезображен, что не только знакомых черт в нем нельзя было распознать, но и вообще увидеть человеческий образ.
Вслед тащили — тоже за ноги — труп Басманова.
Царя положили на каком-то коротеньком — не больше аршина — столике так, что голова его и ноги свешивались вниз. Басманов валялся прямо на мостовой, близ столика, и ноги Дмитрия лежали на его груди.
— Ты расстриге в верности поклялся, пил с ним и гулял, не расставайся же с ним и после смерти, — ухмыльнулся какой-то глумец.
На Дмитрия напялили личину для ряженых — лишь только вчера рисовала ее своею рукою Марина Мнишек, готовясь к карнавалу. Кто-то вынул из-за пазухи дудку, верно, взятую у убитого музыканта, и, чуть сдвинув личину, всунул в рот мертвому царю:
— А подуди-ка! Потешь нас песнями!
Еще один москвитянин швырнул на труп грошик — как скоморохам подают. Но большинство просто подходило и ругалось над трупом самым срамным образом, причем женщины не уступали мужчинам.
Некий иноземец, пришедший утром другого дня, насчитал на трупе двадцать одну рану.
Но прежде чем настало утро, странные дела начали твориться на площади!
Мало того, что в ночь после убийства Дмитрия установились страшные морозы, от которых померзло в Московии все, что было посажено в огородах и садах. В то же время трава и листья на деревьях пожухли и почернели, как если бы были опалены огнем. Так случилось на двадцать верст вокруг Москвы. Да и вершины и ветви сосен, которые зимой и летом стоят зелеными, пожухли и поблекли так, что жалостно стало глядеть. А на площади возле мертвого тела отчетливо раздавалось играние на сопелках, звон бубнов, развеселое пение.
— Это, — говорили знающие люди, — бесы приносили честь любившему их расстриге и праздновали его сошествие в ад.
Возле тела Дмитрия беспрестанно показывались из земли огоньки: стоит караульному приблизиться, они исчезнут, а отойдет стража — вновь появляются и ну перебегать туда-сюда, мигать да подмигивать.
Хуже другое! На труп стали по ночам прилетать два белых голубя, и отогнать их не было никакой возможности: по ним и стреляли, и шумели рядом, а они все равно сидели рядом с Дмитрием, прикрывая его своими крыльями.
Не тех ли голубей видела на своем окошке в Белозерской обители сестра Ольга, в миру Ксения Годунова?
* * *
Она с нетерпением, как милости, ждала, что вот теперь-то смерть приберет ее. Однако время жизни ее и мучений еще не иссякло.
Взошедший на престол Василий Иванович Шуйский, тот, кто более всех приложил руку к свержению и убийству царя Дмитрия, сначала устроил перезахоронение гроба царевича Дмитрия, якобы убитого в Угличе (вот дивились люди, увидав, что гроб пуст… только теперь поверили, что правду рассказывал Дмитрий Иванович о своем чудесном спасении, да было поздно, а говорить о том было смерти подобно). Потом он пожелал оказать почести другому участнику угличской истории — самому Борису Годунову! Гробы Бориса, его жены и сына были вырыты с бедного кладбища Варсонофьевского монастыря и с царственным великолепием перевезены в Троицкий монастырь. Для участия в процессии была спешно привезена из Белозера инокиня Ольга, в миру Ксения Годунова. Бледная, изможденная, словно только восстала от тяжелой болезни, она молча прошла за гробами и только в церкви вдруг, словно лишившись рассудка, принялась вопиять о своей горькой доле, приведшей ее от трона в монастырскую келью, вопиять о несбывшейся любви, которую она никак не могла забыть.
Тотчас после погребения тел сестру Ольгу заточили в Троицкий монастырь.
* * *
«Я в своих бедах чуть жива и, конечно, больна со всеми старицами,[18] и вперед не чаем себе живота, с часу на час ожидаем смерти, потому что у нас в осаде шаткость и измена великая. Да у нас же за грехи наши моровое поветрие: великие смертные скорби объяли всех людей, на всякий день хоронят мертвых человек по двадцати, по тридцати и побольше, а те, которые еще ходят, собой не владеют, все обезножели…»
Старица Ольга отложила измочаленное, тупое перо, оставляющее на бумаге даже не буквы, а какие-то мохнатые следы, и вгляделась в трудноразличимые строки. Чернила в монастыре делали из дубовых орешков или, чаще, из печной сажи, разводя ее водой. На чем писать тоже не скоро найдешь: вот это письмо Ольга накорябала на обрывке ветоши — застиранной, серой от времени. А, что проку стараться искать бумагу либо хорошие, свежие чернила! Все равно письма никто и никогда не прочтет, тем более тетушка Екатерина, которой писала Ольга.
На дворе стоял 1608 год. Армия польская, армия нового самозванца, тоже принявшего имя Дмитрия, осаждала Троицкий монастырь, последний оплот сопротивления иноземному нашествию. Монахи, монахини, окрестные жители, нашедшие приют в стенах Троицы, умирали от голода и болезней. И мало кто знал — а знающих оно и не волновало! — что вместе с прочими страдает и какая-то там старица Ольга.
Забыта, забыта, она всеми забыта… Покинута! Кто помнит теперь, что увядшая, исхудавшая старица Ольга некогда слыла первой красавицей на Руси и звалась Ксенией Годуновой? Ее брови союзные, ее очи бездонные, ее косы трубчатые, ее тело, словно из сливок вылитое, воспевались в песнях… В женихи ей прочили королевичей заморских, словно сказочной царевне… Но красота не принесла ей счастья, а привела за монастырские стены. Теперь Ксения даже рада, что все позабыли: она дочь Бориса Годунова и любовница Дмитрия, сына Грозного… А ведь сколько укоров ей привелось выслушать за то, что находилась в милости у первого самозванца и грела ему постель. Как будто она попала туда по своей воле, как будто ждала милостей и каких-то мирских благ от того, которого сначала безмерно ненавидела, а потом так же безмерно полюбила!
Ксения так старалась забыть прошлое, что порою ей это почти удавалось. Внушала, старательно внушала себе, что грех, великий грех жить греховными воспоминаниями о погубителе всей своей родни, о государевом преступнике и злодее. О добрых людях говорят: всякому-де мертвому земля — гроб. Дмитрия даже могилы не удостоили, сожгли его труп и выстрелили на западную сторону!
Иногда Ксении удавалось совладать со своим глупым, безнадежно тоскующим сердцем. Просыпалась утром — и думала лишь о том, что довлеет дневи злоба его, а былым, тем паче — позорным былым, жить смысла нет. Но длилось тупое забытье недолго. Так раненый, бережась, нет-нет да и повернется неловко, разбередит кровоточащий поруб! То же происходило и с Ксенией. Ни с того ни с сего вспыхивали перед взором памяти любимые темно-голубые глаза, звучал его голос — такой ласковый, такой волнующий, что у Ксении даже сейчас, по прошествии стольких лет, заходилось сердце от воспоминаний. Никак не могла забыть, как это было у них в первый раз, как случалось потом. «Косы твои… — бормотал он, задыхаясь. — Тело твое…»
Странно, что жива еще сама Ксения. Хотя разве ее существование можно назвать жизнью? Она так и не в силах оказалась смириться с монастырским затворничеством, сначала в Белозерской обители, потом в Девичьем монастыре, в Троице. Шитье образов и пелен, коим занимаются исстари монахини по монастырям, не приносило ей никакой радости, хотя рукоделье Ольги вызывало общее восхищение. Ужасно жить, втихомолку мечтая о смерти, каждый день открывать глаза с тоской: ну почему ты не прибрал меня, Господи?!
Ничто, ничто ее не берет. Вот уж сейчас, когда осадили Троицу поляки, когда такая тягость настала в обители, многие люди мрут от голода, дурной воды и спертого воздуха в тесных помещениях, а Ольги не касается никакая хворь. Она даже ходила на стены осажденного монастыря под предлогом подноса воды и пищи оборонщикам, а на самом деле — втихомолку надеясь, что зацепит ее стрела, или пуля, или осколок ядра. Но это было истолковано недобрыми людьми вкривь и вкось.
— Ишь, шляется, хочет небось снова любовника прельстить! — пробормотала как-то раз вслед Ольге маленькая, толстенькая монахиня, в которой та сразу узнала старицу Марфу. Некогда она звалась Марьей Владимировной Старицкой и титуловалась королевой Ливонской.
Ольгу старица Марфа ненавидела люто и, не боясь греха, ненависть свою выказывала. Уж мать-настоятельница налагала, налагала на нее епитимьи, уж увещевала-увещевала, приводила к разным покаянным послушаниям, ан нет — неистовая старица нипочем не унималась. Как завидит Ольгу — так и кольнет словом, а то и щипнет, тут же бормоча:
— Ох, снова бес попутал!
Ольга не жаловалась — ей-то было отлично известно, чем провинилась она перед старицей Марфой. Нет, не она. Не ей мстила бывшая королева Ливонская — ее покойному отцу, Борису Годунову, который некогда лишил ее престола, обманом вызвал в Москву и, разлучив с дочерью, которая вскоре умерла, насильно постриг в монастырь.
Только из ненависти к Годуновым, к несчастной старице Ольге бывшая королева Ливонская мутила в монастыре воду и кричала, что надобно-де сдать Троицу законному королю Дмитрию, которого она называла двоюродным братом. Самое смешное, что сестры, обитавшие рядом с Марфой еще во времена первого Дмитрия, уверяли: того царя она честила самозванцем и всячески проклинала. А ведь именно он был истинным сыном Грозного! Но он умер, умер, старица Ольга, хоть и не видела его мертвого тела, знала это так же достоверно, как то, что сама еще живет на свете. Нынешний Дмитрий был самозванцем, и если старица Марфа поддерживает его, то лишь из неизбывной женской вредности — желая досадить Ольге.
К дочери Годунова относились в монастыре как ко всем, однако мирское, лютое злословие Марфы, несовместимое с иноческим чином, возмутило многих, и в Москву, к царю Василию Шуйскому, полетело письмо от архимандрита Иосифа: «В монастыре смута большая от королевы-старицы Марфы: тебя, государь, поносит праздными словами, а вора называет прямым царем и себе братом; вмещает давно то смутное дело в черных людей. Писала к вору, называя его братом, и литовским панам, Сапеге со товарищи, писала челобитные: «Спасибо вам, что вы вступились за брата моего, московского государя, царя Дмитрия Ивановича!» Также писала в большие таборы к пану Рожинскому со товарищи. Прошу тебя, государь, укоротить старицу Марфу, чтобы от ее безумия святому месту никакая опасность не учинилась!»
Опасность, впрочем, учинилась-таки. Не от безумия старицы Марфы — от полчищ казачьего атамана Ивана Заруцкого, ставшего любовником все той же Марины Мнишек, из-за которой сломалась однажды судьба Ксении Годуновой. Уже когда основная осада была снята, когда Троицкий монастырь собрался вздохнуть свободно, налетели казаки, выгнали монахинь из келий, многих изнасиловали, а тех, кого не тронули, оставили обобранными до нитки, полунагими.
Налет на Девичий монастырь заставил Марину Мнишек чуть ли не визжать от ярости: ну зачем дразнить московитов, которые за своего Бога готовы горло перегрызть?! И в то же время доставил ей огромную радость — среди ограбленных до нитки, обесчещенных, разогнанных из монастыря инокинь оказалась старица Ольга… а уж Марина-то отлично знала, кто таится под этим именем! Ведь именно ей была обязана Ксения Годунова тем, что рассталась со своими роскошными «трубчатыми косами», воспетыми даже в песнях, что ее тело, «словно вылитое из сливок», иссохло под монашеской одеждою. Но хоть и бросил Дмитрий — тот, первый, подлинный! — под ноги своей польской невесте страсть к русской красавице, все же ревность никогда не утихала в сердце себялюбивой шляхтянки. И, может быть, она впервые почувствовала себя отмщенной, когда услышала о бесчинствах донцов в Девичьем монастыре.
Однако тут же вещее сердце сжалось, предчувствуя, как то событие аукнется для имени и славы Заруцкого.
Конечно, имя дочери Бориса Годунова, полузабытое имя, уже мало что означало для русских людей. Однако такими, вроде бы незначительными, «каплями» постепенно переполнялась чаша терпения… и скоро ярость народа должна была перехлынуть через край, обратившись равным образом и против чужеземцев, и против «своих» разбойников.
* * *
Так оно и случилось. Смута на Руси наконец-то рассеялась. Все старые счеты и честолюбивые мечты кончились для Марины Мнишек в июле 1614 года, когда она то ли была убита в тюрьме, то ли сама умерла. Ксения пережила соперницу на восемь лет и скончалась в 1622 году. В память о ней остались в Троицком монастыре прекрасные вышивки шелком и жемчугом — и некая странная песня, якобы сложенная ею еще в те времена, когда она находилась в заточении в доме Василия Мосальского-Рубца и ждала решения своей судьбы от Дмитрия. Тоскливая песня:
Сплачется мала птичка, белая перепелка: «Охти мне, молодой, горевати! Хотят старый дуб зажигати, Мое гнездо разорити, Мои малые дети побити, Меня, перепелку, поймати…» Сплачется на Москве царевна: «Охти мне, молодой, горевати, Что едет к Москве изменник, Ино Гришка Отрепьев, расстрига, Что хочет меня полонити, А полонив, меня хочет постричи, Чернеческий чин наложити! Ино мне постричися не хочется, Чернеческого чину не держати, Отворити хочу темну келью, На добрых молодцев посмотрети… Ах, милые наши терему! А кому будет в вас да седети, После царского нашего житья И после Бориса Годунова?..»* * *
«Охти мне, молодой, горевати…»
Вот уж воистину — выпало этой страдалице на долю только горевати от любви! Словно ополчилось на нее чувство, что не давало ей в руки счастья!
Примечания
1
Бальи — королевский чиновник, глава судебно-административного округа, бальяжа, в северной части средневековой Франции.
(обратно)2
Или Цезарь, или ничто (франц.).
(обратно)3
Тысяцкий — военный предводитель городского ополчения на Руси до XV в.
(обратно)4
Персонаж античной мифологии, символ снисходительного рогоносца, который извлекает пользу из измены жены.
(обратно)5
Имеется в виду икона Богоматери, хранившаяся в монастыре.
(обратно)6
Перевод Н. Заболоцкого.
(обратно)7
Убийца св. Глеба.
(обратно)8
Перипатетик (греч. peripatetikos, букв. «прогуливающийся») — ученик и последователь греческого философа Аристотеля. Слово возникло на основе предания о том, что Аристотель преподавал своим ученикам философию во время прогулок. Римские перипатетики соединялись в четыре школы, одна из них называлась Палатинской, поскольку находилась на Палатинском холме — на нем был некогда основан Рим.
(обратно)9
Реалисты полагали, что истинной реальностью обладают лишь прообразы всех вещей — так называемые универсалии. Номинализм соперничал с реализмом. Номиналисты признавали реальными лишь единичные вещи, не отделимые от их имен (по-латыни имя — nomen). Выступая против так называемого радикального реализма, Абеляр не принял и номинализма. Его методом было то, что позднее назвали концептуализмом (от лат. conceptus — «понятие»). Понятие есть мостик, соединяющий сущность и существование, имя и вещь. Путь к познанию истины, неизменной сущности вещей, в представлении Абеляра, — это путь разума, соединенного с откровением.
(обратно)10
В Ветхом Завете Вирсавия — супруга царя Давида и мать царя Соломона. Давид воспылал к ней любовью при жизни ее мужа, Урии Хеттеянина, и женился на ней после того, как Урия был убит во время сражения, коварно посланный Давидом в самое опасное место. Вирсавия заручилась дружбой пророка Нафана и с его помощью добилась возведения на царский престол Соломона, который был помазан на царство после смерти Давида.
(обратно)11
В трактовке событий его жизни и особенностей характера автор придерживается точки зрения, высказанной В.В. Розановым в книге «Люди лунного света» и Н.И. Филиным в труде «Моисей Угрин — «дважды святой».
(обратно)12
То есть закопавшись в землю по грудь.
(обратно)13
В греческой мифологии — мать легендарного царя Эдипа, ставшая по неведению его женой.
(обратно)14
Сходила с ума, заговаривалась.
(обратно)15
«Вошел, как лисица, царствовал, как лев, умер, как собака!»
(обратно)16
То есть траурном.
(обратно)17
Так звали основателя ордена иезуитов.
(обратно)18
Старица — то же, что монахиня, инокиня (старин.).
(обратно)

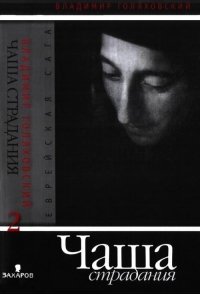



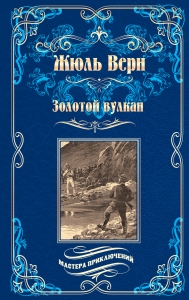

Комментарии к книге «Преступления страсти. Месть за любовь (новеллы)», Елена Арсеньева
Всего 0 комментариев