Андрей Колганов Йот Эр. Том 1 (семейная хроника военного поколения)
Все права защищены. Никакая часть электронной версии этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для частного и публичного использования без письменного разрешения владельца авторских прав.
© Электронная версия книги подготовлена компанией ЛитРес ()
* * *
Нине Ивановне Шаповаловой, заслужившей право на нашу память, посвящается
Пролог
1. Царская охота
В этот день, 27 августа 1897 года, на конечной станции железной дороги, только-только протянутой от Хайнувки к Беловежу, было необычайно оживленно. Ну как же – предстояла царская охота! К прибытию царского поезда свежепостроенный станционный павильон был украшен гирляндами из дубовых и сосновых ветвей с вплетенными в них трехцветными лентами, на платформе был выставлен почетный караул, а сама станция оцеплена двумя ротами солдат. К встрече допущены были лишь члены свиты, прибывшие в Беловеж ранее царского поезда, да главные распорядители намечаемого развлечения – начальник Управления охоты Министерства Императорского двора князь Дмитрий Борисович Голицын и ловчий его величества Владимир Робертович Диц.
Сначала из вагонов царского поезда споро выскочили казаки лейб-гвардии 3-й Терской казачьей сотни Собственного Его Императорского Величества Конвоя, в черкесках с газырями и в барашковых папахах, а за ними вышел командующий Конвоем, флигель-адъютант, генерал-майор Свиты Его Императорского величества барон Мейендорф. Казаки, не дожидаясь его команды, спешно выстроились и встретили выходящую императорскую чету, уже встав как положено, во фрунт. Николай, облаченный в длиннополый форменный сюртук с полковничьими погонами и белую летнюю фуражку, вышел в сопровождении супруги. Императрица, которой он подал руку при выходе из вагона, поравнялась с его правым плечом и далее шествовала рядом. Она была одета скромно, но не без изящества, в светлое платье с жакетом и модную шляпку. Государь отдал лейб-конвойцам честь и лишь затем повернулся к встречающим…
Приезжающие, пройдя совсем недалеко от платформы, попадали к въездным Дворцовым воротам. Забор вокруг парка походил на ограду Летнего сада в Санкт-Петербурге, а ворота, как и церковь Николая Чудотворца, видневшаяся за оградой дворцового парка, будучи сложены из темно-красного кирпича, напоминали своим архитектурным решением облик самого Охотничьего дворца.
Почти сразу за Дворцовыми воротами дорога выходила на дамбу между двумя искусственными прудами, образовавшимися благодаря запруде на реке Наревка. В прудах, как то обыкновенно устроено в дворцовых парковых ансамблях, плавали белые лебеди, а правый пруд был к тому же украшен живописным островком. Миновав дамбу, дорога понемногу поднималась вверх по склону, на котором по левую руку стоял Императорский павильон Александра II, воссозданный в том виде, какой он имел в 1860 году, во время пребывания государя в Беловеже. Дальше склон переходил в крутизну, созданную насыпью для батареи Головина, возведенной здесь во времена Наполеоновского нашествия 1812 года. Поэтому дорога огибала здание, выходя к противоположному фасаду, а насыпь была прорезана широкой лестницей. Сейчас самая крутая часть насыпи у самого дворца для придания большей живописности была обрамлена диким камнем и обсажена плющом и другими вьющимися растениями. Чтобы парк вокруг всего дворцового комплекса возможно более быстро приобрел достойный вид, здесь высадили уже взрослые деревья.
На внешнем виде Охотничьего дворца, несомненно, сказался вкус императора Александра III, требовавшего обойтись без всяких излишеств. Наверное, из-за этого, по странному «совпадению», в основу композиции дворца лег прямоугольный план, который был идентичен планировке казарм для русских войск, строительство коих как раз закончилось к тому времени в Варшаве, Демблине, Бресте, Модлине, Ковно и других городах Западного края. Графу Потоцкому, ожидавшему прибытия императора перед фасадом дворца, тоже бросилось в глаза, что архитектура здания сохранила казарменный характер – особенно это было заметно на фасаде, обращенном к прудам и подъездной дороге. Противоположная сторона, ориентированная на равнину с перелесками, переходящую в Пущу, смотрелась не столь по-солдатски.
И все же дворец не был лишен некоторой прелести, которую ему придавали вежи (башни), соответствовавшие традиционному архитектурному решению охотничьих замков. Архитектор поместил главную вежу на углу здания и подчеркнул ее особое значение не только размерами, но и высоким шатровым покрытием со шпилем для императорского штандарта – черного двуглавого орла, увенчанного серебряной короной, на золотом поле. Вторая вежа напоминала эркер, и была решена в средневековом стиле: декорирована элементами, свойственными готической архитектуре, – нишами и ложными бойницами. От сходства с казарменным обликом отвлекали и другие архитектурные детали – остроугольные мансардные перекрытия с открытыми конструкциями фронтонов, декоративная кладка фризов, пилястр и даже печных труб. Конструкция крыши, по конькам которой были поставлены ажурные металлические решетки, еще больше уводила взгляд ввысь и придавала зданию воздушность.
В последовавших придворных церемониях гости, ожидавшие императорскую чету, прибывшую на отдых в Беловеж после длительного турне по Европе и впервые после восшествия на престол, принимали участие строго согласно рангам. Да и самого приглашения на царскую охоту удостоился весьма ограниченный круг лиц. Среди гостей можно было заметить принца Ольденбургского, герцога Лейхтенбергского, князей Белосельского и Барятинского… Царь не слишком жаловал польскую шляхту, однако же не отказал в просьбе Великому князю Николаю Николаевичу Младшему и разрешил тому пригласить его давних партнеров по охоте в Скерневице – князей Радзивиллов, графов Потоцких и Замойских, владевших имениями поблизости.
Граф Потоцкий, в отличие от многих своих шляхетных однофамильцев, особо не рвался искать милостей императорского двора. Как, им, родовитым магнатам Речи Посполитой, пресмыкаться перед русским царем? Nie, nigdy! Не бывать этому! Однако… ведь не со всякими же худородными, пусть и соотечественниками, но не имеющими за душонкой почти ничего, кроме сомнительного права на герб, им общаться? Да и подрастающую дочь пора было выводить в свет, а предстоящая охота давала к тому неплохой повод.
На службу в церковь Николая Чудотворца, выстроенную в парке императорского Охотничьего дворца, Потоцкие, разумеется, не пошли. Во-первых, как же могут настоящие католики позволить себе принять участие в церемониях схизматиков, и, во-вторых, туда их никто и не звал. Впрочем, главе семейства довелось накануне побывать в этом храме, чтобы взглянуть на необыкновенный иконостас из китайского фарфора, которым была украшена церковь. Но любопытство – менее страшный порок, чем даже малейшая крупица вероотступничества.
Двухэтажный Охотничий дворец не имел большого зала для приемов, и потому гости были приглашены на ужин в большой трехэтажный корпус гофмаршальской части, где и располагался первый Гофмаршальский стол, собственно и предназначенный для гостей двора. Двор Николая II (августейшая чета, великие князья и свита) занял специально отведенные комнаты в Охотничьем дворце, а низшие придворные чины свиты поселились в специальном свитском доме, находившемся в северо-западном углу парка и представлявшем собой весьма комфортабельное по тем временам помещение с отдельными комнатами, общей столовой, бильярдной, ваннами. Гостей же разместили в самых разных местах, в зависимости от благоволения императора: в помещениях гофмаршальской части, в губернаторском доме, в старом охотничьем домике, в павильоне императора Александра II, в двухэтажном здании Управления удельного ведомства Беловежской пущи (в гостевых апартаментах начальника Управления на втором этаже) и в здании Беловежского лесничества. Прибывших с гостями слуг также размещали «по ранжиру»: более высокого ранга – в егерском доме, а остальных пристраивали в доме для служителей конюшни. В палатках же, разбитых за пределами дворцового парка, расположились две роты солдат, присланных в помощь загонщикам.
Николай Николаевич Младший, немного поеживаясь от утренней прохлады – конец августа не баловал теплом, – тронул коня и подъехал поближе к своему гостю:
– Дорогой граф, а не поискать ли нам удачи в другом месте? Ну что за удовольствие палить в огромное стадо животных, сгоняемых прямо под выстрелы толпой солдат? Тем более, когда мы еще дождемся своей очереди! Сегодня на штенды ставят только двенадцать номеров, и мы – не в их числе.
– То дело, – отозвался старший Потоцкий.
Великий князь покрутил головой и, заметив неподалеку чиновника в форме лесничего, окруженного группой своих подчиненных (там были двое обер-кондукторов в служебных мундирах и чины лесной стражи, вооруженные ружьями), направил коня к нему:
– Назовись, братец, а то я имя запамятовал.
С легким, лишь слегка обозначенным поклоном немолодой лесничий в черном форменном мундире, с аккуратно подстриженной бородкой, ответил:
– Коллежский асессор Франц Иванович Речницкий, лесничий 2-го разряда Беловежского удельного лесного округа… Ваше Императорское Высочество.
Едва заметная пауза, слишком малая, чтобы принять ее за оскорбление, но достаточная, чтобы ее нельзя было не уловить вовсе. Все в рамках вежливости, но с акцентированным отсутствием подобострастия – несмотря на то, что лесничему приходилось разговаривать с Великим князем, глядя снизу вверх, он как будто бы пытался намеренно игнорировать неравенство их положения.
Губы Великого князя тронуло бледное подобие улыбки, но те, кто хорошо знал его, пожалуй, поежились бы, увидев такое выражение на его лице:
– А не подскажешь ли нам, Франц Иванович, где тут сыскать настоящего дикого зверя. Там ведь, – Николай Николаевич махнул перчаткой в сторону компании, окружавшей императорскую чету – какая охота! Так, стрельба по мишеням… Егеря здешние только в загонщики и годятся, а настоящего зверя поднять не умеют.
– Попробую помочь, – промолвил лесничий, ставя ногу в стремя своего стоявшего рядом коня. – Думаю, мы поспеем добраться до урочища Мешаная долина и вернуться обратно как раз к царскому обеду. Кажется, несколько лет назад у Вашего Высочества там была удачная охота.
– А! И верно! – воскликнул Великий князь. – Веди!
После этих слов лесничий ловко вскочил в седло и легонько тронул коня коленями, посылая его вперед. Тут же он сделал знак своим подчиненным, и те принялись торопливо занимать места в повозках, стоявших у обочины.
Юная графиня Потоцкая, сидевшая в рессорной коляске позади смешанной группы всадников и спешенных, на мгновение закусила губы, затем, справившись с собой, снова «сделала лицо». Ведь именно это – всегда держать лицо, казаться, а не быть, – вдалбливалось в нее последние годы вместе с правилами светского этикета.
Как же можно было столь пристально рассматривать этого немолодого уже, лет, пожалуй, сорока с лишним, если не пятидесяти, мужчину? Первый раз она замечает за собой такое неподобающее поведение. Матка Боска! Что же с ней происходит? Почему она столь долго не могла оторвать взгляд от этого престарелого чиновничка, вероятно, дворянина, но наверняка худородного и уж точно беспоместного? Вот и сейчас, помимо ее воли, глаза сами смотрят на него, а сердце замирает…
Сердито тряхнув головой, Ева Потоцкая решительно отвернулась. Коляска тронулась с места вслед за всадниками, направившими своих лошадей по дорожке, указанной едущим неспешной рысью лесничим. По мере того, как дорога бежала все дальше по лесу, пуща, которую юная графиня посетила впервые, не переставала удивлять ее первозданной мощью природы, совсем не похожей на те рощицы и перелески, да даже и казавшиеся ей дикими леса, в которых ей приходилось бывать ранее.
Могучие вековые дубы, не меньше, чем в три охвата, а иные, пожалуй, и до пяти, возвышаются, как гигантские колонны, меж прочих деревьев довольно внушительных статей, но кажущихся рядом с этими исполинами всего лишь тонкими жердинами. И те же дубы, выросшие на открытых местах, на небольших полянках среди лесных зарослей, приобретают вид замшелых корявых богатырей. Может быть, среди этих долгожителей отдыхал после охоты Август Саксонский, а иные из них помнят Стефана Батория?
Смешанный лес вдруг сменяется стройными рядами сосен, вознесших высоко вверх шапки своих густо-зеленых макушек, а за ними проглядывают белокожие березки, усыпанные мелкими листочками, кое-где уже тронутыми едва заметной желтизной. Тут дорога пролегает среди толпы гладкоствольных кленов с их пышной узорчатой листвой, радующей глаз сочными зелеными красками. Но вот надвинулись заостренные темные силуэты елей-великанов, погружая все вокруг в таинственный сумрак…
– Стой! – до сих пор звуки окружающей природы – шум ветра, птичьи голоса, жужжание насекомых – нарушались лишь всхрапыванием лошадей, бренчанием сбруи, стуком копыт, негромким говором людей да поскрипыванием повозок. Теперь же в эти уже ставшие привычными шумы вдруг ворвался властный голос лесничего:
– Дальше верхами не пройти.
Чуть привстав в коляске, Ева разглядела впереди небольшой лесной кордон с коновязью. Тем временем лесничий отдавал распоряжения:
– Федор, Ксаверий, Ежи, Ахмет! Примите лошадей, устройте и обиходьте!
Спешившись, Михал Потоцкий подошел к экипажу и подал руку сестре, помогая ей выйти из коляски.
– Что-то ты сегодня не в духе, ма шер, – заметил он.
Разумеется, Ева не стала признаваться, почему она «не в духе». Подходящее объяснение нашлось тут же, без долгих раздумий:
– Не люблю, когда убивают беззащитных зверей просто для развлечения! – вспылила она.
– Ладно, ладно, – усмехнулся брат, – ты вечно ищешь повод, чтобы напасть на светские обычаи. Не будь букой, высший свет этого не оценит!
Присоединившись к группе охотников, Ева тем не менее демонстративно оставила свое ружье в коляске. Мужчины, практически все как один, были одеты в очень похожие охотничьи костюмы – пиджаки или глухо запахнутые куртки с поясом, брюки, заправленные в сапоги, шляпы с узкими, немного загнутыми вверх полями, некоторые из них – украшенные перышками. Лишь немногие вышли на охоту обутые в ботинки и в брюках навыпуск. На Еве был примерно такой же охотничий наряд, как и на великих княжнах и императрице, оставшихся рядом с государем, – юбка до пят, приталенный жакет с пышными, присборенными у плеч рукавами, темная блузка под горло и небольшая шляпка, напоминающая мужскую. Единственные вольности, которые позволила себе юная графиня, состояли в том, что одежда ее была не столь унылых расцветок, как у прочих дам, рукава жакета, в соответствии с последними веяниями венской моды, были облегающими, а охотничью шляпку заменило веселенькое канотье.
Охотники углубились в лес и, проделав пешком немалый путь, потребовавший еще около часа, начали занимать позиции, указанные лесничим.
– Тут совсем рядом проходит кабанья тропа, – пояснил он, указывая широким жестом на окрестные кусты. – Если моим лесникам повезет, то они смогут выгнать сюда немалое стадо.
Ева держалась чуть поодаль остальных, позади одного из своих братьев. Потянулись минуты ожидания. Прошла четверть часа, потом еще столько же. Но вот от лесной прогалины, видневшейся по левую руку, донесся неясный шум, затем он стал уже явственно различимым, и среди лесного подроста мелькнули спины кабанов. Когда часть из них вышла на открытое место, загрохотали первые выстрелы.
Юная графиня дернула плечом и отвернулась. Почти в то же мгновение в двух десятках шагов от нее кусты бесшумно раздвинулись и на прогалину выскочил матерый секач. Вацлав Потоцкий, обернувшись на короткий сдавленный крик сестры, не медля вскинул ружье и выпалил по кабану единственный оставшийся заряд. То ли не попал, то ли одним таким выстрелом зверя было не свалить…
Дикий вепрь рванулся, казалось, прямо на Еву. Внезапно шагах в трех-четырех впереди нее на прогалину выскочил лесничий прямо наперерез секачу и саданул дуплетом из обоих стволов. Секача ощутимо повело в сторону, затем он остановился, будто налетев на преграду. Передние ноги его подломились, и зверь медленно, будто нехотя, завалился набок, едва не воткнувшись в лесничего, который, так и не сойдя с места, уже успел отбросить в сторону ружье и ожидал вепря, выхватив длинный, дюймов чуть ли не двадцати, кинжал.
Старший Потоцкий, подбежав к дочери, и убедившись, что с юной графиней все в порядке – она даже не выказывала никаких намерений изобразить приличествующий случаю обморок, – направился к лесничему.
– Чем я могу отблагодарить вас, господин Речницкий? Никакая награда не будет чрезмерной за жизнь моей единственной дочери. Я готов сделать для вас все, что только будет в моих силах! Хотите следующий чин? Орден? Если вы любитель верховой езды – примите лучшего скакуна из моих конюшен! Любое ружье из моей коллекции оружия будет вашим! – горячо, чуть не запинаясь от волнения, предлагал граф. – Только скажите! И в любом случае вы будете желанным гостем в моем доме.
Лесничий, однако, любезно, но достаточно решительно отказался от какой бы то ни было награды:
– Полноте, ваше сиятельство! Спасибо вам за ваше желание отблагодарить, но мне вполне достаточно сознания того, что я выручил юную даму из неприятностей. При чем тут чины да ордена? Любой дворянин на моем месте сделал бы то же самое. Да и любой честный человек.
– Тем не менее, пан Францишек, моя признательность всегда будет с вами! – вовремя припомнив имя лесничего, граф, произнеся слова благодарности, наградил его крепким рукопожатием. – Слово Потоцкого! А оно еще немало значит в этих в краях!
Ева вновь поймала себя на том, что неотрывно смотрит на лесничего. Правда, сейчас там же стоял ее отец, и, воспользовавшись тем, что невозможно различить, на кого же именно она смотрит, девушка позволила себе отдаться собственной слабости и во все глаза разглядывать своего спасителя. Спохватившись, она сделал несколько шагов вперед и протянула лесничему руку:
– Благодарю вас, сударь. Вы спасли мне жизнь.
Речницкий учтиво поклонился и мимолетно коснулся ее запястья губами. Да что же это такое! Прикосновение заставило ее ощутимо вздрогнуть, словно через мужские губы в нее ударила маленькая… – нет, пожалуй, что и не маленькая! – молния.
С усилием подавив всколыхнувшееся в ней непривычное волнение, о значении которого она безуспешно пыталась не думать, юная графиня бросила торопливый взгляд на отца (не заметил ли чего?), отступила немного в сторону и, стиснув зубы, потупила глаза.
После столь драматического происшествия на охотничьей вылазке, организованной по его желанию, Николай Николаевич Младший почел за благо более не отделяться от императорской охоты. Да и неизвестно, сколь долго высочайшие особы были бы склонны терпеть вольности и отступления от дворцового этикета, допускаемые двоюродным дядей царя. Поэтому вся высокородная компания поспешила присоединиться к императорскому завтраку, устраиваемому прямо в лесу при помощи полевой кухни. По времени этот завтрак следовало бы именовать обедом (или, на британский манер, ланчем), но торжественный обед давался уже поздно вечером во дворце.
Собственно императорская охота на тот день уже подходила к концу. Она представляла собой скорее расписанный придворный церемониал, нежели настоящую охоту. Все ее участники первоначально собирались в семь часов утра перед Охотничьим дворцом и дожидались государя, который выходил в сопровождении своей супруги и двух ее фрейлин.
Затем охотники рассаживались парами в колясках, запряженных тройками лошадей, и, в сопровождении егерей, ехавших верхами сзади, направлялись в лес. Путь к месту охоты пролегал по прямым, тщательно расчищенным просекам, длинным, как громадные парковые аллеи, и поросшим лишь мягким травяным ковром.
Вся охотничья компания прибывала к заранее заготовленным позициям, именовавшимся тогда штендами (или, иначе, стандами). Нетрудно догадаться, что это были просто деревянные стенды для стрельбы, высотою примерно до пояса. Сзади охотника становился егерь, обязанности которого состояли в заряжании ружей и в страховании от каких-либо случайностей. Только сам царь имел привилегию быть сопровождаемым сразу двумя егерями с рогатинами, чтобы они, в случае, если крупный зверь, озлобленный раной, пойдет напролом, не допустили его к особе государя.
Распределение участников охоты между стендами осуществлялась по жребию. Николай II тянул жребий наравне со всеми другими приглашенными, что составляло предмет его особой гордости. Ведь в других царствующих домах Европы монархам всегда предоставлялись на охоте лучшие места, а гости более низких разрядов иногда довольствовались такими позициями, с которых подчас не удавалось произвести ни единого выстрела.
Огромное количество животных, заранее согнанных егерями и теперь направляемых к позициям стрелков, позволяло тем не тратить заряды зря, и количество убитых зверей достигало весьма внушительных величин. Охота завершалась, как уже было сказано, завтраком, дававшимся там же, на месте.
Впрочем, хотя царская охота протекала без особых случайностей – не считать же за таковые время от времени раздававшиеся вскрики не в меру чувствительных фрейлин – завтрак как раз не обошелся без происшествия, но скорее забавного, нежели драматического. Выстрелы, раздававшиеся со штендов, занимаемых царственными особами, давно стихли, егеря собирали многочисленную добычу, а официанты заканчивали сервировку столов к завтраку. Установившаяся тишина и соблазнительные запахи, распространяемые горячими яствами, сыграли с официантами шутку – прямо к одному из столов из леса вышел молодой лось. Испуг служителей был, однако, совсем нешуточным: некоторые из них бросились врассыпную, иные же старались заслонить только что сервированный ими с таким тщанием стол для высочайших особ. Лишь один осмелился замахнуться на лося полотенцем.
Думается все же, что сохатый ретировался не благодаря действиям этого героического одиночки, а вследствие поднявшегося общего шума и суматохи, неприятных для зверя, привыкшего к спокойствию глухих лесных чащоб.
За завтраком государь был заметно взволнован рассказом Николая Николаевича о нападении секача на графиню Потоцкую:
– Вечно тебя тянет на всякие авантюры! – выговаривал он своему родственнику. – Как бы ты выглядел, Николаша, случись что с дамой? А если бы кабан бросился на тебя?..
…Во время последнего выхода на охоту, уже в первые дни сентября, Николаю Николаевичу Младшему подвернулся под выстрел матерый олень с тридцатью двумя отростками на рогах. Но одновременно с великим князем по этому великолепному животному стрелял и князь Кочубей. Разгорелся спор – каждый из охотников желал заполучить этот необыкновенный трофей. Николай Александрович рассудил спорщиков, приняв воистину соломоново решение:
– Я здесь хозяин. Мои рога, – непререкаемым тоном заявил он.
Заключительной церемонией охоты был так называемый штрек. На площади перед дворцом егеря раскладывали трофеи, украшенные венками из дубовых ветвей. Вечером, после торжественного обеда, царственная чета со свитой показалась на балконе, разглядывая охотничью добычу. Темнело, и егеря зажгли факелы. Придворный оркестр грянул туш, и Владимир Робертович Диц, главный ловчий, стал указывать кинжалом на зубров, добытых государем императором. Затем та же церемония была проведена в отношении трофеев других охотников, причем первыми приветствовались самые успешные добытчики. По окончании охоты каждый участник получал печатный список убитых им зверей, и, кроме того, был отпечатан красочный отчет с общим списком трофеев.
Состоявшаяся церемония вызвала у Евы неприятные чувства. Она не могла понять, как можно испытывать столь радостное возбуждение при виде убитых зверей? Ее мнение о высшем обществе, в которое ее так настойчиво и единодушно хотело ввести все семейство, упало еще на несколько градусов.
На следующий день, уже при отъезде в имение, к ее отцу подошел Франц Иванович Речницкий:
– Вот, прошу принять, ваше сиятельство, – промолвил он, протягивая Потоцкому кабаньи клыки. – Отдайте юной графине на память о том секаче.
Ева едва устояла на ногах – так ей резануло по сердцу, когда юная полячка осознала, что вот сейчас сядет в коляску и расстанется с этим пожилым лесничим навсегда. Самообладания гордой шляхтянки хватило лишь на то, чтобы вежливо раскланяться со своим спасителем. Но весь путь до имения в ней кипели такие нешуточные страсти, что, наверное, проникни в эти чувства отец или братья, они отшатнулись бы в ужасе. А Еве это было бы все равно. Девушка поняла, что, уезжая, оставляет здесь бессмертную душу свою.
2. Побег
Ева, меряя шагами свою девичью спальню, колебалась недолго. Обладая дерзким, независимым нравом, она не боялась поступать наперекор родителям, не страшась их гнева и возможных наказаний. А ее острый язычок не раз выводил старшего графа Потоцкого из себя, что влекло за собой не только нотации, а подчас и брань, но и всякие кары – начиная от лишения десерта или пребывания взаперти несколько дней и заканчивая угрозой отправить ее в монастырь. Но на этот раз девушка не собиралась вступать ни с кем в пререкания. Она приняла решение.
Юная графиня, несмотря на всю свою молодость и взбалмошность, достаточно ясно отдавала себе отчет в том, что принятое решение способно круто переменить всю ее судьбу, выбросив вон из высшего света. Прекратив бесцельное хождение по спальне, Ева остановилась перед зеркалом и вгляделась в его темную глубину, видя в ней свое отражение, слегка подсвеченное слабым огоньком ночника.
Ей припомнилось, как всматривалась она в это же зеркало незадолго до конфирмации. Тогда ее отвели в спальню, не дозволив остаться на бал, весело гремевший в стенах усадьбы, – маленьким девочкам взрослые развлечения были не положены. А из-за двери доносились звуки мазурки, и блестящие кавалеры с нарядными дамами скользили по вощеному паркету в свете сверкающих огнями хрустальных люстр. Ева видела тогда в зеркале угловатого долговязого подростка с по-детски припухлыми губами, темными волосами, заплетенными в косы, раздельно уложенные по обеим сторонам головы. И платьице на ней было надето детское – всего лишь на ладонь ниже колена, голубенькое, пышное, состоящее чуть ли не из одних воланчиков, из-под края которых виднелась тоненькая кружевная кайма нижних юбок и кружевная оборочка длинных панталончиков.
О чем думала она в тот день? О том, как она сможет, наконец, ворваться безудержным вихрем в этот блестящий свет и покорить его, уложив к своим ногам? Нет. Она думала о другом. Черные агаты ее чуть поблескивающих в полумраке глаз, казалось, безмолвно вопрошали: «Сможет ли кто-нибудь полюбить меня? Не за знатность рода, не за положение отца, не за имения – а меня саму, такую, как я есть, нескладную и не слишком красивую?» Ева не льстила себе – уже тогда она научилась вылавливать в шепотках за своей спиной нелицеприятные отзывы о своей внешности. Но не только это занимало ее: «А мне – кого мне суждено полюбить? Кто будет он, мой избранник? Как и когда сведет нас вместе судьба?» – гадала ее душа.
Ну что же – она нашла своего избранника. Сердце не лгало – оно рвалось назад, туда, в Пущу, к нему! И кто бы он ни был – она никому не позволит разлучить их.
На следующий день, отправившись на свою обычную верховую прогулку, как всегда в сопровождении одного из братьев и двух грумов, она решила проехаться по лесным тропинкам. По лесу так по лесу. Всадники въехали под сень деревьев и когда углубились в чащу на целую версту, Ева вдруг пустила свою вороную трехлетку в сторону, заставив остальных от неожиданности придержать лошадей, а затем повернула на боковую тропинку, перейдя с места в галоп.
– Jaskółka, jak najszybciej![1] – в радостном возбуждении крикнула она своей лошадке. И та не подвела – понеслась стрелой, послушная воле всадницы, закладывала умопомрачительные повороты, кидаясь то на одно малозаметное ответвление лесной тропы, то на другое. Вскоре Ева скакала, уже не разбирая дороги. Ее спутники почти сразу безнадежно отстали. К счастью для нее, брат Михал был не самым блестящим наездником, а слуги не решались от него отрываться.
Неожиданно для себя самой Ева оказалась на краю опушки. Теперь надо было сообразить, куда ехать дальше…
От имения до Пущи надо было проскакать верст шестьдесят, если не все семьдесят, да еще отыскать в лесной чаще дом лесничего, мимо которого они проехали лишь раз, направляясь к Охотничьему дворцу государя после той памятной встречи с секачом.
Сейчас время перевалило далеко за полдень. Еве стало немного не по себе – ведь до темноты можно и не успеть, а загонять лошадь в безумной скачке ей вовсе не хотелось. Но что решено, то решено – и юная всадница пустила лошадь рысью, выезжая на виднеющуюся невдалеке полевую дорогу.
Как она и опасалась, до темноты она успела добраться лишь к тому месту, откуда просматривалась синеющая вдали, в вечерних сумерках, кромка Пущи. Ехать незнакомой дорогой ночью через лес было бы полным безумством, и Ева, преодолев еще две с небольшим версты, остановилась у края леса. Ночевать придется здесь. Хорошо, что Ласточку удалось недавно напоить из встреченного по пути ручейка. Теперь осталось снять седло, разнуздать и оставить пастись: девушка была уверена в своей лошадке, не стала путать ей ноги, а ограничилась тем, что привязала повод узды к росшему неподалеку небольшому деревцу. Самой бы теперь подобрать местечко, где можно было бы устроиться так, чтобы не проворочаться всю ночь без сна.
Утром юная путешественница проснулась от того, что вся закоченела от холода, все ее члены затекли от лежания на жесткой земле, а бок, на котором она досыпала последние минуты, чувствительно болел. Но что это значило по сравнению с тем, что ей предстояло впереди? Приведя себя через полчаса в относительный порядок (к счастью, вокруг не наблюдалось ни одного свидетеля, и сделать все необходимое можно было без помех), она, ощущая теперь весьма назойливое чувство голода, подозвала Ласточку, которая и в самом деле не покинула за ночь свою хозяйку, подготовила ее к продолжению поездки и вскочила в седло.
Франц Речницкий уже готов был седлать коня, чтобы направиться в ежедневный объезд своих владений, как на дороге послышался частый перестук копыт. Кто-то явно торопился. «И кого же может принести нелегкая в такую рань?» – задался он вполне естественным вопросом. Ответ появился тут же: к дому подлетела всадница на вороной кобыле. Она была чудо как хороша в своем жемчужно-сером атласном кунтушике с разрезными рукавами, в бархатном платье глубокого густо-синего цвета, украшенном по краю узорами из белого шелкового шнура и скроенном для езды по-мужски – с хитрыми разрезами и запахами, позволяющими свободно садиться на лошадь, не открывая при этом ноги. Темные волосы всадницы, потерявшей где-то свою шляпку, спутались и беспорядочно развевались по ветру, а ее столь же темные глаза смотрели с явным вызовом.
Но не этот вызов увидел в глазах юной наездницы пожилой лесничий. Ему казалось, что взгляд Евы Потоцкой – да, не узнать ее было мудрено, – пронзает его насквозь, и сердце его вот-вот остановится. «Я пропал», – с предельной ясностью решил он для себя.
– Ваше сиятельство, что вы здесь делаете одна? Где ваши спутники? – не в силах скрыть волнение, воскликнул он, с ужасом подозревая, какой именно ответ он получит…
«Молодая паненка явно унаследовала от рода Потоцких все их фамильное упрямство… – почему-то вдруг успокоившись, думал Речницкий, выслушивая сбивчивые и очень горячие объяснения юной графини, отнюдь не пытавшейся скрыть, с какой целью она здесь появилась. – Знаю я их упрямство. Будет идти напролом, не считаясь ни с чем. Но тогда… Тогда все их семейство не с меньшим упрямством будет мстить за свою фамильную честь. И они тоже не остановятся ни перед чем, ни пред законами человеческими, ни пред божескими!»
Не проронив ни слова – «Боже всемогущий, дай мне силы больше не заговорить с ней!» – лесничий помог девушке спуститься на землю, так же молча вернул свою лошадь в конюшню и принялся запрягать ее в пролетку. Привязав поводья вороной кобылки своей нежданной гостьи к коляске сзади, он твердо взял Еву за руку, усадил рядом с собой в экипаж и слегка хлестнул лошадь вожжами. Ни на какие протесты, мольбы или уговоры он не отвечал, а ее попытки выпрыгнуть из коляски на ходу пресекал самым безжалостным образом.
Так шел час за часом, солнце уже клонилось к западу, и вот вконец изведшийся лесничий увидал впереди ворота графской усадьбы. Распахнутые ворота с коваными вычурными узорами, длинный овальный цветник – а за ним незатейливое белое здание в духе классицизма: портик с коринфскими колоннами перед центральной двухэтажной частью и одноэтажные крылья. По бокам – большие флигели для различных служб, а еще далее в стороне – конюшня.
Не успела пролетка подкатить к фасаду здания, как из дверей уже высыпали люди во главе со старым графом Потоцким.
– Возвращаю вам вашу дочь, ваше сиятельство, – произнес Речницкий, не дожидаясь расспросов. – Не знаю, почему ей вздумалось предпринять столь дальний вояж в одиночестве, но, едва встретив ее, почел своим долгом немедля вернуть ее под родительский кров.
Ева за время поездки искусала губы, не зная, что предпринять. Ее упрямство напоролось на упорство лесничего, сломить которое не смогли никакие уговоры, никакие признания, никакие попытки вырваться силой с риском угодить под колеса. Теперь же она попала в крепкие руки своего отца, который, высадив ее из пролетки и бросив лесничему через плечо: «Благодарю вас!» – повел беглянку в дом.
Объяснение было коротким. Отец не стал читать нотаций. Он сказал лишь:
– Ева, на этот раз ты перешла все границы. Побудешь под домашним арестом, пока не образумишься…
…Франц не знал больше покоя. Казалось бы, солидный, пожилой уже мужчина, прошедший огонь и воду, а тут весь извелся, словно гимназист какой, по предмету своих воздыханий… Но как там пелось в арии, слышанной им недавно в Варшавской опере? «Любви все возрасты покорны»? Не ожидал, что это так буквально сбудется с ним самим… Речницкий с ужасом понял, что, отказавшись от Евы, он вдребезги разбил собственное сердце.
Однако его трезвый рассудок, закаленный годами, не желал так просто сдаваться под напором чувства… Заиметь своими врагами Потоцких? Да уж лучше сразу утопиться в болоте! А девушка? О ней ты подумал? Что сделают с ней ее родичи, коли ты позволишь своей слабости одержать верх над собой?
Но в конце концов лесничий обнаружил, что его разум уже и не пытается потушить столь некстати проснувшиеся чувства угрозой всевозможных напастей. Речницкий поймал себя на том, что, оставаясь в здравом уме и твердой памяти, он хладнокровно строит планы, как пробраться в усадьбу графов Потоцких и выкрасть оттуда Еву…
Влюбленная девушка, в отличие от него, не испытывала никаких душевных терзаний и колебаний. Да, сердце щемило от разлуки с любимым. Да, было жутко больно оттого, что предмет ее страсти в ответ на пылкие объяснения просто водворил беглянку домой, как потерявшуюся болонку. Но она же видела его глаза! В них тоже стояла нешуточная боль – тут не могло быть ошибки! Нет, они будут вместе наперекор всему!
И потому предаваться горестному унынию она не собиралась. Ее посмели лишить свободы и запереть в имении? Ну-ну, посмотрим, что у вас выйдет. Надо же, им возомнилось, что можно взнуздать шляхетну пани, словно какую-то кобылу!
Потоцкие приняли, как им казалось, достаточные меры предосторожности, чтобы дурной нрав Евы не навлек позор на всю их фамилию. Ее лишили денег, чтобы не пыталась подкупить слуг, из гардероба унесли костюмы для верховой езды, а верхнее платье выдавали лишь для прогулок пешком в садике под окнами усадьбы и затем забирали обратно. Гулять приходилось под строгим надзором, а доступ к конюшне был строго-настрого воспрещен… Да уж, попробуй убеги, если у всех ворот и калиток, ведущих из усадьбы, и днем и ночью стоят бдительные сторожа, вовсе не желающие испытать на себе гнев Потоцких.
Поэтому второй побег юной графине пришлось готовить весьма тщательно, и ушло на это более двух недель. Был накоплен небольшой запас печенья и засохшего хлеба, собраны и на всякий случай спрятаны получше драгоценности – а вдруг и их решат отнять? Точно так же она припрятала и маленький дамский револьвер на три заряда, подаренный Вацлавом. Тщательное наблюдение из окна спальни позволило установить, что конюшня на ночь запирается, но не на замок, а лишь на засов, и сторожа там не выставляют. Но как выехать из усадьбы через запертые ворота? Впрочем, был один способ, но крайне неудобный. И все же, поскольку лучше ничего не придумывалось, придется, наверное, воспользоваться им…
Этим вечером Ева не вышла к ужину.
– Эвелина! Такое впечатление, что ты взялась нарочно демонстрировать испорченные манеры! – раздраженно произнес, постучав в дверь, ее старший брат Жигмонт. – Немедленно спускайся, не заставляй себя ждать!
Юная графиня терпеть не могла, когда брат называл ее на французский манер Эвелиной.
– Твои манеры тоже не назовешь изысканными! – огрызнулась она из-за двери. – Ты что, прикажешь прямо сейчас в подробностях разъяснять тебе причины обычных женских недомоганий!? Лучше вели принести ужин мне в комнату.
Заполучив еду к себе, Ева дважды отсылала прочь прислугу, желавшую забрать пустую посуду. А когда наступила ночь и дом понемногу затих, она, не церемонясь, завернула несъеденную часть пищи в носовые платки, а получившиеся свертки – в узелок из наволочки. Так, теперь надо взять запасное платье, нижнюю юбку, сорочку… А, еще и оставленную по недосмотру кашемировую шаль надо прихватить – все теплее будет. Хотя сентябрь стоит не сырой и не холодный, все-таки это уже не лето. Особенно зябко становится ночами…
Собственную простыню и пододеяльник девушка извела на то, чтобы связать из них веревку. Конечно, крылья дома были одноэтажными, и окно ее спальни также находилось на первом этаже, но оно все же было расположено высоковато, чтобы в длинном платье решиться прыгать с подоконника в ночной темноте. Все ли готово? Узелочек с ювелирными украшениями – в кармане платья, револьвер – в другом кармане. Узел с одеждой, припасенным хлебом, печеньем и остатками ужина повешен на плечо. Теперь – тихонечко растворить окно и перекинуть через оконную раму веревку из постельного белья. Ну, с Богом!
Детские навыки лазания по деревьям, оказывается, еще не забылись. С трудом, но все же Ева благополучно спустилась из окна, закинула обратно импровизированную веревку, аккуратно прикрыла ставни. Теперь – к конюшне.
Ни одно окно усадьбы не светилось, но это ничего не значило – из темной комнаты как раз проще разглядеть, что делается ночью на улице. Однако ее никто не окликнул, не хлопнула ни одна дверь, не раздались ничьи голоса. Осторожно она приподняла тяжеленный засов, на который были заперты ворота конюшни, вытащила его из пазов и так же осторожно опустила. Приоткрыв створку ворот, скользнула внутрь и замерла, ожидая, когда глаза привыкнут к почти полному мраку, царящему в конюшне…
Никогда еще юной графине не приходилось седлать лошадь в такой темноте! Но ничего, все-таки справилась, поминутно поглаживая свою кобылку, прижимаясь щекой к ее морде и шепча: «Тихо, Ласточка, тихо!»
Теперь оставалась самая рискованная часть ее предприятия. Надо было провести лошадь мимо главного здания усадьбы и свернуть в парк. Но и здесь Господь ее не оставил – ей удалось проскользнуть незамеченной. Теперь в седло и вперед – к каналу, соединяющему парковый пруд с речкой Бульвой. Только там, вдоль канала, парковая ограда осталась недочиненой, и Еве известно одно местечко, где кусты так удачно прикрыли здоровенный проем, не закрытый прутьями решетки. Но сначала надо пересечь канал…
Уже понукая лошадь спускаться по крутому откосу к воде, Ева вдруг сообразила, что оружие, лежащее в кармане платья, должно быть, не очень любит воду. Натянув поводья, она вытащила револьвер и, недолго думая, запихнула его за лиф, чуть поморщившись от прикосновения холодного металла. Затем, чисто машинально, Ева пристроила туда же мешочек с драгоценностями из другого кармана, хотя вот они-то вряд ли пострадали бы от воды. Вперед!
Ласточка, чуть всхрапывая, выбралась на другой берег, а с девушки, вымокшей почти до пояса, ручьями стекала вода. Но не время сейчас думать об этом! Вперед, вперед! Отыскав проем в ограде и протиснувшись с лошадью через кусты, Ева, сгорая от нетерпения, все же пустила лошадку шагом, пока не выехала на тракт, и лишь тогда припустила рысью. Отъехав с версту от дома, она остановила свою Ласточку, спрыгнула с седла и стала стаскивать с себя насквозь промокшее платье, уже заставившее ее заметно продрогнуть на прохладном ночном ветру. Теперь переодеться в сухое, обвязать вокруг себя шаль – и снова в седло!
Под утро она уничтожила все имевшиеся у нее запасы пищи, потому что в ее положении это был единственный способ хоть как-то согреться. При всех своих достоинствах костер юная графиня вряд ли сумела бы развести, даже если бы и догадалась прихватить с собой спички. Поев всухомятку – о питье она тоже забыла позаботиться – Ева снова тронулась в путь. Перемежая шаг, рысь и галоп, она сделала всего три короткие остановки и уже около часа дня подъезжала к дому лесничего.
Ей повезло дважды – во-первых, Франц Речницкий только что вернулся с объезда очередного участка, и, во-вторых, его не сопровождал никто из служащих. Направляясь от конюшни к крыльцу, он услышал знакомый уже перестук копыт и увидел знакомую всадницу – как и в прошлый раз, без шляпки, но теперь на ней были простое домашнее платье и пестрая кашемировая шаль, обмотанная вокруг тела и завязанная на поясе.
Призвав на помощь все свое самообладание, лесничий успел произнести лишь:
– Млада паненка не розумеет… – как тут же был сметен неистовым вихрем слов и действий, сопротивляться которым Речницкий, чья решимость уже была подточена семнадцатью днями терзаний, оказался не в состоянии.
Впоследствии он так и не мог вспомнить, что же говорила ему и что же делала в те минуты Ева, потому что способность воспринимать окружающее вернулась к нему только тогда, когда он обнаружил себя лежащим рядом с ней на смятых простынях, местами запятнанных красным, в окружении хаотически разбросанных предметов одежды.
– Ева… Любимая… – из враз пересохшего горла вырывался лишь хриплый шепот. – Они теперь знают, где искать. Настигнут – пощады не жди.
– Да… Они… Они могут… – похоже, у девушки горло пересохло едва ли не сильнее, чем у него самого. И тут же, в подтверждение этой мысли, Ева прохрипела:
– Пить…
Пожилой лесничий вскочил на ноги, схватил в соседней комнате, где у него был кабинет, графин с водой и стакан и, быстро наполнив его, протянул возлюбленной.
Эх, так бы всю жизнь смотрел, как она пьет – как ее чудесные сочные губы орошает прозрачная жидкость, как стекают капельки воды из уголков ее прелестно очерченного рта, как плавно колышется неповторимый изгиб ее нежной шеи, жадно поглощая влагу… И если скользнуть взглядом по этой бархатистой коже дальше… Но, нет, нельзя, невозможно. Иначе он никогда не сдвинется с места. А надо спешить!
– Милая… Обратного хода нет! – Франц успел глотнуть прямо из горлышка графина, плюнув на любые условности. – Теперь нам обоим надо непременно скрыться отсюда. Если мы не хотим пропасть зазря, надо немедля собираться и бежать. Все бросаем и оставляем прежнюю жизнь позади! Обратного хода нет! – настойчиво повторил он.
Восстание 1863 года и последовавшая ссылка (к счастью, без лишения права возвращения) многому научили Речницкого. Пока шляхетна паненка приводила себя в порядок и пыталась что-то изобразить из своего платья, с которым они только что обошлись совершенно бесцеремонно, лесничий торопливо сносил в коляску самое необходимое – смену одежды, немного еды в дорогу, два ружья, две лошадиных попоны, – затем достал документы и все свои сбережения. Снова, как уже было однажды, он запрягает свою лошадь в пролетку и точно так же привязывает сзади за уздечку вороную трехлетку, но путь их теперь лежит совсем в другую сторону.
3. Венчание
– Ты понимаешь, что мы с тобой натворили? – спросил Франц возлюбленную, помогая ей залезть в пролетку.
– Понимаю, – ответила та без тени рисовки. – Теперь нам всю оставшуюся жизнь придется убегать и прятаться.
– Ну и стоило ли так ломать себе судьбу? Я что – я уже на закате дней. А у тебя все только начинается!
– Стоило! – твердо ответила Ева, положив голову любимому на плечо. – Даже ради одного часа – и то стоило! Если я сейчас отдам жизнь за этот час, я умру счастливой.
Франц подавил вздох и заботливо проговорил:
– Пожалуйста, ляг на дно коляски и закройся попоной. Чем меньше глаз тебя увидят, тем будет лучше для нас.
Остановив коляску на безлюдном кордоне – Речницкий хорошо знал свое хозяйство и был уверен, что сегодня сюда никто не должен наведываться, – лесничий спрятал Еву в доме, а ее Ласточку в конюшне. Сам же он отправился на пролетке к главному лесничему Беловежского удельного лесного округа. К счастью, тот был еще у себя в кабинете. Запутав своего начальника рассказом о свалившемся на него наследстве от давно уже забытых дальних родственников, он взял расчет и поспешил обратно к девушке.
После четырех часов пополудни они миновали Хайнувку, а еще через три часа пути, одолев двадцать семь верст, увидели вдали окраины Бельска. Здесь Франц Иванович решил остановиться только на ночлег. Но с платьем Евы что-то надо было срочно решать. После всех приключений ее одежда выглядело весьма непрезентабельно и в то же время сразу выдавала в ней птицу высокого полета. Но одна-то портняжная мастерская дамского платья в Бельске уж точно должна была найтись…
– Дорогая, в твоем платье, несмотря на его теперешний вид, каждый признает в тебе шляхтянку. Нам придется переодеть тебя в мещанку. А чтобы не возникало вопросов, мы найдем хороший предлог для такого переодевания… Но вот сможешь ли ты изобразить простую горожанку? – усомнился он.
– Раз ты считаешь, что так нужно, я очень постараюсь, – серьезно ответила графиня Потоцкая.
– Хорошо, – кивнул Франц. – А теперь мы превратим твое платье в нечто такое, что очевидно требует замены. Скажем, что коляска опрокинулась и ты свалилась в канаву. И это будет почти правда – потому, что в канаву ты сейчас точно угодишь! – с подобием улыбки на лице попытался пошутить Речницкий.
Извалять платье в грязной канаве оказалось достаточно простым делом, и в Бельск Ева въехала, с полным основанием стыдливо прикрываясь лошадиной попоной.
Франц первым делом отыскал корчму с постоялым двором поприличнее, ибо в гостиницу соваться ему не хотелось. Затем, переговорив с хозяином, срочно отправился на поиски дамского мастера по портняжной части. Таковой, само собой, в городишке сыскался, но по позднему времени сидел дома и был очень недоволен, когда его побеспокоили. «Красненькая» за беспокойство, однако, сразу переменила его настроение, а когда Франц Иванович объяснил свою нужду и пообещал добавить сверх обычной цены еще столько же за срочность, он стал сама любезность и не поленился лично прибыть на постоялый двор, чтобы снять мерку с пани.
– Видите, какая беда, – пояснял Речницкий, когда при виде грязной тряпки, в которой невозможно было узнать некогда роскошное платье, мастер огорченно всплеснул руками. – Выехать пришлось срочно, и в спешке платье на смену, как на грех, забыли. Торопились, торопились, да наскочили на камень у самого, почитай, города, пролетку развернуло, задним колесом в канаву да набок…
Мастер обещал к утру поправить дело:
– На скорую руку придется, вы уж не обессудьте… – заранее оправдывался он.
– Ладно, нам и как-нибудь сойдет, лишь бы до места добраться, – успокаивал его Франц Иванович.
Портной не подвел, и уже с утра Ева облачилась в простенькое платье, сидевшее на ней и в самом деле не лучшим образом, но тем правдоподобнее она стала соответствовать образу мещанки. Роскошные волосы юная графиня убрала под скромный платочек, купленный в одной из лавок поблизости, и, разумеется, на ее руках не было перчаток. Можно было двигаться дальше. В Белосток выехали еще до полудня: путь лежал неблизкий, верст пятьдесят будет – дай Бог к вечеру добраться. Тем более что поедут они сначала на юг – Франц не поленился именно про эту дорогу расспросить в корчме, сделают крюк по окрестностям и только потом выедут на тракт, ведущий на север.
Так и вышло – в Белосток въезжали уже в сумерках. Здесь Речницкий планировал задержаться довольно надолго. Их путь до Бельска проследить, конечно, особых трудов не стоило. Но и на это надо было потратить какое-то время. А вот куда они поехали дальше? В Ломжу, Пултуск, Бранск, Волоковыск, в Слоним или даже в Варшаву? А может быть, свернули на Брест-Литовск? Поди угадай… Дорог много, и которую выбрали беглецы – так сразу и не разузнаешь.
Однако и мешкать тоже не приходилось. В Белостоке, устроившись в простенькой гостинице, которая не слишком сильно отличалась от постоялого двора в Бельске – разве что стремлением обслуги регулярно подчеркивать отличия их гостиницы от простых постоялых дворов – Франц Иванович на следующий же день прямо с утра отправился в единственный в городе католический храм, кафедральный костел Успения Пресвятой Богородицы. Единственным костел был по одной причине – черта оседлости собрала здесь множество горожан иудейского вероисповедания. Если судить по данным только что прошедшей переписи населения, их тут было около сорока тысяч, тогда как католиков – одиннадцать тысяч, да примерно девять тысяч православных.
Впрочем, действующий костел радовал глаз чистенькой свежей побелкой и ухоженными зелеными насаждениями за высокой белой оградой с башенками, памятником Яну Клеменсу Браницкому, возведенным в 1775 году его женой Изабеллой (урожденной Понятовской). Памятник появился здесь неспроста – именно стараниями великого гетмана коронного Яна Клеменса костел был перестроен и приобрел свой нынешний богатый интерьер, а также обзавелся органом. Улица рядом с костелом выглядела вполне под стать приличному губернскому городу.
Перед входом Речницкий поежился. Обвенчать без согласия родителей невесты? Какой ксендз на это пойдет? Тридентский собор, правда, еще в седой древности постановил, что основанием заключения брака является ясно выраженная воля жениха и невесты, и единственным дополнительным условием ставил открытое оглашение предстоящего бракосочетания, дабы нельзя было утаить каких-либо препятствий к венчанию. Но церковные соборы могли там себе записывать в решения что угодно, а вот светская власть давно уже настояла, чтобы церковь не заключала браки без согласия родителей венчающихся.
Впрочем, говорят, что осел, груженый золотом, откроет любые, сколь угодно крепко запертые ворота… Проверим. Да и немного вдохновения не помешает.
Франц Иосифович сегодня был в ударе. Если бы он представил рассказанную им историю с театральных подмостков, успех, наверное, у католической публики был бы оглушительный. Как же: молоденькая девушка, воспитанная своей матерью в истинно католической вере, после ее смерти терпит побои и издевательства отца, принадлежащего к московитской ортодоксальной церкви, который понуждает ее отречься от католицизма! А уж о браке с католиком и слышать даже не хочет! Что же тут делать влюбленным? Пришлось бежать из Минска сюда, подальше от преследований сурового родителя.
Этот рассказ имел немалый успех и у ксендза, но, надо думать, не столько в силу актерских талантов Речницкого, сколько в силу того, что был подкреплен двумя «беленькими» – бумажками с портретом императрицы Екатерины II. Поэтому и оглашение ксендз согласился сделать всего одно, в ближайший выходной, и пост перед исповедью установил длиной не в обычную неделю, а всего в три дня…
В гостинице, когда Речницкий похвастался возлюбленной своими успехами, Ева засомневалась:
– А стоит ли мне записываться в метрическую книгу своим именем? Сразу же станет ясно, кто я такая!
– Вовсе нет! – успокаивал ее Франц, обнимая, и гладя чудесные, чуть вьющиеся темные волосы девушки. – Одних лишь родов Потоцких, располагающих правами на герб Пилава, насчитывается, пожалуй, больше десятка. А сколько еще однофамильцев с иными гербами! Шелига, Янина, Любич, Порай… А сколько безгербовых шляхтичей Потоцких! Если же начать считать всех Потоцких, не принадлежащих к шляхетскому сословию, то таких наберутся многие тысячи!
Про себя же лесничий думал несколько иначе: «Все это так… Но только до того момента, как слух о беглой графине Потоцкой не распространится по здешним местам. Тогда ни одного ксендза за горы златые не уговоришь венчать Потоцкую, пока он не убедится, что это не та Потоцкая. Одна надежда – на родовую графскую спесь. Не станут они болтать на всех углах о том, какой понесла урон их фамильная честь…»
До венчания пришлось решить массу проблем.
– Радость моя, – Францу очень не хотелось огорчать любимую, но выхода не было. – Как мне ни жаль, но с твоей Ласточкой придется расстаться теперь же. Да и с украшениями – тоже. Мы уже достаточно наследили и еще наследим, но надо, чтобы все наши следы остались только здесь, в Белостоке, и более нигде.
При прощании с кобылкой Ева не смогла сдержать слез, но быстро взяла себя в руки. Речницкий отвел Ласточку к барышнику, с которым сговорился загодя.
– Кобыла-трехлетка, чистокровная, английской верховой породы, кличут Ласточка, – пояснил Франц Иванович.
– Краденая? – спокойно уточнил жид-барышник (а иных тут и не водилось).
– Можно сказать и так, – кивнул бывший лесничий. – Искать ее точно будут.
– Та не лякайтеся, хаспадин, – улыбнулся жид, – чи мы дело не знаемо? – тут, заметив, как невольно скривился клиент, он перешел со своего жуткого жаргона на почти чистый литературный русский. – Сделаем новенькую родословную, сменим имя, да и продадим подалее от здешних краев.
Сговорились за четверть цены, и от барышника Речницкий направил свои стопы в ювелирную лавку, где повторился весьма схожий диалог с таким же хитрованом-жидом – только вместо родословной речь зашла о перестановке камней и переделке драгоценностей. Евины украшения так же ушли за бесценок, однако и эти деньги показались бы богатством не только какому-нибудь поденщику, но и вполне устроенному мастеровому.
Немалое беспокойство внушала Францу Ивановичу предстоящая перед венчанием исповедь. У него самого с Богом были сложные отношения, а еще более сложные – с церковью Его, но вот за свою нареченную он опасался. В магнатских семьях частенько воспитывали из девушек ревностных католичек. Посему за разговор Речницкий взялся с осторожностью:
– Послушай, милая, у нас впереди исповедь…
– Боишься, не скажу ли лишнего? – бесцеремонно прервала его Ева, озорно стрельнув своими темными глазами. – Браки совершаются на небесах, и в наши отношения с Господом я не собираюсь впутывать ксендза. А коли ты, муж мой перед Богом, – она с притворной скромностью потупила глазки, – считаешь, что мы беглецы из Минска, спасающиеся от родительского гонения на католическую веру, то я, жена твоя, должна свято в это верить.
И Еву, и Франца тяготила необходимость соблюдать приличия, дабы следовать придуманной легенде и не плодить слухи, способные ввести здешнего ксендза в дополнительные сомнения. Прислуга в гостиницах видит все, и потому пришлось снимать два отдельных номера, видеться только днем и почти всегда на людях. Разговоры с глазу на глаз были короткими и с соблюдением всех мер предосторожности.
Непростым делом оказался выбор свидетелей для жениха и невесты. Никого они в Белостоке не знали – скорее, к счастью, нежели наоборот, – а потому приходилось срочно заводить знакомства. Однако выход и здесь нашелся. Франц отыскал корчму, где собирались преимущественно поляки-католики и, несколько раз проставившись на выпивку и угощение, сумел таки зазвать себе в свидетели трех человек, выглядевших достаточно прилично. Среди них был один лавочник, один конторщик и – в качестве главного свидетеля – служащий городской управы.
Ева решила свою проблему иным образом. Обратившись за изготовлением подвенечного платья, по случайному совету одной из прихожанок, в портняжную мастерскую, наверное, единственную в городе, где и владельцем, и работниками были сплошь поляки, она обнаружила искомое там. Немного дичившаяся поначалу в незнакомой обстановке шляхтянка быстро нашла общий язык с работавшими там швеями, весьма быстро переняла их повадки и манеру речи, не подстраиваясь, однако, под них полностью. Пусть ей надо играть роль мещанки, но все же мещанки далеко не самой бедной.
Главным успехом было то, что юной паненке удалось очаровать жену хозяина портновского заведения. Та сама указала Еве на наиболее благонравных девушек, подходящих на роль свидетельниц, и подыскала маленькую девочку, которая должна была нести шлейф за невестой во время церемонии. Немало помогло столь благожелательному отношению и то, что Речницкий не скупился на расходы по срочному пошиву подвенечного платья.
Да, но кто заменит отца невесты? Без отца либо другого старшего родственника или же опекуна при церемонии венчания никак не обойтись. Кто же согласится выступить в подобной роли? Как ни ломал Франц Иванович голову, но так ничего придумать и не смог. Решение свалилось на них неожиданно, хотя и нельзя сказать, что случайно. Ксендз был столь тронут исповедью своей новой прихожанки, что сам пообещал найти ей достойного человека. За день до свадьбы таковой объявился и, в свою очередь, расчувствовался от беседы с «несчастной невестой» буквально до слез, так, что его и упрашивать не пришлось. Это был престарелый регент церковного хора, весьма уважаемый в городе человек, ранее служивший местным почтмейстером.
Вопреки опасениям Франца и Евы, церемония бракосочетания прошла вполне благополучно. Бывший почтмейстер, с важностью исполняя роль отца невесты, ввел ее во храм и по ковровой дорожке провел к алтарю, где уже стоял Речницкий. Свидетели выстроились по обеим сторонам от венчающихся, а ксендз встал перед ними и приступил к литургии. После проведения причастия, молитвы и проповеди был задан вопрос, которого с затаенным страхом ожидали влюбленные:
– Известны ли присутствующим какие-либо причины, кои могут быть законным препятствием к заключению брака между Францем Речницким и Евой Потоцкой?
Трижды ксендз произносил эти слова, но каждый раз ответом нему было молчание. Тогда священник обратился к жениху с невестой:
– Пришли ли вы сюда добровольно и без принуждения и хотите заключить супружеский союз по своему свободному выбору? Готовы ли вы любить и уважать друг друга всю жизнь? Готовы ли вы с любовью принять от Бога детей и воспитать их согласно учению Христа и матери нашей католической церкви?
Получив на каждый из вопросов неизменное «да!», ксендз возможно более торжественным голосом провозгласил:
– Соединяю вас, дети мои, узами брака во Имя Отца и Сына и Святого Духа!
Слова клятвы, которыми обменялись новобрачные, были несколько неожиданны для всех собравшихся в костеле:
– Клянемся друг другу жить в неизменной любви и согласии, ибо на то есть воля Отца нашего небесного, и никакой иной воли над нашей любовью нет, а посему отныне разлучить нас невозможно, даже пресекши наши жизни.
Обменявшись золотыми кольцами, которые поднесли главные свидетели, новобрачные расписались в церковной книге. Невеста решительно вывела красивый витиеватый росчерк: «Ewa Recznicka (Potocka)».
Постаравшись как можно быстрее отгулять скромную свадебку, на которую, впрочем, набилась масса незнакомых людей, привлеченных слухами о необычной паре, молодожены смогли, наконец, уединиться на законных основаниях. А назавтра – в путь. Бежать, бежать из Белостока как можно быстрее, пока вести не дошли до ушей преследователей, которые, без сомнения, уже ищут беглецов. Пропуская мимо ушей настойчивые просьбы владельца гостиницы остаться хотя бы еще ненамного – осмотреть город («У нас есть на что посмотреть!» – гордо повторял он), погулять по Ратушной площади с красивым сквером и фонтаном, наконец, полюбоваться на дворец Браницких с шикарным парком, удостоившимся прозвания «Подляшский Версаль», – молодожены быстро собрались и покинули Белосток, стремясь как можно скорее оставить место своего бракосочетания позади.
Целью Речницкого на этот раз был Гродно. Город большой, там можно и затеряться, если удастся вести себя так, чтобы не выделяться среди обычных горожан. Туда можно было попасть и по железной дороге, но ему не хотелось лишаться свободы передвижения, а пролетку с собой в поезд не захватишь. Поэтому пришлось ехать трое суток, с двумя ночевками в пути.
Гродно, несмотря на пожар 1885 года, от которого сильно пострадал центр города, выглядел, пожалуй, даже солиднее Белостока. Холмы над Неманом гордо несли на себе белые корпуса Старого и Нового замков, костелы и православные церкви устремляли ввысь свои шпили и колокольни. Как же – негласная третья столица Речи Посполитой, одно время здесь проводилось каждое третье заседание сейма… Да и древностями своими Гродно мог поспорить с Белостоком. Тут можно было найти даже здания XII века, постройки школы знаменитого белорусского зодчего Петра Милонега. Хотя население христианского вероисповедования (католики, православные и чуть-чуть лютеран) числом своим было, пожалуй, лишь немногим более, чем в Белостоке, христианских храмов тут было побольше – ведь сам город всегда занимал более значимое место и потому мог позволить себе многое. Да и иудейская община здесь своим числом почти не превосходила христианскую.
Хотя сбережения Речницкого, особенно из-за расходов на бракосочетание, довольно заметно подтаяли, но и оставалось еще немало. Поэтому он сразу снял небольшой домик на окраине, нанял прислугу и занялся устройством на службу. Вскоре таковая нашлась – Франц Иванович получил место учителя географии в здешнем реальном училище. Жена же, как вскоре стало ясно, ожидала ребенка, и потому о какой-либо работе для нее думать не приходилось.
Время шло, расходы постоянно превышали доходы, и уже через четыре месяца, в начале февраля, ему пришлось идти в банковскую контору, разменять ценную бумагу Государственного Банка выпуска 1895 года под названием «Депозитная металлическая квитанция». Хотя сделана она была и не из металла, как можно было бы решить по названию, но зато обменять ее можно было на звонкую золотую монету суммой в сто новых империалов (то есть в тысячу рублей). Появилась у него эта бумага в силу маловероятного стечения обстоятельств. Сопровождая в 1896 году на охоту Великого князя Михаила Александровича с гостями, Речницкий заслужил благосклонное внимание одного из них, и после пикника на природе, будучи уже в подпитии, гость широким жестом, не глядя, вытащил какую-то бумажку из портмоне и, скомкав, бросил под ноги лесничему. Хотя Франца Ивановича так и подмывало повторить жест разгулявшегося хама, но пришлось стерпеть – подобная вольность могла обернуться нешуточным скандалом и уж наверняка увольнением от должности.
Подобрав смятую бумагу, он расправил ее только дома и не поверил своим глазам. Тысяча рублей! Сравнимо с его годовым жалованьем! Но еще большим его изумление стало, когда он обнаружил, что этих бумажек две, плотно слипшихся между собой. Аккуратно отделив их друг от друга, лесничий убрал бумаги к своим сбережениям – пригодятся. Вот и пригодились.
4. Месть
Весной, когда Ева была уже почти на сносях, волнуясь, само собой, перед первыми родами, по Гродно поползли темные слухи. Братья Потоцкие ищут кого-то… Ищут, чтобы отомстить… Они поклялись кровью смыть свой позор… В чем там было дело, распространители толком объяснить не могли (ибо Потоцкие, разумеется, не спешили распространяться о своих прискорбных обстоятельствах), но слова о кровавой клятве уже широко передавались из уст в уста. Речницкий решил не искушать судьбу и снова бежать – на этот раз в Лиду.
Дождливым и холодным майским утром 1898 года супружеская чета Речницких покидала Гродно. Несмотря на опасения Франца Ивановича, его жена благополучно перенесла переезд, и через несколько дней они уже обосновались в Лиде, сняв неказистый домик в Заречье.
Довольно много времени заняли поиски заработка – городишко был заштатным, и возможности устроиться на службу тут были весьма невелики. Все же через некоторое время Франц сумел наняться приказчиком в купеческую лавку. А тут и рождение ребенка подоспело. После всех волнений и переживаний 19 июня 1898 года появился на свет вполне здоровый мальчик, да и мать чувствовала себя неплохо.
И снова начались хлопоты. Подыскать крестного отца и крестную мать, зайти в костел с выпиской из метрической книги белостокского костела, поговорить с ксендзом. Благо, в Лиде костел был тоже один, и стоял – рукой подать, прямо напротив, на другом берегу реки. Поскромнее, чем в Белостоке, без башенки (хотя ранее имел даже две, но они сгорели при пожаре почти век назад), да и оградка попроще, но такой же беленький, чистенький и так же заботливо окруженный зеленью – недавно высаженными деревцами. Даже скромные домишки, под стать скорее деревне, чем городу, теснившиеся к костелу, не могли испортить его вид.
Совсем рядом, через улицу, наискосок от костела виднелся еще один, но, приглядевшись, можно было понять, что он заброшен – вон, даже крыша начала проваливаться. Этот костел принадлежал кармелитскому монастырю, но с тех пор, как тот закрыли, и храм его пришел в небрежение.
Войдя в двери Крестовоздвиженского костела, Франц убедился, что и внутри он достаточно скромен. Однако же на кирпичном полу костела выделялась дорожка центрального прохода, выложенная мрамором. Кроме того, сразу же бросались в глаза иконостас, украшенный весьма богатыми для маленького провинциального прихода иконами, и покрытый натуральной позолотой амвон. И орган, как положено, имелся. Благодаря стройным колоннам и высоте помещения костел внутри казался даже больше, чем снаружи. Лидский декан и пробощ (настоятель) костела Юзеф Сенкевич, который оказался на месте, рассказал, что богатые иконы – пожертвования прихожан и прежнего декана, человека уважаемого, культурного, водившего дружбу с самим Адамом Мицкевичем.
Не прошло и двух недель, как Юзеф Сенкевич, держа на руках младенца, только что окропленного святой водой, торжественно провозгласил:
– Нарекаю тебя Якуб во имя Отца, и Сына, и Святого Духа!
Так в семье Речницких появился Яков Францевич Речницкий – Jacub Recznicki.
Жизнь, хотя и очень скромная, заставлявшая ограничивать себя в очень многом ранее привычном, не тяготила Еву. Она отдавалась хлопотам о малыше, не все доверяя прислуге, и каждая встреча с мужем, возвращавшимся после трудов, доставляла ей неподдельную радость. Однако радость эта была недолгой. Едва минуло лето, наступил сентябрь, и теперь уже по Лиде поползли передаваемые страшным шепотом слухи о братьях Потоцких, рыщущих по округе с кровожадным блеском в глазах. А еще через несколько дней Франц Иванович узнал, что Потоцкие уже в Лиде!
Бегство происходило в спешке. Надо было немедленно покидать город и искать другое убежище. И Речницкий решил вернуться обратно в Беловежье.
– Там, в северо-восточном углу Пущи, – объяснял он своей жене, – заболоченные леса и непроходимые топи. В тех краях во время повстания Калиновского в шестьдесят третьем году кое-кто из наших ховался. Места, конечно, гиблые, и я ни тебя, ни малыша нашего туда не потащил бы, коли головы спасать не надо было. Но не вешай нос, не на всю жизнь в те болота идем. Пересидим годик, братья твои покрутятся, покрутятся, да от пустых поисков и подустанут. Тогда переберемся оттуда – можно в российские губернии поглубже забраться, а можно за границу…
Чтобы запутать преследователей, двигались не напрямки, а зигзагами, местными дорогами, ночуя в деревнях и селениях. Еще в самом начале пути сменили пролетку на телегу и постепенно загружали ее всякими припасами. Здесь куль муки купят, там – другой, в селе покрупнее прихватят гвоздей, инструмент, скобяные изделия. На очередной остановке запасутся крупой, приобретут бочонок квашеной капусты да как раз поспевшей клюквы. Вслед за ними в телегу ложится мешок картошки, три большие крынки с медом, затем соль, спички, керосин… Ну а мясо бывшему лесничему сподручно добыть охотой – и потому по случаю он не забыл прикупить патронов к ружьям, пороху да дроби.
День шел за днем, дождь сменился ясной холодной погодой, а к концу поездки заметно потеплело. Долго ли, коротко, а телега прибыла в село Добровола, что стояло уже, считай, на краю самой Пущи.
Там, в Доброволе, Франц Иванович решил последнюю проблему – как-то сумел сговориться с местной бабкой-знахаркой, что она последует за ними в болота, впрочем, хорошо ей знакомые, и будет ходить за их малышом. Дальше беглецы, уже вчетвером, двинулись на восток, достигнув села Бояры, свернули на юг и, миновав деревню Новоселки, стали углубляться в болотный край. Вскоре они оставили в стороне хутор Войтовы мост – а дальше на многие версты уже не было ни единого хуторка или фольварка. Конечно, десяток верст заболоченных лесов с севера на юг и верст семь с запада на восток не назовешь совсем уж недоступными. Но вот как раз здесь кончались всякие дороги и тропинки, и лишь некоторые из местных знали кое-какие не слишком надежные пути по этим гиблым трясинам.
Если смотреть на карту, то, скажем, Дикое болото, лежащее совсем рядом, еще немного на восток, конечно, заметно больше размером. Но там идут сплошь открытые, безлесные места – от чужих глаз не укроешься. Да и вовсе негде укрываться: не будешь же по уши в самом болоте сидеть. А по берегам там полно хуторов, фольварков и деревенек.
Здесь же, в четырехугольнике между Мокрым урочищем, урочищем Вьюновка, хутором Стражина и хутором Людовиново, нет ни жилья, ни дорог, болотины перемежаются заболоченным лесом, а топи такие, что пути через них искать – пропащее дело. Но лесничему, среди немногих, кто жил в этих краях, тропа была известна, да такая, что и лошадь с телегой пройдет.
Ева смотрела по сторонам с довольно тяжелым чувством. Серые тучи, снова закрывшие синеву неба, не пропускали солнечные лучи под полог леса, и потому картина вокруг казалась еще мрачнее. Между деревьев стояла вода, то и дело встречались завалы из замшелых стволов рухнувших лесных великанов, и огромные выворотни, наполовину ушедшие в топь, протягивали щупальца своих узловатых корней. Временами лес сменялся отдельными огрызками стволов полусгнивших деревьев. За ними виднелись заросли ольховника и ивняка, в прогалинах между которыми можно было разглядеть то стену болотной травы, то окна стоячей воды, покрытой пятнами тины. Телега то и дело пыталась уйти во влажную землю чуть не по ось, и Речницкому приходилось бросать под колеса заранее сколоченные мостки из тонких бревнышек, громоздившиеся на телеге поверх скарба.
Однако верст через пять в конце тропы неожиданно показался довольно сухой островок леса с неказистым, но вполне пригодным для житья домиком в окружении величавых сосен да нескольких кленов и березок. Солнечные лучи вдруг пробились между тучами и осветили полянку перед домом, уже начавшую покрываться золотистой осенней листвой.
Наступил прохладный, но солнечный октябрь. Пока стояла сухая погода, Речницкий торопился с починкой дома – поправлял двери и окна, вставлял стеклышки в заново сделанные оконные переплеты, сушил мох, чтобы законопатить щели, чинил остатки мебели… Кое-как ему удалось отыскать глину, и он подновил печь, без которой зимовать было бы невозможно…
Пришедшая зима сделал болота более проходимыми, что доставляло Францу немало беспокойства. Выходя на охоту, он первым делом осматривался не в поисках дичи, а замечал, не появились ли вокруг их убежища человечьи следы. Но вот миновало Рождество, прошли крещенские морозы, осталась позади зима, наступил весенний паводок. Вода подступила к самому порогу их жилья, утвердившегося на невесть как доставленных сюда валунах. Несколько дней из дома выйти было невозможно – разве что на лодке, которой у них не было. Затем вода стала спадать, минул апрель, за ним пришел май 1899 года. На поляне перед домиком расцвели белые весенние цветы.
Франц вместе с Евой, оставив неизбывные домашние хлопоты, вышли на минутку полюбоваться буйством красок майской природы да сплести свои пальцы… И вдруг чуткое ухо лесничего уловило странные, вроде чавкающие звуки. Не сразу он сообразил, что такие звуки издают лошадиные копыта, ступающие по топкой почве. И тут уж он не размышлял:
– К дому! – крикнул Речницкий. – Там ружья! – и он, схватив жену за руку, потащил ее за собой.
Поздно! На поляну уже вырвался самый молодой и прыткий из братьев, Михал, и, послав коня вперед, в несколько мгновений отрезал беглецам путь к оружию.
Того не учел лесничий, что не один он знает эти места, а зрадник… Что ж, зрадник среди людей всегда сыщется, как нашелся и тогда, в далеком уже шестьдесят третьем. Вот и тут какая-то черная душа указала преследователям путь через болота.
– Попался, пся крев! – раздался торжествующий вопль. Вылетела из ножен сабля, тускло блеснул под майским солнцем слегка изогнутый клинок…
– Беги! – заорал Франц, оттесняя жену за спину. – Я задержу их!
– Нет, Франек, я с тобой! – непреклонно промолвила Ева.
Нырнув под самую морду лошади, чтобы спастись от занесенной над головой сабли, лесничий внезапно кинулся вперед, ухватил всадника за ногу и что есть мочи рванул вверх, одновременно запрокидывая его на спину. Младший Потоцкий вылетел из седла, но в последний момент сумел кое-как ухватиться левой рукой за гриву коня и тем немного смягчил падение. Сабля выпала из пальцев, но сам он, хотя и шмякнулся довольно чувствительно, большого урона не понес.
Тем временем уже и второй брат наскочил на беглецов, однако и его ждал отпор. Ева выхватила из кармана платья револьвер, Владислав инстинктивно качнулся в сторону, но пуля все же достала его в левую часть груди, засев в ребре.
– А-а-а, кур-р-рва! – выпалил он, скрежетнув зубами от боли. Но, несмотря на рану, Владислав отмахнул-таки саблей, достав сестру в правую руку повыше локтя, и револьвер упал на землю. А сабля снова взвилась вверх…
Речницкий уже нагибался за клинком, который выронил Михал, неуверенно пытающийся встать на ноги. Но, увидев кровь на руке любимой и саблю, занесенную над ее головой, бросил свое тело вперед, закрывая жену от удара. Поэтому старший из братьев, Жигмонт, от неожиданности сумел лишь слегка зацепить его концом сабли за плечо.
Владислав же не упустил момент и с чувством рубанул Франца наискось почти через всю спину, тут же взвыв от боли в раненом боку.
Спешившийся Жигмонт и подхвативший свою саблю Михал с остервенением пластали уже мертвое тело лесничего, но тот все никак не хотел разжать сцепленные в последнем усилии объятия. Ева, несмотря на несколько чувствительных порезов, все еще была жива. Тогда Жигмонт что есть мочи пихнул тело Речницкого сапогом и с лютой злобой в глазах вогнал острие в приоткрывшееся ему простенькое ситцевое платье. Раз, другой, третий…
– Уходит! Там его отродье! – крик раненого Владислава, оставшегося в седле, заставил братьев остановиться и оглядеться. Что-то мелькало за домом, в малиннике и зарослях молодой крапивы, затем серый силуэт показался последний раз и скрылся среди кустов ольховника и ивняка.
Михал бросился к своему коню.
– Стой, дурная голова, там болото! Верхами не пройти! – уцепил его за плечо Жигмонт.
Михал, как самый прыткий, первым углубился в заросли, куда вело едва заметное подобие тропы. Под сапогами хлюпало, вокруг виднелись бочажки стоялой воды. Тропа же и вовсе исчезла. Михал чертыхнулся, уйдя в болото по колено. Кое-как выкарабкавшись, он выхватил свой «Лефоше» и пальнул из револьвера в сторону кустов, где ему почудилось шевеление. Тут же снова бросившись вперед, он через несколько шагов ухнул в трясину по пояс.
Жигмонт, предусмотрительно обзаведшийся жердиной, подобрался к брату как можно ближе и, протянув ему конец спасительной палки, с большими усилиями все же сумел вытянуть того из болота. Возвращались братья перемазанные в болотной грязи, а Владислав прижимал руку к кое-как перевязанной ране. Лица у всех были угрюмые – радоваться-то нечему. Но, как бы то ни было, долг свой они все же исполнили. Позор семьи был смыт кровью.
Убить, однако, удалось не всех. Когда на глазах бабки-знахарки был зарублен лесничий, она, недолго думая, сунула ноги в плетеные мокроступы, выхватила младенца из люльки и бросилась в топи. Убегая, она бормотала на белорусском:
– Забойцы… Душагубы… Каб вас чорт узяў!
Надо было думать о том, куда сделать следующий шаг, чтобы не уйти в трясину. А тут прямо за спиной грянули два выстрела и срезанные пулями ветки упали совсем рядом. От неожиданности бабка перескочила с белорусского на польский:
– Bodajes sie гоzdaria od dupy do gardla![2] – вырвалось у нее жешувское ругательство.
Но отвлекаться было нельзя. Вот как раз кочка скрытая водой: пробуем ее – не провалится ли под ногами? Еще шаг – и снова осмотреться… Выбравшись к участку заболоченного леса, где корни деревьев давали хоть какую-то надежную опору для передвижения, знахарка прислушалась. Отчаянные крики младшего Потоцкого дали ей понять, что болото не преминуло показать свой норов. Зло ощерившись, она обернулась в ту сторону и, по-прежнему крепко прижимая младенца к себе, вздела персты правой руки и в сердцах бросила проклятие, снова перейдя на белорусский:
– Няхай над тым родам варонне кракаець!
Глава 1 Москва – Кисловодск – Ташкент
1. День рождения
Этот апрельский день 1932 года начинался для Анны Коноваловой как обычно. Подъем, зарядка, умыться-собраться – и на занятия. Среди студентов Московского высшего инженерно-строительного училища Аня выделялась своим прилежанием и потому не без оснований рассчитывала вскоре пройти, печатая строевой шаг, вместе с парадным расчетом училища по брусчатке Красной площади. Мечту попасть на первомайский парад она лелеяла с первого года обучения. Пусть студенты – не военные и их «коробка», составленная из числа отличников вневойсковой подготовки, во главе с военруком училища пойдет не в военной форме, вслед не только за колоннами РККА, РККФ, военных учебных заведений, но и за отрядами вооруженных рабочих московских заводов – членов ОСОАВИАХИМ. Ну и что – все равно она станет участницей парада, а не просто демонстрации! И вот сейчас, когда ее мечта так близка к осуществлению, вмешались обстоятельства… Не то чтобы неприятные – скорее наоборот, но вот участию в параде они могли помешать. У бравой студентки начался девятый месяц беременности.
Сегодня, 16 апреля, едва начались занятия, как сосед по скамейке обратил внимание на то, что Анька сидит не шевелясь, закусив губы и стиснув кулаки.
– Ты что, Ань? – тихонько спросил он с нотками страха в голосе. Мудрено было не связать необычное поведение студентки с ее выпирающим животом.
– Погоди, сейчас пройдет, – с досадой прошептала она в ответ, еще питая надежду, что все как-нибудь обойдется.
Надежды этой хватило всего на несколько минут. Не обошлось. Вскоре она оказалась в родильном отделении, а уже в середине дня на свет появилась девочка. Новорожденную решено было назвать Эрнестиной – в честь вождя немецкого пролетариата Эрнста Тельмана. Решение принимала она сама, ибо посоветоваться было совершенно не с кем: вся ее семья проживала в далеком Ташкенте. Там же, в САВО, проходил службу и ее муж Яков, с которым они, впрочем, не были расписаны, но в те времена это мало кого волновало – в том числе и советское законодательство. Пока ушла телеграмма в далекий Ташкент, пока пришла ответная, с согласием от Якова (хотя потом оказалось, что не все так просто…) – в метрической записи уже появилось имя новой гражданки СССР.
Надо сказать, что решение уехать от мужа в Москву на учебу и видеться с ним лишь в период коротких летних отпусков далось Ане нелегко. Ведь как непросто было вчерашней школьнице обратить на себя внимание немолодого уже – под тридцать лет – красного командира! Жених он был завидный – как танцы в Доме Красной Армии, так девушки вокруг него и вьются. Да и бравый командир поглядывал на них не без интереса. Но вот – влюбилась и добилась-таки своего: сначала Яков стал выделять ее из всех поклонниц, затем они одна за другой куда-то отсеялись, а потом и предложение последовало… Вскоре Яков перебрался к ней домой из своего командирского общежития.
Любовь оказалась взаимной, Анна вся светилась от счастья и чувствовала себя прямо-таки окрыленной. Ох, как не хотелось ей расставаться с любимым! Только вот и становиться женой при муже, вечной домохозяйкой, она желала еще меньше. Естественно, Яков отпускать молодую жену за тридевять земель совсем не собирался – в Ташкенте тоже можно образование получить, если уж ей так хочется. Но ей хотелось не просто дипломом обзавестись, а стать настоящим, крепким специалистом. Весь Советский Союз становится сейчас большой стройкой, и она должна как следует послужить общему делу. Аня с юности была девушка упорная и если уж хотела добиться своего, то, стиснув зубы, пробивалась к цели через любые преграды. К счастью, в семье имелась не только любовь, но взаимное уважение. Что греха таить, не обошлось и без многочисленных выяснений отношений, порой весьма бурных, однако Яков все же подавил в себе естественную ревность и огласился на ее отъезд.
Разлука оказалась неожиданно тяжелой, иногда по ночам Анна тихонько плакала в постели, стараясь не потревожить никого из живших рядом. Шокирующей радостью для нее стала беременность. Помимо счастливого ожидания ребенка, ее поначалу очень напрягали обычные проявления беременности – тошнота, рвота, иногда ее тревожили самые обычные запахи. Однако вопреки всем преградам она рвалась к новой профессии, училась даже через не могу.
При свободных нравах тех лет к яркой, бойкой, энергичной девушке не раз подкатывали мужчины. Аня сама была совсем не аскетического нрава и против походов в кино или на танцы вовсе не возражала. Но подпускать к себе слишком близко чужих мужчин, пусть это даже свои в доску друзья-однокурсники, она тоже не собиралась. Иногда на нее накатывали тоскливые мысли: «А как там Яков без меня, небось, тоже за кем-нибудь увивается?» Но эти мысли она тут же гнала прочь.
Ну что за мужики! Знают же, что женщина занята, – так нет, все равно пристают. Кто для приятного времяпровождения, а кто и для создания семьи, их даже и ее беременность не смущала. Некоторые, впрочем, сами догадывались, что им ничего не светит, и отходили в сторону. Другим приходилось объяснять и, к сожалению, не всем – словесно. Но Аня умела быть очень доходчивой.
Рождения ребенка она ожидала с затаенным страхом – первый раз ведь! – и, конечно, с радостью. Но вот ведь незадача! На парад она не попадает, на носу экзамены, а тут лежи себе на больничной койке. Однако на маленькую Эрнестину молодая мама свою досаду не переносила, наоборот – не могла нарадоваться на дочку. Да и как не радоваться, девочка получилась небольшая, но крепенькая и не плакса.
С самого начала однокурсники не оставляли Аню своей заботой: друзья и подружки торчали под окнами родильного отделения с самого первого дня, ожидая новостей, и разошлись, лишь узнав, что роды прошли благополучно. На следующий день утром, едва роженицы проснулись, с улицы раздался истошный вопль:
– Ан-я-я! Ань-ка-а!
Вставать она еще не могла, и открывать окно сунулась одна из ее соседок по палате.
– Чего орете? – немилостиво прикрикнула она на кого-то невидимого.
– А где Аня? Аня Коновалова? – заорал, но уже потише, другой голос. Костя Ляпунов! Точно! Значит, первый вопль – это Семен Василенко, главный заводила на их курсе. Они всегда вместе.
– Вы вопить не перестанете? Чай, не на базаре – тут женщины рожают, их беспокоить нельзя! – столь же сурово ответила соседка, затем сменила гнев на милость. – Не ходит она еще. Нельзя ей! – было доложено вопрошающим с улицы.
– С ней все в порядке? – голос, полный беспокойства. Это уже кто-то из девчонок, похоже, Ленка Климова.
– Да в порядке, в порядке! – недовольно проворчала соседка. – Раскудахтались тут… Никто вашу Аньку не съест.
– А цветы ей можно передать? – опять голос Кости.
– Даже и не суйтесь! Не примут, да еще и облают. Не положено роженицам в палаты цветы носить. Кому-то от запахов и плохо стать может, – все тем же суровым, назидательным тоном объясняла женщина.
– Да какие же тут запахи?! Это же подснежники! – возмутился хорошо поставленный бас. Ну точно – Василенко. Ведь красивый же голос, а только что верещал, как зарезанный!
Чтобы женщины отказались от цветов? Да быть такого не может. В окошке появилась еще одна голова, с растрепанными со сна волосами, торопливо убираемыми под только что повязанную белую косынку:
– А как вы их сюда забросите? – весьма заинтересованно спросила новая собеседница.
– Так по шпагату же! – пояснил Ляпунов.
– Нету у нас шпагата… – разочарованно протянула первая.
– Так инженерная смекалка нам на что? – как будто даже удивился однокурсник. – Все у нас с собой. Сейчас мы вам моточек и закинем, – торопливо проговорил Костя. – Вот, ловите!
Со второй попытки моток шпагата оказался в руках женщин, и вскоре привязанные к веревочке три маленьких букетика белых весенних цветов пропутешествовали на третий этаж.
Когда молодая мама вышла из больницы, в общежитии, занимавшем один из корпусов во дворах между Воронцовым полем и Дурасовским переулком, в отделении для «студентов женского пола» (как тогда нередко писали в официальных документах) ее уже ждали. В тесной комнатке, откуда вытащили третий топчан, стояла маленькая кроватка для Эрнестины, сияющая свежеструганным деревом и еще пахшая олифой.
– Это откуда? – удивилась Аня. Какую мебель можно было достать в московских магазинах, она примерно представляла. Огромные, тяжеловесные резные комоды и шифоньеры, монументальные плюшевые диваны еще можно было найти, а вот детскую кроватку…
– Ну так! – гордо выпятив подбородок, выдал Семен. – Ведь в инженерно-строительном же учимся, не где-нибудь!
– В самом деле, это же не мост спроектировать! – поддержал приятеля неразлучный Костя Лунев. – Так, просто руки приложить и совсем чуть-чуть – голову.
Девчонки тоже не подкачали: мобилизовав своих подруг, знакомых, родителей, старших сестер, раздобыли небольшую стопку пеленок и несколько распашонок для новорожденной. Комсомольская ячейка уже успела расписать график дежурств – кому из девчонок когда помогать молодой маме с дитем, а кому – подтягивать студентку Коновалову по пропущенным занятиям.
Проблема обнаружилась в лице комендантши общежития. Заявившись в тот же день в комнату к молодой маме, она с порога заявила:
– Коновалова, я на тебя представление на выселение подаю.
– Это еще за что? – взвилась Зинка Телепнева, уперев руки в боки.
– Не положено! – сурово бросила, как припечатала, комендантша. – Пусть подает заявление на семейное общежитие.
– Ну, Марь Васильна, ну вы что! – запричитала Климова, вскочив со своей койки. – Какое семейное? А то вы не знаете, что там мест нет!
– Чего где есть, чего где нет – то не мое дело! – оборвала ее Мария Васильевна. – Мое дело – инструкции блюсти. А по инструкции не положено!
– Так что же теперь, ради инструкции какой-то Аньку нашу взашей выгонять, что ли? – наступала на нее Зинка, по-прежнему подбоченясь.
– Ладно, – смягчилась вдруг комендантша, – даю тебе, Коновалова, еще две недели на устройство, а там – как знаешь!
Комендантша вообще-то была баба не особо вредная и по-своему заботилась о подопечных, стараясь хотя бы в чем-нибудь улучшить быт студенток, проживающих в общежитии. Но вот к соблюдению инструкций она относилась с нездоровым педантизмом.
2. Академия
Когда роковая дата миновала, Аня, а вместе с ней и ее подружки, со страхом ждала «оргвыводов». Но огорошила их известиями не Мария Васильевна, а шебутная Зинка, влетевшая в комнату в каком-то непонятном возбуждении, с выпученными глазами, едва не вылезавшими из орбит:
– Ой, девочки! – заверещала она с порога.
– Тише ты! – шикнули на нее сразу в два голоса. – Эрнестинку разбудишь!
– Что делается! – Телепнева слегка сбавила тон. – В деканате мне Наташка такое рассказала, такое…
– Да говори ты толком! – не выдержала Аня.
– Ой, девочки, – повторила подружка, всплеснув руками. – К нам хлопцы едут!
– Какие хлопцы? – вскинула голову Ленка Климова.
– Ой, какие хлопцы! – Зина аж зажмурилась. – Один к одному, все как есть в форме, самые настоящие красные командиры!
– Это что же у нас за командирский десант такой ожидается? – щегольнула военной терминологией молодая мама.
– Так вы ничегошеньки не знаете? – затараторила Телепнева. – Из Ленинграда, из самой Военно-технической академии, вот!
– Ну, скажи, скажи – надолго они к нам? – Лена не скрывала своего любопытства.
– Вы что, и вправду ничего не слышали? – Зинка в который раз всплеснула руками. – К нам, в ВИСУ, военно-инженерный факультет этой самой академии переводят. Целиком!
Вскоре обнаружилось, что балаболка Телепнева не выяснила главное – вместе с военно-инженерным факультетом Военно-технической академии их ВИСУ преобразуют в Военно-инженерную академию РККА! Всех студентов ВИСУ, кроме тех, кто по тем или иным причинам был не годен к военной службе, призвали в армию и зачислили слушателями вновь образованного военно-учебного заведения. В числе прочих стала слушательницей и Анна Коновалова, решившая по такому случаю пораньше выйти из положенного ей пятидесятишестидневного послеродового отпуска, чтобы сдать все экзамены точно в срок и наверняка остаться в академии.
За всеми этими реорганизациями вопрос о выселении из общежития как-то сам собой отпал, тем более что Марью Ивановну сменил новый комендант – пожилой, с военной выправкой мужчина. Когда он появился в комнате у Ани, она, понятное дело, струхнула, решив, что ее все-таки собираются выставить из общежития. Однако заявление нового коменданта оказалось довольно неожиданным:
– Слушатель Коновалова! – уставное обращение звучало в его устах совершенно естественно. Он покрутил носом, принюхиваясь к запаху сушившихся пеленок, смешивающемуся с запахом молочной каши, которую только что притащила с кухни Климова, чтобы покормить молодую маму. Аня же сидела за столом над тетрадками, одновременно баюкая Эрнестину на руках. – Академии выделяются дома для семейных на Красных Воротах. Так что пишите заявление на имя начальника Академии.
Аня подняла голову от конспектов:
– А… А можно, я здесь останусь?
– С чего бы это? – удивился комендант. – Не положено! И зачем же вам от дома для семейных отказываться? Там и условия получше будут.
– Так я же там одна с девочкой окажусь, – стала объяснять молодая мама. – И не знаю я там никого. Здесь же мне другие девушки помогают по очереди. Можно, а?
– Так ведь не зря же инструкции писаны? – настаивал комендант. – Ребенок-то окружающим, небось, своим криком спать не дает, заниматься мешает!
– Ну, вот вы и спросите окружающих: мешает им Эрнестиночка или вовсе наоборот? – с вызовом вклинилась в разговор Климова. – Мне так нисколько не мешает!
Однако новый комендант оказался не менее упертым, чем Марья Васильевна. Специально, что ли, такую породу для комендантских должностей выращивают? Ни напор слушательниц, ни даже официальное мнение ячейки ВЛКСМ его не впечатлили. Пришлось подключать тяжелую артиллерию в виде Клавы Куликовой.
Клавка, даром что была младшекурсница, обладала немалым авторитетом. Крепкая, разбитная рабочая девчонка, она успела и безработицу узнать, и на фабрике поработать, и в партию вступить, и побывать в депутатах Моссовета. А с переходом в академию ее избрали парторгом учебного отделения. Сама она была москвичка, в общежитии не жила, но проблемы студентов, там обитавших, знала не понаслышке – в бытность депутатом занималась проверкой состояния общежитий и студенческой столовой в «Бауманке».
Клава появилась, излучая вокруг себя какую-то неукротимую мощь, и сразу же насела на коменданта:
– Тебе что, буква инструкции важнее или живой человек? Дочка у Аньки тихая, спокойная (что тихая – это точно, но насчет спокойной она малость приврала), никому не мешает. Соседки в ней души не чают, помогают все дружно. Понимать должен, как непросто одной-то и малышку растить, и учиться как следует. А ты, вместо поддержки, Аню куда-то на выселки отправить хочешь, где помощи никакой! – Куликова вся кипела праведным гневом, и перед этаким напором, да еще подкрепленным авторитетом партийной организации, комендант малость стушевался, однако позиций пока сдавать не собирался.
– Ты, Клавдия Владимировна, – уважительно начал он, – погоди напирать. Вот тут у меня заявление есть, как раз от студенток с этого этажа, насчет того, что от девочки шум и никакой возможности заниматься…
– Кем подписано? – оборвала его Клава.
– Вот: «Студентки комнат 26 и 28», – ответил комендант.
– Дай-ка глянуть, – Куликова протянула руку и выхватила у коменданта листок.
Несколько мгновений она вглядывалась в корявый почерк, потом протянула зловещим голосом: «Та-а-ак, понятно…», резко повернулась и исчезла за дверью. Не прошло и нескольких минут, как она появилась снова, таща за собой прямо за ухо пунцовую от смущения девчонку.
Тыча листок с заявлением чуть ли не прямо ей в нос, Клава, не сдерживая гнев, спросила:
– Твоя работа, Тамарка?
Та молчала, насупившись и еще более покраснев.
– Ты у нас дождешься! – видно было, что парторгу едва удается не перейти на повышенные тона. – Сколько ты уже ей, змея подколодная, крови попортила? Сначала шепотки тайком за спиной пускала. Потом кляузы твои пришлось разбирать насчет Анькиного морального облика. Никак остановиться не можешь?
– Да-а, – плаксивым голосом завела Тамара, – а что, неправда, что ли? Мне вон пеняли, что мужиков на женскую половину таскаю, а за Анькой табунами парни ходят – и ничего?
Куликова аж поперхнулась:
– Опять за свое! Мало тебя на бюро пропесочили? Теперь анонимки принялась строчить? Из комсомола вылететь хочешь?
– Да-а-а, – снова захныкала кляузница, – а чего это вы все с Анькой носитесь? Нечестно так, одним все, а другим ничего! – и она принялась причитать, чуть не с каждым словом повышая тон. – За дитем ее чуть не целую команду отрядили присматривать, так и вьются вокруг, не надо ли чего! Она неизвестно от кого дите прижила и зато теперь отдельную комнату себе отхватила, а мне мужика на ночь оставить нельзя, каждый раз наутро в ячейку бегут и визг поднимают! Коновалову, видите ли, тронуть не моги – комсомол нам сразу в глаза тычет, что она у нас и спортсменка великая и чуть не первая в учебе. А у нее, между прочим, в этом году с учебой похуже будет, чем у многих других! Так нет же, ее, вон, ячейка кандидатом в партию рекомендует! – Тамарка остановилась, переводя дыхание после столь бурного монолога.
Воспользовавшись этой паузой, Клава негромко проговорила, покачав головой:
– Завидуешь ты ей, что ли… Только ведь, Тамара, чужой бедой сама счастлива не будешь.
После этого разбирательства коменданту, в конце концов, пришлось отступить. Аня осталась в общежитии рядом с подружками, готовыми помочь и поддержать.
Летнюю практику Анне Коноваловой разрешили провести на одной из московских строек, чтобы ей не пришлось везти с собой маленькую девочку в совершенно неустроенные места. За практикой подоспело и время краткого отпуска. Как ни сокрушалась Аня, что муж не сможет повидать новорожденную дочурку, но от поездки в Ташкент она отказалась. Шутка ли – малышку, которой и четырех месяцев еще не стукнуло, тащить несколько дней на поезде через иссушенные пустыни, по страшной среднеазиатской жаре, в раскаленном палящим солнцем вагоне! Яков тоже приехать не мог – свой отпуск он уже отгулял в марте месяце, сумев лишь полюбоваться на ее большой живот – плод их совместных усилий летом 1931 года, в предыдущий отпуск.
Следующий учебный год потребовал от Ани немалого напряжения сил: и за дочкой надо было ухаживать, и одолевать академическую программу, подтягивая предметы, которые в ВИСУ разве что краешком задевали на военной кафедре. Приближался выпуск, и Аня снова загорелась мечтой выйти с академией на первомайский парад. Но разговор с начальником курса оказался коротким и неутешительным:
– Послушай, Коновалова, – прервал ее горячую просьбу принять участие в параде непосредственный начальник, – ну, какие у тебя основания для включения в парадный расчет? Пойми, одного желания здесь маловато. Может быть, ты у нас строевик, каких мало?
Анна потупилась. Строевую подготовку она сдала на отлично, но слушателей с отличными отметками по строевой было много.
– Вот видишь, – продолжал начальник. – А на параде надо блеснуть, не посрамить честь академии! Так что в парадный расчет ставим тех, кто показал себя на строевых смотрах, да и на парады уже выходил.
Возразить на это было нечего, и по всему получалось, что основу парадного расчета ВИА составят бывалые ребята – бывшие слушатели военно-инженерного факультета Военно-технической, прибывшие из Ленинграда. А начальник курса продолжал добивать ее:
– Я еще мог бы понять, Коновалова, если бы ты у нас была первой в учебе. Тогда, в порядке поощрения, да строевую подтянуть… А так, что зря говорить?
И здесь возражать не приходилось – несмотря на все старания, Ане было тяжеловато одновременно постигать воинскую науку и растить дочку. В отстающие она, конечно, не скатилась, и успехи в учебе у нее были вполне приличные, но первые места в выпуске ей уже не светили.
Несмотря на это огорчение, к концу учебы она подошла с радостью. Ведь, как ни крути, пусть и не в первых рядах, но по успеваемости слушательница Коновалова оказалась далеко не из последних. Да и дочка у нее росла крепенькая и здоровая, а это все-таки куда важнее, чем один раз пройтись парадным шагом по Красной площади.
3. Санаторий ОГПУ
Закончив в 1933 году обучение, Аня, хотя и не обзавелась академическим значком (поскольку такие значки начнут выдавать лет через двадцать…), получила право украсить черные с синей окантовкой петлицы на своей гимнастерке сразу тремя красными кубарями. Шутка ли – «академиков» аттестовали по пятой служебной категории, что соответствовало должности военинженера! То, что молодая выпускница враз догнала Якова, ее немного смущало: неизвестно, как отреагирует он, служивший в РККА с 1918 года, на то, что жена так быстро с ним сравнялась?
Теперь, наконец, она могла увидеться с мужем. Но… И с отпусками вроде бы все сладилось, да тут грянула новая напасть – от мужа пришла телеграмма: «Связи противоэпидемическими мероприятиями введен карантин тчк выехать не могу тчк обстановка серьезная тчк решай сама Яков».
Аня прорвалась бы через любые кордоны, но, как ей удалось выяснить, обстановка в Средней Азии действительно была нешуточная, да еще на всем юге разгулялся сыпняк и подхватить его в поезде ничего не стоило. Как ни рвалась она к мужу, но пришлось отбить ответную телеграмму с неутешительным сообщением: «Приехать не могу тчк боюсь заразить дочку Анна».
Оставалось лишь отгулять недолгие дни отпуска в Москве и отправляться к месту службы.
Это было время великих строек, и как преподавательский состав академии, так и ее слушатели не оставались в стороне. Где только ни отметились они – Московский метрополитен, Днепрострой и Свирьстрой, Рыбинский и Угличский гидроузлы, канал имени Москвы, Горьковский автомобильный завод и многие, многие другие. Вот и нашей старательной ученице после выпуска была поручена ответственная работа: ее направили на завершение строительства важного правительственного объекта – санатория-отеля НКВД (впрочем, тогда еще ОГПУ). Попасть к месту службы мужа ей не удалось – выпускников ждали на множестве строек, а вот как раз в Ташкенте столь настоятельной и неотложной потребности в молодом инженере-строителе не ощущали. Нет, конечно, ее охотно приняли бы и там, но вот санаторий ОГПУ уж точно ждать не мог. В конце концов, есть партийная дисциплина, и Ане, совсем недавно обзаведшейся карточкой кандидата в члены ВКП(б), упираться было никак нельзя.
Специалистов на строительстве санатория отчаянно не хватало, и молодую выпускницу сразу сунули начальником стройучастка, а заодно, из-за нехватки кадров, на нее свалились и прорабские обязанности. Хочешь не хочешь, а пришлось на ходу осваивать науку управления сотнями матерых полуграмотных мужиков и едва закончивших школу юнцов – грамоты у последних было побольше, а вот сноровки в строительстве как раз не хватало. Конечно, какие-то командные навыки она в академии получила, но вот умение с боем выбивать вечно недостающие стройматериалы и механизмы да ругаться с субподрядчиками за сроки и качество работ, пришлось приобретать с нуля: этому их в академии уж точно не учили.
Анне уже довелось побывать на стройках во время практики, и потому совсем уж потерянной она себя не чувствовала. Но все же проблемы началась с самых первых дней.
– Что вы делаете?! – в сердцах воскликнула Аня, увидев, как бригада рабочих в отдельно стоящем здании хозблока споро закидывает лопатами бетонный раствор в опалубку межэтажного перекрытия, не оставив канал для разводки водопроводной и электрической сети.
– А ты кто такая, чтобы на нас орать? – нелюбезно поинтересовался бригадир, плечистый здоровяк лет за тридцать. Нового начальника стройучастка еще далеко не все знали в лицо, да вдобавок на Ане была не гимнастерка с петлицами, а танкистский комбинезон без знаков различия, уже запыленный и весьма заляпанный. Удобная штука – спасибо Семе Василенко, который ухитрился перед самым выпуском раздобыть этот комбинезон у знакомых из Академии механизации и моторизации РККА. А что до плохо отстирываемых пятен смазки и машинного масла, то до этого ли на стройке? Однако вот теперь этот комбинезон явно не помогал утверждению ее авторитета. Да еще и маленькая девочка, которую она держала за руку, спустив с плеча, никак не вписывалась в представление бригадира о человеке, который мог бы повышать на него голос.
– Военинженер Коновалова, начальник стройучастка! – отрезала Анна.
– Да иди ты?! – незлобиво, но с явным недоверием бросил здоровяк.
– Ты у меня сейчас сам так пойдешь… – негромко, но угрожающе произнесла молодая женщина, и бригадир по ее тону как-то сразу догадался, что дальше препираться не следует.
– Почему канал не оставили? – напирала она.
– Какой канал? – совершенно искренне удивился здоровяк. Видя его непонимание, Аня сформулировала вопрос иначе:
– Кто приказал так опалубку ставить?
– Да никто, – пожал плечами бригадир. – Мы везде так бетонировали – и ничо…
– Везде? – ахнула военинженер Коновалова. – Так, здесь работу до моего распоряжения прекратить! – и она бегом кинулась к главному корпусу.
Мама родная! Осмотр корпуса показал, что нигде каналы для труб и проводки оставлены не были! Покраснев от возмущения, Аня понеслась в контору к начальнику строительства. После сбивчивого доклада об обнаруженных огрехах она сделала безапелляционный вывод:
– Надо ломать и бетонировать заново!
– Надо – так ломайте! – с какой-то даже ленцой в голосе отозвался начальник. – Только учти: цемента у нас и так не хватает, и ни одного лишнего мешка я тебе не дам!
– А как же тогда… – смешалась Анна.
– Это ты у нас инженер. Вот и думай – как! – подвел черту начальник. – Все, свободна! Иди и работай! – напутствовал он ее.
Чуть не в слезах новый начальник стройучастка пытался сообразить, что же делать дальше. Однако слезами делу не поможешь, а исправлять положение как-то надо. И через полчаса военинженер Коновалова созвала общее собрание рабочих стройки:
– Слушайте все сюда! – во весь голос обратилась она к рабочим, машинально поглаживая по голове маленькую Эрнестину, которую усадила на какой-то ящик. – Работы на стройке прекращаем. Все вооружаются ломами, и будем долбить отверстия для электропроводки и водопроводных труб. Бригадиры через час собираются здесь и получают у меня схемы прокладки отверстий…
– Так у нас ломов столько, поди, и не наберется! – раздался выкрик из толпы.
– Точно, не наберется! – поддержал его другой.
– Не хватит ломов – вооружитесь обрезками арматуры! – тут же нашлась Аня.
– Так она ж легонькая! – тут же возмутился кто-то.
– Ломами будете долбить дырки, арматурой аккуратненько ровнять края! – не подвела инженерная смекалка. – Учтите, отверстия надо проделать точно по схеме, а не тяп-ляп. Заново бетонировать нам никто не даст!
Едва разобравшись с этой проблемой, новоиспеченная начальница наткнулась на другую. Хорошо, за несколько дней промах с бетонированием удастся как-то разгрести и надо будет начинать монтаж внутренних коммуникаций. На всякий случай надо переговорить с представителем электромонтажного треста. Разговор начался с простого сообщения:
– Через несколько дней передаем вам корпус под монтаж электропроводки.
Представитель треста, естественно возмутился:
– Через несколько дней? А должны были – два месяца назад!
Анну было смутить довольно сложно:
– Что есть, то есть, – пожала она плечами. – Вы-то не подведете?
– Монтаж можем начать… – протянул электрик. Но в таком ответе чутье сразу уловило неуверенность.
– Что, какие-то проблемы? – лучше сразу выяснить, чем потом с размаху лбом об стену.
– Да какие там проблемы… – снова промямлил представитель электромонтажного треста. – Кабель уже завезли, разводку можем начинать.
Аня сразу зацепилась за два слова – «кабель» и «начинать»:
– Начинать? А закончите когда? – спросила она с недоверием в голосе. – Кабель, значит, есть. А все прочее?
– Ты что, первый день на стройке? – взорвался ее собеседник. – Будто не знаешь, как по фондам материалы получать. Фонды – вон они, выделены честь по чести. А разводных коробок не поставили, выключателей, розеток, оборудования для щитовой – не поставили! Мы поставщикам телеграмму за телеграммой шлем. У них же вечные отговорки – то у самих чего-то там недопоставка, то наряды не так оформлены! – он в сердцах махнул рукой.
После такого разговора Анна уже с тревожно бьющимся сердцем разыскивала инженера-сантехника. Беспокоилась она не напрасно.
– Унитазы есть, – «успокоил» ее сантехник. – А больше ничего нету. Водопроводных труб нету, чугунных для канализации – нету, запорной арматуры – нету…
– Ты что, первый день на стройке? – набросилась на него молодая начальница стройучастка, воспользовавшись оборотом, который только что применили к ней самой. – Не знаешь, что фонды сами в руки не прибегут? Выбивать надо!
– Так выбиваем! – перешел в защиту коллега-строитель, по возрасту годившийся ей в ровесники. – Сколько денег на телеграммы извели! Даже представитель наш на трубном сидит, да толку что? Не дают трубы, говорят, поважнее заказчики есть.
С этими неутешительными известиями, вся разгоряченная, прибежала Аня к начальнику стройки. Начальник, выслушав ее претензии, в сердцах бросил:
– Все я знаю, Коновалова! Думаешь, у меня от этого голова не болит? Сколько докладных подавал – и все без толку! – несколько успокоившись, он смягчил тон. – Вот скоро приедет представитель заказчика, мы ему все и обскажем, с бумажками в руках. Это же все-таки ОГПУ, им вряд ли посмеют отказать – а то живо в саботажниках или вредителях окажешься.
Ладно, эту заботу пока можно выкинуть из головы. Но через неделю Анна стала ощущать в стройке какую-то неправильность. Вроде бы чего-то не хватает – понять бы только, чего именно? Долго это ощущение не давало ей покоя, пока однажды над Кисловодском не разразилась гроза и по склону не потекли бурные потоки дождевой воды. «Дренаж! – мысль ударила, как молния. – Почему не сделан дренаж?»
Пришлось зарыться в проектную документацию. Оказалось, что проектировщики эту малость не упустили: дренаж горного склона был предусмотрен. Все чин по чину – вот и схема прокладки керамических труб…
Начальник стройки вздрогнул, увидев ворвавшуюся в его кабинет молодую женщину с девочкой на руках и в неизменном комбинезоне, впрочем, извазюканном не так уж и сильно, как можно было бы ожидать на стройке – все-таки она каждый день на ночь стирала свою рабочую одежку.
– Ну что там у тебя опять, Коновалова?
– По проекту должен был быть выполнен дренаж склона, так? – она бросила на стол кипу бумаг с синеватыми линиями схем. – И где же он?
– Ты документацию смотрела? – с деланым спокойствием поинтересовался начальник стройки.
– Смотрела, – кивнула Анна.
– Так, и из чего же этот дренаж нам надо городить?
– Из керамических труб… – с некоторой неуверенностью в голосе, чуя какой-то подвох, ответила она.
– Вот-вот, из керамических труб, – со вздохом подтвердил начальник. – И где же их взять прикажешь?
– Но фонды-то должны были выделить?
– Фонды выделили! – мужчина внезапно грохнул ладонью по столу. – А толку? Завод, который их должен поставить, еще не построен! И когда войдет в строй – неизвестно! Тут даже ОГПУ не поможет… – его голос, в котором прорезалась усталость, перешел на пониженный тон. – Из бетона лотки можно было бы сделать, так нету больше цемента. Все, что могли, выцарапали. Да обойдется как-нибудь и без дренажа, – добавил он.
– Обойдется? – Аня аж задохнулась от возмущения. – Да следующей же весной, того и гляди, усадка превысит расчетную! Трещины в стенах пойдут. Тогда уж нас с вами точно во вредители запишут!
Вскоре с Кисловодского телеграфа ушла в Москву телеграмма:
«ОГПУ СССР
Начальнику инженерно-строительного отдела А.Я. Лурье
Строительство санатория Кисловодске стоит отсутствием цемента электрической арматуры водопроводных труб
Коновалова».
Телеграмма возымела действие – через две недели в адрес стройки прибыла партия цемента. Вскоре нашлись и трубы, и электрическая арматура. Теперь большую часть рабочих пришлось мобилизовать на рытье траншей для прокладки дренажа. Однако вскоре молодому инженеру пришлось разбираться с рабочими, которые остановили земляные работы, собрались большими группами и что-то горячо обсуждали. Завидев подходящего к ним начальника стройучастка, один из рабочих выкрикнул:
– Эй, начальник! Прямо скажи – как наряды закрывать будешь?
– А в чем дело? – поинтересовалась Аня.
– В чем дело? Как это – в чем дело? – разом загалдело несколько рабочих. – Ты смотри, грунты здесь какие: это тебе не песочек, это же настоящая скала!
– Ну, положим, до скалы еще докопаться надо, – резонно возразила она.
– Да ты сама-то глянь – ведь сплошной камень! – снова раздались выкрики.
Сплошной не сплошной, а в вынутом грунте действительно виднелось немало камней.
– Нам с голодухи такой камень ковырять несподручно! – продолжали наседать на нее рабочие. – Нормы по карточкам против прошлого года урезали, и то не всегда получишь! – неслось со всех сторон. – В столовке щи такие дают, что только выливай! А больше и нету ничего!
– Что я вам, ОРС, что ли? – пыталась защищаться Анна. – Это вы их пытайте, почему щи такие.
– ОРС ты или не ОРС, а работу мы тебе сдаем, – не отставали мужики. – А много ли с тех харчей наработаешь?
– Знаете что, – рассердилась молодая женщина, – я вас с ложечки кормить не буду. Тоже мне, здоровенные мужики, мамку себе нашли! Сама каштаны с голодухи лопаю! А наряды закрою как положено, в обиде не останетесь.
Вот ведь еще дело – прораба-то у нее нет, так и не прислали до сих пор. Так что и за прораба тоже отдуваться приходится, с нарядами этими разбираться…
Едва успела она кое-как отбояриться от толпы землекопов, как от главного корпуса, кто-то заорал:
– Начальница! Эй, начальница! Там тебя штукатуры на четвертый этаж кличут!
Штукатуры сейчас работали на отделке наружных стен, и потому Анна стала карабкаться вверх по лесам от одного шаткого мостка к другому. Вот и мостки на четвертый этаж. Косые они какие-то, и верхний конец, кажется, едва касается лесов. А перила, похоже вот-вот отвалятся…
Качнув рукой перила, она убедилась, что ее предположение было верно – они тут же завалились набок. А сами мостки? Аня с силой топнула ногой по доскам, верхний конец мостков сорвался, они с грохотом рухнули и, отскочив от лесов, полетели вниз…
– Берегись! – запоздало заорала молодая начальница, но, к счастью, внизу в этот момент никого не было.
После короткого разбирательства, во-первых, выяснилось, что никакие штукатуры ее на четвертый этаж не звали – тут произошла какая-то путаница. Во-вторых, нашлась бригада, что ладила эти мостки.
– Вы что же делаете! – с жаром втолковывала Анна. – Лучше уж никакого ограждения не делать, чем этакое убожество. Вот подумает человек, что можно опереться, прислонится – и шею себе свернет. Кто будет отвечать? А почему верхний конец мостков позабыли закрепить? Это что за разгильдяйство?
Но злобный, с прищуром исподлобья, взгляд одного из рабочих заставлял подозревать, что не все так просто с этими мостками и с вызовом к штукатурам и что, может статься, вовсе это не ошибка и не разгильдяйство…
Да, голодуха могла довести и не до такого. Время и впрямь было голодное – даже курсантский паек в Москве не слишком радовал величиной и разнообразием. А тут, на стройке, снабжение вовсе подкачало – хлеб-то по карточкам ей, принадлежащей к начальствующему составу РККА, доставался регулярно, а вот со всем остальным было плохо донельзя. Но на одном хлебе и себя-то поддержать не очень получалось, а уж вместе с дочкой… Приходилось добирать единственным более или менее доступным в этих местах видом продовольствия – съедобными каштанами. К концу строительства Анна их уже видеть не могла – большую часть своего пайка она отдавала Эрнестине, и поэтому каштаны составляли основную часть ее рациона. Детский организм все же справился со скудостью питания, и девочка росла более или менее здоровой. Лишь с зубами было неважно – сказался недостаток кальция в рационе. Кости сформировались нормально, а вот на зубы уже толком не хватило.
4. Пропавшая груша
К концу года объект был все-таки сдан: несмотря на постоянные нехватки, грозная аббревиатура «ОГПУ» возымела свое действие и стройку удалось с грехом пополам довести до конца. Санаторий вышел на загляденье – он и по нынешним временам смотрелся бы вполне современно, а тогда этот изыск конструктивизма производил очень сильное впечатление. Архитектор Мирон Иванович Мержанов был не чета тем подражателям, которые взяли от конструктивизма только примитивные прямые и плоскости. Здание было решено в нескольких уровнях, с непрерывными линиями лоджий вдоль всех этажей, с плавными изгибами торцов и выпуклой конструкцией фасада центральной части здания. Флигеля с прогулочными площадками спускались от главного здания вниз по склону, обрамляя парадную лестницу. В общем, Мержанов не зря ел свой хлеб, и недаром ему довелось вскоре превратиться в личного архитектора И. В. Сталина.
Внутренняя отделка контрастировала с конструктивистским замыслом автора проекта – хотя железобетонный каркас здания опирался на строгие квадратные в сечении прямоугольные колонны, интерьер был решен скорее в духе купеческого шика. Там присутствовали лепные розетки на потолках, и пилястры, увенчанные коринфскими капителями, имитации арочных проемов на стенах, украшенные лепниной, изображающей цветочные гирлянды, и соответствующая роспись стен и потолков. Что поделаешь – не всегда удается противостоять вкусам заказчика, тем более столь весомого.
С окончанием строительства наконец-то стало можно вздохнуть с некоторым облегчением. До этого Анне Коноваловой приходилось в основном лишь мимолетно оглядываться на курортные красоты, которых в Кисловодске хватало: и величественная природа Кавказских гор, и весьма привлекательная архитектура построек еще дореволюционного времени – Нарзанные ванны, Зеркальный пруд и Стеклянная струя, колоннада в центре города, многочисленные особняки и целые дворцы прежней знати и купечества. Впрочем, надо отдать Ане должное – женщина она была молодая, жизнерадостная и в те немногочисленные выходные, которые все-таки выпадали на ее долю, обязательно выбиралась в город. Сменив запыленную рабочую гимнастерку на выходное платье, немного пухленькая девушка с короткой прической сливалась с праздной толпой курортников, спускаясь в Нижний парк: либо просто погулять, либо, если было соответствующее настроение (а обычно оно появлялось), посетить танцплощадку, где у колоннады в музыкальной раковине играл оркестр. Успела она и разок порадовать дочку, сводив ее в летний цирк-шапито Гомеца и Гуц, появившийся в Кисловодске как раз в этом году. Но вот кому цирковое представление понравилось больше – маме или дочке – сказать трудно…
Ах, как хорошо было бы пройтись среди всех этих красот под ручку с Яковом! Но их разделяют тысячи километров, Каспий, пустыня… Как он там? Аня хорошо знала – в Средней Азии неспокойно, хотя в газетах ничего об этом и не писали. Правда, муж уже не гоняет басмачей по горам и безводным пескам, но ведь с него станется – он и на штабной работе может отыскать возможность ввязаться в какое-нибудь опасное дело. Как же ей тут не хватает его крепкой руки, его надежного плеча, его организованности и обстоятельности! А каково изо дня в день, из месяца в месяц возвращаться в свою каморку в бараке, зная, что ждет ее там одинокая постель на грубо сколоченном топчане?
Одна только отрада и есть – вон она, на полу, возится с тряпичной куклой, которую на скорую руку смастерила мама из разных обрезков.
– Что доча, одни мы тут с тобой, без папы?
Эрнестина подняла на маму глаза и, насупившись, выговорила:
– Па-па… Папа где?
– Ох, далеко наш папка! – вздохнула Анна и, наклонившись, подхватила дочку на руки. – Уж полтора года минуло, как ты родилась, а он на тебя так еще и не полюбовался! Ладно, вот разберемся с этой стройкой, и я уж добьюсь, чтобы нас в Ташкент отпустили.
– Такен? – вопросительно произнесла девочка.
– В Ташкент, в Таш-кент! – повторила мама. – Запомнила?
– Тас-кен, – отозвалась Эрнестина.
На открытие важного объекта и публика съезжалась весьма солидная. В числе прочих уважаемых персон организаторы торжества пригласили и Наркома тяжелого машиностроения Серго Орджоникидзе. Приезд высокого начальства на открытие санатория снова заставил всех окунуться в обыкновенную для таких мероприятий суету. Все строители и персонал открываемого санатория были мобилизованы на уборку территории, приведение в порядок зеленых насаждений, расстановку мебели, вылизывание дочиста внутренних помещений, особенно в той части, где предполагалось поселить ожидаемое начальство. Немало хлопот доставляла и организация банкета.
Конечно, московские гости приедут не с пустыми руками – снабжение по линии участвующих наркоматов происходило в таком ассортименте, который здесь и не снился. Однако и местное руководство не хотело ударить в грязь лицом. Пусть их собственные ресурсы по сравнению со столичными кажутся скудными, но ведь это же Кавказ! Здесь, в районе Минеральных Вод, рынки особо не баловали разнообразием – так, разве что кое-какую зелень прикупить, а прочие продукты появлялись редко и цены на них были поистине заоблачными, да и расхватывалось все это наиболее состоятельными курортниками в мгновение ока. В селах вокруг – если знать, к кому обратиться, – расторопные люди тоже могли прикупить кое-что, но либо за серебряную монету, либо за сахар, чай или табак.
Подобный путь для руководства санатория по понятным причинам, не слишком подходил, и поэтому несколько работников с машиной командировали на побережье, где жарились шашлыки, рекой лилось вино, горами лежали фрукты… Голод голодом, а и в 1933 году имелись районы, где на рынках торговали самыми разнообразными продуктами. Лишь бы денег хватило: цены на побережье были немного пониже, но тоже кусались так, что ой-ой-ой – раз в десять, а то и в пятнадцать выше пайковых.
Тем не менее банкет в честь прибытия дорогих гостей должен был удаться на славу. В помещении столовой буквой П расставили столы, накрытые белыми накрахмаленными скатертями, и на тарелки раскладывали соблазнительные яства. Анна Коновалова, в числе нескольких руководителей строительства, так же была приглашена на этот банкет. И, разумеется, она взяла с собой маленькую Эрнестину. А что делать? В бараке для строителей, где ей была выгорожена небольшая комнатушка, оставить ее было не с кем. Так что и на стройке Ане приходилось постоянно таскать девочку за собой.
В свои полтора с небольшим года дочурка демонстрировала недюжинную самостоятельность и такое же упорство. Поэтому трудно сказать, что для молодого начальника стройучастка было сложнее – управиться со стройкой или удержать Эрнестину от попадания в крупные неприятности. Ведь строительство дело такое: того и гляди, кирпич на голову упадет или леса обрушатся. А уж влезть в обычную грязь или, того хуже, в цементный раствор или в горячий гудрон, для ребенка дело и вовсе нехитрое. И сколько кусков мыла молодая мама извела на стирку – не сосчитать.
Но уж на банкет Анна расстаралась. Заскочив в свою каморку, она наскоро сполоснулась под рукомойником, выплеснула тазик с мыльной водой на улицу и принялась одеваться. Вскоре она уже красовалась в выходном темно-зеленом шелковом платье без рукавов, украшенном атласной каймой, на шее были застегнуты светлые круглые бусы из поделочного камня, на плечах, по зимнему времени, – цветастый павлово-посадский платок, а ноги обуты в неплохие туфли, которые она еще в прошлом году ухитрилась раздобыть в Москве. По случаю такого торжества был извлечен на свет и тщательно припрятанный почти пустой флакончик «Красной Москвы» и остатки духов использованы по назначению. Вот пальтишко подкачало, но ведь не в нем же надо сидеть с высокими гостями?
Эрнестиночка тоже выглядела вполне пристойно – белое, тщательно выстиранное платье, такой же белый бантик на макушке и белые матерчатые туфельки. Хотя утюг на весь барак был всего один и на него вечно была очередь, тут уж Анна не постеснялась использовать свое служебное положение и, завладев дефицитным инструментом, выгладила платья и себе, и дочке. Оглядевшись в осколок зеркала, укрепленный гвоздиками к дощатой перегородке рядом с рукомойником, она решительно взяла дочку за руку и направилась к санаторию.
Если вы думаете, что на банкете его самая юная участница прониклась всей торжественностью момента и исполнилась благопристойности, то вы глубоко заблуждаетесь. Не успела мать войти в столовую, как девочка выдернула ладошку из ее руки и тут же исчезла под краем скатерти.
– Эрнестина, вернись! – громко зашипела Аня, но было поздно. Не лезть же самой, вслед за дочерью, под стол?
Дорогих гостей встречали, как водится, стоя. Представитель заказчика строго по ранжиру представил местных товарищей высокому руководству, и лишь затем, когда гости заняли свои места за столом, стали рассаживаться и остальные.
Серго Орджоникидзе (вообще-то Георгий Константинович, но уже вошло в обычай именовать его партийным псевдонимом), устроившись на стуле и оглядевшись, недоуменно вскинул брови и негромко спросил, ни к кому персонально не обращаясь:
– А что, наркому груша не положена?
И действительно, среди поштучно разложенных каждому на персональную тарелку фруктов у всех московских гостей присутствовала груша. У всех, кроме Орджоникидзе. Прибывший вместе с Серго высокий чин из ОГПУ, сверкавший эмалью трех ромбов в краповых петлицах, заиграл желваками. Представитель заказчика, у которого в таких же петлицах имелся лишь один ромб, пошел красными пятнами. Ситуация требовала немедленного действия, чтобы затушевать ужасный промах перед наркомом тяжелой промышленности.
Однако не успели чекисты ничего предпринять, как Серго сам обнаружил причину казуса. Причина никуда не думала скрываться. Она сидела у самых его ног на полу, наполовину прикрытая скатертью, и спокойно доедала грушу.
Представитель заказчика с одним ромбом стал малиновым, как буряк, дыхание у него перехватило, и он смог лишь угрожающе просипеть, повернув голову в нужном направлении и выпучив глаза:
– Ну, Коновалова…
Тем временем Оржоникидзе нагнулся, взял малышку на руки и посадил себе на колени:
– Что, понравилась груша? – поинтересовался он, усмехаясь в свои шикарные усы.
Эрнестина энергично закивала, прекратив облизывать пальцы от сладкого сока.
– А виноград любишь? – продолжал спрашивать важный московский гость.
Девочка на мгновение задумалась. Слово «виноград» она уже знала, но попробовать его еще не довелось. Однако любопытство тут же взяло верх над осторожностью – почему бы не кивнуть и на этот раз?
Серго пододвинул к себе тарелку с фруктами, где лежала довольно приличная кисть темного, почти черного, с сизоватым налетом винограда, и, отщипнув несколько ягод, протянул Эрнестине:
– Держи-ка. Только ешь осторожно, не подавись: там мелкие косточки, – заботливо предупредил он несмышленую еще девчонку.
Что там косточки, дочка Ани поняла, еще не дослушав солидного усатого дядю, потому что успела раскусить виноградину раньше, чем нарком договорил до конца свой совет.
Представитель заказчика незаметно, бочком, подобрался к девице, не умеющей призвать к порядку собственную дочь (а еще командир РККА!), и злым шепотом принялся втолковывать:
– Смотри у меня, Коновалова! Еще раз такое повторится, ты у меня поедешь белым медведям санатории изо льда строить…
– Думаю, вам от меня беспокойства больше не будет, – спокойно отпарировала молодая женщина. – Я уже написала рапорт о переводе в Ташкент, к месту службы мужа.
От удивления чин из ОГПУ даже дернул головой. В Ташкент? В эту дыру, к каким-то там туркестанцам? По своей инициативе? Так и пусть едет, раз такая дура. Помедлив для порядка, он важно прознес:
– Ладно, рапорт твой мы удовлетворим. Нам тут разгильдяйство терпеть ни к чему.
Перед отъездом Аня сфотографировалась с дочкой у местного курортного фотографа, за несколько дней сдала дела и получила готовые фотокарточки, собралась в дорогу (хотя что там было собирать-то?) и отправилась на вокзал. Отбила телеграмму мужу – и на посадку. Путь до Ташкента был кружной, неблизкий. Ехать через продуваемые зимними ветрами степи в плохо отапливаемом вагоне было невесело, и девочку приходилось кутать как можно теплее, хотя она этому и сопротивлялась. Но все же по зимнему времени добираться было предпочтительнее – не пришлось тащиться через бесплодные пустыни с иссушающим воздухом в раскаленном на палящем солнце вагоне, когда даже раскрытые окна не спасали от изнуряющей жары.
5. Здравствуй, Ташкент!
Январский Ташкент встретил ее мокрым снегом, тающим на перроне, и знакомой родной фигурой с тремя кубарями в синих кавалерийских петлицах на воротнике долгополой шинели.
– Ну, здравствуй, Яков!
– Здорово, Анька! – муж стремительно подбежал, обнял ее, даже не дав сойти со ступенек, и лишь затем поставил на перрон.
– А где же дочка? – опомнился он через несколько секунд и тут же, увидав маленькую Эрнестину на площадке вагона, подхватил дочурку на руки.
– Смотри, какая большая вымахала! И серьезная.
– А ты кто? – действительно с полной серьезностью спросила девочка. – Ты будис мой папа?
– Почему – будешь? Я уже есть твой папа! – твердо заявил подтянутый командир со светлыми волосами, чуть вытянутым худощавым лицом и орлиным носом.
Приняв у Ани фибровый чемодан с вещами, Яков повел свою семью на выход, к остановке трамвая № 3. Домой и пешком можно было дотопать меньше чем за тридцать минут, но для дочурки это пока слишком. Да и багаж столько тащить неохота. Благо, что третий номер идет по самой улице Кафанова, останавливаясь сравнительно недалеко от дома, у перекрестка с улицей Ленина, так что и багаж придется тащить в руках не так уж долго. Здесь, в трапеции, ограниченной улицами Стрелковой, Саперной, Чехова и Тараса Шевченко, размешался своего рода филиал Старого города в Русской части Ташкента – узкие, кривые улочки, проезды, переулки и тупики, двухэтажные глинобитные дома за дувалами, с балханой (второй этаж на деревянных столбах) и айвоном (крытой террасой без передней стены). Извилистая улица Кафанова пересекала наискось этот маленький «старый город», являясь его главной магистралью. А совсем рядом был городской центр, где пышные здания дореволюционной постройки уже были разбавлены совсем недавно возведенными современными корпусами – такими, как Дом Правительства Узбекской ССР или большущее новое здание типографии газеты «Правда Востока». Здесь же лежали и зеленые островки – сквер Коммунаров, парк у бывшего дома генерал-губернатора, парк имени В. И. Ленина, разбитый на большом пустыре у русской крепости 1865 года…
Несмотря на столь узбекский вид этой части Русского города, жили здесь в основном не узбеки, а русские (от украинцев до татар) и евреи, недостаточно состоятельные для того, чтобы купить или построить дом европейского типа. Деревянный каркас обеспечивал жилищу некую стойкость к частым здесь землетрясениям, а остальное складывалось из сырцовых кирпичей или самана. Такой дом вполне можно возвести, опираясь на соседскую взаимопомощь, – обычай хашар еще не успел уйти в прошлое. Бичом кварталов, состоящих из подобных домов, была пыль, и потому не только дворики, но и улицы регулярно подметались и поливались.
Арыки, представлявшие собой каналы, отведенные от реки Чирчик севернее города, пересекали Ташкент в основном с северо-востока на юго-запад. От крупнейших из них – Бозсу, Бурджар и Салар (в обиходе нередко именовавшихся Хан-арыками) – ответвлялись арыки помельче. Все они заботливо обсаживались деревьями, что позволяло в летний зной наслаждаться тенью и прохладой текущей воды. Из арыков наполнялись маленькие прудики – хаусы, которых в городе насчитывались многие сотни.
Так что вода для полива в городе имелась в достатке. А поливать надо было не только улицы и дворики, но и маленькие садики и виноградники, устроенные в этих дворах. Хуже обстояло дело с питьевой водой. Ею горожан снабжали водоносы, обходившие с бурдюками квартал за кварталом. Нововведением сравнительно недавнего времени стали бочки на колесах, влекомые терпеливыми осликами. Колонки же, питавшиеся от водопровода, в этих кварталах были далеко не везде. Источником питьевой воды служила река Чирчик, бегущая с близлежащих гор и огибающая юго-восточные окраины Ташкента. Как и положено настоящей горной речке, питалась она водой ледников и была кристально чистая и холоднущая даже в самый нестерпимый зной. Поэтому ребятня в Чирчике не купалась, предпочитая для этой цели мелкие арыки и хаусы.
Вот в таком месте и поселилась молодая семья. Дома Аню с Яковом встретила ее мать, Елизавета Климовна, пожилая, но крепкая, статная сибирячка. Собственно, дом на ней и держался. Женщина эта была крутой породы. Чуть не полсотни лет назад, когда через их село гнали политкаторжан, шестнадцатилетняя Лиза углядела среди кандальников своего будущего мужа – и без оглядки ушла за ним.
Ее избранник, Алексей Ильич Коновалов, принадлежал еще к поколению народовольцев. Их совместную эпопею можно было бы рассказывать очень долго – каторги, ссылки, этапы, подполье… Удивительно, но в этих суровых условиях выжили довольно многие из родившихся у них детей – правда, только девочки. Аня была младшей среди них. Вот эти ее сестры с мужьями и детьми, хотя не все они жили вместе в одном доме, составляли большую семью, признанной главой которой была Елизавета Климовна.
В Туркестан она с мужем попала, тоже следуя за ним в ссылку. Как-то устроилась, обжилась, нашла работу – водителем пущенного в 1912 году электрического трамвая. А тут как раз революция, и Алексей Ильич принял живейшее участие в становлении Советской власти в Ташкенте. В январе 1919 года, во время мятежа, поднятого военкомом Туркестанской республики Осиповым, Коновалов оказался одним из немногих уцелевших влиятельных большевиков, поскольку большинство туркестанских комиссаров, не подозревавших о предательстве своего соратника, было им расстреляно в самом начале мятежа.
Мятежники захватили практически всю Русскую часть города, однако в руках Советской власти остались два стратегических пункта – крепость с гаубичной артиллерией, во главе с комендантом, левым эсером Беловым, и железнодорожные мастерские с сильной рабочей дружиной, во главе которой стоял также левый эсер Колузаев. А вот комиссар железнодорожных мастерских большевик Василий Агапов входил в число заговорщиков, но был арестован рабочими. «Белая кость», активно участвовавшая в восстании, однозначно определила симпатии Старого города – старгородская боевая дружина и местная милиция выступили на стороне Советов.
Пока Алексей Коновалов участвовал в двухдневных уличных боях с мятежниками, его жена поддерживала на трамвае связь между главными опорными пунктами созданного для отпора мятежу Временного военно-революционного совета – крепостью и железнодорожными мастерскими. Она не раз вспоминала:
– Страху я тогда натерпелась! Ведешь трамвай, а вокруг стреляют, все стекла в трамвае перепортили, негодяи. Только отъедешь от наших немного, а конные уже ждут, с гиканьем несутся вслед за трамваем – и так всякий раз, что туда, что обратно. Еду, а саму страх пробирает – ну как придет кому в голову хотя бы шпалы поперек рельсов навалить? Но ведь так и не догадались, дурачье! – добавляла она торжествующе.
Все свое семейство Елизавета Климовна держала в строгости, и Якову, человеку самостоятельному и самолюбивому, конечно, нелегко было притереться к сложившемуся жизненному укладу. Однако его теща сама умела легко находить общий язык с самыми разными людьми, и, в общем, жизнь сладилась. Теперь же в этой семье появился полноправный новый член – без скидок на возраст – маленькая Эрнестина… Эрнестина?
– Это что еще за собачья кличка такая?! – немедленно возмутилась ее бабушка, как только у нее появилась возможность высказать Ане все, что она думает насчет имени девочки. Не желая слушать никаких объяснений по поводу вождя немецкого пролетариата, она прямо-таки заставила поменять своей внучке имя на Нину. А для верности еще и в церковь сходила, окрестив бывшую Эрнестину в честь Нины – просветительницы Грузии.
Вот так и начала дочка Анны Алексеевны Коноваловой свою жизнь в Ташкенте с нового имени.
Все ей поначалу казалось в Ташкенте необычным. И улицы, на которые выходили только глухие стены домов и дувалов, и узенькие арыки, и верблюды, и арбы на высоченных колесах, и пирамиды из большущих дынь на базарах, и узбеки в халатах, тюбетейках и чалмах, говорившие на непонятном языке… Дом, в котором она теперь жила, тоже был непривычным – правда, внутри он был обставлен иначе, нежели традиционные узбекские жилища. Спали здесь на кроватях, а не на тюфяках, обедали за столом, а не рассевшись на кошмах, поджав под себя ноги, как ей частенько доводилось наблюдать в уличных чайханах.
Однако дети быстро ко всему привыкают и быстро учатся. Новокрещеная Нина легко перезнакомилась с местной ребятней, и года не прошло, как она уже довольно бойко щебетала по-узбекски. Обстановка вокруг уже не казалась ей странной, как будто она с самого рождения росла именно здесь. А Кисловодск остался лишь туманным воспоминанием где-то в самой глубине сознания.
Отец и мать вечно пропадали на службе: отец – в оперативном отделе штаба округа, куда он как раз в это время перешел, оставив свой кавалерийский эскадрон, с которым гонялся за басмачами; мать – в том же штабе, в инженерном управлении. Кроме того, молодые супруги частенько захаживали в окружной Дом Красной Армии. Во-первых, оба были любителями бальных танцев, во-вторых, оба старались поддержать навыки владения саблей. Аня еще подростком освоила саблю и рукопашный бой под руководством дяди Саввы, мужа одной из ее старших сестер, бывшего тогда командиром кавалерийского эскадрона ОГПУ, а теперь доросшего уже и до комполка. Владение рукопашной не раз повергало в тягостное недоумение шпану, пытавшуюся прицепиться к миловидной пухленькой барышне на темных ташкентских улочках. Яков как кавалерист, само собой, не оставлял тренировки с саблей, но помимо этого занимался в Доме Красной Армии еще и спортивным фехтованием.
Тетки Нины, как и их мужья, тоже отдавали службе все основное время, и поэтому она практически все время оставалась на попечении бабушки, Елизаветы Климовны, которая стала для нее главным образцом для подражания и самым близким человеком в жизни.
Несмотря на то, что бабушка своей волей окрестила Нину, ей не приходило в голову навязывать внучке свою веру. Да и вера у нее была своеобразная. В красном углу перед иконой, как и положено, горела лампадка, а вокруг главного образа расположились иконки поменьше. По соседству с этим иконостасом в красном углу бабушка поместила портреты Ленина и Сталина.
– Что твоя теща творит? – не раз выговаривали в партийном комитете штаба Среднеазиатского военного округа Якову Францевичу. – Не можешь с ней как следует воспитательную работу провести?
Но провести с Елизаветой Климовной «воспитательную работу» было затруднительно. Она сама кого хочешь могла повоспитывать. Да и уважение к ее мужу, ставшему после осиповского мятежа начальником Главного управления милиции Туркестанской республики, было в Ташкенте еще довольно высоко. Нине не довелось увидеть своего деда, Алексея Ильича, потому что он скончался еще в середине 20-х. Он ей запомнился только по рассказам бабушки, да по фотографии, сделанной во времена одной из ссылок, где дед, с большой окладистой бородой, стоит рядом со своей женой, едва доставая ей до плеча.
На все упреки в несознательности Елизавета Климовна отвечала просто:
– Что же, Ленин, по-вашему, не святой человек? Христос-то ведь, считайте, первый коммунист был.
На утверждение, что религия есть опиум для народа, мракобесие и защита реакционных порядков, ей тоже было, что возразить:
– Христос любви к человеку учил и жизни по совести. Это потом попы все по-своему переврали. А что, ваши-то партийные попы, скажете, не толкуют вкривь и вкось?
Церковь бабушка посещала редко, внучку с собой брала, но силком не тащила. Хочешь – иди со мной, хочешь гулять – гуляй. Несколько раз Нина из любопытства сходила с бабушкой в церковь, но так и не пристрастилась к этому занятию. Вот что действительно затрагивало ее детское любопытство, так это огромная бабушкина Библия, иллюстрированная роскошными цветными картинками. Эта книга досталась Елизавете Климовне во время разгрома помещичьей усадьбы в далеком 1906 году. Иллюстрации, судя по всему, были сделаны каким-то известным художником, и Нина могла разглядывать их часами.
Глава 2 Уроки семейные, школьные и прочие…
1. Домашние заботы
Прошел год, другой, третий… Ташкент сделался для Нины по-настоящему родным городом. Теперь она жила в большой семье, в своем доме, и делила вместе со всеми обитателями этого дома права и обязанности. Но и сам город сделался для девочки родным домом, который она тоже воспринимала, как свой.
Конец ознакомительного фрагмента. Полный текст доступен на
Сноски
1
Ласточка, как можно быстрее! (польск.).
(обратно)2
Чтоб тебя разодрало от ж… до горла! (польск.).
(обратно)



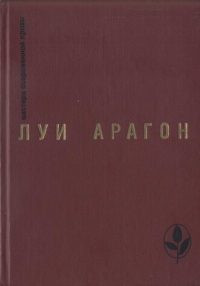
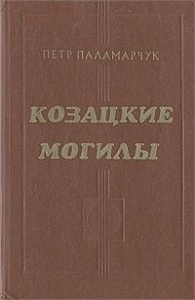
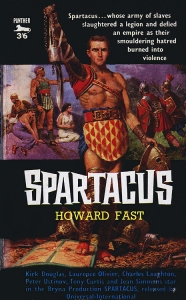
Комментарии к книге «Йот Эр. Том 1», Андрей Иванович Колганов
Всего 0 комментариев