Жоан Алмейда Гарретт Арка святой Анны Хроника града Порто Рукопись, обнаруженная в монастыре братьев-сверчков означенного града одним из солдат академического корпуса
Joao Almeida Garrett
О ARCO DE SANT’ ANA
Lisboa, 1845
Предисловие
И. ТЕРТЕРЯН
Оформление художника
Г. ДАУМАНА
© Перевод, предисловие, комментарии, оформление. Издательство «Художественная литература», 1985 г.
Алмейда Гарретт и его роман
Займемся былью стародавней, Как люди весело шли в бой, Когда пленяло их собой, Что так обманчиво и славно! А. С. Грибоедов. Прости, Отечество!В романтическую эпоху, которая была эпохой социальных катаклизмов: революций, войн, национально-освободительных движений, контрреволюционного террора, — сложился особый тип личности, противоречивый и бесконечно привлекательный. Его идеалом, его жизненной моделью был Байрон; конкретные национальные и исторические обстоятельства вносили свои коррективы. Писатель — и политик, поэт — и заговорщик, мыслитель — и денди, личность, в которой были смешаны героическое и тщеславное, политическая мудрость и меланхолическая разочарованность, едкая ирония и надрывная эмоциональная выспренность. Это были люди, знаменитые у современников и потомков художественными произведениями, парламентскими речами, отважными поступками и громкими любовными страстями. Таким человеком был португальский романтик Алмейда Гарретт.
«Всегда в крови бродит время, у каждого периода есть свой вид брожения», — писал Ю. Тынянов в «Смерти Вазир-Мухтара». Как все романтики, уберегшиеся от смерти на поле боя, на виселице, на дуэли или от собственной руки, пережившие свое время, Алмейда Гарретт познал и легкое, кипучее винное брожение — в молодости, и тяжелое, уксусное — в зрелости.
Настоящее имя писателя — Жоан Баптиста да Силва Лейтан (1799–1854). Он вырос в зажиточной буржуазной семье: отец был видным таможенным чиновником, родные матери нажили состояние торговлей в Бразилии. У отца было дальнее аристократическое родство — фамилию этой семьи — Алмейда Гарретт — принял юноша, вступив на литературное поприще. Аристократия сохраняла в его глазах ореол импозантной элегантности — скорее всего, благодаря лорду Байрону.
Сочинять Алмейда Гарретт начал еще в школьные годы: трагедии, оды, элегии и басни в классицистическом вкусе. Но, следуя желанию родителей, поступил в 1816 году на юридический факультет Коимбрского университета. Студенчество там было наэлектризовано либеральными идеями. Недавно закончилась освободительная война против наполеоновского нашествия, однако английские войска, высадившиеся в Португалии под командованием герцога Веллингтона для разгрома наполеоновской армии, все еще продолжали оккупировать страну и препятствовали восстановлению ее независимости. Восстания и заговоры жестоко подавлялись. В 1817 году по приказу английских военных властей были повешены популярный в армии и народе генерал Гомес Фрейре де Андраде и его сподвижники. Алмейда Гарретт посвятил казненным сонет «Поле Сант’Аны» — с этого момента началась его революционная и творческая деятельность.
В 1820 году вместе с товарищами по учебе Алмейда Гарретт приветствует португальскую буржуазную революцию, вспыхнувшую вслед за восстанием Риэго в Испании. Юноша активно участвует в студенческих манифестациях, его стихи читают на сходках, распространяют в списках, которые попадают в руки к доносчикам: в результате за поэму «Портрет Венеры» ему предъявляют обвинение в «богохульстве и безнравственности». Но из зала суда молодой поэт выходит триумфально оправданным.
Контрреволюционный переворот 1823 года вынудил Алмейду Гарретта вместе с другими либералами покинуть страну: во время бегства, тем более тяжелого, что незадолго до того писатель женился на совсем юной девушке, пропала рукопись законченной поэмы о рыцарях Круглого Стола. В эмиграции он зарабатывал на жизнь ведением коммерческой переписки для торговой фирмы; во Франции ему приходится очень туго, в Англии, куда он вскоре перебрался, полегче — там он нашел состоятельных, просвещенных друзей. «Мне показалось, что я вступил в новый мир», — писал он в «Дневнике моего путешествия в Англию» (1823–1824). Он сумел попутешествовать по стране, познакомиться с историей и культурой Англии, да и вообще значительно глубже и шире узнать современную европейскую литературу. В стихах и поэмах, которые он не переставал сочинять, зазвучали романтические ноты («Камоэнс», 1825; «Дона Бранка», 1826).
В 1826 году после смерти короля Жоана VI эмигранты получают возможность вернуться на родину — там идет напряженная политическая борьба между сторонниками конституционной и абсолютистской монархии. Алмейда Гарретт выступает как публицист на левом фланге либеральной партии, но вскоре основанные им газеты закрывают, его подвергают трехмесячному тюремному заключению и угрожают обвинением в подстрекательстве к мятежу (за что полагалась виселица). Власть в стране захватывает принц дон Мигел, ставленник крайней феодально-клерикальной реакции. Все же Алмейде Гарретту удалось освободиться и вновь бежать в Англию. Годы второй английской эмиграции Алмейды Гарретта насыщены разнообразной политической и литературной деятельностью. Он издает публицистические работы, сборник стихов («Лирика Жоана Маленького», 1828), в предисловии к которому уже решительно объявляет себя романтиком, начинает обрабатывать португальские народные романсы («Адозинда», 1828).
К 1820-м годам относятся и первые опыты в прозе: уже упомянутый «Дневник моего путешествия в Англию», путевые очерки «Одиночество» и «Замок Дадли». В последнем уже звучит характерная впоследствии для Алмейды Гарретта ироническая интонация, эмоциональная приподнятость сочетается с конкретностью путевых заметок, игра воображения, заставляющая видеть в грязном лондонском канале Коцит, — с вполне актуальной критикой колонизаторской английской политики в Индии.
В Португалии тем временем началась гражданская война: сторонники конституции объединились вокруг старшего брата узурпатора престола, дона Педро, провозглашенного еще при жизни отца императором Бразилии. Теперь, оставив бразильскую корону сыну, Педро поспешил на родину, объявив себя защитником конституционной монархии. В его армию стекались добровольцы-либералы, среди них был и Алмейда Гарретт, вступивший в так называемый Академический корпус, составленный в большинстве своем из студентов Коимбрского университета. Летом 1832 года Педро высадил с Азорских островов десант и захватил город Порто. Академический корпус участвовал в этой экспедиции.
Алмейда Гарретт не только воевал, но и был привлечен министром Моузиньо да Силвейрой к разработке революционных декретов. Эти в общем-то половинчатые реформы (отмена феодальных монополий и наследственных должностей, закрытие мужских монастырей и распродажа монастырских земель и т. п.) оказались тем не менее самым радикальным, что было сделано в Португалии в эпоху первых буржуазных революций. Были у Алмейды Гарретта во время осады Порто и спокойные часы — их он проводил в библиотеке монастыря св. Бенто за изучением средневековых хроник и документов. Вот тогда и возник замысел романа «во вкусе Вальтера Скотта» из истории города Порто. Конечно, повторяющееся на страницах романа утверждение, что автор лишь пересказывает найденную им старинную рукопись, — литературный прием, подобный тому, каким пользовался Сервантес, ссылавшийся на некоего Сида Ахмета Бен-инхали, а века спустя — Вальтер Скотт, издавший ряд своих романов с подзаголовком «Рассказы трактирщика». Но, безусловно, основу замысла составили исторические сведения, почерпнутые писателем в монастырской библиотеке. И, конечно, живые впечатления от города Порто — от его площадей и средневековых улочек, от громадного собора и скромных часовен, как та арка святой Анны, что дала название рождающемуся роману.
Но тогда, в 30-е годы, Алмейда Гарретт написал лишь несколько глав, но не закончил романа. События в Португалии неудержимо рвались вперед, хмельная жажда действия увлекала писателя, а роман требовал сосредоточенной длительной работы. Но, может быть, не только в недостатке досуга было дело — просто Алмейда Гарретт был еще внутренне не готов к созданию исторического романа. Португальскому романтизму с первых его шагов было присуще чрезвычайно высокое представление о возможностях и задачах исторического жанра. Другой крупнейший писатель того времени, соратник Алмейды Гарретта и по либеральной армии, и по литературным устремлениям, Алешандре Эркулано писал несколько позже в предисловии к своему первому историческому роману «Шут»: «Вспоминать прошлое — это род морального служения, похожего на священнослужение. Пусть этим занимаются те, кто может и умеет: не делать этого — преступление».[1] Диктовались такие слова потребностью понять движущие силы исторического процесса, то поднимавшего Португалию на гребне могущества и славы (великие географические открытия XV–XVI вв., расцвет мореплавания и торговли, обширные и богатые колонии в трех частях света), то бросавшего страну в пучину национальных поражений, утраты всего завоеванного, да и самой государственной независимости, экономического и культурного прозябания на задворках Европы. Чтобы объяснить эту трагическую загадку национальной судьбы, нужен был самостоятельный взгляд на историческое прошлое, а он вырабатывался лишь на основе общественного опыта, осмысления социальных битв современности. И Алмейда Гарретт приобретал такой опыт — об этом позаботились конфликтная португальская действительность и гражданский темперамент писателя.
В 1834 году междоусобная война закончилась победой сторонников конституции. Но вскоре умирает дон Педро, с которым либералы связывали свои надежды, и престол достается его дочери Марии II. Вновь в стране обостряется политическая борьба — на этот раз между правыми и левыми конституционалистами (впрочем, реакционеры-«мигелисты» также продолжают свои вылазки против нового режима). Выставив буржуазно-демократические лозунги и использовав поддержку народных масс, левые либералы в сентябре 1836 года подняли революцию и вынудили королеву признать более демократическую конституцию 1822 года. На несколько лет они пришли к власти, но не сумели ею распорядиться, так как боялись слишком решительных революционных реформ. В результате реакция сплотилась и осуществила в 1842 году военный переворот: установилась диктатура Косты Кабрала.
Жизнь Алмейды Гарретта была теснейшим образом связана с этими событиями. Некоторое время он провел с дипломатической миссией в Европе, что дало ему случай получше познакомиться с немецкой литературой. Вернувшись в Лиссабон, он включился в идеологическую подготовку сентябрьской революции, будучи близким другом ее вождя Мануэла Пассоса. Став депутатом парламента, Алмейда Гарретт выступает во всех дискуссиях, входит в комиссию по реформе административного кодекса (а частности, он представил проект закона об авторском праве). Но главное — Мануэл Пассос облекает его полномочиями для руководства культурным строительством. Гарретт готовит декрет о национальном театре (до этого в Португалии не было постоянного театра, давали представления лишь эфемерные труппы, главным образом, гастролеров) и назначается первым Генеральным инспектором театров. На этом посту он проявил незаурядную энергию и распорядительность: организовал Национальную консерваторию для подготовки актеров, нашел и перестроил театральное здание, и по сей день действующее в Лиссабоне, и сам создал первоначальный репертуар нового театра.
Сцена привлекала Гарретта с юных лет: еще будучи студентом Коимбры, он поставил силами студентов-любителей свою трагедию «Катон», а в 1828 году группа португальцев-эмигрантов в Плимуте повторяет эту постановку в домашнем театре. «В сердце и в голове у меня — мысль о возрождении нашего театр»… — пишет он в авторском предисловии к драме «Ауто о Жиле Висенте» (1838), сюжетом которой стала судьба первого португальского драматурга и режиссера. Одну за другой пишет Гарретт драмы на сюжеты из национальной истории, обильно используя при этом фольклор, собиранием которого все больше увлекается. В драме «Оружейник из Сантарена» (написана в 1839 г., опубликована в 1841 г.) столько песен, хоров и танцев, что это произведение скорее следует называть народной оперой.
Кабралистская диктатура, оттеснив партию Алмейды Гарретта в оппозицию, лишила писателя должности Генерального инспектора театров. Для Алмейды Гарретта наступило время уединения и частной жизни: горечь невыполненных планов и неудовлетворенного честолюбия отчасти компенсировалась возможностью для напряженной творческой работы. Именно в 40-е годы он создал лучшие свои произведения, осуществил заветные проекты. В 1843 году он выпускает первый том своего собрания народных лиро-эпических песен «Романсейро», впоследствии расширенного. В 1844 году печатается его лучшая драма «Брат Луис де Соуза», которую кабралистская цензура долгое время не допускала на сцену. В 1845 году выходит первая часть романа «Арка святой Анны», а в 1850 году — вторая. В промежутке Алмейда Гарретт публикует еще чрезвычайно оригинальный и интересный роман из современной жизни «Поездка на родину» (1846) и сборник стихов «Цветы без плодов» (1845), пишет большую часть стихов, составивших его последнюю книгу «Опавшие листья» (1853).
* * *
С каким же духовным багажом Алмейда Гарретт подошел к своим творческим свершениям? Какое мировоззрение выработалось у писателя в ходе первых двадцати лет общественной деятельности?
Алмонда Гарретт вступил в социальную борьбу как самый пылкий, самый убежденный сторонник одной идеи. Воистину в молодости «он знал одной лишь думы власть, одну, но пламенную страсть», и звалась она — свобода. В юности студенческая аудитория взрывалась в ответ на призыв заглавного героя его трагедии «Катон»: «Свобода или смерть!» А в первом номере издаваемой им газеты «Португалец-конституционалист» (от 2 июля 1836 г.) — газеты, способствовавшей подготовке умов к сентябрьской революции, — говорится: «Мы хотим свободы — вот наша партия».
Алмейда Гарретт защищал любое требование свободы, иногда расходясь во взглядах со своими товарищами-либералами. Как известно, многие испанские и португальские либералы выступали против отпадения заокеанских колоний, против образования самостоятельных государств в Новом Свете. А Алмейда Гарретт был членом тайного Общества садовников, ставившего своей целью, как сообщалось в полицейском донесении, обеспечить независимость Бразилии. Хотя Бразилия была провозглашена независимым государством еще в 1822 году, в Португалии не прекращались политические интриги с целью повернуть вспять движение истории; поэтому Алмейда Гарретт не раз выступал со страстной защитой прав бразильского народа. В его бумагах сохранился набросок новеллы из бразильской жизни — герой, индеец, обращается к белым колонизаторам: «Вы рабы ваших городов, ваших выдуманных потребностей, которые вас там держат в плену. Я свободен, как свободна природа». Руссоистская концепция «естественного человека», унаследованная многими романтиками, служит Алмейде Гарретту подтверждением его заветной идеи — идеи свободы.
Поклонение свободе в ту эпоху нередко сопровождалось смутным представлением о содержании и целях свободы. Хотя Алмейда Гарретт не был вовсе чужд этой восторженной мистики свободы («Свобода — это единственная и прочнейшая основа всего счастья народов», — писал он, забывая о хлебе насущном), все же его отличала политическая проницательность, тем более удивительная, что он жил в отсталой стране с едва зарождающимися революционно-демократическими традициями. Замечательны, например, суждения Гарретта о России, необыкновенно быстрым историческим развитием которой он восхищается, и о декабристском восстании, которое он сумел понять вернее, чем многие его современники из просвещенных стран. «Неудача этой попытки не умаляет ее значения. Говорят, что там аристократия борется за свои привилегии. Но это вульгарная ложь. Там, где есть угнетение, будет революция; там, где правительство препятствует духу времени, неминуемо состояние войны между правителями и управляемыми», — пишет он в книге «Португалия в европейском балансе» (1830).
В этой же книге Алмейда Гарретт высказывает важную мысль, свидетельствующую, что он преодолевал руссоистские представления о подлинной свободе как атрибуте примитивного состояния человечества, как свободе от потребностей: «Бедность — главнейший враг свободы». Неудачи испанской и португальской революций Гарретт объясняет неучастием в них народа, боязнью революционеров вооружить народ, слить его с армией. «Призовите народ, объясните ему, что вы совершаете для него революцию, — и он сам защитит дело своих рук». Народная революция должна была быть насильственной и сразу уничтожить все институты старого общества. Она этого не сделала, и неведением, отсталостью народа сумела воспользоваться контрреволюция.
Эти глубокие мысли, смыкающиеся с критикой буржуазных революций первой половины XIX века основателями научного социализма, соседствуют в публицистике Гарретта с наивными проклятиями по адресу олигархии, которая ссорит народы и королей. По-видимому, легенда о доне Педро, короле-либерале, провозгласившем независимость Бразилии, а затем явившемся с оружием в руках защищать португальскую конституцию, еще владела сознанием бывшего добровольца Академического корпуса. Трезво проанализировать социально-экономические интересы тех слоев дворянства и крупной буржуазии, что поддерживали дона Педро, Алмейда Гарретт был еще не в состоянии.
Здесь мы касаемся самого ядра духовной драмы Алмейды Гарретта, определившей фабульные конфликты и настроения всех его произведений 40-х годов, то есть, по существу, всего значительного в его творчестве. По-своему отразилась эта драма и в «Арке святой Анны». Суть духовного разлада состояла в том, что, видный деятель буржуазной революции, сознательно способствовавший реформам, то есть преобразованию феодальной структуры страны в капиталистическую, Гарретт в то же время испытывал отвращение ко всему буржуазному. Эстетическое чувство влекло его к двум полюсам: народу и высшей аристократии, поскольку это были силы, создавшие в прошлом яркую и — каждая на свой лад — утонченную культуру. Сближение этих полюсов — его культурный идеал, который он пытался согласовать с политическим. Доказательства Гарретт искал в истории Португалии. При этом, однако, его обращение к средневековью было лишено идеализации таких сторон той эпохи, как религиозность, сословная иерархия, своеволие феодалов и пресловутая соборность, то есть якобы существовавшее духовное единство феодального общества. Напротив, средневековье виделось Гарретту как время большей свободы, больших возможностей для самопроявления каждого, как время буйной игры молодых сил нации. «В нашей средневековой поэзии мы найдем лучшее объяснение характера тогдашнего общества — этого поразительного смешения сильных элементов…» — пишет он в предисловии к новому изданию своего «Романсейро» (1851). Это убеждение разделял и Алешандре Эркулано: практически и его и Алмейду Гарретта интересовали одни и те же моменты португальской истории — главным образом, XIV век, когда Португалия отстояла свою независимость от посягательств Кастилии и когда накапливалась национальная энергия, чтобы выплеснуться в следующих двух веках титаническими фигурами Васко да Гамы, Педро Алвареса Кабрала, Камоэнса. Гарретт верил, что такой взлет нации стал возможен благодаря активному участию плебеев, народа в историческом процессе и способности лучших, самых дальновидных людей из высшей аристократии ради общенациональной цели подавлять сословные предрассудки. Герои произведений Гарретта — обычно люди из народа, гордые, цельные, активные. Да, в изображении Гарретта все подлинно значительное в португальской истории достигалось благодаря объединению народа и лучших элементов аристократии, но объединению на основе признания народного суверенитета, уважения плебейской гордости, справедливой оценки бескорыстного народного патриотизма. Именно такова развязка «Оружейника из Сантарена», где после многих столкновений и испытаний дружески обнимаются два легендарных персонажа португальской истории: простой ремесленник-оружейник и коннетабль Нуналварес, вместе защитившие независимость Португалии.
Так же, по мнению писателя, должно было бы обстоять дело и в XIX веке. В обращении к актерам, предпосланном драме «Брат Луис де Соуза» он говорит: «Наш век — демократический. Все, что должно быть сделано, должно быть сделано народом и с народом — иначе не будет сделано вовсе». Но в реальности XIX века такого рода надежды были иллюзорны — реформы, достигнутые в результате революций и гражданских войн, были куцы, цивилизация не меняла к лучшему жизнь подавляющего большинства нации, зато множились ненавистные Алмейде Гарретту внешние приметы буржуазного прогресса. Уже в драме «Брат Луис де Соуза», написанной одновременно с первой частью «Арки святой Анны», звучат ноты, диссонирующие с мажорным, героическим звучанием «Оружейника из Сантарена». Гибель недавно счастливой семьи сопутствует гибели страны: правители предают Португалию испанцам, для государства, как и для героев, нет выхода и спасения. Герой и героиня принимают на свои плечи груз трагической вины, будучи по сути дела повинными лишь в неведении (они наслаждались счастливым супружеством в то время, как был жив первый муж доны Мадалены, которого считали погибшим в битве с турками). Подлинный виновник этой трагедии (супруги должны разлучиться и постричься в монашество) — национальное поражение Португалии. Но среди персонажей есть уж и вовсе невинная жертва — ребенок, расплачивающийся страданием за невольное преступление родителей. С уст девочки срывается возглас: «Что же это за бог, который с высоты алтаря отнимает у дочери мать и отца?» Таких бунтарских нот португальская литература того времени еще не знала.
О творческом развитии Алмейды Гарретта свидетельствует и роман «Поездка на родину», притом проблемы, символически претворенные в «Брате Луисе де Соуза», здесь рассматриваются с полным и ясным осознанием их исторического генезиса — как проблемы, рожденные буржуазным развитием.
Фабула романа — история своего рода «лишнего человека» — вплетена в описание поездки автора на родину, в Сантарен. Рассказчик непринужденно переходит от истории персонажа к дорожным впечатлениям и встречам, излагает местные легенды, рассуждает на литературные темы. И в том и в другом пласте повествования господствует ирония, выявляющая основную тему — расставания с иллюзиями, утраты надежд.
Карлос, герой романа, — юный бунтарь, бежавший из дома, чтобы не выносить деспотизма семейного духовника, отца Диниса. После нескольких лет эмиграции в Англии он возвращается в родные места офицером либеральной армии. (Писатель отдает герою некоторые факты своей биографии.) Победитель в гражданской войне, он тем не менее не доволен и не счастлив: три любовные истории выявляют душевную червоточину — неспособность искренне и глубоко любить. К тому же он узнает, что его настоящий отец — тот самый монах Динис, воплощение ретроградства. «Кто же я такой?» — этот вопрос, который мучает слабовольного героя, имеет, по замыслу автора, историческое и социальное значение: все португальское общество должно было задать себе подобный вопрос и найти ответ. В другом месте Гарретт говорит: «…наше сегодняшнее общество еще не знает, что оно являет собой…»
Рефлексия приводит Карлоса к безжалостным выводам, но, современный герой, он не убивает себя и не бросается в гибельные авантюры. Он становится преуспевающим биржевым спекулянтом. Впрочем, по мнению автора, это равнозначно смерти. Португальская «обыкновенная история» заканчивается сном автора: ему снится дождь разноцветных кредиток, изливающийся на родную землю. «Их были миллионы, миллионы и миллионы… Наутро я проснулся и ничего не увидел. Только бедняков, просивших милостыню у наших дверей».
Бунтарь, ставший биржевиком, оскверненные и разрушающиеся под неумолчную патриотическую болтовню памятники старины, которые видит писатель во время поездки на родину, — все это заставляет его в отчаянии воскликнуть: «Десять лет господства „баронов“ (титул барона в то время обычно жаловался крупным банкирам. — И. Т.) — и от агонизирующего тела нашей Португалии отлетел последний вздох духа!»
Биографы нередко утверждают, что с годами Алмейда Гарретт отказался от пылкой юношеской революционности и эволюционировал к умеренному либерализму. Когда в 1851 году была упразднена диктатура и к власти пришло умеренно-либеральное правительство, призвавшее на службу бывших «сентябристов» и возобновившее буржуазные реформы, Алмейда Гарретт также попытался вернуться к активной деятельности. Он даже принял в 1851 году от королевы титул виконта. Но это был скорее житейский, нежели духовный компромисс: он оплачивался ценой нарастающего пессимизма и разочарования. Уже очень скоро, через два года, он вновь отошел от политической деятельности, не желая способствовать торжеству «баронов».
Как это всегда бывает с яркими и темпераментными натурами, крах надежд и устремлений в общественной сфере обостряет драматизм личных переживаний, разочарование в ходе исторических событий заставляет возлагать груз непомерных ожиданий на личные отношения, которые зачастую такого груза не выдерживают — и тогда смыкается кольцо отчаяния. Так произошло и с Алмейдой Гарреттом, чья частная жизнь сложилась отнюдь пе благополучно. Брак, заключенный в ранней молодости, оказался неудачным, отсутствие взаимопонимания вынудило супругов расстаться. Короткое счастье принесла связь с Аделаидой Пастор, но она умерла двадцатилетней, оставив писателю маленькую дочь. В 1844 году Гарретт встретился с женщиной, заполнившей его жизнь. Это была светская львица, виконтесса Роза Монтуфар да Луз, испанка по рождению. Ее экзотическая красота, страстный, гордый и мстительный характер запечатлены на страницах «Арки святой Анны» в образе Эсфири. Любовь к виконтессе да Луз принесла Гарретту восторги и терзания, вдохновила его на прекрасные лирические стихи (сборник «Опавшие листья»), но и вконец опустошила ого. Всего пятидесяти четырех лет от роду он умер в одиночестве от болезней и тоски, не успев закончить начатый роман из бразильской жизни…
* * *
Таков биографический и духовный контекст «Арки святой Анны», таковы идеи, проблемы и чувства, волновавшие писателя в период работы над романом. Но были и конкретные обстоятельства, имевшие самое непосредственное отношение к замыслу этой книги. К рукописи, оставленной после осады Порто, Гарретт вернулся в 1841 году, побуждаемый, как говорится, злобой дня. В это время разыгрался конфликт между Португалией и Ватиканом: папа Григорий XVI отказался утвердить нескольких епископов, объявив их либералами. Королева готова была полностью подчиниться решению Ватикана — оппозиция энергично протестовала. «Внезапно, в последние два года, — пишет Гарретт в 1844 г., — церковная олигархия подняла голову. В мечтах они уже разжигают костры аутодафе на площади Росио и благословляют виселицы на поле Сант’Аны. А пока не настал для них этот славный и благословенный день, они призывают как можно более жестокие преследования на головы либералов… Сегодня полезно вспомнить, как в прошлом народ и короли объединялись, чтобы обуздать феодальную и церковную знать».
Таким образом, выбор конфликта для романа — борьба населения Порто против епископа, управлявшего городом в XIV веке, — был обусловлен общественной позицией Гарретта и носил осознанный антиклерикальный характер. Омерзительная, хотя и наделенная зловещей силой, незаурядной хитростью и энергией, фигура епископа многими чертами напоминала современникам писателя реальную личность — монаха Фортунато де Боавентура, активнейшего реакционера, которого претендент на престол Мигел в короткое свое правление назначил на высокую церковную должность — архиепископом Эворы и который впоследствии издавал агрессивно-мракобесную газету «Пуньял дос Коркундос».
Как истый левый либерал своей эпохи Гарретт стоит за полное разделение светской и церковной власти. В этом плане заслуживает внимания сравнение епископа с далай-ламой. Вместе со всеми европейскими романтиками португальский писатель интересовался Востоком, увлекался открытиями путешественников и ученых-ориенталистов. Ламаизм, разумеется, почитался при этом полуязыческим верованием варварских тибетских племен. Сравнение с азиатским божком сразу обесценивает следующее затем рассуждение епископа о превосходстве духовной власти над мирской и внушает читателю ироническое неприятие отжившего, средневекового феномена совмещения гражданской и церковной власти.
Все же открытый и принципиальный антиклерикализм романа не снимает вопроса об отношении Алмейды Гарретта к религии, отнюдь не равнозначном его бескомпромиссному осуждению политических происков, аморализма и лицемерия церковников. Католицизм и его атрибуты занимают немалое место в романе, что продиктовано сюжетом. Можно выделить три аспекта изображения католической религиозности в романе и, соответственно, три разных эмоциональных окраски авторской речи.
Во-первых, бытовая, привычная вера простонародья — все эти проклятия сатане, божба, воспоминания к месту и не к месту разных угодников, звучащие комично и вызывающие у читателя улыбку, как смешные суеверия далеких и темных времен.
Во-вторых, массовые церковные праздники, в данном случае процессия святого Марка. Здесь автор откровенно любуется красочностью зрелища, но его восхищение относится не к средневековой религиозности, а к средневековой жизни вообще, когда все — войны, бунты и даже религиозные обряды — служило проявлению народного темперамента, буйных и неиссякаемых творческих сил народа. Ведь процессия святого Марка, как она показана в романе, — народный праздник, религиозный смысл которого простолюдинам непонятен, да и неизвестен. Читатель заметит очевидный параллелизм в изображении двух процессий: праздничной и бунтовщической — писателю особенно важно, что народ безоглядно отдается и радости и возмущению, и умилению и ненависти.
И наконец, третий аспект — романист не отрицает возможности веры чистой, свободной от суеверий и от всяческих спекуляций. Так верят привлекательные герои романа: Аниньяс, Пайо Гутеррес. Но в вере находит выражение и, так сказать, интеллектуальное оформление врожденное благородство их натур. Их вера незамутнена, потому что они чисты сердцем, бескорыстны, до самопожертвования дорожат привязанностями и долгом, исповедуют справедливость. Иными словами, христианство для Алмейды Гарретта — прежде всего этическое учение, требующее от человека высокой нравственности и помогающее ему сохранить величие души в самых тяжких житейских перипетиях.
Такое восприятие религии было свойственно многим революционно настроенным писателям той эпохи, а также писателям, близким к утопическому социализму. Вспомним хотя бы нравственное перерождение Жана Вальжана из «Отверженных» В. Гюго под воздействием примера истинной, а не показной христианской любви к ближнему, или подобные ноты, часто звучащие в произведениях Жорж Санд. Н. А. Огарев анализировал сходные явления в истории русского освободительного движения и русской мысли: «Да надо вспомнить и то, что общество 14 декабря строилось под двойным влиянием: революции и XVIII столетия, с одной стороны, и, с другой стороны, — революционно-мистического романтизма, который не у одного Чаадаева дошел до искания убежища в католическом единстве и вовлек немало людей в какое-то преображенное православие».[2]
Религиозная мистика Алмейде Гарретту была абсолютно чужда — он не проявлял никакого интереса к католической теологии, никакого упования на потустороннюю жизнь. Но он верил, что христианская проповедь добра может помочь человеку в нравственном совершенствовании, что преображенная, очищенная от всякого политиканства, принуждения, ханжества, мракобесия религия может стать основой этики свободных людей.
Не только воинствующий антиклерикализм, по и другие компоненты сюжетного замысла романа хранят явственный след воздействия актуальных событий. При этом Гарретт не хотел вовсе поступаться историзмом. Он стремился придать фабульным перипетиям историческую достоверность (насколько это было в его силах при тогдашнем уровне развития историографии средних веков), но побудить читателя поразмыслить о современности. Так, мятеж ремесленников и лавочников Порто, столь пластично и зажигательно воссозданный в романе, сохраняет всю специфическую окраску, всю кровожадную ярость и слабость средневекового бунта, но своей стихийной мощью напоминает и народные восстания, вспыхивавшие в ходе буржуазных революций в Испании и Португалии и всякий раз предаваемые и подавляемые господствующими классами. Современник и единомышленник Гарретта из соседней страны, испанский поэт Хосе де Эспронседа в поэме «Мир-Дьявол», написанной почти одновременно с «Аркой святой Анны», показал волнение среди жителей Мадрида таким же безудержным, грозным и неорганизованным:
Глядите! Взбудоражен весь Мадрид, Он, как вулкан, покрыт людскою лавой, Земля под ним трепещет и дрожит, Тесьмой расшита огненно-кровавой, Народ по главным улицам бежит, Затоплен город шумною оравой, Спешат, бегут, вздымая пыль и прах, Летят, вселяя в души смертный страх! (Перевод А. Голембы и В. Луговского.)Писатель искал в прошлом поучительного сходства с современностью, а история сама доказывала актуальность его художественного вымысла. Уже после того, как появилась первая книга «Арки святой Анны», в 1846–1847 годах на севере Португалии было подавлено народное восстание, которым руководила женщина, трактирщица Мария да Фонте. Восставшие требовали отмены непосильных налогов и наказания бесчинствующих податных (по-видимому, и через шесть веков не ставших много справедливее и честнее Перо Пса).
Двойственность отношения Алмейды Гарретта к историческим фактам раскрывается в трактовке фигуры короля Педро I — того, кто вершит в финале романа скорый, но справедливый суд и беспощадную расправу. Этот король, прозванный и Справедливым и Жестоким, жил с 1320-го по 1367 год, а правил с 1357 года. Его молодость, согласно хронистам, была омрачена трагическим событием. Когда он был наследником престола, по приказу его отца Афонсо IV была злодейски умерщвлена придворными возлюбленная Педро Инес де Кастро: король опасался усиления при дворе ее родственников. Взойдя на престол после смерти отца, Педро I жестоко расправился с убийцами. Эта история послужила Камоэнсу канвой для одного из самых трогательных и знаменитых эпизодов его эпической поэмы «Лузиады» (III песнь). Камоэнс также называет Педро I «бичом для преступлений»; Алмейда Гарретт следовал фольклорной и литературной традиции, изображая Педро I вспыльчивым до бешенства человеком, но справедливым правителем, к тому же хранящим верность своей единственной погибшей возлюбленной и беспрестанно клянущимся именем Инес.
Однако исторический Педро I в романе Гарретта до отождествимости сливается с другим королем, носившим то же имя, — Педро IV, «королем-либералом», установившим в Португалии конституционную монархию. Две легенды подхватывает и сплавляет писатель — старинную, многовековую, сохраненную народными романсами и великим национальным поэтом, — и недавнюю, сложенную теми, кто, как и сам Алмейда Гарретт, еще питал иллюзии относительно возможности союза королевской власти и демократии.
* * *
Сегодняшнему читателю сразу станет ясно, сколь многим обязан Алмейда Гарретт своим европейским предшественникам и учителям — прежде всего Вальтеру Скотту и Виктору Гюго. Вальтеру Скотту — и общим подходом к исторической теме, пониманием конфликта как столкновения социальных сил, и конкретными литературными приемами сюжетосложения (так сказать, не только методологией, но и методикой исторического повествования). Читатель, любящий книги В. Скотта, сразу заметит в «Арке святой Анны» фабульные ситуации, навеянные «Квентином Дорвардом», «Айвенго» или «Пертской красавицей» (например, выхаживание еврейкой и ее мудрым отцом раненого рыцаря и др.). От В. Гюго в роман перешла тема архитектуры как застывшего на века прошлого, некоторые краски в обрисовке бунта. Вообще Алмейда Гарретт, не стесняясь, пользуется репертуаром романтических мотивов. Некоторые образы к тому времени имели уже долгую интернациональную историю, превратились в своего рода романтические мифы. Такова цыганка или еврейка, отверженное существо, которое считают ведьмой, но которая в молодости стала жертвой насилия и обмана, а теперь ждет часа для мести, опекая в то же время любимое чадо (сына или приемыша). Тогдашним читателям запомнилась старая Мег Меррилиз из романа В. Скотта «Гай Маннеринг, или Астролог», а затем Асусена из популярной драмы А. Гарсии Гутьерреса «Трубадур», впоследствии увековеченная музыкальным гением Дж. Верди в одноименной опере.
Алмейда Гарретт сплавлял воедино любые заимствованные образы, мотивы и ситуации индивидуальной манерой рассказа. И В. Скотт и В. Гюго обращались к читателю как его современники, вооруженные опытом и знаниями XIX века. При этом В. Гюго как повествователь патетичен, В. Скотт — гораздо сдержаннее, более склонен к юмору. В стиле Гарретта-рассказчика превалирует ирония. Он не просто комментирует происходящее с позиций наблюдателя — человека нового времени, он еще и откровенно модернизирует происходящее в романе, приписывая своим персонажам мысли и словесные формулы, ставшие известными разве что их прапраправнукам. Афоризм Васко: «Когда народ спит, тирания просыпается», — мог бы произнести революционер начала XIX века, учившийся у ораторов Великой французской революции, но уж никак не юноша из XIV столетия. Речь Жила Эанеса, которую не дослушали повстанцы, очень хороша в качестве пародии на парламентские словопрения в буржуазном государстве, но немыслима в устах цехового старшины средневековья. Да Алмейда Гарретт и не маскирует пародийности — чего стоит «Быть или не быть», процитированное за два с лишним века до Шекспира!
Стиль Гарретта обусловлен литературно-эстетической позицией писателя. Хотя Гарретт, как было сказано выше, еще в 20-х годах провозгласил себя романтиком, но это был романтик особый, трезво относившийся к тому, «что романтизмом мы зовем» (по выражению Пушкина). На всем протяжении творческого пути Гарретт возражал против романтических крайностей и неистовства и призывал сохранять завещанные XVIII веком объективность, здравый смысл и хороший вкус. Ссылаясь на вторую часть «Фауста» Гете, Гарретт утверждал, что современную поэзию должно определять соединение классического и романтического. В роман «Поездка на родину» он включил маленькие и очень смешные пародии на штампы романтического исторического романа и романтической драмы. Конечно, Гарретт зло издевается над эпигонами романтизма, которым не было числа в 40-е годы, но не касается великих романтиков, остававшихся его кумирами и учителями.
Манера повествования, выбранная романистом для «Арки святой Анны», — своеобразная форма так называемой романтической иронии, хорошо известной по произведениям многих крупнейших писателей этого направления (хотя бы Гофмана и Гейне). Фридрих Шлегель, виднейший теоретик романтической школы, так определял этот специфический вид иронии: «С внутренней стороны — это настроение, оглядывающее все с высоты и бесконечно возвышающееся над всем обусловленным, в том числе и над собственным искусством…»[3] У Алмейды Гарретта ирония направлена на то свойство романтического искусства, что вызвало к жизни его собственный роман, — на культ старины. Он посмеивается над «научным аппаратом» (как мы сейчас называем документированное подтверждение излагаемых фактов) к которому нередко прибегали романтики, чтобы придать достоверность своей фантазии. Ирония Гарретта как будто снимает торжественность обращения к прошлому, подчеркивает, что рассказчик отлично понимает, что прошлое с его обычаями умерло и явилось бы нелепым и смешным в настоящем, что вовсе не лишает его самобытной красоты и поучительности, ради которых романист и воскрешает историю на страницах своего произведения. Алмейда Гарретт специально оговорил, что его «страсть к готике» (так он называл интерес к средневековью) не имеет ничего общего с попытками реакции приспособить увлечение средними веками к своим политическим целям. «Стихами и легендами мы должны воспрепятствовать этой низкой уловке», — писал он, имея в виду легенду об арке святой Анны.
Но, конечно, ирония Алмейды Гарретта не может быть объяснена, исходя только из литературной задачи. Ведь тональность повествования не раз меняется. Ирония сгущается до сарказма, когда автор возвращается из прошлого в свой день и говорит о буржуазном прогрессе, парламентских дебатах, болтающих конституционалистах и плетущих заговоры «добрых патриотах» (читай — реакционных монархистах), о бонапартизме, о горьких уроках буржуазно-демократических революций, преданных лавочниками и демагогами, задушенных термидорианством. Печальный опыт, накопленный Гарреттом за десятилетия его участия в общественной жизни страны, диктует ему эти ядовитые выпады.
Но разочарование и скептицизм Алмейды Гарретта не всеобъемлющи. Да, он над многим смеется и в политике и в литературе, ко многим былым иллюзиям, себя не оправдавшим, относится саркастически. Однако есть вещи, в которые он продолжает безусловно верить. Он искренно восхищается неколебимой верой Жертрудиньяс в справедливость, в неизбежное торжество правых и наказание виновных — да не на том, а на этом свете. Он убежденно называет «благородным» гнев народа, вызванный произволом власть имущих, хотя знает, какие эксцессы могут последовать за стихийной вспышкой такого гнева.
Если вернуться к строфе из стихотворения А. С. Грибоедова, которая была предпослана нашей статье, то можно сказать, что для Алмейды Гарретта многое, за что «люди весело шли в бой» в давнем и недавнем прошлом, оказалось обманчиво, но самое важное осталось славно.
И. Тертерян
АРКА СВЯТОЙ АННЫ
Его высокоблагородию полковнику Ж. П. С. Луна,{1} командовавшему Академическим корпусом во время осады Порто{2} и т. д., и т. д., и т. д.
Мой командир!
Прошу вас вообразить себе, что в сей провинциальной глуши, откуда пишу вам, я, как положено, вытягиваюсь во фрунт и отдаю вам честь, ибо я не забыл еще, как это делается, хотя приказы, поступающие в нынешние дни, велят позабыть все, что связано с нашею службой в ту пору. Бог с ними! Я-то не из числа неблагодарных: да здравствует наш полковник, который всегда обращался с нами так хорошо и который был, есть и пребудет всегда честным солдатом Свободы!
Не унывайте, мой командир! Когда людей достойных забывают повысить в чине, бесчестие достается на долю забывчивых, ибо причина их забывчивости — несправедливость и лицеприятие. Говорят, в Древнем Риме при очередном производстве в чин, когда пост военного министра или еще какой-то, очень важный, занимал некто Калигула, в консулы выбился конь{3} вышеназванного министра. Звание консула, сдается мне, ничуть не выше, чем звание бригадного генерала, ну самое большее фельдмаршала, и звездочек на эполетах не больше. Но как бы то ни было — кто остался внакладе в бесстыдной этой каверзе? Тот, кто произвел коня в консулы, дело ясное.
Нынче такие консулы табунами гарцуют по нашей португальской земле, которой вы, ваша милость, и другие храбрецы принесли освобождение, дабы самим вам в удел досталось рабство, а господами стали всякие шалопаи, которые пальцем о палец не ударили, только грабастали сколько могли, покуда другие сражались; так вот, подобным консулам, сколь великими они ни почитались бы — или сами себя ни почитали, — я не хочу и никогда не хотел преподносить ничего из своих сочинений… а ведь согласись я на то, дела мои приняли бы другой оборот.
Посему посвящаю сию книжицу моему командиру и сожалею единственно о том, что она не в состоянии увековечить его имя, дабы напоминать грядущим поколениям о его честности, оставшейся без награды, о его скромной доблести — и дабы навсегда покрыть стыдом пройдох, которые зацапали то, что причиталось нам, и прочее тоже…
Я уже не могу числиться в списках нашей живой силы — но и не мертв покуда: здесь у меня растет некоторое количество кочанов галисийской капусты, и листья оных я пускаю на ежедневную похлебку, которой господь покуда еще поддерживает нас. Когда же и сие подспорье отнимет у нас десятинный сбор… десятинный сбор, и сбор в одну пятую стоимости имущества, арестованного за долги, и сбор на литературную субсидию (о, мой командир, литературная субсидия для этого сброда, ненавистника и гонителя литературы!), и сбор в пользу муниципальной палаты, и на содержание секретаря совета, и подкидышей, и приходского священника, и дорог… терпение! — тогда умру я в своем углу, но у них просить ничего не буду — последую благородному примеру моего командира.
Как уже сказано, я не числюсь более в списках военных — и ни в каком вообще. Я никто, живу себе в этой деревне нашей провинции Миньо, вам известной, и газета сюда попадает разве что чудом. Но местный наш цирюльник большой охотник до новостей, он расправляется и разделывается с ними — и с новостями, и со щетиной посетителей — куда лучше, чем известный вам цирюльник из Порто; так вот, от него я слышу, что компания штафирок, верховодящая в Лиссабоне, утверждает, что они-то и спасли Хартию,{4} что они-то и есть поборники Хартии, Хартия то, да Хартия се… Хорошо, что меня там нет, мой командир, услышав эдакое, я бы наверняка погубил себя…
Отставить разговоры, смир-рна! Итак, вот книга, мой командир. Написал я ее, когда служил под вашим командованием и вы столько раз освобождали меня от ружейных экзерсисов и службы при орудии, чтобы я мог почиркать пером. Вы говорили, ваше высокоблагородие, что этот вид службы приносит не меньше пользы. Думаю, вы ошибались по доброте своей. Те, кто никогда не занимались ни этим видом службы, ни другими, либо занимались спустя рукава, либо загребали жар чужими руками, разгуливают в почете и сытости… а я пробавляюсь пустой похлебкой и пустой болтовней!
А вот книгу мою не преподнес бы я ни какому-нибудь графу, ни герцогу, ни государственному секретарю. Да что там! Иные доброхоты добивались, чтобы я вознес мое посвящение гораздо выше… А я и в ус не дую: направо кругом — и шагом марш к моей миске, да здравствует капустная похлебка с салом и святая независимость. Книгу я преподношу вам, мой командир, ибо остаюсь
Товарищем и другом вашей милости,
Слабосильный, но верный солдат отечества
номер семьдесят два.
Глава I. Арка святой
Когда волонтер из Академического корпуса шагает по улице Святой Анны и рука его касается лафета орудия, а глаза устремлены вверх, к окну, откуда улыбается ему конституционная красавица{5} в праздничном бело-голубом уборе, в разгоряченном его мозгу мысли о воинских победах перемешиваются с мыслями о победах любовных, он думает о дамах, которым не устоять перед ним, и об отрядах мигелистов,{6} которым задаст он жару, а всего более — об историях про все эти победы, которые будет он рассказывать вечером в трапезной монастыря братьев-сверчков,{7} ныне превратившейся — о, нечестие! — в место кутежей и разгула щелкоперов-студентов, и ему едва ли приходит на ум, по каким легендарным местам он проходит, мимо каких почтенных памятников истории следует, какою захватывающей романтикой былых времен овеяны эти подмостки, на которые теперь, по прошествии стольких веков, вышел в свою очередь и он, новый лицедей в новой роли, ничуть не менее интересной.
Недостает тебе, и это правда, о благородная и историческая улица Святой Анны, недостает тебе твоей почтенной и благочестивой арки, драгоценного памятника набожности наших предков; она, бесспорно, убавляла достававшееся тебе количество света с небес «материальных», и без того скудное из-за того, что ты столь тесна, но зато сама по себе была источником света духовного, теплившегося в благословенной нише, посвященной преславной святой угоднице, в честь которой ты наименована.
Итак, ты рухнула, о арка святой Анны, разделив удел прочих благородных остатков старины, что рушатся по воле падкой на новшества черни, для которой родословные книги — всего лишь бредни, а почтенные геральдические знаки португальского герба — мертвый и забытый язык, презираемый нами в нашем невежестве, иероглифы фараоновых земель до открытия дамьетской надписи!{8} Скудоумные сторонники реформ постановили, что немного больше света и немного меньше нечистот на улице, изначально столь темной и малоопрятной, предпочтительней, чем сохранность этого памятника, во всех отношениях почтенного.
Какое смятение охватило мне сердце, когда после долголетнего отсутствия я бродил по улице Святой Анны, одной из первых улиц, с которыми познакомился в детстве, и взгляд мой тщетно искал готические очертания этой арки, и огонек неугасимой лампадки, и восковые изображения чудес,{9} висевшие вокруг нее, — все то, что приводило мне на память счастливые дни моего беззаботного детства! Детства, вслед за которым наступила не молодость, а пора зрелости, столь трудная, безрадостная, отрешенная; и старость, еще более преждевременная, уже подает мне весть сединой и морщинами!
Ах, улица Святой Анны, улица Святой Анны! Где она, твоя арка, и где он, твой праздник, когда сооружался помост с амвоном и клиросом, в сей импровизированной церкви гремела музыка, драл глотку священнослужитель и все твои жители наслаждались досугом!.. Сколько читалось молитв, сколько назначалось свиданий, сколько пилось и елось, и все отправлялись прямо в рай. Было бы так в наши дни!
И причиной, из-за коей было покончено и с богоугодным празднеством, и с любимой моей аркой, был пресловутый провал, который потерпел Жозе З.
Сообщим для удобопонятности нашего повествования, что Жозе З. был весьма любопытным и заметным лицом в наших краях, одной из знаменитостей — словечко сие, прямо переведенное с французского, в большом ходу в здешних кофейнях — сего достославного и неизменно верноподданного града. Известнейший капельмейстер, он верховодил праздниками в честь всех до единого святых, коим посвящены были церкви либо часовни города Порто и его окрестностей, не исключая и праздников трех соперничающих святых Иоаннов, а именно, святого Иоанна из храма в Седофейте,{10} именовавшегося старым или республиканским, святого Иоанна «пестрого»{11} из храма в Лапе, облюбованного конституционалистами, и святого Иоанна из храма в Бонфине, где собирались роялисты.
И то сказать, святой Иоанн, которому никак не отделаться от славы франкмасона…{12} чего только не увидишь на этом свете.
Этот самый сеньор Жозе З. был мужчина весьма видный и обладал столь развитыми и выпуклыми формами пониже поясницы, что получил изысканную и бывшую весьма в ходу кличку на метонимический манер, когда целое именуется по части, и прозывался Жозе З. или Жозе такой-то;{13} серьезный тон моего повествования не позволяет мне выразиться яснее.
Среди прочего заправлял он с незапамятных времен всей музыкальной частью, как хоровою так и инструментальной, на празднике святой Анны из часовни над аркой. Шел год 182…, наступил день святой угодницы, соорудили помост, певчие и музыканты вскарабкались на клирос, за окном часовни появились священнослужители, началась торжественная месса, взбирается на амвон капуцин, желторотый еще малый, приступает Жозе З. со своей шатией к непременному мотету,{14} и тут все это сооружение, сляпанное на живую нитку, трещит по всем швам и — трах-тарарах — рушится наземь. Жозе З., державший в руке свернутые трубочкой ноты, — прямо тебе скипетр, жезл генерала Колшейи!{15} — всей тяжестью той части своего тела, каковая дала ему прозвище, валится на контрабас, уже расплющившийся о камни мостовой.
Дека сего пузатого музыкального инструмента вдавилась внутрь, и звуки, исторгнутые из него столь жестоким способом, были ужасающими…
Очутился наш блаженный муж в таком состоянии и такой позиции, что все собравшиеся, едва оправившись от потрясения и всеобщего ужаса, разразились хохотом и насмешливыми возгласами. На том и кончился праздник, что избавило капуцина от необходимости драть горло и плести околесицу, а жителям улицы позволило сесть пораньше за обед.
Таким вот манером отслужили в последний раз службу в честь святой угодницы Анны из часовни в виде арки. И вскоре после того была разрушена сама арка — о чем не перестану я сожалеть вместе со всеми любителями и поклонниками древних арок и прочих сокровищ старины в том же роде.
Зловещее падение Жозе З. оказалось роковым, фатальным для благословенной арки.
Глава II. Разговор между соседками
Так вот, за добрых пятьсот лет до вышеизложенного рокового события эта самая арка святой Анны была свидетельницей и местом действия любопытнейшей истории, которую я сейчас поведаю и которую извлек со скрупулезной точностью из бесценной рукописи, обнаруженной в частной библиотеке преподобного отца-настоятеля монастыря братьев-сверчков, и да простит его бог за то, что, спасаясь бегством, не оставил он у себя в келье ни единой коробки со сластями, ни единой бутылки сносного вина, никаких лакомств из числа тех, на которые мы, бедные студенты, возлагали столько упований, ведь так естественно было бы найти их в сей святой обители, когда мы добрались до нее, полумертвые от голода и усталости. Что касается меня лично, то я вполне удовлетворился сим единственным трофеем, выпавшим мне на долю, и не взял бы никакого другого (за исключением сластей, их я бы не пощадил) вопреки действовавшим в ту пору законам и практическому применению оных; не знаю, насколько они ныне в ходу и в чести, но мне известно немало людей, которые теперь весьма в чести, процветают и преуспевают за счет тех самых законов и с их помощью. Но к делу! Что до меня, то если законы войны — недостаточное основание для того, чтобы я считал своей собственностью то, что прибрал к рукам в монастыре и что изложу как плод собственных трудов в сей хронике, то винюсь в том публично и со всей искренностью и готов возместить убытки тому, кто окажется потерпевшим. Оно не в обычае среди моих собратьев, сочинителей повестей, рассказов и прочего, но что мне в том!
Было часов десять вечера, глухая пора в те добрые времена, когда наши предки, весьма ранние птахи, обедали меж десятью и одиннадцатью утра и ужинали засветло, еще до заката. Ночь была лунная, но из-за того, что улица Святой Анны так узка, да к тому же в те времена сразу за нею вздымались городские стены, лунные отблески тускло и с трудом просвечивали в сплошной мгле. Только лампада, горевшая в нише, светилась слабым огоньком, таким приглушенным и беспомощным, что он разве что указывал, в каком месте теплится, но не мог развеять окрестную тьму. В этот-то час и в этом-то месте из-за ставней одного из окон слева от часовни послышался тихий голос; таким голосом говорят, когда и хотят быть услышанными, и боятся этого. Голос шептал:
— Ани́ньяс, сестрица, Аниньяс! Голубца, сестрица, слышишь? Это я, слышишь?
После каждого слова наступала длительная пауза, и следующее произносилось громче, так что последнее слово уже можно было бы расслышать без труда на небольшом расстоянии. Но даже если кто-то и расслышал, ответа не было. Голос смолк на целую минуту.
Затем из-за тех же ставней, откуда, насколько можно было судить, доносился голос, появилась изящная белоснежная ручка, такая белоснежная, что притянула к себе весь свет лампады, от которого заблестела ее кожа. Ручка тихонько постучала в окно часовни, голос повторил:
— Аниньяс! Ш-шш! Слышишь?
И тут же послышались осторожные шаги: кто-то спешил на зов; то была смутная фигура, с виду фигура женщины, она проникла в часовню через дверь, которая вела туда из соседнего дома; женщина ступала осторожно, бесшумно. Она подошла к противоположной стороне часовни, выходившей к домам, что были слева, и оказалась как раз под тем окном, откуда раздавался первый голос.
Тут под аркой послышался шорох, и кто-то — голос был мужской — пробормотал:
— Сущий ангел, а не девушка, право слово! Только поглядеть: сама святая приходит поговорить с ней!
— Сестрица, сестрица! — прозвучал голос из часовни, расположенной в верхней части арки. — Тебе не послышался снизу мужской голос?
— Нет. Да если бы там кто-то был, я бы отсюда и тень его разглядела. Не бойся, все соседи спят. Уж если кто-то в городе еще не сомкнул глаз, это разве что епископ или Пе́ро Пёс, так я думаю.
— Что это тебе вспомнились эти лицемеры… Да покарает их Дева Пречистая купно с покровительницей нашей святою Анной!
— Аминь! И да падет на них правосудие короля дона Педро!{16}
— Ох, Жертруди́ньяс! Коли не заступится за меня господь со своими святыми, не знаю, что будет со мной. Правосудие короля дона Педро, говоришь ты. Да как ему добраться до наших краев, где ни король, ни народ никогда не могли найти управу на тиранов и притеснителей?.. Король, девушка, так далеко, как мне его увидеть… А враги мои так могущественны, и так они близко… Король дон Педро!.. Им до него и дела нет, его правосудие и законы они ни во что не ставят! Еще бы!.. В этом городе у них больше власти, чем у любого короля, так они сами говорят, предатели, и тут у них слово с делом не расходится, а еще говорят, что, если король посягнет на их привилегии, так они на его место другого посадят, как было уже с его прадедом, звали его…
— Не с прадедом, а с братом его прадеда, хочешь ты сказать, звали того короля дон Саншо.{17}
— Может, так, я про все это ничего не знаю, грамоте и наукам не обучена, не то что ты… У тебя вон дядюшка — ученый лекарь, на пальце перстень носит, разъезжает на муле с попоной, при короле состоит, снадобья в чересседельных сумках возит, у меня такой родни нету. Я женщина простая, жена золотых дел мастера, одно только умею — хозяйство вести да полотна ткать…
— И быть образцом добродетели среди женщин. Будь все они тебе под стать, эти клирики проклятые и монахи-мошенники не делали бы того, что делают.
Ответ юной Жертрудес оказал свое действие, смягчив раздражение, явно прокравшееся в предыдущую фразу женщины, которая, как теперь уже ясно, была ее ближайшей подругой, доброй Аной, Ани́кас или Ани́ньяс, как звала ее Жертрудес, образуя ласкательную форму так, как принято в провинции Миньо.{18}
Простодушная Ана снова заговорила прежним ласковым тоном и с прежней мягкостью.
— Милая моя Жертрудиньяс, послушай, что скажу я тебе перед лицом святой угодницы Анны, внемлющей нам… Я ведь вседневно слежу за тем, чтобы теплилась ее лампадка, так покойный отец мой велел, в завещании его прямо сказано, «пускай моя единственная дочь ест похлебку без сала, лишь бы хватало масла в лампадке часовни святой Анны над аркой». Вот и гляди, могу ли я хоть денек пропустить! А коли расхвораюсь, за меня муж постарается… Бедный! Знать бы, что с ним! И зачем только понесло его в Лиссабон, чтобы притянуть к ответу должников, а взыщет ли он когда-нибудь с них долги, один бог ведает… Но вот поехал он туда, там и скитается, я-то всего только год с ним и пожила — и вот осталась одна, с маленьким моим Фернандо, он уже говорит «папа», бедный мальчонка! А отец еще и не слышал его, да и бог знает, услышит ли… И в сердце у меня недоброе предчувствие — нет, не услышит он…
И слезы одна за другой покатились по щекам бедной молодки, отчего она стала еще краше и привлекательнее.
А читателю следует знать, что Ана была очень хороша собой; вскоре он узнает, почему это столь важно.
Слезы доброй Аны хоть и были искренними и прочувствованными, но не прервали ее речей и на долю секунды; она продолжала:
— Да, да, я правду говорю. Подсказывает мое сердце, что и мне, и моим близким грозят великие беды, и предчувствую я, что одного только можно ждать от этого епископа — разорения и погибели нашего города; все они хороши, что он, что его каноники, и сборщики податей, и алебардщики, и все его прихвостни из городского собора.
— Не забудь при перечне преподобного отца Жоана да Аррифану, тоже хорош. Но этому не бывать, Аниньяс, нас спасет помощь господа и правосудие короля дона Педро.
— Как ему сюда добраться, девушка? Ты что, забыла, что случилось в наших краях после того, как народ поднялся против притеснений тирана — епископа дона Педро? Забыла про интердикт,{19} про отлучения от церкви? А потом епископ договорился обо всем с королем и с самим папой, и с тех пор королевское правосудие ни разу не соизволило заглянуть в наши края, позаботиться о том, чтобы соблюдались наши вольности, заступиться за нас, нас бросили на произвол епископа и его челяди. Как же теперь король дон Педро?..
— Помню я все это, помню, а вот увидишь, король сюда пожалует в тот миг, когда они меньше всего будут его ждать, и в королевской деснице будет меч, уготованный самим господом на погибель тиранам и притеснителям народа.
— Скорее бы содеял господь это чудо, Жертрудиньяс. Не то худо мне придется; ведь не далее как сегодня был у меня проклятый епископов сводник, его податной, что сбор за вино взимает; он по утрам народ обирает в податной палате, а вечерами занимается ремеслом демона-искусителя, не дает покою честным женщинам и девицам города Порто…
— Все ради того, чтобы сослужить службу церкви божией и приумножить ее воинство!.. Так они говорят…
— Да уж, голубка! И откуда только взялся этот епископ… на нашу голову.
— Его покойный король назначил. В конце его жизни все им вертели, как хотели, особенно монахи да священники и военная братия, можно подумать, бог отдал это королевство им в собственность… Только не бог, грех так говорить, дьявол это содеял за наши грехи. Но что сказал тебе податной?
— Будь он проклят! То самое и сказал, что всегда твердит: что нужно бы мне быть поблагоразумнее да поосторожнее; что следовало бы мне пойти туда, куда велено, либо принять епископа у себя; что не дело гнать пинками прочь фортуну, когда она стучится в двери… А буду упрямиться, так не видать мне больше мужа, похоронят его заживо в подземельях епископского дворца, где забудет он, что такое луна и солнце, будет сидеть на хлебе и воде, словно каторжник с королевской галеры. И подарки мне принес, богатые самоцветы, золото тонкой работы, я сидела ткала, так он мне все это в подол бросил, а назад брать не хотел, так я в конце концов…
— Что же ты в конце концов сделала?
— Швырнула драгоценности ему в лицо что было мочи. У него все лицо было в царапинах, так ему и надо!
— Так ему и надо, Аниньяс, родная! А что этот подлый податной?
— Почернел от злости и обиды, ни слова не сказал, подобрал с полу все эти жемчуга да золото… а красивые были драгоценности!.. Упрятал все под свой балахон и ушел, даже не попрощался, только все бормотал сквозь зубы, покуда спускался по лестнице, «ты еще за это поплатишься!».
— Да, голубка, тебе есть чего бояться, теперь я это вижу; но мы еще сумеем найти выход.
— Кто это — «мы»?
— Я… мы, с божьего соизволения; мы и наша добрая звезда.
— Мы! Тебе шестнадцать лет, мне двадцать, твой дядя при дворе, мой муж в Лиссабоне! Что нам делать, одиноким женщинам, некому за нас вступиться!
— Некому?
— Ну, не то чтобы совсем некому, у меня есть моя крестная и заступница святая Анна.
— А у меня есть Васко, он хоть и не святой, а чудо содеет.
— Твой Васко! Как может он пойти против епископа, если сам при нем состоит?
— Он столько же состоит при епископе, сколько я при халифе Гранадском.{20} Он студент, но не собирается быть священником и как только достигнет того возраста, когда дядя ничего с ним не сможет поделать, отправится в Саламанку.
— В Саламанскую пещеру!{21} Опомнись, голубка! Ты что, хочешь, чтобы малый стал колдуном?
— Колдуном! А разве стал колдуном мой дядя? Он столько лет там пробыл, зато какую угодно хворь и болезнь вылечит своими снадобьями да бальзамами, потому и состоит при особе самого короля дона Педро, помоги ему боже, и тот его ни на шаг от себя не отпускает, никаким другим лекарям не доверится!
— Но что может поделать твой Васко, ведь мне вон как туго приходится!
— Он должен немедля отправиться к королю дону Педро и доложить ему обо всем, чтобы король оградил нас своим правосудием, приехал сюда и велел бы высечь этого треклятого епископа и повесить его каноников, монахов и сборщиков податей.
— Я очень проста, но все-таки не так проста, как ты, Жертрудес. Стало быть, король дон Педро должен вступиться за двух бедных молодок, причем одна из них я, то есть простолюдинка, и покарать дворян и сеньоров, которые все могут и которые испокон веков делали все, что хотели? А тем более клирики! Увидела бы я такое в наших краях, сказала бы, что мир вывернулся наизнанку.
— А вот увидишь, увидишь! — возразила восторженная Жертрудес тоном, который не сумела бы воспроизвести самая экзальтированная сентябристка или «пеструшка»,{22} наша современница, — тоном, исполненным такой твердости и веры, что ей без дальнейших испытаний предоставили бы право гражданства в республике, которую… в любой из республик, которыми время от времени прельщает нас полиция себе во славу и нам в успокоение.
— Вот увидишь, — продолжала она, — и ждать придется недолго, ибо еще есть бог в небесах и правосудие на земле; не вотще вопиет невинная кровь, обагрившая столько лобных мест; не вотще рвутся к небу вздохи из стольких застенков; не вотще льется столько слез в этих краях из-за бесчинств и злодеяний наших палачей. Ты еще увидишь короля дона Педро в этом городе, увидишь, как затрепещут злодеи и обратятся в бегство. Только бегство им не поможет, им не уйти от карающего меча правосудия.
— Они пойдут против него, девушка, с них станется, откажут ему в повиновении, хоть это их долг, поднимутся против него, отрекутся от него, хоть он король их и повелитель.
— С них станется, это верно. И они могут отлучить его от церкви и обозвать еретиком либо мавром. Но тем хуже для них, Педро Суровый будет еще суровее с теми, кто нанесет ему такое оскорбление.
— Но он, говорят, такой мягкий и великодушный, так легко прощает изменникам!
— Да, он таков; но у того, кто прощает, терпение тоже может иссякнуть, у дона Педро оно уже иссякало, и не раз, теперь он не станет дожидаться, пока оно иссякнет снова.
— Услышь тебя бог, милая Жертрудес, уж так я боюсь, что засадят меня в подземелье епископского дворца, и никогда больше мне…
— Не засадят, не будет этого. А теперь иди спать, Аниньяс, уже поздно. Завтра ты услышишь добрые вести и узнаешь, что я не дремала и старалась ради тебя.
— Доброй ночи, Жертрудес, доброй ночи, милая соседка! Воздай тебе бог за то, что меня утешаешь: если бы не ты, я бы давно уже умерла от одного только уныния, либо нечистый меня попутал бы, и… Нет, этому не бывать, даже и без тебя! Доброй ночи!
— Доброй ночи!
И тем же путем, каким пришла, с той же осторожностью простосердечная Аниньяс проследовала к себе в дом.
Едва она скрылась, Жертрудес вытащила белый платок и взмахнула им так, чтобы движение это было видно из-под арки.
Глава III. Сеньор студент
— Жертрудес! — проговорил мужской голос, едва только промелькнул во мгле белый платок восторженной красавицы.
— Васко! — ответили ему из-за ставней.
— Твой отец спит? Есть у нас время поговорить?
— Есть, и поговорить нам очень нужно. Ты слышал мою беседу с Аниньяс?
— Слышал.
— Так за дело; да поспеши. Забудь об еде, питье и отдыхе, покуда не доберешься до короля дона Педро и не расскажешь ему, в каком трудном положении мы оказались. Поговори с моим дядей: он поможет тебе проникнуть к королю. И уходи, никаких твоих разговоров слушать не хочу.
— Жертрудес, милая Жертрудиньяс, как же ты сурова со мною, как мало любишь меня! Вот уже три дня, как я тебя не вижу, и вот уже добрых три часа, как стою здесь на ночном холодке, жду, когда же вы кончите совет держать, а конца все нет…
— И никогда больше не увидишь меня, если не отправишься тотчас же в путь.
— Спешу, спешу, чего бы мне это ни стоило, пусть даже самой жизни, говорится же в песенке:
Рад и жизнь я отдать, Лишь бы вам услужить, Мне, красавица, без вас Все равно не жить,— Удачно выбрал ты время для стихов и песен, студент!
— Студент, студент, куда глядишь? Что там такое? — Мост над рекою. — Из-за той, что там гуляет, Мне не знать покою. Я здесь над книжками корплю Вдали от той, кого люблю! Что за докука, Скука и мука! Смертью грозит мне разлука! А она, злюка, Надо мной смеется! Видно, мне из-за жестокой, Ясноокой и далекой, Умереть придется!— Ну что, допел? (В сторону.) А какой у него красивый голос! (Громко.) Допел в недобрый час! Поторопись!
— Тороплюсь, тороплюсь, это ты не торопишься сжалиться надо мною и смягчиться сердцем!
— Любовные речи? Куда как нужны они мне сейчас!
— Не нужны, не нужны. Уж мне ли не знать?.. Не девушка, а сущий бесенок. Придется повиноваться, иного выхода нет…
С этими словами он пошел прочь, оглядываясь, пока не услышал, как затворились ставни. Наш студент остановился, прислушался и, промолвив: «И вправду ушла», — зашагал быстрее.
— Не девушка, а сущий бесенок, — продолжал он, словно желая завершить прерванную беседу монологом, обращенным к самому себе. — С виду-то — что тебе миндальное печенье да глазурные пряники, а душой и сердцем под стать самой Юдифи…{23} Да вот только обезглавить епископа потруднее, чем разных там военачальников и полководцев. А тем паче такого, как его преосвященство, уж он-то бережет себя: столько караульных расставляет у себя во дворце, где предается любовным утехам, что будь этот бедный недотепа Олоферн хоть вполовину так осмотрителен, не удалось бы еврейке отправить его в преисподнюю в тот миг, когда вершил он смертный грех. Но шутки в сторону, подумаем о деле. В хорошенькую попал я передрягу. Если король дон Педро не таков, как о нем отзываются, то не сносить мне головы, а ради кого — ради еще одной девушки. Quid nunc,[4] сеньор студент. Еще одна девушка, сказал я?.. Жертрудес не из тех, чье место в ряду прочих из длинного списка. Если есть на свете евина дщерь, ради которой стоит рискнуть жизнью, так это моя Жертрудес. А уж как я ненавижу этого мошенника Перо Пса и этого лицемера — епископа… Иду на них.
На клинке моем отменном Я клянусь моею дамой, Что злой мавр не уцелеет За стеною этой самой.— Стоит вместо «злой мавр не уцелеет» поставить «епископ не спасется», и стишок будет как раз к месту, что там ни говори.
С такими словами он до половины обнажил меч, словно желая проверить, наготове ли оружие и свободно ли вынимается из ножен, и, ускорив шаг, стал взбираться по круто уходившим в гору улочкам этого квартала, пустынным и тихим, как и весь город.
Пусть идет своим путем; не будем гадать, что творилось у него в мыслях, ибо они были в полнейшем раздоре друг с другом… Он, студент, приближенный епископа, состоящий под покровительством своего сеньора… он, влюбленный, которому благоволит Жертрудиньяс, дама его сердца!.. Пусть идет себе, пусть, а мы, друг-читатель, перенесемся с тобою в совсем другую часть города, хоть и расположенную не очень далеко. Сменим же место действия с тою же быстротой, с какой совершается это в британском театре; и пусть себе печалится Аристотель со своими единствами,{24} на сей раз никто не обратит на него внимания.
Итак, отсюда, с берега реки, где я пишу для тебя, благосклонный читатель, поднимемся вверх по склону квартала Конго́стас, название коего, заметим в скобках, не очень-то поэтично{25} и романтично. Проследуем мимо почтенного святого Криспина, который столь торжественно опроверг изречение язычника Горация{26} — ne suttor ultra crepidam,[5] — и, поручив себя попутно его благословенному и чудодейственному шилу, миновав раскинувшиеся справа сады, где несколько веков спустя пройдет прекрасная новая улица Сан-Жоан, и оставив позади место действия первой сцены, поклонимся мысленно благочестивой лампаде, теплящейся близ чудотворной статуи, и направимся по улице Баньярия.
И вот мы уже стоим около досточтимой статуи, которая олицетворяет старый Порто,{27} и хоть вокруг нее красуются коробы с надутыми потрохами,{28} озирает словно с престола подвластные ей окрестности. В те времена кощунственная кисть еще не осмеливалась ни измарать вульгарной и мерзкой охрой, ни заляпать густой киноварью этот шедевр местного ваяния, который тогда являл взорам свой гранит во всей его первозданной чистоте. Итак, поклонимся почтенной эмблеме нашего славного города, да простится нам сей анахронизм, если это и вправду анахронизм, и пойдем прямехонько, не тратя больше времени на поклоны и реверансы, ко дворцу при соборе или епископскому, как зовется он ныне и, возможно, звался уже в те времена. По-моему, звался. В бесценной рукописи, откуда извлек я сию правдивую историю, читаем «епископский дворец»: доверимся же рукописи и примем подсказанное ею название.
А теперь, друг-читатель, я вполне мог бы предложить тебе велеречивое описание пергаментов, каковые я переворошил в архиве нашей городской палаты, фолианта капитула, квадратные литеры какового я прочел с грехом пополам, и огорошить тебя тысячей прочих доказательств общедоступного всезнайства, прискучив тебе оными до смерти без всякого прока для тебя, для себя и, самое главное, для нашего повествования. А посему довольствуйся, как довольствуюсь я, неопровержимым авторитетом нашей рукописи из монастыря сверчков, столь же подлинной, как и всякая другая. А кто захочет напасть на нее, пусть остережется, ибо мы уже заручились несокрушимой обороной в виде полных учености статей в трех литературных газетах, никем не читаемых, да в таком же количестве газет политических, читаемых всеми — когда это им интересно.
Читатель уже ждет фразы о том, что дворец епископа города Порто во времена короля Педро, когда происходили описываемые события, был совсем не таков, как ныне, во времена герцога дона Педро,{29} когда эти события описываются. И, само собою, он еще уверенней ждет описания дворца в прежнем его виде, выполненного по всем правилам искусства, с премудрой диссертацией на тему о разновидностях готической архитектуры, к одной из каковых волей-неволей должен относиться сей дворец — ибо любой дворец из романа или повести о стародавних временах неминуемо окажется готическим, даже если построен гранадскими Абенсеррахами или аль-Мансуром из Вила-Новы.{30} И тут же, как бы мимоходом, рассуждение о «пылающей» готике{31} и о «смешанной», и о каннелюрах на колоннах, и о форме и узорах капителей и прочих предметах, столь же увлекательных, сколь и поучительных.
Но надежды любезного читателя окажутся тщетными, чтобы не сказать иллюзорными, раз меня так порицают за слова иностранного происхождения; ибо, не обращая внимания на архитектуру Епископского дворца, я проследую внутрь оного, так же мало думая о церемониях и так же поспешно, как отбыл оттуда, уже в другую эпоху, злополучный епископ Жоан, который, надо полагать, зачахнет от тоски по своим книгам… Жаль бедного старца! И жаль бедных книжек!..
Итак, удовольствовавшись сообщением о том, что епископская резиденция в Порто еще сохраняла существенные остатки древней свевской крепости, стоявшей на этом же месте, и что сохранять оные здешним епископам было совсем нелишне, из-за многолетних войн, что вели они с жителями сего доброго города, поднимемся по лестнице, войдем в караульню, где находились епископские ратники… и прислушаемся к тому, что происходит за этой дверью, откуда доносится приглушенный и неясный шум голосов.
Глава IV. Епископский дворец
Дверь находится в дальнем конце караульни, грозная дверь, каштановое дерево которой закоптилось и почти почернело; вся она усеяна железными гвоздями, заканчивающимися не шляпками, а остриями, ощетинилась ими, словно шипами, и оттого кажется пугающей и мрачной. Еще страшнее она оттого, что около нее стоит ратник мощного телосложения, на голове у него шлем, а в руке короткое копье, именовавшееся в ту пору то ли аску́ма, то ли азева́н, поди знай, как именно!
На резных скамьях работы то ли свевской, то ли еще более варварской, если это мыслимо, покоятся в полудреме-полуоцепенении, вызванной тяжкой усталью безделья, достойные защитники трона и алтаря… той поры — такие же точь-в-точь, как нынешние, — тут и черные долгополые сутаны клириков, иначе говоря, лиц духовного звания, и красные короткополые камзолы палачей-солдат. Да в придачу один-два монашка на побегушках, каковым, ввиду незначительности их особ, не было ходу далее епископской приемной и присутствие каковых здесь означало то же самое, что означает присутствие ординарцев в любой приемной или прихожей, а именно, что за дверью находится важное лицо, ими распоряжающееся.
Чу, шаги у входа… Кто бы это мог быть? Тот самый студент, с которым мы только что познакомились. В таком месте и в такую пору! Поглядим, что будет он делать.
Васко окинул взором все просторное помещение; и уверенно, как человек, оказавшийся в знакомом и привычном месте, направился к жутковатой двери в конце зала.
— Пошли вам бог добрый вечер, Руй Ваз! — промолвил студент, обращаясь к ратнику, который, судя по этому приветствию и по тому, что принял оное как нечто вполне обычное, явно был знакомцем Васко.
— Добро пожаловать, сеньор Васко… Мне бы следовало сказать, дон Васко, но что готовится, то сбудется.
— Вечно у вас какие-то намеки, Руй. Клянусь жизнью, никак не пойму ваших недомолвок и обиняков! Когда дождусь я от вас ясного слова, человече?
— Чтоб так же дождаться моей собственной душе слова от господа, как дождетесь вы от меня слова, и ясного, и внятного, и правдивого, лишь бы язык мне развязали. Но покуда он безмолвнее и неподатливее этой черной двери.
С этими словами он показал многозначительным жестом на пугающие janua inferi,[6] каковые сторожил, перекрестился и продолжал:
— Только бы они нас не услышали, сеньор Васко! У этих стен есть уши. Сегодня вы пришли рано.
— Всегда я прихожу слишком рано. Кто там?
— Кому там быть? Брат Жоан, ваш дядюшка, прочие друзья-приятели и эта подлая собака, Перо Пес, те же, что всегда, те же, что всегда.
— Могу я войти? Никаких новых распоряжений по было?
— Не было.
— Тогда прощайте, Руй Ваз, я тороплюсь, пройду во внутренние покои.
— Послушайте, Васко, юный мой сеньор, хотите, дам вам добрый совет? Вы знаете, я вам истинный друг, мои предупреждения всегда вам были на пользу… Так вот, еще одно, прислушайтесь к нему — не ходите туда.
— Почему?
— Потому что…
Алебардщик обнял студента за плечи, притянул поближе и договорил ему на ухо, шепотом:
— Потому что нынче там готовится какое-то злодеяние, и немалое… Мне сердце подсказывает, я по их лицам, как по книге, читаю, у всех у них ухмылка дьявольская, и все ходят с таким хитрым видом! Готовят какую-то адскую затею.
— Знаю, что готовят, потому я и пришел.
— Вы!
— Да, я… чтобы ее расстроить.
— Дитя!
— Не настолько дитя, чтобы не… До свидания, Руй Ваз, мы скоро увидимся снова, я ненадолго.
И, не мешкая, студент отошел от алебардщика и как человек, знающий здесь все закоулки, направился к маленькой дверце неподалеку, совсем незаметной; едва ли различил бы ее в стене тот, кому не были знакомы и доступны petites entrées[7] Епископского дворца.
Глава V. Васко
Васко было девятнадцать лет, и вот уже пять лет он жил в Порто, где учился — чтобы пойти в каноники, как утверждал его дядюшка, под опекой которого юноша состоял, — чтобы отправиться потом в Саламанку и выучиться на лекаря, утверждал он сам. Пределом его желаний и самой честолюбивой мечтой было стать преемником того, кого почитал он вместилищем всей доступной человеку учености, и был это мастер Симон, королевский лекарь.
Одеянье мастера Симона, попоны, красовавшиеся на верховых мулах мастера Симона… и племянница мастера Симона, красивая и острая на язык Жертрудиньяс — таковы были предметы его восторгов.
— Лишь бы мне добиться желтой докторской шапочки, — говорил он себе в честолюбивых своих мечтаньях, — и вот я уже человек с положением, женюсь на Жертрудиньяс, ее дядюшка берет меня в помощники, сажусь себе на мула с попоной и еду позади короля, раз уж еду позади мастера Симона… А все давай спрашивать друг друга: что это за молодой лекарь в свите короля? А это мастер Васко, племянник мастера Симона, вернее, он женат на его племяннице, красавице Жертрудиньяс с улицы Святой Анны, где арка-часовня…
Однако же дядюшка — не будущий, а нынешний — возлагал на него совсем другие надежды: хотел, чтобы юноша принял духовный сан и чтобы он стал каноником с постоянным доходом при святом епископском соборе в Порто; у него имелись на то свои причины, весьма основательные.
Дядюшка Васко был не кто иной, как сам брат Жоан да Аррифана, заплывший жиром плечистый францисканец, пользовавшийся великим влиянием и весом как у себя в ордене, так и за его пределами, не потому что блистал образованностью, каковая заплыла жиром под стать ему самому, а потому, что был горазд на плутни и витиеватые речи настолько, что современные историографы Серафического ордена именуют его Пассаролой четырнадцатого века.{32}
Кроме того, брат Жоан да Аррифана отличался… Но не будем утруждать кисть, живописуя этого и прочих персонажей, играющих важную роль в нашей истории: пусть запечатлеются их дагерротипы непосредственно в глазах самого читателя и в свете собственных их слов и деяний по мере развития нашего повествования.
О нашем студенте расскажем немного подробнее. Итак, числился он студентом; а в те времена сказать «студент» было почти то же самое, что сказать «клирик», слова эти означали почти одно и то же. Одежда его была отчасти на церковный лад, отчасти на мирской и также говорила о неопределенности его положения. Легче всего давались ему фехтование, стрельба из арбалета, искусство верховой езды и все рыцарские занятия, но все же он мог похвалиться некоторой образованностью и тем, что не совсем зря потратил время, которое достаточно неохотно — призна́ем правду — уделил и продолжал уделять урокам Пайо Гутерреса, архидиакона из Оливейры, знаменитого наставника юношества в ту пору; и надо сказать, что этот чертенок Васко был его любимцем, хотя прилежание выказывал малое и лишь по временам.
Я сказал — по временам, потому что ему случалось на протяжении целой недели, а то и нескольких удерживать за собою звание лучшего среди всех студентов, появлявшихся в крытых галереях собора, и хотелось ему то стать лекарем и получить степень доктора, то стать каноником и даже самим папой при возможности. Но вдруг находил на него новый стих, и он клялся святым Варравой,{33} что либо добьется рыцарского пояса с мечом и золотых шпор, либо уж лучше ему податься в третье сословие, стать горожанином с тугим брюхом и тугой мошной, так ему легче будет добиться разрешения на брак с Жертрудиньяс, что, в сущности, было единственной постоянной или почти постоянной мыслью в переменчивом его уме.
Как все люди с пылким характером, у которых чувство преобладает над мыслью, Васко метался от одной крайности к другой. Его честолюбие свершало зигзагообразные скачки от преимуществ знатности к славе ученого, а от нее к званию любимца народного; то жаждал он стать графом или вельможей, епископом, лекарем или мужем науки, то мечтал о поприще вождя толп, трибуна горожан, дабы серпом мятежа срезать под корень те самые преимущества и привилегии, которые больше всего его соблазняли.
В момент, о котором рассказывает наша история, он был помешан, преимущественно, на мысли стать лекарем и добиться таким образом руки Жертрудиньяс. Но девушку воодушевляли прежде всего любовь к отечеству, приверженность к королю дону Педро и, соответственно, ненависть к епископу; а бедняга Васко, самый славный из юношей, когда-либо попадавших в подобные передряги, состоял при особе епископа, зависел от него и пользовался его покровительством.
Бедный добрый малый, ему было отчего печалиться!
Поговаривали, что во всех заблуждениях и горестях он всегда мог рассчитывать на надежного заступника, таинственное покровительство которого сказывалось самыми разнообразными способами.
Таинственный этот заступник, кем бы он ни был, скрывался где-то на другом берегу реки, в кривых переулках Гайи, где и отыскивал его Васко.
Но кем он был, как помогал ему, чем?
Проследуем покуда во внутренние покой Епископского дворца, где исчез студепт.
Глава VI. Высоконравственная беседа
Я сказал уже, что наш герой вышел из приемной епископа через потайную дверь; но не сказал еще, куда эта дверь вела. Сейчас поясню. Итак, Васко вошел в упомянутую дверь, осторожно прикрыл ее и, неслышно ступая, двинулся по узкому темному коридору, но шел он уверенно, как человек, давно знающий дорогу, и остановился около еще одной двери, откуда отчетливо слышались голоса — ничуть не приглушенные голоса людей, которые либо не имеют надобности хранить тайну, либо уверены, что их не подслушивают.
Один из собеседников говорил:
— Помоги нам всевышний, да уродится изобильно виноград в южных провинциях, дабы верующие расщедрились и прислали нам в монастырь что-нибудь получше, чем то молодое вино, которым мы там угощаемся сейчас, ибо даже мою францисканскую глотку оно дерет…
— А что вы скажете об этом, отче?
И послышалось бульканье вина, льющегося из кувшина в кубок.
— Такое вино редкость даже на епископском столе, а ведь епископы — прелаты с мирскою властью и князья церкви… что уж говорить о трапезной жалких монахов! Но я вот о чем: все, что я вам рассказывал, мой святой и великодушный прелат, — сущая правда, клянусь благословением божиим. Король отбыл из Коимбры два дня назад и направляется в Порто.
— А нам, почтенный брат, известно нечто противоположное, причем из писем, присланных сегодня: король отправился на охоту, выехал в поле и покуда не пожалует в наш добрый город. Да если б и пожаловал… мне дела нет.
— Вон оно как!
— Мне дела нет до него и до его власти. Я у себя в феоде такой же сеньор, как он в своем королевстве. Но, по правде сказать, лучше было бы, если бы он остался у себя. Слишком уж он беспокойный, наш король и повелитель, слишком любит совать нос в чужую жизнь… А вот кто меня заботит, так это наш юнец, наш Васко. Не знаю, что у него в мыслях, но что-то недоброе. Он уже не такой веселый и резвый, не выезжает на охоту, не доводит до изнеможения всех лошадей моей конюшни, как раньше бывало… Эта проклятая ведьма из Гайи… что, если она ему сказала? Да нет, быть того не может. Сплоховал я, не сжег ее на добром костре…
— Вы, сеньор, отправили бы на костер ведьму из Гайи?
— А почему бы и нет? Если бы не этот треклятый Пайо Гутеррес. Но, признаться, я его побаиваюсь. Может статься, этот лицемер и погубил мне мальчика? Ну, если я удостоверюсь, что так оно и есть…
— Васко ничего не знает, сеньор, не тревожьтесь и положитесь на меня во всем, что касается юноши.
— Вы моя правая рука, брат Жоан. А левая — этот миловидный паж, мой сборщик податей. Эй, Перо Пес, как у вас там дела, вы готовы? Моя верная и усердная овчарка, отвечай — пригонят ли нынче ночью в овчарню ослушливую и строптивую овцу, которая отвергает наши пастырские ласки и попечения?
— Все готово, сеньор мой, и пора приступать к делу.
— Тогда, как говорит пословица, сперва в битву, потом на молитву.
Послышался шум и беспорядочные звуки шагов, словно несколько человек одновременно встали и задвигались по комнате. Васко не стал больше выжидать, возможно, уже услышав то, что хотел услышать: он трижды стукнул в дверь особым образом, на манер условного сигнала. Шум тотчас же прекратился, и кто-то воскликнул в волнении:
— О! Это Васко.
И дверь отворилась. Васко вошел.
— Добро пожаловать, сеньор студент. Я уж боялся, мы вас нынче не увидим. Наш будущий каноник не очень-то балует наш дом своим присутствием.
И епископ, ибо говорил эти речи именно он, направился к юноше, причем все лицо его выказывало явное удовольствие, свидетельствовавшее о том, что он питает к юноше особую привязанность.
Васко, как то в обычае у избалованных юнцов, обратил мало внимания на эти знаки благоволения; не отвечая важной духовной особе, удостоившей его таким приемом, и словно не замечая окружавших епископа людей, он подошел к столу и воскликнул:
— Ого! Ужин-то сегодня был отменный! Как пироги, не остыли, можно еще их есть?
И без дальнейших церемоний он плюхнулся на один из громоздких стульев, стоявших вокруг стола, и принялся за эти восхитительные пирожки с мясом, которые и доныне являются славой пирожников «вечного города» и ведут свое почтенное происхождение, как выяснилось только что из сей правдивейшей истории, ни более ни менее как из епископской поварни.
Я давно это подозревал: ибо столь лакомое блюдо — а пирожки эти воистину один из лучших и вкуснейших деликатесов, какие только едят на доброй португальской земле! — могло быть плодом кулинарного искусства лишь некоего гения времен монархии.
Эти строки, разумеется, вызовут смех у наших поклонников всего иноземного, этих паломников, которые отправлялись в Пале-Рояль{34} и стояли, разинув рот и пуская слюнки, перед витринами мадам Шеве и клялись, что нет ничего превыше ее пирогов… но, принеся сию клятву, шли обедать подогретым рагу из вчерашних объедков ценою в двадцать су.
Так знайте же, мои презрительные и элегантные сеньоры, что мне случалось вкушать обеды, приготовленные месье Пижоном, Парацельсом ресторации, а вернее Реставрации, каковой посредством чудотворной своей алхимии шесть лет повелевал миром из кухни заведения месье Виллеля.{35} О да, мне выпала честь поклоняться сей звезде гастрономии и политики в пору ее заката: я заплатил дань восхищения новому Вателю,{36} который как дипломат превзошел и перещеголял старого… и, однако, даже его искусство было невластно изгнать у меня из памяти непритязательные и домашние пирожки моей родины…
Сдается мне, я олух, и превеликий.
Вернемся же к нашей истории.
Юноша ел не без аппетита, как едят обыкновенно в этом счастливом возрасте; и епископ с улыбкой на устах и во взгляде созерцал его с величайшим удовлетворением.
— Вы несколько злоупотребляете, Васко, — сказал тучный краснорожий монах, который, судя по всему, не был склонен относиться к бесцеремонности юноши с той же чрезмерной снисходительностью, — вы несколько злоупотребляете, Васко, добротою, которую выказывает к вам наш святой прелат.
— За ваше здоровье, брат Жоан, мой почтенный дядюшка!
И, дважды плеснув вина из кувшина в кубок, юноша наполнил его до краев, затем, осушив вместительный сосуд более, чем наполовину и прищелкнув языком — действие, которое англичане обозначают весьма удачным звукоподражанием smak,[8] — сеньор студент промолвил с расстановкою:
— Славное винцо! Сыщется ли такое выдержанное и с таким букетом в Саламанке?
— И слышать больше не хочу о Саламанке, — прервал его епископ, сразу помрачнев. — Не поедешь ты туда, клянусь жизнью! И я не разрешу, и твой дядя. Мы хотим, чтобы ты стал добропорядочным каноником… Человек твоей крови рожден не для того, чтоб отворять кровь мулам и простолюдинам.
— Ага, так я, стало быть, таких кровей, что… А молодчики из соборного хора честят меня подкидышем… малым без роду-племени! Ладно, выясним-ка, что же я за знатная и высокородная особа.
Епископ, в порыве страсти явно сказавший больше, чем ему хотелось бы, позаботился о том, чтобы отступление получилось не таким беспорядочным, как атака.
— Вы отлично знаете, Васко, что я дозволяю вам слишком много вольностей и что вы делаете со мной все, что хотите… Но на одном я настаиваю: вам суждено стать клириком, вы станете клириком и каноником с постоянным доходом при нашем святом соборе, если будет на то воля божья. И заживете привольно и припеваючи, потому что, к счастью, уже миновало время церкви ратоборствующей… Оно и лучше, ныне мы принадлежим к церкви торжествующей. Такова воля брата Жоана, вашего дядюшки, а его попечению вас вверила ваша мать в смертный час, Васко… и такова же моя воля, ибо отец ваш был благородным сеньором из Риба-Дана… лучшим другом, какой когда-либо у меня был… он пал в битве за Тарифу{37} от мавританских копий… и… и…
— И все такое прочее. Но, сеньор дядюшка и сеньор епископ, я отменно поужинал; а сейчас меня ожидают несколько молодцов, все ребята не промах и мои друзья-приятели, они из Вал-де-Аморес, и мы договорились переправиться на тот берег Доуро, поохотиться по зорьке на горлиц в сосняках… А у меня ни денег в кармане, ни коня в поводу. Если уж мне и думать нечего о Саламанке, то, по крайней мере…
— Перо Пес, выдать три доблы{38} этому сорванцу, раз уж так он заморочил меня, что ничего мне не поделать… и распорядитесь, пусть конюхи оседлают ему гнедого, которого мой почтеннейший брат прислал мне из Куэнки. По моему разумению, во всей Испании не сыщешь коня краше по виду и крепче по стати.
— Iube, Domine, benedicere![9] — протянул на манер и тоном певчего шалопай Васко, молитвенно сложив ладони и поклонившись прелату с комической торжественностью, словно клирик на хорах, собирающийся пропеть свою часть.
— Бездельник!
— Многие лета нашему святому прелату! А теперь дайте мне благословение, остальное я уже получил. Теперь бы еще щелкнуть вам пальцами разок-другой, езжай, мол, в Саламанку и ее пещеры, вот где алхимия, так алхимия! Серафический дядюшка, поручаю себя вашим покаянным молитвам. Идем, Перо Пес, я не в силах больше ждать, пошли.
Что за кони ржут в конюшне И копытом оземь бьют? Это ваши кони, рыцарь, Вас нетерпеливо ждут.И с этой песенкой он вышел, подталкивая перед собой несуразную фигуру Перо Пса, епископского сборщика податей, заодно исполнявшего еще две высокие должности, явно — мажордома и втайне — меркурия.
Перо Пес посмеивался вымученным смешком, ибо недолюбливал юношу… но обращал лицо к епископу, дабы тот увидел, как беззубый рот его кривится в ухмылке… кривится в этой глупой и злобной ухмылке, которая свойственна тупоумным мерзавцам и является самой гнусной разновидностью смеха из всех, существующих в природе.
Сам же прелат, не склонный к аскетизму, смеялся с удовольствием и от души, провожая взглядом юношу, он промолвил:
— Отпусти поводья гнедому и не пришпоривай его, он благородных кровей и не потерпит наказания. Да погоди, Васко, сынок, пусть в оружейной дадут тебе мой лучший арбалет… тот, с которым выезжал я на королевские охоты, когда…
Но юноша не слышал, он уже выбежал из комнаты настолько стремительно, насколько это было возможно, волоча за собой Перо Пса; ему явно не терпелось.
— Сразу видно, что за кровь течет в его жилах! Охота и верховая езда — для него наслаждение. Мы сделаем из него отменнейшего каноника… А теперь, друзья мои и верные слуги, все за дело!.. Хорошо, что нашему студенту так удачно и ко времени взбрело в голову отправиться на охоту: этой ночью он был бы здесь лишним…
— Если будет мне дозволено сказать свое мнение, сдается мне, что вы разрешаете ему слишком уж по-хозяйски пользоваться вашей привязанностью и не сможете приструнить молодца, когда захотите.
— Не бойтесь, он доброй породы, и в свой срок оно скажется. Строгостей он и сам бы не потерпел, да и мы бы на то не отважились. Вы думаете, с мальчуганом возможно притворство? Он знает нас вдоль и поперек… Intus et in cute:[10]{39} по-моему, так гласит латинская поговорка, если я еще помню что-то из латыни, знал я ее плоховато… Доброй ночи, достопочтенный брат. Завтра мы побеседуем обстоятельнее.
Глава VII. Гнедой
Итак, в кармане у Васко были доблы, добрые доблы времен короля дона Педро, самые полновесные и надежные из всех золотых монет, которые когда-либо чеканились на этой земле вплоть до того времени, воистину золоченого, когда получили хождение до́бры и добро́ны короля дона Жоана V;{40} и, позванивая ими, Васко вступил в епископские конюшни в сопровождении хмурого Перо Пса.
— Где же он, где же мой любезный гнедой?
И, не дожидаясь ответа, пошел между стойлами, занятыми лошадьми и мулами, в поисках хваленого и желанного скакуна; ему уже не терпелось сжать коню бока коленями и понестись вперед, побеждая пространство.
— Вот он, вот он! — И юноша обвил руками шею славного животного, которое, казалось, понимало ласковые слова и отвечало приветливым и осмысленным ржанием, словно повинуясь пресловутому животному магнетизму,{41} благодаря коему устанавливается эта необъяснимая, но бесспорная связь между двумя родственными натурами.
Оба они, и молодой всадник, и молодой скакун, были бесстрашны, резвы, неосторожны, беззаботны, обоих смутное стремление влекло в неоглядные просторы, и оба чувствовали, что созданы друг для друга, что оба повинуются зову, побуждающему их очертя голову ринуться навстречу неведомым приключениям.
Конюхи взнуздали и оседлали коня, дивясь его покорности. Васко одним прыжком вскочил в седло, слившись с гнедым воедино и телом, и душою, словно две половины кентавра античности, прежде разлученные, воссоединились наконец, чтобы зажить своей естественной и первобытной жизнью.
Конь крупной и уверенной рысью помчался по плохо замощенным и скользким кручам, которые прадеды наши, в простоте душевной, величали улицами.
Васко миновал Вандомские арочные ворота, где Гаски и их епископ Нонего поместили чудотворное изображение Богоматери,{42} покровительницы нашего города; это изваяние — герб Порто; затем студент проследовал к воротам, которые теперь зовутся воротами святого Себастьяна, и оттуда выехал на все ту же улицу Святой Анны. Он остановился близ арки, увидел, как приоткрылись створки ставней, и расслышал слова, произнесенные тихо, но внятно:
— Хорошо! Спеши же. И ни слова более.
Васко разглядел взметнувшийся в воздух белый платок. Платок падал вниз; Васко подхватил его на лету, почтительно поцеловал и спрятал у себя на груди. Ставни затворились, и он продолжал путь.
Он уже подъезжал к городским воротам, которые об эту пору наверняка не отворились бы для кого-то другого, но тот, кто прискакал из Епископского дворца верхом на великолепном коне, известном всему городу, племянник Жоана да Аррифаны, любимец самого прелата, — у кого мог он вызвать подозрения? Отворили ему ворота и пошли будить лодочников, чтобы переправили его на тот берег Доуро.
Васко ожидал перевозчиков на берегу: под ногами у него был сырой песок, он глядел на журчащие воды реки, прислонившись к гнедому, стоявшему так же неподвижно, как его хозяин, и оба, казалось, размышляли. Печальной и унылой казалась поза студента, печальны и унылы были его размышления. Куда он направляется? Что собирается делать? Что-то выйдет из всех этих опасных приключений, в которые он впутался смеясь и шутя и от которых был теперь не властен уклониться, ибо в своем стремительном водовороте они неотвратимо несли его к неведомым безднам, доныне не представлявшимся ему даже в воображении, — и вот они разверзли перед ним чудовищные пасти, собираясь, быть может, поглотить его, а то и, как знать, погубить то, что ему всего дороже, всего ближе его сердцу.
Слепая любовь к прекрасной Жертрудиньяс, пылкая приверженность делу горожан, которое так близко к сердцу принимала она, ненависть к утеснителям родного края — и в то же время тайный голос, идущий из самой глубины сердца, заступался за неправедного епископа и жестокого властелина, который по отношению к нему, Васко, всегда был сама доброта, сама снисходительность, неизменно и безотказно!..
Каково бесхитростному юношескому сердцу, еще не очерствевшему в столкновениях с несправедливостями света, питать, таить в себе столь взаимоисключающие склонности и чувства? Настанет время, и сердце юноши изведает разочарования, коварства любви, измены друзей и жестокие уроки всеобщего эгоизма, все это изведает оно, и холод оледенит душу, она перестанет быть подобием создателя, ее сотворившего, станет безобразным и увечным изделием злого демона, ее изуродовавшего.
Время это настанет, но оно еще не настало. Васко впервые испытывает терзания. Его усадили уже на пыточную кобылу, но палачи не взялись еще за дело…
— Кто идет? — закричал Васко, обращаясь к человеку, который приближался к нему, огибая глинобитные домишки, теснившиеся к городской стене.
— Это я, Васко.
— Вы — и вдруг здесь, Руй Ваз! Только что, когда я уходил от епископа, вы стояли там на карауле!
— Нашелся добрый приятель, согласился постоять за меня, а я поскорее бросился сюда, чтобы успеть сказать вам до вашего отъезда…
— Что же именно?
— Что мне известно, куда вы направляетесь. Между нашими было условлено, что поедете вы; там, куда вы прибудете, вы узнаете вести, касающиеся нас всех. Но, сеньор Васко, молодой господин, прежде чем двинуться в Грижо́, поговорите сперва с нею.
— С кем это — с нею?
— С ведьмой из Гайи, с кем же еще.
— Нет, этого я не сделаю. Я поклялся, что не буду ни останавливаться, ни отдыхать, покуда не выполню обещанного. Сначала я должен побывать в Грижо́, потом…
— Потом? Пусть будет так. По возвращении из Грижо зайдите в часовню святого Марка, и там вы встретите человека, который расскажет вам то, чего я не могу рассказать здесь и сейчас.
Но тут подошли перевозчики, Руй Ваз скрылся, подобно тени, а Васко с гнедым взошел на лодку-савейро,{43} каковая и переправила их в новую часть города.
Время, затраченное на все то, о чем мы рассказали, и на стремительную скачку от прибрежья Вила-Новы до холма, именуемого Бандейра, составило в целом менее часа. Стояла еще ночь, воистину ночь, глухая и непроглядная, когда добрался он до этого холма, который приобрел такую известность ныне,{44} в ходе наших кровопролитных гражданских междоусобиц.
Пусть же сеньор студент следует своим путем, подобно тому как я сам следовал своим, — столько раз, на куда менее резвых скакунах и куда более медлительно, — когда, охваченный смертной тоской по моему родному Доуро, добирался на пресловутом наемном муле, семенившем мелкой рысцой, до приветливых берегов Мондего, которые так проклинало неблагодарное мое сердце;{45} а ведь за всю мою жизнь на этом свете мне на долю не выпадали дни счастливее тех, что провел я там в невинную и беззаботную пору безмятежной студенческой жизни.
Глава VIII. Парламент, прения
Пусть же следует своим путем сеньор студент, а мы — и повествование наше — вернемся к тому месту, где его начали и где сосредоточился, как в фокусе, весь интерес сей правдивейшей истории.
На улице Святой Анны и под благословенной ее аркой еще отдавалось звонкое цоканье копыт епископского гнедого, резво несшего к берегу реки своего юного седока, который был ему легким бременем, когда чьи-то смутные фигуры — сначала одна, потом две, вот уже их три, шесть, всего же набралось двенадцать, а то и пятнадцать — стали появляться из соседних улочек и переулков; они двигались тихохонько, словно разбойники, подстерегающие случай добраться к сроку до места сбора, откуда двинутся они на ночное дело, что обмыслили загодя и во всех тонкостях.
Все они так плотно кутались в длинные темные плащи, что в густом ночном мраке было почти невозможно разглядеть крадущиеся фигуры. Место сбора было неподалеку от арки, и после сигнала, явно условленного заранее, чей-то голос проговорил:
— Все пришли?
— Все, Перо Ваз!
— Потише! Нет здесь ни Перо, ни Пайо. Кто принес отмычку?
— Я, она только-только с наковальни, остыть не успела. К тому же, покуда я ее отковывал, все пальцы себе обжег.
— Не злись, это дьявол свою пробу поставил. Он тебя и больней припечет, когда душу твою заполучит, кузнец проклятый…
— Это когда еще будет… Хотя не скажу, что не будет совсем… Притом, что спознался я с такой честной братией, да и добрые буллы{46} получу из собора и из Епископского дворца.
— Молчи ты, как бы от церкви тебя не отлучили…
— Это кто же меня отлучит?.. Понял, наш епископ собственной особой.
Тут раздался общий хохот, почти не заглушенный плащами, в которые были закутаны собравшиеся: столь удачным показалось им замечание кузнеца.
Перо Пес — читатель уже понял, что это был он, — и остальной подлый сброд, который составляли сборщики податей и разные епископские прихвостни рангом помельче, словно по команде одновременно и в один голос зашикали, и свистящий звук прорезал тьму. Затем наступило недолгое молчание.
— Потише вы! — сказал Перо Пес. — Вот когда дело будет сделано и вернемся мы во дворец, потолкуем обо всем об этом и всяк скажет, что на ум ему придет и в голову взбредет. Есть там один бурдючок из тех, что получили мы вчера, когда выплачивалась десятина, я его взвесил на совесть, можете мне поверить, с его помощью даже тупица из тупиц станет острословом. А теперь за дело, пора уже, и наш… наш… наш пастырь с нетерпением ждет овечку. Вперед, овчарочки мои!
— Пастырь, пастырь… А кто же тогда волк?
— Какая тебе разница, пастырь он или волк, он же платит тебе, верно?
— Платить-то он платит, и по-княжески!
— Князь церкви, что и говорить!
— Припомнилось мне, Перо Пес…
— Сказано тебе, нет здесь ни Перо, ни Пелайо.
— Да, дело из опасных. Когда завтра станет известно всему городу Порто о злодействе, что нынче ночью будет учинено поблизости от арки святой Анны… поручусь, не придется людям спорить да гадать, кто же это злодеяние учинил. Все сразу скажут в один голос, и тузы, и мелкая сошка: «Это дело рук Перо Пса, на такое только он, проклятый, способен!»
— Клянусь Богоматерью Силваской, а она посвятее будет и поглавнее, чем эта самая святая Анна, у которой нынче я ничего не прошу, потому как по соседству с нею мы содеем недоброе… И клянусь всеми наиглавнейшими и наиважнейшими святыми и всеми их изваяниями и мощами, — сколько есть в благословенных пределах нашего собора!.. — что этот вот охотничий нож вонзится в глотку первому же, кто произнесет мое имя.
Все прикусили языки, ибо знали, что Перо Пес — человек слова… и дела тоже!
Но спорщик, затеявший разговор, который мы излагаем, не отступился:
— Ладно, не будем больше поминать это имя, раз такое оно запретное. Не хочется мне, чтобы ты пропорол меня своим охотничьим ножом… да и тебе не особенно захочется свести знакомство с этим вот кривым кинжалом… я собственноручно его выковал, закалил и наточил… а лезвия моей работы покуда пробивали и железо лучших миланских нагрудников, и строченые доспехи буйволовой кожи из Венеции… Ладно, что об этом толковать. Я вот что хотел бы знать: когда мы, добрые простолюдины… — не унес бы в недобрый час Вельзевул наши души, словно они дворянские!.. — когда мы, злосчастные простолюдины, продаем душу твоему сеньору… и дьяволу, потому как это одно и то же, и оба потребуют с нас своей доли, когда подойдет время… хочу узнать, когда продаем мы им эдаким манером душу, поступая вопреки совести и грабя народ в податных палатах, значит ли это, что мы еще должны бродить глухой ночью по домам наших данников и горожан нашего города и воровать у них жен и дочерей, чтобы услужить все тому же дьяволу или все тому же…
— Хватит тебе бить молотом все по той же поковке, кузнец, вижу я, куда ты клонишь. Нынешняя услуга — особая статья и будет оплачена и вознаграждена особо. Не сомневайся. Мы купим твою душу дороже, чем она стоит. Боюсь, не даст мне дьявол расписки за такие деньжища.
Спорщик не унимался, бормотал что-то обиняками про свою совесть, про то, что недовольные простолюдины правы, и про то, что надлежит делать всякому горожанину и честному человеку, если хочет он спасти свою душу и покаяться.
Перо Пес, ловкий политик и деятель почти парламентского образца, увидел, что прения принимают слишком серьезный оборот и могут оказать на большинство деморализующее действие. А потому он постарался выставить дело в пошло комическом виде, прибегнув к грязной и святотатственной шутке; с помощью сего приема, столь избитого и столь безнравственного, он отвлек от серьезных размышлений своих соратников, души коих не отличались тонкостью: всегда и во всех слоях общества найдутся души такого склада, их обладатели способны зубоскалить и смеяться среди худших злодейств.
В наши дни другие парламентские сборища куда более высокого пошиба, — не чета тому, каковое имело место близ арки святой Анны в Порто, — были свидетелями того, как во время подобного рода прений, подготавливавших не менее позорные дела, паясничал с трибуны некий государственный деятель, подстрекая подло и жестоко к величайшим преступлениям, и при этом он изощрялся в плоских шуточках и корчил гримасы, как слабоумный, дабы рассмешить — и это в грозный миг общественной тревоги — своих сообщников, не менее грубых и продажных, чем сообщники Перо Пса, от коих отделяло их четыреста лег.
По длительному, хоть и натужному смеху «благородных» соратников Перо Пес понял, что достиг своей парламентской цели; воспользовавшись благоприятным и удобным моментом, он закрыл прения, подсчитал голоса и объявил:
— За дело, хватит разговоров, пора действовать. Вы, — тут он назвал имена шестерых из своей шайки, — будете сторожить с задней стороны дома, чтобы овечка не скрылась от нас черным ходом. Мы войдем отсюда молча и бесшумно, как тени. Давай сюда ключ.
Он взял ключ, поплотней закутался в плащ и через десять — двенадцать минут ожидания, заполненных пугающим безмолвием, внезапно оказался у подножия арки и сунул отмычку в дверь дома, примыкавшего к ней слева… Дверь открылась… и Перо проследовал вверх по лестнице с двумя сообщниками, оставив остальных у дверей в качестве караула и подкрепления.
Глава IX. Бунт
Следующий день с самого рассвета был погожим и ясным, как и положено в апреле; туманная пелена, на заре всегда расстилающаяся над Доуро, рассеялась ранее, чем обычно. Восходящее солнце залило светом самые темные и унылые закоулки Порто. Наша улица Святой Анны тоже впитывала в узкие и глубокие свои извивы живительное сияние. Был восьмой час: створки ставен в доме справа от арки святой Анны уже не раз приотворялись, и живые сверкающие глаза пылкой Жертрудес пристально вглядывались в окна дома напротив, еще закрытые.
У Жертрудес на душе тревожно, она и сама не знает почему; ее беспокоит безмолвие этого дома, — хоть обычно он начинает являть признаки жизни не так уж рано. Разумеется, Ана встает со своего унылого и одинокого ложа спозаранку, с рассветом; но ей приходится много часов трудиться дома, чтобы справиться с многочисленными хозяйственными заботами, и лишь потом выходит она к двум любимым соседкам, которые всегда являются ей на помощь, к доброй святой, своей заступнице, и к доброй подруге, своей радетельнице.
Но пробило семь, пробило восемь, вот-вот пробьет девять… а ставни на окнах Аниньяс все еще закрыты. Нетерпение Жертрудес усиливается, усиливаются и опасения… Что-то случилось… и нужно выяснить, что же именно.
Честный Мартин Родригес, добропорядочный и толстобрюхий медник с улицы Святой Анны, отец нашей Жертрудес, истинное олицетворение и типический образ зажиточного представителя третьего сословия, составляющего основное население сего города, давно уже отправился в палату Совета, где занимал первое курульное кресло,{47} поскольку достойный муж был облечен должностью судьи этого края. Жертрудес была одна. Старуха, составлявшая ей компанию и помогавшая по хозяйству с тех пор, как отец овдовел, ушла еще до света на заутреню, а поскольку она во исполнение своих обетов должна была побывать на великом множестве месс, кратких служб, девяти- и тринадцатидневных стояний, ей пришлось проделать немалый путь, да еще замешкалась она в соборных часовнях, где находятся изваяния святого Гонсало, и святого Иакова, и Богоматери Силваской, и Богоматери до О, и прочих святых угодников, коих она особливо почитала, и таким образом утро ее обычно завершалось часам к десяти, пора, когда оно еще и не начинается для сонливого нынешнего племени.
Жертрудес не в силах ждать дома: она бегом спускается по крутой лестнице, одной из лестниц того ужасающего образца, коих немало еще осталось в нашем славном краю, и устремляется в мастерскую, где подмастерья и ученики ее отца звонко, хоть и не в лад, постукивали молотками по красным и желтым поковкам, составлявшим гордость и славу — весьма громозвучную, надо признаться, — мастера Мартина Родригеса.
Жертрудес была любимицей и предметом восхищения и поклонения всех циклопов с улицы Святой Анны{48} и соседней улицы Баньярия. Подмастерья и ученики отца обожали ее. И не только потому, что она была добра и обо всех них пеклась, но еще и потому, что она внушала необычное почтение, ибо представлялась им особою высшего разряда, возведенной в дворянское достоинство по милости, так сказать, достоинств природных (да простится мне изысканность сего выражения), а дворянство такого рода — самое редкое, самое ценное и самое истинное, хоть и не подкреплено ни родственными связями, ни родословными книгами.
Едва только медники мастера Мартина завидели белоснежное платье прелестной его дочери и заметили призывающий к тишине взмах руки ее, которая была еще белее платья, как все молотки замерли в воздухе и адская музыка оборвалась.
— Кто из вас видел сегодня: входили какие-нибудь люди в дверь дома напротив? Выходили оттуда?
— В дверь дома напротив? Дома, что принадлежит златокузнецу?
— Да.
— Сегодня, стало быть… Я — то… не примечали мы… А верно ведь… До сих пор закрыто все…
— Пусть кто-нибудь пойдет поглядит… Постучит, толкнется в дверь… Пусть высадит дверь, если понадобится…
Не кто-то один — все бросились к двери. Жертрудес, стоя на пороге мастерской, в тревоге ждала.
Постучали в дверь — никакого ответа. Стали молотить по ней своими молотками, оглушающими как набат, — никакого ответа.
— Сорвите дверь с петель! — вскричала Жертрудес.
Повторять приказ не пришлось: засов оказался непрочен или был плохо задвинут, и дверь поддалась, едва на нее нажали.
Две секунды спустя один из циклопов уже отворял окно нижнего жилья; лицо у него было испуганное, бледное, вполне подходящее к случаю, как говорится; он произнес:
— Здесь никого нет.
— Никого!.. — повторила в ужасе Жертрудес. — Угадывало правду мое сердце… Бедная Аниньяс! Увели ее, увели ее, проклятые…
Перейдя улицу, она вошла в дом подруги и в одно мгновение пробежала по всем горницам. Внизу никого не было… она поднялась наверх. Какое зрелище представилось очам доброй Жертрудес!
Малютка двух лет, еще голышом, самостоятельно выбравшись из колыбельки, беззаботно играл с любимым котом, который, словно чуя, что о дитяти некому позаботиться, резвился и скакал что было мочи, как будто старался предотвратить плач.
Жертрудес взяла крошку на руки, второпях набросила на него кой-какую одежду, оказавшуюся под рукой, и сказала своим:
— Кто-нибудь пусть останется сторожить этот дом, остальные пусть пойдут за моим отцом. Ох, Аниньяс, Аниньяс! — И она не смогла больше сдержать слезы.
— Но что случилось, сеньора?
— Что случилось? Что могло случиться? Вы что, не знаете Перо Пса?
— А, Перо Пес, Перо Пес… И верно, он, треклятый, все крутился здесь последние дни… Видно, епископ, зверь этот, приказал ему выкрасть Аниньяс, кто не верит, пускай сам поглядит. Так оно и было. Так и было, так и было, нечего тут глядеть, не о чем толковать!
— Какой позор для нашей улицы!
— Для нашего города!
— Для всего нашего края!
— Это им даром не пройдет!
— Не пройдет, не пройдет!
— Смерть им, псам, особливо же псам по кличке Перо! Смерть каноникам, епископам, сборщикам податей и наушникам и всей этой вельзевуловой шайке!
— За меньшее поплатились они десять лет назад, когда мы ворвались в Епископский дворец и прикончили двух его слуг-злодеев.
— Сюда, люди короля, сюда, люди короля, похищена жена Афонсо де Кампаньана, добрая Аниньяс, честная Аниньяс!
Кто-то из подмастерьев сбегал в мастерскую, отыскал там поковку позвонче и давай бить в нее молотом; сей набат — да еще вкупе с восклицаниями и проклятиями ремесленников — оказался столь громозвучным и быстродействующим, что вскоре под аркою преславной святой Анны собралась толпа; то была истинная émeute[11] — вспышка простонародного бунта, и притом самая неистовая со времени войн принца дона Педро против собственного отца{49} либо со времен последнего мятежа, когда простолюдины дорого поплатились за попытку собственными силами учинить правосудие над епископом, повелителем, властным отлучить их от церкви.
Жертрудес вернулась домой с беспомощным младенцем подруги на руках. И, показывая его из окна народу, она раздувала благородное пламя, которое — под воздействием негодования, вызванного актами произвола, — неизменно вспыхивает в наименее развращенных классах общества… их именуют низшими, эти классы, и они действительно таковы, если высшие — те, кто достигли «высот» подлости и холодного эгоизма, ибо в их мире властвует лишь корысть…
Толпа становилась все многолюднее, необычная история переходила из уст в уста, и возмущение росло при воспоминании о бессчетных низостях и гнусностях, которые совершались одними и претерпевались другими все последнее время… Послышались жалобы на бремя налогов и на бремя оскорблений, тоже налагаемое на всех, хоть и не поровну, — словом, все речи, что неизменно раздаются в недолгую пору народных волнений, ибо тем, кто постоянно сносит гнет, голос инстинкта говорит, что нужно воспользоваться моментом возмездия и кары, ибо утеснение длится века, а свобода — мгновения.
Большая часть жестокостей и несправедливостей, совершенных народом, — а они все равно остаются жестокостями и несправедливостями, — объяснимы в свете этой теории о грозном инстинкте народа, не обманывающем его, но порою помрачающем ему рассудок.
Глава X. Законные представители
В разгар возбуждения и гомона пожаловал к себе домой на славную улицу Святой Анны мастер Мартин Родригес в сопровождении своего коллеги и alter ego,[12] второго общинного судьи. Оба они год назад, в день святого Иоанна, были назначены на эти должности епископом из числа восьми кандидатов, избранных горожанами.
Добрые и рассудительные вершители правосудия решились наконец пойти поглядеть, что происходит, — и приглядеть за тем, как оно происходит.
— Долгие лета нашему судье! — загремела толпа, таков еще один ее инстинкт — толпе всегда нужен кто-то, кого чествовать и славить… хотя потом его могут побить каменьями.
Городские судьи с достоинством прошествовали между двумя рядами людей, которые теснились вдоль узенькой улочки, освобождая им путь, и вошли в дом Мартина Родригеса, дабы рассмотреть и тщательно обдумать дело.
— Слава богу, что пришли вы, сеньор отец! Стыд какой — народ собрался и кричит, требуя правосудия, а судьи нет как нет!
— Мне приятно слушать вас, дочь моя: вы красноречивы и разумны. Но будьте осмотрительней, Жертрудес: вы ведь моя дочь, а не дочь какого-то простолюдина! Дочь члена Совета, гражданина, коему сограждане вверили охрану своих прав и привилегий и попечение об оных, не должна вести неосторожные речи. Народ кричит?.. Пусть себе кричит.
— Пусть себе кричит?.. Отец!
— Я хочу сказать: народ не может кричать и не должен кричать; его крикуны — это мы.
Сия конституционная теория, считавшаяся в четырнадцатом веке чрезвычайно консервативной, в наши дни расценивалась бы как теория, в высшей степени демагогическая и крамольная, если принять во внимание колоссальные успехи просвещения, великие достижения нашей цивилизации и недавно обретенные нами привычки свободы…
— Но, сеньор отец, если их обижают, если всех нас обижают, мы, стало быть, должны подождать с жалобами… до каких же пор?
— До тех пор, покуда мы, члены Совета, пользуясь властью, каковая была нам доверена, и правами, каковые были нам предоставлены в тот час, когда все сообща избрали немногих, восчувствуем горю их, восстраждем за них… и поразмыслим, призвав всю свою мудрость и без спешки, над тем, как следует составить жалобу.
— О сеньор отец, а если вот этот невинный младенец окажется при смерти, лишась материнской заботы, кто придет ему на помощь при этакой осторожности и неспешности?
И с этими словами пылкая Жертрудес показала отцу младенца, сидевшего у нее на руках и не сводившего с нее глаз, словно он взывал к ней с мольбой как к единственной своей защитнице и заступнице.
— Чей это сын, Жертрудес? Сущий херувим! Поглядите-ка на него, кум мой Жил Эанес! Кто родители этого миловидного мальчугана, Жертрудес?
— Ах он, херувим, прелесть моя! — воскликнул тут еще один голос, хорошо известный в доме, но еще незнакомый любезному читателю. Принадлежал он не кому иному, как самой тетушке Бриоланже Гомес, доброй женщине, которая взяла на себя попечение о доме мастера Мартина, когда тот овдовел, и заодно попечение — не слишком строгое — о нашей Жертрудес; сейчас дона Бриоланжа как раз вернулась из благочестивого своего странствия.
— Ах он, херувим, прелесть моя! — повторила она. — Так вы его не знаете, мастер Мартин Родригес? Вот так-так! Вы еще спрашиваете, чей он? Чей же может он быть, ангелок небесный, серафим ненаглядный, ему бы с младенцем Иисусом резвиться! Чей же может он быть, человече, да ведь он же — сынок нашей святой, она и телом и душой святая, достойна своей крестной матери, наипервейшей из угодниц, превыше нее одна только Дева Пресвятая, владычица наша… И еще не уступит ей блаженная госпожа наша святая Елисавета, матерь Крестителя, к ней сама Богоматерь в гости пришла, обе-то в ожидании были, благословенны их чрева… и Предтеча стал на колени в утробе своей благословенной матери{50} и молвил, так и в Евангелье сказано: «Поклоняюсь тебе и почитаю тебя, ибо еси Слово: „Verbum саго fato es…“»[13]
— Ох, женщина, ох, женщина, заклинаю вас всеми святыми, сколько есть их на небе и у нас в соборе, замолчите ради бога, вы меня убиваете и оглушаете, вон у вас какая одышка, послушать, так у самого одышка начнется. Что это за мальчик, Жертрудес?
— Сын Аниньяс, злосчастной жены золотых дел мастера, что живет напротив.
— Вон оно что! А что же приключилось с ней нынче ночью, люди толкуют, что… Не может такого быть! Ходил уже кто-нибудь в дом соседки?
— Как не ходить, ходили. Но из живых существ оказалось там лишь невинное дитятко без присмотра, да белый кот Аниньяс, мальчонка играл с ним.
— Стало быть, все правда?..
— Правда, отец. И это его рук дело: голову дам на отсечение, его рук дело, богомерзкого, богом проклятого, а сам еще благословляет нас на улицах во имя господа, словно… Иисусе!.. словно не грозит таким вот злодеям ни гром небесный, ни…
— Жертрудес, Жертрудес, вспомни, дочь моя, слова, только что мною сказанные. Похвально обладать добрым сердцем, похвально сострадать ближнему в обидах его… Но осторожность прежде всего, дочь моя, ибо сеньорам и князьям церкви дана великая власть.
— О мой отец, кто хочет жить в страхе и почтении перед власть имущими, тому не следовало брать на себя обязанность карать зло и печься о малых сих.
Общественные теории мастера Мартина Родригеса и достойного его коллеги не устояли перед необычным доводом простодушной девушки. Как все почти софистические теории нашего времени и всех времен, они подобны ассирийскому гиганту:{51} камень, пущенный из пращи рукою невинного отрока, сражающегося честно и бесхитростно перед лицом божиим, повергает их во прах и лишает жизни.
Высокомудрые мужи Совета смолкли: не знали, не находили, что сказать в ответ.
И Мартин Родригес благословил болтливый язык Бриоланжи, каковая подоспела ему на выручку со своей скороговоркой, а уж когда она начинала тараторить, то, если не прервать ее, конца не дождешься.
— Ох, дочка, спаси господи, что вижу я, что слышу от вас, сдается мне, и вы тоже… Ох, боже мой! Не остави, Иисусе!.. Пошел прочь, в темень и в ночь, нечистый дух, искуситель и ругатель!.. И вы туда же, Жертрудиньяс! Только этого не хватало! Да не услышу я ничего более этими грешными ушами, что станут добычей земли, и да пребуду в часовне Богоматери Силваской, и да останусь там в покое, и в тиши, и в безопасности до самого Судного дня, когда воскреснем мы во плоти и покажу я кукиш всем демонам-искусителям, и я, и ты, дочка, и мастер Мартин тоже, и все мы, кого искупил своей кровью тот, кто все грехи наши искупил и жизнь нам дал вечную, аминь, Иисусе!.. Но вы же мне этакой ереси не скажете, дочка Жертрудес; не говорите мне этакой ереси, я ведь чуть было глаза не выцарапала одному тут ученику-меднику… а, может, жестянщику, их-то порода похуже будет… Наши-то медники совсем другого складу и помягче. Он ведь что осмелился сказать, проклятущий… Изыди, сатана, ступай к себе в проклятую преисподнюю!.. Он ведь что осмелился сказать — ох, господи, — что сделано-то все по приказу из Епископского дворца…
— Так оно и есть, тетушка Бриоланжа, покарай их боже… И сатане есть чему порадоваться, сколько бы вы его здесь ни кляли. Нынче ночью было у него пированье да ликованье на новый лад… а вернее, на старый, потому что слишком стар он, богом отверженный, чтобы чинить докуки таким молодкам, как моя Аниньяс, она всем взяла, и нравом, и красой… Ох, Аниньяс, бедняжка!
— Так, стало быть, правда это? Ох, уши мои, как не оглохли вы от такой вести, ох, глаза мои, как не ослепли вы от такого зрелища, ох, земля, что же не покрыла ты меня своим покровом! Боже правый, близок, видать, Судный день! Аниньяс… Аниньяс, крестная дочь госпожи моей святой Анны, каждый вечер лампадку ей зажигала, каждый день молитву ей возносила!.. Аниньяс, ангел красоты и доброты!.. Ох, что же будет с нами, грешницами!.. Ох, мастер Мартин Родригес, что, если завтра меня тоже похитят, с них станется?!
При всей своей должностной серьезности и несмотря на всю затруднительность своего положения мастер Мартин не мог удержаться от хохота; ему вторил его коллега, важность коего как рукой сняло; даже юной Жертрудес не без труда удалось поджать стыдливые девичьи губки, дабы не разразиться громким смехом в ответ на опасения робкой Бриоланжи.
Глава XI. Голоса! Голоса!
Но эти бессвязные разговоры заняли немало времени — столько же времени, сколько отнимают пресловутые прения по вопросу порядка дня в Сан-Бенто:{52} при всей своей нескончаемости они так и не затрагивают существа дела… а кабинет требует — голоса! голоса! — и на том дело кончается. Все разрешилось, ничего не решили.
В данном случае различие состояло в том, что на сей раз голосов требовал… народ; он редко ставит это требование, но когда ставит, добивается исполнения…
Наша émeute до сей поры терпеливо ждала, покуда должностные лица обсудят со всей добросовестностью и непредвзятостью касавшееся всех дело. Народ ждал, ждал и, не дождавшись решения, ощутил гнев.
— В Епископский дворец, в Епископский дворец! И пусть наш судья будет нам предводителем, оно и почетно для него, и входит в его обязанности.
— В Епископский дворец!..
— Пускай нам выдадут Аниньяс, и немедля.
— Немедля, без проволочек.
— И Перо Пса пускай выдадут, повесим его на смоковнице, на иудином дереве.{53}
— Лучше на воротах палаты сбора податей!
— Ха-ха-ха!
— Метко сказано! И долой все подати и всех сборщиков!
— Не желаем больше платить ни подати, ни десятину.
— Не желаем.
— Не желаем больше платить.
— Ни гроша. Мы больше платить не будем — не желаем.
— А каноники пускай работают, коли есть хотят.
— А епископ пускай отправляется в Рим, может, святой отец даст ему отпущение грехов, потому как мы не желаем, чтоб он оставался здесь.
— Горожанам Порто по нраву епископы, что живут в страхе божием и в любви к своему народу.
— Пускай король даст нам другого епископа.
— Будь он даже чернокожий, как добрый дон Солейма, которого дон Афонсо Энрикес{54} дал жителям Коимбры.
— Добрый епископ был этот черный, так говорят.
— Оно неплохо: епископ черный, зато месса белая.
— Ха-ха-ха!
— Этот-то белый, а мессу служит черную.
— Душа у него черная, у пса.
— Пес, а не епископ! И сам ты, и брат твой Перо Пес за все заплатите, что люд наш снес!
И медники вызванивали на медных поковках адский набатный звон. Гомон, гул голосов, неистовый и нестройный хохот, жутковатое веселье толпы, готовящейся к кровавому пиру… подспудное клокотанье грозного народного гнева — все это сливалось в устрашающие многозвучия, в адскую секвенцию,{55} которую распевали не в лад голоса демонов… Dies irae,[14]{56} который зазвучит из преисподней накануне Страшного суда.
— Что сказать нам, что нам делать? — говорил, запинаясь, напуганный Мартин Родригес своему напарнику, который также носил гордое звание отца сенатора града Порто.
— Скажем, чтоб успокоились, чтоб подождали; что мы пойдем во дворец, а там видно будет… добьемся удовлетворения.
— Верно, верно, совет хорош и благоразумен.
— Почему бы вам не выйти к народу и не сказать это все, кум Жил Эанес, вы же самый красноречивый человек в общине?
— Мне, куманек?! Конечно, по справедливости мне подобало бы пользоваться среди бесшабашного этого люда почтением, ибо мои заслуги мои… Да нет, лучше вы идите, лучше вы, потому что я…
— Вы боитесь.
— Не в страхе дело, просто при этакой смуте…
Честный Мартин ухмыльнулся, подошел к окну и, обращаясь к добродетельным массам, стал разглагольствовать как человек, не знающий толком, что говорит он, кому и зачем. Он знал лишь одно — что льет из пустого в порожнее.
Наконец вдохновение осенило его: нагромоздил он гору витиеватостей, подобную той, с помощью коей премьер-министр отстаивает статьи бюджета, отлично зная, что все эти деньги уплывут, но не зная, в чей карман и на какие нужды; а затем наш достойный сановник сумел довести до сведения толпы, что собирается спуститься в нижний город за сведениями… в случае же необходимости отправится в Епископский дворец.
— В нижний город, в нижний город, да поживей! — закричала в ответ толпа.
И почтенные мужи сенаторы стали спускаться по лестнице, ведущей из дома Мартина Родригеса, с той же охотой и удовольствием, с коими стали бы подниматься по лестнице, ведущей на виселицу.
Глава XII. Каноники
В то время как вышеописанные события происходили близ достопамятной арки святой Анны и мощный кулак народа взлетел вверх в порыве судорожной энергии и вопреки вялости, благоразумию либо слабости радетелей народа и его избранников… другие весьма несхожие с этою и необычные сцены происходили среди представителей церковной верхушки, коим, во имя спасения души своей, добрая королева дона Тарежа{57} вверила на веки вечные весьма благородный и неизменно верноподданный град Порто.
С одной из высоких звонниц древнего храма колокол благовестил к обедне; и каноники, не успевшие передохнуть после заутрени, из-за которой поднялись они до зари, еще ленивее брели ко второй дневной литургии.
— Кабы не эти настырные часовые стре́лки, — говорил молодой каноник, зевая во весь рот, — ни за что не явился бы я сюда снова! А наш епископ почивает себе сладким сном на пуховых подушках, в то время как мы…
— По трудам и отдых, — отвечал ему почтенный старец, который ковылял настолько поспешно, насколько позволяла боль в ревматических суставах.
— Дал бы бог наконец, чтобы отведал он тягот этого мира! Что вы знаете о нашем епископе, архидиакон Пайо Гутеррес, вы ведь все на свете знаете?
— Ничего я не знаю, ничего не знаю, Афонсо Перес. Чему быть, тому не миновать, чему быть, тому не миновать. Поспешим, нынче день святого Марка, и процессии придется пройти длинный путь.
— А придет епископ на самое древнее и самое торжественное празднество нашей церкви?
— Как же не прийти, человече? Празднуем ведь день святого Марка, основателя церкви во граде нашем, святого евангелиста, к чему толковать о каком-то Василии да Басилевсе, да об основанной им церкви в Мирагайе. Мирагайя была жалким пригородом в ту пору, когда Гайя была уже римским городом,{58} и здесь построен был первый наш собор. Уразумели? Там благословим мы народ древнего города Кале{59} и возгласим: «Люди добрые, люди добрые!»
— Пусть так. Но как назвать добрыми людьми жителей Гайи и Вила-Новы, они же заклятые враги нашего святого собора и оттягали у нас полреки, самое меньшее!
— Полно вам, полно!
— Полно так полно; но кто думает иначе, впадает в ересь. Про то и папские грамоты есть, в хранилище лежат. Ладно. Я-то знаю, что вы за человек, наш добрый Пайо Гутеррес, вы — само христианское всепрощение в облике человеческом. Зря избрали вас нашим викарием и исповедником, вам бы козлом отпущения быть…
— Не будем шутить над тем, над чем шутить не следует, мой юный друг!.. Ответьте-ка лучше: попотчуют ли нас съедобным завтраком добрые люди с того берега или придется нам проковылять по скользкому спуску, перебраться через реку, наведаться к доброму святому Марку, спеть натощак: «Люди добрые, люди добрые», — а там, вдобавок, угостят нас лодочники из Гайи мелкой камбалой да морскими улитками, а мрежник серебристый да бешенку для себя приберегут…
— С них станется и это, и худшее. Не знаете вы разве, что рыбаки с того берега нас ни во что не ставят, они же нашему городскому управлению не подвластны! Но гляньте-ка — в Епископском дворце все еще закрыто!
— По́лно вам глядеть на дворец, человече, идем в ризницу, уже звучат последние удары колокола.
И действительно, уже звучали последние удары — их замирающий и протяжный звон был словно последний предсмертный голос бронзы в момент агонии, которым завершился тот краткий срок, на который она ожила — жизнью, что даровало ей движение.
Глава XIII. Монах и воин
Действительно, пробило уже семь часов утра, а в верхней, иначе говоря, господской части дворца при соборе не было видно и слышно никаких признаков жизни. Конюхи и стремянные задавали корм мулам и скакунам под широким навесом; просторные поварни источали аппетитные благоухания отменной снеди, вращавшейся на вертелах или бурлившей в пузатых котлах. Но Перо Пес еще не появился, не возглавил процессию, долженствующую доставить обильный завтрак в особую трапезную князя церкви, весьма мало склонного к воздержанию, и никто еще не осмелился подать в общую трапезную не столь изысканную, но не менее обильную пищу, предназначенную для челядинцев его и клириков.
Два францисканца приближались к дворцовым воротам; один дороден, толстомяс и краснолиц, меж тройным подбородком и пухлыми щеками играет хитрая и самодовольная ухмылка; другой, понурый и раболепный, — сущее воплощение угодливого и тупого невежества: это брат Жоан да Аррифана и его приспешник. Конюхи и оруженосцы поснимали береты при виде любимца и закадычного друга епископа.
— Мир вам, молодцы! Появлялся здесь нынче Перо Пес, наш достойный мажордом?
— Никто еще не видел нынче его лица, благослови его бог, — отвечал один из стремянных и добавил в сторону: — Его поганой морды, будь она проклята.
Твердо ступая мощными ногами, брат Жоан понес огромное свое брюхо вверх по лестнице, причем явно без какого бы то ни было усилия либо усталости. Никогда еще под грубошерстной рясой францисканца не процветало менее обременительное и более пышущее здоровьем дородство: ни сала, ни жира — сплошь тугие мышцы, гибкие, мощные, полные жизненной силы; бывает дородство такого склада. Кувшины доброго вина из Байррады и корзины с добрыми окороками из Ламего — вот что вспоминалось при виде этой прочной и отменно слаженной махины; брат Жоан мог бы позировать для Геракла Фарнезе.{60}
За ним с трудом поспевал его не столь тяжеловесный и объемистый сотоварищ.
Они поднялись в караульню, где в тот момент не было никого, кроме старого нашего знакомого, алебардщика по имени Руй Ваз. Свою алебарду он поставил в угол, а сам расхаживал широкими шагами перед внушительной и усеянной гвоздиками дверью из каштанового дерева; то, что бормотал он сквозь зубы, значительно больше походило и смахивало на брань и проклятья, чем на благочестивые утренние молитвы.
Брат Жоан не расслышал — или сделал вид, что не слышит, — ругательств алебардщика и молвил с францисканской кротостью:
— Да пребудет мир в доме сем, и благословение отца нашего святого Франциска да пребудет со всеми его обитателями, особливо же с вами, наш добрый Руй Ваз…
— Мир в доме сем? Да пребудет; да пребудет он в душе у того, кто способен на это в доме сем. Аминь. Только не у меня в душе; чтоб стать ей добычей сатаны, коли тотчас же не уйду я отсюда в такое место, где не увижу больше ни монахов, ни клириков, ни… ни самого сатану во образе их. Аминь и во веки веков аминь!
— Что за муха вас укусила, Руй Ваз? Нечисть, что ли, завелась в сем святом доме?
— Святом!
— Или злые домовые мутили вам разум нынче ночью? Вас надо спрыснуть святой водою.
— Спрыснуть святой водою надобно и снять с меня проклятье, как велит обряд:{61} тут тебе и добрые прутья из айвового дерева, и епитрахиль черная… И святая вода, чтоб упился он, дьявол, что во мне сидит! Сидит, сидит!
— Господи, спаси и помилуй!
— Вот-вот, так и говорите! А еще — изыди, сатана, ступай к себе в преисподнюю!.. Может, тогда покинет Вельзевул дом сей.
— Да что случилось, человече? Говорите же, меня страх разбирает.
— Вас — и разбирает страх, преподобный брат Жоан! Да может ли быть… Господи, просвети мою душу… да может ли быть, чтобы вы знать не знали, ведать не ведали об адских злодеяниях, что здесь творятся… Ах, Перо Пес, чтоб его отлучили! Он главный злодей, не сомневаюсь, это у него, у бульдога черного, на морде его проклятой написано. Так знайте же, преподобный отче, опасался я, что так и случится, ожидал, а все же казалось мне, не может быть, чтобы случилось такое, не может быть никогда. Так вот, случилось… и нынче ночью.
Монах изменился в лице и совсем другим тоном — тоном человека, который и хочет услышать весть, и боится, и почти знает, что это за весть, — молвил:
— Так что же произошло нынче ночью?
— А то, что принесли ее сюда на руках, связанную и с кляпом во рту… Иисусе, боже праведный, кляп-то зачем, бедняжка ничего не видела и не слышала, сознание потеряла от варварского обращения этих фарисеев!{62}
— Каких еще фарисеев? Вы бредите, Руй Ваз.
— Фарисеи и есть! Похуже тех, которых сжигают во время крестного хода в страстную пятницу. Господи Иисусе! И унесли ее туда, бедняжку Аниньяс…
— Аниньяс!
— Да, Аниньяс, жену Афонсо де Кампаньана, Аниньяс с улицы Святой Анны.
— Ах, вон оно что, как видно, арестовали какую-то женщину. Наверное, в тюрьму отвели. Неудивительно, в наше время столько дурных женщин носит эта земля…
— Она-то дурная, преподобный брат Жоан? Дал бы бог, чтобы моя собственная душа была такою же доброй! Чтобы не сказать твоя, монах проклятый!
Последняя часть сего краткого воззвания была обращена в сторону, а такая реплика, как известно и общепризнанно, остается тайною для всех, находящихся в театре, за исключением актера, ее произнесшего, и зрителей, ее услышавших; но никто из лиц, находящихся на сцене, слышать ее не может… кроме суфлера, сидящего у себя в будке.
Брат Жоан, соответственно, ответил лишь на первую часть предыдущей реплики, как и подобает хорошему актеру, не слышащему текста в сторону, согласно законам сцены.
— Поглядим, в чем там дело, Руй Ваз. Господь бог все уладит.
— И да поможет тебе дьявол, твой владыка! — молвил добрый алебардщик вслед монаху, который без дальних церемоний прошел во внутренние чертоги далай-ламы,{63} властвовавшего над городом «потрохоедов».
Глава XIV. Кабинет его преосвященства
Пусть себе добрый Руй Ваз изливает в бесполезных проклятьях свой праведный гнев, а мы последуем за достойным францисканцем в особую трапезную, оттуда в другой покой, еще в один, пока наконец не окажемся в самом кабинете, — воспользуемся этим современным и банальным словечком, столь ходовым в наши дни, — личном кабинете его преосвященства.
В ответ на условленный стук, свидетельствующий, что стучит посвященный, коему открыт доступ в покои, куда нет хода прочим смертным, знакомый читателю голос ответил из-за двери:
— Войдите, брат Жоан, войдите.
Брат Жоан вошел.
Перед ним стоял епископ во всем великолепии первосвященнических своих облачений.
Длинная пурпурная мантия, влачившаяся по полу, была оторочена горностаями, достойными самого короля. Блистающий самоцветами нагрудный крест, расшитые перчатки, сверкающий перстень, митра, которую епископ держал в руке, — все говорило о том, что князь церкви собирается предстать во всем величии, во всей престольной пышности пред своим народом.
Брат Жоан дивился и разглядывал епископа с головы до ног с видом человека, который с трудом верит собственным глазам и не решается высказать свои чувства.
Прелат улыбнулся с достойною и сдержанной миной:
— Судя по удивлению, с коим вы нас созерцаете, можно было бы подумать, преподобный брат Жоан, что вы никогда не видывали нас в епископских одеяниях. А ведь по сути, почтенный брат, сие облачение есть самое для нас подходящее соответственно апостольской миссии, возложенной на нас божественным пастырем и его наместником на земле, милостью коего вверен нам посох и перстень, дабы властвовать и править, ибо поставлены мы в епископы — именуется же сие инвеститурою{64} — не какой-то суетной мирскою властью, каковой мы не признаем и каковую почитаем ничтожною и бессильною в отношении нас и наших правомочий.
— Разумеется, разумеется…
— И в таком обличии явимся мы ныне на празднество и молебен в честь святого Марка и предстанем во всем величии церковной власти перед добрым нашим народом, ведь он давно уже не зрит своего пастыря в одеяниях, знаменующих сию власть, а превыше нее нет власти на земле за исключением престола святого Петра в Риме;{65} лишь пред ним склоняемся мы, перед мирскою же властью — никогда…
Едва пастырь, исполненный гордыни и духа ультрамонтанства,{66} произнес эти последние слова, как послышался неразборчивый, но неистовый гул голосов, он разразился внезапно, но не стихал, напротив, усиливался, приближался и, казалось, уже раздавался совсем не в отдалении.
То была власть народа, провозглашавшая на улице Святой Анны свое вступление в права — инвеституру всегда кратковременную, но всегда грозную и неоспоримую.
— Что это может быть?..
— Бунт народа? Невозможно. Из-за чего бы?.. Разве что, если… Сейчас узнаем, я слышу шаги Перо Пса. Ступайте прочь, Андре Фуртадо, — продолжал епископ, адресуясь к облачавшему его челядинцу, — оставьте нас, ваши услуги мне больше не надобны. Алебардщики пусть будут наготове; пусть служки уведомят членов нашего капитула, дабы пришли сюда составить мне свиту, как им положено.
На мгновение монах и епископ остались наедине; и за долю мгновения они успели обменяться таким взглядом, в глазах у обоих мелькнули такие вопросы и ответы… нет языка, на котором все это можно было бы описать.
И тут же вошел Перо Пес.
Мерзкие черты податного были чудовищно искажены страхом, вернее, ужасом, на лице у него отпечатались тревога и отчаяние, словно в предчувствии адских мук.
— Народ, — вскричал Перо Пес, — народ!
— Что происходит с народом?
— Он… он взбунтовался!
— Почему? Что ему сделали?.. Опять ваши штучки, Перо Пес…
— Мои штучки, сеньор!
— Да, ваши штучки. По какой еще причине мог взбунтоваться честный, терпеливый и добрый народ этого города? Только по одной — вы нанесли ему еще одну обиду. Вы слишком уж туго затягиваете ошейник податей, временами нестерпимо туго, мой бедный Перо. Рыбаки жалуются, торговки бранятся, даже фламандцы и те плутуют{67} при взвешивании сыров, боясь чрезмерных пошлин… Смотрите у меня, Перо Пес, вы слишком усердствуете, когда доите корову, усердствуете сверх меры… а я не хочу, чтобы в подойнике была кровь…
— Сеньор, сеньор!.. Я дою корову… а фламандцы… И в подойнике кровь!.. Кровь! Это моей крови они хотят, смутьяны, подлый сброд, вон сколько их собралось, больше, чем сардин в косяке. Но… да просветит мою душу господь бог… или дьявол, ведь она уже в его власти… Простите меня, я сам не знаю, что говорю.
— Не знаете, оно и видно.
— Не знаю, не знаю, так и есть; но знаю я, что на сей раз народ взбунтовался не из-за налога на привозные товары, не из-за десятины, не из-за дорожной пошлины. Все дело в том, что они проведали… догадались… либо сам дьявол, пособник мой, им рассказал о том…
— О чем, Перо Пес?
— О том, что содеял я нынче ночью по вашему приказу.
— Вон оно что! — сказал епископ; он поглядел на брата Жоана, и тот позеленел, покраснел, пожелтел, почернел, — ни дать ни взять изменчивая радуга, переливающаяся всеми оттенками страха.
Затем последовало недолгое, но глубокое молчание.
Взрыв воплей, прозвучавший еще неистовее и еще ближе, потряс воздух, словно удар грома, предвещающий грозу.
— Где эта несчастная? — пробормотал брат Жоан. — Может быть, мы еще успеем…
На лице у епископа появилось выражение важности столь невозмутимой, что дрожащие его приспешники и советники испугались и растерялись; он холодно отвечал:
— Женщина, которую прошлой ночью препроводили в нашу тюрьму в силу имеющихся в нашем распоряжении веских и убедительных оснований, была допрошена нынче утром и сейчас находится в наших покоях в особой горнице. Оттуда она вернется в место заключения. Возьмите ключи, брат Жоан, и отведите эту женщину в темницу, где она и останется, покуда это будет благоугодно нашему правосудию. Вы пойдете потайным ходом.
— Правосудие! Правосудие! Правосудие короля дона Педро!
— И народа!
— Смерть Перо Псу!
— Аниньяс, Аниньяс!
— К дьяволу пошлины и сборщиков!
— Наши вольности, вольности, дарованные нам решением в монастыре святого Георгия!
— Что они говорят?
— Вопят, требуют, чтобы вмешался…
— Король?.. Бедняжки… И требуют, чтобы соблюдалось это дурацкое решение, принятое в монастыре святого Георгия, с которым мои предшественники имели слабость согласиться?.. Ну что ж, это дело гроша ломаного не стоит, его можно уладить без промедления. Ступайте, брат Жоан, и делайте, как я велел. Перо Пес, мои алебардщики, мои клирики. Все сюда и следуйте за мной: досточтимые члены капитула, должно быть, уже ждут у дверей.
Глава XV. «Ессе sacerdos magnus»[15]
Епископ вышел: в соседнем покое его ждали домочадцы и свита. Каудатарий{68} подхватил длинную пурпурную мантию, и епископ, прямой и высокий, прошествовал по нескончаемой анфиладе комнат и залов просторной резиденции. Клирики, изумленные и безмолвные, шли сзади, алебардщики шагали впереди. В таком порядке они торжественно спустились по лестнице и остановились в сенях перед главным входом.
Великолепное зрелище открылось бы взорам тех, кто оказался бы на небольшой площади, какие у испанцев именуются «пласуэла», — она была замкнута фасадом старинного собора, дворцом епископа слева от него и маленькими домиками напротив, где, возможно, уже тогда жили, как живут теперь, члены соборного клира; справа же все замыкает высокий взгорбок, откуда спускается лестница, ведущая к Сан-Себастьяну и ко всему второму плато — если можно так выразиться — древнего города, пристроившегося на крутом склоне города, дома и улицы которого словно сбегают с высокого холма, где вздымается собор, вниз, туда, где ныне находится Порта-Нобре, у самого подножия горы, близ реки.
Зрелище было воистину великолепным, и величественным, и достойным кисти Клаудио Коэльо{69} либо кого-нибудь еще из прославленных мастеров, которые увековечивали на своих полотнах пышность церковных торжеств.
Открывавшие шествие алебардщики выстроились плотными радами с двух сторон от главного входа во дворец епископа, и оба крыла, размещенные по диагонали, достигали собора, почти смыкаясь на ступенях его паперти. Прелат, который при своем немалом росте держался очень прямо и высоко нес голову, казался еще надменнее в царственности пурпура и был окружен клириками и челядинцами — огромной свитой, состоявшей и из церковников, и из мирян. Из храма под мощные и торжественные звуки органа доносился величавый антифон:{70} «Ессе sacerdos magnus secundum ordinem Melchisedech».[16]{71} И члены капитула во главе с настоятелем, вздымавшим в деснице кропильницу, шествовали в своих фиолетовых уборах и черных мантиях, волочившихся по могильным плитам, долгою и торжественной колонной навстречу епископу.
Настоятель приблизился к епископу и склонился было, чтобы облобызать ему перстень, а затем уж вручить кропильницу, когда из проулка, ведущего от старого дворца Совета ко главному входу в собор, послышался оглушительный гул, в котором сливался грохот шагов, выкрики, лязг оружия, ошеломляющая какофония звуков, извлекаемых из котлов и прочей медной утвари, и этот нестройный гул захлестнул маленькую площадь… И тотчас же на площадь устремился людской поток, многие сотни простолюдинов, торговки из Фоса, булочницы из Авинтеса и Валонго, они бежали бегом и оглушительно вопили:
— Правосудие, правосудие короля дона Педро!
— Наши вольности!.. Требуем, чтобы соблюдались наши вольности! Чтоб выполнялось решение, принятое в монастыре святого Георгия!
— Аниньяс! Аниньяс!
— Смерть Перо Псу!
Все эти выкрики, которые мы поместили здесь порознь, звучали неразборчиво и сливались в воздухе воедино, как — если уместно подобное сравнение — пряди в спутанной косе фурии или как языки пламени, взметнувшиеся вверх сплошным заревом и разделившиеся лишь в высоте.
Каноники беспорядочно отступили; настоятель выронил святую кропильницу… хотел было выпрямиться… упал на колени перед епископом и оцепенел, осев на собственные пятки, подобно древнеегипетскому божеству; только вот руки его, вместо того чтобы чинно покоиться на коленях в соответствии со священными изображениями, безвольно повисли вдоль туловища. Алебардщики нарушили строй; иные побросали алебарды и укрылись в священных стенах собора…
Среди общей суматохи и смятения епископ, прямой и высокий, хранил бесстрастный и спокойный вид.
Бесстрастие это подействовало: разъяренный поток замер, ибо простонародье против воли ощутило почтение к прелату.
Наступила глубокая тишина.
Люди беспокойно переглядывались: прямой и уверенный взгляд епископа завораживал их. Все ощутили облегчение, когда вперед выступили оба народных избранника, которых толпа вытолкнула вперед и которым не оставалось ничего другого, как предстать перед епископом.
— Мастер Мартин Родригес, мастер Мартин Родригес! Наш судья, наш судья!
— Пусть скажет за нас мастер Мартин!
Премудрые эдилы{72} славного города Порто переминались с ноги на ногу, сняв береты, почесывали затылки, прятали руки в береты, а береты в рукава, то поглядят на епископа, то поглядят на народ, то поглядят на землю… Они не ведали, куда девать себя, тем паче, что сказать.
Они оказались в том положении, которое на нынешнем нашем наречии именуется «ложным», в таком положении нельзя пребывать долго, и даже самые робкие, самые тупоумные стремятся выбраться из него как угодно, лишь бы поскорей, потому что оставаться в означенном положении невыносимо.
Отцы сенаторы брели к прелату медленно и спотыкаясь и, не придумав ничего лучшего, пали перед ним на колени. Епископ спокойно протянул руку и подставил перстень, дабы набожные муниципалы облобызали оный.
При этом законные выразители мнения народного не проронили ни звука… И не то чтобы им не хватало воздуху — в ушах у них ветер гудел от криков народа в праведном его гневе.
Улыбка, чуть заметная, но выражавшая бесконечно многое, на мгновение коснулась уст надменного князя церкви.
— Встаньте, — молвил епископ с наигранной благосклонностью, — встаньте, сеньоры судьи. Чего хотят, чего желают эти добрые люди, от имени коих вы, судя по всему, пришли ко мне?
— Привели нас… принудили, сеньор епископ, — вставил с тревогой Мартин Родригес, а Жил Эанес с не меньшей тревогой поддакнул ему.
— По́лно, по́лно: вы ведь и были избраны и назначены этим добрым народом, дабы говорить от его имени и печься о его нуждах. Все это вменяется вам в обязанность. Мне по душе то, что вы, как вижу, ревностно блюдете добрые обычаи. Итак, чего от нас ждут, чего хочет народ наш, сеньор судья?
— Вы, может, знаете, ваше преосвященство, народ-то наш… он взбунтовался…
— Не вижу ничего похожего на бунт, человече. Напротив, насколько я вижу, эти добрые люди миролюбиво и спокойно дожидаются, чтобы изложили вы их притязания и рассказали об их обиде… буде нанесена им таковая…
— Сеньор, все началось с того, что в наших краях невзлюбили одного из ваших должностных людей, сеньора…
— Перо Пса? Знаю, он обижал народ. Он заслужил наказания — и будет наказан. Переусердствовал по части сбора податей и злоупотребил нашей властью, ибо это прежде всего власть отеческая, не столько власть сеньора над вассалами, сколько власть пастырская, а мы желаем быть для нашей паствы добрым пастырем. Смерд будет призван к ответу.
— Да здравствует наш епископ! — вскричал чей-то голос.
— Да здравствует наш епископ! — подхватила чуть ли не сотня голосов.
Но сомнительный и исполненный сомнения шепот пробежал по толпе вслед за этим первым провозглашением перемены позиций… реакции, которая в моменты великих кризисов так часто преображает самым внезапным и низменным образом народный гнев, достигший высшего накала, в чувства совсем противоположные и неожиданные.
Епископ продолжал:
— Вы можете быть в том уверены, господа судьи, и от нашего имени можете в том уверить этих добрых людей. Но, как видите, наш капитул ждет, а вы знаете, что нам предстоит дальний путь и молебен в часовне евангелиста. Возвращайтесь в послеобеденную пору, и мы потолкуем. Идемте, почтенные братья. Жезлоносец, возглавьте процессию. Алебардщики, делайте свое дело.
Жезлоносец поднял жезл и зашагал вперед; алебардщики, снова построившиеся, осторожно оттеснили толпу, которая безропотно подалась назад; и епископ вслед за своим капитулом проследовал неспешным, но уверенным шагом ко вратам собора. Зазвонили колокола, орган вознес свой торжественный глас… и древние своды просторного храма снова огласились пением: «Ессе sacerdos magnus secundum ordinem Melchisedech».
Глава XVI. Молебен
А что же народ, и его неистовый гнев, и его неудержимая и сокрушительная мощь?
Казалось, все это развеялось в воздухе с первым же грозным взрывом выкриков, возвестивших о начале смуты. Сейчас слышалось только перешептыванье там и сям, в отдельных кучках людей. В целом же одни безмолвно глазели на все вокруг, другие потихоньку спускались по лестнице святого Себастьяна, иные входили в собор через боковые врата; большинство же пребывало в оцепенении, в бездействии, впав в то состояние парализованности, которое наступает вслед за сильнейшим возбуждением. Нельзя сказать, что пламя бунта погасили, но оно как бы опало.
Вдруг из толпы вырвался чей-то высокий и пронзительный голос:
— Аниньяс, Аниньяс!
Пошли в ход разного рода утварь и котлы: адски нестройное звяканье и грохот были ответом толпы на этот пронзительный крик, и мятеж снова обрел жизнь — в жару и опьянении, присущих ему изначально.
Рев, вопли, проклятья, восклицанья и угрожающие выкрики свидетельствовали, что кулак народа, оцепеневший на миг под воздействием магнетизма власти и хладнокровия епископа, снова взлетел вверх — в порыве еще большего гнева, еще более грозный.
Все это свершилось мгновенно. И епископ, все время державшийся начеку и не терявший ни присутствия духа, ни горделивой осанки, тотчас осознал опасность положения, ускорил шаг, быстро отдал своим людям соответствующие распоряжения и вошел во храм. В тот же миг двери и собора и дворца захлопнулись перед народом.
Мастер Мартин Родригес и его достойные коллеги вошли в собор вместе со свитой.
Единственным господином и хозяином тесной площади перед собором был теперь народ, он был волен оглашать ее ревом и криками, сколько душе угодно.
И народ вопил и бушевал, поднимая невообразимый шум: бунт набирал силу и мощь… вдруг высокое стрельчатое окно с цветными витражами, находящееся над главным входом и глядящее, как во всех старинных соборах, на запад, растворилось настежь: Мартин Родригес и его коллега, бледные, дрожащие, с испуганными глазами, появились на широком балконе, откуда обыкновенно оглашались и читались народу буллы, индульгенции, отлучения от церкви и прочие наиважнейшие постановления церковной и мирской власти, каковая у нас на родине, в Порто, составляет почти неразделимое единство, как всем известно.
— Тихо! — взревел кто-то в толпе, перекрывая все остальные голоса. — Тихо! Послушаем, что скажет наш судья.
Толпа погрузилась в глубокое молчание.
Жил Эанес знаком дал понять, что собирается держать речь. Народ испугался и затрепетал перед угрозой словесной лавины, которая готова была на него обрушиться. Благородный оратор — как нынче принято именовать самого последнего прохвоста, самого грязного голодранца в кожаных штанах, если решится он разинуть рот перед людьми, — благородный оратор изрек:
— Добрые друзья и честные соотечественники…
— Так, так! Вот это другой разговор.
— Ну, ну. Нас уже величают честными…
— Тихо! Слушайте.
Снова наступила полная тишина.
— Выслушайте меня, добрые люди, и вы узнаете кое-что весьма важное, друзья мои. Наш досточтимый прелат и пастырь, наш сеньор и епископ…
— Варрава, Варрава!
— Вовсе нет, друзья мои, вовсе нет. Послушайте меня.
— Камнями его, предателя! Смерть Иуде, продал он нас.
— Выслушайте меня, выслушайте ради господа бога, и вы останетесь довольны.
— Слушайте, слушайте.
— Наш епископ и наш капитул должны наведаться нынче в часовню святого Марка, что на том берегу Доуро.
— Никуда они не пойдут, покуда мы не дождемся правосудия.
— Не пойдут: святой Марк за народ.
— Великий святой Марк-евангелист! Мы на стороне закона божия, мы хотим, чтобы соблюдался закон божий! И да поможет нам правосудие короля дона Педро!.. Уж лучше пускай святой Марк останется без празднества и крестного хода, чем дозволить вершить и то и другое им, искариотам, в смертном грехе пребывающим.
— Будет вам правосудие, добрые люди. Выслушайте. Перо Пес…
— На виселицу Перо Пса!
— Казнить Перо Пса!
— Казнить, казнить!
— Зачем казнить, мы хотим съесть его заживо.
— Заживо не надо, больно жесткий.
— Разделать и протушить его, чтоб не смердел, смерд! Как разделал король того самого кролика!..{73}
— Ага, кролика, что убил его подружку!
— Придержи язык, грубиян: жену!
— Ну, пускай жену. Лишь бы пес последовал по той же дорожке, что кролик.
— Пес следом за кроликом — так псу от природы положено.
— Ха-ха-ха!
— Верно, хорошо сказано. Подать сюда пса, смерть псу!
— Смерть Перо Псу!
— Смерть, смерть!
Оглушенный оратор, стоявший наверху, совсем отупел от страха и растерянности. Мартин Родригес чувствовал себя немногим лучше коллеги, но, не будучи таким пустопорожним вралем, как тот, сохранял все-таки остатки самообладания; так вот, Мартин Родригес от избытка страха ощутил прилив энергии, отстранил незадачливого собрата и заорал исступленно, заразившись исступлением, царившим вокруг.
— Будь по-вашему! Перо Пес прощелыга и предатель. Наш добрый прелат велит передать его вам в руки, чтобы вы поступили с ним по вашей воле.
— Да здравствует наш епископ и смерть Перо Псу!
И снова мятеж как будто стал затухать, и снова среди почти утихомирившегося люда прозвучал тот же голос, пронзительный и магнетизирующий:
— Аниньяс, Аниньяс!
Народный гнев снова воспламенился; Мартин Родригес снова впал в растерянность. Как бывает обычно с человеком, который не знает, что ответить, но видит, что дать ответ необходимо, и ответ решительный, он оглядывался, глотал слюну, приоткрывал рот, словно собираясь заговорить… и на том дело кончилось.
Невозможно вообразить, чем могла бы завершиться эта удивительная сцена между жителями города Порто и их выборными судьями, и, быть может, великие беды угрожали этим упитанным и поглупевшим со страху мужам, если бы на тот же балкон не вышел один человек, которого в Порто того времени любили больше всех, один священнослужитель, которого там больше всех уважали. То был почтенный старец, один из тех редких людей, которые волею провидения встречаются в мире сем даже в самые растленные времена, дабы на земле не иссякла до конца вера в добродетель и в могущество неба. Пайо Гутеррес, архидиакон Оливейраский, викарий и духовник епископства, истинный служитель алтаря, отличался набожностью, чуждой ханжества, строгостью нравов при кротости и учености, которой не щеголял; все его почитали: и епископ, что терпеть его не мог, и народ, что в нем души не чаял.
Едва появился на балконе Пайо Гутеррес, толпа приветствовала его единогласно восторженными кликами.
— Успокойтесь, дети мои, и выслушайте меня.
Толпа смолкла, никто даже не перешептывался. Архидиакон продолжал:
— Аниньяс была арестована нынче ночью… по моему приказу.
Гул ужаса и несказанного изумления пробежал по всей толпе.
— Да, по моему приказу. Ее обвиняют в тяжких преступлениях… Даст бог, обвинения окажутся ложными…
— Ложные они!.. Ложные! Аниньяс святая.
— Да-да, она святая, Аниньяс.
— Быть может, и я на то уповаю. В этом случае ее нынче же оправдают и отпустят на свободу. Окажите мне доверие. Ее дело поручено мне; судить ее буду я. И я… отвечаю за нее.
— A-а, ну тогда…
— Ступайте, дети мои, успокойтесь. Нам пора начинать крестный ход. Явите себя добрыми христианами и богобоязненными людьми; дозвольте нам исполнить обряды, предписанные церковью. Разойдитесь по домам, дети мои, и да пребудет с вами благословение божие.
— И ваше. Мы хотим, чтобы вы благословили нас.
— Во имя вышнего и справедливейшего судии, того, кто вознаграждает и карает в вечности, того, кто судит народы и царей, того, кто принял смерть за всех нас равно, а не за кого-то наособицу, благословляю вас, дети мои, подите с миром.
Действие, которое оказывает внушающий уважение голос на бурлящую толпу народа, — одно из вечных чудес, свидетельствующих о всемогуществе господа и оправдывающих его славу.
Мятеж притих и как будто сошел на нет.
Вскоре соборные врата были растворены, и оттуда торжественно выходила процессия, распевая молитвы и славословия. Епископ во всем блеске католической пышности следовал в замке́ процессии. Сверкающая митра была надвинута на лоб, прочерченный надменными морщинами; рука, опиравшаяся на золотой посох, казалось, слегка дрожала; но поступь была твердой, и глаза спокойно скользили по странице псалтыря, которую держал перед ним певчий.
Они повернули к вратам Солнца, спустились вниз по крутому Кодесалу и вышли к бурому берегу реки, вознося к небу молитвы и песнопения и взывая к мученикам и апостолам, ко святым исповедникам и девам, да молят бога за нас!
Глава XVII. Процессия
В наши прозаические и ущербные времена одному богу ведомо, каких трудов стоит заслуженнейшей муниципальной палате Лиссабона отправиться во храм святого Антония в праздник сего угодника, а достославнейшей муниципальной палате Коимбры в праздник святой королевы{74} навестить свою покровительницу во храме за мостом. Административный кодекс канонизировал{75} лишь одну святую — святую Урну, и в совете министров засели вольнодумцы, завзятые безбожники, ведущие войну против всех обветшалых предрассудков, оставшихся с тех злополучных и постыдных времен, когда Португалия была настолько отсталой, что всего лишь открывала морской путь в Индию{76} и морские пути вокруг Африки, куда несла она цивилизацию, населяла Америку, создавала «Декады» Барроса{77} и творила «Лузиады» Камоэнса,{78} возводила Беленскую Башню{79} и выкидывала прочие нелепые шалости того же пошиба.
Бедная Португалия, жила ты себе по старинке, не было у тебя ни биржевых дельцов, ни лордов-хранителей казны, ни подвесных мостов, ни инструкций по поводу проведения смертной казни через повешение, ни баронов, ни вольных каменщиков,{80} и была ты посмешищем Европы, которая дивится ныне при виде того, как ползешь ты, словно краб, по этой дороге, ведущей за пределы цивилизации!
Будем плясать польку{81} и да здравствует прогресс!
Вернее, так: прогресс нашего регресса, как говорит один великий и блистательный наш оратор,{82} красноречие коего, в скобках будь сказано, тоже отплясывает польку.
Плясать-то плясывали и каноники города Порто, так было еще во времена моей бабушки, она видела это сама, и когда я был маленький, рассказывала мне, что они и впрямь плясали перед алтарем святого Гонсало в день этого угодника. И то была пляска благочестивая и иератическая,{83} нынче в ходу это греческое словцо, мы стали увлекаться до безумия греческим языком с тех самых пор, когда перестали владеть им. Когда мы посылали разных там Тейве да Гоувейа{84} преподавать его в Париже, сами мы говорили по-португальски.
Стало быть, плясали, так оно и было, плясали каноники Порто во храме Сан-Гонсало-де-Амаранте, плясали в тридцати процессиях и шествиях в честь разных святых угодников и угодниц. И того же обычая придерживались другие капитулы и причты королевства, которые в наши дни не идут и на хоры; более того, у них нет даже административного кодекса, за каковой они могли бы уцепиться.
Среди многочисленных праздников нашего славного собора, в ритуал коих входит шествие, — рассказывал мне один старик пребендарий,{85} он на руках меня носил и обладал самою ангельской душой, какая только может быть у пребендария, — наиглавнейшим было шествие к часовне святого Марка-евангелиста, который, как утверждали уроженцы Гайи или Кале, был основателем святой церкви города Порто, хоть с ним спорили жители Мирагайи, возражая, что основал ее святой Василий в своем приходе, именуемом по названию храма Сан-Педро-экстра-мурос.{86}
Но уже в пору моего детства, когда старик пребендарий обогащал мне ум и память столь увлекательными и романтическими сведениями из отечественной истории, крестный ход в день святого Марка не продвигался дальше новой церкви святого Иоанна, и, остановившись там, где высится часовенка Надежды, каноники кадили в сторону Гайи и пели «Люди добрые, люди добрые», песнопение на родном языке, о происхождении которого я так и не смог получить никаких сведений ни от моего пребендария, ни из других источников, будь то летописцы или летописи, хоть обращался я ко многим.
Как бы то ни было, обычай этот дожил до наших дней, а в стародавние времена процессия, как уже говорилось, перебиралась через Доуро и направлялась прямо в часовенку святого, развалины которой еще виднеются на склоне высокого берега со стороны Гайи.
И, по-видимому, имелась какая-то весьма основательная причина, вынуждавшая епископа и каноника, властителей города Порто, переправляться через реку и наведываться к тем самым жителям Гайи и Вила-Новы, которые не зависели от них и не платили им дани, которые, чувствуя себя сильными благодаря покровительству короля, причиняли им великое множество неприятностей своим правом на свободный лов рыбы и на беспошлинную торговлю, а еще соляной монополией, которую столько раз предоставлял им король для того лишь, чтобы досадить вассалам и людям епископа, которые жили в самом городе.
Какова была сия причина, с каких и до каких пор существовал сей обычай, нам доподлинно неизвестно; а вот доподлинно известно нам то, что в те времена, о коих мы повествуем, обычай этот соблюдался, и вот уже торжественная процессия выходит к берегу реки, и в углублениях обрывистых берегов, высящихся над быстрыми ее струями, отдается скорбное и возвышенное хоровое песнопение:
Ut nos exadias! Te rogamus, audi nos![17]Флотилия рыбацких лодок савейро, навесы которых украшены хоругвями и цветочными гирляндами, а палубы устланы шпажником, служит как бы продолжением берега и принимает процессию на борт.
Пение не прервалось, молитвословия не смолкли: теперь их сопровождает плеск воды под уверенными и размеренными взмахами весел; голоса лодочников, хриплые, но слаженные, тоже присоединились к общему хору и выводили вместе с ним:
Те rogamus, audi nos!Невозможно вообразить зрелище грандиознее и торжественнее, чем то, которое являли тогда воды и берега Доуро.
Вся несравненная поэзия религии и природы, вся живописность средневековых одежд, все оживление, присущее многолюдным сборищам, соединялись в этой картине в гармоническое целое.
Весеннее солнце освещало отвесными лучами воду, скалы, зелень. Воздух был спокойным и теплым, небо — голубым и прозрачным, воды — безбурными; вдоль обеих сторон реки на светлых песках, поблескивавших под солнцем, стояли жители города и селения, созерцали в благоговейном молчании двигавшуюся водным путем процессию, которая пересекала реку по длинной диагонали, словно направляясь к устью, ибо немалое расстояние отделяет то место, где ныне находится Порта-Нобре и где участники процессии взошли на савейро, от причала Гайи, куда процессия направлялась.
Вверх по течению реки свежие луга Кампаньана, Рамалде и Авинтеса блистали изумрудной зеленью юной весны; с той стороны, где высится Фос, ивняки, которыми поросла долина, именовавшаяся тогда долиной Любви, клонили ветви к воде, словно все еще прикрывали изменнические и мстительные корабли короля Рамиро,{87} когда он приплыл сюда из Галисии за женою, которую держал в плену мавр за то, что Рамиро держал в плену сестру его.
Эта самая долина Любви, которая стала долиной Благочестия, когда капуцины построили здесь монастырь и нарекли его святым именем, что носит он доныне, в нынешнее время — о жалкое, жалкое наше время! — именуется долиной Бондарей или долиной… как бишь ее… ибо церковь превратили в склад, а сад, такой пышный и свежий, в какое-то жалкое поле, кукурузное, кажется.
Мне доныне вспоминаются, хоть был я тогда очень мал, предвечерние часы в пору тринадцатидневных молебнов в честь святого покровителя той церкви, когда красивый церковный сад не уступал, право же, ни Кенсингтону, ни Тюильри,{88} ибо сюда наведывались самые привлекательные и нарядные дамы города и великое множество людей всех сословий и возрастов: на эти тринадцать дней долина Благочестия снова становилась долиной Любви.
Здесь могло бы быть лучшее в Порто общественное гулянье, под стать самым красивым в мире, если бы этому саду предназначили такой удел. Но все было продано за сколько-то там милрейсов, — немного — притом, как и следовало ожидать, не звонкой монетой, а ассигнациями.
Ex digito gigas:[18]{89} никто лучше нас не справился с переходом от прежнего общественного устройства к новому. Разумность, вкус, выгода — все налицо.
Вернемся к нашей истории.
Процессия распевала:
Exaudi nos, domine![19]И лодки причаливали к берегам Гайи. Каноники с песнопеньями выходили на берег; и вот процессия добралась до подножия высокого берега, на котором стоит замок и где в те времена находилась церковь, вернее, часовня святого Марка.
Все жители селения и его окрестностей сопровождали процессию как во время триумфа и воспринимали почти как признание своей независимости прибытие сеньора епископа и высокочтимого капитула — тех, кто обладали такой властью по ту сторону Доуро, а здесь были только гостями, пользовавшимися, разумеется, уважением по причине духовного сана, но не пользовавшимися ни властью, ни какими бы то ни было гражданскими полномочиями.
Со всем тем они преклоняли колена, а епископ благословлял их, клирики возносили песнопения, а народ подхватывал строки… Религия распятого — это религия свободы и терпимости, она несовместима с какими бы то ни было проявлениями вражды и гражданскими распрями: те, кто говорят «рака» брату своему,{90} не следуют заветам Христовым.
Однако же лица жителей Вила-Новы являли некое выражение, более надменное, чем обыкновенно, более оживленное, и, по-видимому, причиной тому было сознание собственной свободы и независимости. Они поглядывали на епископа искоса, выступали следом за канониками так непринужденно, подхватывали песнопения такими уверенными и радостными голосами, что любитель сравнений из мира античности не колеблясь уподобил бы их молодым и надменным согражданам сына Реи Сильвии,{91} принимающим в недавно возведенных стенах Рима процессию жрецов из Альба-Лонги, когда те приносят им в знак зависимости статую Весты, которая перешла во власть Рима, которая станет стражем его величия и которой нечего больше делать в Альба-Лонге.{92}
Духовенство из Порто были albani patres,[20] Гайя выставляла напоказ спесь, достойную alta moenia Romae.[21]
Но простите меня, о почтенные собратья-романтики, простите, обещаю вам, что не позволю себе больше ни единым намеком коснуться оставшихся у меня в памяти запретных крох моей старой и скудной латыни.
А все же было, да, было нечто необычное в воодушевлении вольных простолюдинов Гайи и Вила-Новы. Они следовали за процессией, покуда мирные и благочестивые; и таким манером все добрались до часовни святого, куда и вошли.
Епископ воссел на свой престол; вокруг него стали каноники; и тотчас началась месса, каковою должны были завершиться молебны и празднество этого дня.
Наступил момент дароприношения, и все молящиеся, упав на колени и склонив головы, набожно приобщались высшего таинства, причащаясь крови и плоти того, кто смертью своей возродил нас и освободил; в этот момент в церковь незаметно пробрался молодой человек, нарядно одетый, но покрытый пылью с головы до ног и еще не успевший отдохнуть после долгой и быстрой скачки. Он окинул внимательным взглядом пеструю толпу молящихся и выбрал себе место в углу, став на колени позади двух мужчин зрелого возраста, обличье и наряды которых свидетельствовали, что они принадлежат к той среде, которая является промежуточной между буржуазией и простонародьем.
Людей этой породы наши нынешние Рабле{93} обозначают весьма характерным словцом — mercier:[22] раньше сия порода встречалась не так уж часто, но теперь составляет большинство населения крупных городов, этих очагов нашей цивилизации.
Податливый, как масло, которым он торгует, пустопорожний, как его макароны, неспособный мыслить, как его колбасы, затхлый, как его сало, бакалейщик — mercier — воплощение этой незаконнорожденной аристократии плебейства, которая встречается повсеместно и так многочисленна и политическая роль которой сводится к тому, чтобы принимать на веру любое высокопарное вранье, проглатывать благоглупости, публикуемые в правительственных газетах, веровать в «систему, которая, к счастью, является у нас правящей», и устраивать фейерверк в дни праздников.
Когда их было немного, они обладали энергией и великими чаяниями всех классов, которым приходится жить не щадя сил, чтобы выжить, ибо они не могут рассчитывать на грубую надежность многочисленности.
Вновь прибывший стал на колени, перекрестился и после краткой молитвы, — мысленной, ибо губы его не шевелились, — рукояткой хлыстика, который был у него в руке, слегка дотронулся до плеча одного из мужчин, стоявших перед ним. Тот живо обернулся и, завидев юношу, воскликнул тихонько:
— О! Вы здесь… так скоро?
— А мне показалось, так поздно. Выйдем отсюда, нужно поговорить.
— Дождемся конца службы.
— Нет, сейчас же! Клянусь богом, хотел бы я сказать тебе то, что должен сказать, меж святой облаткой и чашей пред ликом того, кто на алтаре… Но никак нельзя, идем.
— Идем. И брат мой с нами?
— Твой брат?.. Не знаю, не доверяю я ему. Разве не был он?..
— Был, был, да и я, за грехи мои, немногим лучше его. Просветил господь нас обоих. Теперь вы можете говорить с ним так же откровенно, как со мной.
— Что ж, пусть идет с нами.
Больше никто из молящихся не расслышал этого разговора, краткого, быстрого, приглушенного. Оба простолюдина и юный кавалер незаметно вышли в боковую дверь.
Любезный читатель так проницателен и сметлив, что, без сомнения, уже догадался, кто этот юноша.
Да, сударь, так оно и есть, то был наш студент, наш Васко. А вот кто такие оба простолюдина, этого вы, читатель, конечно же, не отгадали.
Будьте любезны прочесть следующую главу, и вы все узнаете.
Глава XVIII. Коалиция
Юноша молча шагал впереди, его спутники следовали за ним, также не произнося ни слова. Они шли по улицам, если здесь уместно это слово, скорее уж, по закоулкам, а самое точное, по громоздящимся один над другим уступам, по бесформенным ступеням отнюдь не блистательного амфитеатра, где лепятся дома унылого селения Гайя.
Они добрались до романтического источника, который носит имя короля Рамиро и говорливые струи которого все еще повторяют неумолчную болтовню трещотки Перонелы, она приходила сюда из замка за водой для своей сеньоры, уйдет, а обратно не идет, все беседы ведет, воды в кувшине через край, а сеньора ждет-пождет… и пускай себе.
Миновали они этот источник, столь часто поминающийся в народных преданиях, миновали древнее строение, которое народ прозвал дворцом все того же короля Рамиро, но которое, судя по всему, построено в четырнадцатом веке и в те поры, возможно, служило завистливым португальским королям резиденцией; сюда приезжали они почти инкогнито, — ревнитель чистоты нашего языка сказал бы в тайности, — дабы вместе с народом плести заговоры против всевластных епископов. Заговоры, продлившиеся без перерыва более четырех веков, в течение коих короли заигрывали с народом, ибо нуждались в его поддержке: вначале — чтобы устоять под напором духовной и светской аристократии, которая чинила им столько козней, а затем — чтобы уничтожить ее.
Разлад между королями и народом — явление относительно современное. Понадобилось немало случаев предательства и измены со стороны коронованных трибунов, чтобы народ распростился с иллюзиями, — бедняга народ, который столько лет сражался ради них и почти исключительно ради них, полагая, что сражается за самого себя.
После победы лев поделил добычу согласно своему обыкновению; а в довершение вонзил клыки в клячонку, которая помогала ему…
Клячонка эта лягает льва, но затем подставляет спину под седло, как ей и положено…
Васко, наш студент, — понеже уже не вижу нужды скрывать, кто был юноша, — и да простится мне «понеже», я употребил это словечко единственно из желания позабавиться аллитерацией, а не из приверженности к старинному слогу: оно и без того настолько затаскано и затрепано нашими газетчиками и драматургами, что никто его слышать не может! — итак, Васко, наш студент, свернул в узкий переулок слева от источника и, пройдя несколько шагов, вошел в низенькую дверь; дверь была открыта, и над нею уныло свисала побуревшая сосновая ветка, служившая вывеской.{94}
Оба его спутника последовали за ним.
То была таверна для рыбаков, моряков и погонщиков мулов. Наша троица уселась за один из узких грубо сколоченных столов.
— Кувшин наилучшего вина! — сказал Васко.
Старуха, сидевшая на корточках у низкого очага, по обличью скорее ведьма, чем трактирщица, обратила к вошедшим лицо, весьма неприятное, и снова уронила голову на грудь, впав то ли в дремоту, то ли в летаргию.
— Вина, проклятая ведьма! Ты что, не слышишь?
— Ведьма, ведьма!. Были когда-то ведьмы в Гайе, искони тут водились, такое уж место. Нынче перевелись истинные ведьмы, ведьмы, где они, колдуньи да ведуньи, загребущие да завидущие… Чтоб им пусто было!.. Какие еще ведьмы? Хо-хо!
С таким бормотаньем старуха в разбитых деревянных башмаках, которые по всей Португалии именуются «тама́нкос», а в Порто, где латинские традиции сильнее, «со́кос», подковыляла к столу, за которым сидели трое вошедших, и внезапно оцепенела. Она уставилась на них глазами, которые, казалось, уже не способны воспринимать явления мира внешнего, и поза ее была несказанно выразительна.
Она походила на покойника, который вглядывается в живого, пытаясь узнать его… на скелет, который обратил к вам полый череп в знак приветствия, и его зияющие глазницы внезапно зажглись огнем.
Трое за столом были словно во власти чар; старуха, казалось, обладала свойством глядеть на всех одновременно — и с одинаковой пристальной зоркостью — своими столь мертвыми и столь живыми глазами.
Адская ухмылка стянула в одну сторону, не разгладив их, уродливые морщины ее ввалившегося рта, и старуха проговорила:
— Стало быть, нынче служат молебен Марку Евангелисту? Так и надобно. И тот, кто служит, служит на славу. Там ведь вся церковная знать. Уж мне ли не знать.
И она захохотала, захохотала, как в обычае у ведьм: лающим глухим хохотом, от которого волосы встают дыбом и кровь стынет в жилах.
Потом хриплым и неверным голосом она стала выводить, вернее, выдавливать из горла зловещие и нечестивые слова странной песни, слова эти клокотали у нее на губах, словно пена колдовского зелья в котле, стоящем на хромой треноге в очаге, который был предан проклятью и в котором горят листья фиговой пальмы.
Наш епископ не горюет, Вместе с челядью пирует, Тут же клирики, монахи, И прядет лисица в страхе. Пряла лисица пряжу, нитки сучила, Молилась Пречистой, гимны выводила, В силки, что расставила, сама угодила. А лисенок-то каков: Он на след навел волков. Волки набегут, волкам веселиться, Пробил их час: Епископ, лисенок, мать его лисица — Все пустятся в пляс. В пляс, в пляс, как пред святым Гонсало! Пейте вино, что я вам наливала!И старуха приплясывала под пугающее свое пенье, спотыкаясь, словно в пляске параличных. Внезапно остановилась, вперила взор в юношу и, разразившись долгим адским хохотом, повернулась к нему спиной. Еле волоча ноги, побрела за кувшином, выбрала побольше, на канаду{95} с лишком, наполнила вином и поставила на стол.
Наши трое дивились, не говоря ни слова, все еще во власти впечатления от странного взгляда старухи, от еще более странного ее пенья и от медлительной пляски ведьмы.
Она вернулась в свой угол близ очага и села на корточки, свесив голову на грудь в той же дремоте или летаргии, от коей столь странным образом пробудилась.
— Что это за берлога сатаны, куда привели вы нас, юный сеньор? — проговорил наконец один из троих. — Вино-то, должно быть, отравлено, что там ни говори.
— Отрава и есть, сущая отрава, да притом молодое, кислятина собачья, — ответствовал Васко, опорожнив наполовину один из этих огромных кубков, что в ходу в провинции Миньо и внушили бы страх и почтение даже самым завзятым питухам британского роду. И продолжал: — Кислятина собачья, будь оно неладно! И для того, кто привык поститься за столом некоего благочестивого прелата…
— У святых врат Рима готов я поститься семь лет… семь лет и один день без скидок, лишь бы простил мне господь, что ел я там хлеб худо замешанный, да пил вино кислое, да вдыхал тамошний воздух зловонный…
— Незачем вам ехать в Рим, можете и ближе получить отпущение грехов. Стоит лишь захотеть, и нынче же ночью вы спасете свою душу.
— Нынче ночью?
— Да. Я привез приказы, согласно коим все должны подняться нынче же ночью, чтобы мы разом покончили с непереносимой тиранией, ибо нам от нее одно только утеснение и бесчестье. Король пребывает в… Можно здесь говорить без опасений?
— Если вы не боитесь ведьмы… Но про нее-то мы наверняка знаем, что страшиться нечего!.. Во всяком случае, нам с вами…
— А твой брат и вправду отказался служить дьяволу и сеньору податному?
— Да нет, сеньору-то податному он покуда служить не отказался, — отвечал третий собеседник, до этого мгновения не проронивший ни слова, — сеньору-то податному он служить покуда не отказался, кое-какие счеты еще надобно свести. Податной мастер взыскивать с виноделов подати, да вот на нем самом надобно клеймо поставить. И будет оно поставлено моей рукой: никому такого дела не передоверю.
— Хорошо сказано. Так вот, узнайте же оба… но покуда никому в городе ни слова… узнайте, что король тайком пожаловал в монастырь Грижо́, он там с рассвета и выедет оттуда в сумерках, чтобы незаметно проникнуть в город. Мы должны вовремя овладеть городскими воротами, самое же главное — овладеть собором, он все равно что крепость в нашем городе. Как настроен народ?
— Хочет своими силами добиться, чтобы уплатили ему по счету, нет у него другого средства добиться уплаты.
— А как поступят наши судьи и выборные советники?
— Как у них в обычае: будут славить победителя.
— Кто нынче ночью стоит на страже во дворце, вы, Руй Ваз?
— За кого вы меня принимаете, сеньор Васко? Покуда служил я епископу, служил честно; не давала мне совесть покою, что правда то правда, но я служил ему, ибо верность и честь — превыше всего… С нынешнего дня я больше не служу ему, не ем его хлеба, не пью вина его; вот и могу воевать с ним, — и за короля, и за народ, — я ведь сам из народа, — и за себя самого, и за… еще за одного человека, сеньор Васко…
— Вы уже говорили с Жертрудес? Говорили вы с ней, Руй, друг мой?
— Говорил, само собой; вот уж ангел, стоит поговорить с ней, и человек сам чувствует, как к добру обращается, словно его из тьмы к свету вывели. Вот перед вами брат мой, Гарсия Ваз, его она тоже в свою веру обратила.
— Тебя! Стало быть, и тебя тоже! — воскликнул студент, обращаясь к бывшему сборщику дорожной пошлины… бывшему полицейскому капралу, перевели бы мы сегодня… Будем уповать на господа ради спасения души второго братца и благополучного окончания нашей истории, что самым верным переводом было бы — бывшего прохвоста.
— Да, сеньор, меня, — ответил он, — меня самого… Как услышал я, что говорит она народу, а у самой-то на руках невинный младенчик… сынок бедняжки Аниньяс, а я ведь пособничал, когда ее… И я из всех самый был виноватый, потому как сердце мне вещало, что дурное это дело, вещало еще раньше, чем совершил я его. Самый виноватый, самый виноватый… Вещало мне сердце, чем давать Перо Псу отмычку, что выковал я для него, воткнул бы я лучше этот вот кривой нож ему в брюхо… пускай бы вывалилось оттуда все, что есть там… ничего хорошего не вывалилось бы. Но вот вам сущая правда, послушал я, как говорит она с народом, а у самой на руках младенец невинный, услышал я слова, что она сказала, и вся душа у меня перевернулась; и поклялся я всеми клятвами, какие есть, и добрыми, и недобрыми, что за зло, которое причинил я, кое-кто да заплатит.
— Что же, будь так, человече! Зло уже сделано, теперь постараемся его исправить. А верно, что Пайо Гутеррес поручился за безопасность Аниньяс?
— Верно, я сам слышал, как он это сказал перед всем народом, вот мы и уверены, что ничего худого с ней не случится. Но…
— Но, — перебил брата Гарсия Ваз, — епископ тоже обещал, что передаст нам Перо Пса, чтобы мы отправили его на виселицу, а тот все еще разгуливает по дворцу, в ус не дует и посмеивается над криками народа… а народ он народ и есть, одно умеет — кричать.
Васко погрузился в раздумье и словно отрешился от всего вокруг, перестав прислушиваться к тому, что говорили братья, которые продолжали беседовать друг с другом все о том же. На некоторое время юноша ушел в свои мысли.
Внезапно он встал из-за стола и сказал:
— Идите же: я хочу, чтобы вы позаботились о городских воротах. Собор я беру на себя.
— Вы, Васко! Вы, сеньор, совершите это… это…
— Это предательство, хочешь ты сказать. Совершу. И знаю, что делаю.
— Не знаете, нет, мой юный сеньор. Ох, сеньор Васко, совесть меня мучит… Правда, я клялся, что не скажу вам, но теперь, при нынешнем положении дел…
— Пусть она вас не мучит, пусть ничто вас не мучит, друг мой. Все я знаю, а главное, знаю, что делаю. Идите же оба, не мешкайте. И пусть народ не поддается призывам к спокойствию, пусть не спит. Когда народ спит, тирания просыпается. Король за нас, но этого мало: великие только тогда на стороне малых, когда малые сильны. С богом! Ступайте. Я скоро последую тем же путем.
— Но вы… Вы уже говорили с нею?
— Со старухой-то? С этой старухой, которая, по-вашему, ведьма? Можете положиться на меня, я давно ее знаю, и мне известно… что с ее стороны нам ничто не грозит.
— Мне тоже это известно, но…
— Ступайте же в добрый час, ступайте, ступайте.
— Иду. А она придет?
— Придет.
Бывший алебардщик и бывший сборщик пошлин вышли.
Но Руй, наш старый друг, тотчас же вернулся назад, словно по велению внутреннего голоса, которого не заглушить, и шепотом сказал на ухо Васко:
— Вы помните, что сказал я вам вчера в этой проклятой оружейной зале?
— Да, помню.
— Вы знаете, Васко, сынок, мой юный сеньор? Епископ… он плохой епископ, всё так… но вы знаете все… все, чем ему обязаны?
— Ступайте с миром, добрый человек; ступайте и оставьте меня, все я знаю.
— И вопреки тому…
— И вопреки тому, и по той самой причине. Бог будет нам судьей, Руй Ваз. Ступайте, не было бы поздно.
Алебардщик поглядел пристально юноше в лицо, словно пытаясь читать у него в душе. Васко улыбнулся в ответ таинственной и в то же время ничего не выражавшей улыбкой, понять которую было невозможно.
— Оставайтесь с богом, — молвил простолюдин. — Вы, сеньоры, сами разберетесь в своих делах и сами столкуетесь. И по крови, и по воспитанию вам многое дано, мой юный сеньор. Но помните то, что бог заповедал, он всем заповедал.
— Так оно и есть, друг мой, ступайте.
— Иду, иду, и да свершится его святая воля! Поговорите толком с ведьмою, пусть скажет она вам, пусть откроет…
Васко уже не слышал этих последних слов: он расхаживал широкими шагами по неровному и сырому полу таверны, то была просто-напросто утоптанная земля. Он даже не видел, как вышел Руй Ваз, и продолжал ходить взад-вперед все так же взволнованно и рассеянно.
Зеленые смолистые сосновые иглы, которыми был усыпан пол, уныло поскрипывали под ногами юноши; и некоторое время в неприютном помещении таверны только и слышались что меланхолические эти звуки. По выразительным и характерным чертам лица юноши видно было, что ум его и сердце вступили меж собой в какое-то борение; но все свершалось внутри, и из уст его не вырвалось даже вздоха.
Не знаю, сколько времени прошло так, но немало.
Вдруг Васко подошел к двери, ведущей на улицу, затворил ее и, подняв огромный засов, лежавший под нею, просунул его в отверстия, кое-как выбитые для этой цели в двух бесформенных глыбах гранита, стоявших по обе стороны двери. Затем на ощупь, потому что стало почти темно, он подошел к широкому и закопченному очагу, где догорало толстое сосновое полено, отбрасывавшее искры; но ярче этих искр сверкали теперь глаза старухи, которая, казалось, пробудилась от обычной своей летаргии.
Глаза старухи горели, горели, словно раскаленные угольки… юноша медленно, но уверенно шел на этот свет, внушавший страх… старуха встала, выпрямилась, теперь она была высокой и сильной, словно произошло чудо и омерзительная бесформенная жаба, только что еле передвигавшаяся по грязному, внушавшему отвращение полу, внезапно преобразилась в одного из злых джиннов, вызванных волшебной лампой Аладдина.
Глава XIX. Снова об арке
Десять лет понадобилось Сервантесу{96} на то, чтобы получить перевод рукописи Сида Ахмета-бен-инхали и, приведя оную в порядок, подарить нам наконец заключительную часть истории ламанчского рыцаря. Я же заставил тебя, благосклонный друг читатель, ждать всего лишь пять лет второго и последнего тома благословенной «Арки святой Анны». А ведь мне пришлось делать все самому и собственноручно, самому разбирать закорючки манускрипта, найденного в монастыре братьев-сверчков, а в означенном манускрипте было столько полустершихся слов, строк, не поддающихся прочтению, изорванных страниц и прочих трудностей в том же роде, так что мне пришлось помучиться над ним больше, чем над подлинным палимпсестом.{97}
За время этого перерыва не нашлось, что правда то правда, злодея, который выпустил бы поддельную и клеветническую вторую часть моей книги, как это случилось с бедным Мигелем Сервантесом,{98} из-за чего ему пришлось приносить столько извинений и даже изменить слегка ход своей истории. Но зато у меня не было недостатка в критиках и ругателях, со всех сторон на меня обрушились хуления и хулители; меня даже обвинили в донкихотстве, в том, что я принял ветряные мельницы за великанов, чтобы было мне, с кем сразиться, и изрубил полчища невинных ягняток, словно то были воинские рати халифа аль-Мансура,{99} того самого, с засученным рукавом.
И все из-за чего, друг читатель? Из-за того, что я погрозил хлыстом короля дона Педро в ответ на абсурдные и противные евангельскому духу притязания иных ростовщиков от католичества, каковые злоупотребили доверием нынешнего поколения и попытались использовать в своих — и в своекорыстных — целях наиболее религиозные умонастроения времени.
Пять лет назад меня называли фантазером. Что вы скажете сейчас, господа ругатели? Поглядите на Англию, где под покровом пьюзеизма{100} и прочих разновидностей компромисса, подчас компрометирующих, католицизм проникал в самые неприступные цитадели лютеранства, поглядите, сколько злоупотреблений на его счету и как правительство уже начинает раскаиваться в своей терпимости. Поглядите на Италию, где панство явно избрало путь самоубийства, ибо urbi et orbi[23] проповедуется раскол, ересь, разрушение всемирной церкви. Поглядите, наконец, как у нас, в бедной и маленькой нашей стране, невежество, распутство, продажность, политическое холуйство позорят епитрахиль и митру, обрекая их на презрение и гнев народа.
И со всем тем они хотят властвовать, со всем тем они ярые и явные враги Свободы, а Свобода, дочь Евангелья, может и должна поддерживать лишь Евангелье; ибо Свобода, стремясь, подобно церкви, распространиться по всему миру, является самой могущественной помощницей церкви, истинной ее надеждой на земле. Ведь если в наши дни нет гонителей Диоклетианов{101} и отступников Юлианов,{102} то нет и заступников Константинов.{103} Монархи радеют о самих себе: для престола выгодно, чтобы алтарь служил ему, но с какой стати престолу печься об алтаре! Церкви осталось лишь одно, Свобода; и лишь когда наступит время Свободы, исполнится обещание господне о том, что врата ада бессильны перед церковью.
Мой друг Р. говорил: «Тебе никогда не напечатать второй том „Арки“». — «Напечатаю, напечатаю», — отвечал я, чувствуя, что у меня снова кровь вскипает при мысли об этих неблагодарных попах. Мы же вступались за них, мои молодые сверстники и я, мы ринулись защищать их в стихах и в прозе от их грозных нынешних противниц: от политической экономии нашего века и от философии века прошлого. И та, и другая вычеркивали их из жизни; все достойные и мыслящие люди старше сорока лет заняли ту же позицию, но в дело вмешалась молодежь и не допустила такого рода развязки. А ныне клирики тут как тут — и обращают свое оружие против нас, полагая, что больше в нас не нуждаются. Это мы еще посмотрим.
Как бы то ни было, полдюжины мерзких попов да один-два невежественных и растленных епископа — это еще не духовенство и не церковь. Мы за нее — и ныне, и в прошлом, и впредь. А скверных священнослужителей повесим на нашей арке. Пусть себе бубнят оттуда свои проповеди на посмеянье уличным мальчишкам; пусть оттуда грозятся отлучить от церкви тех, кто не верит в придуманные ими чудеса, а те из них, что поднаторели в богословии, пусть пишут там свои мемории. Другого наказания мы им не назначим, да и нам самим не надобно другой потехи, если есть этакая.
Вот пусть и висят себе там, как восковые ex voto,[24] хотя кое-кто из них изрядно оброс салом.{104}
А мы, друг читатель, отправимся на поиски нашего студента, нашего Васко. Поглядим, что поделывает он в таверне Гайи, сидя там столько времени взаперти наедине с безобразной ведьмой. И узнаем, как дела Аниньяс и ее приятельницы Жертрудес. И чем кончилась заваруха, затеянная медниками, потерпела крах или, напротив, оказалась успешною и завершилась тем, что на обломках епископского престола был провозглашен Senatus Populusque Portucalensis.[25]{105} И узнаем, что произошло, когда на одной чаше весов оказалось серафическое брюхо брата Жоана да Аррифаны, а на другой — муниципальное пузо мастера Мартина Родригеса, удалось ли таким путем установить общественное равновесие и трудами Перо Пса, изобретательного на козни и казни, добиться того, чтобы в беспокойном граде Порто царствовал такой же порядок, как в Варшаве.{106} И узнаем, не появился ли в разгар всех этих событий король дон Педро и не он ли съел устрицу, оделив каждую из тяжущихся сторон створкою раковины оной.
Все это станет нам известно, время у нас есть.
И без дальнейших предисловий, друг читатель, углубимся в историю со всей последовательностью и связностью с начала следующей главы, а потому прошу тебя, переверни страницу.
Глава XX. Ведьма из Гайи
Мы оставили нашего Васко в обществе старой ведьмы, которая очнулась от забытья и, подобно пугающему призраку, преобразилась у него на глазах.
— Мы одни, Гиомар, — молвил юноша голосом, которому хотел придать твердость, и все-таки голос его хоть не дрожал, но срывался.
— Наконец-то! — отвечала старуха.
— Наконец-то! Уже давно я страшусь и жажду этого часа! — проговорил юноша. — Уже давно разрываюсь меж необходимостью выслушать тебя, Гиомар, и боязнью, боязнью услышать от тебя страшную тайну, хоть, быть может, я уже отгадал ее и сам… О, дал бы бог в своем милосердии, чтоб отгадка моя оказалась неверна!
— Слова, достойные мужчины. Так и до́лжно, юноша! Вот слова, достойные мужчины, и впервые слышат от тебя такие слова мои уши, на них напала глухота от старости и недугов, ясно и раздельно звучат в ушах моих лишь те звуки, что произносят твои уста, Васко. Ведь я мертва для всего и для всех на свете, кроме тебя, ибо ты… ибо ты…
— Кто я?
— Ныне явил ты себя мужчиною, речи твои — речи мужчины. Вчера ты был отроком. Какой переворот совершился в душе твоей! Благодарение богу, что дожила я до этого дня. Но вот дожила, внемлю тебе и вижу тебя. Ну что ж! Теперь ты мужчина. Покончено с легкомыслием и легковесностью отрочества, ты со всею серьезностью вступил в жизнь. Теперь я не боюсь смерти. Но я не умру, нет (так угодно богу, я знаю), покуда мой сын, дитя моего сердца…
— Женщина, женщина, так я сын твой? Тот самый сын, из-за которого претерпела ты столько страданий и пролила столько слез, явила столько терпения и самоотверженности, как сама мне рассказывала? Докажи это, докажи, и я, не колеблясь ни мгновенья, зажмурю глаза и слепо ринусь туда, куда повелишь.
— О сын мой, сын мой, кто, как не мать, сделал бы то, что я сделала, выстрадал бы столько, сколько я выстрадала.
Васко тяжко вздохнул, взгляд, что возвел он к небу, когда вздох этот исторгся из глубины души его, в унынии обратился долу, исполнен смертной печали.
— Я мать твоя, Васко. В этом лоне тебя я выносила, этой грудью тебя вскормила. Гляди, гляди на меня, сын, ибо глядишь ты на мать свою! Не гнушайся моей нищетой, не стыдись моих лохмотьев. Когда родился ты на свет, сын мой, носила я богатые ткани, шелка, и парчу, и тончайшее голландское полотно. И ни одна придворная дама, даже самая надменная и холеная, таких не нашивала; и не было ни в Португалии, ни в Кастилии инфанта, который был бы запеленут в такие богатые пеленки, как ты, мой Васко, единственная любовь моя, вся моя жизнь, ибо не было у меня ничего иного: иной жизни я не радовалась, в иную любовь не поверила и не захотела ее. В недобрый час послал мне демон человека… изверга, который погубил меня… Но я не любила его, святый боже! О нет — и он не любил меня. Пусть вдвойне ославили бы меня погибшей и обесчещенной, как оно и есть, если сердце мое пособничало бесчестью моего тела и гибели моего доброго имени. Ох, сын мой! Нищета моя не означает, что нет у меня золота, а старость моя не означает, что я обременена годами. Ты, быть может, слышал имя мудрого и состоятельного раввина из Лейрии, Авраама Закуто. Я дочь его, и ты доводишься внуком самому богатому и самому почтенному человеку во всей Испании и Португалии, ибо он сравнялся в познаниях с самим великим Авиценною,{107} а то и превзошел его и во многих отношениях усовершенствовал его науку. Короли и принцы домогались его дружбы как огромной милости и слагали к стопам его сокровища и привилегии, дабы удостоиться посещения великого человека и услышать его речи…
Стало быть, я еврей?
— Ты иудей со стороны твоей матери, и нет в нашем племени крови благороднее твоей: наша знатность была древней и бесспорною уже в те времена, когда предки этих дворянчиков, которые так кичатся своими позавчерашними гербами и бахвалятся чистотою своих готских кровей,{108} когда предки их, невежественные дикари, бродили полуголые по лесам и болотам германских земель, питаясь всего лишь желудями дубов своих да сырою кониной и поклоняясь, как богам, пням да каменным глыбам! И они-то благородны, жалкие люди!
— Но они властвуют, а мы прислуживаем.
— Притворяемся, что прислуживаем. Но мы властвуем над ними благодаря уму и хитрости, благодаря познанию и богатствам. К кому обращаются они в чаянии вернуть себе здоровье, подорванное невежеством и грубыми обычаями? К нам, к нашим лекарям. К кому обращаются они за золотом, которое тратят не впрок из-за лености и которое из-за неизменной гордыни не умеют ни беречь, ни добывать? К нам, к нашим купцам. На их стороне грубая сила, ибо они невежественны, а на нашей стороне сила знания, сила богатства, и ее хватит на долгие века, она не истощится так скоро, как хотелось бы им, чуждым этой силе и презирающим ее! Когда бы они презирали так красоту! Но увы! Красоту… вот ее-то они похищают у нас, смешиваясь с нашим племенем… ведь если увидишь ты разящий взгляд, ослепительно прекрасное лицо… то знай, тут замешалась толика нашей крови или крови братьев наших через Измаила,{109} мавров, которых преследуют они, как преследуют нас. А слова «мавр», «иудей» — с каким презрением и пренебрежением они произносят их, чудовища, варвары… Как ненавижу я этих людей! И вся моя ненависть, вся неизбывная злоба, застилающая мне глаза слепотою, сосредоточилась на одном человеке, пусть ответит головой, гнусной своей головой, на нее да падет гнев мой, подобно молнии, и да испепелит ее, и да рассеется мерзкий ее пепел по лицу земли. Да пройдет странник и молвит: «Не видел я его». Да спросит путник: «Где он?» И никто да не даст ответа.
— Но почему так ненавидишь ты его, этого человека? И каким образом оказался я в его власти? Как могла ты допустить, чтобы вырос я при нем? Почему исповедую его веру? Почему склоняюсь перед алтарями во храмах, где служит он службы? Как допустила ты, чтобы уверовал я в его бога, чтобы держался его закона, что свят для меня? И наконец, ради чего допустила ты, чтобы стал я таким, каким стал, если хотела видеть меня совсем иным, несхожим, если ненависть твоя требовала, чтобы стал я другим?
— Таким, только таким хотела я видеть тебя. Ты таков, каким тебе должно быть. Разумеется, внук Авраама Закуто, имея дело со снадобьями и простыми веществами, мог бы, во исполнение тайной мести, влить в жилы жестокого палача своей матери самые неуловимые и изощренно действующие фригийские яды.{110} Но для подобной мести было бы довольно и меня — когда бы для меня было довольно подобной мести. Я не захотела ее. Я хочу, чтобы месть моя была благородной, возвышенной и очевидной, чтобы она навсегда заклеймила преступника позором и бесчестьем и была бы явным воздаяньем жертве. Мне надобно было, чтобы стал ты тем, кого именуют они «благородный инфансон»,{111} чтобы они поверили, что ты молодой дворянин, чтобы ты носил эту вот одежду, занимал положение, которое занимаешь, — таков и должен был быть мой сын, чтобы отомстить за меня. Таким ты и стал, и ты отомстишь за меня. Этот человек причиной всему горю моему, всему бесчестью: из-за низкого насилия, что совершил он, пришлось мне бежать из дома родителей; пришлось распустить слух о своей смерти, чтобы не умерли они от стыда, зная, что я жива; пришлось просить милостыню у чужих дверей, пришлось, подобно рабыне, выполнять самую низкую и черную работу; пришлось расстаться с тобою, сын мой, с тобою, единственная любовь моя и жизнь; пришлось, чтобы иметь возможность следить за твоей жизнью, вырядиться в эти вот лохмотья; пришлось глядеть на тебя издали, не осмеливаясь предстать пред тобою, ибо я неизменно страшилась, что меня обнаружат, словно была величайшей преступницей в мире. Сын мой, сын, восемнадцать лет терпела я такие муки, какие никому еще не выпадали на долю; восемнадцать лет жила, ожидая в трепете и воздыханьях этого дня, и вот простираю я к тебе исхудалые руки и молю тебя, сын мой, чадо мое, обними же в первый раз — и да будет он последним, — обними свою мать…
Ведьма, неуклюжая и отталкивающая старуха исчезла: женщина, еще не утратившая красоты, в расцвете сил, немногим старше сорока лет, исхудалая, но крепкого сложения, с профилем Агари в пустыне, сверкающими глазами, полураскрытыми устами, белоснежнейшими зубами, женщина, поражавшая прямизной стана и благородством осанки, — такова была мать Васко, она призывала его, влекла, завораживала, и юноша бросился к ней в объятия, воскликнув:
— Мать, мать моя! О, ты мне мать, ибо я люблю тебя и сердце мое стремится к тебе.
Объятие было долгим и тесным. Небо меж тем затянулось тучами, в таверне, и без того скудно освещенной, стало совсем темно, огонь в очаге почти потух. Лишь время от времени молнии, сопровождавшиеся раскатами грома, что сотрясали воздух, озаряли желтоватыми вспышками узкое оконце, находившееся почти под потолком, и когда они угасали, тяжелый мрак, заполнявший комнату, становился еще гуще. Ветра не было, и дождь, упорный, отвесный, частый, барабанил по щелястой крыше, пробирался внутрь, и капли там и сям оживляли блеском зелень сосновых веток, устилавших пол.
Глава XXI. А мой отец?
Долгим было объятие, долгим и тесным; слышались рыдания, лились слезы бедной матери, которая наконец-то обнимала сына, называла его этим полным любви именем и упивалась вволю радостями, которых ждала так долго, что не могла поверить в обладание ими.
Глаза Васко не были сухи, и сердце его билось не менее взволнованно: но чувство, заполнившее всю душу матери, не было, не могло быть единственным и всезаполняющим в душе сына. Множество мыслей, множество противоречивых воспоминаний сражалось в нем. Эта женщина — мать его, сомнений быть не могло.
Много лет он видел ее, ощущал ее присутствие, ибо она тенью следовала за ним. Когда отроческая жизнь его омрачалась мелкими затруднениями, она была тут как тут, появлялась внезапно, словно подслушав мысли, и приносила ему то важную весть, то нужные сведения, то деньги, в которых он нуждался. Откуда и как добывала она все это? Он не ведает. Но с первого же дня, когда он, еще малюткою, пошел в школу Пайо Гутерреса, доброго архидиакона Оливейраского, стала к нему наведываться эта старуха, и она ласкала его, и дарила ему игрушки и разные разности, когда он хотел того и желал, но всегда уговаривала беречь тайну, и мальчик добросовестно хранил ее от всех. Он очень любил старуху, но в то же время побаивался ее, потому что она слыла ведьмой, «Ведьмой из Гайи», все так и звали ее: очень немногие знали, что зовут ее Гиомар, если это и вправду было ее имя. Неужели она мать ему, да, так и есть, теперь он в этом больше не сомневается. Люди, воспитывавшие Васко, всегда скрывали от мальчика тайну его рождения; и однако он без усилий согласился с истиной, находившей отклик в склонностях его души, и о том же мощно заявлял голос крови… крови, которая оказалась не христианской! Все предрассудки, внушенные ему воспитанием, восставали против этой мысли. И юноша страдает, и ему в тягость мать, которую он обрел… Но она любит, так любит его… для нее такое счастье называть его сыном!
Но почему эта женщина так ненавидит епископа, который вырастил его, который тоже обращается с ним, как с сыном? Васко и сам всегда хотел дать доступ этой ненависти в юное свое сердце — и не мог. Заблуждения, пороки, преступления прелата — все они хорошо известны юноше и ненавистны ему, но ненавидеть его самого он не в силах. Он пламенный сторонник народного дела, о котором радеет его Жертрудес, хотел бы стать смелым трибуном, отважным вожаком, который, возглавив народ Порто, сверг бы гнет духовенства и установил бы свободный строй «коммуны»{112} в своем любимом родном краю. Ради этого вступил он в сговор и в заговор с буржуа и простолюдинами, ради этого съездил к королю и стал его сторонником. Удовлетворись ненависть его матери такого рода мщением, он без колебания отдал бы жизнь и кровь, лишь бы добиться победы. Было справедливым, было благородным делом лишить дурного епископа власти, возможности и права угнетать и творить зло, тут Васко не колебался. Но коснуться хотя бы волоска на голове его, никогда. Ни ненависть матери, ни уговоры возлюбленной, ни обида, только что причиненная бедной Аниньяс, — Руй Ваз успел рассказать юноше об этом, — ничто не могло пробудить в сердце Васко неприязнь к человеку, который по отношению к нему — и только по отношению к нему — был добр, великодушен, снисходителен и ласков, как отец.
Порою Васко думал даже, что епископ ему и впрямь отец, только от него это утаивают. Но в те времена самые почтенные и высокопоставленные духовные особы ничуть не скрывали, что у них есть дети и они о них заботятся, то был распространенный и общепринятый обычай, а потому невозможно было поверить, чтобы епископ Порто, весьма мало склонный к воздержанию — и похищавший без церемоний и без зазрения совести жен и дочерей у своих горожан, — вдруг стал так скрытничать и лицемерить по поводу восемнадцатилетнего сына, которым мог обзавестись, еще не будучи епископом, а будучи рыцарем и мирянином, ибо его поставили в священный чин и рукоположили в епископы менее, чем восемнадцать лет назад.
Кем же доводился епископ нашему студенту? Почему прелат так любил его и почему так ненавидела его женщина, которая была матерью Васко и которой, по словам ее, епископ нанес столько обид?
Тайны эти смущали сердце юноши, соображения эти роились у него в мозгу, и теперь, когда миновал первый взрыв сыновней нежности, исподволь повергли его в уныние, которое он с трудом мог скрыть.
Мать и сын сидели на низкой скамеечке у очага; мать не сводила глаз с юноши, а тот глядел в огонь, почти потухший, и в белесый пепел, среди которого кое-где неярко алели дотлевавшие угольки.
Оглушительный раскат грома, прогремевшего почти над самой крышей, вывел юношу из задумчивости.
— Какая буря нынче разыгралась, матушка!
— Бури погрознее бушевали у меня в сердце, сынок. О, тебе неведомо…
— И ты живешь в этой лачуге, в этих развалинах?!
— Да. Четыре года назад, когда я лишилась возможности жить в стенах города, перебралась я сюда и занимаюсь здесь низким ремеслом трактирщицы… и другим ремеслом, еще более низким: я — осведомительница короля.
— Как! Стало быть, король?..
— Частенько наведывался сюда тайком, случалось, и переодетый; хотел выведать, что слышно в городе и в Бурго-Ново. Частенько сиживал на грубых этих скамьях, ел мелкую жареную треску, пил скверное вино, которое я здесь держу. Здесь рассчитывался он с солеторговцами, которые обкрадывают его так же, как сам он обкрадывает народ.
— Король дон Педро — и обкрадывает народ!
— Обмануть-то хочет он епископа, но платит за это народ. Меж власть имущими спор всегда идет лишь о том, кому получать; платить никто из них никогда не платит, платит только народ.
— Вот как! И они хотят впутать меня в свои распри! Хотят, чтобы мы погибали ради их выгод! Что за дело мне до них!..
— Мне есть до них дело. Поступим, как поступают они сами: спрячем под покровом заботы о благе общества наши личные устремления. На словах король ратует за свободу народа, а печется он о собственных своих прибытках. На словах народ ратует во имя монарха, но движет им не что другое, как корыстолюбие. На словах мы будем ратовать за все, что им угодно, лишь бы я отомстила, лишь бы кара злодею была страшной и позорною…
— Он воспитал меня, матушка, — прервал ее юноша в неудержимом порыве, родившемся в глубинах души, — он столько лет был мне опорой, заменяя родных, обращался со мною, как с сыном!
— Как с сыном! — воскликнула ведьма, затрепетав и зардевшись от гнева. — С тобою — как с сыном!
— Да, как с сыном, и он любит меня, как сына, — отвечал Васко с той спокойной невозмутимостью, которая берет верх над самыми бурными страстями и оказывается сильнее, чем их порывы.
Невозмутимость юноши испугала Гиомар, и, отказавшись от восклицаний, она стала убеждать его сдержанным и мягким тоном.
— Не верь в любовь его, сын мой, — сказала она. — У этого человека нет сердца, он любит лишь свои пороки.
— Я многим обязан ему.
— Ничем ты ему не обязан. Он сам в долгу у нас.
— Но ведь не кто иной, как мой отец поручил меня его заботам в свой смертный час. Он заменил мне отца.
— Твой отец… Боже правый!
— Кто он был, мой отец? Во дворце мне твердят одно, что он был знатным сеньором из Риба-Дана и погиб в битве за Тарифу, сражаясь с маврами; но я никогда не слышал его имени. Я уж подумал было, может, это брат епископа, тот самый, что погиб в том бою. Ты молчишь и потупилась… Почему не хочешь или не можешь ты сказать мне имя моего отца?
— На что тебе знать его имя? Мои уста не могут произнести его: их замкнула грозная тайна, сын мой! Все было так, как говорят тебе: отец твой был знатен, богат, могуществен, он был сеньор и рыцарь… Но могущественнее оказался епископ со своим честолюбием и злокозненностью. Из-за них стала я тою несчастной, которую видишь ты перед собой; воля епископа обрекла меня на нищету и позор, исторгнув из жизни в почете и изобилии. Колыбель твоя была из золота, но я качала ее в стыде и бесчестии. Мне не дано было усладиться прекрасной порою твоего детства… меня лишили этой радости запугиваньем и недостойными угрозами, и ты был отдан в чужие руки. И я согласилась, о боже! Я готова была благодарить изверга, вырвавшего тебя из моих объятий; таково было его коварство, так запугал он меня. Тебя увели, отдали монахам и клирикам, чтобы ты жил в безвестности и подчинении там, где должен был бы повелевать и господствовать, и…
Гиомар задела чувствительную струну в сердце сына. Честолюбие, дремавшее в глубине его, ожило и стало искать выхода. Юноша выпрямился во весь рост и вскричал с восторгом:
— Ты права, матушка, я рожден не для такой жизни. Верхом на коне среди моих копейщиков либо в собственном замке, что охраняют мои ратники, — вот где мое место. Я не рожден быть клириком: к дьяволу латынь, не хочу быть каноником! И быть лекарем не хочу больше, мул под богатой попоной, как у мастера Симона, — это не по мне, слишком низкий удел. Мне бы, как поется, стяг, да шлем с забралом, да дружину под начало. И скакуна, что роет землю копытом и понесет меня в сраженья. Гори они огнем, все книги, будь они прокляты, все часы, что потратил я, томясь от скуки в обществе старого надоеды Пайо Гутерреса!
— Что сделал тебе этот святой муж, сын мой?
— Да кому еще, кроме него, удалось бы вбить мне в голову латынь, и еще раз латынь, и всякие там песнопенья церковные, и все их поученья да изреченья? Святой он, верно, только уж как я томился от скуки! Но то правда, ни от кого другого я бы такое терпеть не стал. Если бы не доброта нашего архидиакона, не ангельское его терпение, я и читать бы не выучился, сдается мне.
Мягкая улыбка, выражение нежности почти ангельской озарило жесткие черты Гиомар; глаза ее перестали метать молнии, теперь они излучали кроткий и чистый свет, сладостный, как апрельское утро. И как апрельское утро, они были омыты росою, ибо роняли одну за другой пленительные слезы — слезы, которые рождены радостью душевной, которые благодарность и самые чистые наши природные склонности исторгают из благословенного источника. Когда плачет такими слезами женщина, кажется, что плачет ангел.
— Васко, — сказала мать голосом, идущим из глубины сердца и в глубь сердца проникающим, — Васко, сын мой, не думала я, что у меня еще найдутся слезы хотя бы для тебя либо для того, чтобы выплакать их в судорогах ярости; но доброта этого человека такова, что слезы набежали на сухие мои глаза; она словно жезл пророка, что расколол бесплодный камень пустыни. Даже ты не все знаешь о том, насколько добр и свят этот человек божий. Он был добрым ангелом твоей матери, сын мой… И я утратила его по вине того демона… Вот кому следовало бы стать твоим отцом. Но роковой погубитель моей жизни… О небо! Так, стало быть, тебя по-прежнему учит Пайо Гутеррес?
— Да, все с той же любовью и с тем же терпением.
— Достойнейший из людей! А епископ знает, что ты проводишь с ним столько времени, и терпит это?
— Епископ его недолюбливает, но уважает и побаивается, потому что из всех наших священнослужителей архидиакон больше всех любим народом и больше всех может, ибо пользуется великим влиянием. И архидиакон знает, что я не подчинился бы епископу, потому что архидиакон — духовник Жертрудес…
— Жертрудес! Кто такая Жертрудес?
— Кто такая Жертрудес! (Еще одна чувствительная струна была задета в сердце юноши.) Кто такая Жертрудес! Да ведь это моя Жертрудес, самая прелестная из всех девушек Порто, Жертрудиньяс с улицы Святой Анны!.. И… ох, грехи мои, хорошо, помянул я святую Анну… бедная Аниньяс, совсем позабыл я про нее, а ведь Жертрудес мне наказывала, чтобы я вернулся поскорее и рассказал ей о том, как обстоят дела с доном Педро! А я сижу здесь и ни о чем таком не думаю. Я ухожу, ухожу, Гиомар. Прости, матушка, но знала бы ты, что случилось с бедной Аниньяс!
— Знаю все и знаю, что народ негодует и жаждет мести. Ты должен идти; тебе пора идти, сын мой. Да препояшет бог Самсона{113} и Гедеона{114} чресла твои карающим мечом. Я же возьму в руки свои нож Юдифи, и в чае кары выну из мешка голову Олоферна, и явлю народу.
— Матушка, матушка, — вскричал юноша в ужасе, — но чего хочешь, чего ждешь ты от меня?
— Того, что ты свершишь: чтобы ты отомстил за меня, отомстил за нас.
— Да, я обещал королю, что нынче ночью моими стараньями откроются перед ним городские ворота и что овладение соборной крепостью мы берем на себя. Я уже и сам не знаю, хорошо поступил или дурно, да и знать но хочу: раз обещал, значит, должен выполнить. Каковы бы ни были побуждения короля, он защищает наши вольности, народ за него, и горожане Порто хотят принадлежать ему, а не епископу. Эти двое, что недавно ушли отсюда, уведомят всех наших сторонников, а их в городе немало. Простонародье не нуждается в том, чтобы его так уж подстрекали, потому что гнет церковников невыносим; они настолько обнаглели в своей развращенности, что даже не утруждают себя лицемерием; сносить это долее — позор. Я с чистой совестью принял сторону угнетенных. Я перешел в стан короля, и он взял меня к себе на службу; я служу ему и членам нашей городской общины. Все это я делаю и буду делать; но поднять руку на… Нет, никогда! А этот брат Жоан да Аррифана, скажи, кто он мне, этот монах, — дядюшка? С чьей стороны? Он твой брат?
— Он никто мне, сын, но я не держу на него зла. Он сам никогда мне зла не делал, а, может статься, делал даже какое-то добро.
— Так что же, он брат моего отца? К этому-то и сводится великая тайна касательно моего происхождения, — к тому, что я отпрыск благородного рода Аррифана, какого-нибудь погонщика мулов или конюха из крещеных мавров?
— О если бы, сын мой, не текла в тебе та кровь, которую именуют они столь благородной!.. Брат Жоан да Аррифана не состоит с тобой ни в каком родстве. Он растил тебя с малолетства, но… Ты все узнаешь, сын мой, когда придет время.
Васко уже не владел собою: возбужденный, раздраженный умолчаниями и тайнами, он воскликнул в великом нетерпении:
— Мое имя, мое имя, Гиомар… имя моего отца! Я хочу знать его. Если ты действительно моя мать, если и впрямь питаешь ко мне ту любовь, о которой говоришь, открой мне имя моего отца. Я буду хранить тайну, если такова твоя воля, но знать его должен. А не то…
— Васко, — отвечала мать, нежно обнимая его и осыпая ласками, — Васко, ты уже мужчина, и я родилась заново, вновь обрела жизнь, силу и желание жить с того мига, как увидела тебя таким; но ты мужчина лишь со вчерашнего дня, сын мой, а я вот уже восемнадцать лет как твоя мать. Вот уже восемнадцать лет, как я жива лишь тобою и лишь ради тебя: рассуди же, успела ли я поразмыслить над тем, что к твоей пользе. Кровь твоя благородна, благороднее быть не может, по суждению христиан, но покуда еще не пробил час, еще не пора тебе узнать тайну твоего происхождения.
— Ну что же, оставайся при своих тайнах, я останусь при своих сомнениях и предчувствиях. И поищи другое орудие для своей мести, ибо…
— Ты…
— Я всего лишь бедный студент Васко, без семьи, без имени… и в этом мире есть у меня одна-единственная поддержка и опора — человек, который заменил мне отца. И будь он хоть величайшим преступником в мире… он отец мне…
Гиомар подскочила, словно подброшенная вверх электрическим разрядом небывалой силы. Ее смуглое лицо с резкими чертами, еще миг назад сиявшее жизнью и силой, внезапно исказилось, побледнело, пожелтело, как у покойницы, все оно подергивалось, черты стали пугающе неузнаваемыми, словно под властью внезапного приступа азиатского гнева.
— Что с тобою? — вскричал Васко в смятении и ужасе.
— Ничего, — отвечала она загробным голосом.
Затем, обращаясь к себе самой, шевеля побелевшими устами, чтобы дать выход мыслям, терзавшим ей душу, она забормотала, словно молясь или заклиная:
— Сыновья господа избирали жен себе среди дочерей человеческих… Демон Асмодей{115} влюбился в красоту Сарры, дщери Рагуила, и убил одного за другим семь мужей ее… Почему же не должно ему умереть, а мне жить? Не моим был грех, но лишь мне пришлось каяться… Я исполнилась отвращения к жизни… И смирилась с нею, сохранила ее, чтобы дожить до того дня, когда заключу дитя мое в объятия, и коснусь устами чела его, и прижму его голову к своей груди, и скажу ему: «Приди, сын мой, взгляни на нищету матери своей, на стыд ее и позор. Взгляни на это лицо, его столько лет оплевывали, на эти морщины преждевременной старости, над ними столько лет глумились. Твою мать подвергали гоненьям, издевательствам, швыряли в нее каменьями, честили ведьмой, жидовкой, блудницей, мерзкой и гнусной старухой!.. Взгляни, сын мой, все это запечатлелось на лице у меня, оскорбления иссушили его, словно знойные ветры, все это запечатлелось на моем теле, оно зачахло от кнута, что его опозорил. Взгляни на все это, сын мой, и отомсти за меня, отомсти за мать, дитя мое!..»
— Ты будешь отмщена! — воскликнул Васко в волнении, поддавшись властному могуществу ведьмы. — Ты будешь отмщена. О, я клянусь тебе в этом. Ты будешь отмщена, мать моя. Моя несчастная, моя бедная мать, я должен отмстить за тебя. Так это он, лишь он один — виновник твоих несчастий?
— Лишь он один, — отвечала Гиомар, уже сияя надеждой и ликованьем.
— А как же отец мой, ведь он предал тебя, покинул!.. Как случилось это, скажи мне, и какое участие принял во всем этом твой недруг, человек, который…
— Он причина всех моих несчастий, лишь он один. Не спрашивай, как случилось это, не вынуждай меня нарушить страшную клятву, ведь я клялась Иеговой и книгами Священного писания. Да умрет он и сгинет и да будет имя его обесчещено и опозорено! Пусть плюют люди в лицо ему, как плевали мне в лицо! Пусть, подобно тому, как была бита кнутом я… да, была, Васко, палач принародно бил кнутом у позорного столба твою мать… как ведьму, как блудницу, как коварную и злокозненную женщину… И меня ждал костер, если б не закуталась я в эти лохмотья, не запятнала кожу свою этими мерзкими язвами, если б не пошла бродить от двери к двери, от паперти к паперти, не становилась бы на колени, как идолопоклонница, перед христианскими кумирами, не читала бы их молитв, не перебирала бы эти нелепые бусинки, что выдумали магометане и переняли суеверы-христиане…
— Довольно, мать, я ухожу. Король дон Педро нынче ночью вступит в город. И ты, мать моя, будешь отмщена, клянусь тебе в том.
— Да вооружит бог силою твою десницу и да вложит в душу тебе гнев кар своих! Ибо поистине, сын мой, ты один должен и можешь быть орудием его гнева и дланью его правосудия. Возьми это, здесь золото, мой сын, трать, расточай, бросай его на ветер, оно твое. Без золота ничто не свершается в этом мире, а ты свершишь все, что захочешь, ибо владеешь миллионами.
Старуха наклонилась и, отомкнув тайник, находившийся у подножия очага, вынула оттуда множество мешочков с монетами и зашила их в камзол юноши и в епанчу его, так что вся одежда Васко оказалась как бы на подкладке из золота.
— Еще одно объятие, дитя мое, и ступай. Гроза миновала, идет мелкий редкий дождик. Нынче ночью я пребуду с тобою и благословлю тебя, ибо ты добр и силен, как и подобает отростку от доброго древа.
Глава XXII. Заговор и программа
Васко обнял мать, принял ее объятия и ласки и вышел наконец из ведьминой таверны. Небо уже очистилось и было почти ясным. Молодой человек подошел к пристройке, примыкавшей к примитивно и грубо сработанной стене заведения, или, вернее, составлявшей часть оного, ибо в эту пристройку погонщики ставили своих мулов, — Васко вывел оттуда застоявшегося гнедого, который, дивясь тому, в сколь недостойное место попал, томился и ярился, ибо ему не терпелось вернуться в роскошные конюшни дворца. Юноша заговорил с ним, благородное и умное животное, узнав голос, тотчас же успокоилось и присмирело. Едва ощутив у себя на гриве руку хозяина, а в стремени тяжесть его ноги, скакун, покорный и кроткий, склонился, подобно дромадеру, чтобы принять седока. Твердой и на диво уверенной рысью спустился он по обрывистым склонам Гайи, ни разу не оступившись и не поскользнувшись ни передними, ни задними копытами о вылетавшие из-под них и катившиеся вниз по круче камни и гальку.
Вскоре конь и всадник были уже внизу, на берегу реки. Всадник спешился и, держа коня на поводу, без опаски и тревоги завел его на борт первого же попавшегося савейро. Они пересекли черные потоки Доуро, вышли на берег близ Порта-Нобре, и юноша, снова вскочив на коня, устремился к холму, на котором высился собор.
Народ, все еще возбужденный, хоть и мирно настроенный, бродил группами по улицам Кангостас, Баньярия и по улице Медников. Васко, которого простолюдины знали в лицо и любили, несмотря на его близость к епископу, спокойно пробирался среди горожан, снимая берет при встречах с людьми постарше, дружески кивая людям помоложе, всех приветствуя и от всех получая недвусмысленные изъявления благосклонности, почти восторга, на которые низшие классы не скупятся по отношению к тем, кто с ними приветлив и уважителен без фамильярности; тем, кто не заявляет им всем своим видом и обхождением, как наши нынешние демагоги: «Я столь добр и либерален, что снисхожу до вас», — но, скорее, говорит: «Я не живу с вами, ибо мы слишком разнимся по воспитанию и взглядам на жизнь. Но я с вами душою и телом, с вами в деяньях и помыслах, ибо я брат ваш пред богом и Евангелием, пред законами природы и законами разума».
Кроме того, Руй Ваз и Гарсия Ваз вернулись в город раньше нашего студента и даром времени не теряли. Им понадобилось всего несколько часов, чтобы придать смутному и беспокойному возбуждению народа желаемое направление, которое люди приняли охотно и с восторгом.
Во всех народных волнениях всегда есть некий пробел, некое зияние неопределенности, и всякий, кто отличается хладнокровием — даже если не бог весть как ловок — может легко воспользоваться этим, если вовремя сумеет подбросить народу имя, слово, какую-то фразу, которая этот пробел заполнит. И тут не мысль важна, тут требуется символ. При этом обычно нет времени поразмыслить о том, что же, собственно, символ этот воплощает, недосуг рассматривать сию проблему: там видно будет. Берется слово, имя, штандарт или хоть треугольная шляпа,{116} как недавно произошло во Франции, — и вперед.
Правда, потом за каждым остается право оплакивать ошибку, сожалеть о поспешности и устраивать заговор против того, что сотворил собственноручно; но только это и остается.
И все же так было и будет: ибо народ приходит в бурное волнение не из-за чего-то хорошего, что придет в грядущем, но — неизменно — из-за чего-то плохого, что невозможно более переносить в настоящем.
Иными словами: ни один демагог{117} никогда не совершал революции с помощью своих программ, сколько бы статей в них ни содержалось; все революции совершаются по вине тех, кто правит, их вызывает злоупотреблениями и произволом сама власть.
Ведь пугающий рев народного гнева гласит всего лишь одно: «Разрушим». Не подлежащий обжалованию приговор суда народного гласит всегда: «Смерть».
Но кто же будет жить потом — ибо необходимо, чтобы кто-то уцелел, что-то сохранилось — и что будет построено на этих развалинах, ибо в руинах жить нельзя? Тут-то демагог и берется за свое ремесло, и да простит его бог, ибо он редко начинает добром и еще реже кончает им!
Стало быть, как я говорил, оба брата Ваз, которые теперь ратовали за вольность народа и возмездие его притеснителям так же преданно и рьяно, как прежде защищали привилегии и преступления епископа, коему служили, оба брата Ваз разошлись в разные стороны и вмешались в сборища ремесленников и торговцев; мало-помалу они придали целеустремленность огромной этой силе, которой только того и не хватало, и мощь, расходовавшуюся прежде на гомон и выкрики, они употребили на то, чтобы привести в действие колоссальную машину революции.
Гарсия Ваз повторял доверительным тоном со скорбью в очах и сокрушением в голосе нижеследующее:
— Что они еще не знают, каков злодей епископ, какие бесчинства творит, какие новые утеснения замышляет. Что необходимо положить этому конец, да не мешкая. Но что народ нуждается в поддержке и в предводителях, и только один король может ему предоставить и то и другое. Что восстановить справедливость целиком и полностью, пусть жестокую, ибо злодеяния того заслуживают, в состоянии один лишь дон Педро, прозванный и Справедливым, и Жестоким, ибо ему так же легко отправить на виселицу или на костер епископа, как и любого раба или «малато»,{118} коль скоро они того заслужили. И что король сумеет отбиться от Рима, ежели оттуда будут грозить отлучениями да интердиктами.
— Но мы хотим убить епископа собственноручно, — отвечали простолюдины, — он насилует наших дочек и крадет у нас жен. Мы хотим повесить его на кишках Перо Пса, его сводника; а епископом сделаем архидиакона Оливейраского, он святой муж и не будет ни грабить нас, ни отлучать. Пойдемте к Пайо Гутерресу, к нашему архидиакону. Пойдемте к нему!..
— Пайо Гутеррес, — гнул свое смутьян, — святой старец, вы услышите от него только увещевания да проповеди, призывы к миролюбию да милосердию. Но ему не по силам возглавить наши ряды, взять в руки меч и повести нас на Епископский дворец, и овладеть соборными башнями, такими же неприступными, как башни какого-нибудь горного замка. О нет! Нам нужен человек молодой и решительный, приверженец и короля, и народа, но в то же время он должен быть сеньором настолько, насколько требуется это, чтобы возглавить нас, взять хоругвь Богоматери в палате Совета и пойти с нею впереди нас всех. И говоря по правде, поскольку в нашем краю нет дворян,{119} ибо наш городской устав не разрешает им селиться здесь, то есть у нас только один человек, способный на такое дело, и это… это наш студент.
— Какой еще студент?
— Тот, который состоял при епископе, как состоял при нем я, а теперь ненавидит его, как сам я его ненавижу.
— Но кто же это?
— Цвет юношества, перл среди школяров, жених нашей Жертрудиньяс.
— Васко!
— Вот именно.
— Племянник брата Жоана да Аррифаны?
— Он самый.
— Но ведь он состоит при епископе!..
— Он предпочел бы состоять при сатане. Нет, он служит королю, он за короля, друзья мои. И узнайте великую тайну…
Все сгрудились вокруг Гарсии, который возвестил таинственным тоном государственного секретаря, со всею серьезностью сообщающего какую-нибудь чепуху пустоголовой ораве — своему парламентскому большинству:
— Знайте, честные мои друзья, что наш Васко виделся нынче с королем, который тайно пожаловал в Грижо, чтобы переговорить с ним.
— Король в Грижо! — возопили все в один голос.
— Шш-шш, эдак вы все погубите. Да, он там, но тс-с! И больше я вам слова не скажу, коли не поклянетесь хранить тайну.
— Клянемся.
— Хорошо. Теперь никому ни слова.
— Я только жене скажу, а то она…
— А я только куму Бонифасио.
— А я…
— Хорошенький способ хранить тайну и держать слово! Говорят же вам, вы эдак все погубите.
— Верно, верно, нужно хранить тайну. А до каких пор, Гарсия Ваз? Трудно все-таки…
— До нынешней полуночи.
— Ладно, ладно, до полуночи.
— Васко — наш человек, — продолжал народный оратор, — он доставит нам приказы короля; услышанные им из королевских уст. К тому времени, как совсем стемнеет, недолго осталось ждать, — каждый пускай вооружится лучшим оружием, какое у него есть, и мы соберемся здесь, возле арки, и отсюда отправимся в палату Совета за нашим знаменем. Там поговорим о том, что надлежит делать.
— Я вот на чем стою: епископа казнить и долой все пошлины да подати.
— Я-то не столько за это все, сколько за то, чтобы Жила Эанеса лишить звания судьи: он осел и мошенник.
— Нет, у меня другое, что я хочу, так это…
— Хватит, хватит, друзья, покуда больше никаких разговоров. Молчок! И пускай каждый подготовится к нынешней ночи.
Таким манером Гарсия Ваз остановил сей поток программ, которые уже заструились в воздухе, грозили стать еще многоводнее и вскоре, подобно Ниагарскому водопаду, обрушились бы водяною завесой над готовящейся революцией, причем весьма вероятно, что под наклонно летящими мощными струями осталось бы цело и невредимо все то, что революция больше всего стремилась, жаждала и, возможно, должна была уничтожить в первую очередь.
Программы, как видите, — штука весьма древняя, а не какой-то недуг нашего времени.
Если в одной части города так действовал Гарсия Ваз, точно так же действовал в другой части его братец Руй. И когда наш Васко очутился на улице Святой Анны, а потом на Баньярии, таких многолюдных сейчас, он увидел, что ему дружески улыбаются, являют знаки понимания, выказывают сдержанный восторг, который хоть и не прорывался наружу в приветственных возгласах, поскольку еще не приспело время, но был заметен и во взглядах, и в выражениях лиц.
Васко ощущал то, что витало в воздухе, и хоть все это льстило его самолюбию — что было естественно при его молодости и девственном неведении политических премудростей, — все же душа его, незаурядная и тонко чувствующая, была во власти непреодолимой меланхолии, которую навевают все триумфы в этом мире, где бы ни были они завоеваны, на форуме или в академии, на трибуне или в салоне.
Vanitas vanitatum, et omnia vanitas![26]{120}
Васко еще не знал этого, да и никто не знает, пока не изведает на собственном опыте; но он ощущал, предчувствовал, догадывался. Такова роковая привилегия прекрасных и возвышенных натур: они расплачиваются дорогой ценой и всякою монетой — вплоть до горестных прозрений такого рода — за свое превосходство над людьми заурядными, так завидующими этому превосходству!
Васко ехал в печали и задумчивости; и благородный скакун, казалось, был удручен душевным состоянием своего всадника, он прял ушами, понурившись, и ступал по извивам улицы Святой Анны медлительно и чинно.
Они были почти у самой арки, когда мимо проехал на крепком муле, рысившем размашисто и четко, один из стремянных епископа. Поравнявшись с ним, Васко узнал его и, попросив остановиться, соскочил с гнедого и бросил стремянному поводья:
— Отведи его в конюшню, да пусть его накормят получше, он в том нуждается.
Стремянный поехал дальше своим путем, ведя в поводу гнедого, а Васко вошел в дом нашей милой Жертрудиньяс, по которой, признаться, друг-читатель, я уже изрядно соскучился. Быть может, ты тоже?
Если так, то с ощущением сим будет очень скоро покончено, потому что в следующей главе и мы войдем в ее дом, вернее, в дом отца ее Мартина Родригеса, медника по своему ремеслу, судьи и муниципального советника преблагородного, исконно верноподданного и непобедимого града Порто,{121} эти эпитеты приданы ему и закреплены за ним мною, а почерпнул я оные из хроники монастыря братьев-сверчков.
Да, я придал их нашему городу и закрепил за ним в одном декрете, писанном мною в самом высокопарном стиле, этакое патриотическое воззвание, окончательный приговор, каждая фраза — как уголь раскаленный.
В этом декрете, каковой был представлен моим приятелем М. П. на одобрение королеве{122} и заслужил оное, мы реформировали городской герб, предложили для него геральдические фигуры башни и меча, а в центре щита поместили сердце дона Педро… Но бароны града Порто заявляют, что ни приятель мой, ни я не почитаем памяти дона Педро, что мы демагоги и невесть кто еще…
Бароны моего родного края, сдается мне, таковы же, каковы все прочие бароны Португалии и принадлежащих ей островов, а именно…
Иными словами, они бароны и есть, этим все сказано.
Глава XXIII. Жертрудес
Уже вечерело, когда сеньор Васко поднялся по крутой лестнице дома мастера Мартина и похлопал в ладоши около двери нижнего жилья. Очень знакомый голос, дребезжащий тембр коего, будучи раз услышан, оставался в памяти навсегда, проговорил изнутри:
— Во имя божие, аминь! Кто здесь и кого надобно?
— Мирный гость, — ответствовал наш студент.
— Мирный, мирный… О каком мире можно говорить сегодня, когда повсюду война, смута и погибель, когда у мужей похищают жен под самым носом сеньоры святой Анны и близ чудотворной ее часовни; когда простонародье до того распетушилось да разважничалось, что помоги нам боже!
— Тетушка Бриоланжа, это я.
— Это я… Да еще — тетушка Бриоланжа!.. До чего вкрадчивые у него речи!.. В недобрый час поддалась бы я на твою вкрадчивость, бездельник, кто бы ты ни был. Нашел, в чью дверь стучаться! Спрашиваю, кто — я, говорит! А в доме-то две девицы… Что, нет разве? А отца-то дома нету! Так и сидят они все до сих пор в палате Совета, туда и обед ему отнесли, мастеру Мартину-то, бедняжке! Мало ему было радости от обеда, вон сколько забот на него свалилось. Отнесли обед, отнесли… И судя по всему, ужин тоже отнести придется…
— Но, тетушка Бриоланжа, откройте, прошу вас, мне нужно переговорить с Жертрудиньяс.
— И Жертрудиньяс сейчас ни с кем не станет разговаривать, и Бриоланжинья вам дверь не откроет. Отец-то в палате, мы там край родной спасаем, может, и ночевать домой не придет; ни с кем разговаривать не будем.
— Но как раз по этой-то причине, тетушка Бриоланжа, как раз по этой причине надобно мне поговорить с Жертрудес. Я же Васко.
Но старуха, глухая к мольбам и уговорам, тугоухая от природы, а еще более — от неумолчной болтовни, которой сама себя оглушала, старая Бриоланжа, готовая впасть в безумие при мысли, что пришли ее похитить… Тут какой-нибудь шалопай, возможно, сочтет уместным процитировать строку из Бокаже:{123}
Безумна, коль узрит и коль не зрит его, —иными словами, старуха, впадающая в безумие и при мысли, что роковое приключение выпадет ей на долю, и при мысли, что не выпадет, не хотела открывать и не узнавала голоса Васко. В досаде и нетерпении юноша готов был прибегнуть к крайним мерам, когда Жертрудес, которая в верхнем жилье кормила и нежила сыночка Аниньяс, сердцем почуяв, что сии длительные переговоры Бриоланжа ведет, должно быть, с ее студентом, сбежала по внутренней лестнице и, подойдя к старухе, молвила:
— Иисусе, Бриоланжа, до чего же вы перепуганы, тетушка! Я сама подойду к двери, я-то никого не боюсь.
— Девочка, девочка, ты погибла! Это они, девочка, люди из простонародья, шатаются по домам, крадут девиц и почтенных женщин, творят всяческие бесчинства и непотребства, чтобы потом возвести поклеп… прости меня, боже, не хочу и говорить, на кого… Не открывай, девочка…
Но Жертрудес уже повернула ключ, отодвинула засов, и Васко одним прыжком очутился внутри дома, почти в объятиях прекрасной дочери медника, а старуха все еще крестилась, взывала к богу и бормотала «изыди, сатана», пытаясь оборонять крепость… каковая уже была в руках противника.
Когда я говорю «в руках противника», пусть достойный читатель не истолкует сие выражение буквально, ибо Жертрудес была девушкой пылкой и целомудренной, да и наш Васко — что столь же верно, но еще более существенно, — и наш Васко еще только разбирал азы первой своей любви.
Оба видели и слышали лишь друг друга.
— Васко!
— Жертрудес!
— Как я по тебе соскучилась!
— Правда?
— И столько всего случилось, пока тебя не было!
— Я уже все знаю.
— Когда же спасенье?
— Нынче ночью.
— Нынче ночью! Но ведь Аниньяс все еще в руках епископа…
— Он не коснется и волоска на голове ее.
— Почему?
— Потому что ее отвели в тюрьму, а тюрьмой ведает Пайо Гутеррес, он и отвечает за Аниньяс.
— Ох, я все равно за нее тревожусь, для епископа нет ничего святого, а у Перо Пса лапа когтистая, как у демона, он ее и из тюрьмы вытащит.
— Не бойся, на сей раз ничего худого с нею не приключится. Да и никогда больше, если дело пойдет так, как я надеюсь. Вот слушай.
И они завели шепотом долгую беседу, из которой по временам слышалось то одно, то другое слово, произнесенное громче. Особенно Жертрудес порою не могла не дать воли голосу, недаром была она женщина, да притом влюбленная, да притом дочь.
— А мой отец, вдруг с ним что случится! И ты… ох, и ты, Васко, в этой смуте… Береги его и себя. Иисусе, что, если эти люди предадут тебя? Нет, предать не предадут, это не в их обычае. Но они так склонны падать духом, простолюдины, так склонны менять намерения… Им свойственно то самое непостоянство, в котором обвиняют нас, женщин. Но я замечаю одну странность, Васко: ты печален, задумчив, это совсем непохоже на тебя! Что с тобой?
— Я несчастлив, Жертрудес.
— Отчего? Сомневаешься в моей любви?
— О нет! Скорее усомнился бы в солнце, что нас освещает, в земле, что нас носит.
— А прежде ты говорил, что так счастлив, оттого что уверен во мне! Говорил, что мнишь себя баловнем судьбы при одной только мысли, что избавился от опеки брата Жоана и епископа, чтобы не идти в каноники и чтобы отец мой дал согласие на… Ах, Васко! Теперь, когда тебе покровительствует король и мой дядюшка и все у нас так хорошо, как мы никогда не осмеливались и мечтать, теперь ты печален, теперь говоришь, что несчастлив!
— И в довершение горя не могу поведать тебе мои печали, не могу даже сказать тебе… По крайней мере, сейчас не могу.
Оба опустили глаза, оба впали в унылое безмолвие меланхолии, которая беспрепятственно проникает из одного сердца в другое, когда двое любят друг друга.
Отчего он печален, что скрывает от меня? Ответьте мне, прекрасные читательницы, разве этот вопрос не приведет в задумчивость самые беспечные и бездумные шестнадцать весен, разве не побледнеют от него ланиты Гебы,{124} не омрачится печалью самый радостный изумруд, не подернется туманом самый улыбчивый сапфир из тех, что вправлены в золотистые либо каштановые ресницы?
Головка нашей Жертрудес, однако же, не была ни белокурой, ни каштановой, а прелестные глаза ее нельзя было уподобить ни сапфирам, ни изумрудам, они были печального черного цвета, черны и длинны, как длинная зимняя ночь, и, как она, печальны и склонны, подобно ей, переходить от беспокойной и энергической живости к томной неге.
Но не делайте вывода, что моя Жертрудес была смуглянкою. Я не поклонник смуглянок, мое правило — белокожая женщина, смуглокожий мужчина… Словом, Жертрудес была белолика и тонка станом и могла бы зваться Изаурой, Матильдой, Урракой или Мумадоной,{125} живи она в замке с зубчатыми стенами и подъемным мостом, ибо и в лице ее, и в осанке, и в душе было столько благородства, что она перещеголяла бы любую дворянку. Однако ж звалась она Жертрудиньяс, проживала на улице Святой Анны, родилась от отца-ремесленника, ибо так ей было на роду написано. Вина не моя. В мире мы видим вседневно несуразицы и почище этой.
Лорд Байрон уже сказал, что действительность куда страннее, чем вымысел. Так оно и есть. Я знаю принцесс-судомоек, прозябающих в зловонии бакалейных лавок, и видывал воздушных сильфид, которые парили в поднебесье, ибо стояли на балконе пятого этажа.
Аристократия — я имею в виду не безобразный пол, а только прекрасный, — аристократия была бы восхитительным установлением, когда бы ежегодно собиралось судилище, беспристрастные и достойные члены коего решали бы, кого включать в ряды таковой, а кого исключать. Прошу, чтобы и меня сделали членом сего судилища, но сразу же заявляю, что не буду голосовать за толстух, за дур, за ханжей, — другое дело, благочестие истинное, — и не буду голосовать за старых дев, притворяющихся, что им всего пятнадцать, за завистниц, за сплетниц, за красоток, что идут купаться в панталончиках и короткой пелеринке с капюшоном, именуемой «душка Жозе», не буду голосовать за тех, кто отплясывает польку, хоть им давно за тридцать, распевают «Поселянка из-под Лиссабона», читают виконта д’Арленкура{126} или стихи поэта… Стой! О стихах ни слова, всем известно, кто живет в доме со стеклянной крышей…{127}
Бедняжка моя Жертрудес сидит такая печальная, и Васко ее в печали… а я развлекаюсь подобной чепухой и не думаю спешить им на помощь! Премудрый Артемидор,{128} высший судия странствующих рыцарей историографии, был бы вправе сурово покарать меня за то, что я скверный летописец, покидающий своих героев посреди приключений и отправляющийся фланировать по сей вековечной ярмарке тщеславия человеческого, которая так забавляет меня.
Влюбленные были печальны, не разговаривали, не глядели друг на друга, и не знаю, много ли размышляли; но оба ощущали в душе ту глухую и ноющую боль, которая изнуряет, но не убивает — а если уж убьет, то столь долгое время спустя, что неизвестно, отчего умирает тот, кто умирает от этой боли. А врачи объявляют: «сердечные нарушения!» или «апоплексический удар». Ваш пациент скончался от горя, доктор Тиртеафуэра,{129} от страданий, доктор Санградо, от мук и скорбей, доктор Синтаксис; но вы в этом ничего не смыслите и недугов этих не лечите: убивают недуги души, а не тела.
Жертрудес как женщина склонна была к смене настроений более, чем ее возлюбленный, а потому она первою стряхнула мучительное оцепенение, сковывавшее дух ее, встала и молвила:
— Васко, ступай, пора. Спаси Аниньяс и позаботься о моем отце.
— Прощай, Жертрудес! — отвечал студент, все еще меланхоличный и задумчивый. Но и в его умонастроении внезапно свершился переворот, в эти лета столь мгновенный и самопроизвольный — и столь естественный при жизнерадостном его характере и непоседливом темпераменте; и Васко, который стоял уже у двери, собираясь отодвинуть засов, повернулся к Жертрудес, лицо его прояснилось, в глазах засветилась улыбка, и он воскликнул:
— Жертрудес, нас обоих заворожили какие-то злые ведьмы. Долой наваждение и сглаз, девочка! И к дьяволу печали, потому что мне жизнь не в жизнь без тебя, и я хочу, чтобы ты всегда была радостной и смешливой, как ясное небо!
— Мой Васко!
— Моя Жертрудес!
— Любимый!
— Знаешь ли, Жертрудес, сердечко мое, что мне хотелось бы снова стать беспечным и безвестным студентишкой? Что мне в тягость моя собственная важная особа? Что короли и епископы, сеньоры и члены общины, все они, вместе взятые, не стоят того, чтобы увечить себе сердце, жить не в ладу с собою, гнаться за всякими химерами, одна суетнее другой, лживее, обманчивее? Если слава такова, если это и есть величие…
— Мой милый Васко, ты прав, но ведь речь идет о чести родного края, о его свободе, о том, чтобы спасти невинную от бесчестья и позора. Мстить за утесненных, карать гордыню утеснителей — вот слава, что не может быть ни лживой, ни суетной. Смелее, Васко, на врага!
— Иду на врага, иду на врага!
И с веселым смехом он прыжками понесся по лестнице, распевая:
На клинке моем отменном Я клянусь моею дамой, Что злой мавр не уцелеет За стеною этой самой.Васко в прежнем своем обличье, наш студент Васко ожил и расцвел в этот миг — и полетел на беспечных крыльях счастливой своей юности.
Жертрудес остановилась у окна, чтобы поглядеть, как он выйдет, и еще раз попрощаться с ним очами, поглядеть, как завернет он за угол, и помахать ему в знак прощания… на сей раз последнего: постскриптум длинного любовного послания, на которое было истрачено впустую столько бумаги… прошу прощения, мои прекрасные дамы, совсем не впустую, а затем, чтобы повторять и твердить уже известные, общеизвестные вещи, — и только на последней четвертушке сказано то, что хотелось, так хотелось сказать и что не было сказано в длиннейших периодах огромной и запутанной рукописи.
Глава XXIV. Бриоланжа
Если ты, благосклонный читатель, следил за ходом увлекательной моей истории с тем вниманием, коего она заслуживает, ты, должно быть, дивишься — дивишься и недоумеваешь — тому, что в предыдущий диалог, достаточно многословный и долгий, так и не вмешался ни разу третий собеседник, а ведь при сем присутствовала собственной персоной такая энергическая и речистая особа, как тетушка Бриоланжа Гомес, ходячий лексикон, истинный фонтан словесный, не имеющий себе равных в своем квартале да, впрочем, и во всем городе Порто. Но как бы то ни было, она находилась здесь же, она не спала — и впервые за шестьдесят семь лет своего словообильного существования согласилась пребывать на сцене в качестве персонажа без речей.
Без речей! Как? Быть не может. Земля по-прежнему вращается, как ей положено, движутся звезды по назначенным им орбитам, реки стремятся к морю, естественный порядок вещей не изменился, по-прежнему правят им извечные законы мироздания: значит, безмолвие Бриоланжи Гомес необъяснимо, немыслимо. Бриоланжа Гомес дышит, Бриоланжа Гомес жива; стало быть, Бриоланжа Гомес произносит, Бриоланжа Гомес говорит: ее язык, ее губы, весь речевой ее аппарат не могут существовать, не трудясь.
А было так. Сидя по-турецки на помосте в углу горницы с огромной подушкой для плетения кружев на груди и перебирая коклюшками, Бриоланжа плела кружево и молилась: бормотала долгие молитвы и краткие, бесконечное множество, она одна знала такое количество молитв, таких разных и таких действенных, — ибо у нее в запасе были молитвы на все случаи жизни, ко всякому из святых, сколько их есть, на каждый день года и на каждый час каждого дня каждого года.
Шарманка сия обладала внутренним устройством, коего хватало на все, и могла бы остановиться лишь в том случае, если бы кончился завод, то есть наступила бы смерть.
Итак, Бриоланжа была жива и молилась: сейчас она бормотала нескончаемое и могучее заклинание против ведьм, колдуний, сглаза и порчи, украшенное латынью в виде vade-retro[27] и abrenuncio[28] и приправленное несколькими щепотками греческого языка в виде таких слов, как Кирие Элейсон, Кристе Элейсон, Агиос и Теос[29] и прочих эллинизмов из требника, каковые ученая сеньора произносила таким образом, что ни в Оксфорде, ни в Кембридже никому не изувечить безнадежнее язык Гомера и язык Вергилия.
Жертрудес не замедлила обратить внимание на то, на что и сами мы его обратили, любезный читатель, ибо, отвернувшись от окна и поглядев на тетушку, она молвила тотчас же:
— Так вы были здесь, Бриоланжа?.. И голоса вашего не было слышно? Что могло случиться в этом мире?
— Разве я не разговаривала, дочка? Как это я не разговаривала — разговаривала, но с тем, с кем должна, и могу, и с кем надобно было поговорить. Потому как в дом к нам вошла было порча; и либо я — не я и не знаю того, что знаю, либо властью, мне данной, должна была порчу снять. И ее как рукой сняло, потому как наш молодец вышел из дому совсем другим.
— Что хочешь ты сказать?
— Что Васко, откуда бы ни пришел он, пришел сам не свой, его сглазили, порчу на него напустили. Будь им пусто, всем ведьмам и колдуньям! Чтоб святой Бенедикт наслал на них паралик, на злых паучих ядовитых, что плетут паутины зловредные! Аминь! Но юнец-то видел ведьму, кого видел, того видел, и пришел измученный, словно упыри кровь из него высосали. Кирие Элейсон! Просвети, господи, мою душу!.. Ступай прочь, не возвращайся, а вернешься — захлебнешься. Подумать только, как забрала его в руки нечистая сила! Ничего, брат Жоан да Аррифана сразу это заметит, пускай же благословит юнца, а беса изгонит добрыми, душеспасительными розгами, пускай задаст ему жару!
— Иисусе, Бриоланжа, что говорите вы! Моего бедного Васко околдовали!
— Пришел он околдованный, точно вам говорю: я это сразу по лицу заметила, едва вошел он, да и взгляд у него был странный. Уж моих-то глаз не обмануть, я тотчас же пустила в ход средство, от которого им туго приходится, и, не выходя из горницы, прижала их к ногтю, проклятущих.
— Кого — их, тетушка Бриоланжа?
— Ведьм, дочка, кого же еще, ох и задала же я им! Еще бы! Три заклятия из пещеры святого Патрика Ирландского,{130} три из раки святого Иакова Компостельского,{131} три из святого храма Богоматери Лоретской,{132} итого девять заклинаний, одно сильнее другого, я все в ход пустила. Вспомните, с каким лицом вышел он отсюда, разве такой он пришел.
— Это правда, он…
— Совоем другим ушел, куда здоровее. И ежели, когда придет он домой, брат Жоан применит средство, которое применить до́лжно, Васко убережется от беды, потому что юноша он добрый и богобоязненный. Только вот есть у него одна скверная склонность…
— Скверная склонность! Какая?
— Да вот втемяшилось ему отправиться в Саламанкскую пещеру. Ох, девушка, заставь его выбросить эти мысли из головы, это ведьмы его сманить хотят, сразу видно, как бы нечистый не завлек его своими злыми премудростями.
— Бриоланжа, Бриоланжа, — воскликнула внезапно Жертрудес, прерывая ее, — что это за шум? Какая толпа народу! Что случилось? Ох, неужели?.. Значит, уже!..
И воистину был оглушителен гул, внезапно загремевший в узкой улочке и отдававшийся эхом в ее извивах, гул голосов и мятежных выкриков, от которого содрогались старые дома.
Обе подбежали к окну, гомон стоял неистовый, но можно было ясно разобрать почти слитный рев:
— Многие лета нашему предводителю! Хотим его и никого другого!
Затем слышались еще голоса, они выкрикивали — и тоже как будто в лад:
— Пускай возьмет хоругвь Богоматери, нашу хоругвь!
— Пойдем за нею! Отберем ее у наших толстопузых судей, у этих каплунов без стыда и совести!
— Епископу руку целовали!
— А надо было потребовать его к ответу.
— Долой судей, многие лета нашему предводителю!
— Многие лета королю дону Педро!
— Многие лета, многие лета!
Тут здравицы загремели с неистовой силой. Чувствовалось, что обращены они к лицу, обладающему властью вознаградить тех, кто их возглашает.
После здравиц — проклятия: таков ритуал.
— Смерть Перо Псу!
— Смерть.
— А епископа повесить.
— Вниз головой, голова-то святым елеем помазана.
— Верно, молодцы. Почтение к святой матери церкви! Не касаться головы епископа, она освящена!
— За шею повесим. Ха-ха-ха!
Гул нарастал, выкрики слышались все яснее и отчетливее, ибо толпа приближалась к арке, к благословенной арке святой Анны, близ которой, казалось, суждено было сосредоточиться всем смутам того дня, словно святая, оскорбленная неслыханным злодейством, учиненным по соседству, пожелала увидеть плоды своего праведного гнева.
— К арке, — загремел чей-то громовой голос, — к арке угодницы! Там мы провозгласим его нашим начальником и предводителем и дадим ему клятву на верность.
— К арке! — отвечала толпа.
И снова послышалось оглушительное и нестройное звяканье — медники опять принялись колотить в котлы; булочницы из Авинтеса и Валонго размахивали плащами и пристукивали деревянными башмаками, а уличные мальчишки, разношерстная порода, существовавшая во всех странах и во все времена, выли, свистели и, шастая везде и всюду, бурно выражали свои восторги.
Толпа, растекшаяся было по узким улочкам, снова слилась воедино и, сжатая в тесноте, бурлила с удвоенной силой; так полноводная река ревет и ярится, стесненная отвесными скалистыми берегами русла, и стремит бег свой к равнине, где сможет привольно разлить свои воды и порезвиться на просторе, играя с прибрежными песками.
Глава XXV. Революция
Теперь становилось очевидным, что за время передышки либо размышлений, наступившее после того, как Пайо Гутеррес успокоил своими посулами толпу, собравшуюся у дверей собора, мятеж принял более упорядоченный характер — в той степени, в какой мятеж вообще может быть упорядочен, — и превратился в революцию.
Она родилась, как все истинные и сознательные революции, из ярого, законного и праведного гнева народного, родилась без содействия повитух и кумушек, по мгновенному и естественному веленью природы, но зато потом упомянутые повитухи и кумушки успели накормить новорожденную и запеленать ее на свой лад. Сейчас она была не сильнее, чем в час рождения; если поразмыслить, можно сделать вывод, что она стала слабее, чем в тот час. Но в тот час у нее не было четкой цели, верно избранного направления, и врожденные ее силы распылялись и пропадали, словно воды большой реки в песке, что их поглощает. Теперь же, хоть сил и убыло, они были сосредоточены и направлены к определенной точке, а потому их мощь возросла безгранично и могла бы сдвинуть с места гору.
Братья Ваз потрудились на славу; имя короля обладало огромным весом, посулы его были твердыми и надежными; и вот, наконец, повторяю, мятеж превратился в революцию.
Теперь толпа стала совсем другою, иначе выступала, иным было построение; выкрики и восклицания приобрели некую регулярность; и даже набатные звоны, которые производились с помощью медных изделий и утром звучали нестройно и не в лад, смешиваясь с гомоном толпы, теперь повиновались воле тех, кто взял на себя обязанности дирижера, хор их звучал громче, когда к ним не примешивались людские голоса, стихал, когда они, так сказать, служили аккомпанементом какому-нибудь революционному лозунгу, и совсем смолкал в выжидательных паузах, когда какой-нибудь народный оратор выступал с сольной партией, которую надлежало расслышать во всех подробностях.
Во главе толпы шагал богатырь, напоминавший святого Христофора, рослый и мускулистый детина с рыжеватой спутанной гривой и в забрызганной кровью рубахе с закатанными рукавами, руки его были обнажены до локтя, ноги — до колена, на боку висел нож. То был Брас Маршанте, мясник, заведение которого находилось поблизости от собора; он вздымал на длинном шесте окровавленную голову огромного пса, увенчанную картонной митрой, достаточно хорошо выполненной; из-под митры свисали, развеваясь, словно вымпелы, надутые воздухом кишки длиною во много вар,{133} издавна служащие эмблемою нашего доброго края, ибо от них ведет начало кличка его жителей и слава их, спесь их и насмешки, мишенью коих они оказываются. Вокруг этого штандарта, и гротескного, и жуткого одновременно, бесновалась орава уличных мальчишек, голоса которых исполняли как бы партию альтов в этом адском хоре, кларнетов в этом дьявольском оркестре: кто тявкал, кто подвывал, кто лаял и повизгивал, и все выкрикивали тысячи ругательств, поношений и издевок, обращаясь к песьей голове, увенчанной митрою. Кое-какие из этих выкриков были забавны и не лишены остроумия, они заслужили бы во время какого-нибудь древнеримского триумфа награды в виде сластей и орехов;{134} но звучала и просто чудовищная брань, от которой бросало в дрожь. Время от времени разрозненные обрывки этой вереницы проклятий и насмешек соединялись в песню, грубую, но составленную достаточно искусно и свидетельствовавшую, что сия народная манифестация не была полностью самопроизвольной, но ее организовали и подготовили.
Вот эта песнь или гимн, чтобы воспользоваться революционным языком нашего времени:
Гав-гав-гав, кланяйся, шляпу сняв, Сам дон Перо Пес выступает, повесив нос! Тяв-тяв-тяв, вот уж поганый нрав! Но стоит епископ его, подлого пса своего. Епископ задал вопрос: — Скажи мне, мой верный пес, Чего ты повесил нос? — Медников черт принес, Я слышу гул их угроз. — Не бойся, мой Перо Пес, Коль епископ я сам, кровосос, Нехристь, блудник, виновник слез, Пусть епископом станет пес. Коль епископ у нас кровосос, Пусть епископом станет пес! Гав-гав-гав, кланяйся, шляпу сняв. Сам дон Перо Пес выступает, повесив нос! Тяв-тяв-тяв, вот уж поганый нрав! Но епископ стоит его, подлого пса своего.И в заключение — грохот меди и бронзы, который был бы в состоянии утолить даже жажду, терзающую нашего друга Мейербера,{135} который вечно алчет сих металлов, не бог весть сколь драгоценных, и барабанную перепонку которого, перетруженную и надорванную, вряд ли заставили бы вибрировать даже колокола Мафры.{136}
За мальчишками, исполнителями сих хвалений, следовали медники-музыканты. Они, как я уже говорил, аккомпанировали на своих инструментах вокальной партии мятежа, усиливая тем ее звучание.
Тебе хорошо ведомо, друг-читатель, что ни одна из наших революций, контрреволюций и всего такого не обходится без гимна. Мы — нация гармоническая, гармоническая по преимуществу, гармоническая настолько, что по мере усиления дисгармонии и разлада между нами самими усиливается в соответствующей пропорции наша потребность шагать в такт патриотическим напевам.
Ни один народ в мире не может похвалиться тем, что обладает такой богатой и разнообразной коллекцией патриотических гимнов; все они так прекрасны, так самобытны, так поднимают дух, что им позавидовал бы сам Тиртей{137} или демагог Алкей,{138} и слова их — не только музыку — следовало бы увековечить для потомства, для чего лучше всего было бы запечатлеть их резцом на ягодицах сирен, украшающих фонтан на городском бульваре в Лиссабоне или на фасаде театра Агриан, а то выложить цветными камушками, — это еще надежнее, — согласно всем канонам этого прекрасного искусства на мозаичной мостовой площади Росио. Как бы то ни было, я хочу, чтобы они слились, соединились с каким-нибудь из тех великих памятников современного искусства, которым суждено обессмертить наш богатый Периклами век.{139}
Затем шествовала толпа вооруженного народа; кое-кто был в кольчуге и в шлеме с забралом, кое-кто только в каске. У того серп, у этого копье, еще у кого-то меч; один с алебардой, другой с арбалетом.
Иные цирюльники, не ведая о Дон Кихоте, которого пришлось бы дожидаться им три столетия, обнаружили, что таз и есть шлем Мамбрина,{140} и водрузили тазы себе на головы. Какой-то трактирщик насадил на оную бочоночек, а многие надели котелки. Медные подносы служили щитами, их было не счесть. В составе мятежников явно преобладал и выделялся цех медников. В этом скопище вооруженных людей — плохо вооруженных наружно и отменно вооруженных внутренне: энергией своей души, своей озлобленностью и, будем правдивы до конца, великой справедливостью своего дела — резко бросалась в глаза группа более приметная и лучше экипированная, чем все прочие, одни были в нарядных форменных одеждах, другие должным образом вооружены. То были алебардщики епископа, почти целая рота, которую Руй Ваз и Гарсия Ваз переманили на сторону простонародья.
Во главе роты шагали оба брата, а между ними юноша в красивом одеянии, полупридворном, полусвященническом, как то было в обычае у щеголей-школяров той поры; на нашем нынешнем языке мы сказали бы — у студентов-львов.
Жертрудес, глядевшая на все это из своего окна, сразу же узнала юношу и при виде столь явного осуществления всех своих замыслов перепугалась донельзя: так всегда происходит с людьми восторженными, когда в решающий час они убеждаются, что опасности, которых так жаждали и искали, подстерегают тех, кто им всего дороже.
Бриоланжа также незамедлительно его узнала и стала быстрее перебирать зерна четок, почти не переводя дыхания между молитвами, которые она бормотала вперемежку с проклятьями, как то было у нее в обычае:
— Иже еси на небеси… Не говорила я разве, девочка? Да святится имя твое… Васко, он самый! Да внидем в царствие твое… Жертрудиньяс, девочка… Да свершится воля твоя… Видно, не осенил его благословением брат Жоан да Аррифана… На земле и на небеси… Бедный мальчуган, оказаться во власти этих людей!.. Gloria patri et filio…[30] Ox, сынок, кто избавит тебя от этих фарисеев!..
И тетушка Бриоланжа продолжала в том же духе, прилежно читая молитвы и перебирая четки, но не оставляя без внимания и происходящие в этом мире события, которые всегда весьма занимали старуху при всей ее набожности.
Улица была битком набита людьми. Перед аркой, с той стороны, где находился алтарь святой, алебардщики остановились, и им удалось оттеснить толпу назад.
Руй Ваз снял засов с двери Аниньяс и, войдя в дом вместе с Васко, остановился рядом с ним у окна нижнего жилья, откуда и стал держать речь, словно перед ним была трибуна или rostrum.[31]
— Здесь, — загремел он, — здесь, друзья мои, перед этой благословенной аркой, на глазах у святой, что доводится матерью самой Приснодеве, здесь, где было учинено злодейство, — здесь поклянемся мы отмстить за него и здесь дадим присягу на верность и окажем почести предводителю, которого выберем, чтобы он возглавил нас и повел.
— Верно, верно! Разумные речи.
— Добрые друзья и соседи, поклянемся, что будем повиноваться ему во всем и всецело.
— Не многовато ли будет, этак сразу, — проворчал кто-то из толпы.
— Во всем и всецело! — выкрикнула в восторге толпа, не задумываясь над смыслом своего выкрика.
— Покуда он будет за нас, — гнул свое несговорчивый, — и будет печься о нашем достоянии, как подобает…
— Это само собой — а как же иначе!
— А не будет, так и мы не будем.
— А не будет, так и мы не будем.
— Довольно споров! — вмешался Руй Ваз, видя, что воздух уже сотрясают, подобно гулким пузырям, взрывы безрассудства народного. — Довольно споров. Взаимное недоверие и зависть всегда были во вред, а то и на погибель любому делу, какое народ затевал, они лишают народ бодрости, сил и единства и, в конце концов, предают власть имущим, а тем и усилий-то никаких не потребуется, чтобы прибрать нас к рукам, только выждать, пока придет пора, а она уж придет… коли начались недоверие да зависть, откажемся от нашего замысла. Перо Пес пускай грабит нас, сколько ему угодно, епископ пускай отнимает у нас столько жен и дочерей, сколько ему захочется… Аниньяс пускай себе остается во дворце, или в темнице, или где она там… а Афонсо де Кампаньан пускай себе носит рога, que se los coma con pan[32]{141} как говорят кастильцы… либо пускай позолотит их и выставляет из-под берета напоказ, как поступают сеньоры, когда рога им наставляет король… Каждый за себя, а бог за всех. У кого зуд, тот пускай себе чешется; кому рога наставили, тот пускай себе бодает что угодно и кого угодно; а что до меня, то неохота мне плясать с трехногой дылдой, мне известной, да чувствовать при этом, как Перо Пес в лад постукивает меня по загривку, чтобы плясалось веселей.
Общий ропот недовольства пробежал по толпе.
— Нет уж, друзья мои, — продолжал простодушный оратор, простодушный, но искушенный — или искусный — настолько, что сумел оценить произведенный им эффект. — Нет уж, нет уж, тут дело такое, либо берись, либо утрись. Судьи наши и выборные — сами знаете, какие из них предводители. Дворян мы не желаем, да и нет их у нас. Наш брат простолюдин для такого дела не годится. Помните, нынче вечером я вам про что толковал? Есть, мол, одна тайна…
— Верно, тайна… Подавай ее сюда…
— Кого подавай? Кого подавай?
— Молчок! Полночь еще не настала.
Но из уст в уста и с величайшими осторожностями уже передавалась великая весть, что король дон Педро находится в Грижо и что нынче ночью он, переодетый, вступит в город, если народ завладеет соборной крепостью.
— Так вот, — продолжал Руй Ваз, — замысел у меня был такой: надо бы выбрать нам дельного молодца, приверженца короля, да чтобы душою и сердцем был он готов повести нас и действовать и мечом, и языком, по обстоятельствам. Но коли вы не хотите…
— Хотим, хотим.
— Ну, раз вы хотите и раз должен он возглавлять нас и вести, покуда не будет решен этот спор, то надобно, чтобы была у него власть и все мы ему повиновались. Клянемся повиноваться ему или нет?
— Клянемся, да, клянемся.
— И не будем из-за всякого вздора и чепухи работать языком вместо того, чтобы работать мечом?
— Не будем, клянемся! Руй Ваз прав! Многие лета нашему предводителю!
Подобно Марку Антонию,{142} Руй Ваз подготовился к сцене передачи власти. Однако ж он оказался счастливее либо благоразумнее, чем римский оратор, и не оскорбил ревнивое величие суверенных толп символом власти, которую собирался передать нашему герою. Символ сей был завернут в кусок парусины; развернув ее, Руй Ваз вынул грозный рыцарский меч, опоясал им Васко, затем, обнажив меч, вложил его в руку юноши и, склонившись перед Васко, словно присягал ему на верность, Руй Ваз промолвил:
— Примите этот меч, сеньор Васко, и поклянитесь благословенным крестом на его рукояти, Богоматерью, покровительницей нашего города, и блаженною святой Анной, внемлющей нам, поклянитесь отмстить за нанесенную нам обиду и покарать тех, кто попрал наши права.
Нелегко рассказать, что происходило в тот миг в душе у Васко: столько дум теснилось у него в мозгу и они были так противоречивы! Однако же главная роль в них принадлежала Жертрудес; она стояла у окна напротив, и блеск глаз ее, сияющее лицо говорили яснее слов о том, как торжествует она при виде почестей, оказываемых народом ее возлюбленному; любовь к Жертрудес была сильнее, чем все прочие чувства юноши.
Он, какой-то безвестный студентишка, — и вот возносится внезапно на такую высоту, получает такую власть на глазах у той, перед кем больше всего хотелось ему блеснуть!.. Действительность в своем величии не чуждается пустых грез честолюбия; это истинное и безобманное наслаждение, которое стоит того, чтобы потом расплачиваться днями и годами жестоких разочарований.
Наш студент ощутил, как по всему его телу пробежал нервный трепет, который вызывается электрическою искрой честолюбия, когда в честолюбии этом есть благородство, когда его пробуждает у нас в душе поэзия возвышенных чувств. Глаза юноши сверкали, лицо пылало, сердце колотилось в груди; подняв меч над головою, он проговорил звучным и раскатистым голосом:
— Да услышит меня бог и да поможет он мне! Итак, я клянусь здесь, на том самом месте, где нашему городу нанесена была обида и оскорбление, перед ликом святой, внемлющей нам… здесь, где приют лучшего, что только есть в моем сердце, и мне хотелось бы обладать тысячей жизней, чтобы все их отдать в подтверждение моей верности и моей клятвы, — здесь клянусь я, что доведу до конца то, что мы замыслили, добьюсь восстановления чести наших друзей и соседей, отомщу за нанесенное нам оскорбление и возвращу свободу утесненному народу нашему.
Жесты, голос, вдохновенный и искренний вид юного оратора — еще более, нежели слова его, — привели людей в восторг. Взрыв здравиц и неистовых рукоплесканий загремел над толпою, знаменуя торжественное приятие клятвы того, кого горожане избрали своим предводителем и главою.
— А теперь идем в палату Совета! — молвил Руй Ваз. — Возьмем наш штандарт, хоругвь Богоматери.
— Идем! — взревел хор голосов.
— А по пути, — предложил один из числа тех, у коих всегда наготове какой-нибудь гнусный умысел, если им кажется, что при исполнении оного они не рискуют собственной особой, — а по пути вышвырнем из окошка наших толстопузых судей.
— Кто это сказал? — загремел Васко. — Хочу взглянуть ему в лицо, и пускай повторит свое гнусное предложение у всех на виду.
— Это вон кто сказал, — отвечали в один голос три дюжих медника и тут же схватили и выволокли из толпы щуплого и оборванного человечка, портняжку-штопальщика, которого все знали как отъявленного прихлебателя, пробавлявшегося крохами с епископского стола; при появлении деспота-прелата он кланялся ниже всех и бухался на оба колена, дабы удостоиться пастырского благословения. Тотчас же всем стало известно — в подлунной все становится известно, — что лачужка в Рио-де-Вила, где проживал он, принадлежала мастеру Мартину, одному из судей, приговоренных им к Тарпейской скале,{143} каковой давал ему кров из милосердия, за что портняжка платил ему тем, что время от времени шил скверный колпак либо штопал старый плащишко с капюшоном.
— Разоружить этого негодяя, — приказал Васко, — и взять под стражу. Такие защитники народу не нужны.
— Хорошо сказано! Да здравствует наш предводитель!
Когда бы все народные вожди умели и осмеливались таким манером обуздывать тех, кто льстит дурным страстям народа, его сикофантов,{144} — а таковые сыщутся и на площадях, не только во дворцах, они всегда там, где власть, — деспотизм давным-давно исчез бы уже с лица земли. Зерна свободы дают ростки в любом климате, но когда появится побег, надобно, чтобы нашелся Вашингтон, который сумел бы выполоть дурные травы и поставить подпорку, не то всякого рода колючие сорняки и чертополохи разрастутся вокруг так буйно, что побег сей погибнет.
Из глаз Жертрудес, нашей восторженной Жертрудес, покатились слезы радости, когда увидела она, что ее Васко с таким великодушием умеет распоряжаться властью, которой обычно все склонны — естественная склонность! — злоупотреблять.
Студент улыбнулся возлюбленной и, попрощавшись с нею знаком, понятным лишь им двоим, возвысил голос, обращаясь к толпе, и воскликнул:
— Вперед, друзья! Блюдите порядок! И никаких бесчинств, никому не чинить вреда!
— Слава, слава! Вперед! — отвечала толпа в восторге.
Васко сбежал по лестнице дома Аниньяс; и каково же было его удивление, когда при выходе из улицы он увидел своего благородного, своего любимого гнедого, взнузданного и под седлом; недавно вверив коня попечению епископского конюшего, юноша и не чаял снова увидеть его так скоро!
Право же, не сильнее была та радость, которую испытывали Пальмерин, или Амадис, или сам Флорисмарте Гирканский,{145} когда, избавившись от чар, надолго задержавших их в плену, либо выбравшись из львиного логова либо из пещеры людоеда-полифема, обнаруживали, что их уже ожидают любимые скакуны, которых они оставили на расстоянии двух или трех тысяч лиг отсюда и которые теперь стоят тут под седлом, взнузданные и наготове, роют землю копытом и трясут разметавшейся гривой, счастливые оттого, что снова видят своих хозяев.
— Так ты здесь, мой славный гнедко! — приговаривал Васко, лаская коня и оглаживая его лоснящуюся холку, — мой отважный, мой бесстрашный! Кто тебя вернул мне так своевременно, когда был ты мне всего желаннее и нужнее!
— Это моих рук дело, я не позволил отвести его во дворец, — отвечал Гарсия Ваз. — Еще чего! В военное время конь — часть воинского снаряжения, то же самое, что оружие, врагу их не отдают. Наш предводитель не мог бы командовать нами пеший; а жеребца под стать этому не сыскать во всем городе, да, пожалуй, и во всей округе Энтре-Доуро-и-Миньо. Мы знаем, как вы его любите… Да к тому ж и добыча добрая! Отпустите поводья, тетушка!
Васко, упивавшийся созерцанием своего любимого гнедого, до этого мгновения не замечал странного пажа, который держал поводья. То была старая-престарая старуха, еще более ветхая, чем ее залатанная накидка, иссохшая, согбенная, голову ее прикрывал огромный капюшон, ниспадавший ей на спину и похожий на траурный убор, она опиралась на посох, скрюченный и корявый, подобно ей самой; сущая ведьма, кожа да кости, о мясе можно не упоминать, его и в помине не было.
— Да, да, — прошамкала старуха, — отпущу я поводья, передам их тому, кто так отменно владеет ими и правит конем! Благослови его бог! И что за славный молодчик у нас предводителем!
Едва произнесла старуха первые слова, как добрый наш студент, оцепенев, словно во власти внезапного изумления, устремил на нее испуганный взор — и он уже не видел более гнедого, не видел ничего вокруг.
— Примите же, примите поводья, — молвила старуха с особенною, многозначительной интонацией, как бы призывавшей юношу взять себя в руки. — Берите поводья, и в путь, уже пора.
Никто не заметил этого мгновения близости меж старой нищенкой и предводителем мятежа. Васко действительно овладел собою, вскочил на коня и, возглавив свою рать, не очень-то умело соблюдавшую строй, двинулся к старинным строениям Сената града Порто.
— Буди благословен ты сам и да будет благословен путь твой, — прошептала старуха ему вослед, — ибо ты наполняешь светом и ликованьем очи той, что вскормила тебя!
Затерявшись в толпе, она исчезла в каком-то неприметном переулке, и мне неведомо, куда она делась, ибо никто больше не видел ее.
Глава XXVI. А Аниньяс?
А Аниньяс? А бедняжка Аниньяс, брошенная в темницу? Что с нею сталось, сеньор сочинитель? Разве можно на такое долгое время оставлять в мерзком тюремном застенке юную красавицу, да к тому столь располагающую к себе, столь добронравную, подружку нашей Жертрудес, одним словом, Елену сей Трои,{146} из-за похищения коей непобедимый град наш уже пылает в огне мятежа, чуть ли не гражданской войны? Проходят главы и главы — одна короче другой, это верно, но их немало, — а беспечный летописец ни слова о том, что с нею сталось.
Отвечаю, друг-читатель: вина не моя. Сервантес не мог отвечать за оплошности и промахи Сида Ахмета Бен-инхали.{147} Если Дульсинея заколдована небрежно, и мы то видим, как гарцует она на ослице по тобосским полям, то разгуливает со своими прислужницами по прелестным садам пещеры Монтесиноса; если наш приятель Санчо появляется верхом на сером, которого двумя страницами раньше таким прехитрым способом выкрал из-под него честный Хинес де Пасамонте, — то повинен в этих ляпсусах мавр-летописец, а не христианин, издавший его сочинения.
То же самое происходит и со мной, когда тружусь я над сей правдивой повестью. Кое-что переписываю без изменений, кое-что перевожу — в зависимости от того, насколько устарел язык бесценного манускрипта, каковой посчастливилось мне найти. И если случается мне вставить собственное суждение или размышление в виде комментария к событиям, то я ни разу не позволил себе изменить последовательность повествования и неотступно соблюдаю ту, которую избрал высокомудрый Сверчок, коему обязаны мы этими несравненными летописями, прославляющими и возвеличивающими наш град и историю Сената его и народа.
Итак, пусть красавица Аниньяс наберется терпения, и пусть наберется терпения благосклонный читатель, ибо, прежде чем отодвинуть засовы и отпереть замки епископской темницы, нам придется снова подняться по дворцовым лестницам, проследовать по длинной анфиладе покоев и снова войти в тот таинственный и укромный кабинет, где недавно у нас на глазах надменный властитель нашего края облачался в пурпур и горностай, украшая свою особу пышными эмблемами духовной и феодальной власти.
Торжественное богослужение в старинной часовне святого Марка в Гайе, на другом берегу реки, завершилось еще до той поры, когда на улице Святой Анны и на соседствующей с ней улице Баньярия разыгрались шумные события, описанные в предыдущих главах; и каноники, капелланы, певчие, священнослужители всех разрядов, кто как мог, но уже не в процессии, возвращались в город. Они не стали дожидаться обеда, который должны были предложить им власти нового города, если не в силу письменного договора, то во исполнение давно установившегося обычая и правила; за сей обед клирики платили заранее тем, что помавали кадилом и распевали «Люди добрые, люди добрые», как уже упоминалось в первой части нашей истории, где я сообщил также, что этот обряд дожил до нашего времени. Так вот на сей раз люди добрые из нового города или Вила-Новы должны были съесть сами и мелкую треску, и камбалу, ибо ни один певчий, ни даже жезлоносец капитула не пожелал оказать им честь и разделить с ними трапезу после молебна: в такой растерянности все они пребывали и так спешили укрыться по домам.
Епископ отбыл одним из первых. Восседая на белом муле, накрытом роскошной попоной алого бархата с золотыми позументами и бахромой, в сопровождении своего коменданта, который ехал справа от прелата, а также многочисленной свиты, в которую по преимуществу входили приближенные, состоявшие при нем, когда он был еще мирянином, причем все эти люди были вооружены, да и сам епископ тоже — грозный и могущественный сеньор вступил в свой добрый город Порто, каковой покинул незадолго до того пастырем душ и апостольским прелатом. Он перебрался через реку в большой лодке, именуемой «Соборною», поднялся на холм, где стоял дворец, повелел коменданту вооружить ратников и держать их наготове, но без лишнего шума и так, чтоб о том не проведали в городе; а сам вернулся к себе в кабинет.
— Позовите ко мне Аррифану; как только Васко вернется, доложить мне, а покуда всем удалиться. Перо Пес, вы останетесь.
Так повелел епископ, войдя к себе в кабинет; и все поступили согласно его повелению.
Вот челядинцы вышли. Князь церкви остался наедине со своим премьер-министром в ожидании своего главного советника. Епископ с виду весел и в хорошем расположении духа, Перо Пес не так печален, как нынче утром. На разбойничьей физиономии министра даже виднеется некое подобие улыбки; улыбка, правда, натужная, как всегда, и губы мерзко кривятся… но этой физиономии не дано улыбаться по-иному.
— Стало быть, — молвил хозяин, откидываясь непринужденно на высокую спинку удобного кресла… настолько удобного, насколько могло быть таковым кресло в четырнадцатом веке, — стало быть, ты опомнился, Перо Пес, страх твой пошел на убыль?
— Сейчас полегчало, черный люд притих. А как было разъярился!
— Так ведь ты куснул первым!
— Куснуть-то, может, и куснул, но ежели их разъярил я, то поначалу кто-то меня самого разъярил.
— Не заговаривайся, Перо. Ты, видно, еще того не знаешь, бывают такие свирепые и хищные твари, таких подлых кровей, такого мерзкого нрава, что от собственной злобы впадают в бешенство и в ярость, хоть не коснулись их клыки другого какого-то зверя.
— Гм!
— Гм! Вот-вот: рычишь, словно старый шелудивый кобель, маешься от собственной ядовитой злобы. Верно, когда я прикажу тебе «хватай», ты хватаешь, на то и пес ты, для того я тебя и купил. Но я ведь тебе не приказываю: «Рви, грызи, терзай!», а действуешь ты именно так. И действуешь так на собственный страх и риск, повинуясь побуждениям своей подлой и гнусной природы, а с нею никогда не мог я сладить ни ученьем, ни приказом. И заметь, я сказал — «на твой собственный страх и риск». «Риск», Перо Пес, так я сказал; и хочу, чтобы знал ты: больше не буду я вызволять тебя из рук простонародья, как вызволил нынче. В следующий раз сам с ними толкуй. Пусть вздернут тебя на виселицу, раз уж так им хочется, а меня пусть оставят в покое.
— Меня на виселицу!
— Тебя на виселицу. А ты как думаешь, любезный? Пеньковая веревка так давно и так сильно по тебе тоскует, что когда-нибудь, Перо, придется тебе поплясать там, где по твоей воле плясало столько народу; вижу я, такой конец — самый для тебя подходящий конец.
— Ох, и шуточки же у вас!.. Когда вы в добром настроении, вы своими речами хоть кого рассмешите!
И он засмеялся… Перо Пес засмеялся. Но каким смехом! Если послышится из пасти адовой смех, когда угодят туда некие всем нам известные проходимцы, то, верю и надеюсь, именно так прозвучит этот смех.
— Я не шучу, — возразил епископ, — я говорю всерьез и не тая правды. Постарайся обзавестись друзьями в народе, не то, коли станут они снова выпрашивать у меня эту поганую голову… она до того поганая, Перо, что клянусь тебе…
— Обзавестись друзьями в народе… да это проще простого.
— Как так?
— Мне достаточно стать недругом одного человека…
— Кого же?
— Сеньора епископа.
— Вот как!
— Так уже поступили Руй Ваз и брат его Гарсия Ваз, они бежали из дворца, как вам ведомо, и отказались служить вам; видели бы вы, в какой они чести у простолюдинов этого города.
— Предатели! — воскликнул, епископ; в порыве гнева он вскочил с кресла и стал расхаживать большими шагами по комнате. — Предатели! Следи за ними, мой Перо Пес. А когда час приспеет, прикажу тебе «хватай»!
— Не буду я.
— Как так — не будешь?
— Гм!
— Ах, так ты тоже?..
— Не хочу я на виселицу.
— Нет? Но от твоего желания толку немного будет: все равно, либо народ повесит тебя, как Иуду, на суку смоковницы, либо я пошлю тебя качаться промеж двух столбов с перекладиной; для тебя, сдается мне, разница невелика. Как бы там ни было, а умрешь ты от этой хвори, так и знай. Укрепи душу свою в сей вере, предай ее в руки дьявола, коему ты с самого рожденья принадлежишь, и перейдем к другому делу.
Перо Пес ухмыльнулся своей истинной ухмылкой висельника: видимо, выбор, предложенный епископом, пришелся ему по нраву и успокоил его. Прелат устремил на податного проницательный взор; затем, видимо, сладив с гневом, снова сел в кресло и молвил:
— Возьми вот этот ключ, отопри вон ту дверь и тайным ходом, тебе известным, ступай в темницу…
— А кого угодно вам, чтобы я… — осведомился изверг, вытаращив глаза — глаза гиены — и дополнив недомолвку чудовищным жестом, означающим удушение: сие действие было постоянным предметом мечтаний, излюбленной и высшей целью подлой его жизни.
— Никого, мясник, — отвечал епископ в испуге, — никого! И поклянись собственной головой, что не осмелишься коснуться и волоска на голове этой женщины.
— А, понятно, — проговорил каннибал, и выражение омерзительного лукавства смягчило — как смягчило, боже правый! — черты лица его, напрягшегося было в хищной гримасе. — Понятно! — И глаз в кровавых прожилках непристойно прижмурился, отчего вид податного стал еще гнуснее. Уж лучше бы глаза его горели жаждой крови, а не мутнели и не заволакивались отвратительной дымкой подлой и грубой похоти, что видна в них сейчас… — Понятно: вам угодно, чтобы я улестил ее ласковыми речами, сказал бы ей…
— Мне неугодно, чтобы ты вел с нею разговоры, я велю тебе привести ее сюда.
— А коли добром не пойдет, тогда, само собою…
— Силу в ход не пускать, слышишь, тварь! В этом нет нужды. Она сама придет: знаю, она того хочет.
— Еще бы, еще бы, вы на такие дела мастак, перед вами ни одна не устоит…
— Молчать, шут, и ступай.
Услышав окрик своего господина, злобная тварь понурилась и прижала уши; затем, отдернув занавес, прикрывавший вход, хорошо ему знакомый, Перо Пес отпер тайную дверь и стал спускаться по неосвещенной винтовой лестнице, которая вела в подземелья дворца, в застенки, темницы и другие епископские крипты,{148} о коих знали лишь податной да сам князь церкви, никому более не доверявший ключа и, равным образом, черных тайн, доступ к которым этот ключ открывал.
Глава XXVII. Стародавние грехи
Епископ остался наедине со своими мыслями — дурными, но, быть может, среди них мелькали и добрые, почему бы нет? Редко встретится погибшая душа, которая в одиночестве и вдали от глаз людских не ощутит хоть легкого угрызения совести, и оно кольнет сердце болью, а ум — вопросом: «Что делаешь ты?» или «Что сделал ты!..» Угрызение совести — вот добрый помысел, посещающий злоумышленника; вот последний дар, что оставляет нам на прощание ангел-хранитель, присматривавший за нашею жизнью с поры младенчества, а теперь вынужденный лишить нас своего попечения. И стремление к добру, инстинктивная тяга к нему никогда не угасает в сердце человека полностью: святой сей огонь питает его до последнего мгновения. Он тускнеет под пеплом злодеяний, свет его еле виден во мгле пороков, и все же он постоянно живет в глубине сердца. Легкого дуновения из уст ангела, покинувшего нас и созерцающего нас с небес со слезами скорби и истинного милосердия, одного такого дуновения довольно, чтобы оживить этот огонек и раздуть его.
О да! И в одиночестве ощущаем мы всего острей, как небесное дуновение живит святой огонь в душе нашей. Сожаление о дурном поступке, страх, отвращающий нас от зла, которое мы вознамерились содеять, тоска по утраченной невинности, пресыщенность жалкими усладами порока, горькая оскомина, оставшаяся от преступных наслаждений, милые образы детства, память об отцовских наставлениях… а более всего вы, дорогие сердцу воспоминания о матери, державшей нас на руках, — что вы такое, мысли, посещающие нас в часы одиночества? О, что вы такое, если не оживающая вспышка, не воскресающее сиянье неугасимого небесного света — света Добра, который господь вложил нам в душу?
Этот человек, который позорит царственный сан священнослужителя и прелата, который пятнает митру вероучителя мерзостями вавилонского блуда и тою же дланью, коей берет чашу с кровью Христовой, дабы испить ее пред алтарем, тою же дланью сжимает кубок разврата египетского, дабы упиться им на богопротивной оргии в лупанарии, — этот человек, освященный у подножия креста на вершине Голгофы и спустившийся в низины Содома и Гоморры,{149} дабы погрузиться в кипящую смолу озера и собственными святотатственными руками сжечь святой елей, коим помазали его, когда рукоположили первосвященником распятого, этот великий преступник, закоснелый грешник не был, однако же, чудовищем: он был человеком, который погряз в пороках, ослеп от власти, которого развратило богатство, который был поражен злой проказой, в те времена произвола и вседозволенности разъедавшей власть имущих и среди духовных лиц, и среди мирян, — проказа была одна и та же. Род Борджа{150} позже явит миру примеры страшнее нашего, а ведь представители этого рода восседали на папском престоле; и в отличие от Римского собора святого Петра собор города Порто не зрел в стенах своих нового Нерона{151} или нового Гелиогабала{152} с крестом на груди, митрой — или тиарой{153} — на голове, а перед ним — распростершаяся ниц паства.
Нет. И в наших краях редки, весьма редки примеры подобной распущенности, которая так возмущает нас и доныне вызывает ненависть к самой памяти дурного епископа. Не знаю, как пойдут дела впредь, ведь сан епископа стал выборным{154} — согласно откровениям братца Ликурга{155} — конклав{156} ночным, а кардиналы-выборщики суть грозный брат и братья, более или менее бдительные,{157} они одни уполномочены спасать — не спасовали бы! — церковь и государство. Не знаю, не знаю; и не мои это слова, а их собственные. Но если обречены мы получать епископов этаким манером, пусть отправляются их преосвященства читать проповеди рыбкам братца Афонсо де Албукерке,{158} ибо, по моему суждению, заставлять людей внимать проповедям таких епископов — смертный грех.
А ведь наш дурной епископ не был безнадежно дурным человеком; да простятся мне эти слова, но нужно быть справедливым и по отношению к самому дьяволу. Его необузданная и легкомысленная молодость протекла средь буйств и беспорядков гражданской войны на полях ее сражений, а из всех жизненных школ эта — самая безнравственная. Утеснение, насилие, грабеж, человекоубийство в глазах мятежника порою проявления доблести либо действия самые обыкновенные, если совершаются они против сторонников враждебной партии. Что же до соседей, друзей, родичей, то чем ближе нашему сердцу жертва, тем легче выдать преступление за подвиг, ибо тем оно противоестественнее.
Потом наступает мирное время, время отдыха, вернее, не отдыха, а усталости от войны, и вот люди, прошедшие сей курс обучения, должны взять на себя все дела государства, воссесть в курульных креслах Сената, вершить правосудие, служить во храмах… Святый боже!
Так стал епископом и наш герой лишь потому, что принадлежал к победившей стороне, был отпрыском могущественного семейства и получил некоторое образование в отличие от прочих членов сей родовитой семьи.
Высокого епископского сана он удостоился благодаря интригам знати, столь же всесильным в ту пору, сколь в наши дни всесильны интриги бакалейщиков. Но крест, что носил он на груди, ничего не говорил его сердцу. Евангелие не было для него тяжким бременем, ибо оно было недоступно и уму его, и чувствам. Он свято верил, что рожден, дабы повелевать и расточать, а простой народ — дабы служить и платить. Королю, сюзеренному своему сеньору, он был готов служить лишь тем, что предоставлял в его распоряжение определенное количество вооруженных копейщиков и арбалетчиков, но не считал себя обязанным повиноваться монарху ни в чем ином, поскольку, будучи князем церкви, подчинялся одному только папе. Что касается его распутства и грубых оргий, то он по временам испытывал легкие угрызения совести, поскольку был как-никак прелатом, духовною особой; но полагал по-скотски, что отпущения, полученного от брата Жоана да Аррифаны либо еще от какого-нибудь монаха, его сообщника по мерзостям блуда, довольно, чтобы очиститься от столь незначительных грешков, поскольку ни графинями, ни дворянками не были они, женщины, которых он похищал, соблазнял или покупал по большей части… Насилия он никогда не учинял.
О нет, однажды учинил… и притом отягченное подлой изменой, вероломным коварством!.. Случилось это уже давно, и в те поры он еще не был епископом, он был рыцарем, воином и возглавлял отряд лиходеев, каковые именовались то ли искателями приключений, то ли добровольцами, словом, так, как в ту пору именовалась эта нечисть. Все они были добрыми патриотами (сей слог в ходу во все времена) и занимались ратным делом по зеленым полям меж Лисом и Леной во имя короля, но ради собственной выгоды, ибо их боевыми трофеями были скот, птица и урожай землепашцев.
Однажды темной ночью, когда в небе не было ни луны, ни звезд, двигались они в беспорядке и с превеликим гамом по равнине и уже приближались к большим соснякам, что высятся в тех местах. И вот неподалеку от этих самых сосняков угодила вся честная компания в засаду, устроенную сторонниками инфанта, — такими же лиходеями, как они сами, — каковые изрубили их и искрошили без жалости и без пощады и, сделав свое дело, скрылись. Почти вся банда или шайка того, кому предстояло стать епископом, полегла под соснами; немногие уцелевшие бежали со всех ног как можно дальше; среди убитых и умирающих остался и сам предводитель. Он был еще жив, но едва дышал, кровь лилась из многочисленных и глубоких ран. Уже светлела заря, которой не видел он, из-за холмов вставало солнце, лучи которого перестали бы сиять ему, не появись тою порой близ сосняка старик с длинной бородой и в долгополом одеянии; его лысую голову прикрывала круглая шапочка, белая с оранжевым, изобличавшая восточное его происхождение. Старик опирался на белый посох, на груди у него висели пергаментные свитки, а на поясе — большая кожаная сумка, в которой, судя по ее форме, были какие-то сткляницы и металлические инструменты.
Старец возвращался из одной ближней деревни, где навещал родича, умиравшего от горячки, и направлялся к предместью Лейрии, где находилось его жилище. При виде мертвых тел он остановился; и если судя по осанке и одеянию казался он почтенным левитом,{159} старым законоучителем, то сердце его было сердцем доброго самаритянина,{160} ибо без раздумий, колебаний и молитв он стал осматривать искалеченные тела, мертвые либо казавшиеся таковыми, отыскивая того, кого еще мог бы спасти с помощью вина и елея, упоминаемых в евангельской притче, — впрочем, старик в Евангелие не верил, ибо он был израильтянином, искренним и стойким наставником в древней вере.
Все были мертвы, один лишь рыцарь был еще жив, но, истекающий кровью и брошенный на произвол судьбы, он близился к кончине. Старик, однако же, распознал, что надежда не потеряна и исцеление возможно, достал из сумки корпию и бальзамы, коими напитал раны, затем влил в уста рыцарю несколько капель чудодейственного элексира и, приведя его таким образом в чувство, увел с собою; нести его старик не мог, а потому почти тащил волоком.
К счастью, жил он неподалеку, по другую сторону сосняка, близ стен Лейрии, в низком невзрачном строении, которое, однако же, внутри являло больше удобств и комфорта, больше роскоши, больше изящества и богатства, выказывало больше цивилизованности и вкуса владельцев, нежели любой дворец короля-христианина по всему Пиренейскому полуострову.
Встречать старика вышли слуги и члены семьи, поджидавшие его и завидевшие издалека. Вышла старая Сара, супруга его, и Эсфирь, его единственная и обожаемая дочь. При виде старца, согбенного под тяжкою ношей и залитого кровью, так же как и сам полумертвый латник, Сара воскликнула:
— Да будет благословен бог Авраама! Коли пришел ты с такою ношей, возлюбленный души моей, стало быть, некий добрый ангел сподобил тебя случаем сотворить добро братьям твоим. Ты спас этого человека от смерти?
— Покуда нет, но на то уповаю.
Меж тем домочадцы уже подхватили раненого на руки и отнесли в лучший покой дома, не дожидаясь распоряжений своего господина: для них дело это было знакомым и привычным. Старик последовал за умирающим, приглядел за тем, как укладывали его в постель, помог придать ему самое удобное положение и сызнова — еще заботливее — обследовал, умастил и перевязал его раны, две из коих казались смертельными.
Но Милосердие — добродетель, никогда не расстающаяся с двумя своими сестрами, Верою, что придает духу, и Надеждою, что питает сердце.
— Поглядим, поглядим, когда снимем повязки. Господь нам поможет.
И вот старик, пожилая жена его и юная дочь распределили меж собою часы бдения, что должны были проводить поочередно у ложа раненого. И никто не ведал, кто этот человек, никто о том не спрашивал.
Через несколько часов объявилась сильнейшая горячка, и старик пал духом. Вернее сказать, не пал духом, но испугался, очень испугался. Несчастный лежал недвижно, почти не дыша, глаза его были закрыты, он стонал глухо, еле слышно, старик сидел у изголовья, не выпуская из рук запястья раненого и переводя глаза с осунувшегося лица его на страницы книги, которую беспокойно листал; казалось, старец спорит со смертью, стремящейся похитить у него рыцаря, и гонит ее прочь сверхчеловеческой мощью науки и пылом веры.
И старец одержал победу, одержал по прошествии долгих часов, и дней, и ночей, которые провел в опасениях и ни на миг не покидая больного, подавая ему собственноручно снадобья, коими его пользовал; ему помогали то жена, то дочь, не отходившие от него. Внезапно наступил кризис, горячка пошла на убыль, а умирающий был вырван из лап смерти.
Авраам Закуто, таково было имя старца, пал ниц, Сара и Эсфирь простерлись рядом с ним, и втроем они воскликнули в один голос:
— Да будет благословен господь бог, ибо спас он незнакомца и тем оказал честь дому рабов своих!
Проходят дни, недели, раны затягиваются, боль утихает; и вот уже болящего донимало одно только — крайняя слабость. И Авраам молвил Эсфири:
— Дочь, гость наш вне опасности. Мне надобно поехать в Гранаду, ибо тамошние наши братья нуждаются в моей помощи. Ты позаботишься о нем и будешь следить за его выздоровлением, оно будет долгим и нелегким. Мать твоя нуждается в отдыхе, ибо лет ей немало, а тело немощно и изнурено. Прощай и да благословит тебя бог!
Старец уехал, и Эсфирь осталась у изголовья болящего.
Глава XXVIII. Снова о грехах
Дневные часы тянутся долго для того, кто лежит без сил на ложе страданий. Еще дольше тянутся часы бессонных ночей. Что сталось бы с рыцарем, если бы Эсфирь не разделяла его одиночества?
А она была прекрасна чисто иудейской, чисто арабской красотою. Высокая, стройная, строгие формы, очертания которых были чужды какой бы то ни было расплывчатости, овальное лицо, смуглая кожа, черные сверкающие глаза, лоб невысокий, но совершенного рисунка, брови почти сросшиеся, волосы черные и тонкие-тонкие, но поразительной пышности и красоты. Белоснежное одеяние с алой оторочкой и подпояской было обычным и неизменным ее нарядом.
Представьте же себе, как восхитительное это видение появляется что ни миг в комнате выздоравливающего, оказывая ему тысячи забот, подавая лекарства или еду, то принося цветы, чтобы усладить его обоняние, то читая книгу, дабы развлечь его ум, то напевая ему простые и печальные песни, которым научилась от матери, а та, в свой черед, от собственной матери, и которые передавались из поколения в поколение с отдаленнейших времен; затерянные отзвуки давних воспоминаний о родине, утраченной навеки, о святой земле, из которой народ сей был изгнан и которую будет оплакивать в пожизненной ссылке до скончания времен.
Рыцарь большими глотками пил это зелье, которое пьянило его и непрерывно возбуждало чувственность, возвращавшуюся к нему вместе со здоровьем. Эсфирь не замечала этого, он же ничего не говорил ей. Глаза его горели желанием, ее же глаза оставались ясными и невинными, словно человек этот был ей братом. Случалось, ночами, когда казался он особенно неспокойным, она не хотела уходить на отдых, оставлять его на попечение слуг, хоть и весьма заботливое; она приказывала принести небольшое ложе и, не раздеваясь, проводила там ночь, чтобы подавать ему в определенные часы успокоительное питье, которое прописал ее отец.
В одну из таких ночей он показался ей беспокойнее, чем когда-либо, и она решила, что нынче он еще более обычного нуждается в ее заботах… Ночь была безветренная, день перед тем выдался душный, воздух был тяжел, насыщен электричеством… Эсфирь забылась глубоким сном.
И что-то снилось ей, снилось… что-то давило ее, мучило… Потом острейшая боль… и к ней примешивалось неизъяснимое упоение…
Эсфирь проснулась усталой, разбитой, полумертвой. И тут в ней заговорил голос разума, голос раздумья и инстинкта, заговорили смутные воспоминания о том, что когда-то прочла она, не поняв толком, в книгах отца… Постепенно в сознании ее вспыхнул свет и грозным заревом осветил все ощущения той ночи. Святый боже!
Стояло ясное утро. Несчастная не проронила ни слова, не бросила ни единого взгляда на рыцаря, безмятежно почивавшего на своем ложе. Она сосредоточила в душе своей эту бесконечную боль, этот несказанный позор.
Эсфирь вышла из комнаты, отправилась к матери и молвила:
— Матушка, мне нездоровится, а незнакомец исцелен. Дозвольте мне уйти к себе и лечь, а ему предложите покинуть дом, если будет на то ваша воля.
В тот день будущий служитель божий покинул обесчещенный дом иудея-лекаря. И с того дня Эсфирь перестала смеяться и радоваться, перестала жить прежней жизнью. Тело ее было во власти недуга, разум временами покидал ее, и мать не знала, что делать, а Авраам все еще был в Гранаде, все еще медлил с возвращением.
Прошло несколько месяцев. Эсфири становилось все хуже; Сара написала мужу, прося его вернуться, спасти их умирающую дочь. Старик бросил все дела, тотчас же пустился в путь и прибыл в Лейрию, ведомый той любовью, с коей ничто в природе не сравнимо. Но накануне его отъезда Эсфирь исчезла из дому, и никаких известий о ней добыть не удалось.
По прошествии недолгого времени Авраам Закуто уже покоился в лоне праотцев, и Сара навсегда соединилась с супругом своим.
Дальний родич, единственный, кто остался из семейства, взял на себя попечение о несметных богатствах, принадлежавших этому дому, дабы сберечь достояние исчезнувшей наследницы. То был честный иудей, он управлял имуществом Эсфири разумно и бескорыстно, не хотел верить в смерть ее и объявил, что будет ждать наследницу до тех пор, пока не получит неопровержимых доказательств ее кончины.
Известие о смерти Закуто повсюду вызвало печаль, и старика искренне оплакивали при дворе Афонсо IV. Король любил его и по душевной склонности, и из признательности, да и среди придворных почти все были многим обязаны старому врачу — возвращением здоровья, денежною ссудой. Но никто не ведал, что было причиною его смерти.
Когда весть о ней распространилась среди придворных, один из них, казалось, был потрясен больше, чем прочие, и больше, чем прочие, расспрашивал, пытался узнать, что же вызвало столь внезапную и горестную кончину. Двор находился в Коимбре; однажды ночью он вскочил на коня и поскакал в Лейрию один, без оруженосца и ратников, и ехал он в печали и задумчивости, под гнетом глубокой меланхолии. А меж тем был он самым легкомысленным и беспечным из всех, кто при этом дворе носил золотые шпоры и рыцарский меч.
Он провел в этом странствии неделю, но до Лейрии не доехал. И рассказывают, что неподалеку от Кондейши, когда остановился он на ночлег в доме зажиточного земледельца по имени Жил Гутеррес, у коего были в тех местах пахотные земли, он обнаружил на сеновале женщину, она была при смерти и ее приютили там из милосердия; рыцарь сжалился над бедственным ее положением и оказал ей помощь и заботу; и говорили, что он пробыл при ней всю ночь и весь следующий день, причем запер дверь и никому не разрешал войти. На второй день рыцарь долго и в волнении беседовал о чем-то с сыном землепашца, который звался Пайо Гутеррес, был он юноша благородной души и усердный школяр, вернее, усердный студент, и все в тех местах его любили. Результатом этой беседы было то, что женщину с сеновала перенесли в прехорошенький домик, стоявший на склоне холма за церковью, почти на берегу ручья. Домик этот был подарен сыну отцом, дабы Пайо держал там свои книги и учился, почему и прозвали его «Книжный домик».
Рыцарь вернулся ко двору, а бедная женщина осталась в Книжном домике одна, но с младенцем, что был краше ангела небесного и быстро рос, становясь все крепче и пригожее и вызывая всеобщую любовь и восхищение. Когда говорю я «бедная женщина», то эпитет сей подсказан мне жалостью и состраданием к ее одиночеству и безутешной печали, ибо бедность в прямом смысле слова была единственной бедой, что ее миновала. Одевалась она просто и в глубокий траур; но нельзя было найти ничего богаче и роскошнее, чем колыбель и одежды мальчика. У королевского сына никогда не было таких пеленок. И вдобавок она была щедра на даянья — одаривала всех нуждавшихся и обращавшихся к ней за помощью всех одаривала, не скупясь и не считая денег, как человек, не придающий им значения либо не ведающий их цены.
Казалось, не было у нее ни родичей, ни друзей, и никто не навещал ее. За два года, что прожила она там, лишь дважды побывал у нее старый еврей, приезжавший откуда-то со стороны Лейрии; но он наведывался к ней лишь ненадолго и в доме у нее не гостил. Также раз или два раза в неделю захаживал к ней на полчаса владелец домика, студент Пайо Гутеррес, который питал к ней великую дружбу, — некоторые говорили, что он давно ее знает. Как бы то ни было, он навещал ее время от времени, приносил ей игрушки и лакомства для малютки, оплакивал вместе с нею ее беды, о которых, по-видимому, был наслышан, играл с дитятей, которого оба они нежно любили, и Пайо Гутеррес почти так же, как мать. Так протекала одинокая эта жизнь, почти угасшая для мира и освещаемая одним только живительным пламенем материнской любви, во имя которой и существовала эта женщина.
И вот миновали два года, как уже было сказано; но по истечении этого срока, — в ту пору Жил Гутеррес уже умер, а сын его отлучился по делам в Лиссабон, — однажды в ненастную и непроглядную декабрьскую ночь, когда ветер грозно завывал и ярился в сосняках, у двери Книжного домика снова появился все тот же рыцарь. Ему не хотели отпирать, он высадил дверь и вошел. И на следующий день женщину обнаружили лежащей без сознания на полу; ребенка нигде не было; и целый месяц мать металась в горячке и бредила, так что никто уже не надеялся на выздоровление.
Выхаживали ее с великой любовью и заботой служанки, знавшие, как привязан к ней их хозяин. И к болящей возвратилось телесное здоровье, но рассудок так и не исцелился полностью. Настолько, что, несмотря ни на какие попечения, однажды она исчезла из дому; и все поиски оказались безуспешными.
Спустя некоторое время разнесся слух, что видели ее поблизости от Порто в нищенских лохмотьях. Нашлись люди, клявшиеся, что она сделалась ведьмой и была за то приговорена к сожжению на костре сеньором епископом Порто, но что в конце концов ее помиловали и довольствовались тем, что подвергли наказанью кнутом, у позорного столба. Некоторые поговаривали, что была она еврейка либо мавританка, что-то в этом роде, что женщина она недобрая и ворожея, потому и отняли у нее сына, вот она и помешалась, стала колдовать да наводить на людей порчу. Чего только не наговаривали на бедную женщину с той поры, как скрылась она из этих мест. Но Пайо Гутеррес, когда дошли до него эти слухи, держал речь перед народом и в той речи объявил, что женщина, жившая в Книжном домике, — святая и жертва тиранов, которые хуже самого султана марокканского. После того люди перестали о ней судачить, потому что Пайо Гутеррес — вот уж кто воистину был святой, до того добрый, и мудрый, и богобоязненный; и он вскоре принял постриг и сделался великим проповедником, и поставили его архидиаконом Оливейраским в том же городе Порто, хоть это и пришлось весьма не по нраву новому епископу, каковой епископ очень архидиакона недолюбливал и всячески чинил ему вред, но, по неизвестной причине, его побаивался.
И кто же такой был сей епископ? Все тот же рыцарь, который в ту ночь нашел на сеновале в усадьбе Жила Гутерреса умиравшую женщину, так милосердно пришел ей на помощь и спас от смерти и ее, и младенца, которого носила она во чреве и которого два года спустя — странное и необъяснимое деяние — похитил, из-за чего бедная женщина потеряла рассудок и, может статься, погубила свою душу, если верить слухам.
Как бы то ни было, с достоверностью можно сказать лишь то, что рыцарь этот навсегда перестал быть таким, каким был он прежде. Казалось, он одержим какой-то черной думой; он впал в угрюмость, печаль, меланхолию, его не видели больше ни в битвах, ни на пирах. Ребенком он выучился начаткам наук того времени у монахов Алкобасы;{161} теперь он снова засел за книги, забросив все рыцарские дела и забавы.
Быть может, то было призвание свыше? Быть может, угрызенья совести обратили его на путь истинный? Но он не сделался ни строже в своих привычках, ни умереннее в своих вожделениях. Казалось, он испытывал отвращение к жизни — но не желание исправить ее.
Невзирая на то, родичи его решили, что для святого собора града Порто лучше епископа не сыскать, поскольку сей рыцарь распростился с воинским делом, притворился, что погружен в богословие, к тому же член их семейства, а еще потому, что звание епископа Порто давало доход, почет и власть и по сей причине более приличествовало сеньору, снизошедшему до сана духовного, нежели какому-нибудь виллану-монаху,{162} если бы вздумал тот притязать на епископский сан, обосновывая притязания своей ученостью да святостью, каковые у вилланов недорого стоят, ибо достаются им даром.
Именно так поняли дело члены королевского совета; впрочем, так ли они его поняли или по-иному, но посоветовали королю сделать епископом именно этого претендента. И сей дворянин, до той поры всего лишь простой рыцарь, под началом у коего было несколько копейщиков, стал большим вельможей, могущественным и богатым, епископом города Порто — этим все сказано, — теперь он купался в роскоши и мог утолять все свои вожделения и желания.
Был ли он счастлив? Не был. В глубине этого сердца засел острый шип, который непрестанно терзал его, а порою доводил до отчаяния, и от этого епископ становился еще ожесточеннее, высокомернее, деспотичнее и беспощаднее, чем был по природе.
И в часы одиночества, когда он оставался сам-друг с собственной совестью, шип этот терзал его с особою силою, превращался в отравленное жало, которое причиняло ему такую муку… О, нет в жизни муки страшнее, чем эта, и она в тысячу раз сильнее, чем все муки смерти.
Так возблагодарим же нашего ангела-хранителя, коль нам посчастливилось не изведать этой муки.
Глава XXIX. Бедная Аниньяс
Когда могущественный епископ Порто дожидался, чтобы палач его, Перо Пес, доставил ему несчастную жертву его вожделений, утоляемых до пресыщенности, он пребывал в одном из самых мрачных, самых страшных своих периодов.
Ужели ангел-хранитель, давно его покинувший, не бросит на него в этот недобрый миг последнего сострадательного взгляда? Быть может, увидит ангел, что мера зла, сотворенного этим человеком, переполнилась в руке всевышнего, и станет ему больно, и он в последний раз воззовет громким голосом к его совести. Должно быть, так оно и было, ибо епископ ощутил угрызение, да, угрызение совести, и сейчас оно скорее исцеляло, нежели мучило его, хоть было острее, чем когда-либо, и под воздействием его в памяти епископа воскресали черты седобородого старца, который спас его от смерти, который на себе принес его, умирающего, в свой дом, который выхаживал его денно и нощно, который доверил его попечениям своей дочери… А дочь его, какая красавица… и какая странная красота, столь возвышенная, столь духовная, ужели красота такого рода могла возбудить в нем грубое вожделение чувственности! Низменное вожделение — и с какой низменной подлостью утолил он его!
И еще один образ, образ женщины, что укачивает прелестного младенца в золоченой колыбели!.. Женщины, у которой он отнял ребенка, и вырастил его, и в конце концов привязался к нему настолько, что мальчик стал единственным существом в этой жизни, которое он смог и сумел полюбить.
При этой мысли глаза его увлажнились, он поднялся в тревоге, отворил дверь, что вела в наружные покои, кликнул своих челядинцев и принялся всех расспрашивать взволнованно:
— Где Васко, что с ним? Еще не вернулся, не видели? Позвать ко мне снова брата Жоана, расспросите, что знает он о Васко… Живо ступайте на берег за вестями. Пусть кто-нибудь из стремянных поскачет по холмам, что на том берегу Доуро, и порасспросит, что известно об охотниках, которые… Да, а гнедой! Как же я разрешил ему взять этого жеребца, ведь он… Кто уже объезжал гнедого? Никто, вижу. Ну да, ведь никто, кроме Васко, и не отважится. А гнедой знает Васко, гнедой добрый конь. И Васко — самый подходящий для него всадник.
Это соображение успокоило епископа, и он уже раскаивался, что наговорил лишку и выказал чрезмерную озабоченность. А потому он выслал слуг и снова заперся в кабинете.
С виду он казался теперь спокоен, но дух его метался от одной тревожной мысли к другой.
— А вдруг с малым что-то стряслось? Вдруг треклятые горожане отыграются на нем, чтобы отомстить мне? Да нет, не осмелятся. Будь прокляты все женщины! И на что она мне, эта самая Аниньяс? Пресная недотрога, дона Плакса, ни живости, ни пыла! Эти дурни слишком уж распоясались, непотребные речи этой оравы лавочников слишком раздразнили меня, слишком взбесила наглость этой мрази, да, пожалуй, они на том не остановятся; а потому, сдается мне, черные глаза Аниньяс с улицы Святой Анны покажутся мне божественными… Но она-то в чем виновата, бедняжка?.. Ну уж нет! Жалеть ее! Еще чего не хватало. Сия добропорядочная сеньора говорит мне «нет», потому что слишком часто говорит «да» какому-нибудь подмастерью супруга… одному из тех, кто буянил здесь нынче утром. Так вот клянусь сатаною…
Но тут в потайную дверь за портьерой тихонько постучали, и епископ отвечал нетерпеливо:
— Войдите!
Перо Пес вошел, ухмыляясь адской своей ухмылкой, и, шагнув в сторону, отдернул портьеру с великой почтительностью — ни дать ни взять княжеский придверник — перед женщиной с бледным лицом и растрепанными волосами, которая входила следом за ним.
То была Аниньяс.
Само изящество, сама женственность, исполненная мягкости и кротости, — такова была Аниньяс. Несколько неопределенные черты лица ее, округлые, но не пышные формы, высокий рост, тонкий стан, гибкий, словно вешняя лоза, — все в ней свидетельствовало о той почти детской хрупкости, несамостоятельности, беззащитности, которые составляют величайшую силу представительниц пола, именуемого слабым; они рождены, чтобы повиноваться и идти туда, куда ведут их, но на самом деле именно они главенствуют и распоряжаются — когда хотят, когда умеют… когда женщина воистину женщина и собственную беспомощность превращает в великую мощь.
Сейчас, когда одежда ее в беспорядке, лицо бледно от страха и являет скорбь и смущение, Аниньяс кажется еще прекраснее. Ее красота того типа, который не искажается под воздействием смертельных тревог, в такие мгновения нежное и, если можно так выразиться, неспешное очарование ее становится более явным, более тонким. Длинные расплетенные волосы падали волнами на белую с ярко-алым тунику, составлявшую всю ее одежду. Темные глаза, большие и блестящие, не отличались живостью, то были глаза девственницы, посвятившей себя алтарю. Никто не стал бы требовать от этих глаз выражения страстности, в них читалась лишь набожность, мягкосердечие, идущая из глубины души доброта. Кожа ее была белою, но той белизны, которая свойственна матовому серебру: чистота, лишенная блеска.
Такого рода красота могла бы породить вожделение в турке с его медлительной, с его тяжеловесной и рассчитанной чувственностью. Что же касается тех, у кого желания рождаются в душе, кто способен наслаждаться лишь в том случае, когда жизненные органы отражают, претворяют в ощущения то, что возникает в тайниках мысли, — людей такого склада, думается мне, красота Аниньяс не слишком воспламенила бы.
— Сеньор, — молвила Аниньяс, почти молитвенным жестом складывая руки на белой, мерно дышащей груди, — сеньор, я пришла по вашему повелению, и сейчас на душе у меня покойнее, ибо последние слова, слышанные мною от вас нынче утром, почти сулили мир и надежду. Да укрепит вас господь в таких намерениях, и да отпустите вы меня к сыночку, знаю я, он в надежных руках и о нем заботятся… но ему недостает меня, сеньор! Вам неведомо, каково приходится дитятку, когда недостает ему матери. Бедный младенчик может умереть от тоски.
— Ступай вон, Перо Пес.
Злобный хищник вышел, бросив искоса на бедную просительницу взгляд, исполненный недоверчивой насмешливости; взгляд этот говорил с грубым цинизмом: хватит тебе ломаться!
Епископ сидел, упираясь локтями в стол и обхватив лоб ладонями; казалось, он не слышит Аниньяс, и уж наверняка он не мог видеть ее.
— Вы не отвечаете мне, сеньор? — молвила несчастная.
— Молчи, женщина: не верю ни одному твоему слову. К чему столько разговоров? Чего ты от меня хочешь? Золота, украшений, богатств, знаков любви? Все это ты получишь. Что еще? Ах да, муж… Афонсо де, а дальше? Афонсо де Кампаньан, кажется, что ж, я дам ему хорошее место. Сделаем его нашим сборщиком податей, если понадобится. Перо Пес — грубая скотина, он пятнает нашу пастырскую власть и…
— Сеньор, ничего мне не надобно, только отпустите меня, дайте мне свободу, чтобы я могла заботиться о моем сыночке и заниматься домашними делами. И я буду молиться за вас святой угоднице, моей покровительнице.
Прелат отвел ладони от лица и поднял голову движением, исполненным царственной досады и скуки; он перевел на смиренную Аниньяс взор, еще омраченный скорбными мыслями, терзавшими ему душу.
— A-а, ты и вправду недурна, — промолвил он. — Недурна, право же. Такой прелестный и изысканный цветок не для тупоумного ремесленника. Нынче утром я не разглядел тебя, как следует… да, ты недурна.
— Сеньор!
— Ты мне по вкусу, и я сделаю для тебя все, что пожелаешь. Послушай-ка, смирись с одной мыслью: быть тебе моей, иначе ты отсюда не выйдешь. Пусть все жители Порто, и купечество, и простонародье, потребуют с оружием в руках, чтобы я выдал тебя, пусть король дон Педро явится сюда самолично и обложит осадою мой замок… я дал клятву, дал клятву этому черному демону, которого ношу в груди своей… Ибо я ношу его в груди своей, Аниньяс, и демон этот неумолимо гложет мне сердце…
— Помилосердствуйте, во имя господа! — вскричала несчастная, пав на колени пред недостойным князем церкви. — Помилосердствуйте, сжальтесь, ваше преосвященство! Отпустите меня, молю, отпустите, и бог простит вас, и вы избавитесь от вашего злого демона. Вот увидите, так и будет, если свершите вы это доброе деянье. Видно, что-то дурное вы сотворили, вот нечистый и властен вас мучить. Отгоните его прочь добрым поступком.
— Молчи, женщина, ты сама не знаешь, что говоришь; молчи! Напоминанья твои еще пуще ожесточают меня… О!
Аниньяс плакала, и горькие слезы, такие же чистые, как невинность души ее, орошали стопы епископа. Казалось, сердце его смягчилось: взяв Аниньяс за подбородок, он заставил ее поднять лицо и стал вглядываться в нежные черты; оно было омыто искренними слезами и было от того еще милее, еще привлекательнее.
— Как ты хороша, как хороша! Я не могу отказаться от тебя, сама видишь, Аниньяс. Это невозможно. Да и к чему? Лишь для того, чтобы пришел кто-то другой…
— Кто-то другой, сеньор, кто? Разве я заслужила такие оскорбления? Мой бедный Афонсо справедливей ко мне, он знает…
— Знает, знает то, что знают все мужья. Но верить в чудо этакого неслыханного от века супружеского блаженства… верить в то, что доныне… да полно!.. Что доныне никто не коснулся сокровища, каковое так трудно сберечь… И ты полагаешь, что коль скоро тебе он муж, то мне не след называть его «другим»? Да полно, Аниньяс, образумься.
— Сеньор, — молвила невинная душа, сложив в печали ладони, словно собиралась обратиться с набожною молитвой к какому-нибудь святому. — Обещаю вам и даю клятву, что коли отпустите вы меня на свободу и не обидите… Ох, отпустите меня, сеньор, и обещаю вам — хоть не знаю, может, и грешно давать такое обещание… да все равно обещаю вам посвятить себя богу и благословенной святой Анне из моей часовенки, и буду я жить до последнего своего часа не как замужняя женщина — бедный мой Афонсо, несчастный, да что поделаешь… — буду я жить не как замужняя женщина, а так, словно замуровалась заживо,{163} буду служить одному только господу и отрекусь от мира!
— Ты обезумела, женщина!
— Нет, сеньор. Даю клятву…
— Не нужно глупых клятв. Полно, встань.
— Не встану, покуда не пообещаете…
— Да встань ты!.. Тебе не место у ног моих, женщина, или кто ты там, хоть ангел, хоть дьявол, встань… Не хочу, чтобы ты лежала у ног моих, место твое не там… Встань, или я ничего не обещаю.
Аниньяс встала. Выражение лица ее, исполненное достоинства и девственности… Да, девственности, а почему бы и нет? Назвал же Вергилий{164} infelix virgo[33] свою героиню, в которой ничего девственного не было, и… Что же касается моей Аниньяс, то она душою и сердцем — а такую редкость найти труднее всего на свете — была чиста и нетронута, словно сошла в мир сей с небес, ведомая за руку ангелом-хранителем. Итак, повторяю, выражение лица ее, исполненное достоинства и девственности, приводило епископа в замешательство, обезоруживало его. Она обещала посвятить себя богу, что само по себе было делом обычным; она собиралась обречь себя на жизнь взаперти, подобно безобразным и грешным старухам — они шли на такое затворничество частенько, но ведь она-то была так молода, так хороша и невинна, — и вот затверделая кожура порока, одевшая сердце епископа, дала трещину, сквозь которую прокралась здоровая и живительная сила, она вернула этому сердцу чувствительность и осталась в нем, и он ощущал эту силу тем острее, что была она для его сердца непривычною.
Прелат взглянул на молодую женщину почти растроганно, почти отечески, с уст его готовы были сорваться слова: «Ступай отсюда, ангельская душа, ступай с миром, и пусть, ради твоей любви и вняв твоему заступничеству, простит меня господь!»
Но демон — тот самый черный демон, который владел его душою, который обезображивал ее и отвращал от всякой доброй мысли, — потерпев было поражение, стал искать другое поле битвы, которое обеспечило бы ему перевес. Он затронул гордыню епископа, его самолюбие и ранил воспоминанием, причинившим прелату жестокую боль.
— Но ведь правда и другое, — промолвил епископ, уязвленный мыслью, которую нашептал ему дьявол. — Правда и то, что нынче утром ты не говорила так со мною. Твои вопли, твое сопротивленье, твоя непочтительность — все это вызвало во мне раздражение, ожесточило меня, и я поклялся, что ни ангелы, ни дьяволы не вызволят тебя из-под моей власти. Как проведала ты, как догадалась, что такого рода хитрость нынче подействует на меня сильнее всего?
— Я хитрила, сеньор?!
— Пусть даже не хитрила… Но ты изменила тон, обращение; кто-то подучил тебя… Ага, ага — догадываюсь, кто именно. Кто же, как не Пайо Гутеррес, мой исповедник, его, того и гляди, к блаженным причтут, а то и к лику святых.
— Это правда, сеньор, он святой, он человек божий, его душеспасительные речи утешили и ободрили меня в темнице, а там было так страшно.
— Ах вот как?.. Значит, он выучил тебя этой песенке, лицемер, мошенник? Так вот, клянусь дьяволом, которому уже принадлежу, что я…
И, бросившись на беззащитную жертву, он сжал ее в мощных объятиях и уже собирался унести, как вдруг…
Портьера всколыхнулась и отлетела под сильным толчком потайной двери, которая распахнулась настежь; старый, согбенный и изможденный клирик вошел в кабинет и, схватив епископа за руки, умудрился благодаря неожиданности своего вмешательства совладать с ним и разжать его объятия, освободив Аниньяс; молодая женщина, растерянная, смущенная, испуганная, метнулась к стене и спряталась за одной из занавесей, прикрывавшей большое распятие, которое она, бедняжка, обняла, рыдая от радости и твердя:
— Чудо, господи!
А почему, собственно, не считать это чудом? Для человеческого разума не такая уж большая жертва поверить в божественное вмешательство, когда Провидение столь своевременно приходит на выручку беспомощному и спасает его от произвола власти.
И я готов бросить вызов даже башне, именуемой Торре-до-Томбо, пусть обрушится на меня всей тяжестью, дабы оспорить достоверность сего чуда, описанного в нашей хронике.
Епископ, дрожа от гнева и досады, едва смог пробормотать:
— Вы здесь… вы здесь… Как вы осмелились?
— Я осмелился, ваше преосвященство, ибо я викарий и исповедник сей епархии; войдя в тюрьму, я обнаружил, что похищен один из узников, вверенных моим попечениям, я заподозрил, догадался, чьих рук это дело, и вот темным подземным ходом добрался сюда…
— Сюда, в одиночестве! Быть того не может! Кто-то провел вас по этому лабиринту, где даже я сам, наверное, заблудился бы… Кто этот изменник? Назовите его имя.
— Вам ведомо, что я не из числа тех, кто якшается с изменниками и поощряет измену.
— Про этот ход знает один только Перо Пес… да еще ведьма… Вас вела ведьма? Отвечайте.
— Я с ведьмами не знаюсь!
— Та женщина, что… Ох, погибель моя! Вы с нею сговорились погубить меня, Пайо Гутеррес, я знаю. Но клянусь, что нынче вам не выйти отсюда и что…
— Вы властны завершить нынче дело, которое начали немало лет назад. Я-то прожил всего сорок, но вы видите, что груз их давит мне на плечи так, словно я прожил восемьдесят. Вам ведомо, из-за кого сгорбилась спина моя, истощились мои силы, напала на меня преждевременная дряхлость. Вам теперь нетрудно погасить огонек жизни, что еще теплится во мне. Но покуда вы не сделали этого, я должен…
— Что собираетесь вы предпринять?
— Вступить в единоборство с моим прелатом, дабы вырвать из рук у него эту жертву, дабы спасти его самого.
— Вы хотите спасти меня! Но от чего?
— От опасностей, которые куда грознее, чем вам думается.
— Пускай грозят сколько угодно.
— И от новых угрызений совести… Вы хотите, чтобы и они тоже грозили вам? Вам не довольно прежних?
— Пайо Гутеррес, — промолвил епископ тоном, свидетельствующим, что гнев его пошел на убыль, — вы знаете всю роковую историю моей жизни, приняли в ней участие, и немалое; с соизволения божия я вынужден терпеть ваше присутствие в моем соборе и моем дворце, хоть вы живой и мучительный укор, ни на миг не дающий мне покоя. Но не злоупотребляйте попустительством господним, не то, клянусь Кайафою{165} и его тестем…
— Не клянитесь, сеньор епископ, вспомните, какими страшными клятвами поклялись вы в моем бедном Книжном домике несчастной умирающей женщине, вы поклялись, что оставите ей ребенка…
— Архидиакон, эта женщина была еврейкою, и я проклят богом за то, что спознался с ней.
— Да, она была еврейкою, подобно многим святым патриархам, которых мы, христиане, почитаем и поминаем. Из еврейского племени была и она, и святой отец ее, что спас вас от смерти, и добрая ее мать, что бодрствовала у вашего изголовья, и оба они умерли всего-навсего от скорби, скорбели же они об утрате дочери. Еврейкою была она, о да, но была она к тому же и ангелом, существом неземным и с возвышенными помыслами. Я-то знал ее, восхищался ею, любил ее и почитал в ней самое совершенное создание из всех, что когда-либо встречал, и я чуть не умер, когда стал свидетелем ее погибели, ибо вы обрекли ее на позор и бесчестие. Лишь потому не умер я с горя, что на помощь мне пришел бог. И в ту страшную ночь, когда нашли мы ее и когда я со всем пылом ополчился на вас, лишь потому не принял я смерть от вашей руки, что и вам на помощь тоже пришел бог и не дал вам совершить еще одно преступление. И тогда обратил я к нему душу свою и посвятил себя служению у алтарей его. Но вы, сеньор, чего ради избрали вы эту же стезю, когда намерения и устремления ваши совсем иного рода? О да, я под началом у вас и в подчинении, и вы — прелат мой, простите же, что говорю с вами так, отпустите мне вину ради самого себя, ради алтаря, коему служим мы оба, и я, смиренный священнослужитель, и вы, князь церкви и преемник апостолов, оба мы служим одному и тому же богу, на одном и том же алтаре приемлем во длани свои сосуд с плотью его и кровью… О сеньор, опомнитесь, еще не поздно, опомнитесь, спасите себя самого и спасите всех нас от величайшего соблазна, от жестокой гибели, вверьте моим попечениям эту бедную женщину, дабы мог я вернуть ее народу и сдержать обещание, что дал ему нынче утром с балкона вашего собора, храма божьего, под оком господним, когда всуе помянул я его и солгал… да, я солгал ради вас, чтобы спасти вас от поношений и защитить честь прелата, честь епископского сана и самой церкви… солгал я… О, поступите же таким образом, чтобы грех мой не оказался бесполезным и был бы я вправе похваляться им. В память о той несчастной, вы ведь не забыли о ней… такого быть не может… так вот, в память о ней пожертвуйте своим тщеславием — ибо лишь оно вами движет. Дайте мне возможность исправить дурной поступок, дабы мог я выйти к встревоженным людям и сказать им: ваш епископ неспособен учинить низости, в коих его винят. Вот Аниньяс перед вами, она чиста и свободна. Я позаботился о ней и о чести ее и буду заботиться впредь.
Епископ заколебался, сейчас лучшие стороны его натуры брали верх над дурными. Разум, чувства, собственная выгода — все ратовало за доброго архидиакона. Его красноречие, идущее из глубины души, сломило гордыню высокомерного прелата — ибо одна только гордыня и была тою страстью, которую надлежало одолеть сейчас.
— Пайо Гутеррес, — молвил епископ, — вы добродетельный клирик и честный человек. Обнимемся, архидиакон… и простите меня.
Клирик опустился на колени, его душили рыдания:
— Это мне до́лжно пасть к ногам вашим, ваше преосвященство, это вам должно простить меня, ибо вы — сеньор мой и прелат!
Глава XXX. Что было сказано, то сказано не было
Епископ раскрыл объятия своему викарию, и в глазах его, разучившихся плакать за долгие годы ожесточения, блеснула слеза.
Добрый архидиакон обнимал колени своего господина и лил слезы радости, ибо святая душа его ликовала.
Вот зрелище, что растрогало бы ангелов и обратило бы к добру демонов: добродетель, в смирении простершаяся у ног надменного преступника, коему остается лишь признать победу ее и подчиниться ей.
— Обнимите и простите меня! — восклицал епископ. — О, простите меня! И да сжалится надо мною господь, да простит меня и он благодаря вашему заступничеству, ибо вы святы и добродетельны!
— Да, простит он, простит, — отвечал архидиакон. — Оба мы грешники, но он благословил вас, сеньор, ибо вы победили себя самого и одолели злейшего своего врага.
В этот миг, в этот самый миг неистовый и нестройный гул послышался с той стороны, где находилась палата городского Совета, и среди невнятицы отчетливо прозвучали выкрики:
— Смерть Перо Псу!.. Да сгинет Перо Пес и пес-епископ!
— Да здравствует король дон Педро! Да здравствует наш вожак!
— Сюда нашу хоругвь! Хоругвь Богоматери!
— Свобода! Свобода! Долой всех псов!
Руки епископа, раскрывшиеся было для объятия, оцепенели; прелат, склонившийся было в порыве раскаяния, снова выпрямил стан, снова напрягся, высокий, суровый, упрямый. Эти выкрики внезапно вернули в нем к жизни «ветхого человека»{166} и, ожесточив его сердце, вновь обратили его к изначальной жестокости, врожденному его недугу.
Пайо Гутеррес пал ниц и горько зарыдал:
— Боже, боже!.. Поздно, о господи!.. И час твой никого не ждет!
— Вы слышали? — взревел епископ; он изменился в лице, но голос его, полный горькой иронии, звучал твердо и язвительно. — Вы слышали, сеньор архидиакон Оливейраский? Там ваши друзья. Ступайте к ним, добродетельный клирик. Сбросьте личину святости, скиньте сутану, возьмите пику и присоединитесь к мятежникам, вы ведь из их числа. Но управляйте получше вашим безмозглым сбродом, прикажи вы им явиться на десять минут позже, и ваша измена удалась бы, а эта женщина… Пусть только кто-нибудь явится за ней… хоть вы, хоть они… вы со своими проповедями, они со своими дерзостями… клянусь Иудой Искариотом, им не видать ее живой.
Ответом ему был взрыв хохота, дьявольского, сухого, холодного, то был воистину хохот ведьмы; он послышался, казалось, откуда-то из-за занавесей и разнесся по всей комнате.
Епископ вскрикнул от неожиданности и окинул кабинет помутившимся взглядом. Но никого не увидел.
— Где она, проклятая?
Пайо Гутеррес встал, он стоял напротив епископа, скрестив руки на груди и сокрушенно глядя долу; безумные речи прелата доносились до слуха его смутным гулом. Но когда, стряхнув оцепенение, он заметил, что епископ направился туда, где недавно, словно дитя малое, спряталась Аниньяс, вся энергия души его пробудилась, и, вцепившись обеими руками в облачение епископа, он вскричал так громко, что нельзя было узнать слабого его голоса:
— Что делаешь ты, погибший? Трепещи!
И епископ затрепетал в самом деле, ибо в голосе Пайо Гутерреса послышался ему трубный глас, возвещавший с небес гнев господень. Архидиакон отдернул занавес и явил взглядам недостойного прелата зрелище, при виде коего пал бы на колени нечестивец и само неверие готово было бы бить себя в грудь.
К простому черному кресту пригвождено было изваяние Христа в человеческий рост, несовершенное по исполнению, но отмеченное некоей божественностью, величавостью, дышавшее безграничным милосердием того, кто принял смерть за всех человеков. У подножия креста была не кающаяся Магдалина, ищущая в слезах спасения от угрызений совести, но бедная молодая мать, прекрасная и простодушная, в оцепенении страха обнимающая святой символ искупления и возлагающая последнюю свою надежду на помощь божию.
— Наместник Иисуса Христа, — вскричал архидиакон, — ты осмелишься посягнуть на ее убежище?
Должно быть, в тот миг в душе епископа господствовал черный демон, которого он поминал, ибо по телу его пробежала та самая дрожь, которою дрожит нечистый при виде креста. Но прелат сразу же овладел собою, оттолкнул слабосильного архидиакона, который попытался удержать его, и отринул от души своей страх божий, который мог бы спасти ее.
— Хватит детских игр и лицемерной болтовни, — произнес он. — Эта женщина отсюда не выйдет, вы же выйдете да не мешкая, сеньор архидиакон. Так велю вам я, ваш епископ и сеньор. Ступайте.
И, подойдя к двери, что вела в наружные покои, он позвал громким голосом:
— Эй, Перо Пес!
Злобная тварь снова появилась в дверях. Но податной больше не смеялся. Бледный тою же зеленовато-бурой бледностью, что и утром, дрожащий от ярости и от страха при выкриках толпы, он напоминал овчарку, которая под градом каменьев бежит к подзывающему ее хозяину.
— Уберите отсюда эту женщину и отведите в подземелье, в потайной карцер. Но не в тюрьму, понятно?
Перо Пес издал глухое рычанье в знак согласия.
— Мне следовало бы отправить туда же и вас, сеньор архидиакон, но…
Клирик поклонился и не ответил ни слова. Не удостоив взглядом ни его, ни прочих, епископ вышел из кабинета и проследовал в оружейную, где собрались его ратники и люди, состоявшие на службе у него либо у государства. Аниньяс же, жарко помолившись напоследок перед благословенным образом, который, по ее словам, принес ей спасенье, и приняв благословенье Пайо Гутерреса, который пожелал ей не падать духом и уповать на господа, покорно последовала за своим тюремщиком в епископский подземный застенок.
Что до бедного архидиакона, то был он удручен и испытывал ужас при мысли о бедствиях, которые, как видел он, должны вот-вот обрушиться на этот проклятый дом, и клирику не оставалось ничего другого, как отрясти от своих сандалий прах его — мерзостный прах, грязь подлых дел, которой запятнал он стопы свои — и понапрасну.
Он откинул портьеру и стал спускаться по лестнице, что вела в подземелье… Но ведь он совсем один, как найдет он путь? Кто даст ему кончик нити, чтобы выбраться из лабиринта?
Но кто-то поджидал его, прячась, кто-то взял его за руку и прошептал:
— Это я, идемте.
Кто это был? Ужели та самая ведьма, чей недобрый хохот слышался несколько минут назад? Кто была она, что делала здесь, какое дело ей было до всего этого?
Но в рукописи говорится лишь, что вышеупомянутая ведьма — а может, она вовсе не была ведьмою — довела архидиакона прямехонько до его тюрьмы; «его» — поскольку он, как уже говорилось, был исповедником и викарием епархии. Из тюрьмы они сразу же вышли, но куда отправились, неизвестно… по крайней мере, до поры до времени.
Пусть себе идут, а мы пойдем поглядим, как там мятеж.
Глава XXXI. Senatus populusque portucalensis[34]
Неподалеку от феодальных башен собора и Епископского дворца находилась, как мы уже неоднократно упоминали, палата городского Совета, все члены коего с самого утра того дня собрались на «перманентное заседание», как выразились бы в наше время. Волнения, охватившие народ, боязнь, как бы волнения эти не вылились снова в открытый мятеж, — вот что привело в сии стены отцов-сенаторов града Порто, исполненных бдительности и радевших о спасении отечества.
В отличие от сената римлян, однако же, сей сенат предоставил плебс его участи и в качестве собственного Авентинского холма{167} избрал холм, на коем высился собор. И, к вящему огорчению нашему, средь членов его не нашлось ни одного Валерия Публиколы,{168} каковой исхитрился бы спасти отечество с помощью детской сказочки, посредством притчи установив равновесие меж силами государства. А если бы и нашелся Публикола — потрохоед, пришлось бы ему попотеть, дабы измыслить историйку, каковая была бы во всем противоположна древнеримской, ибо сейчас совсем не в том была закавыка, что руки и ноги отказывались работать на брюхо; работать-то они хотели, и работать усердно, но на собственный страх и риск, и никакого им не было дела до их муниципально-сенаторского брюха, ибо это самое брюхо как раз и бросило их на произвол судьбы, и покуда смутьяны слонялись без толку по улицам, сенаторы заперлись и забаррикадировались в палате Совета.
Итак, заседали они там, заседали, совещались и рассуждали. Но итогом всех совещаний и рассуждений было наше извечное, исконное и в поговорку вошедшее португальское речение: Завтра поглядим.
Когда сия великая заповедь португальской политики принята и утверждена, что еще остается делать? Министры засыпают в раззолоченных своих кабинетах, сенаторы — в своих курульных креслах слоновой кости, а сами трибуны — когда таковые имеются — храпят на своих сосновых скамьях, ибо все уже сказано и все уже сделано. Спокойной ночи, любимое отечество, и до завтра.
Это самое завтра, естественно, настает, министр подкрепляется пищею, усаживается в наемный экипаж и в полнейшем спокойствии катит к себе в министерство в сопровождении своего ликтора, каковой трусит себе с государственным видом на казенной кляче следом за колесницею его высокопревосходительства; итак, доезжает наш министр до площади Террейро-до-Пасо, а смутьяны тут как тут, разбили лагерь и собственных министров уже испекли; вырывают они у нашего министра портфель из-под мышки и дают ему пинок-другой под зад, а ликтор, такой-сякой, и не думает спешить ему на выручку; тут же переметнулся в другой лагерь и оказался позади другого наемного экипажа, в коем восседает другой министр.
Сенатор, поскольку он обыкновенно передвигается пешим ходом, всегда встречает по дороге какую-нибудь добрую душу, каковая предупреждает его: «Спрячьтесь, вас собираются арестовать». И он залезает на чердак и взывает оттуда к своему верному завтра, которое частенько оказывается весьма неверным, да и наступает не так уж быстро.
Что же касается трибуна, то ему остается лишь обвинять других, коих честит он предателями и ротозеями, да затевать новую революцию, дабы сызнова погубить ее.
Завтра, священное «завтра» Португалии, какие сладостные сны ты навеваешь нам! Что за дело нам до других народов, которые поспешают вперед, ибо пользуются днем сегодняшним, если мы, по твоей милости, спим и счастливы, словно беспечные лаццарони!
Так вот, сенат града Порто твердо держался сих добрых правил. А кроме того, поскольку во время крестного хода да и долгое время спустя революция всего только шушукалась по углам, по тавернам и в лавках и не было слышно ни криков, ни анархического трезвона, который медники извлекали из своих «инструментов», рвение мужей-сенаторов поостыло, а бдительность их пошла на убыль.
Иные летописцы сообщают даже, — но лишь как слух, каковой не следует безоговорочно принимать на веру, — что, посовещавшись до полного истощения сил, — действительно, совещания неизменно приводят к сему результату — они послали в ближайшую таверну за кушаньем из превкусных потрохов, превосходно подкрепляющим силы, и во славу непобедимого града переправили оное в свои вместительнейшие утробы, разбавив густую и вязкую похлебку соответственным количеством кувшинов выдержанного вина. Каковое оказало столь успокоительное действие, что попечения о делах общины перестали тревожить их, кто-то склонил достойное свое чело над столом заседаний, кто-то прижался почтенным затылком к спинке курульного кресла, и все единодушно, без каких-либо прений, без единого голоса против… уснули.
В палате воцарился святой мир — и размеренный храп отцов отечества сливался в сладостную гармонию. Все звуки — от свистящего фальцета Рубини{169} до громозвучного баса Лаблаша{170} — слышались здесь, соединяясь в мелодическое целое.
Неблагодарный народ! И как только хватило у вас духу, грубияны и бездельники, непочтительные и оскорбляющие природу сыны, явиться сюда, чтобы трезвоном и воплями разбудить ваших отцов-представителей, вырвав их из объятий столь блаженного и патриотического сна?
Разве, к примеру, нанизывали они административные четки из постановлений — как в наши дни нанизывают четки из законов, — чтобы унизить вас и уничтожить? Разве голосовали они — без зазрения совести, без раздумий, без оглядки — за выплату возмещений убытков в размере нескольких миллионов конто, каковые вытягивали из вашего кармана, дабы переложить в собственный? Разве голосовали за то, чтобы оказать доверие какому-нибудь инспектору мер и весов, который обработал бы вас по собственной мерке?
Нет, о нет! Отцы отечества спали, отцы отечества храпели; а ведь отечество может порезвиться лишь в ту пору, когда любезные его папеньки похрапывают.
Спали, стало быть, наши отцы-сенаторы, сном невинности, коим спится, когда душа спокойна, а желудок полон, как вдруг на Капитолий{171} потрохоедов обрушился ураган выкриков во здравие и на погибель, коими огласил его взбунтовавшийся плебс.
Отцы-сенаторы пробудились в тревоге и в трепете. А вдруг какой-нибудь галисийский Бренн{172} явится сюда и прикончит их на месте, не дав даже встать с кресел, каковые были, разумеется, не из слоновой кости, а из благонадежного отечественного каштана? Но ведь все едино — что умереть в кресле из каштанового дерева, что из слоновой кости, а умирать — хоть сидя, хоть стоя, хоть лежа — всегда не очень-то приятно.
Может статься, народ снова взбунтовался? Но ведь только что казалось, он так спокоен, так мирно отдыхает под бдительным оком своих избранников! И они обсуждали, они мариновали во многомудрых своих головах столь чудесные планы спасения отечества!
Да нет, не восстал народ, не может такого быть, а если и восстал, так не против же должностных своих лиц, столь достойных сей чести и столь им любимых.
Сие соображение несколько успокоило отцов-сенаторов, и в конце концов наименее пугливый из них — то был наш Мартин Родригес — решился подойти к окну и поглядеть, в чем дело.
Уже темнело, и мясники, во множестве примешавшиеся к мятежникам, зажгли традиционные свои светильники — нечто вроде корзинок из железных обручей, склепанных вместе, укрепленных на острие копья и наполненных просмоленной паклей, которая горела тусклым красноватым огнем. Множество таких светильников окружало собачью голову на пике — омерзительный символ восстания; другие поблескивали над толпою, словно адские огни, сообщавшие людям свой лихорадочный жар.
Вот какую картину узрел наш достойный судья. Неразборчивый гомон оглушил его, но чей-то мощный голос перекрыл остальные, и Мартин Родригес отчетливо расслышал:
— Тихо вы все, слово нашему предводителю.
Васко повернул коня к палате Совета и, обращаясь к удрученному сенатору, фигура коего была вполне видна, промолвил:
— Я понуждаю вас именем народа; велите отворить двери сей палаты, господа судьи и советники, ибо мы хотим войти. И пусть ударят в набатный колокол, ибо мы будем толковать о предметах, касающихся общего блага и для всех нас немаловажных.
Коллеги Мартина Родригеса уже толпились позади него, дабы послушать, в чем дело, скрывшись за широкой его спиной, и все в один голос завопили, помогая себе жестикуляцией:
— Отвечайте «да», отвечайте «да», сейчас, мол, отворим, сейчас ударим в набат.
Таков и был ответ Мартина; и Васко промолвил:
— Вот и хорошо, оно самое лучшее.
— Еще бы! — послышались ворчливые голоса. — Ведь на карту поставлено шестьсот тысяч…
— Молчать! — вскричал Васко таким голосом, который немедленно кладет конец подобным проявлениям разнузданной анархии, лишь бы подал голос человек уважаемый и ни в чем не заподозренный.
Гул стих, двери растворились настежь, зазвонил городской колокол; и зал совещаний до отказа наполнился народом, который радовался тому, что беспорядочный мятеж его санкционирован, вернее сказать, узаконен соблюдением предустановленных формальностей; а потому как на площади, так и в палате Совета люди спокойно ожидали, пока завершится ритуал, принятый при подобных обстоятельствах, дабы был поставлен по всей форме и надлежащим образом вопрос, который они должны были решить, — который, собственно, уже был решен, но они хотели присутствовать при официальном принятии решения.
Глава XXXII. Билль о возмещении убытков{173}
Проследуем же, друг-читатель, на галерею, мы будем присутствовать при великом событии. Поскольку избирательная урна нелицеприятно вынесла суровый приговор нашим скромным достоинствам и не предоставила нам законного места в священных сих стенах, и поскольку мы, верноподданные и законопослушные кондитеры, не станем якшаться с толпою смутьянов, дабы завоевать себе оное и возвесть себя самих в ранг членов курии,{174} проследуем же, благосклонный читатель, проследуем же скромно на галерею. Удовольствие больше, да и в художественном отношении роль сия много выигрышнее.
Я не хочу сказать этим, что признаю больше прав за субъектом, каковой посредством интриг и мошенничества пролезает туда, куда не открывают ему дорогу ни добродетели, ни таланты, ни заслуги, ни доверие общества; говорю только, что не хочу следовать ни тем, ни другим путем, почитая оба недостойными.
Итак, мы на галерее, поглядим же.
Во главе широкого стола, где совсем недавно дымился лакомый ужин наших отцов города, восседал Мартин Родригес, самый старый и самый почтенный из всех. Справа и слева от него расселись остальные. Между ними поместились Васко, оба брата, Руй Ваз и Гарсия Ваз, а также кое-кто еще из народных вожаков. Прочие оказались на положении статистов. Толпа, заполнившая переднюю, лестницы, портал и прилегающие улицы, общалась с теми, кто пребывал под сенью муниципального святилища, посредством помыслов, как выразился бы богослов.
Когда гул приготовлений улегся и заседание открылось — воспользуемся этим нынешним словечком, — Васко, не дожидаясь соблюдения прочих формальностей, взял слово.
— Сеньоры судьи, советники и отцы нашего города, вот перед вами честный наш народ, он избрал вас, дабы вы наставляли его и вели, и вот под набатный звон, в согласии с обычаями нашими и вольностями, призван был он сюда и явился, дабы обмыслить и обсудить купно с вами одно важное дело и предприятие, каковое для всех нас существенно, и мы исполнены решимости довершить его и довести до конца нынче же, как и подобает.
— Да, нынче же, нынче! — взревела толпа.
— Потише, друзья мои! Такого рода вещи нельзя решать сгоряча. Успокойтесь.
Диву давался Мартин Родригес, диву давались и Жил Эанес, да и все прочие члены Совета, видя, что Васко, студентик этот, любимец епископа, стал глашатаем народа, его трибуном. Еще более дивились они, видя, что какой-то юнец без положения и власти столь уверенно управляет волею толпы. Не знали они, что́ думать и как понять сие. Торопливо пошептавшись с коллегами, Мартин Родригес, поскольку являлся он главенствующим судьей или старейшиной средь советников, — как больше понравится, так и зовите, — сказал с важностью, пряча за властностью тона сильнейшую нервную дрожь:
— Поелику вы, сеньор Васко, держите речь от имени сего доброго народа, как видим мы…
— Так и есть, — вскричало несколько голосов, — на все это мы его уполномочили и окажем ему поддержку во всех деяниях.
— Такова наша воля, — подхватили все.
— Коли так, — продолжал мастер Мартин, — изложите же нам, сеньор Васко, суть вашего дела во всех подробностях, дабы могли мы решить оное наилучшим образом.
Приняв предварительно ораторские меры предосторожности, а именно, откашлявшись и став в позу, Васко прибегнул ко всем своим познаниям, не шедшим, впрочем, далее нескольких обрывков из Саллюстия{175} и Цицерона.{176} Припомнилось ему «Quousque tandem»,[35] избитое начало многих новичков-ораторов, и, слегка изменив его, дабы, по примеру многих, придать своей речи видимость своеобычности, он заговорил следующим образом:
— Довольно злоупотребили терпением нашим, о господа судьи, Катилины сего злосчастного края. Утеснения и лиходейства что ни день становятся все непереносимее. Плоды трудов наших расточаются, права попираются, свод вольностей наших, принятый в монастыре святого Георгия, — не имеющая силы писанина, лживая и суесловная грамота, с коей сорваны печати. Наших жен и дочерей умыкают. Французские и фламандские купцы обходят нашу гавань стороною и вступают в сделки с Новым городом, что на том берегу, обогащая его жителей. Не хватает нам соли, чтобы засолить добытую рыбу…
— Верно, соли не хватает, того гляди, вся выйдет, — зашумела толпа, ибо Васко затронул самое болезненное место в списке обид.
Нетерпеливое движение руки оратора водворило молчание. Студент продолжал:
— Вся власть оказалась в руках недостойного сборщика податей, а ведь он самое подлое и низкое отродье, он даже не из наших мест, это один из тех охотников поживиться, коих в южной оконечности нашего королевства прозвали крысами…
Общее веселье. В стенографической записи речи здесь следовало бы отметить, что в печати нужно будет дать курсив, но в ту пору у нас еще не пользовались стенографией: как видите, мы весьма отставали.
— Но уж лучше был бы он лишь крысою-грызуном, а то ведь это взбесившийся пес треклятый, кусающий и терзающий нас! Когда же назову я имя Перо Пса, все будет сказано, и когда напомню о том, какое оскорбление нанес он прошлою ночью дому согражданина нашего и друга Афонсо де Кампаньана, других напоминаний не понадобится. Честь нашего города под угрозой, мы должны отомстить за обиду, это необходимо и ради славы нашего города, и ради пользы его, и ради его спасения. Надобно, чтобы свод вольностей наших обрел силу. Мы решились отказаться от вассального подчинения и подвластности сеньору, который за нас не заступается и не блюдет наших привилегий. Мы хотим подчиняться одному только королю и никому более, вот наше предложение, выслушаем же теперь ваш совет.
— Верно, верно! Так и есть! — взревел народ хором. — Хотим короля в сеньоры и никого больше!
В те добрые простодушные времена лавочники и бакалейщики еще не помышляли о титулах баронов и виконтов и об орденских крестах, а также о том, чтобы рукой, не отмытой от сала, которое взвешивала она в лавке, ухватить министерский портфель, либо о том, чтобы шлепнуться ягодицами, обтянутыми лоснящимися кожаными штанами, в бархатное кресло Государственного совета; буржуа того времени, еще верные своему сословию, такие, как эти бедные толстопузые сенаторы нашего града, само собою разумеется, в глубине души своей — своих потрохов, следовало бы сказать для пущего местного колорита — сочувствовали гордым демократическим речам юноши. Мы употребили слово «демократическим», ибо в те феодальные времена у демократии и у короны были общие интересы, они ратовали за одно и то же дело.
Думается мне… и пусть не содрогаются мои друзья-либералы!.. что судя по нынешнему ходу событий в недолгом времени народу снова придется упрочить узы, связывающие его с монархией, дабы защититься от всепоглощающего деспотизма властителей сейфов, повелителей банков, от всего этого биржевого феодализма, который поразил демократию, словно роковой недуг проказы, который гложет и подтачивает ее — и, будучи предоставлена сама себе, демократия, на мой взгляд, не располагает силами и средствами, достаточными для того, чтобы справиться с этим недугом. Смутные теории социализма, грезы коммунизма, по моему суждению, доказывают лишь бессилие формы перед мощью материи.
Отцы-сенаторы переглянулись и во взглядах друг друга прочли полнейшее единодушие в потаенных своих чувствованиях и суждениях.
— Да, — говорило им сердце, — это справедливо.
— Нет, — нашептывало брюхо, — это рискованно.
И в сей борьбе меж сердцем и брюхом выборные защитники общественных интересов ощущали себя, бедняжки, слабосильными. «Церковь столь могущественна… Сеньоры в любом случае возьмут верх… Господи, спаси и помилуй!..» А в брюхе такая тяжесть, такая тяжесть… оно ведь весит больше, чем сердце, брюхо треклятое.
Жил Эанес, европейски мыслящий представитель той эпохи и того сената, известный в непобедимом граде как самый нудный из ораторов, владевший до тонкости сложным искусством переливать из пустого в порожнее, так что в итоге не оказывалось ни капли смысла, Жил Эанес, который привык торжествовать в самых трудных случаях, ибо он доводил слушателей до предельной усталости, изматывая их, томя, усыпляя и обращая в бегство, Жил Эанес угадал, что спасти положение в столь тягостный миг может лишь он один. Он угадал верно; получив разрешение от председательствующего, он начал так:
— Я не могу, да и не притязаю на то, честные судьи и добрые мои сограждане, не притязаю и не могу, не намерен и не в состоянии отрицать или сомневаться, что предложение, каковое сделал и представил высокочтимый оратор, только что закончивший речь, принадлежит к числу тех предложений, каковые, если учесть нынешние условия и принять во внимание обстоятельства со всеми вытекающими последствиями, быть может, оказались бы и предстали перед нами в таком виде, что, при надлежащем сопоставлении причин и следствий, каковое и я сам мог бы сделать, да и все мы, придя к единому мнению и взаимному согласию, сочли бы и пришли бы к выводу, что если принять принципы, составляющие основу и фундамент любой доктрины, но при этом обратиться лишь к высшей, превосходящей все прочие методе, приемлющей лишь самые отвлеченные доводы, такие, как разум, норма, общий закон самых изначальных правил доброго правления и гармонического сочетания всех жизненных элементов, а вернее сказать, тех, которые шествуют прямым путем и с уверенностью от исходной своей точки к моменту кульминации, что, следственно, подтверждают собранные мною статистические данные, каковые я извлек из сопоставления фактов, а факты в науке — это суть! И я вправе говорить о науке не без гордости, да будет мне сие дозволено, ибо я извлек ее из хаоса, в коем застал, дабы довести оный до пределов… я хочу сказать, довести оную науку до пределов разумения, если правильно разуметь сие слово, ибо нельзя отрицать, что меж двумя опасными крайностями бытия и небытия — как через несколько веков скажет один великий английский поэт:{177} «То be or not to be»,[36] — что в переводе на романский наш язык означает: «Иль полководцем быть, или никем…»
И, цитируя сии будущие строки, я, человек строгой науки, презирающий всяких там бардов и трубадуров, совершаю жертвоприношение Музам, подобно Сократу… Члены Совета знают, кто такой Сократ и кто такие Музы, а если б не знали, мне было бы достаточно сказать им…
Наркотическое действие сего восхитительного красноречия уже давало себя чувствовать среди участников заседания в палате Совета града Порто таким же способом, какой мы столько раз потом ощущали на себе и наблюдали во дворце Сан-Бенто в Лиссабоне. Все члены Совета клевали носом; Васко был во власти безысходного кошмара, который усыплял его и тяготил, словно в мучительном горячечном сне; самые пылкие вожаки толпы судорожно зевали. И диспут на том бы кончился, подобно тому, как кончилась перебранка пьяниц,
Что вместо драки впали в крепкий сон…
Но тут братья Ваз, которые, сидя друг напротив друга, разевали рты до самых ушей — такая ширь, ни дать ни взять Сакавенская бухта, — испугались, заметив, что все вокруг клюют носами и зевают, меж тем как оратор заблудился в словесном лабиринте и сам не знает, как оттуда выбраться хоть с каким-то смыслом; и братья сказали друг другу:
— Так дальше продолжаться не может; этот болван Жил Эанес насмехается над нами… А время позднее, и дел у нас много.
— Долой болтовню! — вскричал Гарсия Ваз.
— Долой! — подхватили, проснувшись, заседающие.
— Вон его! — взревели все в один голос, и слова эти эхом прокатились по лестницам, улицам и переулкам, где теснились люди, впавшие было в сонное оцепенение, каковое наподобие электрических волн излучал наш выдающийся оратор, сущее чудо красноречия.
— Послушайте, сеньоры! — возопил он в отчаянии и растерянности. — Послушайте меня, ведь вам положено меня слушать, вы обязаны меня слушать…
— Долой!
— Только послушайте, я расскажу чудеса.
— Вон его, вон мошенника!
Магнетизирующее красноречие достойного сенатора навело такую тоску на собравшихся, что их реакцией был неутихающий гомон. Жил Эанес обнаружил, что присутствующие видят лишь, как он яростно и негодующе размахивает руками, но ни единого из словес его им не расслышать.
Он сел на место, как всегда, исполнен самодовольства. Душу он отвел, обрушась с бранью и протестами на тех несчастных, которых угораздило оказаться поблизости; но гомон прекратился. И Васко, возвысив голос, промолвил:
— Мы решились. Коли судьям нашим угодно выступить во главе своих горожан, пусть пойдут в первом ряду — там их место. Коли нет, мы выступим без них. Но пусть вручат нам штандарт нашего города, штандарт Богородицы, ибо мы хотим, чтобы осеняло нас это знамя, чтобы вела нас вперед эта хоругвь.
Гарсия Ваз, не собираясь дожидаться, пока требование Васко будет удовлетворено и судьи определят собственную позицию, схватил городской штандарт, стоявший в углу, без церемоний вскочил на стол заседаний и, трижды взмахнув штандартом, заорал во всю глотку:
— За Пресвятую Богородицу, нашу заступницу, за короля, нашего единственного властелина и повелителя… И за нашего вожака! Слава им, слава, слава!
И он передал штандарт юноше. Народ вскричал «слава!» и стремительным потоком выплеснулся из палаты Совета, огласив город своими кликами.
Таким-то образом мятеж был узаконен соответствующим биллем. И таким образом окажется узаконен любой мятеж, которому это потребуется, — все дело в том, чтобы он, то есть мятеж, располагал силою.
Васко вскочил на коня со штандартом в руке. Отцы-сенаторы скорчились в страхе каждый на собственном чердаке, как велит обычай. И взбунтовавшийся народ, одержав победу в первой боевой встрече, исполнился силы и сознания собственной мощи; и в превеликом восторге двинулся к Епископскому дворцу, веселясь и приплясывая, выкрикивая хвалы тем, за кого выступал, распевая недавно сочиненные гимны и не забывая время от времени возглашать «Смерть псам, долой псов», каковые здравицы обращены были к почтенному сборщику податей, популярность коего отнюдь не шла на убыль и имя коего отнюдь не забывалось.
Глава XXXIII. Гражданская война
Однако же еще до того, как народная рать завладела штандартом общины и, укрепив дух означенным палладием{178} и ощущением законности, которое обрела она в оном, двинулась в поход против природного своего властелина и не менее природного недруга, сей последний уже спохватился и принял меры, дабы оборониться. Все двери и ворота дворца и собора были заперты, и толстые железные засовы, мощные дубовые перекладины, казалось, бросали вызов — попробуй-ка совладай с нами без помощи артиллерии… А в те поры и у королей-то артиллерии не было, тем паче у народа! За зубцами соборных башен виднелись арбалетчики и лучники, за зубцами Епископского дворца, более похожего на укрепленный замок, — тоже. Тишина, порядок, дисциплина, составляющие вместе величайшую мощь, противостоять которой в силах немногие и которая почти всегда одерживает верх надо многими, царствовали в епископских владениях. Прелат собственною персоной, сбросив долгополые понтификальные облачения и уже наполовину в рыцарских доспехах, словно собирался сражаться, спокойно отдавал приказы, ничего не упуская из виду и выказывая бестрепетную веселость человека сильного, который ощущает себя таковым и потому, что знает собственную силу, и потому, что право на его стороне, и методично готовится отразить ожидаемое нападение, дабы со справедливой суровостью покарать дерзновенных.
Таким казался судя по облику его, речам и движениям бывший рыцарь Афонсо IV. Но таково ли было на самом деле состояние его духа? Ужели и вправду билось так размеренно под металлом нагрудника это полное страстей и гордыни сердце, не знавшее покоя под пурпуром стихаря? О нет!
Быть может, его донимали угрызения совести за то, что он беспощадно обижал бедных своих вассалов, утесняя их и обирая, предавая их из одного только бесчеловечного равнодушия жестокому произволу кровожадного негодяя?.. Нет, разумеется. И я сказал уже: он не понимал ни умом, ни чувством Евангелия, истинам коего должен был наставлять людей, из законов общественной жизни знал лишь один, наиглавнейший: сеньор повелевает, вассал повинуется. Донимало его другое: смутное предчувствие, неопределенный страх, невнятный, но пророческий внутренний голос — кара злодеям, иногда постигающая их поздно, но всегда неотвратимая; вот что владело сейчас его сердцем.
Он не страшился бунтовщиков, был уверен, что совладает с ними и с разнузданной их дерзновенностью, но что-то в глубине души говорило ему, что нынешняя ночь будет для него роковою и не миновать ему сурового наказания. Но за что? Аниньяс… да, он велел ее похитить… А она ведь недурна, эта Аниньяс, и стоила того! Но что он такого ей сделал? Чинить над нею насилия не собирался… И коль уж она в самом деле была… добродетельна, скажем, да, добродетельна, что же, отпустим ее! Пусть отправится к себе и затеплит лампадку перед своей святой в часовенке — арке, и всяческого ей благополучия! Но это всегда успеется. Передавать ее этому сброду, что именуется мелким людом… да будь он хоть крупный… околачиваются тут, вопят, выказывают неуважение к природному своему властителю, являются к стенам его дворца и выкрикивают угрозы его служителям и здравицы в честь короля — и вот это уж оскорбление, уязвляющее его тщеславие и феодальную гордыню, — это уж нет! Этого он не потерпит! Даже не из-за того, что он сеньор, — а он сеньор! — и не из-за княжеского пурпура, его облекающего, а из чувства чести простого рыцаря он будет бороться. Будет бороться против грязного сброда, как велит его долг, а король пусть грязнит себя союзом с этим сбродом…
Но, о боже!.. Та женщина из давней поры, дочь его благодетеля, та, которую он трусливо оскорбил, погубил… и привел к погибели всю семью… она… о да, эта женщина — вот кто предстал сейчас перед мысленным его взором… Эсфирь, Эсфирь! Но это уже не Эсфирь, обливающаяся слезами, запятнанная позором; это вдохновенная Юдифь, она потрясает мечом карающим, готова вот-вот отсечь надменную главу Олоферна. А рядом с ужасным этим видением еще одна фигура, вначале черты смутны, но вот становятся яснее, яснее… Кто это? Васко! Васко, юный школяр, его любимец, единственное существо в мире, дорогое его сердцу!.. Как, почему он тут? Что делает? Что означает это видение?
Что означает оно, о погибший бездушный человек? Вспомни!..
Но он не помнит: сердце его лишено памяти, а дух смущен этим странным сновидением наяву, когда смешливое жизнерадостное лицо его юного Васко вдруг возникло в том же самом воспоминании, что и пугающий образ мстительницы.
Бредни, нелепицы дурного сна… Нужно развеять их, проснуться. Но где же пропадает Васко?.. Еще не вернулся… А время такое позднее! И народ так разбушевался! Что, если он попадет простолюдинам в лапы? Вот это действительно опасность, и немалая… Что делать? Брат Жоан еще не явился; слуги, что были за ним посланы, воротились без ответа, ибо все монастырские ворота на запоре. Сущие канальи все эти монахи, что францисканцы, что доминиканцы, все они хотят остаться в стороне, если дойдет до столкновения, и боятся навлечь на себя неприязнь горожан! Может быть, по крайней мере, Васко сейчас в монастыре? Там он был бы в безопасности, вот счастье было бы…
Он снова позвал слуг и челядинцев и, расспросив всех и каждого, из рассказа стремянного, которому юноша передал гнедого близ арки святой Анны, узнал наконец, что Васко вернулся в город еще вечером и сразу же отправился в дом Мартина Родригеса.
— Что делать ему в доме судьи? — осведомился епископ в удивлении.
— Что ему там делать? У мастера Мартина есть дочка, красавица и разумница, ну и…
— Стало быть, Васко?.. Ну, с этим я покончу. Пусть кто-нибудь отправится в дом мастера Мартина и…
— Сеньор, весь дворец окружен, выйти неоткуда.
— Пусть арбалетчики обстреляют осаждающих, не жалея стрел, с главной башни, и в то же время пусть из ворот ринутся четверо копейщиков верхами да на конях порезвее; пусть прорвутся через толпу и разузнают…
Зарево, внезапно осветившее небо, оглушительный гул голосов, смешавшийся с чудовищным грохотом, который производили восставшие, колотя в медную утварь, — вот что заставило епископа прервать речь и поспешить к окну вместе с комендантом дворца и всеми прочими, кто был там. Грозное зрелище предстало их очам. Сам епископ содрогнулся, остальные же пали духом. Оба главных дворцовых входа были охвачены огнем: по-видимому, вначале там развели неприметные костры, куда подкладывали угли, чтобы не было видно пламени, а теперь упорный и медлительный этот огонь исподволь перекинулся на двери. Внезапно послышался многократный грохот, и старые дубовые доски распались, рассеялись градом искр, которые с шипеньем взметнулись в воздух, так что страшно было глядеть.
Но смятение епископа продлилось не дольше секунды; дрожь, пробежавшая по телу его, была вызвана скорее думами, что волновали его дух; чувство опасности вернуло твердость нервам и душе его.
— Ах так? — молвил он с горькою усмешкой, но выражение лица его было спокойным и холодным, ибо гнев придал ему обычную жестокость. — Ах, так? Что ж, поглядим.
Он скинул скуфью, надел шлем и, схватив меч, без дальних слов ринулся вниз по дворцовой лестнице.
При виде этого старика в доспехах, горящих глаз его, седой бороды, креста на груди и меча в деснице можно было бы подумать, что перед нами сам святой Иаков, собирающийся разить мавров… Но это не апостол, это недостойный преемник апостолов, поднимающий меч против детей Христовых; это злой пастырь, ополчающийся на паству свою, дабы ее истребить.
Комендант и остальные военачальники обнажили мечи и последовали за епископом; ратники, те из лучников, что не перебежали на сторону народа, весь гарнизон замка, одним словом, все воинство епископа, а было оно многочисленным, сбежалось на зов своего сеньора. Опрометью скатившись по лестницам, они собрались в передней, куда вели горящие двери, и построились в боевой порядок.
Рыцарь-прелат во главе своей рати d’élite,[37] казалось, вновь переживает дни былого, радостно приветствует опасность сечи, неистовое опьянение боев, в которых прошла его молодость.
Но возбуждение выдавали только глаза его, только дыханье, бурно вздымавшее грудь. И сам он, и все прочие стояли, не двигаясь, не говоря ни слова, вперив взгляды в створки дверей, которые дымились и трещали; поведение епископа и людей его свидетельствовало о мужестве разумном и надежном, ибо они спокойно ожидали решающего мгновения.
Ждать пришлось недолго. Одна из створок обрушилась грудой раскаленных углей, рассыпавших множество искр, и осаждающие разразились громовыми криками — «Победа, победа!», раскатившимися по всему городу.
И в то же мгновенье под ливнем жгучих искр и прямо по грудам раскаленных углей, шипевших на влажной земле, во дворец хлынули беспорядочно, ничего не видя, ничего не слыша в неистовстве своем и восторге, огромные массы народа; с громогласными здравицами и проклятьями ворвались в переднюю плотной бурлящей толпой, а на эту толпу напирали, тесня ее сзади, еще более многолюдные толпы, беспрестанно надвигавшиеся одна вслед другой. И они прибывали и прибывали, своим напором сбивая с ног и повергая наземь все, что попадалось на пути.
Но даже неистовствующему этому океану не сокрушить было железную преграду, о которую разбивались его волны. Повстанцы были все плохо вооружены, у них не было ни командиров, ни дисциплины, и они очертя голову налетели прямо на выстроившуюся в боевом порядке дружину епископа, которую не предполагали застать здесь; ослепленные, ошалевшие, они даже не разглядели воинов. Кто грудью напоролся на копье либо алебарду, которые держали наготове ратники, кто пал, рассеченный страшным ударом меча, которые рассыпа́л епископ, да и военачальники его не жалели своих сил… и жизней людских.
Почти все участники первого натиска мятежников были убиты или при смерти, иные же, полуживые, корчились на грудах раскаленных углей, усеявших вход во дворец.
Вопли, проклятья, кощунства… потрескивающие и обдающие жаром языки пламени… глаза епископа, горящие, сверкающие даже средь огня, словно глаза Люцифера… Перо Пес, хохочущий дьявольским смехом… казалось, жестокая эта сцена происходит в аду.
Народный поток замер и подался было назад, словно туловище змеи, у которой отрубили голову.
Прочь с дороги, прочь с дороги: не для того, чтобы помочь отчаянному своему авангарду, но для того, чтобы отомстить за него, появляется новый отряд повстанцев, он продвигается размереннее, ряды его стройнее, другая будет битва, ибо другие воители подоспели.
Они не издают нестройных восклицаний, не нарушают строя, восклицая; их боевой клич звучит грозно и торжественно:
— Пресвятая, оборони нас! Отмсти за наших братьев!
Среди наступающих был всадник на коне, размахивавший штандартом. То был штандарт Богоматери, покровительницы города.
Со словами: «Вперед, вперед! За деву Марию и ее народ!» — они бросились на врага, словно разъяренные львы. Но ярость их была подвластна приказу и воинской премудрости; и между ними и людьми епископа завязался бой — не столь неравный, как прежде, — не менее кровавый. С обеих сторон валились бойцы, лилась кровь. У простолюдинов потерь было больше, потому что у них хорошо вооружены были только перебежчики-лучники. Таким образом, у людей епископа был большой перевес по сравнению с воинами общины.
Дым, обволакивавший вначале поле боя, постепенно рассеивался, теперь удары мечей разили без промаха, сеяли смерть — народ начал отступать… Но тут молодой вожак — в левой руке он вздымал штандарт, правая потрясала мечом — вскричал:
— Что с вами, друзья! На врага за нашу честь, за свободу нашей земли!
Его восклицание, звуки его голоса подняли дух горожан, а вражеские ряды пришли в беспорядок и расстройство, ибо военачальник их вдруг рухнул наземь, словно пораженный смертельной раной прямо в сердце.
Его подняли и понесли в безопасное место; и покуда комендант и несколько самых отважных ратников без особого труда отбивались от нападавших, остальные стали подниматься по лестнице, неся на плечах своих епископа, который почти не дышал.
Глава XXXIV. Перемирие
Все сочли епископа смертельно раненным, битва утихла, казалось, сражаться нет более причины. Перевес был явно на стороне простолюдинов, но собственная победа привела их в растерянность, они не знали, что делать с нею, и уже стали поддаваться испугу, боязни «чувства пустоты», порожденного успехом.
Испугались они, однако ж, прежде времени: все происходившее было странно и удивительно — епископ не умирал, и свалила его наземь не рана — на нем не было ни царапины, — а обморок. Он пришел в себя, но переменился до неузнаваемости: лицо его было скорбно, слезы выступили на глазах; стоя на ступеньках, он воздел к небу длани и вскричал голосом, исполненным такой предсмертной муки, что сердца присутствовавших дрогнули:
— Васко!.. Ты ли это? Ты ли?..
Васко оцепенел, замер недвижно, епископ же отшвырнул меч, которого не выпускал из рук даже во время обморока.
— Рази меня, — вскричал он, — рази меня, Васко! Лишь от твоей руки я паду. Вот моя грудь, я жду удара.
И он сорвал с себя нагрудник, разорвал пурпурное облачение и, обнажив мощную грудь, на которой вздыбились щетиною седоватые волоски, густо ее покрывавшие, и которая вздымалась от гулких ударов сердца, явственно слышных, подставил ее под удар..
Неожиданный поступок его и странные речи оказали незамедлительно свое действие — ожесточение сражавшихся улеглось. Все дивились, все оцепенели и смолкли.
Зарево пожара отбрасывало кровавые и огненные отсветы на это зрелище, являвшее весь ужас гражданской войны. Освещение придало нечто возвышенное сей сцене, грозной и волнующей.
Васко, бедный Васко не мог долее владеть собою; он почувствовал, что в глазах у него темнеет, последним усилием воли — сердце его уже было побеждено — прижал левою рукой к груди своей знамя города, но потерял стремена, выронил меч, поводья упали на спину гнедого, голова юноши поникла… и хорошо, что благородный конь замер тотчас же, словно превратившись в бронзовое изваяние, ибо при малейшем его движении всадник оказался бы на земле.
Никто, однако же, не заметил этого, и лишь пристальный взгляд епископа уловил происшедшее. В смятении прелат вскричал:
— Помогите ему, помогите! Прекратите бой, довольно, помогите ему! Мечи в ножны! Спасите его. Я сделаю все, чего хотите вы, люди добрые. Да, я вступлю в переговоры с ним, с Васко, коли он вождь ваш… Так, так… хорошо, друзья, хорошо. Снимите его с седла, да осторожнее. А конь благородный, шерстинкой не шевельнет. Похож на моего гнедого… Да это он и есть! Как могло случиться подобное? Не важно. Поддержите его, он еще нетверд на ногах. Расстегните на нем нагрудник. Дитя! Совсем еще дитя — и в железных доспехах. Боже праведный…
И все повеления епископа исполнялись, и обеими ратями, почти перемешавшимися меж собою, командовал он один. Такой властью обладает голос сердца, и таковы странности гражданской войны.
Но наш народный вождь уже пришел в себя, воспрял духом и телом: опираясь на древко своего знамени, он приблизился на несколько шагов к епископу, который взирал на него с восхищением и радостно улыбался ему; Васко склонился перед прелатом в почтительном поклоне и с достоинством, скромно, но твердо повел такую речь:
— Сеньор, я — дитя годами, это верно; но бог порою посылает малых против великих, частенько дабы поразить их в единоборстве, нередко дабы предостеречь. Пусть же голос мой, смиренный и слабый, проникнет вам в сердце и смягчит его…
— Твой голос всегда, всегда проникает мне в сердце! — прервал епископ юношу, раскрыв объятия. — Но… — И тут он сжался, словно от укуса аспида. — Но чего ты хочешь? Что делаешь здесь? Чего ради явился? Что значит твое вооружение, хоругвь, речи?
— Эта хоругвь, сеньор? Вы не узнаете? Это хоругвь Богоматери, покровительницы нашего города, защитницы наших прав и вольностей. А я…
— А ты?..
— Я избран этими добрыми людьми для того, чтобы…
— Для чего?
— Для того, чтобы сказать вам от их имени, что они не могут долее терпеть ярмо рабства, на которое вы обрекли наш народ, вверив правление людям, что недостойны и вашего доверия, и права распоряжаться христианами, свободными, верными долгу и честными.
Глаза прелата засверкали; лицо, которое еще хранило бледность, вызванную страхом при мысли, что Васко его убит или ранен, зарделось жутковатым красно-бурым румянцем гордыни. Он прикусил губы, чтобы сдержаться, и молвил с горько-иронической усмешкой:
— Стало быть, этот честный, этот верный долгу народ явился сюда, вооружившись до зубов, дабы требовать справедливости? Он вложил тебе в руки хоругвь Богородицы, хоругвь мира… и без объявления войны поджигает дворец мой, вышибает двери, вторгается с огнем и мечом в жилище собственного сеньора… Васко, ты воистину дитя, и твоя невинность служит тебе оправданием. Отступись от этих людей, они ввели тебя в обман, идем со мной, ибо я…
— Да, я дитя; но бог дал мне разуменье, дабы видел я, на чьей стороне справедливость и право. Сеньор, вам известна роковая причина волнения, охватившего народ нынче утром… Народ, негодуя, но храня почтительность, пошел к вам со своими судьями во главе, пал к стопам вашим, прося вас о правосудии, о том, чтобы содеянное было исправлено. Все это было обещано, но посулы остались посулами. Ваши должностные лица посмеялись над мольбами народа, запугали его судей и выборных, поглумились над возмущением общины, ибо они почитали нас слабыми, полагали, что гнев народа — все равно что огонь, охвативший солому: вспыхнет и погаснет. Народ меж тем вооружился, придал стройность рядам своим, избрал надежных вождей, и теперь… теперь он уже не просит…
— Что же делает он?
Васко словно поперхнулся звуком, вырвавшимся у него из груди; но, снова набравшись духу и набрав воздуху, он вымолвил торжественно:
— Требует!
— Вот как!.. И они избрали тебя предводителем, и ты главарь бунтующих смутьянов?
— Меня, сеньор, избрали вожаком народа… А кем окажемся мы, бунтовщиками либо верноподданными, зависит от вас.
— Чего же хочет от меня народ?
— Чтоб сдержали вы клятву, выполнили то, на что имеет он святое и неотъемлемое право: чтобы наказали вы виноватых и оправдали правых — это касательно прошлого, и чтобы блюли его вольности — это касательно будущего. Чтобы прогнали вы прочь злых людей, при вас состоящих, и призвали к себе честных, коим народ доверяет.
— А коли я порешу, что не подобает мне заключать соглашения с моими возмутившимися вассалами, каковы ни будь их обиды, въявь ли причинены или примерещились, коли я в свой черед потребую — тоже потребую, — чтобы сложили они оружие и прекратили мятеж?
— Не сложат. Они получили хороший урок, сеньор; один раз их уже провели. Ни единого из посулов никто не сдержал, а вместо обещанного удовлетворения всякий раз им наносилась сотня новых обид. Коли прибегли они к оружию как к последнему доводу и праву, то потому лишь, что никаких других прав им не оставили. Вините же тех, кто отнял у народа все права.
— Но чего добьются они, чего хотят они добиться с помощью оружия? Разве у меня его нет? Разве не в моей власти победить их и уничтожить?
— Тем лишь усугубится бедствие, сеньор. Бог будет нам судьей, и победа одной из сторон решит исход сражения. Но в любом случае они откажутся от вассальной подвластности и подчинения вам, уже не будут вашими людьми, и отдадут себя под покровительство короля, и объявят его природным своим властителем…
— Короля! Короля, стало быть! Так я и знал, что тут не обошлось без его происков. Эти люди не отважились бы на подобное, не будь они в сговоре с королем. Ладно, я поразмыслю и… Позвать судей. Вместе с ними явишься ты… явитесь вы, сеньор предводитель. Через час мы дадим публичную аудиенцию у нас в соборе, выслушаем, в чем состоят обиды народа, и посмотрим, какое вынести решение. Сеньор комендант, прекращение военных действий объявлено. Тем не менее выставить стражу при главном входе. Отворить соборные врата: пусть народ проследует в собор, мы явимся туда, дабы выслушать его. Позвать городских судей, моего викария, всех моих придворных и должностных лиц. А ты, Васко… Нет, ты сейчас пойдешь со мною.
И, взяв студента за руку, он поднялся вместе с ним по широкой дворцовой лестнице.
Они уже прошли полпути, когда собравшиеся заметили, что Васко уводят, и народ зашумел:
— Измена, измена! Хотят увести от нас нашего вожака!
— Не позволим, не позволим! — отвечали другие голоса.
— Нет, нет! — вскричали все.
— Пусть оставят нам заложников, — молвил один из простолюдинов, более дошлый и бывалый. — Иначе дело не пойдет.
— Давайте заложников.
— Подать Перо Пса.
— Тут мы его и вздернем.
— Смерть Перо Псу.
— Смерть.
И ярость народа снова разгоралась, и люди епископа уже готовились к обороне. Предводители обеих враждующих сторон, которые поднимались по лестнице и дружественный вид которых сулил мир и казался залогом того, что сбудется надежда на соглашение, едва было народившаяся, остановились и не решались ни подниматься, ни спускаться.
Руй Ваз, у которого были свои планы и который не хотел, чтобы сей мирный почин потерпел крах, испугался. В одном из тех порывов вдохновения, которые нередко спасают отечество с помощью удачной шутки, бывший лучник разразился громким хохотом и вскричал:
— Кто подал дурацкий этот совет, какой шут? Да не только шут, предатель вдобавок! Не надо нам в заложники ни Перо Пса, ни прочих, такие псы, как он, в заложники не годятся. Нам один волосок с головы нашего предводителя дороже, чем эти все лица. Ведь почему нужны нам эти все лица — потому что заждалась их виселица, как тут не веселиться!
Все захохотали.
— Хорошо сказано! — вскричал один медник — пиит, обожавший созвучия и поклонявшийся каламбуру. — Хорошо сказано!
Зачем нужны нам эти все лица? Затем, что мы хотим веселиться! Пора им отсюда выселиться: Их ждет не дождется виселица! Как тут не веселиться!Я привожу сей достопамятный экспромт — коему долговечные страницы обнаруженной мною летописи придают документальную достоверность, — ибо он иллюстрирует весьма существенное обстоятельство нашей литературной истории, а именно то, что каламбур не является изобретением нынешней поэтической школы, хоть она и похваляется искусством нанизывать созвучия, словно зерна четок — «словно перлы на нить», — говорил Хафиз,{179} — да и прочие восточные стихотворцы — тысячу лет назад. Нет, господа, в нашей поэзии каламбур не новость, он был в ходу уже в четырнадцатом веке, да и еще раньше. Но и то правда, любителей нанизывать словеса было не так много, и от трескотни их меньше было скуки и докуки.
Из моего драгоценного документа явствует также, сколь естественно и древне написание «каламбур»,{180} ибо хотя слово сие и заимствовано из французского языка, что скверно, но оно легко прижилось, и уж лучше буду я писать его на наш лад и по законам нашей орфографии, чем выводить претенциозно и манерно «calembourg», странное и трудное написание, бросающееся в глаза своей неестественностью и педантичностью и среди полновесных и полнозвучных слов родного языка звучащее диссонансом.
Итак, то, что придумал Руй Ваз и, развив, переложил стихами Тиртей из цеха медников, было каламбуром — не смейте писать calembourg! — и каламбур этот пришелся весьма по вкусу толпе, как оно всегда бывает, когда каламбур ей понятен, что бывает не всегда.
Народ рассмеялся, а когда народ смеется, дела идут на лад.
Руй Ваз решил побалагурить и дальше в том же духе и продолжал:
— Что же касается заложников, всем ведомо, что еще зовутся они «аррефены», так пусть же в аррефены Аррифану нам выдадут, больно имечко у него подходящее, брат Жоан да Аррифана, чем тебе не аррефен!{181}
Еще один взрыв народного хохота — и еще одно документальное подтверждение тому, что игра созвучиями отнюдь не является исключительно изобретением бриттов, как утверждают друзья-англичане, но что она всегда была весьма в ходу и в чести у наших и заложена в поэтических их наклонностях не в меньшей степени, чем ассонанс, и диссонанс, и резонанс, и каламбур.
— Подать сюда брата Жоана! — вскричала толпа. — Хотим брата Жоана! Аррифану — в аррефены!
— В аррефены — Аррифану!
Шутка одержала победу, толпа снова успокоилась; епископ дал согласие, за монахом послали, и он весьма неохотно покинул монастырь, сие надежное убежище. Но делать было нечего: приказывал сеньор — и приказывал народ, нейтралитет был невозможен.
Торжественно объявили перемирие; и прелат вместе с вождем восставших и немногочисленными представителями обеих враждующих сторон поднялся наконец до конца лестницы и вошел во дворец.
В тот миг пробило полночь; Гарсия Ваз, оставшийся среди простолюдинов, дабы поддерживать их и сдерживать, обеспокоенно и озабоченно подозвал брата и спросил в тревоге:
— Полночь пробило, слышал?
— Да, ну и что?
— Так явится он или не явится? Коли не явится, дело кончится плохо. Народ есть народ: стоит только потянуть время да продержать людей ночку без сна, и гнев народа остынет, а кто останется у быка на рогах, так это мы.
— Я-то больше боюсь, что народ слишком уж раскипятится и натворит глупостей, а король прогневается и потом взыщет со всех — и с нас в том числе. До сей поры все шло как по маслу, и если мы продержимся еще хоть часок…
— Но он-то, он сам? Я вот не знаю, где он…
— Где он!.. Он уже здесь.
— Неужели! Может ли быть!
— Да я сам собственной особой вместе с архидиаконом и ведьмой из Гайи, с этой старухой, что все ходы-выходы знает, какие есть в городе и в крепости, будь они хоть тайные, хоть подземные, так вот я вместе с ними открыл ему потайную дверь, что ведет в подземелья дворца, а оттуда можно войти в собор, в каплицу Богоматери Силваской. Он там…
— Один? Опасно ведь!
— Один — разве он кого боится? Да и кто осмелится?
— Кто? Любой из негодяев, что служит в этом проклятом доме, ведь большая часть их не знает его в лицо.
— Опасаться нечего. Ему это все нипочем, такой человек; не тревожься. Да к тому же Пайо Гутеррес знает, где притаился он, в каком из закоулков собора. Его самого никто не увидит, а он увидит все и явится, когда пора приспеет. Не тревожься: дело идет на лад, и станем мы с тобою….
— Кем станем, Руй?
— Откуда мне знать, Гарсия? Но кем-нибудь да станем. Уж так потрудились…
— Не знаю, не знаю… Замешаешься в такое дело, а выгода…
— Достанется тем, кто придут потом. Так всегда было и, думается мне, будет впредь. Поглядим.
— Человече, но тем не менее, на нашей стороне правда.
— И справедливость.
— Стало быть, вперед. И бог нам поможет.
Глава XXXV. Заседание открыто
Уже перевалило за полночь, когда с высокой звонницы собора зазвучал медлительно, торжественно и размеренно могучий голос самого большого колокола, в который звонят лишь в очень редких случаях и который возвещает великий праздник, великий траур или какое-нибудь чрезвычайное событие в общественной жизни.
Все те из горожан, кто не участвовали в мятеже, сбежались к собору на звон освященной бронзы, которая словно возвещала городу: «Приходите, все приходите — и великие события у́зрите».
И верно, спустя недолгое время и мятежники, и мирные жители, вооруженные и безоружные, — все жители Порто уже толпились на площади перед собором и заполняли прилежащие улицы, переулки и проулки. Ночь была погожая, но безлунная, и высокие узкие соборные окна уже являли взорам многоцветные стекла своих витражей, ибо внутри собора зажигались свечи, и уже вырисовывались понемногу там — святой в митре и с посохом, тут — головка серафима меж двумя крылышками, здесь эпизод из Священного писания, еще где-то — легенда из Flos Sanctorum.[38]{182} К этим предвозвестиям чего-то неожиданного, торжественного и весьма важного не замедлили присоединиться звуки органа, сначала зазвучали верхние регистры, потом и остальные во всем великолепии своем и проникновенности.
Затем врата растворились настежь, поток света хлынул из святых приделов и залил всю площадь, кишевшую народом. И толпа ринулась во храм, заполнила необыкновенно вместительные просторные нефы, забив их до отказа; свободными остались только главный придел да хоры, ибо их защищали высокие решетки, отделяя от остальной части собора.
Зрелище было великолепное, оно могло бы привлечь толпы само по себе, даже если отвлечься от того, что в соборе предстояло обсудить вопрос, представлявший для народа величайшую важность. Каноники в своих пелеринах восседали в креслах капитула; епископ, сменив боевые доспехи мирянина на священный пурпур, шлем — на митру, а меч на золотой посох, казался, — в древнем, гомеровском смысле этих слов — «пастырем народов», что оставил на поле боя воинское свое снаряжение и является во храме облаченный в жреческие ризы, дабы отслужить службу на алтаре своего бога.
Но бог, которому должен служить епископ, есть бог мира и милосердия, он велит, чтобы даже невинные руки были омыты, прежде чем подступят к алтарям его те, кто к нему приходят. Как же примет он из окровавленных дланей грешного своего понтифика жертву, которая, согласно его учению, приносится без пролитья крови, которую позволено приносить, лишь когда сердце очищено от всяческой гордыни, скорбно, смиренно и чуждо каких-либо недобрых мыслей.
И, однако же, он восседал на престоле, этот епископ, во всем великолепии своей мирской и духовной власти, в окружении своих клириков и служителей, своих должностных лиц, и церковных, и мирских: справа от него был архидиакон, хранитель его посоха, слева дворцовый комендант, хранитель его крепости, ибо епископ был одновременно сеньором и апостолом, одновременно пастухом и свежевателем овец своих — омерзительная аномалия варварских веков, придавшая столько блеску церкви, отнявшая столько света у веры!
На главном алтаре, украшенном росписью в византийском вкусе с изображением Богоматери, покровительницы нашего города, лежала раскрытая книга, большая, с золоченым обрезом, с ярко раскрашенными миниатюрами, с готическими буквицами, перевитыми затейливыми арабесками. То было Евангелие. Книга покоилась на златопарчевой подушке.
В нижней части хоров, около решетки, сидели на табуретах городские судьи и выборные, а также судьи епископского суда и архидиакон Оливейраский, поскольку он был викарием; среди всех выделялся наш Васко с хоругвью города, которую он держал с видом, исполненным благородства и достоинства. Слева стоял стол с письменными принадлежностями, за столом сидел с пером в руке и выражением крайнего внимания на лице городской писец, коего в наши дни именовали бы мы секретарем палаты.
Все безмолвствовали, ожидая в торжественной тишине, когда откроется это важное и торжественное собеседование, долженствовавшее решить участь второго города в королевстве и самого свободного и независимого по характеру и наклонностям жителей: останется ли он феодом епископа и капитула или вернет себе вольности свободного королевского города, коих лишился по милости доны Терезы и коих жаждал все более и более, томясь под тяжким гнетом церковной власти.
Народ, которому величественность католических обрядов внушала почтение и сдержанность, при виде своего епископа во всем жреческом благолепии чувствовал, как идут на убыль гнев и ожесточение, еще недавно побудившие его напасть на дворец собственного сеньора. Перо Пса в соборе не было, но Васко, предводитель, избранный простолюдинами, и Пайо Гутеррес, клирик, любимый и почитаемый ими, были оба здесь, участвовали в конклаве, который должен был рассмотреть дела, столь важные для народа. Люди отдыхали, и люди надеялись: стало быть, проделано полпути к тому, чтобы самые ожесточенные страсти приутихли.
Да и облик прелата уже не являл того вызывающего высокомерия, не дышал той привычною презрительностью и равнодушною надменностью, которые всего более усугубляли неприязнь к нему со стороны горожан. Седина бороды его казалась белее и почтеннее, морщины, бороздившие чело, глубже, блеск в глазах пригас, а выражение их смягчилось, во всей осанке было меньше спеси и кичливости, он казался более удрученным и, в сущности, более достойным приязни, более подходящим для роли человека, вознесенного на вершину церковных почестей.
Епископ чуть понурил голову, но не сводил глаз с одного из присутствовавших, к которому взгляд его словно приковался: то был вожак народа, нарядно одетый и юный трибун; он сидел в торжественной позе, сжимая в левой руке свою хоругвь, а правую руку держа на груди, и напоминал изваяние святого покровителя Англии,{183} который впоследствии стал также и покровителем Португалии, когда ненависть к Испании побудила наших соотечественников сместить дона Сантъяго — святого Иакова — с прежнего его поста, ибо, оказывая помощь нашему королевству, он в то же время оказывал помощь Кастилии, а позже стал покровителем и всех испанских земель; добрый святой думать не думал, что его когда-нибудь спихнут с этого места.
Итак, епископ не сводил глаз с юноши, и, казалось, ничто более не занимало его.
Немалое время длилось безмолвие, длилось ожидание; почувствовалось, что нетерпение уже всколыхнуло было собравшихся, и тут Пайо Гутеррес, который внимательно следил за происходящим и побаивался, как бы из-за какого-нибудь неосторожного поступка не пошли прахом надежды на мирное окончание дела, казавшееся столь досягаемым, встал, вышел на середину хоров, преклонил колени пред алтарем Приснодевы и отвесил низкий поклон, затем, поднявшись с колен, поклонился епископу и членам капитула, сидевшим по обе стороны от прелата, и, повернувшись к епископскому престолу, заговорил;
— Коли дозволите вы мне, сеньор мой и прелат, изложу я почтенным участникам сего собрания немаловажное дело, каковое привело всех нас сюда; дело это трудное, и никто более, чем я, не желал бы, чтобы трудности сии разрешились должным образом, ибо хоть я и признаю целиком и полностью, что жалобы народа на учиненные ему обиды обоснованы, хотелось бы мне, чтобы сии обиды удовлетворены были без ущерба для достоинства святой церкви, без погибели чьей-либо жизни, чести, имущества, а также… ежели сие оказалось бы возможным… чтобы не пришлось обращаться к высшей власти — власти короля, к коему все мы обязаны питать почтительные и верноподданнические чувства вассалов, но опеку свою… да будет мне дозволено сказать это, ибо я верен долгу и откровенен… но опеку свою по отношению и к церкви, и к народу монархи по обычаю своему всегда оказывают таким образом, что опекаемым приходится платить дорогою ценой.
Часть собравшихся неясно загомонила, словно бы в знак одобрения, но не очень решительного, часть негромко зашумела в знак решительного неодобрения. Пайо Гутеррес продолжал; он возвысил голос и, казалось, с каким-то особым намерением произносил слова особенно четко:
— Да, я говорю это, ибо верен долгу, говорю, как говорил бы в присутствии самого короля. Пусть же народ хорошенько поразмыслит над этим, пусть не обольщается надеждами, не в меру сладостными и почти всегда праздными, хоть и не всегда по той причине, что тот, кто давал обещания, изменил слову или не пожелал их исполнить, но потому что в действительности наилучшие советы частенько порождают трудности и неодолимые препоны.
— Что за чертовщину проповедует нам тут архидиакон? — молвил один из слушателей соседу.
— Либо вирши это, либо латынь, да больно заковыристая, ни словечка не понимаю.
— А вы, во длани сжимающий посох, дабы пасти нас и направлять, — продолжал оратор, — молю вас, не уповайте так на меч. Поразмыслите над тем, сколь пользительно для спасения души вашей, а равно и для благополучия земной и бренной жизни вашей было бы внять мольбам и укоризнам народа, ведь ежели ныне и заговорил он с отчаяния в полный голос, то годы и годы сносил терпеливо оскорбления, что чинили ему злые и жестокосердые люди, вами поставленные над ним и на важные должности, а ведь эти люди лгут вам постоянно, вам клевещут на народ, а народу клевещут на вас, от вашего имени и якобы по вашему велению учиняя злодеяния, каковые сами умыслили и многие из каковых, уповаю в том на господа, вам даже неведомы.
— Лицемер, — молвил епископ, затрепетав от гнева и повернувшись к коменданту, что сидел слева от него. — Он ненавидит меня и хочет погубить, злодей, и для того делает вид, что хочет спасти меня. Ты заплатишь мне за это, дурной клирик… в свой час, ждать недолго осталось.
А бедняга простосердечный доктринер, нечто вроде допотопного примирителя,{184} который мечтал, чтобы обе стороны, ожесточившиеся и повиновавшиеся страстям своим, вняли голосу разума и справедливости, бедняга, простирая руки к епископу, продолжал:
— Сеньор, сеньор, сей миг — решающий, быть может, он не повторится в вашей жизни, вспомните, что вам дано величие и могущество властителя, дабы карать, бедность и смирение пастыря, дабы прощать. О, не содейте же так, чтобы из-за одного страдали многие!..
— Варравины речи! — молвил епископ на ухо коменданту. — Я не могу больше его слушать. Подайте сигнал.
Комендант, взгляд которого неустанно обшаривал храм и который, видимо, убедился, что силы размещены надлежащим образом, поднял над головою меч, который держал в руке как главнокомандующий, и взмахнул им в воздухе.
Тотчас же множество ратников, арбалетчиков, алебардщиков и прочих людей епископа, которые в тот момент, когда народ входил во храм через главные врата, проникли туда же через боковые входы из монастыря и, расположившись в назначенных местах, как будто смешались с простолюдинами, тотчас же, повторяю, бросились на них, захватив врасплох: одних обезоружили, других ранили, третьим скрутили руки и всех взяли в полон. Четверо дюжих алебардщиков завладели юным вожаком восстания, не причинив ему вреда. Все двери внезапно оказались на запоре; хорошо вооруженные и многоопытные ратники появлялись из всех боковых приделов, из склепов… казалось даже, из-под могильных плит поднялись мертвецы.
В ужасе и страхе народ подчинился силе и даже не решался сопротивляться. Все совершилось в одно мгновение ока.
Мятеж был смертельно ранен в сердце и в голову: самые решительные и дельные из мятежников находились во храме, за пределами его был лишь хвост, огромный, но бездеятельный и сам по себе нежизнеспособный.
— Привести ко мне этого юношу! — вскричал епископ, встав с престола. — Не касайтесь и волоска на голове его, но, если понадобится, свяжите, он обезумел, безрассудства этого сброда помутили ему разум. Вот так. Хорошо! Приведите его ко мне.
Так восклицал епископ, ни на что более не обращая внимания, ибо среди всей этой толпы он никого более не видел и ничто более не занимало ума его средь бурных стычек, порожденных таким множеством враждующих устремлений, — он видел лишь своего студента Васко, юношу, который был светом его очей и из которого злодеи-бунтовщики хотели сделать ворона, дабы он эти очи выклевал.
Глава XXXVI. Неожиданное вмешательство
Наемники епископа, подобно всем их собратьям по ремеслу, наделены были кровожадными инстинктами злобного пса. Натравите их — и они бросятся на жертву, примутся рвать ее и терзать лишь для того, чтобы рвать и терзать, и без всякой иной причины и повода, ибо выучка, которую прошли они, способствовала выявлению всех злых и зверских склонностей, что есть в человеке, а есть такие склонности у всех.
Люди епископа для начала крепко ухватили свою добычу. Затем их стало разбирать желание разорвать добычу в клочья — и пол в соборе был бы омыт кровью, не случись вдруг одно событие, самое неожиданное, какое только могло произойти; случилось оно в момент всеобщего замешательства, и причиною всему был какой-то бедняк из числа простолюдинов, закутанный в скверный плащ и столь невзрачный и хилый с виду, что ратники не обратили на него внимания.
Человек этот, согнувшись чуть не в три погибели, хоронился около решетчатой двери, напротив жезлоносца капитула, который стерег ее. И вот он вдруг выпрямился во весь рост, оказался высоким, осанистым, с неожиданной силой отшвырнул прочь алебардщиков, попытавшихся было схватить его, и произнес несколько слов, магических судя по произведенному ими действию, ибо все вокруг пали к ногам его; решетчатые двери распахнулись, человек в скверном плаще вошел в придел, доступный лишь членам капитула, и, подняв городскую хоругвь, которую Васко выронил в борьбе, вскричал громогласно:
— Теперь я самолично подниму этот стяг, я самолично буду защищать город Богоматери, который беру под свое покровительство.
Все смолкли, все затрепетали, все пали на колени.
Человек этот был король дон Педро — король дон Педро, прозванный Жестоким и Справедливым.
Ратники побросали оружие наземь, простолюдины разразились здравицами. Люди епископа отпустили Васко, и он тотчас преклонил колена перед королем и облобызал его руку. Один только епископ хранил неподвижность. Устрашенный, но не приведенный к покорности неожиданным появлением суверена, прелат крепче сжал десницею посох, а шуйцею — подлокотник своего первосвященнического кресла и принял безмятежный вид человека, уверенного в том, что он не обязан отчитываться перед кем бы то ни было в своих деяниях или оправдывать их; он как сидел, так и остался сидеть, бесстрастно наблюдая за необыкновенными перипетиями сей сцены.
Оглядываясь по сторонам и с явной досадой принимая знаки почтения со стороны клириков и мирян, преклонявших пред ним колени, дон Педро в сопровождении одного только Васко поднимался по ступеням главного придела. Он повернул направо, сел на простой табурет напротив епископа и некоторое время размышлял, не произнося ни слова. Васко стоял рядом и не сводил с короля восторженно-покорного взгляда.
Наконец дон Педро заговорил, и голос его был отчетливо слышен во всем храме, настолько глубокая стояла тишина.
— Возьмите стяг вашего города, Васко, вы пронесли его с честью, как и подобает благородному человеку.
— Государь, я…
— Возьмите стяг — я сам вручаю вам его.
И король вложил древко в руки юноши. Васко хотел что-то сказать, но король опередил его.
— Вам незачем говорить. Я все знаю, ибо все видел, ничьи доклады мне не нужны. Я собственноручно награжу и покараю тех, кто заслужил награду либо кару.
Затем, еще немного поразмыслив и впервые за все это время устремив на епископа свой ястребиный взгляд, он молвил:
— Ваше преосвященство, я здесь — и мне еще не вручены ключи от вашего замка.
— Ключи и замок, феод и имение принадлежат не мне, а Пречистой Деве. Комендант, возложите на алтарь Богоматери принадлежащие ей ключи.{185} Пусть государь, коли будет ему угодно, возьмет их оттуда, но не из моих рук и не из ваших.
Комендант подошел к алтарю, преклонил колени и возложил на него ключи от города.
Все замерли, ожидая, как поступит король. Отобрать феод у какого-нибудь непокорного вассала, хоть церковника, хоть мирянина, было пустячным делом для дона Педро. Но взять с алтаря Богоматери ключи от ее города — это была дерзость, которой не ожидали даже от него. Ни один король португальский никогда еще не осмеливался на подобное — ужели осмелится этот?
Оборотившись к народу, комендант произнес положенную фразу:
— Дело сделано, обязанности свои я слагаю с себя; ключи от города вверены Пречистой Деве, повелевающей и городом, и нами.
— И Пречистая Дева их сбережет, ибо это в ее власти, — молвил король, встав и устремив на епископа горящий взор. — Но не в вашей, ибо вы недостойны ни облачения, что носите, ни посоха, что сжимаете в руке, ни митры, что красуется на голове вашей. Сложите все это также на сей алтарь. Пречистая Дева, хранительница ключей от этого города, сохранит и сии знаки епископского сана для того, кто будет достоин носить их. Вы же, сеньоры члены капитула, распорядитесь, чтобы звонили в колокола, оповещая, что престол епископа свободен. И покуда не приищем мы другого, который был бы достоин занимать его, снимите-ка облачения с этого трупа, он уже разложился и смердит на весь храм. Поживее! Здесь повелеваю я.
Каноники, перепуганные и понурые, переглядывались друг с другом, поглядывали на епископа, поглядывали на короля и не могли отважиться ни на повиновение, ни на ослушание. Им, простым священнослужителям, лишить власти своего прелата! И всего лишь по приказу суверена, минуя все прочие формальности! Но суверен звался Педро Жестокий, и никакие декреталии{186} не имели силы перед его декретами, всегда мгновенными и категорическими.
— Я сказал, — молвил король, снова обращаясь к каноникам. — Я сказал свое слово. Вы разве не слышали?
Члены капитула с заминкой поднялись с кресел, направились к главному алтарю медлительно и спотыкаясь, но все-таки приблизились к епископу. Сей последний — словно в подтверждение королевских слов — закрыл глаза и, не произнеся ни слова, не оказав ни малейшего сопротивления, позволил снять с себя один за другим все знаки первосвященнического сана. Сняли с него митру, крест, облачение, взяли из рук его посох и ощутили нервную дрожь его пальцев лишь тогда, когда снимали перстень, символ власти, его облекавшей.
Дон Педро следил за всеми подробностями свершавшегося обряда{187} и отвечал на тексты из Священного писания и антифоны, коими священники сопровождали эту жестокую церемонию.
— Теперь, — молвил король, когда все было кончено, — теперь нет больше епископа, сеньора и рыцаря. Перед нами такой же виллан, как и прочие. Пусть двое из этих ратников отведут его в одну из темниц, где держал он добрых людей и заковывал в железа жен горожан своих, когда те не уступали гнусным его домогательствам.
Два ратника подошли, чтобы увести епископа… Сердце Васко разрывалось на части; слезы, которые он давно уже сдерживал, неудержимо хлынули из глаз; задыхаясь от рыданий, он пал к ногам короля и воскликнул:
— Государь, государь, пощадите, помилосердствуйте! Сжальтесь надо мною, государь, ибо я стал орудием погибели моего благодетеля, этот человек меня вырастил, не могу я ненавидеть его, чувствую, как ни тяжко мне это, что поневоле должен любить его. Велики его провинности… так пусть же великим будет и милосердие ваше, ибо вы государь, ибо вы отец. О господи, когда бы я знал!.. Никогда я не думал, что до этого дело дойдет. О нет, никогда. И мне также нанес он жестокие оскорбления, так говорят… Не знаю! Но это! Когда вижу его таким… когда седины его опозорены, а глаза опущены долу от стыда… Государь, государь, помилуйте его! И в награду да помилует господь вашу душу!
Король был изумлен, ошеломлен скорбью и смятением юноши: Васко словно обезумел, он обнимал и целовал ноги монарха, был вне себя от горя и тревоги, дон Педро не знал, что и думать об этом неожиданном взрыве исступленного чувства.
Но князь церкви, лишившийся сана и ставший было нечувствительным ко всему происходящему, сейчас обрел зрение и слух, — о! — он-то понимал, хорошо понимал слезы и мольбы скорбящего юноши. Нет, не жестокая суровость короля, не торжествующая дерзновенность простонародья, не отречение и глумления друзей и недругов, — и не все это вместе взятое — было тем смертельным ударом, который поверг его наземь и обратил в бесчувственный труп, все вытерпевший и ничего не ощущавший. Нет, удар нанесен был с другой стороны и поразил его прямо в сердце. Васко, Васко! Его Васко — во главе повстанцев! Единственный, кого любил прелат, — и он орудие его позора, он сделался сторонником короля, вступил в сговор с королем, дабы погубить его! Епископ знал, что заслуживает такой кары, бог справедлив; но грозная справедливость эта, жестокая, сверхъестественная, низвергла его в бездну отчаяния. Душа его погибла, сердце ожесточилось ко всему, и удар судьбы он встретил, вооружась силою равнодушия. Теперь же, о, теперь, когда он увидел слезы Васко, струившиеся юноше на грудь, услышал рыданья, эту грудь надрывавшие, когда он убедился в привязанности юноши, он ощутил, что прежнего ожесточения как не бывало. Из глубины сердца его вырвался стон, стиснутые зубы разжались, из глаз, точно град во время грозы, посыпались крупные капли, почти ледяные, ибо все существо его оковал смертельный холод. Но кровь его проснулась от зова родной крови, и жизнь его проснулась, дабы внимать господу. Колени его подогнулись, он пал ниц перед алтарем, по ступеням коего поднимался некогда, — не в смирении, но в гордыне очерствелого своего сердца, — и, бия себя в грудь обеими руками, он воскликнул:
— Больно мне, господи, больно мне, что так оскорбил я тебя! Внемли, о господи, стенаньям и скорби невинной этой души во искупление великих моих грехов.
Затем он поворотился к бедному студенту, который все еще плакал:
— Васко, сын мой, любимый мой Васко, успокойся: я заслужил кару, что постигла меня. Господь справедлив, и король исполняет его волю. Но, сын мой, бог вознаградит тебя за последнее утешение, что ты мне доставил, за урок, что преподал ты мне в горький мой час. О, когда бы проклятые эти руки могли благословлять… когда бы святой елей, их помазавший, не превратился в разъедающий яд, как я благословил бы тебя!
Он воздел руки к небу, затем простер их к юноше, но не отважился благословить его, ибо в душе у прелата гремел голос совести: «Проклятье тебе и всем, кого ты благословишь!»
Он снова пал ниц, и безмолвные слезы его, слезы стыда, увлажнили священные плиты храма.
Глава XXXVII. Три женщины
Король был поражен, недоумевал и обводил взглядом присутствовавших, словно прося разъяснить столь неразрешимые загадки. И, казалось, сердце его, недоступное чувствам — жестокое, в соответствии с его прозванием, — готово растрогаться при виде этой скорби, этого раскаяния. А Васко восклицал неотступно, неустанно:
— Сжальтесь, помилосердствуйте, государь!
Быть может, дон Педро и смилостивился бы, быть может, и простил бы виновного! Дон Педро — и простил бы! Да, простил бы, наверняка простил бы! Возлюбленный несчастной Инес де Кастро не всегда был жесток. Если могущество несправедливости породило в нем суровость и склонность карать, если засилье жестокостей затруднило милосердию доступ в его сердце, все же он ожесточился не настолько, чтобы зрелище подобных мук не произвело на него сильнейшего впечатления.
Все огромное сборище, еще недавно столь взволнованное и шумное, ощутило трепетную напряженность мгновения и замерло. Недруги и друзья — как мало было друзей, если были они вообще! — все созерцали уже без ненависти, уже чуть не сострадательно низвергнутого князя церкви, простершегося ниц в наготе, почти не прикрытой, и покрытого позором — перед тем самым алтарем, верховным священнослужителем которого он был еще так недавно, и вот, жалкий и презренный, пресмыкается во прахе и стыде. Какое зрелище! Никто не мог его выдержать. Не выдержал и король, сердце его дрогнуло. Он взял юношу за руку, заставил встать и промолвил:
— Васко, хотел бы я…
Но в этот миг распахнулись настежь высокие решетчатые двери одного из боковых приделов, неприметного и темного; глазам изумленной толпы явились три фигуры, то были женщины, и прекрасные собою; внимание присутствовавших тотчас приковалось к новому предмету интереса.
Все три женщины, сказали мы, были прекрасны собою, но ничуть несхожи друг с другом, ибо являли типы различных племен, живших тогда в Португалии. Племен этих было три; кровь кафров, малайцев или индейцев тапуйя{188} еще не примешалась к нашей крови и не породила среди представительниц пола, прекрасного уже по наименованию, столь великое разнообразие типов отталкивающего уродства, которые представлены у нас в удручающем изобилии, особливо же в приморских городах.
Итак, как уже было сказано, каждая из трех обладала внешностью типической. Самая малорослая и самая живая — тип красоты римско-кельтской.{189} Ее лицо с резкими чертами дышит энергией; черные глаза светятся радостною улыбкой или пылают восторгом; стан гибок и подвижен, движенья быстры — такие фигурки видятся в мечтах людям с живым умом; это Венера мистическая, Психея любви идеальной, и отражение образа ее в душе, воздействуя на чувства, возвышает их, приводит в экстаз и дарит им на земле небесное блаженство.
Во второй больше нежности и кротости, она выше ростом, но держится не так прямо, она более хрупкая, более женственная, это представительница германского племени — либо чистокровная, без примеси других кровей, либо по странной прихоти природы кровь эта возобладала, когда мать вынашивала дитя во чреве.
Но чистая, чистейшая кровь Аравии течет в жилах третьей, и покрывало, прячущее лицо ее, не прячет огненной порывистости, свойственной дочерям пустыни; осанка, движения, формы — все свидетельствует о том, что она дщерь Востока, и задаешься вопросом, уж не Дебора{190} ли это, не Юдифь ли, не мать ли Маккавеев?{191}
Никто, однако же, не успел бы сравнить трех женщин: группа, возникшая было, когда растворились решетчатые двери, распалась, ибо женщина под покрывалом, которая стояла меж двумя другими и которую они тщетно пытались удержать, без труда вырвалась из слабых их рук и, проложив себе путь среди изумленных людей, приблизилась к королю.
— Государь, государь, — возопила она, — этот невинный юноша сам не ведает, о чем просит, что же до преступного этого старика, даже вашему величеству неведомы все его злодеяния. Мало для него медленной смерти, вечного позора, всех мук души и тела. Пусть взглянет он на меня, распутник, пусть узнает, кто перед ним… и да начнется с этого его наказание.
С этими словами она подняла покрывало, явив взорам присутствовавших черты, все еще прекрасные и явно свидетельствовавшие о принадлежности ее к еврейскому племени; затем повернулась к распростертому на полу священнослужителю и вперила в него сверкающие глаза… словно вонзила два раскаленных кинжала.
Несчастный простер к ней руки и вскричал:
— Эсфирь, Эсфирь! Приди, о приди же, смерть, грехам моим нет прощения на земле.
— Кто ты, женщина? — спросил король в изумлении. — Кто ты и откуда?
— Я еврейка, — отвечала она. — Да, я еврейка… Этот юноша — сын мой. Мой и этого человека, что учинил надо мною насилие. Прикажи разжечь костер, о король христиан, ибо согласно твоим законам оба мы, и он, и я, подлежим сожжению.
— Что за новые ужасы! И как поверить мне, женщина?
— Пусть злодей ответит. Пусть отрицает, если сможет.
Глядя с мольбой то на мать, то на сына, несчастный, казалось, просил о милосердии не к себе самому, но к юноше. Что же до еврейки, то она была ослеплена, опьянела от первых упоительных глотков из чаши мщения, которой жаждала столько долгих лет; ее глаза и душа закрылись для всего остального.
Дон Педро, сам дон Педро Жестокий, смутился духом при этом зрелище и повернулся к юноше:
— Что скажешь ты, Васко? Эта женщина…
— Она мать мне, государь.
— Мать… Бедный Васко!.. А этот лиходей?..
— Он… О, сердце давно мне подсказывало… Смилуйтесь, сеньор, смилуйтесь над ним и надо мною. Лишь нынче утром, по возвращении из Грижо, я узнал от нее… Узнал, но не все. О нет, поверьте, ведь я никогда не поднял бы руки на того, кто… Нет, государь, этого она мне не сказала, напротив, она отрицала, все время отрицала. И либо она лжет сейчас, либо…
— Я солгала тогда. Ибо своим существованием обязан ты подлому преступлению этого человека; твое появление на свет принесло мне позор и бесчестье; и нужно было, чтобы именно ты и никто другой стал орудием моей мести и позорной кары для этого изверга. Да, он отец тебе! Но если бы я сказала тебе всю правду, ты, о сын мой, ты, добрый, великодушный, невинный, никогда не свершил бы того, что очам твоим представилось бы…
— Преступлением, и чудовищным. Никогда! И да простит тебя бог, женщина, за то, что ты вынуждала сына совершить отцеубийство, если я и впрямь сын тебе…
— Сын мой, сын мой, вспомни, это час искупления для твоей матери!
Васко опустил глаза долу и горько заплакал.
Король наклонился к распростертому епископу и спросил его шепотом:
— Что во всем этом правда?
— Все правда, и я заслуживаю тысячи казней.
— Ты будешь жить.
— Государь!
— Таково твое наказание. Будешь жить.
Затем король выпрямился и проговорил с достоинством, тоном судьи, выносящего приговор в трудном деле:
— Женщина, как ты зовешься?
— Эсфирь.
— Кто твой отец?
— Авраам Закуто.
— Авраам Закуто. Ступай с миром, женщина. Прегрешение твое было невольным, а имя отца твоего — порука добродетели. Ступай с миром. О, но сейчас я узнал тебя: ты и есть та ведьма из Гайи, которую…
— Которую приказал он сжечь, — отвечала Эсфирь, показав на епископа.
— И он знал, кто ты такая?
— По этой самой причине и для того, чтобы не узнали другие.
— Святое небо, что за человек!.. Кто же вызволил тебя?
— Пайо Гутеррес.
— Вон что!.. Ступай с миром, женщина. Христианка ты или израильтянка, Эсфирь или Гиомар, ступай с миром. Тебе причинили великие обиды, жестокие оскорбления: я отомщу за тебя. Но уйди отсюда и уведи этого юношу. Да послужат тебе во благо несметные богатства твоего семейства.
— У меня ничего нет, и мне ничего не надобно, ибо сама я ничто. Я обрекла себя на нищету и в нищете умру. Все принадлежит моему сыну.
— Добрый поступок… Ах, да, чуть не забыл, по правде сказать. Сперва награда, потом наказание. Я прозван Справедливым, а справедливость, умеющая лишь наказывать, половинчата. Мартин Родригес!
— Государь!
— Где ваша дочь?
— Вон там, государь, у входа в тот вон придел, со своей подругой Аниньяс.
— Аниньяс, что живет на улице Святой Анны?
— Она самая, государь.
— Пусть подойдут обе.
Честный судья, ведя за руки двух юных красавиц, проследовал через весь храм под приглушенный гул приветствий и общего восхищения. Аниньяс и Жертрудес были словно день и ночь, словно солнце и луна, словно роза и жасмин — уместны были все слова, означающие противоположные типы красоты и в сочетании наилучшим образом выявляющие эту противоположность, и народ не скупился на такого рода сравнения и благословлял обеих, ибо было радостно и утешно видеть их рядом, столь прелестных, столь несхожих и связанных столь прочною дружбой.
Король встретил их так же, как народ, и даже еще приветливей, ибо расцеловал обеих. Хорошо быть королем… Но согласно хронике поцелуи были как нельзя более отеческими; на том и остановимся.
— Аниньяс, — молвил дон Педро, взяв ее за руку и выведя к народу, — не красней, красавица Аниньяс, не смущайся, честная и добродетельная женщина. Пусть все тебя узнают, пусть все тобою восхищаются! И пусть имя твое навечно запомнится в этом краю, пусть пользуется уважением и почетом наравне с благословенною аркой святой твоей покровительницы.
Народ разразился здравицами.
— А теперь, — продолжал король, — побеседуем с моей пылкой сторонницей. Так это ты, черноглазая, делаешь мне воителей из студентов и взбунтовала целый город из-за…
— Из-за пустого дела? — молвила Жертрудес с улыбкою.
— Нет, девочка, на сей раз!.. Но впредь ненадобно. Да уж!.. Сеньор предводитель, нареченная ваша здесь; бери свою Жертрудес, Васко, и ни о чем не тревожься. Мастер Мартин даст и благословение, и согласие, все как положено. Что медлите, человече?
— Государь, вы повелеваете, но…
— Но что? У вас с головою неладно. Ты что, не знаешь, человече, что вся медь в твоей лавке не потянет по весу и половины веса того золота, что есть у этого молодца?
— Государь, вы повелеваете, и я повинуюсь. Но кум мой, Жил Эанес, говорит, уж такое, мол, оскорбление ему нанесли, когда речь не дали кончить… а он ведь крестный отец Жертрудес, и, стало быть…
— Жил Эанес — осел. А за крестного твоей дочки буду я сам, ибо хочу быть у нее на венчании и плясать на свадьбе. Доволен ты?
— Государь!
— Теперь к делу! Женщины пусть удалятся. Вы тоже, да, вы тоже, дона Гиомар, или дона ведьма, или дона еврейское отродье, или как вас там. Все уходите. Ступайте с ними, Мартин Родригес, и ты, Васко, тоже.
— Велите казнить меня, государь, но я не уйду.
Дон Педро поглядел на юношу, сдвинув брови; короля удивили слова, непривычные для его слуха. Но он промолчал; что же до Мартина Родригеса, то по знаку короля добрый судья удалился вместе с тремя женщинами.
Глава XXXVIII. Заключение
Три женщины покинули храм; еврейка брела медлительно и без охоты, мысль о мести не выходила у нее из головы. Но злые страсти трусливы: Эсфирь убоялась гнева короля. Сыном же ее владели совсем иные чувства, не подвластные страху; Васко остался. Неумолимый судья вновь устремил на него взгляд, однако уже несколько смягчившийся… сострадательный, сказали бы мы, если бы речь шла не о доне Педро.
Да и сам голос короля чуть было… чуть было не утратил присущую ему от природы суровость, когда, оборотившись к распростертому преступнику, он промолвил:
— Теперь твой черед, погибший человек! Дурной человек и дурной епископ… Твой черед — и по делам твоим мало тебе всей жестокости человеческого правосудия. Следовало бы мне отдать тебя в руки палачу, чтобы привязал тебя к столбу и огнем выжег из плоти твоей дьявольскую похоть, что тебя снедает, сатанинскую гордыню, что горячит проклятую твою кровь. Но… ради сына твоего ты останешься в живых. Ради него я прощаю тебя, ради него ты останешься в живых. Дабы искупил ты свои преступления и покаялся в великих своих грехах, дарую тебе возможность дожить остаток жизни. Обрати его себе на благо, предавайся самоистязаниям и лей слезы, терзайся стыдом и угрызениями совести, кайся перед этим алтарем, который осквернил ты, который…
Епископ рыдал и стонал, словно под самыми мучительными пытками. Стенания его отдавались по всему огромному храму; и многолюдное сборище было объято молчанием и скорбью. Васко простерся ниц и, прижавшись лбом к плитам пола, пил из горькой чаши большими глотками, пил до дна: в невинности своей и благочестии чего не отдал бы он, дабы оплатить своей кровью, искупить все до последнего грехи этого злодея, который был злодеем, о да! — но доводился ему отцом.
— От костра и от смерти я тебя избавлю, — молвил король, — но от позора избавить не могу, да и не должен.
Он вынул из-за пояса роковой бич, с которым никогда не расставался, и трижды хлестнул епископа по спине позорящим орудием наказания. Затем пнул его ногой и добавил:
— Этим знаком презрения я навсегда изгоняю тебя с глаз моих. И пусть больше никто не увидит тебя в пределах Португалии, не то, клянусь душою доны Инес, ни папе, ни императору не вырвать тебя живым у меня из рук.
Несчастный, низринувшись, подобно Навуходоносору,{192} с высот своей гордыни, подобно ему же, ощутил, что погряз и закоснел в позоре, ощутил себя самою мерзкой из тварей земных, не смеющей поднять лик свой к небу. Понурый, обогнул он алтарь бога, покаравшего его в своем правосудии, и не осмелился даже бросить взгляд на сына, который был единственной его любовью в этом мире, последним проблеском, светившим епископу в бездне мглы, поглотившей его.
Но сын не пожелал повиноваться никому, повиновался лишь голосу сердца. Он последовал за отцом, поддержал его и, прикрыв своим плащом, повел по пустынным крытым галереям, по тайным переходам замка, довел до берега реки, где стоял фламандский корабль, готовый отплыть в Брюгге. Там пробыл Васко с отцом всю ночь, утешал его и ободрял, говорил с ним о боге и милосердии божием.
Ангелы… ангелы улыбались; и при каждой молитве юноши один за другим стирались и изглаживались со страниц книги жизни, раскрытой пред всевышним, великие преступления старого грешника.
Король меж тем велел звонить в колокола, как во дни великих праздников: каноники пропели Те Deum, и народ вышел довольнешенек из храма, возглашая здравицы королю. Все утихло, бунт прекратился, и несколько лет, по крайней мере, наша земля прожила в мире, ибо вольности ее соблюдались и ни у кого не было более ни причин, ни повода бунтовать.
А потому повелось утверждать, что самое радикальное средство при всяких революциях — творить правосудие по отношению ко всем, и к великим, и к малым, как было в обычае у короля дона Педро. Да упокоит господь его душу!
Епископ уехал во Фландрию. Васко хотел сопровождать его, но старик не согласился.
— В этом случае покаяние мое ничего бы не стоило; будь ты при мне, изгнание стало бы мне наградою, не наказанием, — говорил он в раскаянии. — Оставь меня, такова воля божия. И да благословит он тебя, ибо я не могу.
Так расстались они, изгнанник уехал один; говорят, стал он монахом и кончил дни свои в святости.
Епископство было вверено Пайо Гутерресу, хоть он коленопреклоненно и слезно молил уволить его от сей почести. Но король был неумолим и потребовал, чтобы в сан этот он был возведен немедленно и по всем церковным правилам.
Эсфирь отреклась от иудейской веры, а заодно и от своей неотступной и мстительной ненависти. И Пайо Гутеррес, тот, кто во времена молодости любил ее со всею чистотой самой возвышенней платонической любви, ныне несчастный старик, состарившийся не под бременем лет, но под бременем горестей и печалей, — да, Пайо Гутеррес и никто иной омыл ее в возрождающих водах крещения.
Руй Ваз и Гарсия Ваз получили выгодные должности — один по сбору налогов за соль, другой по части пошлин. Друзья подосадовали, но тем дело и кончилось.
А Перо Пес?.. Перо Пса, почти забытого среди событий, столь многоразличных и исполненных столь живого интереса, обнаружили висящим на суку смоковницы, что росла в углу одного из равелинов замка и никогда не приносила иного плода… кроме этого. Он сам себя казнил, Иуда, последовав и в смерти — подобно тому, как следовал в жизни, — примеру Искариота, своего покровителя.
Сие последнее наблюдение принадлежит благочестивой и ученой доне Бриоланже Гомес, о которой остается сообщить лишь то, что говорливость она сохранила и болтала без передышки. По слухам, история Аниньяс и епископа, когда дона Бриоланжа принималась ее рассказывать, становилась бесконечною. Настолько, что, когда особенность сия перешла в традицию, летописцы стали сей истории побаиваться и по естественной реакции записали ее столь лаконично, что разобраться в ней трудно, да к тому же не сохранились имена действующих лиц. Когда бы не обнаружил я бесценную рукопись в монастыре братьев-сверчков, мы не узнали бы ни единой подробности.
Жил Эанес примирился с Васко не без труда. Мало того, что за него вступилась Жертрудиньяс, понадобилось, чтобы официально вмешался король и был составлен и подписан протокол, в соответствии с коим всем членам семьи надлежало при первом же заседании палаты явиться на оное и, выслушав, наградить пылкими рукоплесканиями монументальную речь, каковую готовил Жил Эанес, дабы сокрушить своих обидчиков, и в каковой форма настолько превосходила содержание, что угадать смысл сей речи было не по силам никому.
Брат Жоан да Аррифана, невзирая на пережитые страхи и передряги, жирел себе и жирел; однако ж умер спустя недолгое время от флегмоны, которая появилась у него, с позволения сказать, промеж ног, и будучи сдавлена огромными массами жировых тканей, вызвала горячку, унесшую его в могилу.
Король пожелал быть посаженым отцом на свадьбе Васко и красавицы Жертрудиньяс. Венчались они в часовне арки. Был построен помост и развешано множество полотнищ золотой и серебряной парчи, а также шелка и арраские сукна из скарбниц короля, так что это было самое блистательное празднество из всех, когда-либо виданных, и оттуда пошел наш изящный обычай увешивать церкви тряпками сверху донизу в особо торжественных случаях.
Праздник длился целые сутки, было много факелов, много плясок и представлений, всю улицу заполнили комедианты, тут барка,{193} там лоа,{194} здесь шакота.{195} Король, который был большой охотник до плясок, всю ночь плясал на улице Святой Анны, при свете факелов и под звуки своих любимых серебряных кастаньет.
Что до Аниньяс, то муж ее приехал на следующий день; и понадобилась вся наша история для того, чтобы не приехал он слишком поздно… Признал свою ошибку и обещал, что больше странствовать не будет. Пусть образумится! Не всегда на помощь к нам приходят короли, и не всегда преследователи наши — старые епископы.
Примечания
1
Herculano A. Obras, t. 1. Sao Paulo, 1959, p. 223.
(обратно)2
Огарев Н. А. Избр. произв. в 2-х томах, т. 1. М., 1952, с. 403–404.
(обратно)3
Шлегель Ф. Эстетика. Философия. Критика. Т. 1. М., 1983, с. 283.
(обратно)4
Зачем теперь (лат.).
(обратно)5
Сапожник, суди не выше сапога (лат.).
(обратно)6
Врата преисподней (лат.).
(обратно)7
Здесь: тайные ходы (фр.).
(обратно)8
Здесь: чмок (англ.).
(обратно)9
Вели, Владыко, благословить! (лат.).
(обратно)10
Букв.: изнутри и снаружи (лат.) — часть латинской поговорки, означающей: знать кого-либо вдоль и поперек.
(обратно)11
Бунт, мятеж (фр.).
(обратно)12
Второе «я» (лат.).
(обратно)13
Еси слово милостью любезной судьбы… (лат.).
(обратно)14
День гнева (лат.).
(обратно)15
Вот первосвященник (лат.).
(обратно)16
Вот первосвященник по чину Мельхиседека (лат.).
(обратно)17
Дабы ты внял нам!
Молим тебя, внемли нам! (лат.).
(обратно)18
По пальцу узнают гиганта (лат.).
(обратно)19
Внемли нам, господи! (лат.).
(обратно)20
Патриции из Альба-Лонги (лат.).
(обратно)21
Высокие стены Рима (лат.).
(обратно)22
Бакалейщик (фр.).
(обратно)23
Городу и миру (лат.).
(обратно)24
Подношения по обету (лат.).
(обратно)25
Сенат и народ града Порто (лат.).
(обратно)26
Суета сует и всяческая суета! (лат.).
(обратно)27
Изыди (лат.).
(обратно)28
Отрекаюсь (лат.).
(обратно)29
Господи помилуй, Христос помилуй, святой, бог (греч.).
(обратно)30
Слава отцу и сыну (лат.).
(обратно)31
Ростральная трибуна (лат.).
(обратно)32
Пусть с хлебом их съест (исп.).
(обратно)33
Несчастная дева (лат.).
(обратно)34
Сенат и народ града Порто (лат.).
(обратно)35
Доколе же (лат.).
(обратно)36
Быть или не быть (англ.).
(обратно)37
Отборный (фр.).
(обратно)38
Цвет святых (лат.).
(обратно)Комментарии
1
Стр. 23. Ж. П. С. Луна — Жоан Педро Соарес Де Луна, офицер португальской армии, участник освободительной борьбы против войск Наполеона, вторгшихся в Португалию в 1808 г.
(обратно)2
…во время осади Порто. — В 1832 г. Порто заняли войска либералов, выступивших против принца Мигела, захватившего власть в стране и объявившего себя абсолютным монархом. Войска Мигела осаждали город в течение нескольких месяцев.
(обратно)3
…когда пост военного министра… занимал некто Калигула, в консулы выбился конь… — ироническое изложение известного предания о том, как Калигула (12–41), римский император с 37 г., объявил своего коня сенатором и ввел его в сенат.
(обратно)4
Стр. 24. Хартия. — Хартия конституционной монархии, составленная хунтой, которую назначил король Жоан VI, была провозглашена в июле 1826 г. при короле Педро IV, фактически отменена во время пребывания у власти (1828–1834 гг.) его брата, принца дона Мигела Брагансского; снова провозглашена лишь в январе 1842 г., во время восстания гарнизона в Порто.
(обратно)5
Стр. 26. Конституционная красавица. — Имеется в виду дона Мария-Глория, дочь короля дона Педро IV, в пользу которой он отказался от престола в 1826 г. После захвата власти ее дядей доном Мигелом, которого поддерживали силы реакции, эмигрировала в Англию. После поражения дона Мигела (сентябрь 1834 г.) присягнула на верность конституции 1822 г.
(обратно)6
Мигелисты — сторонники принца Мигела.
(обратно)7
Монастырь братьев-сверчков. — В достопамятный день 9 июля 1832 г., когда либеральная армия вступила в Порто, монастырь братьев-сверчков, в просторечии именуемый Семинарией, был отведен под квартиры для Академического корпуса, каковой простоял там долгое время. Там было начато и в значительной степени написано это произведение (примеч. автора).
Во время осады Порто Гарретт не только нес воинскую службу и писал роман, но и активно участвовал в организации министерств внутренних дел и иностранных дел и в составлении уголовного и коммерческого кодексов.
(обратно)8
Стр. 27. Дамьетская надпись. — Дамьетта (ныне Думьят) — город и порт в Египте на р. Нил; находится неподалеку от г. Розетта (ныне Рашид), около которого в 1799 г. была найдена базальтовая плита с параллельным текстом на греческом и древнеегипетском языках, получившая название «розеттского камня». Надпись была расшифрована в 1821 г. выдающимся французским египтологом, основателем египтологии Ш.-Ф. Шампольоном (1790–1832).
(обратно)9
Восковые изображения чудес. — В католических странах принято помещать близ алтарей святых рисованные или восковые изображения «чудес», этими святыми совершенных (так называемые «ех voto», то есть приношение по обету).
(обратно)10
Стр. 28. …святого Иоанна из храма в Седофейте… — Седофейта, так же, как упоминающиеся ниже Лапа и Бонфин — старинные районы Порто. Церковь святого Иоанна в Седофейте — самая древняя в городе (XII в.), упоминающиеся ниже церкви в Бонфине и Лапе построены, соответственно, в XVII и в XVIII–XIX вв.
(обратно)11
Святой Иоанн «пестрый»… — «Пестрыми» на языке монархистов назывались сторонники партии конституционалистов (намек на двухцветное их знамя, а также на пристрастие к клетчатым панталонам и жилетам).
(обратно)12
Франкмасоны. — Франкмасонство (от фp. franc macon — вольный каменщик) — религиозно-этическое движение; возникло в начале XVIII в. в Англии и распространилось во многих европейских странах. Франкмасоны стремились создать тайную всемирную организацию с утопической целью мирного объединения человечества в религиозном братском союзе. В начале XIX в. в Португалии масоны были связаны с прогрессивным общественным движением и пользовались репутацией либералов. Гарретт в юности также был членом масонской ложи.
(обратно)13
Жозе такой-то… — Личность сия является исторической и, равным образом, историческими являются и памятник, и праздник, и анекдотец, здесь излагающийся. Среди жителей Порто обоего пола старше тридцати вряд ли сыщется кто-нибудь, кто не был бы свидетелем происшествия или не слыхал об оном (примеч. автора).
(обратно)14
Мотет (от фp. motet) — жанр многоголосной вокальной музыки, основу которой составляют старинные литургические напевы.
(обратно)15
Генерал Колшейа — один из португальских военачальников, современник Гарретта.
(обратно)16
Стр. 31. …король дон Педро. — Португальский король Педро I (1320–1367), сын короля Афонсо IV, вступивший на престол в 1357 г. и получивший прозвища Жестокого и Справедливого, боролся против феодалов за укрепление королевской власти и опирался в этой борьбе на третье сословие.
(обратно)17
…звали того короля дон Саншо. — Имеется в виду Саншо II (1210–1248), вступивший на престол в 1223 г. Был свергнут и уступил власть своему брату, Афонсо III.
(обратно)18
Миньо — провинция на севере Португалии, Порто — ее столица.
(обратно)19
Стр. 32. Интердикт (от лат. interdictum — запрещение) — в католической церкви временный запрет совершать богослужение и религиозные обряды в пределах местности, подвергнутой этому наказанию; объявлялся папой.
(обратно)20
Стр. 34. …при халифе Гранадском. — Имеются в виду правители Гранадского эмирата, последнего арабского государства (1328–1492) на Пиренейском полуострове с центром в г. Гранада.
(обратно)21
…В Саламанку… Саламанские пещеры! — Саламанка — город в Испании, знаменитый университетом, основанным в 1218 г. Студенты и преподаватели его пользовались в средние века репутацией колдунов; свои волхвования они творили якобы в пещерах близ города.
(обратно)22
Стр. 35. Сентябристка или «пеструшка». — Сентябристами назывались сторонники революции, вспыхнувшей 9 сентября 1836 г. в Лиссабоне с требованием принять конституцию 1822 г. «Пеструшка» — см. коммент. к с. 28.
(обратно)23
Стр. 37. …под стать самой Юдифи… — По библейскому преданию, иудейка Юдифь, чтобы спасти свой город от ассирийских войск, влюбила в себя военачальника Олоферна и отрубила ему голову.
(обратно)24
Стр. 38. …Аристотель со своими единствами… — Аристотель (384–322 до н. э.) — древнегреческий философ и ученый, автор «Поэтики», откуда теоретики классицизма заимствовали известное положение о необходимости соблюдения трех единств в драматургии, против которого ратовали романтики.
(обратно)25
…квартала Конгостас, название коего… не очень-то поэтично… (порт. congosta) — узкая улочка, проулок.
(обратно)26
…святого Криспина, который… опроверг изречение… Горация… — Согласно преданию, святой Криспин был сапожником, поэтому ниже автор иронически поручает себя «чудодейственному шилу». Латинская цитата, приписанная Алмейдой римскому поэту Квинту Горацию Флакку (65—8 до н. э.), — слова, которые римский историк Плиний (23–79) вкладывает в уста древнегреческого художника Апеллеса (ср. известную эпиграмму А. С. Пушкина).
(обратно)27
Стр. 39. …статуи, которая олицетворяет старый Порто… — Быть может, он уже не существует, этот бесценный памятник, знакомый мне с детства, когда я не раз любовался им и когда он был, как описано в тексте, размалеван охрой и киноварью. Он стоял на одной из этих узеньких улочек близ собора в окружении мясных лавок, где продавали груды потрохов, уже надутых или ожидающих сей операции. Не ведаю, кого или что именно изображала эта неуклюжая статуя; в народе звалась она «Старый Порто», а я книге народных преданий верю больше, чем книгам всех летописцев, историографов и комментаторов, вместе взятых (примеч. автора).
(обратно)28
…коробы с надутыми потрохами… — Порто славится блюдами из потрохов настолько, что его обитателей прозвали tripeiros — потрохоеды. Надутые воздухом кишки еще в XIX в. заменяли в Порто вывеску мясной лавки. Однако в романе эта подробность — анахронизм: возникновение и пристрастия к потрохам, и самого прозвища датируется 1415 г., когда город отдал все имевшееся в запасе мясо, чтобы снабдить флот, снаряжавшийся в дальнее плавание к берегам Африки, и горожанам остались только потроха.
(обратно)29
…ныне, во времена герцога дона Педро… — Имеется в виду герцог Педро Брагансский; это имя и титул стал носить после отречения от престола Педро IV (см. коммент. к с. 24). Поддерживал либералов.
(обратно)30
…гранадскими Абенсеррахами или аль Мансуром из Вила-Новы. — Абенсеррахи — знатный арабский род в Гранадском эмирате (см. коммент. к с. 34), соперничавшие в борьбе за власть со знатным родом Сегри. Аль-Мансур (араб. победитель) — прозвище полководца Мухаммеда — ибн-Абу-Амира (ум. в 1002), с 976 г. фактически правил Кордовским халифатом, арабским государством, существовавшим на территории Пиренейского полуострова. Нанес тяжелые поражения войскам христианских государств Испании, в состав которой Португалия входила до 1139 г. (официально до 1143 г.). Одно из этих сражений состоялось близ Порто, около Вила-Новы.
(обратно)31
Стр. 40. …рассуждение о пылающей готике… — Готика — художественный стиль (между сер. XII и XV–XVI вв.), завершивший развитие средневекового зодческого искусства в Западной Европе. Алмейда иронизирует над увлечением готикой, характерным для романтиков.
(обратно)32
Стр. 44. …Пассаролой четырнадцатого века. — Имеется ввиду, вероятно, Бартоломеу Лоуренсо де Гусман (1685–1724), португальский богослов и эрудит, создавший летательный аппарат, который современники прозвали «пассаролой» (от порт. passarola — большая птица). Представление Гарретта об этом выдающемся изобретателе вряд ли справедливо.
(обратно)33
…клялся святым Варраввой… — Клятва ироническая: Варравва — имя разбойника, которого, по евангельскому преданию, жители Иерусалима потребовали освободить вместо Иисуса.
(обратно)34
Стр. 48. Пале-Рояль (фp. Palais Royal — букв. королевский дворец) — архитектурный комплекс в Париже, включающий дворцовые здания и сады. Здесь во времена Гарретта находилась упоминающаяся ниже ресторация госпожи Шеве, славившаяся своими пирогами и паштетами.
(обратно)35
…обеды, приготовленные месье Пижоном, Парацельсом ресторации, а вернее, Реставрации, каковой… повелевал миром из кухни заведения месье Виллеля. — Политическая шутка, основанная на том, что португальское restauração может означать и «кулинарное дело», и «реставрация»; так назывался период вторичного правления Бурбонов во Франции. Гарретт имеет в виду так называемую Вторую реставрацию (1815–1830 гг.), когда граф Жан Батист Гийом Жозеф де Виллель (1773–1854), французский государственный деятель ультрароялистского толка, будучи президентом Государственного совета (1822–1828 гг.), провел ряд реакционных законов. Упоминающийся далее Парацельс (настоящее имя Филипп Ауреол Теофраст Бомбаст фон Гогенхейм; 1493–1541) — врач и естествоиспытатель, способствовавший внедрению в медицину химических препаратов, здесь имя его употреблено в смысле «обновитель»: Гарретт иронизирует над политической «кухней» реакционера Виллеля. Под «месье Пижоном» (фp. pigeon — голубь), возможно, имеется в виду барон Луи Андре де Пишон (1771–1850), французский политический деятель и литератор, занимавший в период Второй реставрации видные посты.
(обратно)36
Эммерих фон Ватель (1714–1767) — видный немецкий законовед и дипломат, автор известной работы «О правах людей, или Принципы естественного права».
(обратно)37
Стр. 50. …пал в битве за Тарифу… — Имеются в виду события 1340 г., когда объединенные силы Кастилии, Арагона и Португалии двинулись на помощь испанскому городу Тарифе, который осаждали мавританские войска. На берегу реки Саладо произошло сражение, в котором победу одержали союзники — христиане.
(обратно)38
Добла — старинная золотая монета.
(обратно)39
Стр. 51. Intus et in cute — часть латинской поговорки «aliquem intus et in cute noscere» — знать кого-либо вдоль и поперек.
(обратно)40
Стр. 52. …добры и доброны короля дона Жоана V — золотые монеты, бывшие в обращении при Жоане V (1689–1750), португальском короле с 1707 г.; из-за его бездарности и расточительства страна была доведена до полного разорения.
(обратно)41
…повинуясь пресловутому животному магнетизму… — Понятие «животного магнетизма» составляло основу антинаучной теории австрийского врача Ф. Мессмера (1733–1815), широко распространившейся в Европе в конце XVIII в. Животным магнетизмом именовалась «особая магнитная сила», которую человек якобы черпает из вселенной и, овладев ею, обретает способность излучать ее как на живых существ, так и на предметы. С помощью этой теории Мессмер пытался объяснять явления гипнотического характера и исцелять больных. В 1774 г. специальная комиссия, в состав которой входили Лавуазье и Франклин, доказала несостоятельность этой теории; однако же у нее оставались сторонники почти до конца первой половины XIX в.
(обратно)42
Стр. 53. …Вандомские арочные ворота, где Гаски и их епископ Нонего поместили чудотворное изображение Богоматери… — Имеется в виду романско-готическое изваяние покоящейся Богоматери (XIII в.), которое стало эмблемой Порто.
(обратно)43
Стр. 54. Лодка-савейро — особый тип рыбацких лодок, распространенных в провинции Миньо.
(обратно)44
…холма, именуемого Бандейра… который приобрел такую известность ныне… — На холме Бандейра около Гайи к югу от берега Доуро 8 сентября 1832 г. состоялось сражение между конституционалистами и мигелистами.
(обратно)45
Стр. 55. …берегов Мондего, которые так проклинало неблагодарное мое сердце… — На берегу реки Мондего расположен город Коимбра, в университете которого учился Гарретт.
(обратно)46
Стр. 56. Булла (от позднелат. bulla — печать, документ с печатью) — акт, писанный папой, императором или королем. В данном случае — дозволение, разрешение.
(обратно)47
Стр. 60. Курульное кресло. — В Древнем Риме — почетное место, предназначавшееся для консулов, преторов и эдилов; было складным и выложенным слоновой костью.
(обратно)48
…всех циклопов с улицы святой Анны… — Циклопы — мифические одноглазые великаны. Здесь: иносказательно употребляется в значении «кузнецы».
(обратно)49
Стр. 62. …войн принца дона Педро против собственного отца… — После того как в 1355 г. по приказу короля Афонсо IV была убита знатная испанка Инес де Кастро, возлюбленная, а потом жена его сына, будущего короля Педро (см. о нем коммент. к с. 31), инфант восстал против отца и начал войну с ним, прекратившуюся лишь после вмешательства матери принца.
(обратно)50
Стр. 65. …Предтеча стал на колени в утробе своей благословенной матери… — По евангельскому преданию, Иоанн Предтеча был сыном Елисаветы, родственницы Девы Марии. Рассказ Бриоланжи навеян легендой о посещении Елисаветы Марией («Когда Елисавета услышала приветствие Марии, взыграл младенец во чреве ее». Лука, I, 41), но приводимых ею слов в Евангелии нет.
(обратно)51
Стр. 66. …подобны ассирийскому гиганту… — Имеется в виду гигант Голиаф, который был не ассирийцем (неточность автора), а филистимлянином и которого, по библейскому преданию, отрок Давид поразил камнем, пущенным из пращи.
(обратно)52
Стр. 67. …прения по вопросу порядка дня в Сан-Бенто… — Дворец Сан-Бенто в Лиссабоне — резиденция парламента.
(обратно)53
Стр. 68. …повесим его на смоковнице, на иудином дереве… — По преданию, Иуда Искариот повесился на смоковнице.
(обратно)54
Афонсо Энрикес (1111–1185) — первый король Португалии; был провозглашен королем после победы над маврами в битве при Оурике (1139 г.).
(обратно)55
Стр. 69. Секвенция — разновидность средневековых католических песнопений.
(обратно)56
Dies irae (День гнева лат. — т. е. Судный день) — начало католического гимна.
(обратно)57
Стр. 70. Королева дона Тарежа. — Тарежа — архаическая форма имени Терезы, матери Афонсо Энрикеса (см. коммент. к с. 68), которая в середине XII в. передала епископу дону Уго феодальную власть над городом Порто.
(обратно)58
Стр. 71. …толковать о каком-то Василии да Басилевсе, да об основанной им церкви в Мирагайе. Мирагайя была жалким пригородом в ту пору, когда Гайя была уже римским городом… — Басилевс (греч.) — царь; имя «Василий» по происхождению связано с этим словом («царский», «царственный»); Мирагайя сейчас одна из улиц Порто, параллельная берегу р. Доуро. Гайя (слово арабского происхождения), ныне Вила-Нова-де-Гайя — городок на другом берегу р. Доуро.
(обратно)59
Кале, или Портукале — поселение, основанное римлянами в IV в.
(обратно)60
Стр. 73. Геракл Фарнезе — античная статуя работы Лисиппа (II пол. IV в. до н. э.); изображает Геракла, отдыхающего после подвигов, ныне находится в Неаполитанском музее. Фарнезе — итальянский герцогский род.
(обратно)61
…как велит обряд… — Руй Ваз описывает средневековый ритуал «изгнание беса».
(обратно)62
Стр. 74. Фарисеи — одна из древнееврейских религиозно-политических сект (II в. до н. э. — II в. н. э.), отличавшаяся фанатизмом и обрядностью. В евангелиях фарисеи названы лицемерами, отсюда переносные значения слова — лицемер, ханжа. Фарисеи были главными гонителями Христа, поэтому в некоторых католических странах во время крестного хода в страстную пятницу сжигались изображавшие их чучела (см. ниже).
(обратно)63
Стр. 75. Далай-лама — с XVI в. титул первосвященника ламаистской церкви в Тибете.
(обратно)64
Стр. 76. Инвеститура — возведение в сан епископов, получавших при этом церковные земли и верховную власть над теми, кто их населял; начавшаяся в XI в. борьба королевской власти против папства за право назначать епископов получила название борьбы за инвеституру.
(обратно)65
…престола святого Петра в Риме… — Речь идет о престоле римского папы, считающегося наместником апостола Петра на земле: по церковному преданию, святой Петр — первый римский епископ.
(обратно)66
Ультрамонтанство (от фр. ultramontain — букв. находящийся за горами, то есть в Риме, по ту сторону Альп) — наиболее реакционное направление в католицизме, добивающееся неограниченного права папы римского на вмешательство в религиозные и светские дела любого католического государства. В данном случае очередной — и намеренный — анахронизм: ультрамонтанство возникло в XV в.
(обратно)67
Стр. 77. …даже фламандцы и те плутуют… — Речь идет о фламандских купцах.
(обратно)68
Стр. 79. Каудатарий (от лат. cauda — хвост) — тот, кто поддерживает сзади облачение или мантию прелата.
(обратно)69
Клаудио Коэльо (1642–1693) — известный испанский художник португальского происхождения.
(обратно)70
Стр. 80. Антифон — пение, исполняемое поочередно двумя хорами, стоящими друг против друга.
(обратно)71
Ессе sacerdos magnus secundum ordinem Melchisedech (Ты священник вовек по чину Мельхидесека (лат.; Псалом 109,4) — Мельхиседек — священник и царь Салимский, упоминается в библейской Книге Бытия (14, 18).
(обратно)72
Стр. 81. Эдилы — в Древнем Риме выборные должностные лица; наблюдали за общественными зданиями и храмами, дорогами, рынками, снабжением города продовольствием, за общественным порядком и празднествами.
(обратно)73
Стр. 85. Как разделал король того самого кролика! — Один из убийц Инес де Кастро (см. коммент. к с. 62) носил фамилию Коэльо, что в переводе с португальского означает «кролик». Придя к власти, дон Педро казнил убийц Инес, а труп ее приказал эксгумировать и короновать.
(обратно)74
Стр. 88. …в праздник святой королевы… — Имеется в виду португальская королева Изабел, жена короля Диниша (Диониса) Щедрого (1261–1325), известного португальского просветителя и талантливого поэта. Овдовев, конец жизни провела в Коимбре, в построенном по ее распоряжению монастыре святой Клары (упоминающийся ниже «храм за мостом»); после смерти (1336 г.) была причислена к лику святых.
(обратно)75
Административный кодекс канонизировал… — Насмешка над избирательной системой, введенной после Сентябрьской революции.
(обратно)76
…Португалия… всего лишь открывала морской путь в Индию… — Здесь и далее Гарретт обращает свой сарказм против тех, кто в обличениях португальской отсталости доходил до тотального отрицания. Морской путь в Индию был открыт Васко де Гамой в 1498 г., Бразилия была открыта Педро Алваресом Кабралом в 1500 г. Морские пути вокруг Африки прокладывались в течение XV в., что касается «цивилизации», тут с Гарреттом трудно согласиться: Португалия печально прославилась работорговлей и грабительской колониальной политикой.
(обратно)77
Жоан де Баррос (1496–1570) — крупнейший португальский историк эпохи Возрождения, его «Декады об Азии» рассказывают о проникновении португальцев в Индию.
(обратно)78
Луис Ваз де Камоэнс (1524/5-1580) — величайший португальский поэт; его эпическая поэма «Лузиады» (закончена около 1570 г.) повествует о плавании в Индию флота Васко де Гамы.
(обратно)79
Беленская Башня (порт. Torre de Belém — букв. Вифлеемская Башня) — оборонительное сооружение и маяк на берегу Тежо (Лиссабон) в виде высокой башни; построена в 1515–1521 гг. португальским зодчим Франсиско де Аррудой.
(обратно)80
…ни баронов, ни вольных каменщиков… — Титул барона во времена Гарретта часто получали буржуа, добившиеся дворянства. О «вольных каменщиках» см. коммент. к с. 28.
(обратно)81
…плясать польку… — В тридцатых годах XIX в. полька стала модным в Европе танцем.
(обратно)82
…блистательный наш оратор… — Имеется в виду виконт де Лаборин (1781–1864), политический деятель либерального толка, над напыщенными речами которого иронизировал Гарретт.
(обратно)83
Стр. 89. …пляска благочестивая и иератическая… — то есть обрядовая (от греч. hieratikos — жреческий).
(обратно)84
Диого де Тейве (1513/15 — ок. 1566) и Андре де Гоувейа (1497–1548) — известные португальские ученые-гуманисты, преподававшие в Париже и Бордо, а позже — в Новом университете в Коимбре, который до середины XVI в. был очагом возрожденческого просвещения в Португалии.
(обратно)85
Пребендарий — у католиков духовное лицо, получающее доходы и имущество (дома, поместья) за исполнение своих обязанностей.
(обратно)86
Храм Сан-Педро-экстра-мурос — в буквальном переводе храм «святого Петра за городскими стенами».
(обратно)87
Стр. 91. …корабли короля Рамиро… — Видимо, имеется ввиду Рамиро III, король Леона с 967 по 982 г. Вел войны с аль-Мансуром (см. коммент. к с. 39).
(обратно)88
…церковный сад не уступал… ни Кенсингтону, ни Тюильри… — Кенсингтон — общественный сад в Лондоне, Тюильри — в Париже.
(обратно)89
Ex digito gigas (По пальцу узнаем гиганта — лат.) — латинская поговорка.
(обратно)90
Стр. 92. …те, кто говорят «рака» брату своему… — Алмейда неточно цитирует Евангелие от Матфея (5, 22): «Кто же скажет брату своему „рака“, подлежит синедриону». «Рака» (сирийск.) — пустой человек, синедрион — верховное судилище у евреев.
(обратно)91
Рея Сильвия — мать мифических основателей Рима Ромула и Рема, дочь Нумитора, царя Альба-Лонги (см. ниже).
(обратно)92
Альба-Лонга — древнейший город Латия к юго-востоку от Рима; разрушен римлянами в VII в. до н. э. Веста — древнее божество домашнего очага; в Древнем Риме существовал публичный культ Весты.
(обратно)93
Стр. 93. …наши нынешние Рабле… — то есть сатирики; имя Франсуа Рабле (1494–1553), великого французского писателя, здесь употреблено в нарицательном смысле.
(обратно)94
Стр. 96. …сосновая ветка, служившая вывеской… — В Португалии сосновая ветка над дверью обозначала харчевню.
(обратно)95
Стр. 97. Канада — старинная португальская мера емкости (1,4 л).
(обратно)96
Стр. 102. Десять лет понадобилось Сервантесу… — Первая часть «Дон Кихота» вышла в Мадриде в 1605 г., вторая — в конце 1615 г.
(обратно)97
Палимпсест — рукопись, писанная на пергаменте по смытому или соскобленному тексту; были распространены в древности и раннем средневековье.
(обратно)98
…как это случилось с бедным Мигелем де Сервантесом… — В 1614 г. в Таррагоне под именем Алонсо Фернандеса де Авельянеды вышла поддельная вторая часть «Дон Кихота»; кто скрывался под этим псевдонимом, неизвестно до сих пор.
(обратно)99
…рати халифа аль-Мансура… — см. коммент. к с. 39.
(обратно)100
Стр. 103. Пьюзеизм — тяготеющее к католицизму направление «высокой церкви» в Англии, защищавшее епископальную систему первой половины семнадцатого века, возвеличивавшее католические принципы авторитета и отвергавшее принципы свободного исследования. Сложилось в Оксфорде в начале тридцатых годов девятнадцатого века. Название происходит от фамилии лидера Оксфордского движения Эдварда Пьюзи (1800–1882).
(обратно)101
Диоклетиан (243 — между 313 и 316) — римский император (284–305 гг.), в 303–304 гг. предпринял гонение на христиан.
(обратно)102
Юлиан (331–363) — римский император с 361 г. Был воспитан в христианстве, но, став императором, объявил себя сторонником языческой религии, которую реформировал на основе неоплатонизма. От христианской церкви получил прозвище «Отступник».
(обратно)103
Константин I Великий (ок. 285–337) — римский император с 306 г. Поддерживал христианскую церковь, сохраняя также языческие культы.
(обратно)104
Стр. 104. …как восковые ex-voto, хотя кое-кто из них изрядно оброс салом… — Об ex-voto см. коммент. к с. 27. Восковые свечи стоили гораздо дороже сальных и выше ценились — в этом смысл противопоставления восковых ex-voto и «обросших салом» церковников.
(обратно)105
Senatus populusque portucalensis (Сенат и народ града Порто — лат.) — ироническая аналогия традиционной древнеримской формуле Senatus populusque romanus — Сенат и народ Рима.
(обратно)106
…такой же порядок, как в Варшаве. — После взятия Варшавы 8 сентября 1831 г. маршал И. Ф. Паскевич (1782–1856), руководивший подавлением польского восстания 1830–1831 гг., писал Николаю I: «Варшава у ног вашего величества». Слова «Порядок царствует в Варшаве», перефразированные Гарреттом, приписываются Казимиру Перье, французскому банкиру и политическому деятелю, который в 1831 г., будучи президентом государственного совета, жестоко подавил Парижское и Лионское восстания.
(обратно)107
Стр. 106. Авиценна — латинизированное имя Ибн Сины (ок. 980-1037), известного ученого, философа и врача, жившего в Средней Азии и в Иране.
(обратно)108
Стр. 107. …бахвалятся чистотою своих готских кровей… — В V в. на территорию Пиренейского полуострова вторглись завоеватели — готы (германское племя), образовавшие там во второй половине этого века раннефеодальное государство. Происхождение от готов считалось особенно знатным.
(обратно)109
Измаил — по библейскому преданию, сын древнееврейского патриарха Авраама и его наложницы Агари; считается родоначальником арабов.
(обратно)110
Стр. 108. Фригийские яды — Фригия — древняя страна в северо-западной части Малой Азии. Издревле славилась искусниками по части ядов.
(обратно)111
Инфансон (порт. infançao) — в иерархии средневековых дворянских званий одно из низших.
(обратно)112
Стр. 110. …свободный строй «коммуны»… — В средневековой западной Европе коммуна (от лат. communis — общий) — община, добившаяся от феодалов прав самоуправления.
(обратно)113
Стр. 115. Самсон — по библейскому преданию, древнееврейский богатырь, обладавший необыкновенной физической силой, которая таилась в его длинных волосах.
(обратно)114
Гедеон — судия израильский, победитель мадианитян.
(обратно)115
Стр. 116. Асмодей (древнеевр. — искуситель, соблазнитель) — по библейскому преданию, злой дух, убивший семь мужей красавицы Сарры, дочери Рагуила (Книга Товита).
(обратно)116
Стр. 119. Берется слово… треугольная шляпа… — Намек на то, что треугольная шляпа стала символом бонапартизма.
(обратно)117
Стр. 120. Демагог (от греч. demagogos, букв. — вождь народа) — в Древней Греции политический деятель демократического направления; в таком смысле и употребляет это слово Гарретт.
(обратно)118
Стр. 121. «Малато». — Словом «малато» обозначался человек, который, не будучи рабом от рождения, попадал в рабское и униженное положение. Возможно, таковым оказывался прокаженный, ибо болезнь эта считалась наследственной и слыла подлой (примеч. автора).
(обратно)119
…в нашем краю нет дворян… — Общеизвестно, что граждане Порто обладали особой привилегией: дворяне не имели права проживать у них в городе (примеч. авт.).
(обратно)120
Стр. 123. Суета сует и всяческая суета! — Слова из библейской книги Екклезиаста.
(обратно)121
Стр. 124. …преблагородного, исконно верноподданного и непобедимого града Порто… — слова из надписи на гербе Порто.
(обратно)122
В этом декрете, каковой был представлен моим приятелем М. П. на одобрение королеве… — Имеется в виду Мануэл Пассос (1801–1868), видный политический деятель и журналист, один из лидеров партии сентябристов, близкий друг Гарретта, называвший его «обладателем золотого пера».
(обратно)123
Стр. 125. Мануэл Мария Барбоза дю Бокаже (1765–1805) — португальский поэт.
(обратно)124
Стр. 127. Геба — богиня юности, дочь Зевса и Геры; на Олимпе подносила богам нектар и амброзию (греч. миф.).
(обратно)125
Стр. 128. …зваться Изаурой, Матильдой, Урракой или Мумадоной… — Гарретт иронизирует над пристрастием романтиков к архаическим именам. Уррака — имя нескольких испанских королев, живших в средние века; Мумадона — имя португальской графини, жившей в десятом веке.
(обратно)126
Виконт Шарль д’Арленкур (1789–1856) — второстепенный французский писатель, автор псевдоисторических романов.
(обратно)127
…кто живет в доме со стеклянной крышей… — Начало поговорки; ее продолжение: …не должен кидать камни в дом соседа.
(обратно)128
Артемидор. — Это имя носил Артемидор из Эфеса (ок. 100 г. до н. э.), греческий географ, Артемидор из Книда, ритор, друг Юлия Цезаря, и Артемидор «Далдиан» (138–180 гг.), автор «Снотолкователя». Видимо, Гарретт скрыл за этим именем намек на кого-то из современников.
(обратно)129
Стр. 129. Доктор Тиртеафуэра. — Гарретт ошибся: имя лекаря, фигурирующего во второй части «Дон Кихота», — Педро Ресио де Агуэра; Тиртеафуэра (букв. убирайся вон) — название селения, откуда он родом.
(обратно)130
Стр. 132. Святой Патрик Ирландский (ок. 390 — ок. 461) — первый епископ Ирландии; по преданию, жил отшельником в пещере.
(обратно)131
Святой Иаков Компостельский. — Апостол Иаков Старший считается покровителем Испании; по преданию, его мощи были чудом перенесены в испанский город Компостелу, получивший название Сантьяго де Компостела (Сантьяго (исп.) — святой Иаков).
(обратно)132
Богоматерь Лоретская — Лорето — город в Италии, где находится так называемый Дом Богоматери, якобы перенесенный туда ангелами и находящийся внутри церкви.
(обратно)133
Стр. 435. Вара — старинная португальская и испанская мера длины (110 см).
(обратно)134
Стр. 136. …награды в виде сластей и орехов… — У древних греков и римлян был обычай награждать лакомствами авторов и исполнителей представлений, понравившихся народу.
(обратно)135
Джакомо Мейербер (наст. имя Якоб Либман Бер; 1791–1864) — известный композитор, создатель стиля большой героико-романтической оперы («Роберт Дьявол», 1830). Над его пристрастием к ударным инструментам иронизировал также Генрих Гейне.
(обратно)136
Мафра — городок в Португалии неподалеку от Лиссабона, где в 1717–1732 гг. был построен знаменитый монастырско-дворцовый ансамбль.
(обратно)137
Стр. 137. Тиртей (вторая половина седьмого века до нашей эры) — древнегреческий поэт. По преданию, хромой школьный учитель, посланный афинянами в Спарту взамен требуемой военной помощи и сумевший своими песнями поднять дух спартанцев во второй Мессенийской войне. Имя Тиртея стало нарицательным для обозначения представителя гражданской поэзии.
(обратно)138
Алкей (конец седьмого — первая половина шестого в. до н. э.) — древнегреческий поэт. В его стихах преобладают мотивы застольного веселья и гражданской войны, воспринимаемой с позиций аристократа.
(обратно)139
…наш богатый Периклами век. — Перикл (ок. 490–429 до н. э.) — афинский стратег (главнокомандующий), вождь демократической группировки. Его имя стало нарицательным для обозначения мужественного и честного общественного деятеля. Гарретт, как истый романтик, иронизирует над своим веком.
(обратно)140
…обнаружили, что таз и есть шлем Мамбрина… — Намек на эпизод из 21 гл. I части романа Сервантеса: Дон Кихот принимает таз, которым цирюльник прикрыл голову, оберегая от дождя свою шляпу, за чудодейственный золотой шлем «язычника Мамбрина», одного из персонажей поэм итальянских поэтов Возрождения Лодовико Ариосто (1474–1533) «Неистовый Роланд» и Маттео Боярдо (1441–1494) «Влюбленный Роланд».
(обратно)141
Стр. 139. Que se los coma con pan (Пусть ест их, свои рога, с хлебом — исп.) — испанская поговорка, смысл ее: пусть рогоносец смирится с изменой супруги.
(обратно)142
Стр. 140. Марк Антоний (ок. 83–30 до н. э.) — римский полководец, сторонник Цезаря. После убийства Цезаря в 43 г. вместе с Октавианом и Лепидом образовал второй триумвират, разбив войска Брута и Кассия. Гарретт намекает на эпизод, приводимый Плутархом в жизнеописании Марка Антония.
(обратно)143
Стр. 141. …одному из судей, приговоренных им к Тарпейской скале… — В Древнем Риме так назывался отвесный утес с западной стороны Капитолийского холма (см. коммент. к с. 177), откуда сбрасывали осужденных на смерть государственных преступников.
(обратно)144
Стр. 142. Сикофант — в Древней Греции, по-видимому, лицо, сообщавшее о запрещенном вывозе смоквы из Аттики (от древнегреч. sýkon — смоква, phaino — доношу). Со второй половины V в. до н. э. сикофантами стали называть профессиональных доносчиков, клеветников, шантажистов.
(обратно)145
…Пальмерин, или Амадис, или сам Флорисмарте Гирканский… — Герои рыцарских романов, упоминающихся в «Дон Кихоте»: «Книга о могучем рыцаре Пальмерине Оливском» (1511, автор неизвестен), «Смелый и доблестный рыцарь Амадис, сын Периона Галльского и королевы Элисены» (1508 г., автор неизвестен) и «Первая часть истории о великом и могучем рыцаре Флорисмарте Гирканском» (1556, автор Мельчор Ортега).
(обратно)146
Стр. 144. …Елену сей Трои… — Елена — в греч. мифологии дочь Зевса и Леды, жена царя Спарты Менелая, славившаяся красотой. Похищение Елены спартанским царевичем Парисом послужило поводом к Троянской войне.
(обратно)147
Сид Ахмет Бен-инхали, — вымышленный Сервантесом автор «арабской рукописи», содержащей продолжение истории Дон Кихота (см. глава IX части I). Во II части романа Сервантес объясняет промах с ослом Санчо невнимательностью наборщиков (см. глава XXVII части II).
(обратно)148
Стр. 148. Крипта — в Древнем Риме сводчатое подземное помещение; в западноевропейской средневековой архитектуре часовня под храмом, служившая для погребения; здесь: тайник в подземелье.
(обратно)149
Стр. 150. Содом и Гоморра — в библейской мифологии города, жители которых погрязли в распутстве и за это были испепелены огнем, посланным с неба.
(обратно)150
Род Борджа (ит. Borgia, исп. Borja) — знатный итальянский род испанского происхождения; здесь имеются в виду Родриго Борджа (1431–1503), с 1452 г. папа Александр VI, и его сын Чезаре (ок. 1475–1507), известные своей развращенностью и коварством.
(обратно)151
Нерон (37–68) — римский император с 54 г. из династии Юлиев Клавдиев. Согласно источникам, жестокий, самовлюбленный, развратный.
(обратно)152
Гелиогабал (Элагабал; 204–222) — римский император с 218 г. В 217 г. стал жрецом сирийского бога солнца Элагабала, отсюда его имя. Расточительность и распутство Элагабала вызывали всеобщее недовольство, был убит преторианцами.
(обратно)153
Тиара — головной убор римского папы, знак первосвященнической власти: тройная корона с крестом наверху.
(обратно)154
…сан епископа стал выборным… — Здесь и далее Гарретт иронизирует над современными ему внутрицерковными реформами.
(обратно)155
…согласно откровениям братца Ликурга… — Ликург — легендарный спартанский законодатель (9–8 вв. до н. э.), имя его употреблено иронически.
(обратно)156
Конклав — совет кардиналов, собирающихся для избрания римского папы.
(обратно)157
…грозный брат и братья, более или менее бдительные… — Гарретт иронически использует звания, бывшие в ходу у инквизиторов.
(обратно)158
Афонсо де Албукерке (1453–1515) — португальский флотоводец, один из колонизаторов Индии.
(обратно)159
Стр. 152. Левит — служитель религиозного культа у евреев.
(обратно)160
Добрый самаритянин — персонаж из евангельской притчи, оказавший помощь незнакомому человеку, которого изранили и ограбили разбойники (Евангелие от Луки, 10, 30–35).
(обратно)161
Стр. 160. Алкобаса — городок в Португалии, где около 1190–1220 гг. был построен цистерцианский монастырь Санта-Мария, выдающийся памятник ранней португальской готики.
(обратно)162
Виллан — в эпоху феодализма человек «низкого» происхождения.
(обратно)163
Стр. 165. …словно замуровалась заживо… — В описываемую пору женщины, посвятившие себя богу, так называемые Deo-votas, были обычным явлением; не принадлежа ни к одному из обычных монашеских орденов и живя в миру, они налагали на себя еще более суровые обеты, чем монахини. Иные из них, из вящего усердия и вящего ради покаяния, замуровывались заживо, то есть обрекали себя на жизнь взаперти в помещении без дверей и выхода, существуя милостыней и изнуряя себя самыми жестокими покаяниями (примеч. автора).
(обратно)164
Стр. 166. Марон Публий Вергилий (70–19 до н. э.) — римский поэт; infelix virgo («злосчастной девой») он называет героиню своего эпоса «Энеида», карфагенскую царицу Дидону, возлюбленную Энея, которая покончила самоубийством, когда Эней ее покинул. Слово «virgo», впрочем, может означать также «молодая женщина».
(обратно)165
Стр. 168. Кайафа — по евангельскому преданию, первосвященник, обрекший Иисуса на казнь. В дом его тестя был отведен связанный Иисус Христос.
(обратно)166
Стр. 171. «Ветхий человек» — в христианском словоупотреблении: родившийся в прародительском грехе и не возродившийся духовно, по Новому завету.
(обратно)167
Стр. 174. Авентинский холм — один из семи холмов, на которых стоит Рим. Гарретт проводит параллель между восстанием горожан Порто против епископа и восстанием римского плебса против аристократии в V в. до н. э., когда часть восставших удалилась на Священный холм, а другая часть — на Авентинский.
(обратно)168
Луций Валерий Публикола, консул, выступил посредником между сенатом и народом, рассказав, по преданию, притчу о том, как руки и ноги взбунтовались против брюха, о которой Гарретт упоминает ниже.
(обратно)169
Стр. 176. Джовани Баттиста Рубини (1794/5-1854) — знаменитый итальянский певец, тенор.
(обратно)170
Луиджи Лаблаш (1794–1858) — также знаменитый римский певец, бас.
(обратно)171
Стр. 177. Капитолий — один из семи холмов, на котором возник Древний Рим. Там находился Капитолийский храм, происходили заседания сената, народные собрания.
(обратно)172
Бренн — предводитель галлов, вторгшихся в Италию в 390 г. до н. э. и разбивших римлян при Аллии. Шутка Гарретта основана на близости звучания слов «галльский» и «галисийский». Галисия — провинция на севере Испании.
(обратно)173
Стр. 178. Билль о возмещении убытков. — Гарретт пользуется английским словом «билль» (англ. bill — законопроект, вносимый на рассмотрение законодательных органов), намеренно подчеркивая ироничность этого словоупотребления.
(обратно)174
Стр. 179. Курия (лат.) — первоначально наименование каждой из тридцати общин римского патрициата. Здесь в значении «сенат».
(обратно)175
Стр. 180. Кай Саллюстий Крисп (86 — ок. 35 до н. э.) — римский историк.
(обратно)176
Марк Туллий Цицерон (106-43 до н. э.) — римский политический деятель, оратор и писатель, сторонник республиканского строя. Quousque tandem («Доколе же») — начало первой речи Цицерона против Луция Сергия Катилины (ок. 108-62 до н. э.), организатора заговора, который Цицерон, бывший в это время консулом, раскрыл в 63 г. до н. э. Эта речь Цицерона — знаменитый образец ораторского искусства.
(обратно)177
Стр. 183. …великий английский поэт… — Имеется в виду У. Шекспир и цитируются знаменитые слова Гамлета («to be or not to be» — «быть или не быть»). Иронический смысл столь подчеркнутого анахронизма в насмешке над склонностью современных Гарретту ораторов не к месту цитировать Шекспира.
(обратно)178
Стр. 185. Палладий (от греч. Паллада, прозвище богини Афины) — изображение вооруженного божества, считавшееся охранителем города. Иносказательно — стяг, защита, оплот.
(обратно)179
Стр. 196. Хафиз Ширази Шамседдин (ок. 1325–1389/90) — знаменитый персидский поэт.
(обратно)180
…написание «каламбур»… — В подлиннике «calimburgo». Гарретт «португализирует» французское слово «calembourg», происхождение которого до сих пор не выяснено (возможно, от фамилии священника Калемберга, персонажа немецких сказок).
(обратно)181
Стр. 197. Аррефен (порт, arrefém — заложник) — пришлось ввести в текст это португальское слово, чтобы сохранить сходство звучания между ним и фамилией монаха, которое обыгрывается в подлиннике.
(обратно)182
Стр. 199. Flos sanctorum («Цвет святых» — лат.) — средневековый сборник, содержащий жития святых.
(обратно)183
Стр. 201. …напоминал изваяние святого покровителя Англии… — Имеется в виду святой Георгий.
(обратно)184
Стр. 203. …нечто вроде допотопного примирителя… — Гарретт иронизирует над теми политическими деятелями своего времени, которые уповали на компромиссы как на способ примирения враждующих партий.
(обратно)185
Стр. 206. …возложите на алтарь Богоматери принадлежащие ей ключи. — Действительно, так епископы, властвовавшие в Порто, поступали, когда король, сюзеренный сеньор, вступал в город (примеч. автора).
(обратно)186
Стр. 207. Декреталия — постановление римского папы (в форме послания).
(обратно)187
…следил за всеми подробностями совершавшегося обряда… — В числе римско-католических обрядов и поныне существует обряд лишения духовного сана и расстрижения епископов и священников, которые своими преступлениями навлекли на себя эту кару, высшую среди всех, коим подвергает своих служителей церковь, прежде чем предать их светскому суду. Нам хорошо известно, что для такого наказания недостаточно было одного только королевского приговора, да и капитул был не вправе применить его по отношению к собственному епископу; но при таком короле и в такие времена все это, как нам известно, было и возможно, и правдоподобно (примеч. автора).
(обратно)188
Стр. 210. Тапуйя — одно из индейских племен, составлявших коренное население Бразилии.
(обратно)189
…тип красоты римско-кельтской. — Гарретт имеет в виду тип, сложившийся в результате смешения коренного населения Португалии, лузитан, с римлянами, которые к концу I в. н. э. полностью покорили Португалию. Аниньяс унаследовала тип красоты, характерный, по мнению Гарретта, для германского племени вестготов, завоевавших Португалию во второй половине V–VI вв.
(обратно)190
Стр. 211. Дебора — в библейской мифологии пророчица и судия.
(обратно)191
Маккавеи — братья, возглавлявшие народное восстание II в. до н. э. в Иудее против власти Селевкидов.
(обратно)192
Стр. 216. …низринувшись, подобно Навуходоносору… — Имеется в виду библейское предание о том, что царю Навуходоносору был «голос с неба» о том, что «царство его отошло от него», и он был «на семь времен» отлучен от людей и ел траву, как вол (Книга пророка Даниила, 4).
(обратно)193
Стр. 218. Барка (порт. Ьагса, букв. лодка) — театральное представление религиозно-нравоучительного содержания.
(обратно)194
Лоа (порт. lоа — хвала) — гимн в честь Богоматери или какого-нибудь святого, а также представление житийного характера.
(обратно)195
Шакота (порт. chacota — название старинной народной песни и танца) — сатирическое представление.
А. Косс
(обратно)
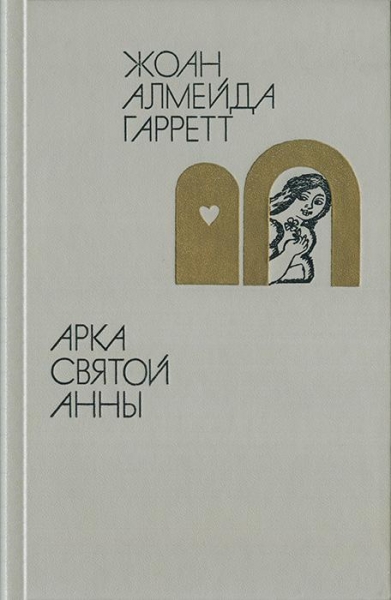
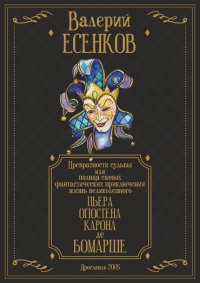
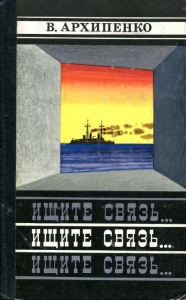

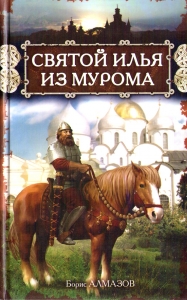





Комментарии к книге «Арка святой Анны», Жоан Алмейда Гарретт
Всего 0 комментариев