Владимир Меженков Проклятие Ирода Великого
Предисловие
Последние дни великого царя были ужасны.
Огонь, сжигавший внутренности, перемежался с холодом, и тогда Ирода трясла лихорадка. Кожа покрылась струпьями и нестерпимо чесалась. Чтобы унять зуд, он вонзал в тело ногти и рвал его кусками вместе с мясом. Геморроидальные шишки полопались и истекали кровью, вызывая непреходящее жжение в анальном отверстии. Ноги отекли и стали похожи на слоновьи. Живот вздулся, как у человека, страдающего водянкой. Ироду казалось, что он вот-вот лопнет. Из-за вздутого живота ему не видно было причинное место, но он знал: там образовалась гниющая язва, и в язве этой копошатся черви. Ко всем напастям, обрушившимся на царя, тело его источало зловоние, которое не могли перебить никакие мази и притирания, выписанные из далекой Индии. Зловоние это причиняло ему дополнительные страдания.
Из-за болезни Ирод приказал перенести себя в парадный зал. Здесь обыкновенно проходили приемы иностранных послов, устраивались совещания с министрами и членами многочисленной царской семьи и давались торжественные обеды. Зал этот в прежние времена поражал воображение каждого, кто ступал под его высокие своды, сочетанием величественной роскоши с особым чувством меры и вкуса, которые были присущи Ироду. Ныне место трона заняла кровать из слоновой кости, инкрустированной золотом и драгоценными камнями. Эта единственная перемена в интерьере придала залу интимный вид, который побуждал собеседников Ирода становиться откровенными и признаваться в вещах, в которых в иной обстановке они не признались бы и под самой страшной пыткой.
В эти тяжелые для великого царя дни, когда к физическим страданиям прибавились душевные муки, вызванные новым раскрывшимся заговором в его доме, в столице случился бунт. Бунт возглавили законоучителя из числа фарисеев – Матфий, сын Маргалофа, и Иуда, сын Сарифея. С хорошо подвешенными языками, готовые разглагольствовать сутки напролет, эти люди собирали вокруг себя толпы праздношатающейся молодежи, не знающей, как убить время. Вместе и порознь фарисеи втемяшивали в неокрепшие умы подростков мысль о том, будто престарелый Ирод находится при смерти или уже умер. Предвечный, говорили они, конечно, воздаст царю за все его злодеяния, но этого мало: Предвечный ожидает от живых, что они восстановят Его славу и уничтожат все нововведения Ирода уже сегодня.
Возбужденная речами фарисеев молодежь жаждала действий и спрашивала, с чего им следует начать. Матфий и Иуда указали на огромного золотого орла, установленного Иродом над главным фронтоном Храма в качестве своего жертвенного дара. В интересах благочестия, заявил Матфий, а Иуда его поддержал, этого орла следует сорвать и уничтожить. Искра пала на хорошо подготовленный костер, и молодые оболтусы, прихватив веревки и топоры, кинулись к Храму, где в это время находилось множество людей. На виду у всех они вскарабкались на кровлю Храма, оттуда, обвязавшись веревками, спустились к орлу, отодрали его от фронтона и сбросили вниз, а их товарищи с остервенением принялись рубить его на куски. Тут же нашлись охочие до легкой поживы люди, которые, рискуя остаться без рук, выхватывали из-под топоров куски драгоценного металла и, сунув их за пазуху, растворялись в толпе. Благоразумные иудеи пытались урезонить молодежь и призывали ее не совершать проступков, за которые можно поплатиться жизнью. Однако вошедшие в раж Матфий и Иуда подстрекали молодых продолжать свое дело, заявляя, что доблесть, проявленная во имя восстановления обычаев предков, не страшится смерти, поскольку обеспечивает славу и почет не только тем, кто не цепляется за жизнь ради ее сомнительных удовольствий, но и их родным и близким и в конечном счете всему народу.
Ирод, узнав о беспорядках, возникших на Храмовой площади, послал туда дежурного офицера во главе караульного отряда. Однако вид вооруженных людей лишь распалил молодежь. Вооружившись, в свою очередь, камнями и палками, молодые люди бросились на стражей порядка. Те, прикрывшись щитами, ринулись в толпу, умело рассекли ее на мелкие группы, не способные к сопротивлению, и, захватив около сорока подростков вместе с Матфием и Иудой, вернулись во дворец.
Ирод, не поднимаясь со своего ложа, спросил офицера:
– Они ли дерзнули сокрушить то, что я пожертвовал Храму?
Вместо офицера Ироду ответил самый бойкий из подростков, которому на вид никак нельзя было дать больше тринадцати лет – возраст, когда еврейские мальчики только-только обретают право стать членами иудейской общины:
– Мы! И гордимся тем, что сокрушили твоего идола!
– Кто внушил им сделать это? – обратился Ирод с новым вопросом к офицеру, но вместо него снова ответил бойкий подросток:
– Завет отцов!
Ответ этот вызвал одобрение его товарищей, а кое-кто даже рассмеялся. Тогда Ирод обратился к офицеру с третьим вопросом:
– Почему они так веселы, хотя знают, что за их дерзкий проступок им грозит смерть?
И в третий раз Ироду ответил все тот же подросток:
– Потому что после смерти нас ожидает счастье быть прославленными!
Ирод перевел тяжелый взгляд с офицера на Матфия и Иуду, стоящих за спинами подростков.
– Из того, что вы молчите, – сказал он, – я заключаю, что вы не причастны к преступлению, совершенному этими детьми. Это так? – обратился он почему-то к одному только Матфию.
Тот не ответил ему, опустив глаза долу. Тогда Иуда, раздвинув подростков, выступил вперед.
– То, что мы задумали исполнить, – начал он, – мы исполнили так, как подобает настоящим мужчинам, но не детям. Мы желали очистить святилище Предвечного, и желание наше подкреплено нашей верностью законам.
Теперь Иуду поддержал и Матфий. Встав с ним рядом, он произнес:
– Законы, завещанные нам Моисеем, мы ставим выше, чем все твои жертвы вместе взятые. Сказано: «Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли». Мы с радостью примем любое наказание, которому ты нас подвергнешь, потому что знаем: наказание это мы понесем не за преступные деяния, а за любовь к благочестию, которое ты, царь, предал забвению.
Судорога свела руки Ирода, покоившиеся на огромном животе. Велев арестовать Иуду и Матфия вместе с подростками, он приказал отнести себя к Храму, где к тому времени собралась огромная толпа зевак. Гудевшая толпа при виде царских носилок притихла, и на Храмовой площади установилась такая тишина, что стук оброненного кем-то медного кувшина показался оглушительным громом.
Рабы установили носилки на возвышении, откуда просматривалась вся запруженная народом площадь. Ирод оглядел несметную толпу и начал говорить. Из-за боли и зуда, которые раздирали его тело, слова его больше походили на стон, чем на внятную речь. Полулежа на носилках, Ирод напомнил народу, что Храм, равного которому не найти в целом мире, возник не сам по себе, а построен им, царем Иудеи, на его собственные средства. Во все время строительства, продолжал Ирод, дожди ни разу не шли днями, а только ночами, чтобы работы не прерывались ни на час. Когда же работы были закончены, Храм омыл обильный дождь, вслед за которым воссияла раскинувшаяся от края и до края неба радуга, которая красноречивей любых слов засвидетельствовала: сам Предвечный соблаговолил принять дар Ирода и освятил его. Понизив и без того тихий голос, Ирод напомнил народу также о том, что Предвечный не отверг ни одного из его последующих приношений, которые не только украсили Храм, но и, как надеялся Ирод, прославили бы его имя после смерти. Произнеся эти слова, Ирод вдруг сорвался на крик:
– По какому праву жалкая кучка молодых бездельников, науськанная двумя негодяями, не постеснялась средь бела дня оскорбить меня?
Ирод закашлялся, и обескровленное его лицо исказила гримаса боли. Площадь в страхе замерла. Ирод, совладав с кашлем, продолжал уже тише:
– Вы своим молчаливым попустительством хотели ускорить мою смерть, которая и без того притаилась за моими плечами. Вижу, вижу, как вы ненавидите меня! Но если внимательней присмотреться к истинным причинам вашего бунта, то окажется, что вы оскорбили не меня, – вы совершили святотатство, за которое заслуживаете самой лютой казни!
Площадь разом загудела и запричитала. Народ наперебой стал молить Ирода наказать одних лишь подстрекателей и участников бунта, схваченных стражниками, а остальных простить. Кто-то вытолкнул из толпы молодого мужчину, из-за пазухи которого выпала отрубленная золотая голова орла. Народ потребовал казнить и этого вора. В ожидании приговора вся площадь опустилась на колени и смиренно склонила головы, готовая принять любую кару, которую определит ей царь.
Ирод обвел тяжелым взглядом присмиревшую толпу, затем посмотрел на небо, как бы испрашивая у него совета, как ему поступить, и лишь после этого негромко, но внятно произнес:
– Будь по-вашему. Ложных законоучителей Матфия и Иуду сжечь живьем как богохульников, молодых бунтовщиков, схваченных на месте преступления, обезглавить, вора четвертовать. Остальных прощаю и разрешаю вернуться в свои дома.
Возвратившись во дворец, Ирод, как это всегда случалось с ним после вынесения смертных приговоров, почувствовал прилив сил и жажду жизни. Вызвав сестру Саломию – единственное существо в доме, которому он продолжал всецело доверять, – Ирод велел ей собираться в дорогу.
– Едем в Каллирою, – сказал он.
Всегда сдержаная Саломия, умеющая скрывать чувства под маской полной покорности тому, что прикажет ей брат, на этот раз улыбнулась: Каллироя, расположенная на восточном берегу Мертвого моря, во все времена года славилась у состоятельных иудеев и знати из ближних и дальних стран своими целебными источниками и минеральными водами. Если брат пожелал отправиться на этот модный курорт, который не только возвращает здоровье, но и дает отдых душе множеством развлечений, значит, есть еще надежда на исцеление.
Но и поездка на курорт не принесла облегчения Ироду. Более того: погрузившись в ванну, наполненную целебной жидкостью, он вдруг лишился сознания и чуть было не утонул. Врачи успели вытащить его из ванны, а слуги подняли крик. Очнувшись, Ирод не сразу понял причины суматохи, поднятой вокруг него, а когда догадался, решил вернуться в столицу. По дороге домой Ироду стало совсем плохо. Врачи, опасаясь за его жизнь, решили сделать остановку в Иерихоне. Здесь Ироду немного полегчало, и он приказал выдать каждому солдату, сопровождавшему его, по пятидесяти драхм, а офицерам и ближайшим слугам втрое больше. Затем вызвал первого министра и хранителя государственной печати Птолемея и распорядился созвать в Иерихон всех самых влиятельных иудеев со всех концов страны. «Не должно остаться ни одного, наделенного хотя бы самой малой властью, – добавил он, – кто осмелился бы ослушаться моего приказа». Когда первый министр вышел, царь послал за Саломией и сказал ей:
– Дни мои сочтены, сестра. Скоро я умру. Но смерть не страшит меня – рано или поздно все мы предстанем перед Предвечным. Меня огорчает другое: то, что я умру не оплаканным народом, как это приличествует царю…
– Что ты такое говоришь, брат! – возразила Саломия. – Народ любит тебя, и если ты умрешь, народ станет скорбеть о тебе так, как ни о ком другом!
Ирод поморщился.
– Помолчи, сестра, дай мне договорить то, что я имею сказать одной только тебе. Слушай же: если ты действительно хочешь облегчить мои страдания, выполни мою последнюю волю. Не сегодня – завтра сюда съедутся самые знатные иудеи. Собери всех их на ипподроме и окружи войсками. Когда меня не станет, прикажи солдатам расстрелять всех их из луков, а тех, в ком еще будет теплиться жизнь, добейте мечами. Этим ты окажешь мне двойную услугу: во-первых, в точности выполнишь мою волю, и, во-вторых, не позволишь никому превратить мою смерть в праздник. По всей Иудее прольется такое море слез, каким не оплакивалась смерть еще ни одного царя на свете. Обещай, сестра, что ты сделаешь все так, как я сказал.
Саломия молчала, опустив глаза и поджав узкие губы.
– Я жду ответа! – повысил голос Ирод.
Саломия вздрогнула и, не смея поднять глаза на брата, едва слышно произнесла:
– Обещаю.
– Обещаешь сделать все так, как я приказал!
– Обещаю сделать все так, как ты приказал.
Ирод представил себе поле ипподрома, заполненное телами его врагов, представил, какими воплями и стенаниями огласится Иудея, когда узнает о смерти такого огромного числа самых знатных своих сынов, и жесткие черты его лица размягчились, а губы тронула улыбка.
– Это будет последняя и не самая трудная услуга, которую я, сестра, прошу тебя в точности исполнить.
По возвращении в Иерусалим у Ирода поднялся жар и наступило беспамятство. Врачи, посовещавшись, решили пустить ему кровь. После кровопускания к Ироду вернулось сознание и появился даже аппетит. Он попросил яблоко и нож, чтобы очистить его от кожуры. Неизвестно, что померещилось случившемуся рядом с Иродом племяннику, но он вдруг бросился к дяде и вырвал из его рук нож. Поднялся такой крик, точно бы Ирод вознамерился свести счеты с жизнью с помощью фруктового ножа. Крик этот достиг подвала, где томился закованный в цепи старший сын Ирода. Недавний наследник престола, он стал упрашивать стражников освободить его от оков и дать возможность бежать, суля за это каждому золотые горы. Бдительный начальник караула приказал страже зорче следить за арестантом, а сам поднялся в царские покои и доложил о случившемся. Ирод, несмотря на свое состояние, пришел в ярость и приказал телохранителям немедленно спуститься в подвал и заколоть сына копьями. Когда его приказ был выполнен, Ирод распорядился отвезти тело сына в Гирканион и похоронить там без всяких почестей. После этого он потребовал перо и бумагу и составил новое завещание.
А вечером того же дня к нему прибыли волхвы из Персии, Месопотамии и Аравии. Пав ниц, они спросили:
– Где родившийся царь Иудеи? Ибо мы видели его звезду на востоке и пришли поклониться ему.
И вопрос волхвов, и их пышные цветастые одежды, придававшие им вид скорее шутов, чем мудрецов, которым ведомы самые сокровенные тайны астрологии, – позабавили Ирода. «Занятно, – подумал он, – все словно бы сговорились дать Иудее нового царя, еще не предав земле меня, единственного ее законного властителя».
– Где родившийся царь Иудеи? – переспросил он. – И вы не поленились отправиться в столь дальнюю поездку с единственной целью поклониться ему?
– Истинно так, – ответил самый старший по возрасту из волхвов. – И принесли царственному младенцу, как завещал нам пророк наш Заратуштра, дары: золото, ладан и смирну.
Ирод хотел было высмеять ничтожность даров, которые волхвы собирались вручить новоявленному царю Иудеи, но почувствовал вдруг смертельную усталость и безразличие ко всему происходящему. Слабым движением руки он отпустил волхвов, сказав им на прощанье:
– Следуйте за своей звездой, а когда найдете царя, известите меня, чтобы и я мог пойти поклониться ему.
Через пять дней после убийства сына, написания нового завещания и визита волхвов Ирод скончался. Перед смертью он, хрипя от удушья, проклял всех евреев, ненавидевших его, всех врагов своих и все будущие поколения людей, которым выпадет жить и радоваться жизни, тогда как он будет лишен этой возможности.
Со времени, когда Ирод достиг высшей власти, минуло тридцать четыре года, а со времени назначения его римским сенатом царем Иудеи – тридцать семь лет. Случилось это в самом конце 3757 года от сотворения мира. До начала новой эры, когда стало сбываться проклятие Ирода, оставалось три года. Проклятие Ирода постепенно охватывало все большее и большее число людей, пока, наконец, к наступлению III тысячелетия не поразило все человечество во всех концах света, не оставив ему ни малейших шансов на спасение.
Часть первая ВОИН
Когда подойдешь к городу, чтобы завоевать его, предложи ему мир. Если он согласится на мир с тобою и отворит тебе ворота, то весь народ, который найдется в нем, будет платить тебе дань и служить тебе. Если же он не согласится на мир с тобою и будет вести с тобою войну, то осади его, и когда Господь, Бог твой, предаст его в руки твои, порази в нем весь мужеский пол острием меча; только жен и детей и скот и все, что в городе, всю добычу его возьми себе, и пользуйся добычею врагов твоих, которых предал тебе Господь, Бог твой. Так поступай со всеми городами, которые от тебя весьма далеко, которые не из числа городов народов сих. А в городах сих народов, которых Господь, Бог твой, дает тебе во владение, не оставляй в живых ни одной души…
Втор. 20:10–16Глава первая СУД
1
Молодого Ирода вызвали в суд. Обвинение, выдвинутое против него, гласило: превышение полномочий, предоставленных ему как областеначальнику, выразившееся в казни галилеянина Езекии и ста двадцати семи его товарищей.
Письмо, скрепленное печатью первосвященника Гиркана, было доставлено Ироду в самый разгар пиршества, устроенного по случаю его свадьбы с девицей Дорис – флегматичной пышногрудой танцовщицей, словно бы самой природой предназначенной для брачных утех. Ирод, бегло прочитав письмо, ничего из него не понял и протянул его Сексту – дальнему родственнику Гая Юлия Цезаря и наместнику Рима в Сирии. Тот тоже ничего не понял, поскольку был пьян, вернул письмо Ироду и сказал:
– Наплюй. Если хочешь, возьмем две-три когорты и завтра же отправимся бить морду Гиркану. А сегодня гуляй. Посмотри на свою невесту: она ждет не дождется, когда ты затащишь ее в постель.
Ироду и самому хотелось поскорей оказаться в объятиях Дорис. Она пленила его сразу же, как только он увидел ее три месяца назад на пиру у того же Секста. Любитель вкусно поесть и выпить, наместник Сирии частенько устраивал пиры по любому поводу и без повода, благо расходы на их организацию и проведение несли местные толстосумы, искавшие его расположения. На это раз, однако, Секст устроил пир на собственный счет. И на то была веская причина. Дело в том, что он давно и безуспешно пытался покончить с шайкой разбойников, совершавших набеги на подвластную ему территорию. Грабежам и убийствам, казалось, не будет конца, как не будет конца жалобам сирийцев на дерзких соседей. Но что мог поделать Секст, если разбойники исчезали прежде, чем он успевал снарядить для их поимки отряды тяжеловооруженной пехоты? Год назад первосвященник Гиркан, формально считавшийся царем Иудеи, назначил областеначальником Галилеи Ирода. Сделал он это не по собственной воле, а по требованию отца Ирода Антипатра, который, в свою очередь, был назначен прокуратором Иудеи самим Юлием Цезарем (одновременно с Иродом Гиркан назначил начальником Иерусалима и его окрестностей старшего сына Антипатра – Фасаила). Секст пожаловался молодому областеначальнику на разбойников, безнаказанно грабивших и убивавших вверенных его попечению жителей южной Сирии. Ирод, горя желанием проявить доблесть не столько перед Секстом, сколько перед его могущественным родственником и покровителем своего отца, тотчас взялся за дело. И справился с ним с удивившей его самого легкостью. Вместо того, чтобы объединить собственные силы с силами римлян и провести крупномасштабную военную операцию, как предлагал Секст, он за умеренную плату нанял шпионов, которые выдали ему все места в труднодоступных горах Галилеи, где скрывались разбойники и прятали награбленное у соседей добро. Ирод устроил в этих местах засады, и после очередного набега разбойников на приграничную с Галилеей территорию Сирии выловил всех их до последнего и доставил в Кану, откуда большинство их было родом. Поимка преступников произошла с такой молниеносной быстротой, что никто из разбойников ничего не понял и решил, что случилось недоразумение, которое, впрочем, будет скоро поправлено. Атаман Езекия, закованный в цепи, пытался даже шутить и подбодрить приунывших товарищей: мол, ничего страшного не случилось, ведь мы у себя на родине, а не в Сирии, сейчас нас слегка пожурят и распустят по домам.
– Разве не так, начальник? – обратился он к Ироду. – Ну, побаловались мы малость, ну, попотрошили соседей, которым некуда девать свое добро, что же нас теперь, в тюрьму сажать за это? Да и нет у тебя тюрем на всех на нас!
Езекия был прав. Тюрем в Галилее действительно не было. Где прикажете разместить такую ораву молодых сильных мужчин, которых, между прочим, надо еще охранять, чтобы они не разбежались, кормить, лечить, если они заболеют, вообще решать множество каждодневных больших и малых вопросов, в которых молодой областеначальник не разбирался? Ирод вспомнил своего кумира Александра Македонского, на которого с детства стремился походить. Как этому великому полководцу удалось развязать мудреный узел царя Фригии Гордия, на боевой колеснице которого ярмо было связано с дышлом? Одним ударом меча. И Ирод приказал казнить всю шайку разбойников во главе с их атаманом. Сирийцы были безмерно благодарны Ироду за то, что он избавил их наконец от разбоев, шумно славили его имя в селах и городах, а благодарный Секст пригласил Ирода в Дамаск, где и устроил в его честь пир. Там-то, на пиру, Ирод увидел Дорис, которая своим чувственным танцем возбудила в нем страсть. По тому, как заблестели глаза Ирода, Секст догадался, какие чувства пробудила в нем флегматичная танцовщица, полуобнаженное тело которой словно бы говорило: возьмите меня, делайте со мной что угодно, плоть моя истомилась по мужчине.
– Понравилась? – спросил Секст.
– Очень, – с мальчишеской откровенностью признался Ирод.
– Бери, она твоя, – рассмеявшись, сказал Секст.
– То есть, как это – моя? – не понял Ирод.
– Твоя добыча, – пояснил Секст. Щелкнув пальцами, подозвал слугу-евнуха, надзиравшему за танцовщицами, и распорядился: – Приготовь постель для нашего героя и Дорис. Да позаботься, чтобы моему другу ничто не помешало.
Наутро Ирод заявил Сексту, что женится на Дорис.
– С какой стати? – удивился Секст. – Таких танцовщиц, как она, у тебя будут тысячи. Ты что же, всех их возьмешь в жены?
– Я хочу жениться на Дорис, – упрямо повторил Ирод.
– Что ж, – пожал плечами Секст, – желание гостя для меня закон. Можем сыграть свадьбу прямо сейчас.
– Нет, – сказал Ирод, – свадьба будет не по вашему, а по нашему обычаю – с помолвкой, подарками и согласием родителей Дорис выдать свою дочь за меня замуж.
На том и порешили. И вот, в самый разгар свадьбы, когда многочисленные гости были уже сыты и пьяны, а весь вид томящейся под покрывалом Дорис, сидевшей в окружении подруг, вызывал у Ирода желание поскорей уединиться с нею в брачном чертоге, прибывший из Иерусалима курьер вручил ему письмо Гиркана с требованием явиться в суд.
2
Еще раз перечитав письмо, Ирод почувствовал, как в нем закипает гнев. Выйдя из-за стола, он вывел посланника первосвященника из атрия, где продолжалось шумное веселье, в окруденный крытой колоннадой двор с бассейном посредине, где их никто не мог подслушать, и потребовал у него подробного рассказа о событиях, произошедших за время его отсутствия в Иерусалиме. Курьер помялся, ссылаясь на то, что его дело лишь вручить письмо адресату и тотчас вернуться назад, и тогда Ирод снял с пальца золотой перстень с огромной жемчужиной и надел его на палец курьера.
– Вот верное средство, которое поможет тебе стать разговорчивей.
Посланник первосвященника оглядел в свете факелов перстень, стоивший столько, сколько ему не заработать за целую жизнь, и поведал Ироду о том, что было известно не одному ему, а всей столице. Ирод слушал посланника первосвященника, не перебивая. Из его рассказа он узнал, что в Иерусалиме за последний год образовалась партия, которая была решительно настроена против его отца Антипатра и брата Фасаила, а более всего против него, Ирода. Члены этой партии, составленной из знатных иудеев, занимающих важные общественные и государственные должности, от глухого ропота перешли к открытым обвинениям Антипатра и его сыновей в процезарских настроениях и дружбе с римлянами вместо того, чтобы блюсти интересы иудеев. «Доколе ты будешь спокойно взирать на все происходящее? – говорили они Гиркану. – Или ты не видишь, что Антипатр и его сыновья разделили между собой всю власть в стране, тогда как ты лишь называешься царем? Не закрывай же на это глаз и не считай себя в безопасности, относясь столь легкомысленно к себе и своей царской власти». Гиркан, на которого самая мысль о необходимости доказывать кому бы то ни было свои права на власть, навевала тоску, вяло возражал: «Ну какой я царь? Я всего лишь первосвященник, а Антипатр и его сыновья мои заместители, на которых возложена обязанность по поддержанию порядка в стране. Не дело первосвященника вмешиваться в мирские дела, которые и без меня есть кому решать». Слова эти, однако, никого ни в чем не убедили. Гиркану со всех сторон продолжали нашептывать: «Не тешь себя иллюзией, будто Антипатр и его сыновья всего лишь твои заместители, но обрати внимание на то, что они становятся и уже фактически стали полновластными правителями страны. Почему ты миришься с тем, что Ирод нарушил закон, казнив Езекию и его товарищей? Разве тебе неведомо, что законы наших предков запрещают казнить людей без приговора суда? Разве до твоего слуха не доносятся вопли матерей невинно убиенных, которые каждый Божий день собираются в Храме и вместе со всем народом требуют предания Ирода справедливому суду?» Поведав обо всем об этом, курьер, еще раз оглядев дорогой перстень, добавил:
– Гиркан любит тебя, как собственного сына, и сам открыто говорит об этом. Но согласись, Ирод, он не может без конца делать вид, что обвинения, выдвигаемые против тебя, твоего отца и брата, его не касаются, и потому он решил вызвать тебя в суд. Первосвященник верит, что ты сумеешь защитить себя.
– У тебя всё? – спросил Ирод.
– Нет, – ответил посланник первосвященника. – У меня есть еще одно письмо для тебя, которое я не решился вручить при всех.
– Что за письмо?
– От твоего отца.
Курьер вынул из складок плаща короткий свиток, стянутый шелковым шнурком и запечатанный печатью Антипатра. Ирод сорвал печать, подошел к факелу, закрепленному на одной из колонн двора, и прочитал то, что написал ему отец. Собственно, это было не письмо, а короткая записка, в которой Антипатр советовал сыну явиться в Иерусалим не как частное лицо, а как правитель Галилеи, и не одному, а в сопровождении отряда телохранителей, которые в случае неблагоприятного хода расследования смогут защитить его. В это самое время во двор вошел Секст.
– Эй, жених! – позвал он. – Ты что это прячешься от заждавшейся тебя невесты? Или решил, прежде чем уединиться с нею в спальне, искупаться в бассейне?
Секст был пьян. Направляясь к Ироду, он сам чуть было не свалился в бассейн. Ирод подхватил его.
– Да что ты возишься с этим дурацким письмом? – заплетающимся языком продолжал Секст, повисая на плече друга и тыча пальцем в свиток в его руке. – Давай разорвем его, почтальона утопим, а Гиркану набьем морду. И все будет шито-крыто: никто ничего не получал, никто ничего не знает, а Гиркана мы побили просто потому, что нам так захотелось. Давай, а?
– Утром поговорим, – сказал Ирод, поддерживая валящегося с ног Секста. – А ты, – обратился он к курьеру, – отправляйся на кухню, поешь и возвращайся в Иерусалим. Передай Гиркану, что послезавтра я явлюсь на суд. Ступай.
Наутро между Иродом и мающимся с похмелья Секстом состоялся конфиденциальный разговор.
– Ну и надрался я вчера, – пожаловался Секст. – Ни черта не помню. А ты выглядишь молодцом. Небось, заделал ночью своей женушке мальчонку? – Поморгал, что-то припоминая, спросил, показывая головой куда-то за спину: – Послушай, откуда взялась кровь на простыне, которую вывесили в атрии? Твоя Дорис вроде уже не девица?
Ирод молча показал другу ладонь левой руки со свежей раной. Сказал:
– Ты хоть помнишь, что я вчера получил от Гиркана письмо с вызовом в суд?
Взгляд Секста стал немного осмысленней.
– Считаешь, что нам придется с парочкой-троечкой когорт отправиться в Иерусалим и навести там порядок?
– Никакие когорты не нужны, – сказал Ирод. – Просто напиши Гиркану письмо.
– О чем?
– Реши сам. Все-таки меня собираются судить, а не поздравлять с женитьбой.
Секст на минуту задумался, потом улыбнулся и сказал:
– А что? Это идея. Напишу-ка я Гиркану, чтобы суд оправдал тебя, а в случае, если он не выполнит мою просьбу, пусть пеняет на себя. Такой содержание тебя устроит?
– Вполне. Только не тяни, отправь письмо сегодня же. А чтобы ты не счел, что зря перевел на меня чернила, получи в подарок это скромное подтверждение нашей с тобой дружбы. – С этим словами Ирод вручил Сексту увесистый кожаный мешочек.
– Сколько здесь? – деловито поинтересовался Секст, взвешивая мешочек на ладони.
– Больше, чем ты предполагаешь, и меньше, чем стоит наша дружба.
Секст, уже полностью протрезвев, протянул Ироду руку.
– Ты настоящий друг, – сказал он.
– А ты настоящий шошбеним [1], – сказал Ирод, пожимая Сексту руку.
3
Последовав совету отца, Ирод явился в Иерусалим в сопровождении конного отряда из двухсот наемных арабских всадников и полусотни телохранителей-германцев, не понимавших ни бельмеса в языках, на которых говорили иерусалимцы [2], но зато прекрасно знавших свое дело. Сирийцы, вступив в город, не слезая с коней заняли площадь перед воротами дома первосвященника, а Ирод в окружении рослых телохранителей вступил в просторный двор, где собрались судьи.
Появление невысокого щуплого Ирода в окружении рослых германцев повергло судей в шок. Ирод мысленно поблагодарил отца за совет сразу же нагнать страха на судей. Не смела пошевельнуться и стража, выстроившаяся по периметру двора. Даже заметно постаревший за минувший год Гиркан, восседающий в кресле первосвященника, и тот выглядел растерянным. Никто не решался взять слово первым. Лишь когда пауза стала непристойно долгой, со своего места поднялся старейшина Самея, слывущий мужем праведным и бесстрашным, и хорошо поставленным голосом, в котором преобладали басовые ноты, заговорил:
– Товарищи судьи и ты, царь! Ни я сам, ни кто другой из нас не припомним случая, когда бы обвиняемый явился перед нами в подобном виде. Всякий, кому до сих пор доводилось предстать перед судом, приходил сюда в смущении и робости, с распущенными волосами и в темном одеянии, стремясь вызвать в наших сердцах если не сострадание, то по крайней мере жалость. Между тем полюбуйтесь на нашего любезнейшего Ирода, обвиняемого в убийстве! Он облачен в пурпур, волосы его причесаны один к одному, и сам он выглядит так, как если бы собрался жениться, а не оправдаться перед нами в преступлении, совершенном по собственному произволу!..
Лишь теперь Ирод осознал, что явился в суд в свадебном наряде, не удосужившись переодеться в более приличествующую случаю одежду. На какое-то время он смутился, окинул беглым взглядом своих телохранителей, догадался по их непроницаемым лицам, что они не поняли ни слова из того, что сказал Самея, но готовы по первому его знаку ринуться на судей и в клочья изрубить их, и самообладание снова вернулось к нему.
– Я не спрашиваю нашего любезнейшего гостя, – продолжал Самея, играя голосом, – с какой целью он явился сюда не один, не со свидетелями защиты даже, которые могли бы объяснить мотивы его преступления, а в сопровождении воинов в доспехах и полном вооружении. Ответ, полагаю, очевиден: в задачу этих воинов входит перебить всех нас, если мы признаем его виновным, тем самым совершив насилие не только над нами, но и над правосудием. Впрочем, я не стану обвинять Ирода в стремлении озаботиться интересами собственной безопасности больше, чем соблюдением закона: ведь мы сами, равно как и ты, Гиркан, возбудили в нем подобную смелость.
Самея оглядел поочередно судей, выглядевших так, будто не они были судьями, а Ирод со своими воинами, и, перейдя к энергичному крещендо, закончил:
– Однако, товарищи судьи и ты, царь, знайте: Господь Бог всемогущ и Он не простит вам вашей слабости! Этот юноша, который стоит сейчас перед вами, некогда войдет в полную силу и покарает всех вас!
Как в воду глядел Самея: Ирод, став царем, на самом деле лишит жизни всех судей, не пощадив при этом и Гиркана. В живых он оставит одного лишь Самею. На вопрос глубокого старика, каким станет Самея в пору вступления Ирода в высшую государственную должность, по какой причине он унижает его, сохраняя ему жизнь, Ирод ответит:
– По одной-единственной, любезнейший Самея: чтобы ты до последних своих дней продолжал испытывать то унижение, какое испытал я, слушая твою речь в суде.
Впрочем, случится это много лет спустя. А тогда суд прервал свою работу вовсе не из-за выступления Самеи, которое вогнало всех, кроме Ирода и его телохранителей, в трепет, а куда как по более прозаичной причине. Не успел Самея вернуться на место, как в священнический двор бесшумной тенью скользнул секретарь первосвященника, что-то прошептал на ухо Гиркану и протянул ему свиток. Ироду достаточно было короткого взгляда на этот свиток, чтобы догадаться: наместник Рима в Сирии Секст умеет дорожить дружбой.
Гиркан, разломив печать, развернул свиток, прочитал его, затем свернул, почесал гусиным пером за ухом, снова развернул свиток, еще раз перечитал, опять свернул и, наконец, произнес:
– Господа судьи, я только что получил письмо от нашего общего друга Секста Цезаря. Вопросы, которые он ставит в своем письме, представляют собой неотложной важности государственную задачу. Решение этой задачи возложено на меня. По этой причине я вынужден против своей и вашей воли прервать заседание суда и перенести его на более поздний срок, о котором я извещу вас дополнительно. Благодарю всех за проделанную работу и прошу считать себя свободными.
Судьи с недоумением смотрели на первосвященника. Недоумение читалось и на лицах стражи, частоколом окружившей просторный двор. Невозмутимыми оставались так ничего и не понявшие телохранители молодого начальника Галилеи.
4
Ирод, покинув священнический двор, накоротке встретился с отцом и братом, сообщил им о своей женитьбе и в тот же день отправился в обратный путь. Прибыв в Дамаск, он был радушно встречен Секстом.
– С тебя причитается, – сказал наместник, приглашая Ирода разделить с ним трапезу.
– Разве мы не квиты? – спросил Ирод, с удовольствием вытягиваясь на ложе за столом и принимая из рук виночерпия серебряный кубок, наполненный густой бордовой жидкостью.
– О чем ты? – переспросил Секст и сам же ответил на свой вопрос: – А, о мелкой услуге, которую я оказал тебе, чтобы припугнуть Гиркана. Пустяки, забудь. Речь идет о более важном деле. – Поднимая кубок и приглашая Ирода присоединиться к нему, торжественно произнес: – Властью, данной мне сенатом Рима, и в ознаменование твоих выдающихся заслуг в деле полного разгрома банд разбойников, терроризировавших мирное население подвластной мне территории, я назначаю тебя наместником над Келесирией и Самарией [3]. Само собой разумеется, что это новое назначение не освобождает тебя от управления Галилеей. Уверен, что ты не разочаруешь меня. Выпьем!
Первое, что сделал Ирод, получивший нежданно-негаданно огромную власть и соответствующие полномочия, это собрал войско и двинулся с ним на Иерусалим, чтобы поквитаться со своими обидчиками-судьями. Он беспрепятственно прошел через всю страну с севера на юг, прежде чем у стен столицы его не остановили отец и старший брат. Никогда прежде Ирод не видел своего отца в такой ярости. Лицо его сделалось серым, взгляд потемнел, узкие ладони сжаты в кулаки, точно бы он силой удерживал себя от желания ударить сына. Ни слова не говоря, он откинул полог командирской палатки, охраняемой рослыми германцами, стремительно вошел в нее и только здесь дал волю гневу.
– Что означает этот маскарад? – спросил он сына.
Побледневший Фасаил, прячась за спину отца, жестами упрашивал брата ни в чем тому не перечить и выполнить все, что от него потребуется. Ирод, однако, ничего не понял и дерзко ответил отцу:
– Это не маскарад, а воины, с которыми я пришел сюда, чтобы покарать судей во главе с этим рохлей Гирканом, который оскорбил меня!
– Другими словами, ты вознамерился обагрить улицы Иерусалима кровью и рассчитываешь, что это самоуправство сойдет тебе с рук? – сорвался на крик Антипатр. – А ведомо ли тебе, что Гиркан для тебя, как для всех нас, прежде всего первосвященник, признанный Римом? Совешив насилие над первосвященником, ты тем самым бросишь вызов Риму и накличешь беду на ни в чем неповинных людей.
Ироду не понравился тон, каким говорит с ним, не просто областеначальником Галилеи, но еще и наместником Келесирии и Самарии, отец, как если бы перед ним находился вздорный мальчишка, не способный дать отчета в последствиях своих действий.
– Мне наплевать на то, кем считают Гиркана в Риме, – пылко заявил он. – Своим вызовом меня в судилище он нанес мне смертельную обиду и должен за это умереть!
Желваки на лице отца напряглись, кожа сделалась землистой.
– Прежде, чем ты убьешь Гиркана, – сквозь зубы произнес Антипатр, – тебе придется убить меня, наместника Иудеи, и своего брата Фасаила, поскольку на нем лежит ответственность за безопасность Иерусалима и его жителей.
Ирод прикусил губу. В своей злости на первосвященника и судей он совсем упустил из виду, что реальная власть в Иерусалиме принадлежит не Гиркану, а его старшему брату. Не худо было бы, прежде чем идти походом на столицу, известить о своем намерении поквитаться с судьями Фасаила. Между тем Антипатр продолжал:
– Не приличествует мужу забывать добро, которые ты получил в детстве в том числе от Гиркана, и помнить одно только зло. – Тон отца несколько смягчился. Он посмотрел в глаза Ироду. – Гиркану и без тебя приходится не сладко. Ведомо ли тебе, что как только в Иерусалиме узнали, что ты идешь на нас войной, самые знатные иудеи, окружающие Гиркана, стали упрекать его в малодушии за то, что он отпустил тебя? Знай, сын, что говорят о Гиркане и о тебе в столице: он, первосвященник, вместо того, чтобы заключить тебя в темницу, помог тебе бежать под крыло твоего дружка Секста Цезаря – такого же пьяницы и бабника, как ты сам. Ты хочешь, чтобы эти разговоры достигли ушей Рима и чтобы пострадал не только ты, которому безразлична собственная судьба, но и твой друг Секст, который печется о твоем будущем и желает тебе блага? Если ты хочешь именно этого, то ты близок к цели – веди свое войско в Иерусалим, ворота города открыты для тебя. Если тебе нужно другое, то тысячу раз обдумай последствия каждого своего шага и прими единственно правильное решение.
Ирод пал духом. Он сознавал правоту отца и не знал, что возразить ему.
– Ты политик, отец, – сказал он, – а я всего лишь солдат.
– Солдат, который рубит мечом направо и налево, не делая различия между правыми и виноватыми, – сказал Антипатр. – Доблесть солдата, сын, состоит в бесстрашии в бою и милосердии к слабым. Гиркан слаб и нерешителен. Он заслуживает не гнева, а сострадания. Но до тех пор, пока он остается первосвященником, ты обязан его почитать.
Ирод вконец приуныл.
– Что скажут обо мне люди, когда я поверну свое войско назад? – спросил он.
– Назовут тебя трусом, – жестко ответил Антипатр.
– Я не хочу, чтобы меня считали трусом! – воскликнул Ирод и стал мерить шагами тесную палатку. – Уж лучше мне погибнуть прямо сейчас от твоей или брата руки!
– Профессия, которую ты избрал себе, – сказал Антипатр, – предоставляет тебе эту возможность каждый Божий день. Будь благоразумен, сын, и не давай гневу руководить твоими поступками. Возвращайся с миром и кланяйся от нас с Фасаилом своей молодой жене. Кстати, кто она? Из знатной семьи или простолюдинка?
– Простолюдинка, – угрюмо ответил Ирод. – Но и мы, отец, не царских кровей и не можем похвастать знатностью своего происхождения.
– Это так, – согласился Антипатр. – Более того, мы не можем даже похвастать чистотой иудейского происхождения, из-за чего евреи не любят нас. Ну да политики и солдаты не нуждаются в народной любви. Им важно благополучие тех, чья судьба находится в их руках, а благополучие это зависит от их послушания. Вот и позаботься о том, чтобы народ слушал тебя и во всем повиновался.
Разговор был исчерпан, и Ироду следовало принять решение.
– Что посоветуешь мне ты, брат? – обратился он к Фасаилу.
Фасаил, молчавший все это время, ответил коротко:
– Ищи повсюду друзей, брат, а враги сами тебя найдут.
Прежде, чем расстаться, Антипатр сказал еще.
– Я не одобрил твоего решения казнить галилейских разбойников во главе с Езекией. Да ты и не поинтересовался моим мнением. Но я наслышан о том, как быстро удалось тебе всех их выловить. Ты-то сам хотя бы понял, благодаря чему ты добился такого легкого успеха?
– Нашел людей, которые указали мне места, где прячутся разбойники, – хмуро сказал Ирод.
– Вот! – подхватил Антипатр. – Нашел знающих людей. Мой тебе совет на будущее: прежде, чем что-то предпринять, обращайся за содействием к знающим людям. Их знание станет и твоим знанием, а это поможет тебе избежать многих ошибок. Хорошенько запомни это, сын!
После этого Антипатр и Фасаил вернулись в Иерусалим, а Ирод отдал приказ войску сворачивать лагерь и возвращаться восвояси.
Вскоре Дорис родила ему сына. В честь отца Ирод назвал своего первенца Антипатром.
Глава вторая ДНЕВНИК ИРОДА
1
Вопреки предсказанию отца, никто не назвал Ирода трусом. Скорее наоборот: его сочли отчаянной храбрости человеком, который не остановится ни перед чем, чтобы покарать своих обидчиков. «Молод и потому горяч, – говорили о нем. – Ну да со временем это пройдет». Разговоры эти явились следствием стараний не Антипатра или Фасаила, как можно было предположить, а первосвященника Гиркана, на глазах которого вырос Ирод и к кому он относился с поистине отцовской привязанностью.
Наделенный огромными административными полномочиями, Ирод не переставал думать о последнем разговоре с отцом под стенами Иерусалима. Он отдавал себе отчет в том, что своим возвышением он всецело обязан отцу. У того были свои соображения по поводу назначения Ирода областеначальником Галилеи. В чем именно состояли эти соображения и на что при этом он рассчитывал, отец никогда не говорил прямо. Отчасти эти соображения стали понятны Ироду после того, как отца возмутило намерение сына поквитаться с Гирканом и судьями за оскорбление, которое те нанесли ему. «Прежде, чем что-то предпринять, обращайся за содействием к знающим людям», – сказал тогда отец. Поклонник всего греческого, отец явно имел в виду не знаменитое сократовское «я знаю, что ничего не знаю». Скорее, он имел в виду другое – надпись в храме Апполона в Дельфах, куда возил своих сыновей, когда те были еще детьми: «Познай самого себя». В применении к людям, наделенным властью, это означало одно: чтобы познать себя, необходимо понять других, сделать их знание своим знанием. Отец так и сказал: лишь такое знание поможет избежать многих ошибок. А брат добавил: «Ищи повсюду друзей, а враги сами тебя найдут».
Мысли Ирода путались, он физически ощущал, как у него раскалывается голова, и чтобы отвлечься от этих мыслей, которые никак не хотели сложиться в ясную картину, он направил клокотавшую в нем энергию на учения, изматывая себя и своих солдат в искусстве владения мечом, стрельбе из лука, метании дротиков, проведении конных атак, штурме крепостных стен и прочим воинским премудростям. «Бескровные войны, – говорил он при этом, – лучшая гарантия побед в кровавых учениях».
Под властью Ирода оказались разные по происхождению и вероисповеданию люди: галилеяне и сирийцы, евреи и самаритяне, египтяне и греки, поселившиеся здесь еще во времена восточных походов Александра Македонского. Между ними вспыхивали бесконечные тяжбы, с которыми они шли к Ироду, требуя его суда. Самое слово судбыло неприятно Ироду, напоминая ему об унижении, какое испытал он, явившись по требованию Гиркана в Иерусалим. Да и тяжбы между представителями подвластных ему народов казались ему до такой степени вздорными, что он не желал вникать в их суть. И тут он скорее интуитивно, чем осознанно, принял единственно верное решение, которое вполне согласовывалось с требованием отца советоваться со знающими людьми и репликой брата о друзьях и врагах: он учредил коллегию судей, в которую включил старейшин от каждой общины. На эти коллегии он возложил обязанность разбираться в возникающих тяжбах, а приговоры, предварительно согласованные с представителями других общин, представлять ему на утверждение. Такие суды, в которые входило не менее семи старейшин, он учредил в каждом подчиненном ему городе, возложив на них ответственность по искоренению зла и наказанию виновных. Нововведение это, не противоречащее основным установлениям закона, принятого у иудеев, положило конец мелочным тяжбам, поскольку старейшины в поисках согласованных решений стали строже относиться к своим соплеменникам. Ирод же, утверждая эти приговоры, снискал себе авторитет как наместник, для которого нет более важной задачи, чем забота о сохранении на подвластных ему территориях мира и справедливости.
Вечера Ирод проводил у колыбели сына, как две капли воды похожего на Дорис – такого же флегматичного и пухлого. Ирода забавляли его складки-браслеты на запястьях и щиколотках, он водил по ним пальцем, малышу это нравилось и он гукал, как голубь по весне. Иногда Ироду хотелось, чтобы сын заревел в полный голос, стал сучить ножками, как это делают другие дети, требующие к себе внимания. Но маленький Антипатр продолжал гукать, улыбался отцу или смотрел на него долгим пристальным взглядом карих глаз, точно бы хотел хорошенько его запомнить. Во время кормления, когда Дорис брала сына на руки и выставляла наружу огромную грудь с набухшим темным соском, Антипатр жадно припадал к этому соску, долго, причмокивая, сосал его и, насытившись, откидывался на спину, срыгивая избытки молока, и безмятежно засыпал.
Энергия продолжала клокотать в Ироде, как вода в котле, забытом на огне нерадивой хозяйкой. Он успевал все, что планировал на день, и при этом у него оставалась масса времени на то, чтобы посещать с Секстом бои гладиаторов и травлю зверей, театр, где давали представления входящие в моду мимы и пантомимы, потешавшие публику фривольными шуточками и непристойными телодвижениями. Впрочем, эти любимые римлянами зрелища, находившие все больше почитателей среди подвластных Ироду племен, довольно быстро наскучили молодому наместнику. Настроение его стало портиться. В добавок ко всему Ирод потерял интерес к Дорис как к женщине; ложась с нею в постель и слыша ее сладострастные стоны в то время, как сама она оставалась неподвижной как кошка, пригревшаяся на солнцепеке, он чувствовал, что у него пропадает желание овладеть этой женщиной. Все чаще и чаще он ловил себя на мысли, что жена его лишь разыгрывает страсть, оставаясь в сущности безразличной ко всему, что делает с ее телом Ирод. Это вызывало в нем раздражение, вылившееся в конце концов в то, что он устроил себе отдельную спальню, куда и перебрался, установив у двери пост ночного караульного, чтобы его не отвлекали по мелочам. Тогда-то Ирод взялся писать дневник [4], рассчитывая на то, что дневник этот со временем прочитает его повзрослевший сын и из первых рук узнает историю своего отца и предков.
2
«Родом я идумеянин, – начал Ирод, – и восходит мой род к славному охотнику Исаву, прозванному из ненависти к нам иудеев Едомом» [5]. Далее Ирод писал, что своего идумейского происхождения не стыдились ни его отец Антипатр, ни кто другой из его предков [6]. Семейное предание гласило, что когда Иудея подпала под власть греко-македонян, предки Ирода встали на сторону Александра Македонского. Встали прежде всего потому, что великий полководец не делал различия между народами, а всех их считал одинаково равными и наделенными одинаковыми правами перед богами. Верность делу Александра Македонского со стороны предков Ирода простиралась так далеко, что они и детям своим внушили любовь ко всему греческому: религии, языку, искусству, организации быта. Они и имена своим сыновьям давали греческие: или Александр в честь самого Александра Македонского, или в честь его полководцев. Так прадед Ирода Антипа стал Антипатром, который и первенца своего, деда Ирода, назвал Антипатром, а уж дед в силу сложившейся семейной традиции дал свое имя отцу Ирода, также от рождения названный Антипой, а затем переименованный в Антипатра [7]. О прадеде Ирод мало что знал, если не считать легенд, в которых, как в любой другой легенде, правда была перемешана с вымыслом. Одно о нем можно было сказать определенно: прадед рано осиротел, скитался по миру в поисках лучшей доли, пока его не пригрел Иуда, сын Маттафии. С него-то, Иуды, и началось возвышение рода Ирода, который все считали простолюдинами даже тогда, когда Ирод стал царем Иудеи, а евреи вдобавок называли еще и инородцами, которых, как всех инородцев, проживающих в Иудее, презирали.
В то далекое время, с описания которого Ирод начал свой дневник, Иудея оказалась в двойном подчинении: на севере Сирии и на юге Египта. Чтобы выжить в этих непростых условиях, вожди Иудеи вынуждены была демонстрировать лояльное к ним отношение, предоставляя им в услужение самых знатных своих граждан от военачальников и до первосвященников. В зависимости от того, кто из двух могущественных соседей брал верх, Иудея платила дань то Птолемеям, правившим в Египте, то Селевкидам, правившим в Сирии, а то тем и другим одновременно. Время от времени между Египтом и Сирией вспыхивали войны, причем всякий раз случалось так, что симпатии влиятельных иудеев делились поровну, так что главными жертвами этих войн оказывались мирные евреи. Очередная война между Египтом и Сирией вспыхнула из-за Келесирии, в ходе которой прадед Ирода и осиротел. Царя Сирии Антиоха IV Епифана поддержал состоявший у него на службе иудейский военачальник Товий, царя Египта Птолемея VI – первосвященник Ония. Победа оказалась на стороне сирийских войск, которыми командовал Товий. Иудейский военачальник был смертельно обижен на Онию за то, что тот изгнал из Иерусалима его сыновей, и предложил Антиоху преследовать бегущего противника вплоть до полного его уничтожения. Антиоху предложение Товия понравилось. И на то были свои причины. Дело в том, что его отец, Антиох III, мечтал возродить распавшуюся державу Александра Македонского, для чего предпринял поход на Восток. Присоединив к Сирии Армению, Парфию и Бактрию, он прибавил к своему имени титул Великий, а поскольку всякое величие требует великих дел, Антиох III вступил на территорию Греции, решив присоединить к своей разросшейся державе и эту колыбель цивилизации. Однако появление сирийцев в Греции вызвало неудовольствие набиравшего силу Рима, и в битве при Магнесии, у подножия горы Сипил [8], римские войска разгромили армию Антиоха III. Спустя три года Антиох III умер, но прежде, чем сойти в тартар, этому надменному царю пришлось до дна испить горькую чашу поражения: на Сирию была наложена огромная контрибуция, а в качестве гарантии, что контрибуция эта будет выплачена, в Рим в качестве заложника был увезен младший сын Антиоха III, будущий царь Сирии Антиох IV Епифан. На сирийском троне покойного Антиоха III сменил его старший сын Селевк IV Епифан. Чтобы расплатиться с римлянами, он не нашел ничего проще, кроме как ограбить Иудею. Грабить пришлось долго – без малого пятнадцать лет, прежде чем наложенная Римом на Сирию контрибуция была выплачена полностью. Урок пошел впрок вернувшемуся на родину Антиоху IV, занявшему трон после смерти старшего брата. Он оказался не меньшим поклонником всего греческого, чем его отец и старший брат, и не меньше них мечтал о возрождении державы Александра Македонского. Но, в отличие от отца и брата, он понимал, что очередная ссора с Римом может оказаться для его страны и его, как царя, последней, и решил возродить былую великую державу не военным путем, а мирным, введя на подвластной ему территории поклонение греческим богам. Обрюзгший к сорока годам, с глазами навыкате, которым он старался придать пронизывающе-мечтательный вид, Антиох IV всем своим видом и поведением стремился походить на Зевса. Он и одевался так, чтобы походить на Зевса, и шел на всякие ухищрения, чтобы люди, впервые встречавшиеся с ним, принимали его не за простого смертного, а за верховного бога, которому доступны любые перевоплощения. Особенно страдали от его ухищрений женщины. Да и какая женщина сумеет удовлетворить страсть мужчины, который предстает перед ней не в царских одеяниях, самих по себе неудобных для интимной близости, а в громоздких конструкциях, долженствующих преобразить его то в быка, то в лебедя, а то в струи золотого дождя. Конструкции эти гремели, не удерживались на заплывшем жиром теле Антиоха, он путался в них, злился и срывал свою злость на тех же женщинах, которые никак не могли уразуметь, что ими безуспешно пытается овладеть не мужчина, пусть даже царского звания, а всесильный верховный бог, на время спустившийся с Олимпа.
3
Как бы там ни было, а Антиох IV, вторгшись со своими войсками под командованием иудея Товия в Египет, решил включить захваченные ими земли в состав Сирии. Эти планы, однако, никоим образом не устроили царя Египта. Свергнутый Птолемей VI отправился с жалобой на самодурство сирийского царя в Рим, и Рим открыто дал понять незадачливому Зевсу, что ему куда как более подходит прозвище не Епифан, что в переводе с греческого означает «Просветленный», а Епиман, что в переводе с того же греческого означает «Сумасшедший». Антиох IV не стал испытывать судьбу, возвратил египетский трон его законному владельцу, а сам отправился в Сирию. По дороге домой он задержался в Иерусалиме в надежде, что если египтяне оказались столь глупы, что обратились за помощью к римлянам, то богобоязненные иудеи быстрее поймут и оценят его божественную суть. Объявив себя царем Иудеи, он распорядился конфисковать и уничтожить все списки Торы, под страхом смертной казни запретил евреям обрезание, соблюдение суббот и употребление кошерной пищи. В довершение всего он ввел в Иудее право первой брачной ночи, по которому каждая невеста, собирающаяся замуж, обязана была отдаться ему, царю-богу, а в его отсутствие назначенному им наместнику. Право это, по убеждению Антиоха, было освящено самим Зевсом, который отличался редкой плодовитостью. Благодаря этой плодовитости верховного бога человечество обрело множество славных существ. Так, от своей единокровной сестры и главной жены Геры Зевс имел четверых детей – Ареса, Гебу, Гефеста и Илифию, от Дионы – Афродиту, от Мнемосины – девять муз, от Лето – Аполлона и Артемиду, от Майи – Гермеса, от Семелы – Диониса, от Данаи – Персея, от Леды – виновницу Троянской войны Елену Прекрасную и Диоскуров, от Алкмены – Геракла, от Европы – Миноса… Да разве упомнишь всех богинь и смертных женщин, которых Зевс одарил бесчисленным потомством! Тем более должны были быть счастливы простые еврейки, которые, если им повезет и они забеременеют от Антиоха IV Епифана или доверенных его лиц, явят миру сонм новых славных героев и героинь!
Однако все эти начинания сумасшедшего царя почему-то не вызвали особого энтузиазма в среде евреев. Да и о каком энтузиазме можно было вести речь, если этот народ не желал верить в реальное существование Зевса, а поклонялся единственно одним евреям ведомому Предвечному, Который, по их представлениям, в одно и то же время был Невидим, Неизменяем и Беспределен? Ну что ж, если не верят, то их нужно заставить поверить в существование более могущественных богов, которые имеют уже то преимущество перед Богом евреев, что они Видимы. И Антиох решил перепосвятить Храм, посвященный Предвечному, в Храм Зевса Олимпийского. По этому торжественному поводу он облачился в просторные одежды, подбитые ватой (одежды эти должны были символизировать тучи, собирателем которых был Зевс), вооружился выкованной из золота молнией и собственноручно принес в Иерусалимском Храме в жертву самому себе не агнца или тельца, как это было принято у иудеев, а свинью.
Последняя выдумка Антиоха IV привела его самого в восторг. Особенно ему понравилось, что свинья, в отличие от других животных, безропотно отдающих жизнь во славу высшего божества, подняла такой истошный визг, что, казалось, продлись ее агония чуть дольше, стены Храма рухнули бы, подобно тому, как рухнули от звука труб стены Иерихона. В этом визге Антиоху послышалась невиданной красоты и громкости звучания музыка, которая, как ему представлялось, должна была доставить особое удовольствие слуху Зевса-громовержца, обожающего любой шум и грохот. Что бы и кто ни говорил об Антиохе и его чудачествах, на которые его фантазия была неисчерпаема, но он поистине был не Епифаном, а Епиманом!
Жертвоприношение свиньи, совершенное Антиохом IV в канун его возвращения домой, стало последней каплей, переполнившей чашу терпения евреев. Они взбунтовались. Чтобы усмирить народ, начальник сирийского гарнизона Бакхид, оставленный Антиохом надзирать за порядком в Иерусалиме и во всей Иудее, приказал хватать всех бунтарей без разбора, публично пытать их и казнить. Так продолжалось долгих восемь лет. И все эти годы улицы Иерусалима омывала кровь иудеев, которых свозили в столицу со всех концов страны и которые даже под самыми страшными пытками не желали изменить своей вере. Наконец, бунт народа перерос в открытое восстание. (Следует заметить, что все эти сведения оказались в дневнике Ирода потому, что он был выучеником греческой школы, в которой преподаванию истории уделялось особенное внимание. От природы любознательный, Ирод и в зрелые годы продолжал интересоваться древностью, в частности, историей своих предков, равно как историей Иудеи.)
4
В один из праздников, который иудеи, несмотря на все запреты сирийской власти, продолжали соблюдать, в Иерусалим пришел из деревушки Модии близ Лидды [9]престарелый священник Маттафия из рода Хасмонеев. Пришел не один, а в сопровождении пяти своих сыновей. Старик уже был на примете у сирийских чиновников за свой непокорный нрав и нежелание исполнять предписания Антиоха Епифана. Теперь Маттафия совершил еще более тяжкое преступление – на виду у всех заколол кинжалом начальника сирийского гарнизона Бакхида. Опасаясь преследований со стороны сирийцев, Маттафия с сыновьями Иоанном, Симоном, Иудой, Елеазаром и Ионафом бежал в Идумею. Сюда же стало стекаться множество иудеев со всей страны с женами и детьми, с оружием и без, так что Маттафия вскоре оказался во главе огромного войска, не способного ни на какие грамотные боевые действия, но зато горящего желанием постоять за веру своих отцов. Здесь, в горах Идумеи, средний сын Маттафии Иуда – отчаянный сорвиголова, пускавший оружие в ход прежде, чем его противник успевал что-либо сообразить, и пригрел смышленого девятилетнего мальчишку-сироту Антипатра, прадеда Ирода. Мальчишка, не имевший своего крова, жил тем, что ему подавали добрые люди, а когда ручеек подаяний иссякал, а есть все равно хотелось, он не чурался мелких краж. На воровстве-то он и попался, сперев на рыночной площади прямо с подноса торговца хлебом пышущую жаром лепешку. Разъяренный торговец чуть было не растерзал голодного оборванца. И растерзал бы, если б на выручку ему не подоспел Иуда. Он заплатил торговцу втрое больше, чем тот просил за свою лепешку, увел Антипатра к себе, где отмыл его, одел во все чистое и накормил. С тех пор мальчишка неотлучно следовал за своим спасителем, как нитка за иголкой. Иуда и сам привязался к мальчишке, который охотно выполнял его мелкие поручения. Когда же соратники Маттафии увидели однажды, что отбежавший в сторону помочиться Антипатр необрезанный, и потребовали у старика, чтобы тот изгнал его из своего лагеря, за мальчишку вступился Иуда.
– Никто не смеет указывать моему отцу, – сказал он, – кто может оставаться в нашем лагере, а кто нет. Если кому-то не нравится, что мой друг необрезанный, то сам может убираться на все четыре стороны.
Юный Антипатр расцвел. Сам Иуда защитил его перед иудеями и назвал своим другом! На радостях мальчишка стал дразнить своих обидчиков не высунутым языком, как это делали все его сверстники, а обнажал свой член и тряс им до тех пор, пока не получил однажды затрещину от своего покровителя.
– Припрячь-ка свое добро, – сказал Иуда, – оно тебе еще пригодится.
Время шло. Иудеи, предводительствуемые старым Маттафием, совершали вылазки с гор, чтобы сразиться с сирийскими воинами. Антипатр и тут был неразлучен с Иудой, без участия которого не обходилась ни одна схватка. Мальчишка видел, как бездарно гибнут иудеи, которым их вера не позволяла сражаться в субботу, и сказал об этом Иуде. Тот поговорил с отцом, и тогда Маттафия приказал иудеям биться с врагами во все дни недели, включая субботу. Иудеи возроптали.
– Похоже, ты начинаешь слушаться голоса не Всевышнего, – говорили они, – Который запрещает нам брать грех на душу, нарушая святой субботний покой, а необрезанного мальчишку, которому вообще не место среди нас.
– Глупцы! – сказал им на это Маттафия. – Если даже мальчишка заметил, что в субботу вы готовы скорее погибнуть, чем сразиться с врагом, то тем более сирийцы очень скоро поймут, что нас легче всего убивать именно по субботам. Или вы считаете себя умнее всех? Если вы так считаете, то запомните на будущее, которого вы сами себя лишаете: сирийцы вырежут всех нас, как овец к праздничной трапезе, прежде чем вы отстоите веру наших отцов.
Спустя год после начала восстания Маттафия умер. Перед смертью он собрал всех своих сыновей (маленький Антипатр, как всегда, увязался за Иудой) и обратился к ним со следующими словами:
– Я, дети мои, собираюсь в путь, всем нам предначертанный судьбой. Оставляю вам свои убеждения и прошу вас не изменять им, а быть добрыми их хранителями. Помните о всегдашнем стремлении вашего отца и воспитателя спасти от гибели издревле установленные законы наши и наши обычаи. Кто-то из иудеев добровольно, а кто-то по принуждению изменил им. Не входите в общение с такими. Помните: Господь Бог на стороне тех, кто любит Его и не изменяет Ему. Хотя тела наши бренны, но идеалы, ради которых мы взялись за оружие, бессмертны. Я желал бы, чтобы вы прониклись этим сознанием и не задумываясь готовы были бы положить жизни свои ради осуществления наших идеалов. На первом же плане увещеваю вас жить в согласии друг с другом и не завидовать друг другу, а слушаться тех из вас, чьи достоинства превышают ваши. Ты, Симон, наделен зорким умом, позволяющим тебе видеть дальше, чем видят наши глаза. Слушайтесь, дети мои, Симона и следуйте его советам. Тебя, Иуда, отличают храбрость и сила. Нарекаю тебя Маккавеем [10]и прошу всех вас сделать его начальником нашего войска: он отомстит за народ свой и отразит любого врага…
Горький детский плач прервал речь старика. Маттафия приподнялся на постели, увидел Антипатра, прячущегося за спиной Иуды, и поманил его пальцем.
– Вот, дети мои, – сказал он, кладя узкую сухую ладонь на голову мальчика, – пример истинной дружбы, которой я желал бы вам научиться у этого ребенка. Привлекайте к себе подобных ему, дружите со всеми праведными и благочестивыми, какой бы веры они ни были, укрепляйте свое могущество…
Это были последние слова священнослужителя. Похоронили Маттафию со всеми воинскими почестями на его родине, после чего по всей стране был объявлен семидневный траур. По окончании траура сыновья Маттафии вернулись в Идумею, где объявили народу волю покойного назначить Симона первосвященником, а Иуду Маккавея начальником над иудейским воиством.
5
С организации этого войска Маккавей и начал свою деятельность полководца. Прежде всего он распустил по домам всех старых и немощных вместе с женщинами и детьми. Способных носить оружие он выстроил фронтом и обратился к ним с краткой речью:
– Кто из вас построил себе новый дом, но еще не жил в нем, шаг вперед! Кто из вас посадил виноградник, но еще не ел от него плодов, шаг вперед! Кто из вас обручен с невестой, но еще не вступил в брак, шаг вперед! Кто из вас женился, но не прожил с женой одного года, шаг вперед!
Таких набралось немногим более восьмисот человек. Всем им Маккавей приказал вернуться в свои родные места. Затем обратился к оставшимся:
– Солдаты, спросите каждый из вас свое сердце, достаточно ли в нем ненависти к врагам, надругавшимся над нашими обычаями и верой наших отцов? Спросите каждый себя, готовы ли вы положить свои жизни во имя свободы нашего отечества? Солдаты, будьте честны перед собой и перед Предвечным и спросите себя, достаточно ли в каждом из вас мужества, чтобы не дрогнуть в бою и постоять не только за себя, но и за вашего товарища? Если кто-то из вас чувствует хоть малейший страх за свою жизнь, тот может возвратиться в свой дом со спокойной совестью, – он не услышит от меня ни слова упека. Но если кто-то из вас дрогнет в бою и побежит, заражая своим малодушием товарищей, тот погибнет от моего меча, – ни один трус не останется безнаказанным!
После этих слов набралось еще с десяток человек, которых Маккавей отпустил с миром, выдав им на дорогу хлеба и вина. Оставшееся войско численностью десять тысяч человек пехоты и три тысячи конников он разделил на десятки, сотни и тысячи, назначил им командиров и стал обучать их правилам ведения боя в пешем и конном строю. По завершении обучения Маккавей устроил маневры, результатами которых остался доволен. Сочтя, что пришло время показать свою выучку на деле, он снова собрал войско и обратился к нему с речью, слово в слово записанное Иродом в свой дневник:
– Никогда еще, товарищи, не было более критического для нас момента, чем теперь, когда от каждого из нас требуются все наше мужество и полнейшее равнодушие к опасностям. Ныне следует в храбром бою вернуть себе свободу, которая сама по себе представляется благом, потому что дает нам возможность не прекращать нашего Богопочитания. При таком положении дел нам следует сражаться так, чтобы добиться этой свободы и вместе с ней возможности жить счастливо и беззаботно. Если же вы будете сражаться трусливо, нам придется подвергнуться крайнему унижению, а всему нашему роду будет уготовано полное истребление. Имея же в виду, что всем нам рано или поздно предстоит умереть и помимо боя, и будучи уверены, что в борьбе за лучшие блага, за свободу и отечество, за законы и благочестие мы сможем стяжать себе вечную славу, мы должны собраться с духом, чтобы сойтись с врагом.
По сигналу трубы войско выступило в поход. Впереди с песнями шли легковооруженные воины, за ними следовала тяжеловооруженная пехота, замыкали шествие конница и обоз с продовольствием. С этим войском Иуда Маккавей одержал немало славных побед. Все три года освободительной войны, которую он вел, рядом с ним неотступно находился взрослевший Антипатр, ставший его оруженосцем. С врагами, оказавшимися в плену, Иуда расправлялся беспощадно: рубил им головы, перепиливал пилами, до смерти избивал молотильными цепами. Еще более жестоко поступал он с иудеями, оказавшимися предателями или перебежчиками. Таких он казнил целыми семьями: мужчин подвергал лютой казни, их беременных жен рассекал мечами, девушек отдавал на глумление солдатам, после чего сами же солдаты их и убивали, детей разбивал о каменные плиты. Такая свирепость вызвала обратную реакцию у мирного населения. В поисках безопасности они переселялись в Самарию, бежали в Аравию и Египет, присоединяясь к бежавшему туда ранее первосвященнику Ония, которому Птолемей разрешил возвести в городе Леонтополе Храм, подобный Храму Зоровавеля в Иерусалиме [11]. Несколько тысяч иудеев, не нашедших себе пристанища, записалось наемниками в армию Антиоха, а следом за ними в Сирию отправились еврейские купцы, намеревавшиеся выкупить оказавшихся в плену воинов Маккавея и затем с выгодой для себя продать их в рабство на невольничьих восточных рынках.
Маккавей, одерживая одну победу за другой и одинаково свирепо расправляясь как с внешними, так и внутренними врагами, направил свою армию в Иерусалим, где все еще хозяйничал сирийский гарнизон. Великий город, краса и гордость Иудеи, явил собой жалкое зрелище. Улицы казались вымершими. Больше половины домов сгорело. На Храм Зоровавеля, возведенный возвратившимися из вавилонского плена евреями на вершине горы Мориа, где Авраам чуть было не принес в жертву Предвечному своего сына Исаака, а столетия спустя Соломон возвел величественный Дом Господень, уничтоженный, впрочем, уже при его сыне Ровоаме и полностью сгоревшего при нашествии вавилонского царя Навуходоносора, – было больно смотреть: ворота были сорваны с петель и сожжены, стены и пол выпачканы пятнами крови, на крыше выросли деревца и кусты из занесенных туда ветром семян, Святое Святых разграблено. Казалось, сбылось реченное пятью веками ранее пророком Иеремией: «Отверг Господь жертвенник Свой, отвратил сердце Свое от святилища Своего, предал в руки врагов стены чертогов его; в доме Господнем они шумели, как в праздничный день. Господь определил разрушить стену дщери Сиона, протянул вервь, не отклонил руки Своей от разорения; истребил внешние укрепления, и стены вместе разрушены. Ворота ее вдались в землю; Он разрушил и сокрушил запоры их; царь ее и князья ее среди язычников; не стало закона, и пророки ее не сподобляются видений от Господа».
Иуда Маккавей отобрал триста своих лучших воинов и приказал им выбить сирийский гарнизон, запершийся в башне, возведенной Антиохом. Сам же он занялся очищением Храма. Разрушив жертвенник, посвященный Зевсу Олимпийскому, Иуда воздвиг на его месте новый алтарь из неотесанных камней, как то предписано законом, навесил новые ворота и снабдил Храм новой утварью. Семисвечный светильник, стол для хлебов предложения и алтарь он велел изготовить из золота, добытого в сражениях, а женщины тем временем расшили новые завесы на двери и Святое Святых. 24 числа месяца хаслев [12]все работы были завершены, и с утра 25 числа иудеи зажгли свечи на светильнике, совершили воскурения на алтаре, возложили на стол хлебы предложения и принесли на новом алтаре жертву всесожжения. По случаю обновления Храма и изгнания из Иерусалима последнего сирийского солдата Иуда объявил восьмидневный Праздник света, получивший у иудеев название Ханука. Все восемь дней иудеи радовались, как дети, ходили друг к другу в гости, обильно угощались и пели песни, славя Предвечного.
6
К исходу восьмого дня Иуда Маккавей обнаружил, что войсковая казна полностью опустела. Нечем было платить жалованье солдатам и не на что приобретать провиант. Положение вызвался исправить Антипатр, которому к этому времени шел тринадцатый год.
– Как ты собираешься это сделать? – поинтересовался Иуда.
– Знаем, не проболтаемся, – уклончиво ответил подросток.
– Мне нужно, чтобы ты как раз проболтался, – сказал Иуда и дал своему юному другу подзатыльник.
Антипатр отшатнулся. С некоторых пор ему перестала нравиться фамильярность Иуды. Ему представлялось, что настоящая мужская дружба должна походить на кентавра – сильного, верного, любителя шумных попоек и женщин. Отношения же, сложившиеся между ним и его кумиром, больше напоминали дружбу всадника с лошадью, причем всадником всегда почему-то оказывался Иуда, а он, Антипатр, лошадью, удел которой без устали возить на себе седока, куда бы тот ни направился. О попойках и, тем более, женщинах и говорить не приходилось: в нечастые часы, когда Иуда с командирами своего войска оттягивался, как он сам говорил, с наложницами, пируя за обильно уставленными яствами и напитками столами, Антипатру в лучшем случае разрешалось пригубить вино до такой степени разбавленное водой, что в нем нельзя было уловить даже его запаха, во всех же остальных случаях ему отводилась роль виночерпия.
– Впрочем, можешь не говорить, – сказал Иуда, принимаясь за какие-то свои очередные дела, которых у него всегда было невпроворот. – На свете нет ничего, что бы знал ты и чего не знал я.
– Думаешь, ты самый умный, да?
Тон, каким был задан вопрос, насторожил Иуду. Мальчишка явно что-то от него утаивал.
– Самый умный в нашем роду Симон, – сказал он, пытливо глядя в глаза Антипатра. – Но и я не дурак.
– Ты жестокий, – с вызовом произнес подросток. – Ты не щадишь даже детей, которые не сделали тебе ничего плохого.
Это было что-то новое! Мальчишка явно повзрослел и позволяет себе в разговоре с Иудой, прозванному за свою решительность и прямоту Молотом, такое, за что любой другой на его месте мог лишиться головы.
– Я поступаю так, как велит поступать мне Предвечный, – с плохо скрываемым раздражением произнес Иуда. – Да будет тебе известно, что точно так же, как поступаю со своими врагами я, поступал с врагами Израиля царь Давид.
– За то твой Предвечный и запретил Давиду построить в Иерусалиме Храм, – сказал Антипатр. – Если ты забыл, я напомню, чтó сказал Предвечный Давиду: «Ты пролил много крови и вел большие войны; ты не должен строить дóма имени Моему, потому что пролил много крови на землю пред лицем Моим».
Слова эти до такой степени удивили Иуду, что у него не нашлось сил даже рассердиться на дерзкого мальчишку.
– Ты успеваешь читать наши священные книги? – спросил он.
– Я много чего успеваю, – ответил Антипатр.
– Присядь-ка, – приказал Иуда подростку, показав головой на место за столом. – Хочешь вина?
– Я уже напился воды, – пробубнил Антипатр, но за стол сел.
– Расскажи, где и как ты собираешься добыть деньги, – сказал Иуда. – Надеюсь, ты не собираешься их украсть?
Злость Антипатра исчезла. Он снова обожал своего старшего друга. И чистосердечно поделился своим планом.
Оказывается, в то время, когда иудеи весело отмечали праздник Хануку, в Иерусалим прибыл посланец нового царя Египта – Птолемея VIII [13]– некий Афинион, молодой человек лет двадцати. Иуда Маккавей, отложив на время праздника все дела, бражничал со своими командирами и наложницами, и когда ему доложили, что его хочет видеть приближенный фараона, он лишь отмахнулся: дескать, не сейчас, пусть придет через неделю. Между тем дело Афиниона не терпело отлагательства. Ему было велено передать Маккавеям крайнее недовольство Птолемея тем, что Иудея вот уже третий год не платит Египту налоги. С этим Птолемей VIII, остро нуждающийся в деньгах, мог еще мириться, пока Иудея воевала с Сирией, но сейчас, когда враг изгнан из пределов страны, выплату налогов следует возобновить.
Иуда помрачнел.
– Не забывай, что отец мой Маттафия, – сказал он, – поднял народ на восстание не для того, чтобы Иудея, избавившись от зависимости от Сирии, оказалась в подчинении у Египта.
– Я помню об этом, – сказал Антипатр. – Но я помню и о том, что Иудея небольшая страна, окруженная со всех сторон хищниками, готовыми ее сожрать. Чтобы выжить в этих условиях, Иудее нужны союзники, а не враги. Сирия долго еще не станет нашим союзником, если вообще когда-нибудь станет. А вот Египет может и должен быть нашим союзником.
– И ты предлагаешь… – начал было Иуда, но Антипатр перебил его.
– Я предлагаю возобновить выплату дани Египту, – сказал он.
– Как ты себе это представляешь? – насмешливо спросил Иуда. – Или ты думаешь, что все иудеи сидят на мешках с золотом?
– Нет, я так не думаю, – ответил Антипатр. – Но я думаю, что какую-то небольшую часть своих доходов иудеи смогут платить Египту в виде дани.
Из дальнейшего рассказа Антипатра Иуда узнал, что мальчишка в качестве доверенного лица Маккавеев принял Афиниона, всюду водил его, показывая египетскому посланнику раны, нанесенные Иерусалиму войной, входил с ним в дома богатых иудеев, многие из которых узнавали Афиниона и щедро угощали его. Ушлый Антипатр внушил посланнику царя Египта, что Иерусалим веселится не потому, что ему возвращен его Храм, а радуется приезду Афиниона, которого все иерусалимцы обожают как самого близкого и дорогого их сердцу человека. Точно так же и пиры с возлияниями немереного количества вина, песнями и плясками, вот уже какой день не прекращающиеся в каждом уцелевшем от пожаров доме, устраиваются не в честь нового праздника Хануки, о котором Афинион понятия не имел, а в честь именитого египетского гостя, причем устраиваются по личному указанию Иуды Маккавея и на его, Иуды, деньги. Между прочим, это богатые иудеи, когда речь заходила о возобновлении выплаты налогов Египту, предложили Афиниону передать Птолемею, чтобы тот созвал их, самых состоятельных граждан Иудеи, в Александрии, и устроил между ними торги на откуп налогов, а уж они позаботятся, чтобы налоги эти исправно поступали в царскую казну. Предложение богатых иудеев Афиниону понравилось, и когда они с Антипатром, оба пьяные, вышли из очередного дома, где вволю погуляли и повеселись, поинтересовался у юного представителя Маккавеев:
– А ты не хочешь поучаствовать в торгах на право откупа налогов?
– Я только об этом и мечтаю, – соврал Антипатр, который в эту минуту мечтал совсем о другом: как бы незаметно улизнуть от египетского гостя, найти укромный уголок и, засунув в рот пальцы, освободиться от мучившей его тошноты.
– Приезжай и ты в Александрию, я замолвлю за тебя перед царем словечко.
На следующий день, отправляясь на пир к очередному богатому иудею, который накануне сам пригласил их в гости, Афинион спросил Антипатра:
– Ты не забыл о своем вчерашнем обещании приехать в Александрию на торги? Ты будешь моим личным гостем и, клянусь Исидой и Осирисом [14], я приму тебя в моем городе не хуже, чем принимаешь меня в Иерусалиме ты.
7
Иуда Маккавей внимательно выслушал рассказ Антипатра. В рассуждениях мальчишки содержалась похвальная для его возраста рациональность. Нет, не даром Предвечный говорит о Своей силе и мощи устами младенцев и грудных детей: «Из уст младенцев и грудных детей Ты устроил хвалу, ради врагов Твоих, дабы сделать безмолвным врага и мстителя». Предложение Антипатра обрести союзников с тем, чтобы сделать Иудею сильнее, заслуживало всяческой поддержки. И Иуда в скором времени осуществил этот план, вступив в союз не с одним только своим ненадежным соседом Египтом, но и с Римом, могущество которого росло как на дрожжах. Текст этого первого союзнического договора, заключенного между Иудеей и Римом, хранился в архиве Ирода, и он полностью воспроизвел его в своем дневнике:
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЕНАТА ПО ПОВОДУ ОБОРОНИТЕЛЬНОГО
И НАСТУПАТЕЛЬНОГО СОЮЗА С НАРОДОМ ИУДЕЙСКИМ
Никто из римских подданных не должен воевать с народом иудейским, равно как не доставлять тому, кто вступил бы в такую войну, ни хлеба, ни судов, ни денег. В случае, если кто-либо нападет на иудеев, римляне обязаны по мере сил помогать им, и наоборот, если кто нападет на римские владения, иудеи обязаны сражаться в союзе с римлянами. Буде же народ иудейский пожелает прибавить к этому договору что-либо или убавить, то это должно быть сделано с согласия всего римского народа; лишь в таком случае все дополнения считаются обязательными.
Что же касалось предложения Антипатра заработать на налогах, выплачиваемых Египту, то оно больше смахивало на авантюру. Но и им не следовало пренебречь, и Иуда дал согласие на поездку своего юного друга в Александрию.
Антипатр прибыл в Египет позже состоятельных иудеев. Окончание войны с Сирией они рассматривали как повод для быстрого личного обогащения. Соревнуясь друг с другом, они посредством щедрых даров Птолемею и взяток его министрам стремились выторговать себе право приобретения откупа налогов в Иудее. В Александрии, однако, Антипатр никого из этих опередивших его иудеев не застал, – все они сразу отправились в Мемфис, где в это время находился царь со своей юной женой и двором по случаю празднеств в честь покровителя фараонов великого бога Гора [15]. Как ни спешил Антипатр, но прибыл он в Мемфис с трехдневным опозданием, когда празднества уже завершились. Знакомые Антипатру иудеи, увидев подростка в более чем скромном одеянии, посмеялись над ним.
– Что ты привез в подарок богу-царю? – поинтересовался один из них.
– А что подарили вы? – в свою очередь спросил Антипатр.
– Кто что, – ответил за всех Иасон – самый богатый купец если не во всей Иудее, то уж наверняка в Иерусалиме. – Бидекар, например, подарил царю и его молодой супруге десять талантов [16]золота, столько же подарил Илий, Зимфри расщедрился аж на пятнадцать талантов золота, ну а я, человек богобоязненный и радеющий о спасении нашего народа, не пожалел и пятидесяти талантов. Могу дать руку на отсечение, что ты, как человек, особенно близкий доблестному Иуде Маккавею, привез в подарок богу-царю и его молодой супруге никак не меньше ста талантов.
– Больше, – по своему обыкновению соврал Антипатр. – Но все эти деньги я уже раздарил министрам Птолемея.
Слова эти богатые земляки Антипы встретили дружным смехом. Как раз в это время на площади, где встретились иудеи с Антипатром, появилась царская колесница. Все, кто ни был на площади, пали ниц. Афинион, находившийся в колеснице рядом с царем и его юной женой, увидел стоящего разинув рот Антипатра и что-то сказал Птолемею. Тот коснулся жезлом спины возницы, колесница остановилась, и спрыгнувший с нее Афинион, подбежав к Антипатру, радостно приветствовал его.
– Дорогой друг, – сказал он, – царь с царицей приглашают тебя в свою колесницу.
Антипатр не без злорадства заметил, как вытянулись лица его богатых земляков.
– Вот, о великие царь и царица, человек, о котором я рассказывал вам, – сказал Афинион, вспрыгивая с Антипатром в колесницу, и четверка резвых коней, повинуясь бичу возницы, понеслась дальше.
– Почему ты приехал так поздно? – спросил Птолемей, ласково глядя на Антипатра маленькими заплывшими глазками. – Празднества закончились и ты пропустил все самое интересное.
– По обычаю, существующему в моей стране, – ответил, не моргнув глазом, Антипатр, – прежде, чем предстать перед владыками Египта, я должен был принести жертву в твою, царь, и твоей прекрасной царицы, честь. Это единственная причина, которая задержала мой приезд.
– Прекрасный обычай и достойная извинения причина задержаться с приездом на празднества, – похвалил Птолемей. – Где ты остановился?
Антипатр растерялся, не зная, врать ли ему и дальше или положиться на волю случая.
– Пока нигде, – сказал он. – Я только что с дороги, не успел даже переодеться.
– Остановишься в моем дворце, – сказал Птолемей. – А ты, Афинион, позаботься о том, чтобы мой гость ни в чем не знал нужды.
– Слушаюсь, – ответил Афинион и, хлопнув Антипатра по спине, подмигнул ему.
Вечером того же дня Птолемей устроил роскошный ужин в честь прибывших из Иудеи гостей. Афинион, занятый организацией ужина, на время оставил Антипатра одного. Богатые иудеи заняли все самые почетные места рядом с царем и царицей, а Антипатра оттеснили на самый дальний край стола. Во время ужина они, объедая мясо, сбрасывали кости в блюдо перед Антипатром, у которого от волнения пропал аппетит. Антипатр не успел оглянуться, как перед ним выросла гора костей. Шут Птолемея, веселивший гостей, с удивлением посмотрел на эту гору, потом подскочил к царской чете и заорал во все горло:
– Взгляните, о царь и царица, на эти кости! Совершенно так же, как Антипатр обглодал мясо с этих костей, Иуда Маккавей обглодал Сирию и теперь примется за нас!
За столом грянул хохот. Смеялись и Птолемей с царицей.
– У тебя завидный аппетит, – заметил Птолемей Антипатру. – Не в пример другим иудеям, сидящим за этим столом.
– Он не иудей, Антипатр идумеянин! – продолжая хохотать, кричали иудеи. – Все идумеяне такие: если уж вцепятся кому в горло, то не отцепятся до тех пор, пока не обгладают до последней косточки!
Дождавшись, когда смех за столом стихнет, Антипатр сказал, обращаясь к Птолемею:
– Все верно, владыка, мы, идумеяне, такие. Потому что мы люди, а не собаки. Посмотри на тарелки этих иудеев. Ты не увидишь на них ни единой косточки. В отличие от нас, людей, они пожирают мясо вместе с костями.
Теперь за столом смеялись одни только царь и царица: иудеи с ненавистью смотрели на Антипатра, не зная, как срéзать его, чтобы не остаться в долгу.
Через два дня, заполненные знакомством с Мемфисом и пирами, которые Афинион устраивал в честь своего юного друга, состоялись торги на откуп налогов. Наилучшие шансы выиграть торги были у Иасона, который уже в течение двадцати лет контролировал сбор налогов с Иудеи, Самарии и Галилеи. Собственно, отчисления с этих налогов и сделали его баснословно богатым, а вовсе не торговля, которая шла у него с переменным успехом. Неплохие шансы были и у других иудеев. Лишь у Антипатра не было ни малейших шансов выиграть торги. Тем не менее Афинион подбадривал друга, уверяя, что Антипатр с его находчивостью обязательно станет держателем откупа. И вот, наконец, торги открылись. Все иудеи, прибывшие в Египет раньше Антипатра, чувствовали себя уверенно, и когда Птолемей обращался к ним, называли огромные суммы, которые вносились в качестве залога на право получения откупа. Когда очередь дошла до Антипатра, он не нашелся сказать ничего, кроме как то, что когда в Египет поступят первые налоги, собранные им в Иудее, любые суммы, которые называются сегодня, покажутся просто смехотворными. Птолемея удовлетворил такой ответ. Перешли к обсуждению кандидатур поручителей, которые станут гарантами победителя торгов. Иудеи не сомневались, что своим поручителем Антипатр назовет Иуду Маккавея, и потому сразу обратили внимание Птолемея на то, что жизнь даже прославленного полководца постоянно висит на волоске, а потому поручителем не может быть военный человек. Птолемей с таким доводом согласился.
– А каких поручителей назовете вы? – спросил он.
Иудеи наперебой стали называть своими поручителями людей хотя и менее известных, чем Маккавей, но достаточно богатых, чьи состояния послужат лучшей гарантией того, что царь и царица ни при каком неблагоприятном развитии событий в Иудее не останутся в накладе. Выслушав всех, Птолемей обратился к Антипатру:
– Назови и ты своих поручителей, наш юный друг. Надеюсь, твоими поручителями станут люди не менее достойные, чем те, имена которых мы только что услышали?
Антипатр поднялся. Глядя прямо в глаза Птолемею, сказал негромко, но внятно:
– Царь! Если я правильно понимаю смысл назначения поручителей, то это должны быть люди не просто богатые, готовые по первому твоему требованию пожертвовать всем своим состоянием, а такие, которым ты доверяешь больше, чем кому бы то ни было.
– Это так, – подтвердил Птолемей.
– У меня есть такие поручители, – сказал Антипатр.
В зале, где проходили торги, наступила тишина. Иудеи с интересом ожидали, что на этот раз выдумает мальчишка.
– Назови их! – потребовал Птолемей.
Антипатр оглядел иудеев, которые даже не пытались скрыть своего злорадства, и звонким мальчишеским голосом произнес:
– Моими поручителями я назову двух людей. Это ты, царь, и это твоя прекрасная супруга – каждый в равной половине долей. Других более достойных поручителей, которым можно всецело доверять, у меня нет.
От такой неслыханной дерзости юного наглеца брови участников торгов взлетели, как переполошившиеся птицы. Птолемей рассмеялся, как на ужине, когда Антипатр посрамил вздумавших подшутить над ним иудеев, и объявил его победителем торгов на откуп налогов без поручительства.
Глава третья КРОВАВОЕ УЧЕНИЕ
1
Вскоре после назначения Ирода наместником Келесирии и Самарии случилось событие, в корне переменившее всю его дальнейшую жизнь. В Антиохии [17]был убит его друг и шошбеним Секст Цезарь. Убит подло, задушен во время купания в бане. Самое же подлое состояло в том, что убийцами его стали свои же люди, римляне, которых возглавил некто Басс Цецилий, командующий войсками Секста, расквартированными в Сирии.
Ирод во главе полуторатысячного конного отряда тотчас отправился в Антиохию, чтобы покарать убийц друга. Однако добраться до Антиохии ему не удалось: по дороге его отряд был встречен римлянами и на голову разбит. Сам Ирод, несмотря на отчаянную храбрость, проявленную в бою, был тяжело ранен и, потеряв много крови, лишился сознания. Вероятно, эта первая военная акция стала бы для Ирода последней, если бы не кавалеристы Юкунд и Тиранн. Два великана, наделенные огромной физической силой, с риском для собственной жизни отбили Ирода у римлян и укрыли его в безопасном месте. С остатками отряда, едва насчитывавшего сотню всадников, они вернулись в Сепфорис [18], где находилась резиденция Ирода.
Вскоре сюда прибыли его отец и старший брат. Ирод был еще очень слаб. Его первый вопрос, обращенный к отцу, был:
– Что я сделал не так?
– Поговорим об этом позже, когда ты оправишься от ран, – ответил Антипатр. – А сейчас набирайся сил.
Ирод благодарно улыбнулся отцу, и сознание снова покинуло его.
Беспамятство продолжалось две долгие недели. А когда сознание снова вернулось к нему, он узнал, что отец и брат все это время находились рядом с ним в Сепфорисе, не предприняв никаких шагов по подавлению бунта в Сирии.
– Почему вы здесь? – удивился Ирод. – Разве смерть Секста, который назначил меня наместником Келесирии и Самарии, не требует мести его убийцам? В этом я вижу сегодня свой главный долг солдата.
– Твой главный долг сегодня, сын, – сказал Антипатр, – состоит не в мести, а в восстановлении законности и порядка. А для этого мало быть солдатом, надо быть еще и политиком. Улавливаешь, к чему я клоню?
– Нет, отец, не улавливаю. Разве ты был политиком, а не солдатом, когда поспешил на выручку Цезарю в Александрию?
– Солдатом, – подтвердил Антипатр и уточнил: – Солдатом, действиями которого руководил политик. Солдат и политик в одном лице – вот составляющие любой власти, даже если речь идет о власти наместника. Если ты этого не понимаешь, то всегда будешь оставаться марионеткой в руках других. А сейчас, когда к тебе снова вернулись силы, давай поедим – мы с Фасаилом страшно проголодались. За обедом я расскажу тебе о природе власти, чтобы впредь ты избегал ошибок, которые слишком часто совершают храбрые солдаты и плохие политики.
2
Когда стол был накрыт и первый голод утолен, Антипатр стал рассказывать. Начал он издалека. На чем основываются мир и покой в семье? На авторитете отца и на том, что он является добытчиком средств существования семьи. Одно не может существовать в отрыве от другого. Лиши дом авторитета отца – и семья развалится, даже если она ни в чем не будет знать нужды. Лиши дом средств существования – и семья опять же развалится, даже если ее глава будет пользоваться непререкаемым авторитетом. То же самое происходит с государствами. Последний царь Лидии Крез обладал несметными богатствами, каких не было ни у одного из известных истории царей. Но у него не было такой сильной армии, как у персидского царя Кира II, и Кир разгромил Креза, а его царство присоединил к Персии. Итак, сила и деньги – вот движущие силы истории. Но и они ничто, если человек, вынесенный на гребень власти, не ставит перед собой ясной цели, которую разделяет большинство его подданных. Если у человека, достигшего высшей власти, нет такой цели, он берет под личный контроль государственную казну, которая пополняется за счет поступления налогов или завоевательных походов, а армии запрещает вмешиваться в дела политики. Такие государства наименее устойчивы, и часто они рушатся или под ударами извне, или начинают гнить изнутри не без участия той же отстраненной от вмешательства в политику армии. Если же у человека, находящегося на вершине власти, есть цель, ему не нужны ни большие деньги, ни сильная армия, – ему и без этих составляющих основу любой власти поверят и за ним пойдут многие. Лучший тому пример – Александр Македонский. Это был первый в истории человек, который поставил перед собой цель слить в единую нацию все народы земли, для чего стал устраивать на завоеванных им землях массовые смешанные браки, показав в этом личный пример, женившись одновременно на бактрийской царевне Роксане и персианке Статире, дочери разбитого им Дария. А ведь он начал строить свою мировую державу с войском, насчитывающим всего 30 тысяч пехотинцев и 4 тысячи всадников! При этом в казне у него было лишь 70 талантов, долг в 200 талантов, а запасы продовольствия были рассчитаны всего на тридцать дней похода. Конечно, немаловажную роль в успехе задуманного им дела сыграла личная скромность Александра, который презирал богатство. Он не понимал и не хотел понять страсти к роскоши, обуявшей его главного противника Дария, армия которого насчитывала миллион человек. Страсть к роскоши – худший из пороков, который погубил не одного властителя, а вместе с ним и их государства. Этой страсти, к сожалению, оказались подвержены полководцы Македонского. Один из них завел себе башмаки, подкованные серебряными гвоздями, другой привозил для своих гимнастических упражнений песок с берегов Нила, третий накопил такое количество сетей для охоты на зверей, что ими можно было опоясать границы огромной державы Александра Македонского, раскинувшейся от Дуная и Адриатики на севере, Египта на юге, Кавказа и Инда на востоке. Александр удивлялся, как это они, побывавшие в стольких жестоких боях, не помнят о том, что потрудившиеся и победившие спят слаще, чем обленившиеся и побежденные. «Разве, – выговоривал он своим полководцам, – не видите вы, что нет ничего более рабского, чем роскошь и нега, и ничего более царственного, чем труд?» Задумав поход в Индию, Александр обнаружил, что ему не сдвинуться с места из-за огромного обоза, доверху нагруженного сокровищами, добытыми в боях. Тогда он приказал сжечь обоз.
А теперь, дети мои, продолжал Антипатр, обратимся к дням нынешним. Осмелился бы Басс Цецилий убить Секста, если бы за ним не стоял такой могущественный политик, как Помпей, прозванный Магном? [19]Что вообще происходит в Риме, если одни римляне обернули оружие против других, и почему война между ними началась с убийства Секста? Ответ лежит на поверхности: в Риме разгорелась борьба за власть, и убийство Секста должно послужить серьезным предостережением Гаю Юлию Цезарю. Если тот не откажется от своего намерения встать во главе новой мировой державы, раскинувшейся от Британских островов на севере и до Африки на юге, от Атлантического океана на западе и до берегов Тигра и Евфрата не востоке, то следующим мертвецом станет он. Испугается ли этих угроз человек, самое имя [20]которого стало синонимом неограниченной власти, или даст своим политическим противникам отпор?
3
Ирод внимательно слушал рассказ отца, и чем внимательнее слушал его, тем яснее вырисовывалась перед ним картина, в сложном многоцветье которой убийство наместника Сирии было всего лишь штрихом в не считающейся ни с какими издержками и жертвами борьбе за власть.
Все началось с Луция Сергия Катилины [21], который вознамерился не только ликвидировать республиканские устои в Риме, но и уничтожить всякую власть, предоставив народу возможность вернуться к естественному образу жизни. Блестящий оратор, он доказывал, что любая власть держится на деньгах, а деньги не что иное, как единственное божество олигархов, в могущество которого они заставили поверить всех граждан Рима и прежде всего сенат. Речи Катилины увлекли многих, в том числе молодого Цезаря. Пылкий юноша, завидовавший, как и многие молодые люди его времени, славе Александра Македонского, который превыше всего ставил воинскую доблесть, а не личное обогащение [22], принял самое активное участие в заговоре Катилины. С этой целью он взялся за организацию вооруженного восстания против Суллы [23]и поддержал своего дядю по материнской линии Мария [24], возглавившего движение популяров [25]. Однако и этот заговор, подобно заговору Катилины, был раскрыт. Сенатор Лутаций Катул, брат известного в то время поэта Гая Катуллы, сочинявшего язвительные ямбы о Цезаре и его сторонниках, в пространной речи обвинил Цезаря в государственной измене, закончив свое выступление словами: «Итак, Цезарь покушается на государство уже не путем подкопа, но с осадными машинами».
Цезарь пустил в ход все свое обаяние и красноречие, чтобы отвести от себя это обвинение. Сенат, всецело поддерживавший Суллу и партию оптиматов [26], которую он возглавлял, тем не менее снял с Цезаря обвинение в государственной измене. Раздраженный таким вердиктом сената Сулла вскричал: «Вы ничего не понимаете, если не видите, что в этом мальчишке – много Мариев». Цезарь, не желая испытывать судьбу, бежал в Вифинию [27]к тамошнему царю Никодиму IV, завещавшему свою страну в качестве дара Риму. Здесь Цезарь переждал тревожные времена, упражняясь в красноречии и искусстве выдавать черное за белое и наоборот, что позже принесет ему славу самого справедливого политического деятеля и беспристрастного судьи. Дождавшись сообщения друзей из Рима о том, что могущество Суллы пошло на убыль и что его, Цезаря, ожидают в столице, чтобы продолжить дело, начатое Катилиной и Марием, будущий властитель мировой державы пустился в обратный путь. В Риме Цезаря восторженно встретили неимущие и крайне настороженно отнесшиеся к нему сенаторы. Понимая, что в одиночку ему не добиться высшей власти, Цезарь вступил в союз с оптиматами Крассом [28]и Помпеем [29]. Этот союз, названный позже первым триумвиратом («союзом трех мужей»), стал самой удачной выдумкой рвавшегося к единоличной власти Цезаря, в которой его мудрость политика нашла подкрепление в деньгах Красса и полководческом таланте Помпея. Чтобы укрепить свое лидирующее положение в триумвирате и вместе с тем не дать повода для разочарований в надеждах на лучшую жизнь черни, Цезарь уговорил Красса устроить публичную трапезу на десять тысяч столов, за которыми мог утолить голод и жажду любой желающий. Помпея он женил на своей юной дочери Юлии, а сам женился на племяннице своего злейшего врага Суллы Помпее. Далеко идущие планы Цезаря разоблачил Катон [30]. Выступив в сенате, он заявил: «О, республика! Ты начинаешь служить посредницей для бракосочетаний, а твои провинции и консульства поступают в приданое!» Но и к непримиримому Катону Цезарь нашел подход, проведя через него, вопреки сопротивлению сената, два аграрных закона в пользу ветеранов и неимущих граждан.
Отныне Цезарь манипулировал своими товарищами по триумвирату как хотел. При этом он не препятствовал маниакальной страсти Красса становиться все богаче и богаче, предоставив в его полное распоряжение Сирию, а прямодушного Помпея, чуждого каких бы то ни было политических интриг, превратил в свою главную ударную силу, который наводил панический ужас на сенаторов одной-единственной фразой: «Перестаньте приводить статьи законов тому, у кого за поясом меч». Оба сполна получили то, к чему стремились. Красс, воюя с парфянами, потерпел поражение в битве при Каррах в излучине Евфрата в северо-восточной Месопотамии и был схвачен в плен. Парфяне, вволю поиздевавшись над знатным пленником, спросили его: «Ты пришел сюда за нашим золотом? Ну так получи его столько, сколько в тебя влезет», – и влили ему в рот расплавленный драгоценный металл. Помпей, потерпев поражение от Цезаря в битве при Фарсале на северо-востоке Греции, бежал в Египет, где ему даже не дали сойти на берег: его давний соратник Септимий, выполняя приказ управляющего делами при дворе юного Птолемея XIV евнуха Потина, вонзил в спину Помпея меч.
4
Но прежде, чем прославленный полководец нашел смерть от руки своего соратника и бывшего военного трибуна, Помпей пополнил список своих побед воинскими подвигами в Азии, сразившись здесь с царем Понта Митридатом IV Евпатором и его армянским союзником и зятем Тиграном I. Рассказывали, что, получив предписание народного собрания возглавить войска, находившиеся в Малой Азии, Помпей, находившийся не у дел в своей резиденции под Римом, нахмурив брови, сказал: «Увы, что за бесконечная борьба! Насколько лучше было бы остаться одним из незаметных людей – ведь теперь я никогда не избавлюсь от войн, никогда не спасусь от зависти, не смогу мирно жить в деревне с женой!» Впрочем, Помпей лукавил: он не представлял себе своей жизни вне армии, и когда узнал, что командовавший до него войсками в Малой Азии Лукулл [31]смещен, даже обрадовался, что на его место назначен именно он, а не кто другой.
В Азии Помпею пришлось сражаться не только с хорошо обученными воинами-мужчинами, но и с воинственными амазонками. Преследуя противника от Евфрата до Аракса, он вынудил Митридата бежать в Боспорское царство [32], а сам, отобрав у Тиграна Сирию и ограничив его власть одной лишь Арменией, повернул на юг и вступил в Дамаск.
В это же время в Иудее развернулась борьба за власть между правнуками Маттафии Гирканом и Аристовулом. Собственно, вражда эта была предсказуема, как предсказуемо было и то, что в борьбе за власть двух всегда найдутся третьи, которые обязательно захотят извлечь из их борьбы личную для себя выгоду. Предсказуемой эта вражда стала уже после самопровозглашения внука Маттафии, тоже Аристовула, себя царем. Евреи во второй раз наступили на одни и те же грабли, и грабли эти теперь не просто больно ушибли им лоб, а раскроили череп.
5
А как все славно начиналось! Евреи, выйдя из Египта и заселив землю Ханаанскую, в течение четырехсот лет не знали над собой никакой власти, кроме власти Предвечного. Да и Предвечный, Бог евреев, будто нарочно не явил им своего лица, дабы они не стали делать его изображений и поклоняться им, а носили Его в сердце своем. Этот четырехсотлетний период вошел в историю как Время Судей. Судьи не имели никакой реальной власти ни над людьми, ни над землей, которую они заселили, ни права передачи своих полномочий наследникам. Единственная их прерогатива – личным примером служить Предвечному, следовать всем Его законам и предписаниям, а в тревожные времена становиться во главе войска и первыми идти на врага. Незабываемое то было время, о котором в древних книгах сказано: «В те дни не было царя у Израиля; каждый делал то, чтó ему казалось справедливым».
А потом евреям захотелось быть не хуже, чем другие народы, и пришли они к пророку Самуилу [33], и потребовали поставить над собой «царя, чтобы он судил нас, как у прочих народов». Наивные! По простоте душевной они не ведали, что, требуя поставить над собой царя, они отказывают в доверии Предвечному, в верности Которому без устали клянутся, а обрушивающиеся на их головы несчастья объясняют все новыми и новыми испытаниями, которые насылает на них неистощимый на злые выдумки Бог. Но то, чего не поняли евреи, впервые в мировой истории показавшие человечеству, что можно жить в совершенно особой общественной среде, где нормы закона определяют взаимоотношения между людьми, а не нормы этих взаимоотношений определяют законы, прекрасно понял Сам Предвечный. И потому сказал Самуилу: «Послушай гóлоса народа во всем, чтó они говорят тебе; ибо не тебя они отвергли, но отвергли Меня, чтоб Я не царствовал над ними» [34]. Выбор народа привел к тому, что уже после третьего по счету царя некогда единое государство Израиль распалось на собственно Израиль и Иудею, в каждом из которых правили свои цари, враждовавшие между собой. Спустя еще двести лет Израильское царство вовсе исчезло с лица земли, а еще через четыреста лет лишилась самостоятельности и Иудея, войдя в состав мировой державы Александра Македонского.
Восстание Маккавеев предоставило евреям уникальную возможность сделать практические выводы из своей многовековой истории и вернуться к опыту Времени Судей, благо никакой другой народ древности, кроме евреев, не проявлял такой преданности своему невидимому Богу и приверженности обычаям предков. Но они не воспользовались этой возможностью. И случилось то, что случилось: когда во главе государства оказывается ничтожество, никакими качествами не обладающее, кроме непомерно развитой мании величия, оно не находит ничего умнее, кроме как возложить на себя корону царя. Так и поступил внук Маттафии Аристовул, после чего блеск маккавейского рода стал стремительно тускнеть, ввергая народ во все более кровавые испытания. И дело тут не в том, что на богатства древней Иудеи зарились жадные до чужого добра соседи: все дело было в том, что сами наследники Маттафии рвали из рук друг у друга власть, видя в этой власти единственную возможность самоутвердиться в собственных глазах, сравняться в почитании народом с Самим Предвечным, не останавливаясь при этом перед убийством конкурентов, даже если этими конкурентами были их ближайшие родственники.
6
Именно это и случилось, когда за обладание царской короной сцепились между собой братья Гиркан и Аристовул. Отец Ирода Антипатр поддержал старшего по возрасту и потому имевшего больше прав на престол Гиркана. Никаких других достоинств, кроме старшинства, у Гиркана перед Аристовулом не было, но он, по крайней мере, не был таким упертым националистом, как его младший брат, люто ненавидевший идумеян. Аристовул был готов пойти на любые крайние меры, чтобы смести с дороги к власти брата. Антипатр понимал, что следующей жертвой самозванца станет он, идумеянин, как понимал и то, что спасение жизни Гиркана означает спасение его собственной жизни. Он уговорил Гиркана бежать в Петру [35]к аравийскому царю Арете, доводящемуся ему, Антипатру, тестем. Гиркан пообещал Арете, если тот поможет ему справиться с Аристовулом, подарить целую область, граничащую с Идумеей, вкупе с двенадцатью цветущими городами, населенными евреям. Арету понравилось такое обещание и, снарядив войско численностью в пятьдесят тысяч человек пехоты и конницы, он вступил на территорию Иудеи. В первом же сражении он разгромил армию Аристовула, причем несколько тысяч иудеев, недовольных Аристовулом, перешло на сторону Ареты, зная, что тот отстаивает интересы Гиркана. Аристовул бежал в Иерусалим и укрылся за его стенами. Арета объединенными силами арабов и евреев осадил город, готовившийся к встрече Пасхи. По случаю праздника в Иерусалим стекались со всех сторон мирные иудеи. В их числе оказался и некто Ония, известный тем, что однажды в жестокую засуху выпросил своей молитвой у Предвечного дождь. Его и перехватили иудеи, осаждавшие Иерусалим, и стали упрашивать его еще раз помолиться Господу, чтобы Тот проклял Аристовула и его приверженцев, а им, сторонникам Гиркана, даровал победу. Ония, стиснутый со всех сторон единоверцами, воздел руки к небу и провозгласил: «О Предвечный, царь всего сущего! Ты видишь, что окружающие меня люди – народ Твой, и осаждаемые в городе люди – народ Твой! Молю Тебя не слушать ни тех, ни других, а поступить так, как Ты считаешь нужным!» Это были его последние слова: один из иудеев, оказавшийся ближе других к Онии, выхватил меч и поразил его.
Неизвестно, как долго продолжалось бы выяснение отношений между Гирканом и Аристовулом, если бы Антипатру не пришла в голову счастливая мысль обратиться за содействием к Помпею. Узнав о демарше Антипатра, Аристовул решил опередить его и направил Помпею письмо с просьбой подтвердить его полномочия на царское звание и жалобой на Арету, который угрожает захватить Иерусалим. Помпей в это время отвоевал у Тиграна Сирию и под предлогом отсутствия в ней законных царей объявил ее провинцией Рима. Оставалось найти человека, которого можно было назначить на должность наместника этой страны. Наиболее подходящей кандидатурой ему представился один из его полководцев Скавр. Но каков этот храбрый воин не на военном поприще, а на административной работе? Чтобы проверить это, его-то он и послал в Иудею с требованием к Арете немедленно снять осаду Иерусалима.
Арета, не желая связываться со Скавром, за спиной которого маячила грозная фигура Помпея, вернулся восвояси, а Аристовул, опьяненный нежданно-негаданно свалившейся на него свободой, ссудил новоиспеченному наместнику в виде дара четыреста талантов золота, которые римлянин благосклонно принял. Антипатр, видя, что удача изменяет ему, отправился с Гирканом в Дамаск для личной встречи с Помпеем. Туда же последовал и Аристовул, сопровождаемый многочисленной свитой, и подарком Помпею – дивной красоты виноградником весом в пятьсот талантов, выполненным лучшими ювелирами Иудеи и названным им «Усладой». Помпей, как истый оптимат, подарком остался доволен, но как такой же истый сторонник аристократической республики косо посмотрел на Аристовула, облаченного в пышное царское одеяние, и его кричаще нарядную свиту. Иное впечатление произвели на него более чем скромно выглядевшие Гиркан и Антипатр. Выслушав обе стороны, Помпей попенял Аристовулу за то, что тот в нарушение установившейся в любом монархическом государстве традиции признавать право на царство за старшим по возрасту наследником, и пообещал лично посетить Иудею, чтобы во всем разобраться на месте. «Пока же, – заключил Помпей, – и ты, Аристовул, и ты, Гиркан, ведите себя сдержанно и не предпринимайте друг против друга никаких насильственных действий».
Антипатр остался доволен таким решением Помпея: время, любил повторять он, самый верный союзник настойчивых. Но тут все дело чуть было не испортил Гиркан. Он вдруг расплакался, как ребенок, и стал жаловаться на судьбу, на то, что в его семье никто не желает с ним считаться, и вообще в мире никогда не установится справедливость, если на ее защиту не встанут такие люди, как Помпей. Наступила неловкая пауза. Гиркан решил, что пауза эта вызвана благоприятным впечатлением, которые произвели на Помпея его слезы. Аристовул же решил, что его притязания на царский трон в глазах Помпея получили веское подтверждение: кому нужен царь-плакса, с которым не считаются даже члены его семьи? И лишь Антипатр все верно оценил и поспешил взять инициативу в свои руки. Сделав вид, что не смеет больше отвлекать Помпея от важных государственных дел, он поднялся и как бы на прощанье выразил ему свое восхищение его многочисленными победами и ниспосланным свыше полководческим даром. Помпей из вежливости спросил, какие именно победы, одержанные им, дают Антипатру основание говорить о его особом полководческом даре? Антипатру только этого и нужно было. Он снова сел и перечислил все победы Помпея, не пропустив ни одной, включая окончательный разгром восстания Спартака [36]. «Полагаю, однако, – добавил Антипатр, – что потомки с особым тщанием станут изучать твое флотоводческое искусство. Только военный гений мог догадаться поделить Средиземное море на триста квадратов, поставить в каждом из них сторожевые корабли и в три месяца покончить с пиратами, которые до той поры чувствовали себя хозяевами всего, что только способно передвигаться по воде: кораблей, товаров, людей».
Похвала Антипатра понравилась Помпею. «А ты, как я погляжу, сведущ в военном деле», – сказал он и предложил ему кубок вина. В свою очередь и Помпей вызвал симпатию у Антипатра: с рельефно очерченной мускулатурой, что свидетельствовало о постоянных физических упражнениях, загорелым лицом, с шелковистыми, зачесанными назад волосами и живыми блестящими глазами, он являл собой тот редко встречающийся тип людей, в которых приятная наружность сочетается с величием. Чтобы не дать угаснуть этой внезапно возникшей обоюдной симпатии, Антипатр принял кубок, провозгласил здравицу в честь Рима и от имени Гиркана попросил Помпея не откладывать надолго обещанное посещение Иудеи и непременно побывать в Иерусалиме не в качестве великого полководца, а как приятного собеседника. Осушив кубок, Антипатр мягко, но со значением прибавил, адресуя свои слова не столько Помпею, сколько Аристовулу, так и не осознавшему неуместность демонстрации своего сомнительного царского достоинства тому, перед кем трепетали куда как более могущественные монархи: «И как союзника, хранящего, подобно нам, верность давнему постановлению сената об оборонительном и наступательном союзе между римлянами и иудеями».
Аристовул побагровел от злости. Казалось, с его языка вот-вот сорвется упрек: «Не тебе, идумеянину, рассуждать о союзе между римлянами и иудеями!» Но он так и не нашелся, что сказать, дабы последнее слово осталось за ним, а по тому, как исказилось его лицо, можно было догадаться: Аристовул признал свое поражение в дипломатическом поединке, ради которого они и прибыли к Помпею. Выходя от Помпея, он подошел к Антипатру и прошипел ему в ухо: «Поостерегись, хитрый идумеянин, мне ведомы твои коварные планы сделать моего плаксивого братца царем с тем, чтобы самому управлять Иудеей. Знай же: сегодня ты сам вынес смертный приговор себе и всему своему поганому роду».
7
Ближайшие события показали, что слова Аристовула не были лишь угрозой. Понадеявшись на то, что Помпей, верный союзническим обязательствам, не посмеет вступить в Иерусалим без его особого приглашения, и в то же время желая показать ему разницу между удачливым воякой и царем, он приказал запереть ворота Иерусалима и никого не впускать и не выпускать из города без его на то особого письменного разрешения. Но он не учел другого: Помпей прибыл в Иудею не как гость, а как судья, которому надлежит решить, кому из двух братьев быть царем, признанным Римом, а кого лишить этого сана. Этой оплошностью Аристовула и воспользовался Антипатр, вербуя из числа колеблющихся горожан все новых и новых сторонников Гиркана. Прежде, чем Помпей прибыл под стены Иерусалима, его жители оказались разделены на два лагеря: сторонники Аристовула требовали не впускать в город язычника, сторонники же Гиркана настаивали на том, что Помпея следует принять со всеми подобающими его званию и заслугам почестями. «Иначе может случиться война», – предостерегали они. «Пусть война! – отвечали им аристовулцы. – Лучше смерть во славу Предвечного, чем позор от осквернения себя почестями, оказываемыми нечестивцу». Сторонников Гиркана оказалось больше, чем сторонников Аристовула. Тогда Аристовул заперся со своими сторонниками в Храме, сжег мост, соединявший Храм с Акрой [37], и приготовился к сражению с Помпеем, если тот почему-либо не признает его царские полномочия.
Фортуна снова повернулась лицом к Антипатру. Он выехал навстречу Помпею и пригласил его от имени Гиркана в царский дворец, где уже все было приготовлено к встрече высокого гостя. «От имени Гиркана и Аристовула, – поправил Антипатра Помпей. – Надеюсь, они не перессорились между собой за время нашей последней встречи?» «Увы, увы, – ответил Антипатр, стараясь придать своему голосу скорбный оттенок, – твои опасения оказались небеспочвенными». И поведал Помпею о расколе, произошедшем между братьями, и о готовности сторонников Аристовула сразиться с римлянами.
Помпей был не столько удивлен, сколько раздосадован этой новостью. Аристовул решил сразиться с ним, Помпеем, который за всю свою жизнь не знал ни одного поражения? Ну что ж, придется этому напыщенному павлину преподать урок вежливости. И, вступив в Иерусалим, Помпей приказал своим солдатам заполнить овраг, разделяющий Акру и гору Мориа, и штурмом взять Храм. Аристовул, видя приготовления римлян, которым активно помогали сторонники Гиркана, решил, что произошло досадное непонимание со стороны Помпея его истинных намерений. По его расчетам, Помпей, прежде чем идти на штурм святыни, должен был бы направить к нему парламентеров, и тогда все разрешилось бы к обоюдному удовольствию: римляне поняли бы, что иудеи гордый народ, готовый ответить на силу силой, и в то же время народ редкого радушия, готовый оказать гостеприимство каждому, кто является другом их царя и, стало быть, другом всех иудеев. Царь же у них один – Аристовул, и Помпей, оказав ему царские почести, мог легко завоевать любовь иудеев. Между тем работы по заполнению оврага продолжались, в городе появились стенобитные машины, выписанные Помпеем из Тира [38], и Аристовул, не желая испытывать судьбу и дальше, поспешил к Помпею с разъяснениями, что иудеи вовсе не враги римлянам, что произошло роковое недоразумение и что он, Аристовул, готов снять это недоразумение выплатой соответствующей компенсации, которую назначит сам Помпей. Помпей, однако, даже не принял Аристовула и приказал заковать его в цепи как своего личного пленника. По окончании засыпки оврага римляне, поддержанные сторонниками Гиркана, пошли на штурм Храма.
Силы были слишком неравны, так что римлянам и сторонникам Гиркана пришлось ступать по трупам аристовулцев, которыми покрылась вся Храмовая площадь. Между тем священники, чуждые распри между братьями, продолжали совершать обычные богослужения с жертвоприношениями, воскурениями и омовениями, как если бы вокруг них не лилась потоками кровь их единоверцев, обративших оружие друг против друга. Самое страшное при этом состояло в том, что богослужение продолжалось до тех пор, пока не пал у алтаря последний из остававшихся в живых священник. По завершении бойни случилось то, что повергло в шок всех иудеев – как тех, кто выступил на стороне римлян, так и тех немногочисленных сторонников Аристовула, в ком еще теплилась жизнь или кто успел сдаться в плен: Помпей в сопровождении своей свиты дерзнул вступить в Святое Святых. Даже веротерпимый Антипатр – и тот был потрясен дерзостью полководца: в Святое Святых, где хранились ковчег завета, сделанные из чистого золота подсвечник с лампадами, жертвенные чаши и кадильная посуда, а также Храмовая казна в сумме двух тысяч талантов, имел право доступа один лишь первосвященник, да и тот лишь раз в году. Иудеи с ужасом ожидали, что римляне выйдут из Святого Святых, увешанные награбленными сокровищами Храма. Этого, к счастью, не случилось: Помпей пожелал лишь собственными глазами увидеть то, что с таким тщанием скрывалось от глаз всех смертных, не говоря уже о чужеземцах, никаких других намерений у него не было. После посещения Святого Святых он приказал отрубить головы Аристовулу и оставшимся в живых его сторонникам, дерзнувшим поднять против него оружие, наложил на Иудею и Иерусалим ежегодную дань, Гиркана назначил первосвященником, объявил Иудею республикой, не признающей над собой власть никакого царя, а сам, взяв сыновей Аристовула Александра и Антигона в качестве гарантов выполнения всех его распоряжений, вернулся в Рим, где справил свой третий триумф [39].
Римляне с восторгом встретили своего прославленного полководца. Он по праву носил прозвище Магн: никто не сделал для славы и могущества Рима больше Помпея. Свой первый триумф он справил, когда присоединил к Риму Европу. Второй триумф был назначен Помпею в ознаменование покорения им Африки. И вот сенат постановил отметить третьим триумфом победу Помпея над Азией. Благодаря своему великому полководцу Рим стал поистине мировой державой.
Третий триумф, в котором народ Рима увидел в числе многочисленных трофеев и золотой виноградник «Услада», а в толпах высокопоставленных пленных сыновей несостоявшегося царя Иудеи Аристовула, стал для Помпея, увы, последним. И причиной тому был Цезарь. Честолюбивые планы Цезаря стать единоличным правителем огромной державы не были секретом для оптиматов, прежде всего для Марка Катона. Он хорошо помнил похвальную речь Цезаря в бытность его квестором [40], которую тот произнес с ростральной трибуны над телом своей умершей тетки Юлии. «Род моей тетки восходит по матери к царям, по отцу же к бессмертным богам, – сказал он тогда. – Вот почему наш род облечен неприкосновенностью, как цари, которые могуществом превыше всех людей, и благоговением, как боги, которым подвластны и самые цари». Только глухой не понял бы из этих слов, как далеко простираются замыслы Цезаря, и только полный тупица мог продолжать считать его защитником интересов народа, на который ему, в сущности, было наплевать. Особую опасность для республики Катон увидел в том, что Цезарь, в отличие от слишком многих политиков, берущихся за решение важнейших государственных дел на пьяную голову, был абсолютным трезвенником. В узком кругу оптиматов, которые вслед за Цицероном [41]любили повторять: «Когда я вижу, как тщательно уложены волосы Цезаря и как он почесывает голову одним пальцем, мне всегда кажется, что этот человек не может замышлять такое преступление, как ниспровержение римского государственного строя», – Катон неизменно возражал: «Цезарь единственный из всех нас, кто берется за государственный переворот трезвым».
После гибели Красса и смерти при родах своей дочери Юлии, жены Помпея, бывших товарищей по триумвирату уже ничто не связывало. Помпей недооценил силы народной любви к Цезарю, который во всех своих делах руководствовался принципом: «Необходимое нужно предоставлять слабейшим, а почетное – сильнейшим», – и переоценил свои силы как политика, которым он никогда не был. Когда противоречия между оптиматами и популярами достигли крайнего предела и гражданская война стала неизбежной, Помпей продолжал благодушествовать, говоря: «Стоит мне только топнуть ногой, как тотчас из-под земли появится и пешее и конное войско», – и, стремясь упрочить свое лидирующее положение в Риме, раздавал направо и налево высшие государственные должности своим приверженцам. Рубикон, однако, был уже перейдет. Цезарь появился под стенами Рима, и запаниковавшие оптиматы бросились к Помпею с упреками: «Враг у ворот города, что же ты медлишь топнуть ногой?»
8
Бесславный конец Помпея уже известен. Когда спустя некоторое время Цезарь прибыл в Египет, ему, как победителю, поднесли на блюде отрезанную и уже начавшую разлагаться голову Помпея и его знаки отличия. Цезарь взял с блюда одно лишь кольцо Помпея с печаткой, на которой был изображен лев, держащий в лапах меч, а голову полководца велел захоронить.
В Египте Цезарь задержался на долгих девять месяцев, и на то были свои причины, о которых он, преследуя Помпея, не мог и помыслить. Все дело было в том, что Цезарь влюбился. Так, по крайней мере, утверждали многие, кто входил в его ближайшее окружение. У Антипатра на этот счет было иное мнение. «Цезарь, – рассказывал он сыновьям, – решил укрепить влияние Рима в Египте, где в это время развернулась борьба за царскую корону, подобная той, что случилась между Гирканом и Аристовулом». Из того, что поведал Ироду ранее Секст, он склонен был верить больше отцу, чем досужим байкам о неземной красоте египетской царицы, в которую все, кто хотя бы раз видел ее, без памяти влюблялись. На самом деле все было и проще, и жестче. Вопреки своему имени, Клеопатра вовсе не была избалованной папочкиной любимицей [42]. Это была расчетливая коварная женщина, тщеславие которой ни в чем не уступало тщеславию Цезаря. После смерти своего отца Птолемея XII [43]она в семнадцатилетнем возрасте вступила на трон в качестве соправительницы и жены своего двенадцатилетнего братца Птолемея XIII, который только-только вошел в пору половой зрелости и не интересовался ничем на свете, кроме женского естества сестры. Клеопатра поощряла этот интерес ребенка: пусть себе тешится, сколько его душе угодно, лишь бы не встревал в политику. Тут, однако, ее ждало разочарование: евнух Потин, занимавшийся воспитанием и образованием юного царя, без труда убедил его в том, что на свете существует множество других прелестниц, готовых по первому его слову доставить ему куда как больше удовольствий, чем это делает его сестра, позволяющая ему разглядывать свои интимные места. Для того же, внушал Потин ребенку, чтобы он был свободен в выборе, с кем ему ложиться в постель, а кого лишать этой великой милости, от него требуется одно: изгнать подальше от глаз Клеопатру и править Египтом под его, Потина, неусыпным руководством. Евнуха поддержала сестра Клеопатры и Птолемея принцесса Арсиноя, у которой были свои виды на верховную власть. Закружилась карусель помудренее, чем качели, на которых раскачивались Аристовул и Гиркан, выдирая друг у друга власть над Иудеей. Ко времени бегства Помпея в Египет тяжба в царской семье приняла особенно ожесточенный характер: Клеопатра, сосланная братом в Сирию, изо всех сил боролась за возращение трона, отнятого у нее Птолемеем XIII. Арсиноя стала подбивать жителей Александрии, среди которых было немало евреев, поднять восстание против расквартированного в городе римского гарнизона. Потин же довольно потирал руки в надежде, что царственные брат и сестры в борьбе за власть перегрызут друг другу глотки, и тогда единственным правителем Египта станет он, евнух, у которого не осталось никакой другой радости в жизни, кроме сжиравшей все его существо страсти обладания миллионами людей, которыми он станет управлять с той же жестокостью, с какой люди однажды обошлись с ним.
Потину нельзя было отказать в уме. Он понимал, что любое вмешательство извне сильных мира сего в затеянную им игру может расстроить его планы. Потому-то он и приказал убить бежавшего из Рима Помпея, не дав ему возможности ступить на берег. С той же решительностью он дал понять и Цезарю, что его пребывание в Египте пусть с небольшим, но войском, является нежелательным, и потому ему следует поскорей вернуться домой, благо цель, которую он перед собой поставил – уничтожить Помпея, – достигнута им, Потиным. Цезарь, однако, не спешил возвращаться в Рим. Тогда Потин решил, что непонятливому римлянину надо более ясно намекнуть, что дальнейшее его пребывание в Египте является нежелательным. Для этого он приказал кормить солдат Цезаря только черствым хлебом, на котором уже появилась плесень, говоря при этом: «Уж коли вы едите чужое, то должны быть довольны всем, что вам дают». В обед он выдавал солдатам исключительно глиняную посуду и деревянные ложки, уверяя, что всю золотую и серебряную посуду конфисковал Цезарь. Когда все эти меры не возымели действия, он прямо сказал Цезарю, что в Риме его ждут великие дела, не терпящие отлагательства, если он не хочет, чтобы за время его отсутствия в столице к власти снова вернулись оптиматы. На эти слова Потина Цезарь ответил с несвойственной ему грубостью: «Я самостоятельно решаю, какими делами мне следует заниматься в первую очередь, и меньше всего нуждаюсь в египетских советниках».
9
У Цезаря были свои планы относительно Египта, который был житницей Рима. Любые распри в царской семье могли обернуться срывом поставок хлеба в столицу, а такая перспектива не сулила Цезарю ничего хорошего. Он решил не покидать Египта до тех пор, пока не примирит Клеопатру с Птолемеем. Ему удалось возвратить из Сирии Клеопатру и тайно доставить ее в Александрию. Рассказывали, что Клеопатру пересадили с корабля в утлую лодчонку и доставили по Нилу к Цезарю в мешке, и что эта маленькая хитрость, придуманная самой царицей с тем, чтобы обмануть многочисленных шпионов Потина, следивших за всеми ее передвижениями, пленила Цезаря. Как бы там ни было, но Цезарю удалось помирить Птолемея XIII и Клеопатру и взять с них слово, что отныне они будут царствовать совместно. Птолемей и Клеопатра поклялись богами, что их разлучит одна только смерть, и довольный Цезарь назначил день для устройства пира в честь примирения царственной четы, после которого намеревался вернуться в Рим.
На этот же день Потин подговорил Арсиною начать восстание александрийцев против римского гарнизона. Сигналом к началу восстания, сказал Потин, станет убийство Цезаря, которое он берет на себя. Договорившись между собой, Потин и Арсиноя посвятили в свои планы командующего египетскими войсками Ахиллу. Ахилла одобрил идею освобождения Египта от римского владычества и обязался ко дню, на который был назначен пир, привести вверенные ему воинские части в полную боевую готовность. Достигнутую между собой договоренность Потин, Арсиноя и Ахилла скрепили клятвой и обильным жертвоприношением в храме Гора.
Ночь накануне дня примирения Клеопатра провела в спальне Цезаря. Она пришла туда, чтобы лично поблагодарить своего избавителя от ссылки и возвращение ей трона. «Тебе и твоему мужу и брату, – поправил ее Цезарь. – Я не хочу нарушать ваш давний обычай управлять страной совместно, в котором вижу залог стабильности государства». В подтверждение пользы совместного управления страной Цезарь рассказал Клеопатре о римской традиции избрания на высшие государственные должности двух консулов, наделенных всей полнотой власти. «Правда, – уточнил Цезарь, – мы избираем своих консулов сроком всего на один год, а ты со своим братом и мужем становишься соправительницей Египта пожизненно». Клеопатра слушала Цезаря рассеянно. А когда он закончил, заметила: «Ты забыл, что помимо консульского управления государством существует еще такая форма власти, как триумвират. И уж эта форма власти самая ненадежная». Цезарю не понравились слова Клеопатры. В них он услышал упрек в свой адрес, а если быть точнее, то не упрек даже, а обвинение в том, что он составил триумвират с целью уничтожить своих товарищей и стать единоличным правителем Рима. Вслух же он произнес другое: «Кого ты видишь третьим в вашем с братом совместном правлении Египтом?» «Потина», – коротко ответила Клеопатра. Цезарь рассмеялся. «Потина? – переспросил он. – Не слишком ли ты и твой брат считаетесь с этим евнухом?» Клеопатра сказала: «Ты не представляешь, какой это страшный человек. Брат всецело зависит от него, он не принимает никакого, даже самого простого решения, не обсудив его предварительно с Потиным. Все эти дни, которые ты гостишь у нас, они проводят вместе. А вчера я видела у Потина Арсиною. Они уединились и долго оставались вдвоем, потом к ним присоединился Ахилла, и они не выходили от Потина до глубокого вечера. Как ты считаешь, о чем эти люди могли так долго совещаться?» «Обсуждали меню завтрашнего пира», – пошутил Цезарь. «Пира, – отчужденно согласилась Клеопатра, – где главным блюдом станет твоя голова».
Это было уже слишком! Клеопатра смеет пугать его, Цезаря, который за версту чует малейшую опасность и всегда успевает хоть на шаг, но опередить своих противников и нанести им упреждающий удар? И что нужно от него этой молодой и неглупой женщине? Заступничества? Поддержки? Или она рассчитывает с его помощью расчистить себе дорогу к единоличному владению царством?
Цезарь спросил: «В тебе говорит сейчас страх за себя, недоверие к брату, или со мной сейчас беседует царица, ищущая союзника для осуществления каких-то своих, еще не вполне понятных мне планов?» «Во мне говорит интуиция, – ответила Клеопатра. – Обыкновенная женская интуиция, которая никогда меня не обманывала. И эта интуиция подсказывает, что завтра прольется кровь». Сказав это, Клеопатра разрыдалась. Цезарь привлек ее к себе, чтобы утешить, и обнял ее плечи. Клеопатра прижалась к нему всем телом, и Цезарь почувствовал, как ее хрупкое тело содрогается от крупной дрожи. «Успокойся, – сказал он, убирая с ее заплаканного лица волосы. – Ты, пожалуйста, успокойся, я позабочусь о том, чтобы завтрашний пир прошел весело и беззаботно». «Ты обещаешь мне это?» – спросила Клеопатра, прижимаясь к Цезарю еще теснее, и рука ее скользнула к животу Цезаря, а потом ниже. «Обещаю», – сказал Цезарь, чувствуя, как у него начинает кружиться голова. «Но даже если ты не справишься со своими врагами, – продолжала Клеопатра, жарко дыша в лицо Цезарю, – я спасу тебя, я уведу тебя в мой потайной грот, где ты забудешь обо всем на свете и найдешь отдых своей душе и наслаждение телу».
Цезарь любил женщин, и женщины любили его. В него влюблялись как юные созданьица, почувствовавшие первое томление плоти, так и зрелые матроны, искушенные в любовных утехах. Перед ним не устояли даже жена Красса Тертулла и первая жена Помпея Муция. Но то, что испытал он с Клеопатрой, превзошло самые дерзкие его представления о способностях женщин доставить мужчине наслаждение. Его словно бы взяла за руку сама богиня Венера и ввела в волшебный потайной грот, полный неведомых ему до той поры сокровищ, и скрыла его там, заставив забыть на время обо всем суетном и тленном, чем переполнен вещный мир.
Впрочем, наутро Цезарь снова стал Цезарем. Не очень веря в дурные предчувствия Клеопатры, он тем не менее отдал необходимые распоряжения, чтобы предотвратить возможную опасность. Вызвав начальника Александрийского гарнизона, он приказал ему расставить посты вокруг пиршественного зала и при малейшем подозрении о злокозненных намерениях египтян пустить в ход мечи.
Интуиция не обманула Клеопатру. Пир еще не начался, когда с улицы донеслись воинственные крики и брань. Это вышедшие из-под контроля Арсинои александрийцы, не дожидаясь условленного сигнала из царского дворца, пошли на штурм римских казарм. Потин, выхватив из-под полы кинжал, метнулся к Цезарю, но тут же был сражен центурионом Квинтилием. В пылу схватки, возникшей в зале, Ахилле удалось бежать. Цезарь позаботился о безопасности Клеопатры, вытолкнув ее в одну из боковых комнат, приказал схватить в качестве заложника Птолемея и глаз с него не спускать, а сам ринулся в самую гущу сражения, увлекая за собой товарищей.
10
Так началась не принесшая Цезарю лавров победителя Александрийская войны, растянувшаяся на девять месяцев и чуть было не стоившая ему жизни. По поводу этой войны ни в ту давнюю пору, ни позже ни у кого, включая отца Ирода Антипатра, не сложилось определенного мнения. Одни говорили, что в этой войне не было необходимости и что единственной ее причиной стала страсть Цезаря к Клеопатре. Другие считали главными виновниками войны царских прислужников, прежде всего могущественного евнуха Потина, по приказу которого был убит Помпей, изгнана Клеопатра и задумано убийство Цезаря. Как бы там ни было, а римлянам, вырвавшимся с схваченным в плен Птолемеем из дворца на улицы и соединившимся с соотечественниками, оборонявшимся в казармах, пришлось тяжко: им противостояли не только александрийцы, восстание которых возглавила Арсиноя, но и хорошо обученная армия Ахиллы. От римлян, окруженных в самом центре огромного города, насчитывающего свыше миллиона враждебно настроенных к ним жителей, теснимых со всех сторон опытными солдатами, которым была обещана награда в сто талантов за голову Цезаря, потребовались не только беспримерное мужество, но и все их знания и опыт, приобретенные в прежних сражениях.
Положение отчасти спасало то обстоятельство, что египтян было слишком много и они, желая получить обещанную награду, скорее мешали друг другу, чем заботились о грамотном ведении боя. Но главной причиной спасения Цезаря стало то, что из восставшей Александрии бежали многие мирные евреи, оказавшиеся меж двух жерновов. Некоторым из беглецов удалось добраться до Иудеи. От них-то Антипатр узнал о трагичном положении, в каком оказался Цезарь. Повинуясь какому-то шестому чувству незамедлительно встать на сторону Цезаря, а не ждать исхода войны между ним и египтянами, он обратился за содействием к царю Пергама [44]Митридату и сирийцам, благодарным римлянам за то, что те избавили их от власти Тиграна. В короткое время он собрал разноплеменную армию и, возглавив ее, устремился в Египет, сокрушая по пути всех, кто оказывал ему сопротивление, или уговаривал колеблющихся, в их числе евреев, переселившихся в Египет еще во времена изгнанного из Иерусалима первосвященника Онии, перейти на сторону осажденных в Александрии римлян и помочь им продовольствием.
Тем временем положение римлян в Александрии стало не просто трагичным, а катастрофическим. Ахилла засыпал уличные водопроводные каналы песком, лишив Цезаря и его немногочисленное войско питьевой воды. Римляне, не считаясь с потерями, стали пробиваться к своим кораблям, стоящим на рейде, и отправиться за подкреплением. Ахилла предвидел этот маневр и отрезал им путь к морю. Тогда Цезарь сделал попытку прорваться к верфям, на которых можно было найти судно, в достаточной степени подготовленное к спуску на воду. Но и этот маневр Ахилла предвидел и заранее послал туда своих воинов, чтобы римляне, даже если им удастся захватить один из недостроенных кораблей, не смогли спустить его на воду. Цезарь, оказавшсь в ловушке, приказал поджечь верфи. Вспыхнувший пожар перекинулся в город, и огонь охватил множество домов, в том числе знаменитую Александрийскую библиотеку [45]. Птолемей стал уговаривать Цезаря отпустить его на свободу, обещая взамен немедленно заключить с ним мир. Цезарь сколько мог тянул с его освобождением, но когда Ахилла зажал его вместе с остатками римских воинов в клещи, оттеснив их к урезу моря, отпустил Птолемея. Тот, встретившись с Ахиллой и Арсиноей, приказал им немедленно покончить с римлянами и принести ему голову Цезаря, к которой он позже присоединит голову Клеопатры, а сам женится на Арсиное, сделав ее своей соправительницей. И вот в эту-то минуту в тыл египтянам ударила конница Антипатра.
Как ни спешил отец Ирода на помощь Цезарю, но в его планы вовсе не входило вступить в сражение с высунутым от усталости после долгого перехода языком. Завидев маяк [46], он приказал конникам спешиться и дождаться, когда к ним подтянутся основные силы, состоящие из легко и тяжеловооруженной пехоты. Отдохнув и набравшись сил для решительного броска, он дал команду атаковать тылы войск египтян. Те никак не ожидали удара в спину и бросились бежать. Перестроившись в боевые колонны, Антипатр взял командование левым крылом на себя, а правое поручил Митридату. Опомнившиеся египтяне оставили Цезаря в покое и повернулись фронтом к союзническим войскам. В начавшемся сражении египтянам удалось смять крыло Митридата. Антипатр, разбив противостоящих ему египтян, соскочил с коня и берегом дельты бросился ему на помощь. Видя, что командир их ранен в плечо стрелой, за Антипатром последовали его воины. Кто-то увидел, как впрыгнувший в лодку Птолемей с частью египетских воинов стал грести к стоящим на рейде кораблям. Антипатр, истекающий кровью, приказал немедленно догнать их и уничтожить. «Пленных не брать!» – крикнул он отчалившим от берега солдатам. Солдаты выполнили его приказ, и вскоре огонь охватил корабли, на которые успели забраться Птолемей и его воины. Позже Антипатр узнал, что его армия, командование над которой взял на себя его соратник и друг Малих, довершила разгром египтян, а Цезарь объявил Клеопатру царицей, назначив ей в соправители и мужья ее младшего брата Птолемея XIV, который оказался еще моложе, чем погибший в огне Птолемей XIII, – ему только-только исполнилось одиннадцать лет. Ошеломленная таким решением Цезаря, Клеопатра воскликнула: «Ты забыл, Цезарь, ты все забыл!» «Что именно я забыл?» – спросил Цезарь. «Ты забыл в моем гроте своего сына!» – вскричала Клеопатра и залилась слезами. Цезарь только теперь заметил вздувшийся живот Клеопатры, обнял ее за плечи, как в ночь перед началом Александрийской войны, и сказал: «У меня есть жена, Клеопатра. Что касается тебя, то ты теперь царица, тебе и решать, как поступить со своим мужем» [47].
11
Спасшийся благодаря Антипатру Цезарь не хотел оставаться в долгу. Вернувшись в Рим, где добился провозглашения себя диктатором с неограниченными полномочиями, он отправился наводить порядок в Азию. Без особого труда одержав победу над войсками боспорского царя Фарнака [48], он отправил в Рим короткое донесение – «Veni, vidi, vici» («Пришел, увидел, победил»), – посетил Дамаск и пригласил туда Антипатра с Митридатом. Оба они незамедлительно прибыли к Цезарю, причем если Митридат прибыл в сопровождении многочисленной свиты, то Антипатр с одним только Гирканом, чтобы тот, оставшись в Иерусалиме один, не наделал новых глупостей. Митридат в таких сочных тонах поведал Цезарю о героизме Антипатра, спасшего его от верной гибели, что тот проникся к отцу Ирода особой симпатией. Щедро одарив Митридата и его свиту, Цезарь вручил подарки и Антипатру и, сверх того, объявил о своем решении предоставить ему и членам его семьи римское гражданство. «Это означает, – добавил он, – что отныне ты и твои наследники освобождаются от всех повинностей, наложенных на Иудею Помпеем». Пригласив героев Александрийской войны и Гиркана за пиршественный стол, Цезарь поинтересовался у Антипатра: «Чем еще я могу утишить твою боль от раны, полученной в сражении в Александрии?» «Ничем, – ответил Антипатр и, взглянув на Гиркана, готового, по своему обыкновению, пролить слезы, добавил: – Разве что подтвердишь полномочия Гиркана как первосвященника Иудеи. – Чтобы убедить Цезаря в необходимости такого подтверждения, присовокупил: – Если бы не Гиркан с его красноречием и верностью союзническим обязательствам, мне было бы трудно собрать войско для похода в Египет». Цезарь внимательно посмотрел на Гиркана, взял в руки одну из своих записных книжек, с которыми никогда не расставался, и написал:
«Я, Гай Юлий Цезарь, избранный диктатором, сим объявляю сенату и римскому народу, что за доблесть и расположение назначаю самого Гиркана и его потомков первосвященниками и священнослужителями иерусалимскими и судьями народа. Равным образом остаются в силе все древние отношения как между отдельными иудеями, так и между первосвященниками и священнослужителями, равно как все постановления римского народа и сената относительно иудеев. Все местности, земли и поселения, которыми владели сирийские и финикийские цари в награду за свой союз с римлянами, отныне признаются собственностью Гиркана и иудеев. Гиркану, его сыновьям и их послам предоставляется право сидеть в театре среди сенаторов во время гладиаторских боев или травли зверей, и в случаях, когда бы они просили у диктатора или высшего римского сановника права присутствовать на заседаниях сената, то они должны быть допускаемы туда, и постановления сената должны сообщаться им не позже десятидневного срока».
Гиркан, выслушав этот текст, дал, наконец, волю слезам, а Цезарь, передав записную книжку своему секретарю для исполнения принятого им решения, снова обратился к Антипатру: «Какой лично для себя награды ждешь от меня ты? Избери по собственному желанию любой пост, ты тут же его получишь». «Я бы предпочел предоставить меру награды для меня самому награждающему», – ответил Антипатр. Отдав должное скромности Антипатра, Цезарь, не откладывая дела в долгий ящик, тут же назначил его правителем Иудеи, распорядившись вырезать свой указ на медной доске и поместить его в Капитолии в память его, Гая Цезаря, «правосудия и выдающихся заслуг Антипатра, сына Антипатра, перед Римом и римским народом».
Во время непродолжительного пребывания в Дамаске Цезарь сместил с занимаемых должностей всех сторонников Помпея, назначил вместо Скавра наместником Сирии своего родственника Секста Цезаря и, сопровождаемый Антипатром и Гирканом до Тира, вернулся морем в Рим. Антипатр же и Гиркан возвратились в Иудею, где Гиркан, исполненный решимости оправдать высокое доверие, оказанное ему Цезарем, решил восстановить стены Иерусалимского Храма, разрушенные Помпеем в ходе изгнания из него сторонников Аристовула, а Антипатр, уже в качестве правителя Иудеи, отправился в поездку по стране, объявляя повсюду: «Люди, преданные Гиркану, будут жить счастливо и спокойно, наслаждаясь благами мира и своим благоприобретенным имуществом. Те же, кто даст себя обольстить несбыточными мечтами, а также мятежники, преследующие свою личную выгоду, найдут в моем лице вместо заботливого друга – деспота, в лице Гиркана вместо отца страны – тирана, а в римлянах и Цезаре вместо руководителей и друзей – врагов».
Вернувшись в Иерусалим, он увидел, что Гиркан решительно ничего не сделал для восстановления Храма, и сам взялся за ремонтные работы. Не надеясь больше, что из Гиркана получится путный первосвященник, способный если не делом, то хотя бы словом править страной, Антипатр назначил своего старшего сына Фасаила начальником Иерусалима и его окрестностей, а Ирода начальником Галилеи.
12
И вот последний мазок в многофигурной картине, нарисованной Антипатром перед мысленным взором своих сыновей, – известие о гибели Секста от руки сторонника Помпея Басса Цецилия и вспыхнувшем в крупнейшей римской провинции бунте, грозящем перерасти в полномасштабную гражданскую войну между популярами и оптиматами.
Наступила долгая пауза. Слышно было, как под половицей скребется мышь. Наконец Антипатр спросил:
– Что скажете, дети мои?
– Ты мое мнение знаешь, – сказал Фасаил.
– Повтори его еще раз в присутствии Ирода.
– Я за то, чтобы выступить против Басса Цецилия, – сказал Фасаил. – В Риме уже наверняка знают о том, что случилось в Антиохии, и со дня на день следует ожидать прибытия туда дополнительных сил сторонников Цезаря.
– А что скажешь ты? – обратился Антипатр к Ироду.
– Я за объявление войны Бассу Цецилию.
– В таком случае, дети мои, – сказал Антипатр, – обсудим, не откладывая, какими силами мы располагаем, чтобы победить Басса.
Глава четвертая ПЕРВАЯ ПОБЕДА
1
Профессиональной армии со времени исхода из Египта у Израиля не было. Просто существовало правило: каждый мужчина, начиная с двенадцатилетнего возраста, был обязан носить оружие и уметь обращаться с ним. Уже после сорокалетнего хождения по пустыне евреи вступили в Ханаан как воинственное племя, с оружием в руках завоевывающее каждую пядь земли, на которой веками жили иные народы и племена, считавшие эту землю своей. Четырехстолетнее правление Судей было временем непрерывных войн с коренными народами Ханаана, объявленных врагами евреев не потому, что они были против расселения среди них пришельцев, а потому, что поклонялись иным богам и поэтому подлежали истреблению [49].
В то далекое время освоения Земли обетованной армия евреев представляла собой народное ополчение, создаваемое не во всей стране, а там и тогда, где и когда в таком ополчении возникала необходимость.
Потребность в профессиональных воинах появилась с окончанием времени судей и появления царей. Уже первый израильский царь Саул обзавелся войском численностью 3 тысячи человек, которое по мере надобности увеличивалось до нескольких сот тысяч за счет народного ополчения. Войско Давида насчитывало 288 тысяч человек и делилось на 12 частей, каждая из которых поочередно несла службу в течения месяца (казармой им служил «дом храбрых», устроенный в Иерусалиме). Но и Давид, когда в этом возникала необходимость, мог довести численность своей армии до полутора миллионов человек – опять же за счет призыва населения в народное ополчение.
Такое положение сохранялось на протяжение многих веков. Первую собственно профессиональную армию в Иудее учредил племянник Иуды Маккавея, сын Симона и внук Маттафии Иоханан-Гиркан (поддержанный отцом Ирода Антипатром первосвященник Гиркан доводился Иоханану-Гиркану внуком). Но об этом мы расскажем подробней в следующей главе.
2
За четыре года до описываемых событий Антипатр, вернувшись из Египта, взялся за организацию новой армии, отвечающей требованиям эпохи. Эту армию он разместил во всех крупных городах и крепостях Иудеи, назначил начальниками гарнизонов наиболее опытных воинов, а общее командование армией возложил на Малиха, отличившегося в Александрийской войне. Параллельно с организацией регулярной армии Антипатр учредил вспомогательные войска, на которые возложил охранные функции. Начальником вспомогательных войск, расположившихся главным образом в Иерусалиме и его окрестностях, он назначил своего старшего сына Фасаила.
Каждый из вновь назначенных командиров обладал своими достоинствами. Малиха отличали хладнокровие, умение быстро сориентироваться в боевой обстановке и, обнаружив в стане врага слабое место, устремиться туда, увлекая за собой солдат. Вместе с тем он был разумно осторожен, берег людей и не лез без крайней необходимости на рожон. Антипатр в таких случаях сердился на него, упрекал его в трусости, а Гиркан хвалил, повторяя полюбившийся ему стих из Екклесиаста: «Мудрость лучше силы». Фасаил, в отличие от Ирода, был немногословен, но расчетлив и хитер. Он никогда ничего не делал сгоряча, не взвесив предварительно все за и против. Не обладая силой и сноровкой брата, он тем не менее часто одолевал его, вызывая у Ирода злость. Эту особенность в своих сыновьях Антипатр обнаружил, когда те были еще детьми. Ирод ни в чем не хотел уступать старшему брату и стремился сам верховодить во всем, что бы ни затевал Фасаил, собирая вокруг себя соседских мальчишек. Фасаил переманивал их на свою сторону, и тогда между детьми возникали потасовки. Ирод, как более сильный, схватив брата за грудки, тянул его на себя, стремясь повалить его на землю. Фасаил, сколько мог, сопротивлялся, а потом внезапно поддавался, и Ирод, потеряв равновесия, оказывался лежащим спиной в уличной пыли. Фасаил же, как победитель, садился на него верхом, вызывая восторг у сверстников. Ирод, сплевывая набившуюся в рот пыль, кричал, что так бороться нечестно, что он все равно сильнее Фасаила, а Фасаил, удовлетворенный одержанной победой, отходил к гогочущим мальчишкам и, усмехаясь, говорил: «Сильнее, сильнее. Только почему ты лежишь на лопатках, а я стою на ногах?»
Первосвященник Гиркан никак не отнесся к новшествам Антипатра: ему было достаточно того, что в его непосредственном ведении находилась Храмовая стража, а что касается обеспечения безопасности Иудеи от внешней угрозы и охраны ее городов от внутренних беспорядков, то тут Антипатр был для него непререкаемым авторитетом. И на этот раз не обошлось без вмешательства в дела отца Ирода со стороны священников. Они нашептывали Гиркану: «Неужели ты не видишь, что этот идумеянин затеял с тобой опасную для твоей жизни игру? Преже чем съесть мышь, кошка играет с ней. Точно также Антипатр играет с тобой. Ни для кого не секрет, что все больше и больше евреев, не желая мириться со своеволием Антипатра и его сыновей, покидают страну, чтобы сохранить веру наших отцов. Или ты хочешь, чтобы вокруг тебя не осталось ни одного иудея и дарованная нам Предвечным земля оказалась заселенной одними лишь идумеянами, которые только делают вид, что разделяют с нами нашу веру?» На все эти нашептывания Гиркан отвечал короткой фразой: «Уповайте на Господа: Он – наша помощь и щит». И добавлял: «Все, что ни делает Антипатр, он делает для нашей с вами безопасности и в видах укрепления нашего союза с Римом. А кроме того, во главе войска стоит не идумеянин, а такой же, как мы с вами, правоверный иудей Малих. Да будет вам ведомо, что если для Антипатра Малих прежде всего храбрый воин, то для меня он защитник веры отцов наших и мой личный друг, которого я знаю с отроческих лет».
Тем не менее Гиркан, уступая давлению священников, забросал Цезаря и сенат Рима письмами, в которых просил все новых и новых подтверждений лояльного отношения римлян к иудеям, где бы те ни поселились, напирая на их право на особое к ним отношение, обусловленное исключительностью их верой, отличной от веры всех других народов. К удовлетворению Гиркана, римляне дали ему множество таких подтверждений, которые он не без гордости за свои дипломатические способности показывал Антипатру. Тот, знакомясь с ними, делал копии этих документов. «Зачем тебе столько копий?» – удивлялся Гиркан. «Ты даже не представляешь, какое великое дело ты сотворил! – отвечал Антипатр. – Благодаря тебе отныне каждый иудей, где бы он ни жил – в Сирии ли, в Египте, Риме, да хоть на краю света, – может свободно вздохнуть, не опасаясь за свою жизнь и имущество, за чистоту своей веры или за то, что его насильно возьмут в солдаты и заставят умирать за чуждые нам интересы. Этими документами должны быть снабжены все иудейские общины от края и до края земли!» От таких слов обычно скупого на похвалы Антипатра Гиркан краснел, как девушка на выданье. «Не умаляй и своих заслуг в моем скромном деле защиты интересов иудеев, – говорил он. – Если бы не ты и твоя верность Цезарю, эти документы вряд ли вообще могли появиться. Можешь сделать с них любое число копий, – я все их подпишу и скреплю своей печатью».
Антипатр, хваля Гиркана, не лукавил. Но в документах, полученных из Рима, он увидел нечто большее, чем увидели Гиркан и его священники. Учредив новые войсковые соединения, он озаботился теперь тем, чтобы снабдить эти соединения глазами и ушами. А такими глазами и ушами могли стать разведчики, или, как он называл их вслед за Моисеем, пославшего двенадцать мужей от каждого колена израилева в Ханаанскую землю, чтобы те досконально изучили все на месте, – соглядатаями. Во избежание провала соглядатаи Антипатра должны были быть снабжены надежными охранными грамотами. Такие охранные грамоты он увидел в документах, присланных из Рима, и сделал с них копии. Гиркан, не задавая лишних вопросов, каждую из них подписал и скрепил своей печатью.
3
Теперь Антипатр был уверен в успехе задуманной им разведывательной службы и безопасности соглядатаев, которых он подобрал из числа верных ему иудеев. Прежде чем выступить против Басса, он вызвал их в Сепфорис и подробно проинструктировал, что и как они должны выведать в Сирии. Нетерпеливому Ироду, оправившемуся, наконец, от раны, новая выдумка отца показалась намеренным затягиванием с началом войны. Антипатр, однако, умерил пыл сына, сказав, что не намерен рисковать своими детьми и разрешать им очертя голову прыгать в реку, не удосужившись заранее проверить, достаточно ли она глубока.
– Хватит с меня того, что ты чуть было не погиб, опрометчиво ринувшись в Сирию мстить за смерть Секста.
– Своим соглядатаям ты доверяешь больше, чем моему мечу, – упрекнул отца Ирод.
– Ты веришь в силу своего меча, – ответил ему на это Антипатр, – а я хочу, чтобы ты при этом был еще огражден и щитом.
Ирод усмехнулся.
– Хотел бы я посмотреть на этот щит, – сказал он.
– Изволь. У меня нет тайн от моих сыновей, – сказал Антипатр и вручил Ироду и Фасаилу по экземпляру охранных грамот.
Ирод, бегло ознакомившись с ними, молча вернул их отцу: на него эти грамоты не произвели впечатления. Фасаил же, внимательно прочитав их, одобрил замысел отца. Он оценил то, что Антипатр, отправляя соглядатаев в Сирию, где римляне схлестнулись с римлянами, столь тщательно озаботился их безопасностью. Эти грамоты были двоякого рода: рассчитанные как на сторонников Цезаря, так и на его противников. Грамоты, рассчитанные на сторонников Цезаря, представляли собой копии его указов, в которых перечислялись льготы, предоставляемые иудеям диктатором. Грамоты, предназначенные для его противников, также представляли собой копии официальных документов, но подписаны были уже не Цезарем, а другими высшими римскими чиновниками, или представляли собой выписки из народных постановлений городов, подчиненных Риму.
Ирод, пока Фасаил изучал документы, демонстративно зевал, всем своим видом показывая отцу и брату, что не верит в успех задуманного ими мероприятия. Фасаил же, прежде чем грамоты были розданы соглядатаям и те отправились в Сирию, попросил у Ирода письменные принадлежности, чтобы сделать для себя выписки. Тот предложил ему свой дневник, и Фасаил своим каллиграфическим почерком вписал в него:
«Гай Цезарь сим постановляет: пусть ни один чиновник, ни один претор, ни один легат не набирает себе войска из числа иудеев, равно как не допускает солдат вымогать от иудеев деньги ни для зимовок, ни под каким-либо другим предлогом; пусть иудеи будут свободны от всех решительно повинностей; все, что принадлежит иудеям в силу приобретения или покупки, должно принадлежать им невозбранно»;
«Я, Юлий Гай, претор и консул римский, сим сообщаю: поскольку в постановлении сената о запрещении всяких сходок в Риме и провинциях изъяты из общего правила иудеи, то и я равным образом, запретив все прочие сходки, разрешаю одним только иудеям собираться сообразно их установлениям и отправлять требования их закона. Поэтому и все чиновники на местах, принявшие иные постановления относительно иудеев, должны отменить их вследствие доблестного и прекрасного отношения к нам иудеев – наших друзей и союзников»;
«Я, консул Люций Лентул, сим освобождаю римских граждан иудейского вероисповедания, живущих и отправляющих свое богослужение в провинциях, ввиду их религиозных убеждений, от военной службы»;
«Народное собрание Делоса [50]сообщает: квартирующий в нашем городе и заведующий воинским набором легат Марк Пизон, созвав нас и правоспособных граждан, распорядился не набирать в военную службу никого из римскоподданных иудеев, ввиду того, что они по ритуальным соображениям освобождены от военной службы. Ввиду этого мы должны повиноваться решению легата».
«Жители Галикарнаса [51]сообщают всем, кого это касается: так как мы всегда относились и относимся с благоговением к выражению всякого религиозного чувства, то, следуя великодушному в отношении всех людей народу римскому, известившему нашу общину относительно своей дружбы и союза с иудеями и пожелавшему, чтобы последним были разрешены их богослужение, установленные празднества и собрания, мы также решили, чтобы всем желающим иудеям, будь то мужчины или женщины, было позволено справлять их субботы, приносить жертвы по иудейскому ритуалу и совершать богослужение у моря, сообразно их установлениям. Буде же кто-либо, частное лицо или официальное, воспрепятствует им в том, да будет обложен в пользу города денежным штрафом»…
4
Пока соглядатаи Антипатра, снабженные охранными грамотами, отправились в различные города Сирии, выдавая себя в зависимости от обстановки то за купцов, а то за мирных граждан, направляющихся на богослужение, Ирод занялся со своими солдатами усиленными тренировками по фехтованию и конной выездке, Фасаил засел за чтение сочинений греческих авторов из своей походной библиотеки, а Антипатр вернулся в Иерусалим, чтобы договориться с Малихом о войске, которое тот может отрядить в Сирию, не оставляя при этом незащищенными иудейские города.
Вечерами, когда на землю опускались сумерки, Ирод возвращался домой усталый и голодный, наспех ел то, что ему подавали, и час-другой посвящал сыну, которому исполнился год и который уже стал ходить, смешно шлепаясь на пол через каждый шаг. Дорис он избегал. Еще более располневшая за этот год и вконец обленившаяся, так что ей стало лень поесть за столом, и завтраки, обеды и ужины подавались ей в постель, она не вызывала у Ирода никаких чувств, кроме отвращения. «Как я мог вообще влюбиться в эту оплывшую жиром жабу?» – думал он, и тогда ему вспоминались его свадьба, неунывающий шошбеним Секст Цезарь, с пьяных глаз собиравшийся поехать с двумя-тремя когортами в Иерусалим бить морду первосвященнику Гиркану, а теперь так подло убитый своими же римлянами, и на душе у него становилось муторно и тоскливо. Чтобы унять тоску, он шел к брату, заставал его за чтением очередного свитка, и спрашивал:
– Не надоест читать одно и то же?
– Как может надоесть приобщение к мудрости? – вопросом на вопрос отвечал Фасаил и незаметно для брата втягивал его в игру на знание вещей, известных чуть ли не каждому образованному человеку: – Вот скажи мне, что трудней всего на свете?
– Видеть изо дня в день твою опостылевшую рожу, – отвечал Ирод.
– Это для тебя, – подхватывал Фасаил. – А вот Фалес [52]считал, что трудней всего познать себя.
– Ну и что еще умного сказал твой Фалес? – спрашивал Ирод.
– Много чего, – отвечал Фасаил и цитировал на память: – Древнее всего сущего – Бог, ибо он не рожден. Прекраснее всего – мир, ибо он творение Бога. Больше всего – пространство, ибо оно объемлет все. Быстрее всего – ум, ибо он обегает все. Сильнее всего – неизбежность, ибо она властвует всем. Мудрее всего – время, ибо оно раскрывает все. Продолжать или достаточно?
– А не говорил ли твой Фалес, что легче всего?
– Говорил, – улыбался Фасаил, глядя на брата так, как смотрит мудрый учитель на несмышленого ученика: – Легче всего давать советы другим.
– Ко мне это не относится, – мрачнел Ирод.
– Конечно, нет, – соглашался Фасаил. – К тебе не относится ровным счетом ничего, о чем говорил Фалес.
– Например?
– Например, Фалес спрашивал: что приятнее всего? И отвечал: удача. Или вот еще: когда легче всего сносить несчастье? Когда видишь, что врагам твоим еще хуже. Какая жизнь самая лучшая? Когда мы не делаем того, что осуждаем в других. Кто счастлив? Тот, кто здоров телом, восприимчив душой и податлив на воспитание. Все это, ты прав, не имеет к тебе ни малейшего отношения.
– Я сейчас поколочу тебя, – грозился Ирод.
– Попробуй только, – принимал вызов Фалес.
Братья затевали возню, в которой, впрочем, Ирод не давал Фалесу перехитрить себя. Время летело незаметно.
5
По истечении десяти дней из Иерусалима возвратился отец. Он был растерян, что случалось с ним нечасто. На лице его, напоминающем лист пергамента, появились новые морщины. Теперь перед сыновьями был не храбрый воин, политик и дипломат, а усталый старик, потрепанный жизнью.
Ирод и Фасаил, видя состояние отца, не смели расспрашивать его о результатах поездки в столицу, и ждали, когда он сам обо всем расскажет. Антипатр, наконец, произнес:
– Войска у нас нет, дети мои.
Ирод и Фасаил переглянулись. Новость огорошила их. У наместника Иудеи, назначенного самим Цезарем, нет войска? Да мыслимо ли такое? Уж не хочет ли отец сказать, что и между евреями в Иерусалиме возникла распря, подобная той, какая возникла между римлянами в Сирии? Ирод лихорадочно соображал, всматриваясь в изможденное лицо отца. Что могло произойти в Иерусалиме за время, когда город покинули Антипатр и Фасаил? Новая борьба за власть? Но ведь младший брат Гиркана Аристовул, претендовавший на царскую власть, по приказу Помпея обезглавлен и по его же приказу царская должность в Иудее вообще упразднена! Пусть священники, окружающие Гиркана, называют его царем, это решительно ничего не меняет в его статусе, – Цезарь назначил Гиркана первосвященником Иудеи, но никак не царем: высшим гражданским лицом в стране остается Антипатр, и именно Антипатр несет всю полноту ответственности за дела, происходящие в Иудее. Наконец, в Иерусалиме остался Малих, командующий учрежденной Антипатром армии. Он-то почему не предоставил их отцу войска для похода в Сирию?
Из того, что Антипатр наконец поведал, братья с изумлением узнали, что Малих-то и стал главной причиной неудачной поездки их отца в Иерусалим. Сблизившись с Гирканом, впавшим в панику из-за междоусобной борьбы римлян в Сирии и больше всего на свете опасавшимся, что итогом этой борьбы может стать его смещение с поста первосвященника, Малих занял позицию невмешательства в дела римлян. В конце концов, заявил он, не евреям решать, кто победит в войне римлян против римлян – сторонники Цезаря или покойного Помпея. «Когда грызутся львы, овцам не пристало быть их судьями», – сказал Малих Антипатру в присутствии Гиркана, и Гиркан поддержал военачальника. «Ты хочешь сказать, что не дашь мне, наместнику Иудеи, солдат?» – спросил Антипатр. «Не раньше, чем ты убьешь меня», – ответил Малих. Антипатру незачем было убивать Малиха, – достаточно было сместить его с должности командующего войсками и назначить на его место другого. Но это был худший из вариантов, какой можно было придумать: учитывая поддержку Малиха со стороны первосвященника, смещение командующего могло вызвать бунт среди священников, пользующихся авторитетом в народе, а священники и без того были враждебно настроены к Антипатру и его сыновьям. В создавшейся ситуации Антипатр решил ничего не предпринимать, чтобы не обострять и без того непростую обстановку в Иерусалиме, и вернулся в Сепфорис ни с чем.
– Итак, дети мои, что мы имеем для войны против Басса? – спросил Антипатр, закончив рассказ о своей неудачной поездке в Иерусалим. И сам же ответил: – Практически ничего.
– В Иерусалиме осталось мое войско, – сказал Фасаил.
– Его нельзя трогать, – возразил Антипатр. – Я приказал твоим людям присматривать за Малихом и Гирканом.
– Но у меня, кроме войска, есть еще и стражники. Их-то можно задействовать?
– Здесь, в Сепфорисе, и других городах Галилеи, – вступил в разговор Ирод, – у меня расквартированы вооруженные отряды. Прибавь к ним моих телохранителей-германцев, которые однажды нагнали уже страха на Гиркана и его судей. Да и сирийская конница у меня сидит без дела.
– Этих людей тоже нельзя срывать с места, – сказал Антипатр. – А поступим-ка мы, дети мои, вот как: обратимся за помощью к моим друзьям-арабам, которые не раз выручали меня.
Тем временем в Сепфорис вернулись первые соглядатаи, отправленные Антипатром в Сирию. Из того, что им удалось выведать, Антипатр и его сыновья узнали, что среди римских войск, командование над которыми взял на себя Басс, началось брожение: одни – и таких было большинство – подчинились новому наместнику, другие отказались признать его полномочия. Из Рима для борьбы с Бассом и другими сторонниками оптиматов прибыли вспомогательные войска, возглавляемые Марком Антонием [53]. Соединившись с противниками Басса Цецилия, Антоний направился к Апамее [54], где сосредоточились основные силы римских войск, изменивших Цезарю. Эти данные подтвердили и другие соглядатаи, вернувшиеся в Сепфорис.
Расстановка сил стала ясна. Антипатр отправил за Иордан гонцов с деньгами и письмом к своему союзнику и тестю Арете, в котором просил предоставить ему на три месяца войско численностью десять тысяч пехоты и две тысячи конницы. В ожидании арабского войска Антипатр приступил с сыновьями к разработке деталей плана похода в Сирию. План этот, в общих чертах, состоял в следующем. Наемное войско арабов делится на два отряда. Один отряд принимает под свое начало Фасаил, другой Ирод. Вступив в Сирию, они с разных сторон идут на соединение с войсками Антония и, усилив его фланги, вместе направляются к Апамее. На подступах к городу они перестраиваются и атакуют противника с противоположных концов, не давая ему возможности вырваться в открытое поле, где римляне не имеют себе равных по силе и умению сражаться в боевых порядках. Резерв составят телохранители Ирода, усиленные телохранителями Антипатра, которые благодаря своей немногочисленности сохранят высокую мобильность.
– Согласны с моим планом? – спросил Антипатр.
– Согласны, – сказал Ирод. А Фасаил спросил:
– Что станешь делать ты, отец?
– Вернусь в Иерусалим, – ответил Антипатр. – Боюсь, что теперь главная угроза нам будет исходить от Малиха, сумевшего подчинить своему влиянию Гиркана…
6
Все произошло так, как и запланировал Антипатр. Вступив в Сирию, Ирод и Фасаил соединились с войсками Антония и, обезопасив фланги его армии, двинулись к Апамее. Басс уже ждал прибытия Антония и выдвинул свои войска из города, чтобы сразиться с ним на открытой местности. Антоний развернул свою армию фронтом и, не вступая в сражение с войсками Басса, стал теснить их к городу. Ирод и Фасаил перестроились и короткими атаками с флангов стали загонять воинов Басса на улицы Апамеи. Здесь-то и произошло главное сражение, ради которого была затеяна война сторонников Цезаря со сторонниками Помпея. Удар по войскам Басса был нанесен одновременно с трех сторон: с противоположных концов длинных широких улиц наступали отряды Ирода и Фасаила, не давая возможности противнику вырваться из города; по фронту наступал с основными силами Антоний, за которым следовали телохранители Антипатра, рассекая лишившихся централизованного управления воинов Басса на мелкие неорганизованные группы, и уничтожали их. В пылу сражения Ирод увлекся и врезался на своем коне в самую гущу противника. За ним поспешили его телохранители. Воздух заполнился звоном мечей и криками сражающихся. Кровь лилась рекой. Ирод оказался один на один с всадником в золоченых доспехах. Он поднял коня на дыбы и уже занес было меч над римлянином, чтобы поразить его, когда конь под ним, пронзенный копьем, пал, увлекая за собой седока. Ирод, зацепившись ногой в стремени, завертелся ужом, чтобы высвободить ногу из-под тяжести коня. Всадник в золоченных доспехах спешился, выбил из руки Ирода меч, которым он продолжал размахивать, и помог ему встать на ноги.
– Дьявол! – восхищенно сказал римлянин. – Ты сражался, как лев! Как тебя зовут?
– Ирод, сын Антипатра, – ответил Ирод, с трудом переводя дыхание и еще не веря, что сражение закончилось. – А как твое имя?
– Марк Антоний, – ответил римлянин, дружески похлопывая Ирода по спине. – Не сын ли ты того Антипатра, который выступил на стороне Цезаря в Александрийской войне?
– Сын.
– Достойный сын достойного отца! – похвалил Антоний Ирода. – Твой отец помог Цезарю добыть победу, а ты помог разбить помпеянцев мне. Надо бы выпить за нашу общую победу?
– С радостью, – сказал Ирод, – у меня пересохло в горле.
Так состоялось знакомство нашего героя с Марком Антонием, сыгравшем в дальнейшей судьбе Ирода важную роль.
На пиру, устроенном Антонием в честь разгрома противников Цезаря, Ирод познакомился еще с одним знатным римлянином – Мурком, которого Цезарь прислал в качестве нового наместника Сирии. Сразу же по окончании пира Антоний вернулся в Рим, где оптиматы продолжали плести интриги против Цезаря и популяров. Прощаясь, он пригласил Ирода в гости, обещая показать ему не только Рим, но и всю Италию. Ирод, в свою очередь, пригласил Антония в Галилею и обещал показать ему всю Иудею, включая Иерусалим. Расстались они друзьями.
Глава пятая ПРОДОЛЖЕНИЕ ДНЕВНИКА ИРОДА
1
Вернувшись в Сепфорис, Ирод заскучал. Административная работа была не для него. К Дорис он окончательно остыл. Ирод по-прежнему много времени уделял учениям, но с некоторых пор с этой работой стали лучше справляться спасшие его во время первого неудачного похода в Сирию гиганты-кавалеристы Юкунд и Тиранн, которых он произвел в офицеры. В это же время Ирод пристрастился к вину и женщинам, и обе эти страсти надолго стали спутниками его жизни, от которых он избавится лишь к старости [55]. Однако кипучая натура Ирода требовала чего-то большего, требовала умственного приложения своим силам, и тогда он вспомнил о начатом им дневнике. Перечитав написанное, он продолжил рассказ о своем прадеде, о котором знал по рассказам деда и отца.
Смышленый мальчишка, выиграв в Мемфисе торги на откуп налогов у опытных иудеев, Антипатр летел на родину, как на крыльях, предвкушая, как обрадуется его победе Иуда Маккавей. Здесь, однако, его ожидало горестное известие: его старший друг и покровитель пал в бою с сирийцами. Молодой Антипатр снова почувствовал себя сиротой.
Так, в сущности, оно и было: прадед Ирода лишился самого близкого ему человека. Братья Иуды недолюбливали Антипатра, продолжая дразнить его «необрезанным». Антипатр платил им такой же нелюбовью. С гибелью Иуды он отдалился от них, считая, что братья незаслуженно называют себя Маккавеями, и занялся исключительно тем делом, какое выхлопотал себе в Египте: сбором налогов. В короткое время он сколотил огромное состояние. Поселившись в Петре, он вырубил себе в скале сказочной красоты дворец в греческом стиле, женился на идумеянке и зажил жизнью состоятельного человека, который может позволить себе любой каприз. Иудеи тем временем воевали с соседями, то беря над ними верх, а то уступая им в силе. Антипатр же раз в год покидал свое убежище в Петре, объезжая Иудею и собирая налоги. Не довольствуясь своей законной долей, он присваивал дополнительные суммы, подделывая записи в налоговых книгах, и считал себя при этом благодетелем иудеев, поскольку обеспечивал их безопасность на южной границе.
Антипатру-старшему было уже далеко за тридцать, когда его жена соизволила, наконец, одарить его наследником, которому он дал свое имя. Вернувшейся из пещеры жене [56]он только и сказал: «Благодарение Предвечному, что ты не стала, подобно Аврааму и Сарре, дожидаться, когда мне исполнится сто лет, а тебе девяносто, прежде чем ты родишь мне сына, а Идумее защитника». Антипатра-младшего, деда Ирода, едва ему исполнилось семь лет, Антипатр-старший отправил в Афины, чтобы тот постиг там все греческие премудрости. Дед Ирода учился в Греции до девятнадцати лет, затем вернулся на родину, и Антипатр-старший тут же женил его. Дед уступал прадеду в находчивости, но превзошел его в деловой хватке. На торгах на откуп податей он неизменно выигрывал у всех своих конкурентов, так что с ним теперь считались не только египтяне и сирийцы, но и Маккавеи.
2
Из рассказов деда Ирод узнал много для себя интересного. После гибели Иуды Маккавея братья его Симон и Ионаф выкупили у врагов его тело, отвезли на родину в Модию и похоронили там рядом с отцом. Власть в Иудее они поделили между собой. Время правления Симона и Ионафа было не лучшим в истории Иудеи: наследники Антиоха Епифана возобновили завоевательные походы, привлекая на свою сторону как самих евреев, недовольных Маккавеями, так и коренных жителей Священной земли, живших здесь еще до прихода сюда евреев. Походы эти не носили системного характера; часто они принимали форму взаимных грабежей и убийств. Так, аморритяне [57], позарившись на добро, которое старший из братьев Маккавеев, Иоанн, вывез из Иерусалима, чтобы скрыть его от сирийцев, напали на него, завладели всем доверенным ему имуществом, а охрану и самого Иоанна убили. В отместку Ионаф и Симон, прослышав, что через подконтрольную им территорию собираются пройти аморритяне, сопровождающие с богатыми дарами невесту к жениху, устроили засаду, напали на кортеж, насчитывавший до четырехсот человек, включая женщин и детей, и всех их перерезали, а подарки и находившиеся на аморритянах драгоценности присвоили.
Основную опасность, однако, для Иудеи представлял в то время сирийский полководец Вакхид. Война евреев с сирийцами, поддержанными большим числом иудеев, шла с переменным успехом. В конце концов Ионаф предложил Вакхиду заключить дружественный союз. Вакхид принял предложение Ионафа, и они, встретившись, поклялись никогда больше не воевать между собой. В знак того, что клятва эта нерушима, полководцы в присутствии многочисленных свидетелей торжественно коснулись детородного органа друг друга [58].
Вакхид сдержал клятву: при нем Сирия перестала тревожить Иудею набегами. Но в обеспечение гарантии мира сирийцы разместили в Иерусалиме гарнизон, составленный исключительно из македонян, и обложили Иудею данью. Иудея, таким образом, стала данницей двух своих могущественных соседей: на юге Египта, на севере Сирии. При этом Египет и Сирия быстро нашли между собой общий язык благодаря династическим бракам: вдова Птолемея IX, сына Птолемея VIII, которого очаровал своей находчивостью прадед Ирода, Клеопатра Селена [59]вышла замуж за сирийского царя Антиоха VIII, после его смерти стала женой Антиоха IX и, наконец, Антиоха X. Однако мир между Иудеей и Сирией не означал мира в самой Сирии: там развернулась ожесточенная борьба за власть, и каждый претендент на престол стремился втянуть в эту борьбу евреев. Претендент на сирийский престол принц Александр Балас писал Ионафу:
«Царь Александр посылает привет брату Ионафу. Мы давно слышали о твоей храбрости и надежности и поэтому посылаем тебе предложение вступить в дружественный союз с нами. Ввиду этого мы сейчас же назначаем тебя иудейским первосвященником и принимаем тебя в число наших друзей. При этом я отправляю тебе в дар пурпуровую одежду и золотой венец и прошу тебя относиться к нам с тем же уважением, с каким мы относимся к тебе».
Другой претендент на сирийский престол, принц Дмитрий, прослышав про письмо брата, обругал себя за то, что не догадался первым привлечь на свою сторону евреев, и направил Ионафу собственное и куда более пространное письмо:
«Царь Дмитрий посылает привет свой Ионафу и всему иудейскому народу. Так как вы соблюдаете дружественную к нам верность и не поддаетесь попыткам врагов склонить вас на свою сторону, то я не могу не воздать вам за это должную похвалу и прошу вас оставаться мне верными; за это вы получите от нас благодарность и всяческие льготы. Я освобожу вас от большинства налогов и сборов, которые вы платили прежним царям и мне, и слагаю с вас теперь все налоги, которые вы обыкновенно платили. Кроме того, я слагаю с вас сборы за соль и государственный налог в пользу короны, которые вы нам платили, а также освобождаю вас с сегодняшнего дня от платежей третьей части злаков и от половины части древесных плодов, которые вы мне обыкновенно отдавали. Равным образом я отныне и навеки слагаю с вас подушную подать, которую каждый из жителей Иудеи, равно как Самарии, Галилеи и Переи, обязан был платить мне. Город Иерусалим я объявляю священным, неприкосновенным и свободным от десятины и всех прочих поборов. Иерусалимскую крепость я поручаю вашему первосвященнику Ионафу; пусть он поместит в ней такой гарнизон, который он сочтет достаточно надежным и преданным, дабы эти люди сберегли ее нам. Всех находящихся в нашей стране военнопленных или впавших в рабство иудеев я отпускаю на волю и запрещаю употреблять на какие бы то ни было казенные надобности принадлежащий иудеям вьючный скот. Пусть будут дни субботние, всякий праздник и три предшествующих ему дня свободны от всякой принудительной работы. Равным образом я возвращаю свободу и все права живущим у меня в Сирии иудеям и позволяю желающим из них вступить ко мне в войско до тридцати тысяч человек; люди эти будут получать, куда бы они ни пошли, такое же точно содержание, какое причитается моему собственному войску. Некоторых из них я помещу в крепостные гарнизоны, других сделаю своими личными телохранителями, отчасти же назначу начальниками моих придворных войск. Я разрешаю иудеям жить по их собственным законам и соблюдать их и желаю, чтобы эти же законы распространялись и на три прилегающие к Иудее провинции [60]. Вместе с тем мне угодно, чтобы первосвященник позаботился о том, чтобы ни один иудей не поклонялся Богу в другом святилище, как только в иерусалимском. Из своих личных средств я отпускаю на расход по жертвоприношениям ежегодно сто пятьдесят драхм [61]и желаю, чтобы из них весь излишек поступал в вашу же пользу. Те же десять тысяч драхм, которые обыкновенно получали цари из средств Храма, я также предоставляю вам в пользу священников, несущих обязанности по богослужению в храме. Все те, кто стал бы искать убежища в Иерусалимском Храме или в одном из зависящих от последнего учреждений, будут отпущены на волю, и имущество их останется в целости, хотя бы они искали спасения по задолженности царю или по какой-либо иной причине. Я разрешаю возобновить и достроить Храм и отпускаю на то нужные суммы из своих собственных средств; равным образом я разрешаю и постройку городских стен и позволяю возвести высокие башни, причем и на все это отпускаю свои средства. Если же понадобится где-нибудь в стране иудейской возвести сильную крепость, то да будет это сделано также за мой личный счет».
Обещания Дмитрия показались братьям более приемлемыми, чем назначение Александром Ионафа первосвященником и присланная ему в дар пурпуровая одежда, и они заключили союз с Дмитрием. Александр, однако, разгромил войско Дмитрия, да и сам Дмитрий был убит, и тогда Ионаф и Симон заключили союзнический договор с Александром. Первое, что сделал Александр, посетив Иудею, это назначил прадеда Ирода начальником над Идумеей и подтвердил его прежние полномочия откупщика дани в пользу Египта, а теперь и Сирии (в отличие от Дмитрия, он не обещал иудеям никаких налоговых поблажек). Иудеям это страшно не понравилось, и тогда одни из них в поисках лучшей доли выехали из страны, причем большая их часть осела в Риме, памятуя о давнем оборонительном и наступательном союзе, другие же стали обвинять во всех своих бедах Ионафа и Симона. Ионаф, желая поправить грустное положение, в каком оказалась Иудея, отправился к одному из сирийских полководцев с намерением выработать новые союзнические соглашения, не столь обременительные для иудеев, но был схвачен в плен и убит. Симон, оставшийся один, понял, что следующей жертвой хитроумных сирийцев станет он, собрал в Храме народ и обратился к нему с речью:
«Единоплеменники! Вам небезызвестно, насколько охотно, после смерти отца моего, как я, так и братья мои шли за вашу погибель на разные опасности, сопряженные с возможностью смерти. Полагаю, что как я лично, так и смерть членов нашей семьи за законы и богопочитание дали вам достаточные тому доказательства. Поэтому нет такого страха, который вытеснил бы из души моей эту решимость и вызвал бы в ней особую привязанность к жизни или презрение к славе. Итак, если уже у вас нет теперь такого военачальника, который решился бы за вас на всякие крайности, то добровольно последуйте за мной, куда бы я вас ни повел. Если я не лучше своих братьев, чтобы не щадить своей жизни, то и не хуже их, и не отступлюсь позорно от того, что они признали за наилучшее, а именно – умереть за ваши законы и ваше истинное богопочитание. Где понадобится явить себя достойным их, там я и явлю себя таковым. Я смело надеюсь не только наказать врагов, но и избавить всех вас с вашими женами и детьми от их заносчивости и с Божьей помощью сохранить в целости Его святой Храм. Я отлично понимаю, что соседние племена наступают на вас оттого лишь, что считают вас не имеющими военачальника, который повел бы вас в бой».
3
Народ скрепя сердце признал Симона своим военачальником и заодно первосвященником, и Симон не обманул его доверия, изгнав из Иерусалима гарнизон македонян. Симону в это время было уже далеко за шестьдесят, но он еще вполне мог бы править Иудеей, совмещая должности военачальника и первосвященника, если бы не его зять – знатный египтянин по имени Птолемей [62], предъявивший свои претензии на власть. Пригласив по случаю праздника тестя с его семьей на пир, он убил Симона вместе с двумя его сыновьями и заточил в темницу тещу. Третий, младший сын Симона – Иоханан, прозванный Гирканом [63], о котором у нас шла речь выше, – каким-то чудом спасся, по праву наследования вступил в должность первосвященника и объявил мужу сестры войну.
Птолемей, прослышав о намерении Гиркана покончить с ним, заперся в небольшой крепости Дагон, расположенной неподалеку от Иерихона, и приготовился к длительной осаде. Все попытки Гиркана взять штурмом крепость заканчивались одним и тем же: Птолемей выводил на крепостную стену мать Гиркана и свою тещу, истязал ее на глазах сына и грозился сбросить с высоты, если тот немедленно не уберется в Иерусалим. Тщетно несчастная женщина призывала сына не обращать внимания на угрозы зятя и штурмовать крепость, тщетно заклинала его отомстить Птолемею за смерть своих близких, – Гиркан, видя страдания матери, отступал от стены, дожидаясь, когда голод вынудит Птолемея и его небольшой гарнизон сдаться на милость осаждающих.
Дождался. Но дождался не сдачи крепости, а наступления субботнего года [64]. Войско Гиркана разбрелось по домам, вынужден был возвратиться в Иерусалим и сам Гиркан с остатками сохранившими ему верность воинами. Птолемей, возблагодарив судьбу, велел казнить свою тещу, а сам беспрепятственно отбыл на родину в Египет, в город Филадельфию. На этом, однако, несчастья Гиркана не только не закончились, они толком еще и не начались. Сирийцы, воспользовавшись благоприятно сложившейся для них ситуаций, вступили в Иудею, грабя и опустошая ее, и, не встречая на своем пути серьезного сопротивления, подступили к стенам Иерусалима. Гиркан обратился к ним с просьбой заключить перемирие, поскольку иудеи празднуют субботний год и им из религиозных соображений возбраняется общаться с иноземцами и, тем более, проливать их кровь. Сирийцам только этого и нужно было: горячие головы тут же решили не вступать с Гирканом ни в какие переговоры, а полностью вырезать всех иудеев за их заносчивость и отчуждение от других народов. Головы эти, однако, остудило известие о том, что пока сирийцы занимались в Иудее грабежами и вынашивали планы поголовно вырезать всех евреев, на их собственную страну напали парфяне и безнаказанно занялись в Сирии тем же, чем сирийцы в Иудее, – грабежами. Осада Иерусалима была снята, и сирийская армия поспешила отразить нападение парфян.
Гиркан, принеся обильную жертву Предвечному за ниспосланное Им спасение от неминуемой гибели, крепко задумался: как быть ему дальше? Надежды на то, что какой-нибудь очередной сосед не воспользуется празднованием иудеями субботнего года и не придет к ним пограбить, а то и уничтожить их, не было никакой. Как не было и никакой уверенности в том, что ему удастся уговорить иудеев забыть на время о празднике и взяться за оружие, – они скорее согласятся погибнуть, чем нарушат предписанные им законы. Что же остается? Собрать войско из наемников. Но для этого нужны деньги, и деньги немалые! Где их взять? И тогда Гиркан решился на отчаянный и, в сущности, кощунственный шаг: он вскрыл могилу царя Давида и взял оттуда три тысячи талантов серебра, став, таким образом, первым из вождей иудеев, кто принял на свое содержание наемное войско. С этим войском Гиркан отправился в Сирию с намерением вернуть то, что северные соседи награбили в Иудее до нападения на их страну парфян. Отсюда он повернул свое войско на юг и завладел Идумеей. Получив солидный выкуп с деда Ирода и других богатых идумеян, он приказал всем остальным идумеянам покинуть свою страну, чтобы здесь могли поселиться иудеи. Идумеяне взялись за оружие, призвав на помощь дружественных им арабов. Возникла угроза кровопролитной войны с неясными для Гиркана перспективами. Тогда Гиркан вспомнил о давних дружеских связях Антипатра-старшего с Иудой Маккавеем и вступил в переговоры с его сыном, дедом Ирода. Антипатр-дед, увеличивший и без того огромное состояние, накопленное его отцом и потому считавший себя вправе говорить на равных с любым властителем, напомнил Гиркану, что между идумеянами и иудеями не может быть прочного мира, поскольку иудеи со времен Иакова, обманувшего Исаака, хитростью выторговывают себе право на особое к ним отношение, которого лишены другие народы. Гиркан заметил Антипатру на это, что иудеи потому пользуются правом на особое к ним отношение, что являются древнейшим на земле народом, выжившим благодаря неукоснительной вере в своего Бога. Антипатр возразил Гиркану, заявив, что идумеяне не верят во всемогущество Бога иудеев, но тем не менее тоже выжили и по возрасту ничуть не уступают иудеям, кичащимся своей древностью. «Разве мой дед, Иуда Маккавей, не был лучшим другом твоего отца идумеянина Антипатра? – спросил Гиркан. – Или ты изменил памяти наших предков?» «А разве братья лучшего друга моего отца не презирали его за то, что он был необрезанный, хотя во всем остальном ни в чем не уступал, а кое в чем и превосходил вас, иудеев?» «Человек может быть лучше или хуже любого другого человека, но смысл обрезания для нас, иудеев, состоит не в превосходстве одного человека над другим, а в заключении союза между смертным человеком и бессмертным Предвечным», – сказал Гиркан. «Не знаю, не знаю, – заметил Антипатр. – Да и не хочу знать». На этом переговоры между Гирканом и дедом Ирода были прерваны.
4
Самый разговор об обрезанных и необрезанных был Антипатру-деду неприятен. Всякий раз, когда заходила речь об этом древнем обычае евреев, ему вспоминалась одна и та же сцена, свидетелем которой он стал, отправившись в Египет на очередные торги за право приобретения откупа налогов. Именно тогда его казначей, проживавший постоянно в Александрии, желая доставить деду Ирода удовольствие, потащил его глазеть на тайну посвящения новообращенного в галлы [65]. Видеть это запрещалось всем смертным под страхом смерти. Но казначей за щедрый гонорар подговорил архигалла сделать для деда Ирода исключение, и архигалл разрешил им увидеть весь обряд от начала до конца. Напялив на себя белоснежные бурнусы и скрыв лица под капюшонами, чтобы другие жрецы, участвующие в обряде, приняли их за своих, Антипатр и его казначей встали в конец процессии и вместе со всеми двинулись вокруг храма Кибелы [66], сопровождаемые звуками флейт и барабанов. Впереди шел архигалл, склонив скрытую под капюшоном голову и сложив на животе руки с четками. За ним следовали служки в таких же белоснежных бурнусах и выточенными из черного дерева фаллосами в руках. За служками шел с обнаженной головой новообращаемый – совсем еще молодой человек с безусым лицом и отрешенным взглядом (Антипатр почувствовал неприятный холодок в низу живота, когда этот бессмысленный взгляд на короткое время задержался на нем). За новообращаемым шли обнаженные по пояс юноши, которые не столько танцевали, сколько кривлялись под музыку и при этом хлестали себя цепями по спинам с такой силой, что кожа не выдерживала, лопалась полосами, и из полос этих сочилась кровь. Замыкали шествие жрецы, среди которых и затесались Антипатр с казначеем. Наконец, обойдя храм трижды, процессия повернула к его воротам и вступила в темную прохладу наоса, освещенного тусклым светом немногочисленных факелов. Здесь процессия образовала круг, бичевавшие себя молодые люди легли спинами на мраморный пол, так что пол тут же окрасился их кровью, музыка прекратилась, и архигалл, откинув с лица капюшон, стал читать какую-то молитву на непонятном Антипатру языке, время от времени касаясь рукой головы новообращаемого. Закончив долгую молитву, он сделал шаг назад, и тут же по всему периметру наоса ярко зажглись десятки факелов, отчего в храме сделалось светло, как днем, и снова зазвучала музыка – на этот раз веселая и громкая. Антипатр поразился огромной высоте храма, но еще больше его поразил невероятных размеров фаллос, вытесанный из черного гранита с блестками вкрапленных в него кристаллов кварца [67]. Этот гигантский фаллос стоял, как на постаменте, на таком же черном гранитном кубе, но уже без всяких вкраплений, и постамент этот походил не столько на опору фаллоса, сколько на удобное ложе, на которое хотелось взобраться и отдохнуть после долгого стояния на ногах. В храме неизвестно откуда появились танцовщицы, окружили новообращаемого и, ни на минуту не прекращая танца, стали, будто играя, его раздевать. Тут явилась еще одна девица с наброшенным на нее прозрачным покрывалом. Легкой походкой, ступая с носка на пятку, она направилась к центру наоса и здесь, оказавшись рядом с уже раздетым донага новообращаемым, скинула с себя покрывало, тоже оказавшись совершенно голой. Казначей ткнул Антипатра пальцем в бок и, выглянув из-под капюшона, подмигнул ему: ну как тебе эти танцульки? Антипатр в ответ ткнул казначея в бок кулаком и стал наблюдать за дальнейшим ходом событий. Новообращаемый, возбужденный то ли музыкой, а то ли видом юного прекрасного тела, набросился на девицу, повалил ее на черный постамент, на который Антипатру так хотелось взобраться, чтобы дать возможность отдохнуть затекшим ногам, и прежде, чем войти в ее чрево, что, по-видимому, он и должен был сделать в соответствии со всем предшествующим ритуалом, забился на ней в судороге и тут же в изнеможении откинулся на спину. Голая девица соскользнула с постаменты, вскочила на ноги, танцовщицы накинули на нее ее прозрачное покрывало, и все они так же внезапно исчезли, как и появились. Юноши с покалеченными спинами, лежавшие до той поры на полу, поднялись, взяли новообращаемого под руки и помогли ему встать на ноги. Затем они повели его, голого, за архигаллом, который медленно направился из храма во двор, а за ними покинули храм и все остальные участники этого непонятного Антипатру действа. Здесь, во дворе, Антипатр увидел огромного быка черной масти с кольцом, продетом сквозь ноздри, и белой попоной, наброшенной на его могучую спину (Антипатр обратил внимание на то, что в ходе всей долгой процедуры, свидетелем и отчасти участником которой он стал, почему-то преобладало сочетание белого и черного цветов). Юноши с исполосованными цепями спинами, из которых перестала сочиться кровь, подвели новообращаемого к узкой глубокой яме со ступенями, ведущими на дно, и помогли ему спуститься вниз. После этого два раба, держа быка за кольцо и вызолоченные крутые рога, потащили животное к яме. Бык упирался, мотал огромной головой, но боль, причиняемая его ноздрям кольцом, заставила его подчиниться воле людей. Рабы поставили быка так, что глубокая узкая яма оказалась между его ног. Кто-то из служек подал архигаллу короткий, блеснувший на солнце меч, и тот, дождавшись, когда музыка смолкнет, одним коротким ударом снизу вверх перерезал быку горло. Огромное черное тело рухнуло, закрыв собой узкую яму, из перерезанного горла хлынула кровь, ноги задергались в судороге, как несколькими минутами ранее билось в судороге тело новообращаемого. Снова грянула музыка, с быка содрали попону, смочили ее кровью и помогли новообращаемому, залитому кровью с головы до ног, выбраться из ямы. Лишь много позже, когда Антипатр и казначей вернулись домой, Антипатр узнал, что заклание быка над ямой было не обычным жертвоприношением богам, а обрядом, носившим мудреное название тавроболий [68]. Новообращаемого, обернутого в окровавленную попону, снова повели в храм, снова звучала музыка, но теперь она была уже не веселой, а заунывной, как на похоронах. Антипатр уже порядком устал от всей этой долгой нудной процедуры посвящения в галлы, устал от короткого и явно несостоявшегося совокупления новообращаемого с юной прекрасной девицей, и единственное, что он испытывал, возвращаясь под своды храма с огромным черным фаллосом в центре, была детская жалость к зарезанному на его глазах быку. В храме продолжала звучать музыка, света поубавилось, юноши с израненными спинами куда-то исчезли, и вообще участников церемонии заметно поубавилось. Антипатр ожидал, что если не все танцовщицы, то по крайней мере одна девица, понравившаяся ему своим юным прекрасным телом, снова появится, и на этот раз новообращаемый не промахнется, познает ее, но и эта девица не появилась. Теперь танцевал один только новообращаемый. Собственно, это был даже не танец, а все ускоряющееся вращение вокруг себя, так что он, вымазанный успевшей запечься на нем бычьей кровью, казался теперь не человеком, а ожившей копией черного фаллоса, маячившего за ним. Когда новообращаемый довел себя до полного изнеможения и готов был вот-вот упасть, в руке архигалла появился еще один меч, на этот раз короткий и кривой, который он протянул новообращаемому. Тот, не переставая кружиться, подхватил меч, движения его стали еще быстрее («Откуда только берется у него столько сил?» – подумал Антипатр), в какое-то неуловимое мгновение он вдруг остановился, замер, взял в левую руку свой вялый член, посмотрел на него, будто дивясь его безжизненности, и буднично, словно отросший ноготь на пальце, отрезал его и брезгливо, как если бы это был не его член, а дохлая лягушка, бросил его на постамент. Антипатр невольно вскрикнул, на него обернулись жрецы, и казначей, чтобы их не разоблачили и не предали смерти, быстро поволок своего хозяина вон из храма.
5
Эту историю с посвящением новообращаемого в жрецы Кибелы дед поведал Ироду, когда тот был еще ребенком. От природы наделенный живым воображением, маленький Ирод настолько ярко представил себе всю процедуру проведения обряда, что надолго лишился сна. Антипатр и Иоханану-Гиркану рассказал эту историю на следующий день, когда переговоры между ними возобновились, но она не произвела на того впечатления. «Разве мы, иудеи, калечим себя? – спросил он. – Да будет тебе известно, что по нашим законам мужчина с покалеченным детородным членом изгоняется нами из нашего сообщества! [69]Обрезание, повторю для тебя еще раз, свидетельствует лишь о союзе, заключенном между иудеями и Предвечным, и ничего иного означать не может». Переговоры между Гирканом и дедом Ирода продолжались еще долго, и тому, и другому не раз казалось, что войны не избежать, но в конце концов они сошлись на том, что те из идумеян, которые добровольно согласятся принять обряд обрезания, станут обрезывать своих сыновей, а остальные ограничатся признанием законов Моисея и останутся жить в своей стране на условиях соблюдения этих законов, против которых он, Антипатр, ничего не имеет.
Вскоре после этого разговора дед Ирода женил своего старшего сына, тоже Антипатра, на юной принцессе Кипре – дочери аравийского царя и своего большого друга Ареты. Кипра родила мужу одного за другим четверых сыновей – Фасаила, Ирода, Иосифа и Ферору – и дочь Саломию. Дед не мог нарадоваться на внуков и внучку, целые дни проводил с ними, играя и резвясь, будто сам впал в детство, а когда те подросли, отдал их в греческую школу и лично следил за их успехами в науках. На это у деда уходила масса времени, и потому он, передав отцу Ирода все свои дела и огромное состояние, целиком посвятил себя воспитанию внуков и внучки и надзору за их учебой.
Приблизительно в это же время иудеи, разочаровавшись в Маккавеях и их способности обеспечить им свободу, выдвинули из своей среды новых вероучителей, которых они не знали прежде. Это были фарисеи, саддукеи и ессеи [70]. Гиркан, как первосвященник, пекущийся о своем авторитете среди иудеев, стал искать контакты с фарисеями, к мнению которых прислушивался и взгляды которых одобрял народ. Однажды он устроил для них пир и, подняв кубок с вином, провозгласил в их честь здравицу. Фарисеям понравилось такое уважительное отношение к ним со стороны первосвященника. Гиркан заверил их, что в своей жизни он руководствуется лишь одним соображением: делать угодное в глазах Предвечного, для чего и впредь намерен брать пример с фарисеев. «Если вы заметите в моих деяниях какие-нибудь ошибки или уклонения от пути истины, – сказал Гиркан, – то прошу вас вернуть меня на правильный путь и наставить. Знайте: я потому избрал путь истины, что не только в деяниях, но даже в помыслах своих хочу быть справедливым». Фарисеи наперебой стали говорить Гиркану, что лучшего первосвященника, чем он, иудеи не знали со времен Аарона и вряд ли когда-нибудь узнают, и что все, что он ни делает для Иудеи и иудеев, направлено на осуществление замысла Предвечного. От внимания Гиркана не ускользнуло, что эти льстивые слова, высказанные в его адрес, разделяют отнюдь не все сидящие за столом. «У тебя, Елиезер, – обратился он с вопросом к самому старшему по возрасту фарисею, – в отношении меня и моих дел несколько иное мнение, чем мы только что услышали?» Елиезер пожевал беззубым ртом и, глядя прямо в глаза Гиркану, ответил: «Прямо противоположное мнение». «Не будешь ли ты так любезен высказать его в присутствии твоих товарищей?» – спросил Гиркан. «Изволь, – сказал Елиезер. – Если ты хочешь следовать по пути истины и при этом оставаться справедливым, ты должен прямо сейчас, не выходя из-за этого пиршественного стола, сложить с себя сан первосвященника». Гиркан был уязвлен в самое сердце, и даже не пытался скрыть своего разочарования. «Какова же причина, по которой я должен сложить с себя сан первосвященника?» – спросил он. Гиркан так же прямо ответил: «Таких причин множество. Но достаточно будет назвать одну: мы слышали от стариков, что твоя мать родила тебя, когда находилась в плену у Антиоха Епифана». Это была ложь! Никто из рода Маккавеев никогда ни в каком плену не был. Дерзкий старик или заблуждается, или не хочет видеть в Гиркане первосвященника совсем не по той причине, какую высказал вслух. Гиркан приказал немедленно разыскать и доставить во дворец саддукея Ионафа, который знал его мать еще с тех времен, когда та находилась на сносях. «Скажи, Ионаф, что ожидает иудея, который намеренно клевещет?» – спросил он, когда саддукея ввели в пиршественную залу. «Смерть, – ответил Ионаф, еще не зная, что произошло за столом. – Ибо сказано: “Лжесвидетель не останется ненаказанным, и кто говорит ложь, погибнет”». «А теперь скажи, где находилась моя мать, которая вот-вот должна была разрешиться мною от бремени?» «Здесь, в Иерусалиме», – сказал Ионаф, обводя взглядом стол, за которым собрались одни лишь его противники. «Ты не ошибаешься, Ионаф? Моя несчастная мать, павшая от руки своего подлого зятя, точно была в Иерусалиме?» «Где же ей еще было находиться, когда она произвела тебя на свет в тот самый день, когда твои отец Симон и дядя Ионаф вернулись из Модии, где они похоронили достославного брата своего и твоего дядю Иуду Маккавея, и вместе оплакали его в Храме?» Гиркан уже с нескрываемой ненавистью смотрел на Елиезера. «Стало быть, – снова обратился он к саддукею Ионафу, – ни в каком плену у Антиоха Епифана она не была и не могла быть по той простой причине, что в день, когда я родился, и самого-то нечестивого Антиоха Епифана уже пять лет, как не было в живых?» «Истинно так», – подтвердил Ионаф. «Благодарю тебя, честный Ионаф, – сказал Гиркан. – А теперь я попрошу тебя разделить нашу трапезу и выслушать вместе с нами приговор, которые мои друзья-фарисеи вынесут Елиезеру за его омерзительную клевету, которой он оскорбил меня и светлую память моей матери. Итак, господа, я готов выслушать ваш приговор, и клянусь памятью матери, я приму его и исполню, каким бы суровым ваш приговор ни был». «Дозволь, Гиркан, заметить тебе, – сказал Махир, слывущий среди фарисеев рассудительным мужем, – что в таких делах, как вынесение приговора, не следует спешить». «Нет! – воскликнул Гиркан. – Вы не хуже меня знаете, что лишь тот, кто не клевещет языком своим, не делает зла и не принимает поношения на ближнего своего, может пребывать в жилище Предвечного и обитать на святой горе Его. Я настаиваю, чтобы вы немедленно вынесли приговор клеветнику». За столом наступила долгая тягучая пауза. Казалось, что она будет продолжаться вечно. Наконец Махир сказал: «Елиезер был не прав, послушавшись неверных слухов стариков о матери твоей и о тебе. За это он заслуживает ударов палками и заключения в темницу». За столом снова наступила пауза. Это был явно мягкий приговор, несоразмерный с тяжестью преступления, совершенного Елиезером. Фарисеи одобрительно закивали головами. Гиркан взял себя в руки и, стараясь не дать выплеснуться гневу, который клокотал в нем, сказал: «Я поклялся памятью моей матери, что приму и исполню любой ваш приговор. Ваш приговор принят. Мне остается лишь поблагодарить всех вас за честь, которую вы мне оказали, приняв мое приглашение разделить со мной эту скромную трапезу. Вы можете идти».
После этого злополучного пира Гиркан отдалил от себя фарисеев и сблизился с саддукеями. Этим, однако, он вызвал неприязнь не только фарисеев, но и народа, который уже открыто обвинял Гиркана во всех мнимых и совершенных грехах, будь то вскрытие могилы Давида и похищение оттуда денег, формирование своего войска из чужестранцев и даже вовлечение в сообщество избранного Предвечным народа злейших врагов иудеев идумеян. Но что хуже всего, неприязнь эта, обрушившаяся на Гиркана, распространилась и на его сыновей.
6
После смерти Гиркана власть первосвященника унаследовал его старший сын Аристовул. Не обладая никакими достоинствами, кроме непомерно развитого честолюбия, он не удовлетворился доставшимся ему по наследству саном, а пожелал стать царем. Саддукеи поддержали его монархические устремления, и вскоре в Храме состоялся молебен, по завершении которого Аристовул-первосвященник возложил на голову Аристовула-царя усыпанную драгоценными камнями корону, специально изготовленную к этому дню. Мать, когда он вошел к ней, чтобы услышать из ее уст поздравления, сорвала с сына корону и отбросила ее, как если бы это был не драгоценный царский венец, а шутовской колпак, напяленный Аристовулом на себя потехи ради. Аристовул пришел в негодование и приказал заточить мать в темницу. «Запомни, сын, – сказала ему напоследок мать, когда ее, связанную, поволокли в подвал при дворце, – отныне твоим вечным спутником станет страх и тебе всюду будут мерещиться враги». Аристовул приказал не давать матери ни хлеба, ни воды. Спустя месяц он пожелал узнать, не раскаялась ли она в своем пророчестве, и отправился к ней. Но едва он сошел в темницу, как в нос ему ударил смердящий запах тления. Аристовул приказал принести побольше огня. Зрелище, открывшееся ему, было страшным: мать его – или то, что осталось от некогда блиставшей своей красотой женщины, – лежала на груде тряпья, руки и лицо ее были изъедены крысами, на Аристовула смотрел один оставшийся нетронутым глаз, и глаз этот был исполнен ненависти к сыну.
Мать оказалась права: Аристовулу стали всюду мерещиться враги. Он удалил от себя всех, кого считал близкими ему людьми и с мнением которых еще недавно считался, нанял огромное число телохранителей-арабов, которые ни на шаг не отдалялись от него, оставаясь рядом с ним даже в спальне, когда он укладывался спать. Государственными делами он не занимался, как не занимался и отражением внешней угрозы, поручив командование войсками своему младшему брату Антигону. Но и это не помогло ему избавиться от страха. Ему чудилось, что из-за каждого угла за ним пристально наблюдает круглый глаз матери, лишенный век, которые объели крысы, и глаз этот исполнен лютой ненависти. Аристовул хватал первый попавшийся под руку тяжелый предмет и бросал им в этот глаз, но всякий раз промахивался, а глаз все смотрел и смотрел на него, и ненависть в нем не только не уменьшалась, но увеличивалась.
Между тем обстановка в Иудее становились все хуже и хуже, все чаще здесь стали появляться лихие соседи, которые грабили и убивали мирное население. Аристовул окружил себя новыми людьми, выказывавшими ему свою безграничную преданность, и доверил им важнейшие государственные должности. Эти новые люди – такие же ничтожества, как сам Аристовул, – с каким-то лютым остервенением заботились лишь о собственном благе, а чтобы блага эти и впредь лились к ним широкой рекой, они всячески подогревали в Аристовуле страх за свою жизнь, который постепенно перерос в паранойю. Новоявленный царь Иудеи приказал заложить все двери и окна дворца камнями, самый дворец окружить тройным оцеплением, и попасть к нему можно было теперь лишь подземным ходом, ведущим от Стратоновой башни. Народ, возбуждаемый фарисеями, уже открыто обвинял Аристовула в незаконном присвоении власти, хотя это было не совсем так: должность первосвященника, унаследованная от покойного отца, досталась ему на законном основании, он лишь незаконно объявил себя царем, да и этот его каприз, повлекший за собой несоразмерно огромные для него неприятности, не содержал, в сущности, особого греха: должность первосвященника сама по себе предполагала абсолютную власть над народом, и ни один первосвященник, начиная с Аарона, не позволял никому из окружающих его людей диктовать ему свою волю.
7
С первыми победами, одержанными над врагами Антигоном, новые министры Аристовула стали внушать ему мысль, что победы эти понадобились его брату лишь затем, чтобы завоевать любовь народа и, опираясь на эту любовь, свергнуть с трона Аристовула и убить его. Аристовул не хотел верить наветам на брата, но круглый глаз матери, неотступно наблюдающий за ним отовсюду, подверждал слова министров. «Так оно и будет, Антигон убьет тебя», – читалось во взоре этого мертвого глаза. Вскоре Антигон, одержав очередную победу, вернулся в Иерусалим. Это возвращение совпало с праздником Кущей [71], и Антигон, которому сообщили о внезапной тяжкой болезни царствующего брата, намеревался отметить праздник обильным жертвоприношением и молитвой в Храме за скорейшее выздоровление Аристовула. Аристовулу тут же донесли, что Антигон вступил в Храм в полном вооружении и в сопровождении своих тяжеловооруженных воинов, откуда намерен проследовать во дворец, перебить всех царских телохранителей и министров, а затем убить Аристовула. Царь позеленел от страха и приказал передать брату, чтобы тот немедленно явился к нему один и без оружия. «А если Антигон ослушается твоего приказа и явится сюда вооруженный?» – спросили его. «Тогда убейте моего брата», – сказал Аристовул. К Антигону тотчас послали в Храм гонца с устным приказом: «Царь Аристовул желает видеть своего брата Антигона. Ему известно, что Антигон добыл себе в бою блестящие доспехи и дивной красоты меч, и потому просит брата явиться к нему в полном вооружении». Ничего не подозревающий Антигон надел на себя доспехи, прикрепил к поясу меч и поспешил к брату. Но поставленные в подземном переходе телохранители, едва увидев вооруженного Антигона, тут же пронзили его копьями. Когда министры пришли к Аристовулу, чтобы сообщить о смерти Антигона, осмелившегося ослушаться его приказа, Аристовул сидел за столом, выковыривая ножом из короны огромный рубин. «Ну, убит и убит, – равнодушно сказал он, выслушав сообщение министров. – Похороните его и положите с ним в гроб вот это». «Но ведь это рубин! – воскликнул один из министров. – Зачем ты вынул его из короны?» «Рубин? – удивился Аристовул, вертя в руке драгоценный камень. – Нет, это никакой не рубин. Разве вы не видите, что это глаз моей матери, и глаз этот залит кровью? Теперь я знаю, чья это кровь. Это кровь моего брата. Матушка должна успокоиться, соединившись с душой моего брата и своего сына, и больше никогда не посмеет являться ко мне и тревожить мою душу [72]».
Болезнь Аристовула прогрессировала. Паранойя его развилась до такой степени, что уже перестала мучить его бесконечным страхом за свою жизнь. Временами Аристовул испытывал даже раскаяние за убийство матери и брата. Раскаяние это, однако, не свидетельствовало о его выздоровлении: скорее наоборот, болезнь Аристовула достигла того высшего предела, когда он желал себе смерти, чтобы избавиться наконец от терзающего его страха. Случай вскоре представился. Мальчик-прислужник, забежав по какой-то надобности в подземный переход, поскользнулся на месте, где был убит Антигон, ушибся и горько заплакал. Аристовул поинтересовался, почему ребенок плачет. Ему доложили, что мальчик поскользнулся на крови Антигона и ударился головой об каменную стену подземного перехода. С Аристовулом случилась истерика. Он стал бить себя по лицу, раздирал на себе одежду и кричал: «Доколе, бесстыжее тело, будешь удерживать ты в себе душу, запятнанную кровью брата и матери? Почему ты не выпускаешь ее, а рвешь ее на части, доставляя мне неисчислимые страдания?» Это были последние слова Аристовула, процарствовавшего всего один год.
8
Вдова Аристовула, оставшаяся бездетной, вызволила из темницы самого младшего из братьев ее покойного мужа Александра Янная, с которым тот не успел расправиться (не видя, впрочем, с его стороны никакой угрозы для себя), и объявила его первосвященником и царем при условии, что тот женится на ней [73]. Но и с этим царем Иудее повезло не больше, чем с параноиком Арстовулом: насидевшись в темнице и неожиданно для себя оказавшись на вершине власти, он, следуя предписаниям закона, женился на вдове брата и тут же пустился во все тяжкие, будто задался целью разом наверстать все упущенные им за время отсидки радости жизни. Не счесть было наложниц, которых он себе завел, как не счесть было и количества вина, выпитого им в обществе этих наложниц и друзей, которых у него, как у любого другого правителя, тут же появилось великое множество. В то время, как жена его, тоже Александра, вынашивала и рожала ему сыновей – вначале Гиркана, названного так в честь деда, а следом за ним Аристовула, названного в память о ее первом муже-психопате, – Александр Яннай без устали предавался оргиям и пьянству, шокируя своим бесстыдством богобоязненных иудеев. Впрочем, время от времени Александр Яннай устраивал себе «разгрузочные дни»: наняв восемь тысяч отъявленных головорезов-чужеземцев, которых он называл на греческий манер гекатонмахами [74], он совершал налеты то на Птолемаиду [75], а то на Газу, не стесняясь грабежей и убийств своих соплеменников и единоверцев. Царица Египта Клеопатра, видя, как буквально на глазах разваливается некогда процветавшее государство, решила, что самое благоразумное, пока Иудея окончательно не стала жертвой бесконечных оргий и пьянства ее нового царя, прибрать ее к своим рукам, а всех недовольных иудеев, которые издревле ненавидели всех чужаков, попросту вырезать. Вероятно, она так бы и поступила, если бы не командующий ее армией еврей Анания, воспротивившийся ее планам. «Знай, – заявил он царице, – если ты обидишь Александра Янная и мой народ, то найдешь в моем лице своего первого и самого злейшего врага». Решимость полководца остудила пыл египетской царицы, а Александр Яннай, щедро одарив Клеопатру и даже заключив с нею дружественный союз, тут же направился со своими гекатонмахами в Келесирию, ограбил ее, а из Келесирии переправился через Иордан, чтобы и там поживиться чем Бог пошлет. Впрочем, здесь его восьмитысячное войско чуть было не погибло под встречными ударами двухтысячной конницы Ареты, породнившегося с отцом Ирода.
Немудрено, что такой царь не мог пользоваться ни малейшим уважением со стороны своего народа. Случилось так, что когда он вступил в Храм, чтобы вознести молитву Предвечному, дабы Тот не дал ему погибнуть в стычке с Аретой, народ забросал его гнилыми лимонами. Обескураженный таким приемом народа, который, как ему внушали его друзья-собутыльники, души в нем не чает, Александр спросил: «Что я должен сделать, чтобы умилостивить народ мой?» Ответом ему было: «Умереть, ибо и смерть твоя после всех твоих злодейств не может примирить нас с тобой!» Это было что-то новое в отношениях между иудеями и их царем за всю историю Иудеи. Что ему оставалось делать в сложившейся ситуации? Объявить своему народу войну. И Александр Яннай в короткое время истребил свыше пятидесяти тысяч иудеев. Однако и эта кардинальная мера не прибавила ему любви со стороны народа. В разных местах Иудеи стали вспыхивать восстания с целью свержения царя. Александр Яннай, не считаясь ни с какими расходами, расширил свое войско за счет новых наемников и вступил в беспощадную войну с иудеями. Бóльшая часть восставших была уничтожена, значительная часть взята в плен, которая также была вырезана, в живых он оставил лишь восемьсот самых храбрых иудеев, которых привел связанными по рукам и ногам в Иерусалим вместе с их женами и детьми. Здесь он приказал вытесать и вкопать в землю у Храмовой площади восемьсот крестов, накрыл под открытым небом пиршественные столы и, пьянствуя и развлекаясь со своими наложницами и друзьями, весело смотрел, как на виду у всего города прибивают к крестам восемьсот самых храбрых повстанцев.
Однако и такая жестокая мера показалась Александру Яннаю недостаточной, чтобы народ, наконец, проникся к нему любовью. И тогда он придумал нечто до той поры невиданное и ни с чем не сравнимое по своей жестокости: велел наложницам раздеться догола, вступить в половую связь со своими друзьями прямо на накрытых столах, а чтобы корчащиеся на крестах повстанцы не скучали, пока в их жилах еще теплилась жизнь, приказал палачам рубить на куски тут же, на площади, их жен и детей. Эта «выдумка» Александра Янная закончилась тем, что из Иудеи начался массовый исход евреев, сравнимый разве что с их исходом из Египта. При этом основная масса иудеев кинулась искать спасения за морем, в Риме, за короткое время увеличив его и без того огромное население на несколько сот тысяч.
После кровавой резни, устроенной в самом центре Иерусалима, Александр Яннай впал в тяжкую болезнь, вызванную, впрочем, не раскаянием в своих злодеяниях, а беспропудным пьянством и половой распущенностью. Его жена Александра не находила себе места от угнетавшей ее мысли, что станется с нею и ее сыновьями после смерти мужа. «На кого оставляешь ты теперь меня и детей своих, столь нуждающихся в поддержке отца? – стенала она у кровати всеми покинутого и преданного друзьями и наложницами мужа. – И что станется со всеми нами, когда народ, столь ненавидящий тебя, узнает о твоей смерти?» На какое-то время к Александру Яннаю вернулась способность к здравому рассуждению, и он сказал: «Крепко держись с моими сыновьями престола и до поры до времени скрывай от солдат, моей и вашей единственной опоры, мою смерть. Это первое. Второе, что ты должна хорошенько запомнить: привлеки на свою сторону фарисеев и предоставь им какие-нибудь привилегии, не слишком, впрочем, явные, чтобы они не сочли, будто ты их подкупаешь. Получив из твоих рук мелкие милости, они вознесут тебя до небес, а это будет означать, что до небес вознесет тебя и моих сыновей народ». Закончил же он свою прощальную с женой речь словами, которые Ирод точь-в-точь занес в дневник: «Итак, призови к себе самых влиятельных из фарисеев, покажи им мой труп и предоставь им поступить с моим телом как угодно: захотят лишить меня погребения за все нанесенные мною им и народу моему преступления – пусть лишают, захотят в гневе бросить мой труп на съедение шакалам – пусть бросают. Ни в чем не перечь им, иначе ты только сделаешь себе и моим сыновьям хуже. Пообещай фарисеям, что ты, став царицей на то время, пока дети мои еще не подросли, не будешь ничего предпринимать в делах правления помимо их совета. Если тебе удастся сделать все это, то они и меня удостоят более почетных похорон, чтобы народ не упрекнул их в лицемерии: как же, мол, так, что вы, фарисеи, поддерживаете царицу, а мужа и отца ее детей выбрасываете на помойку? В делах же управления государством, жена, будь хитра и осторожна: слушайся, как я научил тебя, во всем советов фарисеев, а поступай так, как считаешь для себя правильным. Если ошибешься, свалишь вину на фарисеев, обвинив их в том, что они дали тебе неверный совет; если от дел твоих будет польза государству, лишний раз похвали фарисеев, – людям нравится, когда их хвалят, от этого они распускают хвосты, как павлины, и думают о себе лучше, чем они есть на самом деле».
Сказав так, Александр Яннай впал в забытье, из которого уже не выходил долгих три дня, а на четвертый день скончался.
9
Во второй раз овдовевшая царица во всем последовала советам мужа. Она пригласила к себе наиболее авторитетных фарисеев и сказала им, что нуждается в их советах по управлению государством больше, чем рыба в воде. Фарисеи пообещали не оставить ее одну. Далее она попросила у них разрешения назначить первосвященником своего старшего сына Гиркана, во-первых, по праву преемства, а во-вторых, потому, что Гиркан не выказывает никаких признаков самостоятельного правителя, поскольку слишком медлителен, трудно соображает и, ко всему прочему, слезлив, так что ему не обойтись без постоянного руководства со стороны фарисеев. Царицей же Иудеи станет она, Александра, а так как ей необходимо заботиться еще о младшем сыне Аристовуле, который, в отличие от старшего Гиркана, слишком горяч, слишком быстр на расправу и слишком горд, чтобы подчиниться чьей бы то ни было воле, то она и займется главным образом воспитанием своего младшего сына, а дела управления государством просит их, фарисеев, взять на себя. Фарисеи согласились взять управление Иудеей в свои руки, но попросили при этом Александру своей властью, пока эта власть еще не перешла к ним, примерно покарать тех из числа бывших друзей покойного Александра Янная, кто повинен в казни восьмисот повстанцев и их жен и детей. «Народ верит нам и верит в нашу справедливость, – заявили они, – но для тебя и твоих детей будет лучше, чтобы народ поверил и тебе и в твою приверженность справедливости». Александра решила, что такой малостью она ничуть не повредит себе и будущему своих сыновей, и выдала на расправу фарисеям одного из самых ненавистных ей бывших друзей мужа некоего Диогена. Фарисеи отдали Диогена на растерзание толпе и сказали Александре: «Одного палача нам мало, выдай всех, кто посоветовал твоему мужу перебить столько славных сынов Иудеи, среди которых было немало наших братьев-фарисеев». Александра выдала им еще с десяток бывших друзей Александра Янная, присовокупив к ним несколько бывших наложниц мужа, устроивших постыдную оргию на глазах казнимых и всех жителей Иерусалима. Но и эта жертва не удовлетворила фарисеев. Когда же они принесли Александре длинный список имен людей, которых они намеревались казнить, умная женщина поняла, что от нее ожидают не наказания виновных, а расправы с неугодными, причем расправу эту хотят совершить ее руками, чтобы было потом кого обвинить в неоправданной жестокости.
10
Между тем дети Антипатра и Кипры подрастали, дед не мог нарадоваться их успехам, особенно выделяя Ирода, ставшего его любимцем. Дед говорил ребенку: «Ты уступаешь Фасаилу в рассудительности и основательности полученных от учителей знаний, но превосходишь его быстротой ума и умением находить общий язык не только со своими сверстниками, но и с людьми старшими тебя по возрасту. Ты далеко пойдешь, внучек, и превзойдешь делами своими многих». Тогда же случилось событие, которое надолго запомнилось Ироду и которое он также описал в дневнике. Однажды Ирод направлялся со своими друзьями в школу. По дороге ему повстречался облаченный в рваную хламиду молодой человек, который поманил его пальцем. Ирод подошел. Человек попросил его опустить голову. Ничего не подозревающий ребенок послушно опустил голову. Страшной силы удар по шее молнией пронзил хрупкое тело Ирода, на глаза навернулись следы. «Ты чего дерешься?» – спросил Ирод, едва удержавшись на ногах. Молодой мужчина, улыбаясь одними глазами, ответил: «Запомни хорошенько все, что я тебе сейчас открою. Ты станешь царем Иудеи, – великим царем, славе которого будут завидовать многие сильные мира сего. Но ты совершишь и множество преступлений, за которые к концу жизни глубоко раскаешься. Вспоминай почаще мой сегодняшний удар, это удержит тебя от многих ошибок и поможет быстрей отыскать истину. Так говорю тебе я, ессей Менахем, которому открыто будущее».
Деду Ирода шел восьмой десяток, когда он скончался. Прилег отдохнуть после обеда и больше уже не встал, не потревожив никого из домашних ни жалобой на ухудшившееся самочувствие, ни даже стоном. Ирод горько рыдал над телом деда, как рыдал некогда его прадед, прячась за спиной Иуды Маккавея и слушая прощальное слово Маттафия Хасмонея, обращенное к сыновьям. Похоронили деда Ирода в Петре в давно высеченной им в скале могиле, где вот уже двадцать лет покоилась его жена, бабка Ирода. Отец Ирода подолгу отсутствовал в Петре, проводя бóльшую часть времени в Иудее, где у него находилось все больше и больше дел, требовавших неотложного его вмешательства. Вот и царица Александра, оказавшаяся в сетях фарисеев и не знавшая, как выпутаться из них, обратилась за помощью к Антипатру, который поддержал ее еще в ту пору, когда она, формально состоя в браке со своим первым сумасбродным мужем, возродившем в Иудее монархию, на деле была всеми покинута и забыта, так что от отчаяния чуть было не наложила на себя руки. Снова призванный во дворец, Антипатр посоветовал царице, не отталкивая от себя фарисеев, сделать главными своими союзниками книжников [76], которые обучали народ закону и пользовались его уважением ничуть не меньше, чем фарисеи. Антипатра поддержал Гиркан, который обожал слушать занимательные рассказы книжников, и тут же, чтобы мать прислушалась к совету Антипатра, пересказал одну из особенно любимых им притч:
«Вначале сотворил Предвечный только одного человека. Это говорит нам о том, что тот, кто губит хотя бы одну человеческую душу, разрушает целый мир, и кто спасает одну душу, спасает целый мир. Не может один человек возгордиться перед другим человеком, говоря: мой род знатнее твоего рода. Каждому человеку следует помнить, что мир сотворен для него и под его ответственность» [77].
Присутствовавший при этом младший сын Александры Аристовул скорчил недовольную гримасу и заявил: «Сказки для детей. Не слушай никакого, мать. Гони от себя всех, и в первую очередь фарисеев и этого идумеянина Антипатра, который слишком часто стал околачиваться возле тебя. Разве не ясно, что они не угомонятся до тех пор, пока не вырежут всех, кто им неприятен? А когда не останется в живых никого, кто мешает им стать во главе Иудеи, они покончат с тобой, потому что ты жена царя и не помешала ему казнить врагов своих, и оторвут головы Гиркану и мне, потому что мы его дети. Я собственными ушами слышал, как они болтали на площади: “И детей их не помилуем, потому что они дети блуда” [78]. Народ признаёт только силу и подчиняется силе. Если ты, мать, обнаружишь свою слабость и будешь потакать каждому, кто имеет наглость говорить с тобой от имени народа и поучать тебя, что идет на пользу народу, а что во вред, твои дни, как царицы, сочтены».
11
Характером Аристовул уродился в отца – такой же крутой, жестокий и властолюбивый. Он уже теперь выказывал неудовольствие тем, что царицей Иудеи стала его мать, первосвященником Гиркан, а ему, как младшему, не досталось ничего. Александра, не зная, как выйти из затруднительного положения, и примирить всех, кто был ей дорог и чьим мнением она дорожила, поступила по-своему: фарисеев она не оттолкнула, чтобы не вызвать возмущения народа, книжников ввела в узкий круг своих друзей, превратив их в своеобразный буфер между собой и фарисеями, за Гирканом, не способным к самостоятельным действиям, сохранила должность первосвященника, а Аристовула назначила начальником над войском, оставшегося после смерти Александра Янная не у дел и с тем большим остервенением занявшегося грабежами и блудом. Антипатра же царица попросила и впредь помогать ей советами, взять под свою опеку Гиркана и зорко следить за тем, чтобы честолюбивый Аристовул не причинил ему зла.
Антипатр принял предложение Александры. Это вызвало резкие протесты со стороны Аристовула, который терпеть не мог идумеян и называл их не иначе, как «кроснорожими». Возглавив войско, Аристовул занялся тем, чем и без него успешно занимались наемники его отца: грабежами и убийствами мирных жителей. Удачливость Аристовула привлекла к нему немало иудеев, искавших возможность быстро разбогатеть. Численность войска младшего сына Александры росла, как на дрожжах. В Иерусалиме уже всерьез стали побаиваться, что набиравший силу Аристовул вторгнется в столицу и свергнет с престола свою уже заметно постаревшую мать. Беспокойство за свою судьбу выражали и фарисеи. Одни лишь книжники оставались спокойны. В то время в их среде родилась притча, полюбившаяся и Ироду и ставшая одной из жемчужин в ожерелье «Агады»:
«Шел полем человек, неся кувшин с молоком. Встретилась ему змея, стонавшая от мучительной жажды.
– О чем стонешь ты? – спросил человек.
– Изнемогаю от жажды, – отвечала змея. – А что это у тебя в кувшине?
– Молоко.
– Дай мне испить молока, и я укажу тебе место, где клад зарыт.
Дал человек змее молока напиться.
– Укажи же мне клад, о котором ты обещала, – сказал человек.
– Следуй за мною, – ответила змея и, приведя его к большому камню, сказала: вот, под этим камнем лежит клад.
Сдвинул человек камень, разрыл землю и, достав клад, направился к своему дому. Что же сделала змея? Всползла на человека и обвилась у него вокруг шеи.
– Что это ты делаешь? – закричал человек.
– Умертвить тебя хочу, – отвечала змея, – за то, что ты похитил мой клад.
– Идем на суд к Соломону, – предложил человек.
– Идем, – сказала змея, но осталась обвитою вокруг шеи у него.
Обратился человек с мольбою к Соломону.
– Чего желаешь ты? – спросил Соломон змею.
– Умертвить его.
Отвечал Соломон:
– Прежде, чем ты исполнишь свое желание, сойди с шеи человека: не подобает, чтобы те, кто пришел судиться ко мне, находились в неравных условиях.
Сползла змея на пол.
– Теперь говори, – сказал Соломон, – я слушаю.
– Я требую, – начала змея, – чтобы мне дано было умертвить его в исполнение сказанного Господом: “Ты будешь жалить его в пяту”.
– А о тебе, – сказал Соломон человеку, – Господом заповедано: “Он будет поражать змею в голову”.
В одно мгновение человек размозжил змее голову. Отсюда поговорка: “И лучшей из змей голову размозжи”».
Вскоре царица заболела. Аристовул же, разграбив множество городов, считал себя новым царем Иудеи и грозился теперь придти в Иерусалим и поступить с его жителями так же, как поступил его отец с бунтарями и их семьями. Пришли к царице Гиркан и фарисеи и спросили: что делать им в виду страшной угрозы со стороны Аристовула? Александра ответила: «Я оставляю тебе, Гиркан, богатую казну и мудрых наставников, на стороне же Аристовула сильное войско. Решите миром между собой, кому из двух братьев быть царем, а кому первосвященником. Сама я ничем уже помочь вам не могу, ибо тело мое сокрушено».
И умерла царица Александра, процарствовав девять лет, и объявил себя царем Иудеи Аристовул, и пошел походом на Иерусалим, чтобы разогнать фарисеев и книжников, а брата своего Гиркана и опекуна его Антипатра умертвить. Ну да читателю уже известно, что из этого получилось, а потому продолжим наш рассказ о том, что последовало за возвращением Ирода и брата его Фасаила из похода в Сирию и их битвой в союзе с римлянами-популярами против римлян-оптиматов при Апамее.
Глава шестая УБИЙСТВА
1
И вновь Ироду пришлось отложить дневник: из Рима, куда бежала после террора, развязанного Александром Яннаем, основная масса иудеев, приходили тревожные вести: сообщалось, что союзник и защитник Иудеи Юлий Цезарь убит заговорщиками во время заседания сената в Помпеевой курии. Римские иудеи жили в страхе. Возникла реальная опасность того, что одним убийством Цезаря вражда между оптиматами и популярами не ограничится. Теперь римляне примутся избивать евреев: оптиматы за то, что они боготворили Цезаря, а популяры за то, что иудеи, несмотря на свою многочисленность, не приняли никакого участия в их борьбе с оптиматами. Словно бы бросая вызов судьбе, иудеи стали собираться на Марсовом поле, где сожгли тело диктатора. Здесь они демонстративно раздирали на себе одежды, посыпали головы пеплом с пепелища и оплакивали Цезаря [79].
Опасения иудеев имели тем бóльшие основания, что сенат, собравшийся на третий день после убийства Цезаря, принял постановление, что никто из его убийц не будет наказан, а хорошо известно, что такого рода постановления лишь разжигают нетерпение толпы, жаждущей крови за совершенное преступление. Собственно, в том, что все именно так и произойдет, иудеи убедились уже в день погребения праха Цезаря. Тогда огромная толпа, вооружившись факелами и дубинами, ринулась по городу искать убийц своего кумира и устраивать поджоги. Встретив на своем пути опечаленного поэта Гельвия Цинну, оплакивавшего Цезаря, разъяренная толпа перепутала его с оптиматом Луцием Цинной, лютого врага Цезаря, и растерзала невинного поэта.
Вскоре из Рима стали приходить новые сообщения, из которых явствовало, что расследованием обстоятельств убийства Цезаря занялся Марк Антоний. Он перевез в свой дом обширный архив Цезаря, взял под личный контроль государственную казну и мало-помалу стал распутывать сложный клубок интриг в высших эшелонах власти, приведших к трагической развязке. Антонию недостаточно было знать, что во главе убийц Цезаря стояли Кассий и Брут [80]; ему было важно установить, кто стоял за ними и чья рука направила их кинжалы – сами убийцы никогда не бывают организаторами заговоров, они лишь слепое орудие в руках истинных заговорщиков, остающихся в тени.
Антонию не пришлось долго искать главного заговорщика – его имя назвал сам Брут, когда воздел руку с окровавленным кинжалом над поверженным телом Цезаря и, потрясая им, вскричал: «Цицерон!» За ним-то и стал охотиться Антоний, не упуская ни малейшего повода, чтобы восстановить против него сенат [81]. Цицерон, в свою очередь, ринулся в ответную атаку, рассчитывая на свое красноречие и факты, о которых поговаривали многие, но не знали деталей, известных ему одному. Разоблачение этих-то фактов и стало причиной гибели состарившегося и, к тому же, выбитого из привычной жизненной колеи обстоятельствами личного свойства политика: разводом с женой Теренцией на том основании, что та нисколько не заботилась о нем, женитьбой на молодой девушке, годившейся ему в внучки, смертью при родах его горячо любимой дочери Туллии и последующим разводом с молодой женой, которую, как ему показалось, обрадовала смерть Туллии.
2
Как бы там ни было, но в Цицероне, бросившимся в ответную атаку на Антония, больше говорила усталость от навалившихся на него жизненных невзгод, чем расчетливость искушенного политика. Он написал четырнадцать филиппик, в которых разоблачил не только Антония, но и его жену Фульвию, бывшую в первом браке женой скандально известного далеко за пределами Рима Клодия [82]. Не соизмеряя убийственность приводимых фактов с риском для собственной жизни, Цицерон, выступая в сенате, напрямую обращался к Антонию, полагая, что тем самым он не только парализует стремление врага и дальше обвинять его в государственном преступлении, но и лишит его надежды занять высшую должность в Риме. «Так не хочешь ли ты, чтобы мы рассмотрели твою жизнь с детских лет? – публично вопрошал он своим хорошо поставленным голосом, так что, слушая его, трудно было предположить, что человек этот в раннем возрасте был заикой и ему, чтобы исправить этот недостаток, приходилось выходить на берег моря и, набрав в рот мелкие камешки, упражняться в красноречии, заглушая шум прибоя. – Мне думается, будет лучше всего, если мы взглянем на нее с самого начала. Не помнишь ли ты, как, нося претексту [83], ты промотал все, что у тебя было? Ты скажешь: это была вина отца. Согласен; ведь твое оправдание преисполнено сыновнего чувства. Но потом ты надел мужскую тогу, которую тотчас сменил на женскую. Сначала ты был шлюхой, доступной всем; плата за позор была определенной и не малой, но вскоре вмешался Курион, который отвлек тебя от ремесла шлюхи и – словно надел на тебя столу [84]– вступил с тобой в постоянный и прочный брак. Ни один мальчик, когда бы то ни было купленный для удовлетворения похоти, в такой степени не был во власти своего господина, в какой ты был во власти Куриона. Сколько раз его отец выталкивал тебя из своего дома! Сколько раз ставил он сторожей, чтобы ты не мог переступить его порога, когда ты все же, под покровом ночи, повинуясь голосу похоти, привлеченный платой, спускался через крышу! Дольше терпеть такие гнусности дом этот не мог. Не правда ли, я говорю о вещах, мне прекрасно известных? Вспомни то время, когда Курион-отец лежал, скорбя, на своем ложе, а его сын, обливаясь слезами, бросившись мне в ноги, поручал тебя мне, просил меня замолвить за него слово отцу, если он попросит у отца шесть миллионов сестерциев [85]; ибо сын, как он говорил, обязался заплатить за тебя эту сумму; сам он, горя любовью, утверждал, что он, не будучи в силах перенести тоску из-за разлуки с тобой, удалится в изгнание».
Дальнейшие обвинения Цицерона Антоний слушал с каменным лицом. Цицерон припомнил, что уже в молодости Антоний предался безудержному пьянству – пороку, который с годами не только не проходит, а усиливается, что он развелся со своей первой женой и одновременно племянницей Антонией, обвинив ее в супружеской неверности вовсе не потому, что она действительно ему изменила, а только затем, чтобы сразу жениться на Фульвии – вдове своего друга и покровителя Гая Куриона, женой которого он сам некогда был, – а эта Фульвия в первом браке была женой Публия Клодия… Словом, говорил Цицерон под укоризненное покачивание головами сенаторов, будь на то воля богов, следовало бы вызвать сюда дух Цезаря и спросить у него: так кому же была выгодна его смерть – Цицерону, который с детских лет привык довольствоваться малым, или Антонию, которому неведомы никакие нормы благопристойности, а нужны лишь деньги, и который именно поэтому домогался у Цезаря назначения его своим преемником? Преемником, однако, Цезарь назначил не Антония, а девятнадцатилетнего Гая Октавия – своего внучатого племянника, которого он, к тому же, усыновил [86].
3
Иудеи, жившие в Риме, собрали все сплетни, какие только ходили о юном преемнике Цезаря, и отписали эти сплетни в письмах на родину. По одним сплетням выходило, будто прадед Октавия был вольноотпущенником, а дед ростовщиком, по другим – что его прадед был африканцем, а дед держал пекарню, так что мать его, как во всеуслышание заявлял Кассий, «выпечена из муки самого грубого помола, а замесил ее грязными от лихоимства руками меняла». Сплетни о Гае Октавии и его происхождении ходили разные и, как все сплетни, не отражали существа происходивших в Риме событий. А потом стражники Фасаила перехватили письмо, адресованное Малиху. Письмо это, подписанное инициалом «Р», заинтересовало как самого Фасаила, так и его отца Антипатра, а затем и Ирода, которого срочно вызвали в Иерусалим и ознакомили его с содержанием перехваченного письма. Отца и братьев насторожило не столько то, что у Малиха оказался шпион, внедренный в дом Антония, сколько то, что Малих, будучи командующим учрежденной Антипатром армии, утаил этот факт от наместника Иудеи и его сыновей.
Антипатр потребовал от Малиха объясненияй в затеянной им игре. Малих ни в чем не стал отпираться. Да, он по-прежнему придерживается той точки зрения, что иудеям не следует вмешиваться в дела, происходящие в Риме и в подвластных ему провинциях. Да, его не интересует борьба между популярами и оптиматами – не подобает овцам становиться судьями в грызне львов. Это, однако, не означает, что ему безразличен результатгрызни между львами (Малих с нажимом произнес слово «результат»), поскольку от этого результата зависит, на чью сторону следует перейти Иудее, чтобы продолжать считаться союзницей Рима. Победят оптиматы – Иудея станет другом оптиматов, возьмут верх популяры – Иудея станет лучшим другом популяров. Единственно с этой целью он и внедрил в ближайшее окружение Антония своего человека, который взялся информировать его обо всем, что происходит в высших сферах власти в Риме. Знает ли об этом Гиркан? Разумеется, знает, – у Малиха нет и не может быть тайн от первосвященника. Почему не был поставлен в известность Антипатр? Да просто Малих не успел сообщить ему о своем агенте. Собственно, перехваченное письмо было первой информацией агента. Не перехватили бы – сам бы сообщил, ну а коли перехватили… Что-то, значит, не до конца продумано со связью. Надо бы ее усовершенствовать. Малиху жутко представить, что сталось бы с его человеком, если бы письмо перехватили римляне. Кто именно этот «его человек» и можно ли ему доверять? Извольте, он и из этого не намерен делать тайны: это их соотечественница Ревекка, служанка жены Антония Фульвии. Доверять ей следует вполне, поскольку информация ее, как говорится, из первых рук. Ну а поскольку у него, Малиха, нет теперь никаких секретов от Антипатра и его сыновей, то не возьмутся ли и они оказать ему услугу? Для полноты представления о том, что реально происходит в Риме после убийства Цезаря, хорошо бы внедрить своего человека и в среду оптиматов. У Антипатра или у его сыновей такого надежного информатора на примете нет? Жаль, что нет, придется Малиху самому заняться поисками нужного человека. В конце концов, заключил Малих, в своих поступках он руководствуется не личными интересами, а интересами Иудеи, которой важно не опоздать к пиршественному столу победителя, кем бы этот победитель ни оказался.
Сколь бы ни выглядела позиция Малиха циничной, Антипатр и Фасаил признали, что в действиях командующего войсками есть определенный резон. С отцом и братом не согласился Ирод, который, вопреки уверениям Малиха, увидел в его поступке один лишь корыстный интерес. Дальнейшие события показали, что ближе к истине оказался Ирод, а не его отец и брат, поплатившиеся за свое легковерие жизнью. Но и Ирод не сразу разобрался во всей сложности затеянной Малихом игры, а когда, наконец, разобрался, было уже поздно что-либо исправлять.
Поначалу, однако, и Антипатр, и его сыновья решили, что сведения, которые стал регулярно получать из Рима Малих, не лишние, и что это как раз тот случай, когда лучше знать, чем не знать. Благо это хорошо согласуется с давними словами Антипатра, когда тот, выговаривая Ироду, явившемуся во главе войска под стены Иерусалима, чтобы поквитаться с оскорбившими его Гирканом и судьями, сказал ему: «Прежде, чем что-то предпринять, обращайся за содействием к знающим людям. Их знание станет и твоим знанием, а это поможет тебе избежать многих ошибок».
4
События, стремительно развивавшиеся в Риме, и в самом деле необходимо было знать во всех деталях, дабы избежать возможных ошибок со стороны Антипатра и его сыновей, ответственных за судьбу Иудеи. Благодаря письмам агента Малиха постепенно стала вырисовываться картина отчаянной борьбы за власть, развернувшаяся между популярами и оптиматами с неясными ни для одной из враждующих сторон перспективами.
Начать с того, что завещание Цезаря было вскрыто и оглашено не в сенате, как того требовал протокол, а в доме Антония. Этим завещанием Цезарь не только вверял верховную власть в Риме Октавию, который в это время заканчивал свое образование в Греции, но и распоряжался передать в общественное пользование свои сады над Тибром и вручить каждому римскому гражданину из своих личных средств по триста сестерциев. Деньги эти, однако, присвоил Антоний и ни с кем не пожелал делиться. Вдова Цезаря Кальпурния, переехавшая после гибели мужа жить в дом Антония, считала, что деньги эти должны послужить средством отмщения убийцам и присовокупила к ним все свои драгоценности, не оставив себе решительно ничего. Что касается преемника Цезаря, то Фульвия настаивала, чтобы ее муж, не дожидаясь, когда о содержании завещания узнает Октавий, немедленно взял власть в свои руки. «Как ты себе это представляешь?» – спросил Антоний жену. «Ты должен убить Цицерона, – ответила Фульвия. – Убийство нашего злейшего врага лишит оптиматов опоры в римском народе, – без поддержки Цицерона за Кассием и Брутом никто не пойдет». «Можно подумать, народ побежит за мной», – проворчал Антоний. «За тобой народ пойдет, – заверила его Фульвия. – Ты всегда поддерживал Цезаря, был одним из лучших его полководцев, отстаивал его интересы в сенате. Если ты считаешь, что всего этого недостаточно, чтобы стать преемником Цезаря, возьми себе в союзники Лепида [87]и объяви его Великим понтификом [88]».
Антоний последовал совету Фульвии и добился провозглашения Лепида Великим понтификом. Но вот взять власть в свои руки ему не удалось. Октавий, несмотря на отчаянные просьбы своей матери не приезжать в Рим, где его жизни угрожала опасность, вернулся на родину и вступил в правление страной, завещанной ему Цезарем. Этот молодой человек, на лице которого едва наметился пушок, сразу же проявил характер. Поговаривали, что его действиями руководит прибывший с ним в Рим наставник Арей, родом грек, слывущий докой в делах государственного управления. Обожатель Александра Македонского, Арей настоял, чтобы Октавий потребовал у Антония отчета, куда тот дел двадцать пять миллионов сестерциев, принадлежавших покойному. Антоний ответил, что не намерен отчитываться перед школяром, у которого на губах еще молоко не обсохло. Октавий вместо того, чтобы признать над собой главенство человека, куда как более многоопытного в политике и военных делах, чем он сам, и сделать все от него зависящее, чтобы снискать его благоволение, по совету Арея совершил ряд поступков, которые загнали Антония в тупик. Во-первых, Октавий принял на себя командование легионами, сохранившими верность Цезарю. Во-вторых, он нейтрализовал щедрыми дарами Лепида, который, став Великим понтификом, не успел еще сложить с себя обязанности магистра [89]конницы, составленной из союзных Риму племен. В-третьих, он посетил Цицерона и договорился с ним о том, что тот своим красноречием и влиянием на оптиматов станет поддерживать его в сенате и народных собраниях, за что Октавий позаботится о его личной безопасности. Растроганный Цицерон, вконец затравленный Антонием и его мегерой-женой, грозившимися убить его, принял руку дружбы, протянутую ему молодым человеком, и поведал ему о своем давнем провидческом сне [90]. Наконец, в-четвертых, Октавий совершил поступок, следствием чего стала всенародная любовь народа к мальчишке, по всем статьям переигравшем Антония: он распродал все имущество и земли, принадлежавшие Цезарю, и выполнил последнюю волю покойного: выплатил каждому римскому гражданину, включая глубоких старцев и только что родившихся младенцев, по триста сестерциев. Об Антонии, больше других на всех углах осуждавшего убийц Цезаря, народ тут же забыл.
Борьба между ним и молодым Октавием за высшую должность в Риме вступила в решающую стадию. Она вылилась в открытое вооруженное столкновение близ Мутины [91], где войска Октавия вынудили Антония бежать. Взвесив все «за» и «против», на сторону Октавия перешел Лепид. Антоний не смирился с поражением, объявил себя единственным последовательным сторонником убитого Цезаря и за короткое время собрал вокруг себя огромную армию, насчитывающую двадцать три легиона и десятитысячную кавалерию. Вспыхнула новая гражданская война. И вновь молодой Октавий, следуя во всем советам своего наставника Арея, проявил несвойственную его возрасту мудрость: он предложил Антонию встретиться на нейтральной почве близ Болоньи и снять все недоразумения, возникшие между ними. Антоний предложение принял. Здесь-то Октавий, Антоний и Лепид заключили между собой союз – второй триумвират, который, в отличие от первого, заключенного в виде частного соглашения между Цезарем, Крассом и Помпеем, был оформлен в письменном виде и получил название «Tresviri rei publicae constituendae» – «Коллегия трех для упорядочения республиканского строя».
Невероятно, но на эту уловку, придуманную Ареем и осуществленную Октавием, которому шел еще только двадцатый год, попался поддерживающий оптиматов сенат, все еще находившийся под впечатлением слов Цезаря, который, выражая недовольство принимаемыми им законами, всякий раз зловеще вопрошал: «Может, вам вернуть еще и республику?» Как бы там ни было, но сенат, получив текст соглашения, достигнутого между Октавием, Антонием и Лепидом, тут же принял соответствующее постановление – «Lex Titia». Но едва триумвират обрел законную силу, как в сенат за подписями триумвиров поступил первый проскрипционный список [92]. Сначала в нем значилось сто тридцать имен, потом к ним прибавилось еще сто пятьдесят, а в скором времени список тех, кто приговаривался к смерти, а имущество их подлежало конфискации, вырос до двух тысяч, причем среди приговоренных к смерти значилось и около трехсот сенаторов. Никаких возражений ни у одного из триумвиров не вызвало включение в проскрипционный список имен Кассия и Брута. А вот по поводу внесения в этот список Цицерона между Октавием и Антонием завязался торг, длившийся три дня. Октавий был против казни Цицерона и, уступая давлению Антония, соглашался на его высылку из Рима. Антоний не шел ни на какие уступки и говорил, что если первым в проскрипционном списке не будет значиться имя Цицерона, он выйдет из триумвирата. В конце концов Октавий, вопреки совету Арея твердо стоять на своем и не сдавать знаменитого оратора, писателя и политика, был вынужден дать согласие на казнь Цицерона. Едва согласованные триумвирами списки были обнародованы, как поступил приказ запереть ворота Рима и никого из города не выпускать. Бежать удалось лишь единицам из объявленных вне закона, в их числе Цицерону, которого взял под свою опеку Арей. В городе началась настоящая вакханалия. Хватали и убивали как тех, кто значился в списках, так и тех, кто в них не значился. Обыскивались не только дома, но и погреба, чердаки, сараи. Рабы выдавали ненавистных им хозяев, дети доносили на строгих отцов, жены указывали на опостылевших мужей. Кровь залила улицы Рима. Люди оскальзывались на никем не смываемых кровавых лужах и падали. Паника охватила еврейскую диаспору, расселившуюся на правом берегу Тибра: прошел слух, что римляне, перерезав друг друга, примутся грабить и убивать евреев. Немногих беглецов, которым удалось покинуть Рим прежде, чем закрылись его ворота, вылавливали и убивали. У Цицерона от страха отнялись ноги, и его на носилках отнесли в его загородное имение. Здесь легендарного оратора и настигли убийцы. Труп Цицерона был доставлен в Рим, в дом Антония, и бросили его к ногам Фульвии. Та вынула из волос длинную и узкую, как спица, заколку, раскрыла рот убитого и с визгом стала пронзать ею язык, который с таким упорством и так долго обличал ее за безнравственный образ жизни.
5
Сколько ни рыскали по Италии убийцы, которым была обещана награда в миллион сестерциев за головы Кассия и Брута, но их так и не удалось найти. Вскоре Кассий обнаружился в Сирии. Здесь он примирил наместника Мурка с чудом выжившим в сражении при Анамее Бассом Цецилием, объединил остатки еще недавно противостоящих друг другу римских войск и принял над ними командование. Он не делал секрета из своего плана собрать огромную армию из числа народов, покоренных Помпеем, и двинуть ее на Рим.
По всей Азии от Закавказья и до Персидского залива, от Египта и до Индии сновали его вербовщики, набирая где посулами, а где силой наемников в будущую армию, которая по численности и вооружению должна была превзойти все известные до той поры армии. Антипатр и Малих, собрав все необходимые документы, подтверждающие дарованное Римом право иудеев на освобождение от военной службы, отправились в Дамаск. Кассий, прочитав представленные ими документы, пришел в ярость. «Вы, видимо, считаете, что свобода иудеев должна оплачиваться кровью римлян и дружественных нам народов?» – вскричал он. Не посмев, однако, отменить прежние указы Рима, Кассий обязал Иудею выплатить ему компенсацию в размере пятисот талантов, которые пойдут на содержание его наемной армии, которая, в отличие от иудеев, готова сражаться не только за свою, но и за их свободу. Малих заявил, что таких денег у Иудеи нет, и что если Кассий требует от иудеев, чтобы они собственной кровью оплачивали свою свободу, он готов тут же, в его ставке, лишить себя жизни. Эта дерзость Малиха еще больше разъярила Кассия, и он увеличил размер дани, возложенной на Иудею, до семисот талантов.
Антипатр, видя состояние Кассия, не стал с ним спорить и принял его условия. Он, как наместник Иудеи, предложил Кассию следующие условия: Иудея в течение двух недель вносит в казну Кассия двести талантов звонкой монетой, а остальные пятьсот обязуется выплатить в виде продовольствия, фуража и транспортных средств, в которых будет испытывать нужду его армия. Кассий принял эти условия с той, однако, оговоркой, что сто талантов внесет в его кассу лично Малих. «Я настаиваю на том, – сказал он, с ненавистью буравя взглядом Малиха, осмелившегося перечить ему, – что сто талантов внесет в мою казну лично Малих, если вы не хотите, чтобы мои солдаты вступили на территорию Иудеи и сами взяли то, что им причитается». «У меня нет…» – начал было Малих, но Антипатр не дал ему договорить. «Требование справедливое, – сказал он, – и Малих выплатит тебе искомую сумму».
«Отчего все так ненавидят нас, евреев?» – с горечью произнес Малих, когда они вышли от Кассия. «Кто это – все?» – спросил Антипатр, взбираясь на коня. «Кассий, ты, – сказал Малих и легко вскочил в седло. – Все вы, кому евреи хуже кости поперек горла. По какому праву вы требуете, чтобы мы жили по вашим законам, а не по тем законам, которые дал нам Предвечный?» «Не болтай ерунды», – сказал Антипатр и пришпорил коня.
По дороге в Иерусалим Антипатр и Малих сделали короткую остановку в Сепфорисе, где Антипатр рассказал Ироду об итогах поездки к Кассию. Пообедав и поиграв немного с внуком, который уже пытался связать отдельные звуки в осмысленные слова, Антипатр с Малихом отправились дальше, а Ирод, сделав необходимые распоряжения, засобирался на север. Через два дня он прибыл в Дамаск и вручил Кассию первые сто талантов. «Эту сумму посылает тебе Галилея, – сказал он. – Свои сто талантов Малих пришлет тебе на следующей неделе». Кассий похвалил Ирода, а относительно долга Малиха заметил: «Пусть поторопится, у меня нет времени ждать, когда он соберет искомую сумму. – И добавил, недобро улыбаясь: – Передай Малиху, чтобы он хорошенько перетряс свою мошну, – там у него наверняка припрятано больше, чем стóит его жалкая жизнь». К исходу второй недели в Дамаск была доставлена вторая часть дани, возложенная Кассием на Малиха: эти сто талантов внес за командующего войсками Иудеи Антипатр из своих средств, чтобы не гневить заносчивого римлянина.
6
В это же время стало известно, что против Кассия выступил со своими легионами Антоний. Кассий срочно вызвал к себе Ирода. На этот раз Кассий был не один, а в обществе Брута, который угрюмо возлежал за столом с витыми бронзовыми ножками, отщипывал от виноградной кисти ягоды, но не ел их, а давил пальцами, раздавленную ягоду бросал на пол и принимался за следующую. Этот надменный патриций, возводящий свой род к тираноненавистнику Луцию Бруту, портрет которого висел на самом видном месте в его римском доме, меньше всего походил на римлянина. Скорее его можно было принять за правоверного иудея из-за бороды, которую он клятвенно обещал сбрить, как только республика будет восстановлена, а его враги Октавий, Антоний и Лепид уничтожены.
– Ведь ты не иудей? – спросил Кассий, приглашая Ирода к столу.
– Иудей, – ответил Ирод, решив, что Кассий имеет в виду не его происхождение, а вероисповедание.
– Ну да это не имеет значения, – сказал Кассий, давая знак виночерпию, чтобы тот наполнил кубки. – Ты показал себя исполнительным администратором и другом Рима. Складывающиеся обстоятельства вынуждают нас с Брутом на время уехать, поэтому мы решили назначить тебя наместником Сирии. Мурку, которого назначил наместником диктатор Цезарь, мы не доверяем. В наше отсутствие ты, как новый наместник Сирии, примешь на себя обязанности сборщика налогов со всех азиатских провинций и станешь следить за своевременным обеспечением нашей армии всем необходимым. Это решение не подлежит обсуждению, и в должность наместника ты вступаешь прямо сейчас. Я поднимаю кубок за то, чтобы наместничество твое было для тебя счастливым, а для Рима удачливым. Твое здоровье!
Как новый наместник, Ирод становился командующим всеми гарнизонами и охранными войсками, дислоцированными на территории Серии и Иудеи, в том числе над охранными частями Фасаила и войсками Малиха. Но если с Фасаилом и его стражниками никаких проблем не предвиделось, то Малих вряд ли обрадуется такому переподчинению своего войска. Ирод, представив себе выражение лица Малиха, когда тот узнает о новой должности Ирода, усмехнулся. Усмешка эта не осталась без внимания Брута.
– Тебя развеселило назначение наместником Сирии? – спросил он, обмакнув испачканные виноградом пальцы в кубок с вином. Ирод ответил:
– Нет, я просто подумал о том, как поведет себя Малих, когда ему придется сложить с себя обязанности начальника над армией Иудеи.
– С этим Малихом я бы вообще раз и навсегда покончил, – раздраженно сказал Кассий, тем самым дав понять, что всякое упоминание имени иудейского военачальника ему неприятно.
Известие о назначении Ирода наместником Сирии быстро облетело всю Иудею и повергло Малиха в шок. Он сказал Антипатру:
– Похоже, что в твоих руках и руках твоих сыновей скоро окажется не только вся Азия вкупе с Иудеей, но и весь Рим.
Антипатр, которого Малих даже не поблагодарил за то, что тот отвел от него гнев Кассия и спас Иудею от вторжения римлян, сказал:
– Для тебя это было бы лучшим решением всех твоих проблем.
Малих понял, на что намекает Антипатр, но поскольку при этом разговоре присутствовал и Гиркан, который трудно соображал, поспешил отвести от себя подозрения.
– Не знаю, что конкретно ты имеешь в виду, – сказал он, – но в присутствии нашего высокочтимого первосвященника я готов снова и снова подтвердить: все мои помыслы и поступки направлены единственно на благо Иудеи и ни на что иное. В этом и состоит моя главная проблема, которую я в меру своих скромных сил и возможностей до сих пор исполнял. Посмотрим теперь, как с этой проблемой справится твой сын.
7
Вскоре в Иерусалим прибыл Ирод. По случаю назначения его наместником Сирии Гиркан устроил пир. Приглашенных гостей оказалось множество. На пиру присутствовала и юная Мариамна – внучка Гиркана, которую дед упросил сплясать специально для нового наместника Сирии. За время, прошедшее с тех пор, когда Ирод видел ее в последний раз, бойкая смазливая девчушка расцвела и превратилась в степенную грациозную девушку, красота которой могла поспорить с красотой легендарной Елены, из-за которой разразилась Троянская война. Ирод сразу влюбился в Мариамну, как влюбился некогда в первую свою жену Дорис. Подвыпивший Гиркан, довольный тем, что доставил Ироду удовольствие, неловко поднялся, опрокинув блюдо с жареным барашком, качнулся и через весь стол закричал Ироду:
– Требуй, наместник, от первосвященника Иудеи чего хочешь – я исполню любую твою волю!
Ирод не заставил себя долго упрашивать и громко, чтобы его слышали все, сказал:
– Отдай мне в жены свою прекрасную внучку Мариамну! [93]
– Будь по-твоему! – мотнул захмелевшей головой Гиркан. – Мариамна, доченька моя, ты все слышала? Отныне ты жена Ирода!
– Пока только невеста, – поправил старика Ирод, снимая с пальца золотое кольцо и надевая его на тонкий пальчик зардевшейся красавицы, которое, оказавшись для нее слишком большим, тут же со звоном упало на пол и покатилось под стол.
– Дурное предзнаменование, – сказал Малих, сам с вожделением поглядывавший на Мариамну. – Брак твой, красавица, будет недолгий и несчастливый.
8
А вскоре случилась трагедия: отец Ирода, никогда и ничем не болевший, если не считать полученных им в сражениях ран, внезапно скончался. Ирода это известие застало во время инспекционной поездки по стране, в ходе которой он обратил внимание на то, что гарнизоны всех крепостей и городов, которые он посещал, приведены в повышенную боевую готовность. Командиры гарнизонов докладывали ему, что сделано это по приказу Малиха с тем, чтобы новый наместник Сирии мог лично убедиться в боеспособности армии Иудеи. Ирод не придал этому факту особого значения, хотя ему и не понравилось излишнее усердие Малиха, и поспешил вернуться в Иерусалим. Мать Ирода, Кипра, качаясь из стороны в сторону, подобно опахалу из страусовых перьев, которым рабы обмахивают в жаркую погоду господ, сидела над телом мужа, никого не узнавала и только повторяла, как заведенная, одно слово:
– Убили… убили… убили…
Тут же были ее и Антипатра дети: сыновья Фасаил, Иосиф и Ферора и дочь Саломия. Рядом же с Кипрой, обняв ее за плечи, неотлучно находился Малих. Он рассказывал безутешной вдове, каким храбрым воином был ее муж, как много потеряла с его смертью Иудея, наместником которой его назначил сам Гай Юлий Цезарь, и предлагал, следуя примеру римлян, объявивших покойного Цезаря богом, обожествить Антипатра, хотя Предвечный и запрещает иудеям делать подобное.
Ирод, не дожидаясь, когда тело отца будет предано земле, провел беглое расследований причин его внезапной смерти, но расследование это мало что дало. Выяснилось, что Антипатр отправился пообедать к Гиркану, где они обсуждали помолвку Ирода и Мариамны, а потом ни с того, ни с сего горло Антипатра свела судорога, глаза полезли из орбит и он, опрокинув чашу с вином, из которой едва успел отхлебнуть глоток, стал заваливаться набок и внезапно рухнул на пол. Ирод расспросил братьев, присутствовавших на том злополучном обеде, не показалось ли им что-либо странным или подозрительным.
– Ничего, – ответил за всех Фасаил. – Все было как всегда на званых обедах, которые время от времени устраивает Гиркан.
– Малих присутствовал на обеде? – спросил Ирод.
– Нет, – в один голос ответили братья, а Иосиф уточнил: – Гиркан сказал, что Малих тоже приглашен, но в тот день у него оказались какие-то неотложные дела и он прислал записку с извинениями за то, что не может присутствовать на обеде.
– Прислал записку? – насторожился Ирод. – А что еще он прислал Гиркану?
– Ничего, – сказал Ферора. – Одну только записку.
– Ты видел эту записку?
– Да, Гиркан стал плохо видеть и попросил меня прочитать записку Малиха.
– Как ты догадался, что эта записка именно от Малиха, а не от кого другого?
– От кого же еще она могла быть?
– Ты отвечай, а не переспрашивай. О том, что записка была именно от Малиха, ты узнал со слов Гиркана?
– А как Гиркан мог узнать, что записку прислал Малих, если, как я уже сказал, он стал хуже видеть и, чтобы разобрать самые крупные буквы, отодвигает от глаз написанное на расстояние вытянутой руки?
– В таком случае кто вам сообщил, что записка от Малиха? – теряя терпение, спросил Ирод.
– Да сам же я и прочитал это имя, – сказал Ферора, досадуя на брата за то, что тот, вместо того, чтобы предаться горю, допрашивает братьев, как будто они повинны в безвременной смерти отца.
– Значит, – подытожил Ирод, – ты узнал о том, что записку Гиркану прислал Малих только тогда, когда прочитал его записку?
– Да нет же, – сказал Иосиф. – Я вспомнил: о том, что записку прислал Малих, мы узнали от Александра.
– Кто этот Александр?
– Египтянин, виночерпий Гиркана. Он и сказал, что принес записку от Малиха.
– Сведите меня с этим Александром, – потребовал Ирод.
– Зачем? – спросил Фасаил. – Уж не подозреваешь ли ты Малиха в смерти нашего отца? Но ведь это смешно!
– Смешно – смейся, а мне не до смеха, – сказал Ирод. – Ферора, отведи меня к этому египтянину-виночерпию.
Но и допрос Александра ничего не дал Ироду. От этого, однако, подозрения Ирода не уменьшились.
– Кто тебе передал записку Малиха о том, что он не сможет присутствовать на обеде у Гиркана? – спросил Ирод Александра, когда Ферора проводил его на кухню. – Сам Малих?
– Как Малих мог передать мне записку о том, что не сможет присутствовать на обеде? – переспросил Александр.
Ирод рассердился.
– Я вижу, в Иерусалиме за время моего отсутствия появилась новая мода: отвечать на вопросы вопросом. Ты можешь говорить прямо?
– Могу.
– Вот и говори. Заодно покажи мне бочку, из которой ты наливал вино.
– Изволь. – Александр проводил Ирода в темный прохладный погреб, доверху заставленный бочками с вином. – Вот отсюда и наливал, – показал он на одну из бочек.
– Налей и мне, – потребовал Ирод.
Александр наполнил полную чашу вином и протянул Ироду.
– Отведай сам.
Александр сделал большой глоток, покатал вино языком во рту и, проглотив, удовлетворенно крякнул:
– Отличное вино! Не хочешь ли убедиться в этом сам?
– Спасибо, в другой раз. – Поднимаясь по крутой лестнице из погреба наружу, Ирод спросил еще: – Так кто же передал тебе записку Малиха?
– Не помню.
– А ты постарайся.
– Кажется, – наморщив лоб, стал вспоминать виночерпий, – это был Елисей. Нет, не Елисей, в тот день Елисей с утра ушел на рынок и до обеда не вернулся. Скорей всего, это был Орсан – так зовут раба-парфянина Гиркана. Вот только кто подарил этого раба Гиркану? Точно не твой отец и не твои братья. Тогда – кто? Гиркан ни за что не потратился бы на покупку раба, ты же знаешь, как он скуп. Впрочем, и Орсан не мог передать мне записку Малиха, его тоже в тот день куда-то отослал хозяин… – Отчаявшись вспомнить, виночерпий виновато развел руками. – Рад бы помочь тебе, Ирод, да не могу: моя память так по-дурацки устроена, что из нее напрочь выдувает, как пух сквозняком, всякую ерунду.
– Стало быть, ты не запомнил и такую ерунду, как маленький флакон, который тебе передал вместе с запиской Малих?
– Какой еще флакон? – насторожился Александр.
– Из зеленого египетского стекла, – сказал Ирод. – А может, и не зеленого, а коричневого или голубого. Твоя родина ведь славится своими стеклянными изделиями, не так ли? Никто лучше вас не умеет придавать им любую нужную вам форму. Как только вы ухитряетесь из застывшей холодной стеклянной массы творить чудеса?
– Дело нехитрое, только мне никто никаких флаконов не передавал. Не было такого, господин наместник!
Александр явно скрывал от Ирода нечто очень важное, скрывал неумело и нагло, опасаясь, видимо, не столько за себя, сколько за другого, куда как более важного и опасного для него человека, которого он ставил выше Ирода, что и проявилось в его насмешливо произнесенных словах «господин наместник».
– Не было – и не надо, – успокоил занервничавшего египтянина Ирод и вернулся к братьям.
Здесь, чтобы не мешать горю матери, продолжавшей раскачиваться над телом скоропостижно скончавшегося мужа, и заодно не вызвать подозрений у Малиха, державшего теперь руки вдовы в своих руках, он подзывал к себе по одному братьев и продолжал расспрашивать их о деталях того злополучного обеда. И въедливость его окупилась сторицей. Он выяснил, что во время смены блюд, когда слуги подали десерт, заодно были заменены и кубки. Но вот если кубки всем гостям были поданы пустые, то кубок Антипатра оказался уже наполненным. Взволнованный этой новостью, Ирод вышел на улицу и заметил, что дом его отца окружен тройным оцеплением воинов. Таким же тройным оцеплением был окружен и расположенный по соседству дворец Гиркана. Вернувшись во двор, он спросил Фасаила:
– Где твои стражники?
– Я отпустил их по случаю объявленного в Иерусалиме траура, – ответил Фасаил.
– А на воинов Малиха этот траур не распространяется?
– Что ты хочешь этим сказать?
– Ничего. Вызови сюда Малиха, хватит ему демонстрировать свое горе нашей матери. – Когда Малих появился во дворе, Ирод прямо спросил его: – Чего ты испугался?
– Я?! – округлил глаза Малих. – Кого и почему я должен бояться?
– Это-то я и хочу от тебя услышать.
– Мне нечего бояться.
– В таком случае объясни мне, что делают твои люди возле нашего дома?
Малих замялся.
– Видишь ли, – начал он, трудно подбирая слова, – для тебя не должно составлять тайны, что жители Иерусалима, как бы это поточнее выразиться, не очень дружелюбно были настроены к твоему отцу и тому, что он делал.
– К одному только нашему отцу или ко всем нам?
– Если хочешь знать правду, то ко всем вам. Я не исключаю, что во время похорон Антипатра могут случиться беспорядки. Чтобы предотвратить их, я и принял превентивные меры безопасности.
– Окружив своими людьми не только дом моего отца, но и дворец Гиркана?
– Гиркан, как тебе это должно быть известно не хуже, чем мне, вообще отличается крайней безалаберностью. Никогда не угадаешь, чего от него следует ожидать. Сейчас он убит горем, считая себя виновником смерти твоего отца, поскольку Антипатр скончался в его доме. Я не поручусь за то, что он не выйдет на улицу и не станет на виду у всего Иерусалима рвать на себе одежду и посыпать голову пеплом. Ни к чему хорошему это не приведет.
– А что будет плохого, если Гиркан поступит именно так, как ты говоришь?
– Первосвященник должен являть собой образец сдержанности и мудрости. Не подобает первосвященнику становиться истеричной плакальщицей, которую нанимают за плату, чтобы она рыдала над покойным и царапала себе лицо.
Ирод пристально смотрел на Малиха, стараясь угадать его истинные чувства и мысли. Малих был непроницаем. И тогда Ирод, понизив голос, спросил:
– За что ты убил моего отца?
Ни один мускул не дрогнул на лице Малиха. Выдержав взгляд Ирода, он в свою очередь спросил:
– Ты ожидаешь услышать от меня ответ на свой нелепый вопрос?
– Я требую ответа.
Малих, не отводя своего взгляда от глаз Ирода, тихо произнес:
– За что вы, идумеяне, ненавидите нас, евреев?
– Это не мы ненавидим евреев, это ты, Малих, ненавидишь нас, идумеян. И я знаю причину твоей ненависти.
Малих усмехнулся.
– Любопытно было бы услышать эту причину.
– Ты возненавидел моего отца в ту самую минуту, когда Цезарь назначил его, идумеянина, а не тебя, еврея, наместником Иудеи.
– В назначении Цезаря ничего не говорилось о том, что твой отец назначит начальником Иерусалима и его окрестностей твоего брата Фасаила, а тебя начальником Галилеи. Или я ошибаюсь?
– Вот за это ты и решил поквитаться с моим отцом, а теперь, когда он мертв, ты примешься за нас.
Ничего ему на это не возразил Малих. Он только продолжал смотреть прямо в глаза Ирода, и во взгляде этом Ирод не увидел ничего, кроме усталости не спавшего долгое время человека. Так они и стояли друг перед другом посреди двора – стояли долго, прежде чем Малих произнес:
– Если тебе больше нечего сказать, кроме того, что я уже выслушал, позволь мне вернуться к моему боевому товарищу, которого я спас однажды от смерти в дельте Нила, а сегодня не могу уберечь от наветов его вздорного сына.
После похорон отца Ирод продолжил инспекционную поездку по стране, взяв в заложники сына Малиха, чтобы тот не вздумал поднять против него бунт. Этого ребенка он доставил в Тир, на который не распространялась юрисдикция Малиха, а сам отправился в Самарию, где вспыхнула очередная распря между иудеями и самаритянами [94].
Глава седьмая РАСПРАВА
1
Распрю Ирод подавил быстро и взял под стражу подозреваемых. Судьи на этот раз не приняли согласованного решения в отношении арестованных. Всё, однако, указывало на то, что зачинщиками распри, чуть было не переросшей в бунт, стали иудеи. Ирод лично допросил некоего Авизера, старейшину самарийской синагоги [95]. Тот поначалу делал вид, что никак не возьмет в толк, чего именно добивается от него Ирод, и усердно молился: «Даруй, Господь, мир, блаженство, благословение, милосердие и сострадание нам и всему Твоему народу Израилю. Отец, благослови нас всех светом Твоего лица, ибо в свете лица Твоего Ты дал нам, Господи, Боже наш, закон жизни, любви, праведности, благословения, милосердия и мира. Благоволи благословить Твой народ, Израиля, во все времена и в каждое мгновение миром. Благословен Господь, благословляющий Свой народ миром».
Иудеи, входящие в свиту Ирода, всякий раз, когда Авизер в очередной раз затевал молитву, вскакивали с мест, молча выслушивали ее, а по окончании молитвы громко восклицали: «Аминь» [96]. Ироду показалась такая откровенная демонстрация набожности подозрительной, и он приказал подвергнуть Авизера пытке. Но едва палачи, оттащив старейшину в пыточную камеру, заломили ему руки, как тот завопил от боли и потребовал свести его с Иродом, которому он имеет сообщить нечто очень важное. Оказавшись снова перед наместником, Авизер пал ниц и, рыдая, заголосил:
– Великий сын великого отца, огради и помилуй! Покарай не меня, но Малиха! Он один повинен в том, что на наши головы пало несчастье! Я догадался, я сразу догадался, что Кассий разнюхал обо всем и подослал к нам этого самаритянина. Прозелитом [97]он решил стать, видишь ли. Да какой он прозелит? Ты бы посмотрел на него: лазутчик, вылитый лазутчик, которому приказали извести под корень всю нашу общину!..
Из дальнейшего путаного рассказа Авизера перед Иродом вырисовалась картина далеко идущего заговора, сотканного командующим войсками Иудеи. Малих не только соврал, заявив, что не желает вмешиваться в вспыхнувшую войну римлян с римлянами, но и решил воспользоваться этой войной, чтобы вернуть Иудее самостоятельность. С этой целью он разослал по всем синагогам тайное предписание сформировать на базе местных общин отряды воинов, которые должны были дождаться его приказа о начале выступления. Авизер лично встречался с Малихом, и тот поведал ему некоторые детали своего плана. Выступление должно было начаться одновременно во всех римских провинциях от Нила до Евфрата, где расселились иудеи. Все сторонники сохранения римской власти вне зависимости от своей национальной и религиозной принадлежности подлежали безусловному и полному уничтожению. В планы Малиха входило не только освобождение Иудеи от иноземного владычества, но и создание новой Великой Иудеи, которая придет на смену Римской державе. Для Авизера остался невыясненным вопрос о том, какую роль в этой новой державе отводит себе сам Малих. У него, однако, создалось впечатление, что командующий иудейской армией видит себя в качестве диктатора. Что дало ему, старейшине синагоги, основание так считать? Да хотя бы то, что на вопрос Авизера, как следует поступать с влиятельными иудеями, которые не пожелают вступить в союз с заговорщиками, Малих ответил: «Так же, как я поступил с наместником Рима в Иудее Антипатром».
Ирод прервал Авизера:
– Повтори еще раз, что сказал тебе Малих.
– Со всеми сторонниками Рима, сказал он, следует поступить так же, как он, Малих, поступил с твоим отцом.
– Ты готов подтвердить свои слова под пыткой? – спросил Ирод.
Ужас снова охватил старейшину самарийской синагоги.
– Заклинаю тебя, не пытай меня! – вскричал Авизер, и слезы брызнули из его глаз. – Я готов подтвердить свои слова в присутствии самого Малиха! Если бы не он, я бы никогда не додумался до крамолы и не попался на удочку этого гнусного самаритянина. Это из-за него возникла распря между нами, иудеями, и самаритянами. Теперь я уверен, что его к нам подослал Кассий, которому ведомы планы Малиха!..
– Довольно, – брезгливо сказал Ирод, которому надоели слезы Авизера. – Собирайся, поедешь со мной в Иерусалим.
– Зачем? – испугался тот.
– Чтобы повторить свой рассказ в присутствии Малиха.
2
Вечером Ирод написал подробное письмо Кассию. Едва он запечатал это письмо и передал его гонцу, как к нему вошла Дорис. Прослышавшая, что ее муж собирается жениться на внучке Гиркана Мариамне, она спросила:
– Почему ты перестал входить ко мне? Ведь даже рабыня имеет право на мужа [98].
Ирод, находившийся в самом мрачном расположении духа, грубо ответил ей:
– Убирайся.
Наутро Ирод во главе вооруженного отряда сирийских наемников двинулся в Иерусалим, куда в это время стекалось множество по случаю праздника седмиц [99]. Малих прослышал о походе Ирода и уговорил Гиркана не впускать его отряд в город на том основании, что он состоит из чужеземцев, а нахождение в городе чужеземцев во время праздника противно букве и духу закона. Гиркан согласился с таким доводом и выслал навстречу Ироду вестника с требованием уйти из-под стен Иерусалима. Ирод отослал вестника назад без ответа, а ночью вступил в город, заняв его жизненно важные объекты. Остановившись у Фасаила, он предъявил брату в качестве улики против командующего армией Иудеи Авизера:
– Вот доказательство того, что нашего отца убил Малих.
– У него есть свидетели? – спросил Фасаил, всматриваясь в лицо Авизера, в котором не осталось ни кровинки.
– Говори! – потребовал Ирод.
Авизер вздрогнул и, переводя испуганный взгляд с одного брата на другого, тихо произнес:
– Н-нет. Наш разговор с Малихом происходил наедине.
– Слово против слова – это не доказательство, – сказал Фасаил.
– Он готов разоблачить Малиха в его присутствии! – пылко заявил Ирод.
– И все равно это будет слово против слова, – возразил Фасаил. – Малих скажет, что этот человек лжет. Нужны какие-то другие, более веские доказательства того, что нашего отца убили по приказу Малиха.
– Будут тебе такие доказательства, – пообещал Ирод.
Вскоре в дом Фасаила пришел Гиркан, встревоженный ослушанием Ирода его приказа.
– Как ты посмел вступить в священный город с чужеземцами? – набросился он на Ирода.
– Я пришел покарать Малиха за гнусное убийство нашего отца, – сказал Ирод.
Брови Гиркана полезли на лоб:
– Во время праздника?
– Я могу подождать и окончания праздника, – ответил Ирод.
– Сейчас сюда придет Малих, – сказал Гиркан. – Я послал к нему сообщить, что отправился на встречу с тобой. Повтори ему в моем присутствии свою угрозу покарать его.
– У меня нет ни малейшего желания встречаться сейчас с убийцей моего отца, – сказал Ирод.
– Нет, ты cкажи ему в моем присутствии, что именно он убил Антипатра.
Малих действительно вскоре объявился в доме Фасаила. Поприветствовав Ирода, он снова стал сокрушаться о безвременной кончине наместника Рима и своего боевого товарища, которому он продолжает хранить верность и после его смерти.
– Хватит врать, – перебил его Ирод. – Посмотри на этого человека, – показал он на Авизера. – Ты узнаешь его?
Малих бросил в сторону старейшины самарийской синагоги короткий взгляд и коротко, как отрезал, ответил:
– Нет.
– А ты посмотри внимательней, – с угрозой в голосе потребовал Ирод.
Малих на этот раз задержал свой взгляд на Авизере и, наконец, сказал:
– В первый раз вижу.
– А ты, Авизер? – обратился Ирод к пленнику. – Узнаешь ли ты человека, который перед тобой?
Старейшина самарийской синагоги малчал, с ужасом глядя на Малиха.
– Отвечай! – гаркнул Ирод так громко, что дрогнули язычки свечей.
Авизер затравленно посмотрел на Ирода и, не ответив ему, снова перевел взгляд на Малиха.
– Уберите это ничтожество с моих глаз долой, – обратился Ирод к старшине своих телохранителей Коринфу. – Я поговорю с ним утром.
– Вот и правильно, – одобрил слова Ирода Гиркан. – Время позднее, всем нам пора отдохнуть, чтобы наутро достойно встретить праздник. Заодно, кстати, – улыбнулся он Ироду, – повидаешься со своей невестой. Она соскучилась по тебе.
Ирод никак не отреагировал на слова первосвященника.
Весь следующий день он провел в обществе внучки Гиркана. Иерусалим, несмотря на присутствие в городе чужеземцев, гудел и веселился. Впрочем, солдаты и командиры Ирода, воспользовавшись возможностью отдохнуть, тоже предались веселью. Одному Ироду не было никакого дела до праздника. Держа узкие ладошки Мариамны в своих руках, он неотрывно смотрел в ее большие синие глаза и думал о том, что это созданьице, готовящееся стать его женой, становится все прекрасней. С Мариамной он провел не только праздник, но и всю последующую неделю. От невесты, рядом с которой меркли все женщины, которых он познал за время их последней встречи на пиру у первосвященника, его отвлекло письмо Кассия. В своем письме тот сообщал, что разгромил римлян под Лаодикеей [100]и намерен в ближайшие дни торжественно отметить свою победу в Тире, куда приглашает и его, Ирода. Далее он похвалил нового наместника Сирии за то, что тот быстро и без крови подавил бунт в Самарии и пообещал после окончательного разгрома всех своих врагов в Риме сделать его царем Иудеи. Мысль эту подал ему Брут, и он совершенно с ним согласен: Иудея должна стать форпостом Рима во всей Азии. Что касается Малиха и выявившейся его причастности к убийству Антипатра, то он, Кассий, с самого начала невзлюбил этого спесивого иудея, который открыто выражает свою неприязнь к Риму и римлянам, и потому советует Ироду не церемониться с ним, а поскорее убить его, – тем самым он не только отомстит за смерть своего отца, но и избавит их, Кассия и Брута, от лишней головной боли. В заключение письма говорилось: Кассий отдает себе отчет в том, что Малих, сражаясь за свою ничтожную жизнь, может оказать Ироду вооруженное сопротивление, а потому он приказал тирийским военачальникам оказать всяческое содействие наместнику Сирии в казни командующего иудейской армией.
3
Письмо это обрадовало Ирода. Он сообщил Малиху о победе, одержанной Кассием над своими политическими противниками и его намерении отметить свою победу в Тире.
– Не собираешься ли и ты отправиться в Тир, куда наверняка съедутся сотни самых уважаемых людей со всей Азии поздравить Кассия? – поинтересовался Ирод. – Заодно повидаешься со своим сыном.
– Предложение заманчивое, – сказал на это Малих. – Тем более, что я давно не видел своего мальчика и даже не знаю, жив ли он. Пожалуй, я поеду в Тир, но не один, а с Гирканом. – Улыбнувшись Ироду, прибавил: – Надеюсь, Кассий не станет возражать против присутствия на торжествах в честь его победы над своими соотечественниками первосвященника Иудеи?
– Я тоже на это надеюсь, – ответил Ирод, делая вид, что не заметил иронии Малиха.
Оставив в Иерусалиме Коринфа с частью своих телохранителей и приказав ему глаз не спускать с Малиха и сообщать ему о всех его передвижениях, Ирод со своим отрядом покинул столицу и направился в Тир на встречу с прибывшими туда римскими военачальниками, которым Кассий приказал оказать содействие наместнику Сирии в казни Малиха. Вскоре Коринф сообщил Ироду, что Малих, сопровождаемый Гирканом и небольшим вооруженным отрядом, также отправился в Тир, но не по суше, а морем. Предупрежденные Иродом римские военачальники выставили вдоль всего тирского побережья дозорные отряды. Едва Малих, пересев с корабля в лодку, причалил к берегу, на него тут же набросились римляне и закололи его и его немногочисленную свиту. Причаливший вслед за Малихом к берегу Гиркан, увидев в свете факелов результаты скоротечной кровавой бойни, вскричал, обращаясь к находящемуся здесь же Ироду:
– Кто посмел убить командующего армией Иудеи?
Вместо Ирода первосвященнику ответил командир тирского гарнизона, руководивший операцией по уничтожению Малиха:
– Приказ Кассия.
Гиркан чуть было ни лишился сознания, беспомощно обвиснув на руках Ирода. Придя немного в себя, поднял на Ирода глаза и едва слышно произнес:
– В таком случае Кассий спас меня и мое отечество, ибо он устранил человека, представлявшего смертельную угрозу для нас обоих.
4
Ирод ненадолго задержался в Тире. Ему необходимо было решить судьбу маленького сына Малиха, оставшегося сиротой. Заодно ему надо было решить судьбу и плененного старейшины самарийской синагоги. Увидев труп Малиха, Авизер окончательно впал в панику, предположив, что следующей жертвой Ирода станет он. Ирод приказал Авизеру вернуться в Самарию и дал ему на дорогу денег. Авизер отказался как от предложения Ирода, так и от его денег. Он был уверен, что Ирод затеял с ним игру с трагичными для него последствиями: как только он окажется в Самарии, с ним тут же расправятся наемные убийцы, а в качестве платы за свое черное дело воспользуются значительной суммой, которую он же, Авизер, им и доставит в целости и сохранности. Тогда Ирод вверил попечению Авизера сына Малиха, поручил ему отправиться в Иерусалим, а оттуда с вдовой Малиха перебраться в Александрию, где определить ребенка в тамошнюю греческую школу и позаботиться о том, чтобы сын Малиха получил достойное образование. Лишь после этого Авизер успокоился, а Ирод отправился в Дамаск. Там его свалила внезапная болезнь, ставшая следствием безмерной усталости от событий, происшедших за последние три месяца.
Ночами Ирода мучили кошмары. К нему являлся окровавленный Малих и спрашивал одно и то же: «Сколько тебе заплатили римляне, чтобы ты бросил к их ногам на растерзание Иудею?» Ирод шарил вокруг себя руками, комкал простыни, стараясь вырвать их из-под себя, чтобы показать Малиху: он не получил с римлян ни обола и все, что он ни делает, он делает не для погибели, а ради процветания Иудеи. «Не ты ли говорил моему отцу, которого подло убил, что когда грызутся львы, овцам не пристало быть им судьями?» – спрашивал он, а Малих лишь щерил рот и говорил в ответ: «И ты, и твой отец, и твой братец Фасаил мечтаете только об одном: как бы поскорей погубить Иудею. За что вы, идумеяне, так ненавидите нас, евреев?» Лишь к утру к Ироду являлась Мариамна, садилась на край постели, клала ему на пылающий лоб узкую невесомую ладошку и долго сидела так, глядя на него своими огромными синими глазами. От ее прохладной ладошки, от того, что она не произносила ни слова, Ироду становилось легче и он проваливался в пустоту, в которой не было ни Малиха, ни кого другого из тех, кого он знал, а была одна только Мариамна, от которой исходил мягкий синий свет.
На десятый день болезни Ироду доставили письмо из Иерусалима. Из этого письма, наспех написанного Фасаилом, Ирод узнал, что сразу же после убийства Малиха гарнизон столицы, командование над которым принял на себя брат Малиха Феликс, взбунтовался. Следом за столицей взбунтовалась вся Иудея, обвинившая Ирода в узурпации власти на всем Ближнем Востоке. Очагами восстания на местах стали синагоги, которые превратились в опорные пункты бунтовщиков. Феликс прямо заявил, что основной целью поднятого им восстания является осуществление принципа талион [101], в соответствии с которым должны быть казнены Ирод и его старший брат Фасаил. В короткое время в руках бунтовщиков оказались практически все крепости Иудеи, включая самую сильную из них – высокогорную крепость Масаду, построенную еще младшим сыном Маттафии Ионафом, когда они всей семьей вынуждены были бежать в Идумею. Далее Фасаил сообщал, что ему и его стражникам удалось подавить бунт в Иерусалиме, так что за судьбу своей невесты Мариамны, возвратившегося из Тира Гиркана и членов их семьи Ирод может не тревожиться. Но вот что касается остальной Иудеи и прилегающих к ней областей, то тут он бессилен что-либо сделать и уповает лишь на волю Предвечного, Которому неустанно молится.
Еще не оправившийся от болезни Ирод отправился к командиру дамасского гарнизона центуриону Фабию и, как наместник Сирии, потребовал переподчинить этот гарнизон ему, Ироду, для похода в Иудею. Соединенными силами он перешел границу и прошелся с севера на юг по всей Иудее огнем и мечом. Феликс, осажденные в Масаде, запросил пощады. Ирод обещал сохранить ему и его воинам жизнь, если те сложат оружие. Феликс принял условия Ирода и приказал своим воинам сдаться. Ирод лично проверил, чтобы никто из осажденных не покинул крепость вооруженным. После этого он встретился с Феликсом и сказал ему:
– Я не держу на тебя зла, я должен был отомстить лишь твоему брату Малиху за смерть моего отца. Но ты должен знать, что отныне нам с тобой не место на одной земле. Отправляйся в Египет.
– Что я там забыл? – мрачно спросил Феликс.
– Там твои племянник и невестка. Живи с ними в мире и покое, ваше содержание я беру на себя. Но если ты ослушаешься моего приказа и снова появишься в Иудее, то знай: ты будешь убит. Народу Иудеи приходится слишком дорогой ценой расплачиваться за твои и твоего брата безумства. Ты всё понял?
– Всё, – едва слышно произнес Феликс. На том они расстались. Больше их пути ни разу не пересеклись.
5
Возвратившись в Иерусалим, Ирод решил больше не тянуть с уговором, достигнутым несколькими месяцами ранее с Гирканом, и сыграть свадьбу с Мариамной, которая за время их последней встречи стал еще краше.
Во дворце первосвященника собралось так много народу, что пиршественные столы пришлось накрыть во дворе, памятного Ироду тем, что именно здесь Гиркан устроил судилище над ним буквально на следующий день после его женитьбы на Дорис. Сейчас Дорис, оплывшая и вконец обленившаяся, сидела в стороне от всех с трехлетним Антипатром на коленях и брезгливо наблюдала за тем, как шла подготовка к свадьбе ее мужа. Вопреки обычаю, здесь же находилась и Мариамна, не пожелавшая сидеть в окружении подруг в глубине дворца, ожидая, когда Ирод, сопровождаемый брачными друзьями, придет за ней. Юная красавица не сводила с Ирода влюбленного взгляда и, казалось, из огромных глаз ее струился мягкий синий свет, запомнившийся Ироду во время кошмаров болезни, свалившей его в Дамаске.
Шошбенимами на этот раз стали сразу двое: со стороны невесты ее дед Гиркан, со стороны жениха его брат Фасаил. Им, в соответствии с законом, надлежало после брачной ночи молодоженов вывесить на обозрение гостям простыню молодоженов, тем самым предъявив им признаки девственности невесты [102]. Свадьба еще гудела и веселилась, когда молодые уединились.
Как ни был многоопытен в отношениях с женщинами Ирод, пустившийся во все тяжкие после охлаждения к Дорис, но то, что испытал он в первую брачную ночь, одновременно подняло его на самый пик блаженства и повергло в глубокий шок. Ирод спрашивал себя, откуда взялась в молодой женщине, еще почти девочке, эта необузданная страсть, которая доставила ему неописуемое наслаждение? Казалось, с утратой девственности, сдерживавшей ее природное естество, она утратила и какой бы то ни было контроль над собой. Чувства, вырвавшиеся из ее хрупкого тела, еще не вполне оформившегося в зрелую женскую плоть, были так велики, что, подобно разбушевавшейся реке, вырвались из берегов и накрыли Ирода с головой. Такое уже было с ним однажды, когда он, девятилетний мальчишка, отправился с друзьями купаться на речку. Желая доказать всем, в том числе себе, что ему нипочем и самое глубокое место, куда не каждый решался заплыть, он забрался на кручу и прыгнул в воду, не подумав о том, а как он из нее выберется. Ироду навсегда запомнилось пугающе манящее чувство, которое он испытал, прежде чем взрослые, к счастью для него оказавшиеся поблизости, вытащили его на берег. Мутная пелена в глазах, резь в горле и груди и, как это ни странно, пьянящее чувство постижения нового, до той поры ему совершенно неведомого, и полное отсутствие страха.
Нечто подобное испытал он и в первую ночь, проведенную с Мариамной. Ему было странно и удивительно ощущать, как она, не удовлетворившись наслаждением, доставленном мужу, то превращалась в полноводную реку, с головой накрывавшей Ирода, а то сокращалась до размеров змеи, обвивавшей его тело тугими кольцами. Лишь с первыми лучами солнца она, вконец вымотанная и удовлетворенная, уснула на его груди, и Ирод, бесконечно благодарный ей, неподвижно лежал на спине, боясь неосторожным движением разбудить ее. Он и сам чувствовал себя безмерно усталым. Временами Ирод впадал в забытье, и тогда перед ним возникал почему-то Малих, который щерил рот, бесстыдно разглядывая голых молодоженов, а у Ирода не было сил натянуть на себя и на Мариамну одеяло. Потом ему вдруг начинало казаться, что Мариамна не дышит, и тогда он замирал и напряженно вслушивался, донесется ли до него хотя бы слабый звук из ее груди. Сон, наконец, сморил и Ирода, и первое, что ему привиделось, был все тот же Малих. На этот раз он не щерился, а осторожно, косясь на Ирода, пробрался к ним в постель и прижался к спине Мариамны. Мариамна, не раскрывая глаз и счастливо улыбаясь, повернулась к Малиху лицом, обвила его руками и ногами и стала проделывать с ним все то, что проделывала часом ранее с Иродом. Ирод мгновенно проснулся, сел на постели и пристально посмотрел на Мариамну, будто желая понять, привиделось ли ему, что Мариамна отдается Малиху, или это случилось на самом деле. Мариамна, почувствовав на себе взгляд Ирода, сладко потянулась, раскрыла свои огромные синие глаза и сказала:
– Я люблю тебя.
Ирод ответил или подумал, что ответил:
– Если ты когда-нибудь изменишь мне, я убью тебя.
Сказав так, он откинулся на спину и снова уснул, на этот раз не тревожимый никакими видениями.
6
Безумство продолжалось ровно неделею, и всю эту неделю Ирод неотлучно находился подле Мариамны, ревнуя ее ко всем, с кем она заговаривала. Мариамне нравилась ревность мужа, и, шушукаясь с кем-нибудь, она кокетливо поглядывала на Ирода, как бы подзадоривая его: «Ну, поревнуй меня еще чуть-чуть, посмотри, как я хороша собой, как сильно все меня любят и я люблю всех». Ревность Ирода достигла апогея к утру седьмого дня, когда Мариамна, в очередной раз превращаясь то в разбушевавшуюся реку, рвущуюся из тесных берегов, а то в змею, обвивающую его тугими кольцами ног и рук. Ирод мог поклясться, что в это утро, когда измотанная собственной страстью Мариамна безмятежно уснула у него на груди, к ним в спальню снова, как в первую брачную ночь, неслышной тенью проскальзнул Малих, лег рядом с Мариамной, и Мариамна, не раскрывая глаз, проделала с ним все то же самое, что проделала до этого с Иродом.
С наступлением дня Ироду доложили, что в Тире объявился сын покойного Аристовула Антигон и собирает вокруг себя войско. Воспользовавшись войной римлян против римлян и недавней смутой, поразившей Иудею, он бежал из Рима, куда его вместе с братом Александром доставил Помпей, и теперь намерен расправиться со своим дядей Гирканом и сыновьями Антипатра как главными виновниками гибели его отца, и провозгласить себя царем. Антигона поддержали сын бывшего тестя Симона Птолемей, тоже Птолемей, на дочери которого он скоропалительно женился в обмен на обещание поддержать его деньгами, а также тиран [103]Тира Марион и командир дамасского гарнизона центурион Фабий. Последний не мог простить Ироду того, что тот воспользовался его солдатами для усмирения Иудеи, не отблагодарив его за это никаким подарком, а Антигон сразу ссудил его пятьюдесятью талантами.
Ирода эта новость скорее обрадовала, чем огорчила. Приезд Антигона дал ему повод покинуть Иерусалим и на время отвлечься от терзавшей его ревности. По дороге в Галилею Ирод узнал дополнительно, что на подведомственную ему территорию вторглись объединенные силы Мариона и Антигона и захватили три крепости. Ирод с ходу атаковал противника, без особых потерь выбил его из крепостей и рассек отступающее войско на части: тирян, добровольно сдавшихся в плен, он одарил деньгами и отпустил домой, а Антигона преследовал вплоть до Дамаска, у стен которого, не желая ввязываться в войну с Фабием, остановился и, дав своим солдатам возможность отдохнуть, вернулся в Иерусалим. Здесь Гиркан устроил ему торжественную встречу и собственноручно надел ему на голову лавровый венок победителя.
В Иерусалиме Ирода ожидала еще одна новость: Антоний и молодой Октавий, оставив в Риме Лепида, возглавили сохранившие им верность легионы, размещенные в Македонии и большей части Греции, и двинулись против Кассия и Брута. Под Филиппами [104]они дали убийцам Цезаря решительное сражение, в ходе которого их армия была полностью уничтожена. Кассий, не желая стать пленником триумвиров, приказал своему рабу убить себя, а Брут, так и не расставшийся с бородой, покончил жизнь самоубийством, бросившись на собственный меч. Такой финал войны показался Октавию слишком незначительным, чтобы отпраздновать победу, и приказал отрубить головы мертвым Кассию и Бруту, доставить их в Рим и бросить к ногам статуи Цезаря. Антоний не одобрил такого поступка Октавия. Тогда его товарищ по триумвирату пошел еще дальше: стал вымещать свою ярость на знатных пленниках. Когда кто-то из пленных попросил не лишать его тело после казни погребения, Октавий ответил: «Твоим погребением займутся коршуны». Схваченным в бою отцу и сыну он приказал решить вопрос на мечах, кто из них раньше должен умереть. Отец поддался сыну и умер; тогда Октавий приказал сыну покончить жизнь самоубийством. Оратор Марк Фавоний, проходя в цепях мимо полководцев, приветствовал Антония как победителя, а в сторону Октавия плюнул, за что тут же был пронзен копьем.
Одержав победу над армией Кассия, Октавий и Антоний разделили между собой дальнейшие полномочия: первый взялся отвести ветеранов в Италию и расселить их там на муниципальных землях; второй обязался восстановить порядок на Востоке. Антоний триумфально прошел через всю Грецию и вступил в Малую Азия. Снискав славу неустрашимого героя и талантливого полководца, он окружил себя сотнями музыкантов, танцовщиц и шутов, устраивая всюду, куда ни ступала его нога, шумные попойки, переходящие в самые необузданные оргии. Не скупился он и на подарки. Повару, который порадовал его необыкновенно вкусным ужином, он подарил целый дом, изгнав оттуда хозяев, симпатизировавших Кассию. Все еще находясь в Малой Азии, он стал помышлять о подчинении своей власти Египта, благо повод к войне с этим богатым краем у него нашелся: один из полководцев Клеопатры, хотя сама Клеопатра всегда была на стороне противников убийц Цезаря, выступил на стороне Кассия и Брута. Клеопатре стало известно о планах Антония, и она поспешила упредить его, выехав навстречу ему на вызолоченной галере с пурпурными парусами. Сойдя на берег в окружении слуг и служанок, изображавших нимф и купидонов, она велела раскинуть шатер необыкновенной роскоши, куда пригласила великого победителя.
Ироду также следовало озаботиться вниманием к себе со стороны Антония. Он понимал, что, приняв предложение Кассия стать наместником Сирии и не без его поддержки расправившись со своим врагом Малихом, он тем самым оказался в стане врагов официального Рима. Ситуация сложилась щепетильная, а Антоний был не из тех, кого можно было задобрить подарками. Тогда он, посоветовавшись с Фасаилом и Гирканом, нашел единственно верный в его положении выход: написал Антонию от имени Гиркана поздравление с победой, присовокупив к приветственным словам жалобу на союзника Кассия Мариона и жителей Тира, которые вероломно захватили принадлежащие Иудее земли. И уже вскользь, как бы между прочим, сделал маленькую приписку, на которой, к слову уж сказать, настоял Гиркан: благодаря решительным и своевременным действиям Ирода враг был изгнан из Галилеи, однако нет никаких гарантий, что тиряне вновь не позарятся на земли Иудеи. Приложив к письму венец, выполненный из чистого золота и усыпанный драгоценными камнями, Ирод отправил представительную делегацию в Ефес [105], где в это время находился со своей многочисленной свитой Антоний.
Расчет Ирода оправдался: Антоний не таил зла ни на кого из иудеев, по-прежнему считая их союзниками Рима, и ответил на поздравление и подарок пространным письмом, к которому приложил копии двух других писем, адресованных тирянам (письма эти Ирод переписал в свой дневник).
Письмо, адресованное Гиркану:
«Марк Антоний император [106]посылает привет первосвященнику Гиркану, а также всему иудейскому народу. Если дела ваши хороши, я доволен; сам я с войском своим пребываю в вожделенном здравии. Убежденный в том, что вы действительно преданы нам, и узнав ваш благородный образ мыслей и ваше благочестие, позволяю себе выразить вам свое благоволение. После того, как враги ваши и римского народа прошли по всей Азии, не щадя ни священных мест, ни храмов и не соблюдая данных клятв, мы, которые заступаемся не только за наши личные интересы, но преследуем общее благо, наказали всех виновных в беззакониях относительно людей и безобразиях по отношению к богам. Этими своими преступлениями враги, по нашему мнению, вызвали и то, что солнце отвернулось, лишь бы не взирать на гнусное убийство Цезаря. Однако мы расстроили их богопротивные замыслы, для приведения которых Македония представляла самое подходящее и самой природой как бы предназначенное место, и разбили гнусную толпу их единомышленников, которую они собрали вблизи македонского города Филиппы, причем им удалось занять отличные позиции за оградой тянущихся до самого моря гор, так что доступ туда представлялся возможным лишь через один только проход. Несмотря на все это, мы побили их, потому что боги решили наказать их за все их безбожные начинания. Бежавший в Филиппы и подвергшийся там осаде нашей Брут разделил с Кассием его печальную участь. Итак, теперь, когда те подверглись наказанию, мы надеемся, что Азия впредь сможет наслаждаться миром и отдохнуть от войны. Дарованный нам Господом Богом мир мы желаем распространить и на союзников наших, так что ныне, благодаря нашей победе, тело Азии сможет как бы оправиться от продолжительной болезни. Поэтому я теперь памятую особенно о тебе и о твоем народе, заботясь о развитии вашего благосостояния. Ввиду сего я рассылаю указы по отдельным городам, чтобы была возвращена свобода всем тем свободнорожденным или рабам, которые были проданы Гаем Кассием или его подчиненными. Вместе с тем я утверждаю за вами невозбранное право пользоваться всем тем, что даровано вам было сенатом Рима и мною. Тирийцам я сим запрещаю подвергать вас каким бы то ни было насилиям и повелеваю им возвратить все то, что они отняли у иудеев. Присланный тобой венец я с благодарностью принял».
Копия первого письма, адресованного тирянам:
«Император Марк Антоний посылает привет должностным лицам, совету и народу города Тира. Ввиду того, что ко мне в Ефес прибыли послы первосвященника Гиркана и заявили мне, что вы владеете их областью, которую вы заняли во время владычества наших противников, я желаю, так как мы начали войну за главенство и, заботясь о всех благочестивых и праведных людях, наказали тех, кто забывал оказанные благодеяния и нарушал данные клятвы, – итак, я желаю, чтобы тот мир, которым пользуетесь вы, распространился также на союзников наших, и повелеваю вам далее не задерживать имущества, полученного от наших противников, но возвратить его тем, у кого вы его отняли. Ведь никто из противников наших не получал ни своей области, ни своего войска от сената; напротив, овладев всем этим насильно, они держались за это силой и вознаграждали этим своих сообщников по преступности. Так как они подверглись теперь заслуженному наказанию, то мы желаем, чтобы наши союзники невозбранно владели своей прежней собственностью и чтобы вы вернули иудейскому первосвященнику Гиркану все занятые вами теперь земли, которые принадлежали ему хотя бы за день до начала преступной войны Гая Кассия против нашей провинции, равно как запрещаем вам насильно мешать им в пользовании их личной собственностью. Если же у вас есть какие-нибудь в этом отношении оправдания, то вы можете привести их в свою пользу, когда мы приедем в ваши места, ибо мы намерены соблюдать в одинаковой мере интересы всех союзников наших».
Копия второго письма, адресованного тирянам:
«Император Марк Антоний посылает привет свой должностным лицам, совету и населению Тира. Сим посылаю вам свое распоряжение, которое прошу принять к сведению и относительно которого прошу распорядиться поместить его в общественном архиве с латинскими и греческими копиями. Самый же оригинал прошу держать на особенно видном месте, чтобы все желающие могли прочитать его. Император Марк Антоний, один из триумвиров, постановил: ввиду того, что во время последнего бунта Гай Кассий разграбил чужую провинцию, занятую войсками союзников, и притеснял дружественных римскому народу иудеев, мы, наказав его с оружием в руках за наглость, путем наших решений и постановлений повелеваем, чтобы все отнятое у наших союзников, равно как все то, что у иудеев было продано с публичных торгов, будь то люди или вещи, было возвращено им, а именно, чтобы всем людям была возвращена их первоначальная свобода, а вещи были отданы прежним владельцам. Всякого, кто осмелится ослушаться моего распоряжения, постигнет кара. В случае нарушения мне предоставляется право распорядиться с ослушником сообразно моему личному усмотрению».
Глава восьмая ПРЕВРАТНОСТИ СУДЬБЫ
1
Из Ефеса Антоний отправился в Сирию, где остановился в Дафне [107]. Сюда устремились с поздравлениями правители всех подвластных Риму восточных провинций. Поспешили в Дафну и Гиркан с Иродом.
Пьянки с оргиями, начавшиеся еще в Греции, продолжались и здесь. Едва Ирод с Гирканом вошли в огромную пиршественную залу, сплошь заставленную ломящимися от обилия изысканнейших яств столами, как им навстречу поднялся Антоний, облаченный в расшитую золотыми пальмами тогу [108]и золотым венцом, усыпанным драгоценными камнями, на голове – подарок, отправленный Иродом и Гирканом Антонию в Ефес.
– Кого я вижу! – заорал Антоний, заглушая гул голосов и звуки музыки в зале, пробираясь к гостям из Иудеи и заключая Ирода в объятия. – Смотрите, кто пожаловал к нам в гости, – продолжал он, обращаясь к присутствующим, – это не кто иной, как храбрый Ирод, который помог мне покончить с бунтовщиком Бассом Цецилием под Апамеей! – Язык Антония заплетался, он явно был пьян. Но мысль его работала четко – он помнил все, что нужно было Ироду, а если бы и забыл, то Ирод сумел бы напомнить ему о делах не таких уж давних дней. – Ирод, – продолжал Антоний, все еще обнимая его, – ты почему не посетил Рим, хотя я тебя приглашал туда в качестве моего личного гостя?
– Наверное, потому же, почему и ты не посетил Иерусалим, хотя я тоже приглашал тебя в Иудею в качестве моего гостя.
– Ты прав, друг, все дела и дела, которые мы не можем передоверить никому. – Антоний похлопал Ирода по плечу. – Мы с тобой в этом отношении похожи: для нас на первом месте долг перед отечеством, а уж все остальное мы откладываем на потом. Сегодня это потомнаступило. Пойдемте, друзья, вы займете места за столом рядом со мной.
Ирод с Гирканом протиснулись сквозь толпу пляшущих гостей к освобожденным для них по левую руку от Антония ложам. Прежде чем возлечь, как это принято у римлян во время трапез, Ирод ополоснул руки в серебряной чаше с лепестками роз, поданной ему кудрявым мальчиком-рабом, и вытер ладони о пышные светлые волосы рабыни с тонкими чертами лица северянки, опустившейся перед ним на колени. Гиркан, которому закон запрещал садиться за один стол с язычниками, жестом отослал мальчика-раба и светловолосую рабыню, и уступил свое ложе другим гостям, которое тут же было занято. Ирод, пока слуги накладывали на блюдо перед ним кушанья, цепким взглядом окинул с головы до ног женщину, возлежавшую по правую руку от Антония. Женщина ему не понравилась: уже не первой молодости – на вид ей было не меньше тридцати лет, – с огромным носом-клювом и маленьким скошенным подбородком, она если и могла обратить на себя внимание, то разве что только своим изысканным нарядом и крошечной диадемой в густых черных волосах. Зато Антоний, несмотря на свои сорок с лишним лет, был по-прежнему хорош собой: с гордо посаженной на сильной шее головой, прямым носом и чувственным ртом, он привлекал к себе внимание решительно всех женщин, находившихся в зале.
Как ни был пьян Антоний, он заметил критический взгляд, которым Ирод окинул его сотрапезницу, и спросил, обращаясь одновременно к Ироду и своей соседке:
– Вы не знакомы? Это храбрый Ирод, сын Антипатра, который помог Цезарю одержать победу в Александрийской войне, а это Клеопатра Филопатра, верная союзница и опора Рима в Африке.
Ирод чуть было не поперхнулся сочным куском мяса, который не успел прожевать. Так вон она какая, эта знаменитая Клеопатра! Чем она покорила Цезаря, который не устоял перед ней и от которого она, по слухам, родила сына, названного в честь любовника Цезарионом? Клеопатра улыбнулась Ироду, и улыбка эта несколько смягчила черты ее некрасивого лица.
– Я имела случай познакомиться с твоим отцом, – сказала она мелодичным голосом, и Ирод догадался, что женщина с такой улыбкой и таким голосом может привлечь к себе внимание мужчин. – Мне жаль, что он погиб, но я надеюсь, что мы с тобой станем добрыми друзьями.
Ирод, тщательно прожевывая мясо, пробормотал в ответ:
– Я тоже на это надеюсь.
Антоний, что-то вспомнив, хлопнул себя по высокому лбу, на который ниспадали тщательно расчесанные волосы, и обратился к Ироду:
– Ты, я слышал, женился на внучке Гиркана, и внучка эта необыкновенна хороша собой?
При упоминании о Мариамне Ирод почувствовал, как на него нахлынула теплая волна и закружилась голова. Тут же в воздухе, будто издеваясь над ним, выткалась окровавленная фигура Малиха, ощерившаяся беззубым ртом.
– Предлагаю выпить за молодых, – громко предложил Антоний, поднимая кубок. – А куда делся Гиркан? Ну да оставим старика в покое. Твое здоровье, Ирод, и здоровье твоей юной прелестницы жены. Как ее хоть зовут?
– Мариамна, – ответил Ирод, поднимая кубок. – Благодарю тебя, Антоний.
– Твое здоровье и здоровье твоей Мариамны, – сказала и Клеопатра, отпив из своего кубка глоток, и еще раз улыбнулась Ироду.
А Малих все качался и качался в воздухе, щеря свой беззубый рот.
2
На следующий день в Дафну прибыла депутация иудеев, составленная из ста самых знатных граждан Иерусалима. Антоний, полагая, что они приехали поздравить его с победой, устроил в ее честь пышный прием. Каково же было его удивление, когда иудеи вместо поздравлений стали жаловаться на Ирода и Фасаила, обвиняя их в насильственном захвате власти в стране, и требуя назначить царем Иудеи Гиркана. «У Гиркана есть все основания стать царем Иудеи не только по праву первосвященства, – заявили депутаты, – но и по праву крови, поскольку Гиркан происходит из рода Маттафии Хасмонея». Антоний был раздосадован. Клеопатра, сощурившись, презрительно смотрела на иудеев. Кто-то явственно произнес: «Какая неслыханная дерзость – предъявлять требования победителю!» Ирод чувствовал себя оплеванным. Тогда слово взял молодой сенатор Валерий Мессала, с которым Ирод успел накануне познакомиться. От этого Мессалы он узнал, что тот состоит в близких отношениях с Октавием, который советуется с ним по всякому поводу и ни на шаг не отпускает от себя. Мессале стоило больших трудов уговорить триумвира на время включить его в свиту Антония с тем, чтобы он лично изучил обычаи, существующие на Востоке, и, усвоив восточную мудрость, впредь мог использовать ее в интересах Рима. С этим-то Мессалой Ирод просидел за столом до глубокой ночи, состязаясь с ним в искусстве произносить здравицы. Теперь Мессала экспромтом произнес речь в защиту братьев, и речь эта, как отметил про себя Ирод, сделала его победителем в затеянном накануне состязании в красноречии. На Антония речь Мессалы также произвела благоприятное впечатление. Дождавшись ее окончания и поаплодировав молодому сенатору, он обратился к иудеям со следующими словами:
– Итак, вы не желаете, чтобы вами и впредь правили братья Фасаил и Ирод?
– Истинно так, – подтвердили иудеи.
– Вы требуете, – продолжал Антоний, – чтобы вами властвовал один человек?
– Истинно так, – повторили иудеи.
– Гиркан, – обратился Антоний к первосвященнику Иудеи, – кто, по твоему мнению, из двух братьев, Ирод или Фасаил, более способен к правлению?
Гиркан, как и вся депутация иудеев, не ожидал такого поворота разговора, и на минуту замешкался.
– Я жду ответа! – нетерпеливо произнес Антоний.
– Ирод, – поспешно сказал Гиркан, облизывая языком пересохшие от волнения губы.
– Все слышали решение первосвященника? – обратился Антоний к депутации. – Отныне правителем Иудеи по решению Гиркана и моему, императора Марка Антония, одобрению назначается один только Ирод. Донесите это решение до всех ваших соотечественников, которых мы считаем нашими верными союзниками.
Решение это никоим образом не удовлетворило депутацию иудеев. Они заговорили все разом, перебивая друг друга и не слушая друг друга. Иудеи, говорили они, действительно настаивают, чтобы над ними стоял один правитель, а не два, но этим одним правителем должен быть Гиркан, а вовсе не Ирод.
– У вас, полагаю, – сказал Антоний, понижая голос, в котором явственно зазвучала угроза, – от дальнего путешествия случилось что-то неладное со слухом. Я на свой слух не жалуюсь. Я, равно как все присутствующие в этом зале, ясно слышал, как на мой вопрос, кто, по мнению Гиркана, имя которого вы упомянули в числе трех названных здесь имен, этот один, наиболее достойный править Иудеей, первосвященник назвал не себя и не Фасаила, а Ирода. И я от лица Рима и всего римского народа одобрил его выбор. Вопрос исчерпан.
Иудеи снова недовольно загудели. Тогда Антоний приказал арестовать пятнадцать самых крикливых из них, а остальным убраться с глаз долой, пока он не принял в отношении них более крутые меры.
3
Рассказ об итогах поездки к Антонию возвратившейся в Иерусалим депутации вызвала брожение в умах горожан. Снова пошли разговоры о том, что иудеями должен править чистокровный иудей, то есть иудей, происходящий из евреев, а на идумеянин, лишь по видимости перешедший в иудейскую веру. Наиболее горячие головы предложили проверить, обрезан ли Ирод. Таким возразили: «Как вы собираетесь это сделать? Смотрите, как бы он сам не обрезал, а отрезал ваши детородные органы». «Надо спросить об этом Дорис и Мариамну. Уж они-то наверняка знают, обрезан их муж или нет». Послали женщин расспросить Дорис и Мариамну. Дорис, желая досадить Ироду, сказала, что тот необрезан, а Мариамна расплакалась и велела охране прогнать женщин вон.
Позже Ирод, узнав о демарше жителей столицы, приказал казнить всех женщин, которые ходили к Дорис и Мариамне, а их мужей кастрировал, превратив их в евнухов. Но это случилось позже, а пока Антоний настоял на том, чтобы Ирод и Гиркан сопроводили его в Тир, где он намеревался разобраться в мотивах захвата тирянами трех крепостей в Галилее и продолжить торжества по случаю победы над Кассием.
Сюда, в Тир, прибыла морем новая депутация иудеев, состоящая на этот раз из тысячи человек. Тщетно уговаривали их вышедшие им навстречу Ирод и Гиркан возвратиться домой и не гневить Антония, который не меняет единожды принятого им решения. Иудеи не послушались и стали требовать встречи с Антонием. Тогда из-за стен города выскочила конница во главе с Марионом, желавшим загладить свою вину перед Антонием за поддержку Кассия, и стала рубить строптивых иудеев. Копыта лошадей вязли в прибрежном песке, где несколькими месяцами ранее нашел свою смерть Малих, это злило конников и они с еще большим остервенением продолжали рубить безоружных иудеев.
Паника охватила многочисленную депутацию. Оставив на берегу убитых и раненых товарищей, они бросились бежать. Конники преследовали их, продолжая свое черное дело до тех пор, пока лошади под ними уже не стали спотыкаться о тела убитых. Прибывший на следующий день в Тир Антоний, сопровождаемый Клеопатрой, узнав о резне, устроенной на берегу, одобрил действия Мариона, пятнадцать арестованных иудеев из числа первой депутации, прибывшей к нему в Дафну, приказал казнить, а Ироду в присутствии Клеопатры и Гиркана выговорил:
– Делай свою работу сам, а не перекладывай ее на плечи других, чтобы выглядеть в глазах своего народа добреньким.
С тем Антоний, изменив свое первоначальное намерение посетить Иерусалим, отбыл с Клеопатрой на ее вызолоченной галере в Александрию, а Ирод и Гиркан, похоронив зарубленных под Тиром иудеев, возвратились домой. Известие о расправе римлян над мирной депутацией повергло столицу в шок.
3
В Александрии, как сообщали тамошние иудеи в Иерусалим, Антоний, опьяненный победой над Кассием и уверовавший в свою исключительность, позволявшую ему поступать так, как заблагорассудится, пустился во все тяжкие. Клеопатра всячески потакала ему, строя какие-то свои далеко идущие планы. Она, писали иудеи, ни на минуту не оставляла Антония одного: шумным празднествам, скачкам на колесницах, охоте на львов и ночным оргиям не видно было конца. Клеопатра называла себя новой Исидой, а Антония новым Дионисом [109]. Пресытившись пирами и оргиями, Клеопатра облачалась рабыней, а Антония выдавала за своего хозяина-торговца, прибывшего в Египет за товаром, и вместе с ним отправлялась по притонам, где не умолкала самая грязная речь и происходили еще более грязные сцены. Наутро, возвратившись во дворец, Клеопатра со смехом рассказывала за завтраком о своих с Антонием ночных похождениях, вызывая у своих и Антониевых приближенных восторг и зависть.
У Клеопатры были серьги с жемчужинами размером с голубиное яйцо, которые были бесценны и о которых ходили легенды. Однажды во время очередного пиршества она вынула их из ушей, приказала одну из жемчужин растолочь в порошок, всыпала его в кубок с вином и выпила за здоровье Антония. Вторую жемчужину она также хотела растолочь и предложить выпить с вином Антонию за ее, Клеопатры, здоровье. Антоний, знавший толк в ценностях, не позволил уничтожить и вторую жемчужину. Тогда Клеопатра подарила ее своей любимой рабыне.
Во дворце Клеопатры была собрана коллекция старинных ваз, расписанных лучшими греческими художниками. Антоний как-то похвалил эту коллекцию и тонкий вкус Клеопатры. Клеопатра тотчас распорядилась доставить всю коллекцию в дом, где разместился на время визита в Александрию Антоний со своей свитой. Антоний был безмерно благодарен Клеопатре за ее щедрый подарок, но подасадовал на то, что отныне ее дворец многое потеряет в убранстве. Клеопатра лишь улыбнулась в ответ и пригласила Антония со всей его свитой посетить ее дворец на следующий вечер. Каково же было изумление римлян, когда, прибыв к ней на следующий день, они увидели, что весь дворец уставлен новыми, еще более прекрасными вазами.
Антоний не желал уступать своей гостеприимной хозяйке ни в роскоши, ни в расточительности. Никто не брался в точности подсчитать, какие баснословные суммы тратит он на одну только провизию. Некто иудей Филот, врач по профессии, писал в Иерусалим, как его однажды пригласил главный повар Антония для освидетельствования качества продуктов, предназначенных для приготовления обеда. Филот, увидев запасы, которых хватило бы, чтобы накормить не одну сотню людей, поинтересовался у повара, на какое число персон готовится обед. «На двенадцать», – ответил повар. «Как?! – вскричал изумленный Филот. – Неужели восемь кабанов и вся эта провизия предназначены только на двенадцать персон?» «Да, – подтвердил повар. – Не забывай, что время обеда не определено и неизвестно, когда господам захочется есть. Приходится готовить обед каждый час из свежих продуктов, иначе Антоний выгонит меня со службы».
Тем временем служанка Фульвии Ревекка, не знавшая, что ее патрон Малих убит и ее письма читают Фасаил и Ирод, продолжала слать из Рима свои донесения. Фульвия, писала она, раздосадованная поведением своего мужа в Александрии, вознамерилась отомстить Антонию и пригласила к себе Октавия, где предстала перед ним в голом виде, полагая, что молодой триумвир тут же набросится на нее. Октавий, однако, со смехом отверг предложенную ему любовь, заявив, что Фульвия по возрасту годится ему в матери, а он свободен от комплекса Эдипа [110]. Тогда Фульвия, не оставляя своего намерения сделать Октавия союзником по мести Антонию, сосватала ему свою дочь от первого брака с Публием Клодием Клавдию, которой еще только шел двенадцатый год и по закону она не могла вступить в брак. Молодой Октавий поначалу согласился с предложением Фульвии, но вскоре раскаялся в том, что пошел на поводу у вздорной женщины. Фульвия с первых же дней помолвки стала слишком активно вмешиваться в политику, диктуя Октавию условия, на которых он должен порвать всякие отношения с Антонием, расправиться с третьим товарищем по триумвирату Лепидом и взять власть над Римом и его провинциями целиком в свои руки. Октавий расторг помолвку и отослал Клавдию назад, объяснив свой поступок «несносным характером тещи».
Фульвия пришла в ярость от такого поведения Октавия и уговорила Луция, брата Марка Антония, поднять мятеж против «несмышленого мальчишки». Луций Антоний поддался на уговоры Фульвии и, полагаясь на свой консульский сан и могущество брата, поднял мятеж. Октавий заставил его отступить в Перусию [111]. Вынудив Луция сдаться, Октавий казнил множество пленных. Пощады не было никому. Всех, кто пытался оправдаться своим неведением относительно планов Луция, он обрывал словами: «Ты должен умереть». Отобрав из числа пленных триста человек всех сословий, он погнал их, скованных цепью, пешком в Рим, где в мартовские иды, в шестую годовщину убийства Цезаря, перерезал всем им горло, как жертвенному скоту, у подножия статуи Цезаря, где догнивали головы Кассия и Брута.
Эта неслыханная жестокость молодого триумвира отрезвила многие головы, но только не голову Фульвии. Она стала распространять слухи о том, будто Октавий развязал войну с Луцием Антонием с единственной целью обогатиться за счет конфискации имущества казненных римлян.
4
Не лучшим образом развивались события и в Иудее, население которой, оправившись от шока, вызванного известием о расправе римлян с мирной депутацией иудеев под Тиром, все более громогласно выражало недовольство правлением Ирода. Его обвиняли во всех действительных и вымышленных грехах, и больше всего в том, что он, предав интересы нации, самим Предвечным избранной для соблюдения данных людям законов, целиком и полностью продался римлянам и злейшему врагу всех иудеев Марку Антонию.
На сторону Антигона, который на время затаился, чтобы не привлекать к себе внимания римлян, взявшихся навести порядок в Азии, стало переходить все больше и больше народу. Ирод, которому Мариамна подарила сына Александра, зачатого ею в первую же брачную ночь, не получил ни дня, когда бы смог в полной мере насладиться счастьем с юной женой. К этому времени от невыясненной причины скончался еще не старый тесть Антигона Птолемей. Его внезапную смерть также приписали проискам Ирода и его клевретов, разосланных повсюду. Место покойного Птолемея занял его сын Лисаний. Воспользовавшись тем, что Антоний надолго застрял в Египте, упиваясь там вином и развратной связью с Клеопатрой, власть в Сирии захватили сын парфянского царя Артабана VII Пакор и сатрап [112]Барзафарн. Все они безоговорочно встали на сторону Антигона, благо они лучше, чем сами иудеи, помнили о сумасбродствах его отца Аристовула и в еще большей степени его деда Александра Янная, на руках которого была кровь тысяч и тысяч иудеев и по вине которого начался массовый исход из страны евреев, сравнимый по масштабам с исходом их предков из Египта. По мнению новых союзников Антигона именно такой человек, как он, мог надолго усмирить Иудею и предоставить им возможность безнаказанно наживаться за ее счет. Антигон, в свою очередь, понимал, что союзники поддержали его лишь из собственных интересов, однако желание стать царем слишком глубоко засело в нем, подобно крючку, застрявшему в теле проглотившей его жадной рыбы, и он, гоня прочь все сомнения, пообещал тысячу талантов и пятьсот самых красивых женщин-евреек, включая свою племянницу и жену Ирода прекрасную Мариамну, тому, кто физически устранит с его пути Ирода и Фасаила и поможет ему взойти на престол.
Предложение это пришлось по вкусу жадному и охочему до красивых женщин Пакору. Собрав значительные силы парфян, он разделил их на два войска. Первое войско он поручил своему виночерпию и тезке, который двинулся на Иудею вдоль побережья, второе войско возглавил Барзафарн, вступивший в Иудею по древнему караванному пути, связывающему Дамаск с Иерусалимом. Если войско Барзафарна не встретило практически никакого сопротивления со стороны местного населения и быстрым маршем двигалось к Иерусалиму, то виночерпий Пакор сразу же столкнулся с трудностями: правитель Тира Марион, опасаясь гнева Антония, тень которого маячила за спиной Ирода, не позволил ему пройти через свои земли. Срочно прибывший на помощь своему виночерпию царь Пакор с дополнительными силами осадил Тир, не вступая, однако, в сражение с Марионом, а лишь нейтрализовав его, чтобы тот не смог помешать ему осуществить задуманную операцию. Своему виночерпию и тезке Пакор приказал овладеть Кармилом [113]и его окрестностями, грабя и наводя ужас на каждого, кто посмеет оказать ему сопротивление.
Сопротивления, впрочем, парфяне не встретили никакого. Скорее наоборот: множество людей, узнав, что Пакор спешит на помощь Антигону, толпами поспешили вступить в его войско. Соединившись с войском Барзафарна, которое продолжало беспрепятственно продвигаться по стране, объединенные силы парфян и евреев легко овладели Иерусалимом. Вступив на площадь перед дворцом Гиркана, они потребовали выдать им всех прятавшихся там женщин, включая Мариамну. Пока площадь кричала и радовалась своей победе, доставшейся им благодаря множеству перешедших на сторону парфян евреев, в спину им ударили с двух сторон отряд начальника иерусалимского гарнизона Фасаила и телохранители Ирода. Атака была столь неожиданна и успешна, что площадь взорвалась ругательствами и воплями раненых. Не давая противнику опомниться, братья выбили значительную часть войска за стены столицы, а другую часть оттеснили к Храму и заперли ее там. Барзафарн, до той поры не знавший поражений, бежал с поля боя, преследуемый Иродом, и бежал до тех пор, пока не оказался в Галилее. Ирод вернулся в Иерусалим, чтобы покончить с запертыми в Храме врагами.
Царь Пакор, опасаясь за дальнейшую судьбу своего войска, собственной персоной прибыл под Иерусалим и под предлогом необходимости начать мирные переговоры стал уговаривать братьев впустить его в город в сопровождении одного лишь отряда своих телохранителей, насчитывающего пятьсот всадников. Фасаил был за то, чтобы начать переговоры, Ирод против. Пакор предложил компромиссное решение: Ирод, как самый храбрый воин, останется в Иерусалиме охранять город и запершихся во дворце Гиркана женщин, а Гиркан и Фасаил отправятся в Галилею к Барзафарну для выработки условий мирного договора. Ирод опять-таки был против, подозревая Пакора в коварстве, но Гиркан и Фасаил не послушались его и отправились к Барзафарну.
Барзафарн принял гостей любезно и даже вручил им от имени своего царя и всех парфян подарки. С началом мирных переговоров он, однако, не спешил, заявив Гиркану и Фасаилу, что для этого ему необходимо письменное указание Пакора. Пакор по неизвестной причине задерживался под Иерусалимом, и сатрап предложил гостям и сопровождающим их лицам отдохнуть недельку-другую в Экдиппоне [114], славящемся своими редкой красоты окрестностями и увеселительными заведениями. Здесь-то Гиркан и Фасаил узнали, что Антигон обещал тому, кто поможет ему завладеть троном в Иудее, тысячу талантов и пятьсот женщин-евреек. Эту новость сообщил им давний друг Фасаила Офелий, которому, в свою очередь, рассказал об этом богатейший человек Сирии Сарамалла, недовольный захватом своей страны Пакором.
Возмущенный Фасаил потребовал немедленной встречи с Барзафарном. Тот, выслушав Фасаила, выразил недоумение подобной выдумкой и еще большее недоумение, что его уважаемые гости этой выдумке поверили. «Я готов допустить, что Антигон сможет собрать в одном месте пятьсот самых красивых женщин Иудеи, – сказал он, – но где он найдет тысячу талантов?» «А если найдет?» – спросил Фасаил. «Ну, тогда…», – начал было Барзафарн, но не договорил. «Я заплачу тебе вдвое больше, если ты немедленно отправишь меня и Гиркана в Иерусалим», – сказал Фасаил. По тому, как заблестели глаза сатрапа, можно было догадаться, что он готов принять условие Фасаила. Но как раз в это время в Экдиппон прибыл Антигон во главе войска, состоящего из одних лишь иудеев. Антигон распорядился заключить Фасаила и Гиркана под стражу и держать их под неусыпным наблюдением до тех пор, пока из-под Иерусалима не возвратится Пакор с взятым им в плен Иродом. «Тогда-то я собственными руками вспорю вам животы и выпущу наружу ваши поганые кишки», – пообещал он.
Обещание это быстро облетело всю Галилею и уже на следующий день достигло Иерусалима, где Пакор продолжал плести интриги вокруг Ирода, убеждая его отправиться вместе с ним в Галилею, где его, не зная ни в чем нужды, дожидаются Гиркан и Фасаил. Взбешенный Ирод потребовал от Пакора немедленной встречи, в ходе которой набросился на него с упреками в коварстве. Пакор сделал вид, что он и его сатрап стали жертвами гнусной клеветы. Он пообещал Ироду лично во всем разобраться и вернуть Гиркана и Фасаила в Иерусалим живыми и невредимыми. Той же ночью Пакор бежал, оставив у стен города большой отряд тяжеловооруженных пехотинцев под командованием своего виночерпия и с наказом глаз не спускать с Ирода впредь до его возвращения с армией.
А через день под стенами Иерусалима появились полчища вооруженных евреев с требованием выдать им голову Ирода и провозгласить царем Иудеи Антигона. Ироду стало ясно, что ради спасения женщин, заполнивших дворец Гиркана, ему необходимо бежать. Перехитрить евреев, окруживших столицу, ему не стоило особого труда. Предприняв отвлекающий маневр с вылазкой кавалерии, он вывел из Иерусалима всех женщин и сопровождающих их лиц и взял курс на свою родину Идумею. По дороге в горы их нагнала его кавалерия и взяла под охрану беглянок и беглецов.
5
Известие о том, что Ирод выскользнул из его рук, привело Антигона в ярость. Он ворвался в каменный мешок, в который были заключены Гиркан и Фасаил, и набросился на них с кулаками. «Тебе никогда больше не быть первосвященником, – кричал он Гиркану, – запомни это хорошенько: ни-ког-да! Нет, я не убью тебя, поскольку ты доводишься мне дядей, но я поступлю с тобой хуже, чем ты можешь себе представить». С этими словами он повалил старика, скованного по рукам и ногам цепью, на пол и откусил ему уши. Вытирая ладонями окровавленный рот, Антигон расхохотался, показывая пальцем на корчащегося от боли Гиркана, и сказал, обращаясь к своей свите, оцепеневшей от ужаса: «Полюбуйтесь на этого урода! Вы когда-нибудь видели первосвященника без ушей?» [115]Затем, отвернувшись от залитого кровью Гиркана, обратился к Фасаилу, тоже скованного по рукам и ногам цепью. «А ты, гнусный идумеянин, почему не смеешься ты, видя, как корчится в муках правоверный иудей? Разве это не должно веселить идумеянина? Почему ты не бежал? Ты думаешь, я не знаю, что твой дружок Офелий все подготовил для твоего побега и уже оседланные кони стояли под окнами этой темницы? Струсил, подлый начальник Иерусалима и его окрестностей?» «Мне неведомо чувство страха, – спокойно ответил Фасаил. – Просто я не мог бежать один, оставив в твоих лапах Гиркана». «Тебе неведомо чувство страха? – переспросил Антигон, вынимая из-за пояса обоюдоострый кинжал. – А мы сейчас поглядим, какой ты бесстрашный и что ты запоешь, когда я распорю твою брюхо и вот этими самыми руками стану медленно вытягивать из тебя твою вонючие кишки. То-то порадуются мои глаза и то-то обрадуется твой братец Ирод, когда увидит твои кишки, которые я отошлю ему». «Я не доставлю тебе такой радости, ублюдок», – все тем же спокойным тоном произнес Фасаил, и прежде, чем Антигон и его свита успели что-либо предринять, подобрал цепь, сковывающей его ноги, коротко разбежался и с силой ударился головой о каменную стену. Раздался хруст проломленного черепа, и Фасаил, улыбаясь, медленно опустился рядом с лишившимся от боли и потери крови сознания Гирканом. Последними его словами, обращенными к Антигону, были: «Ты прав в отношении моего брата Ирода. Он действительно порадуется. Но порадуется не тому, на что ты рассчитывал, а тому, как ты будешь подыхать от его руки».
6
Ничего не знал о трагической гибели старшего брата Ирод. Удаляясь все дальше и дальше от Иерусалима в горы, он все еще надеялся, что Фасаил и Гиркан живы и он в самом ближайшем будущем вызволит их из беды. Эта мысль придавала ему сил, и как ни докучали ему преследовавшие его по пятам евреи, он легко отбивал все их наскоки, нанося им ощутимый урон, и упорно пробивался к цели – высокогорной крепости Масада.
Оторвавшись от евреев на значительное расстояние, Ирод встретился с выехавшим ему навстречу младшим братом Иосифом, с которым не виделся последние четыре года. Иосиф все это время находился в Идумее, укрепляя по поручению брата Масаду. И без того неприступная крепость стараниями Иосифа превратилась в бастион, за стенами которого могли укрыться и долгое время оставаться защищенными от любой внешней угрозы женщины.
Первый, кто обратил внимание на эту местность как на стратегически важный пункт, дававший многие преимущества обороняющимся от превосходящих их численностью и вооружением противников, был младший сын Маттафии Ионаф. Пока Симон отправлял свои первосвященнические обязанности, а Иуда Маккавей успешно боролся с войсками пучеглазого Антиоха Сумасшедшего, Ионаф взялся за сооружение крепости. Для этого он выбрал крутой утес с плоской вершиной, окруженный со всех сторон обрывами. Попасть на вершину этого утеса можно было лишь двумя путями – узкой извилистой тропой, начинающейся у Соленого моря [116], и более удобной дорогой, ведущей из внутренней Идумеи. На этой-то дороге и встретил Иосиф своего брата. Отбив очередную атаку евреев и осмотрев с Иродом его обоз, состоящий из более чем девяти тысяч человек, он посоветовал брату освободиться от большей части людей, поскольку все они не смогут разместиться в крепости. «Сколько человек сможет принять Масада?» – спросил Ирод. «От силы восемьсот», – ответил Иосиф. Ирод отделил всех женщин с детьми и, поручив их заботам Иосифа, а также Коринфа и брата Мариамны Аристовула, такого же стройного красавца, как его сестра. Этот молодой человек, еще подросток, проявил такое бесстрашие, сражаясь с врагами в Иерусалиме при обороне дворца Гиркана и позже, когда они покинули город, что Ироду невольно подумалось: «Если Иудея и нуждается в царе из рода Хасмонеев, то царем этим должен стать Аристовул». Мысль эта до такой степени пленила Ирода, что он до поры до времени решил ни с кем не детиться ею, прежде всего с Мариамной. «Пусть для нее назначение Аристовула станет сюрпризом. То-то обрадуется она!» – подумал он.
Восемьсот отобранных людей Ирод направил в Масаду по узкой тропе, названной из-за своей извилистости и труднопроходимости Змеиной, командование же над остальными людьми, по преимуществу мужчинами, он поручил своим испытанным офицерам-кавалеристам Юкунду и Тиранну и приказал им продолжать двигаться в Идумею, где они найдут надежную защиту и кров у его соплеменников. Сам же Ирод в сопровождении своих телохранителей поскакал в Петру, где намеревался встретиться с сыном своего деда по материнской Ареты Малхом, вступившим на престол после смерти отца.
Ирод рассчитывал, что Малх не забыл о многочисленных услугах, которые оказал Арете как тестю его отец, и в память об Антипатре ссудит ему триста талантов из той огромной суммы, которую отец частью подарил, а частью оставил арабам на сохранение. На эти триста талантов Ирод собирался выкупить у Пакора своего брата Фасаила и Гиркана. До Петры, однако, он не доехал: высланные навстречу ему послы передали Ироду строжайший запрет Малха пересекать границу его страны, так как парфяне угрожали ему войной в случае, если тот посмеет принять у себя Ирода.
Ирод почувствовал себя до такой степени опустошенным от событий последних недель, что не нашел в себе сил даже разозлиться на Малха. Оставшись без войска и средств к существованию, он не знал, куда ему теперь ехать, и заночевал прямо у дороги, подложив под голову седло и накрывшись плащом. Ночью его преследовали кошмары. Ему снился лежащий навзничь на песчаном тирском берегу окровавленный Малих, который, скалясь, говорил ему: «Ты оказался никчемным воином. Ты не выполнил основной заповеди Господа, Который повелел нам, иудеям, не оставлять в живых ни одной души из народов, которых Он дал нам во владение. Вместо этого ты начал с убийства галилеянина Езекии и ста двадцати семи его товарищей за то, что они посмели пощипать сирийцев, не знающих, куда деть свои богатства, а кончил тем, что превратился в безропотного раба римлян, которых мы лишь из хитрости объявили своими союзниками. Да, воин из тебя получился никудышный, как, впрочем, и из твоего отца, который помешал мне освободить от чьей бы то ни было власти Иудею. Зато теперь я заполучил твою прелестную женушку, которая не знает устали, чтобы доставить мне наслаждение». Тут же Ирод увидел верхом на Малихе юную Мариамну, которая, безумствуя от обуревающей ее страсти, змеей обвила его мертвое тело, а в стороне лежал забытый ею ее первенец Александр, сучил ножками и безумолку плакал.
Проснулся Ирод затемно. Тело его ныло, как если бы его всю ночь побивали камнями. Первой его мыслью было покончить с собой. Но попытка вынуть меч из ножен доставила ему такую боль, что он закричал. Крик Ирода переполошил телохранителей. Одни бросились к нему, оградив его щитами, а другие, обнажив оружие, стали обшаривать придорожные кусты. Ирод успокоил их и велел седлать коней. «Куда мы теперь?» – спросил его рослый германец, оставшийся за старшего ввиду отсутствия Коринфа, который вместе с Иосифом и храбрым братом Мариамны Аристовулом было сопровождал женщин и детей в Масаду. «Дорога подскажет», – ответил Ирод, с трудом взбираясь в седло.
Ехали шагом. Лица голодных германцев были злые. Ирод перебирал детали приснившегося ему кошмара, и чем больше он думал о словах пригрезившегося ему Малиха, тем больше приходил к выводу, что, в сущности, тот был прав. Евреи никогда ни признают в нем своего правителя. Не признают по той простой причине, что он идумеянин. Правителем евреев может быть только еврей. Вот только кто именно? Гиркан? Он слишком стар и безволен. Антигон, бежавший из Рима и собравший вокруг себя полчища соплеменников? Нет, нет и нет! Правителем Иудеи и ее царем станет только брат Мариамны Аристовул, и уж он, Ирод, сделает все от него зависящее, чтобы так оно и было.
Давишняя мысль придала Ироду бодрости и он дал шпоры коню. Впереди на дороге показалась пыль от скачущих навстречу всадников. Когда они приблизились, Ирод узнал в одном из них друга Фасаила Офелия. Офелий поведал Ироду страшную правду о его старшем брате и об изуродованном Антигоном Гиркане. Известие это до такой степени потрясло Ирода, что он совершенно пал духом. С той поры он и стал стремительно седеть.
Спешились. Спутники Офелия привезли с собой провизию, и телохранители Ирода тут же накинулись на еду. Ирод с Офелием отошли в сторону, и из дальнейшего рассказа друга Фасаила выяснилось, что Антигон объявился в Иерусалиме, где объявил себя первосвященником. Парфянин Пакор обещал сделать его царем тотчас, как только будет найден и обезглавлен Ирод, а до той поры править Иудеей будет он сам, поскольку со времен Александра Македонского Иудея входит в состав Сирии. К тому же, говорил Пакор, Антигон еще не выплатил ему тысячу талантов и не подарил пятьсот красавиц-евреек, первой из которых он желал бы заполучить внучку Гиркана и жену Ирода Мариамну. В ожидании, когда Антигон сдержит свое слово, парфяне принялись грабить дворец Гиркана и дома приверженцев Ирода, бежавших в Идумею. К варварам присоединились и евреи, возвратившиеся из неудавшейся погони за обозом Ирода. Теперь грабежам подверглись и дома мирных иерусалимцев, поначалу поддержавших Антигона. Ограбив подчистую Иерусалим, люди Антигона рассеялись по стране, всюду сея страдания.
– Ты должен отомстить за смерть своего брата и моего друга, – сказал в заключение Офелий. – Располагай мною и моими людьми по собственному усмотрению.
Ирод посмотрел на спутников Офелия и своих германцев и горько усмехнулся.
– С такими-то силами? – спросил он. – У меня не осталось ни войска, ни денег.
– О деньгах не беспокойся, – сказал Офелий, – я привез двести талантов, которые дарит тебе сириец Сарамалла, недовольный захватом его страны Пакором. Убей Пакора, и тогда Сарамалла озолотит тебя и признает царем Иудеи.
– Иудеи никогда не признают меня своим царем, – возразил Ирод.
– Кого же, по твоему мнению, они признают, если они уже теперь поняли свою ошибку и проклинают Антигона? – спросил Офелий.
– Его племянника и внука Гиркана Аристовула, – ответил Ирод, неожиданно для себя выдав свою сокровенную тайну. Офелий недоверчиво посмотрел на Ирода.
– Ты имеешь в виду брата Мариамны? – переспросил он. – Но ведь ему только-только исполнилось пятнадцать лет! Не слишком ли он молод, чтобы стать царем?
– Не слишком, – ответил Ирод. – Лучшего царя, чем этот бесстрашный юноша, в жилах которого течет кровь Хасмонеев, я Иудее не желаю.
7
Приняв решение, Ирод снова почувствовал прилив энергии. Он уже стыдился мысли о самоубийстве, посетившей его ранним утром. Оставаться и далее в Иудее, чтобы найти средства для спасения Фасаила, больше не имело смысла. Рассчитывать на содействие арабов также не приходилось. Оставалось одно: ехать в Египет к Антонию и просить его содействия в возведении на престол шурина.
Ирод пришпорил коня, и уже через два дня достиг Пелузия [117]. Здесь он был приветливо встречен старейшинами города и местными иудеями, прослышавшими уже о постигшем его горе. Во время обеда, данного в его честь, Ирод узнал, что Марк Антоний спешно покинул Египет и возвратился в Рим, где его товарищ по триумвирату Октавий устроил бойню Луцию Антонию. Тогда Ирод отправился в Александрию, чтобы оттуда отплыть в Рим. В Александрии, однако, его задержала Клеопатра.
Царица приняла его, лежа в бассейне, наполненном молоком с медом и розовым маслом [118]. Ирод смутился, увидев Клеопатру, выходящую голой из мраморного бассейна.
– Рада видеть тебя, – заговорила она своим сладкозвучным голосом, предоставив рабыням промакивать нежными губками ее стройную фигуру с белоснежной, будто подсвеченной изнутри, кожей. – Интуиция меня не обманула: вспомни, я говорила тебе в Дафне: мы не раз еще встретимся и станем добрыми друзьями.
Ирод, отводя взгляд от голой царицы, пробурчал в ответ что-то нечленораздельное. Клеопатра рассмеялась.
Вечером во дворце царицы состоялся ужин, во время которого Клеопатра поведала Ироду последние новости, пришедшие из Рима. Подавив бунт, устроенный Луцием Антонием, и казнив его участников, Октавий принялся за организаторов. Некоторым из них удалось бежать, как это сделал сенатор Тиберий Клавдий Нерон, бежавший со своей женой Ливией и полуторагодовалым сыном Тиберием [119]в Ахайю [120]. Бежала с детьми из Рима в Брундизий [121]и жена Марка Антония Фульвия, спровоцировавшая гражданскую войну, а оттуда для большей безопасности перебралась в столицу Греции. Здесь, в Афинах, состоялась ее встреча с мужем, который спешно прибыл из Египта с тем, чтобы возглавить сохранившие ему верность легионы и двинуть их на Рим. Между супругами возникла ссора, в ходе которой Фульвия упрекала Антония за его связь с Клеопатрой, а тот ее за то, что она стала причиной новой гражданской войны. Не договорившись ни до чего, Антоний ушел, не попрощавшись с женой, а через месяц после этой ссоры Фульвия скоропостижно скончалась.
Посадив легионы на корабли, Антоний высадился в Брундизии. Туда же поспешил со своими легионами и Октавий, присоединив к ним легионы третьего товарища по триумвирату Лепида, которого лишил всякой власти и отправил в ссылку. Солдаты, встретившиеся лицом к лицу, отказались воевать друг с другом и потребовали, чтобы их полководцы, бывшие товарищи по триумвирату, а ныне враги помирились, скрепив свой союз родственными узами. Уступая воле солдат, Антоний женился на сестре Октавия, тоже Октавии, незадолго до этого похоронившей своего внезапно скончавшегося мужа Гая Клавдия Марцелла, от которого у нее остался сын Марк Марцелл, а Октавий женился на Скрибонии, доводившейся Антонию десятой водой на киселе и уже дважды побывавшей замужем за консулярами, от одного из которых имела детей. После церемонии бракосочетаний они составили и подписали Брундизийский договор, по которому за Антонием сохранялась вся Азия и присоединенный к ней Египет, а к Октавию отошли Италия и европейские провинции.
– Как видишь, – сказала Клеопатра, закидывая ногу на ногу и обнажая белоснежное колено, – я снова свободна.
– Мне необходимо срочно попасть в Рим, – сказал Ирод, устраиваясь за столом так, чтобы не видеть голых ног царицы. Это не осталось незамеченным со стороны Клеопатры.
– Боишься, что тебя приревнует ко мне твоя молодая жена? – спросила, улыбнувшись, она. – Кстати, она у тебя не первая и, полагаю, не станет последней?
– Мне необходимо как можно скорей оказаться в Риме, – повторил Ирод.
– А ты заметно изменился за время, прошедшее после нашей последней встречи, – сказала Клеопатра, оставляя слова Ирода без внимания. – Появились седые волосы. Тебе идет седина.
– Мне нужно ехать в Рим, – в третий раз повторил Ирод. – У тебя найдется для меня корабль?
– О чем ты говоришь, милый друг? – деланно рассмеялась Клеопатра. – Сегодня я не смею без особого на то разрешения Антония дать тебе во временное пользование даже шпильку с моей головы. – Клеопатра кокетливо запустила в волосы пальцы, при этом рукава ее прозрачного платья упали к плечам, обнажив красивые руки. – И потом, куда ты собираешься плыть на зиму глядя? Ты посмотри, как штормит море. По такой погоде даже самый надежный корабль может пойти ко дну, не говоря уже о захудалом суденышке, которое тебе могут предложить без ведома Антония и вопреки моей воле корабельщики, да и то не даром, а не меньше, чем за сто талантов. – Внезапно оборвав смех, она нахмурилась и исподлобья посмотрела на гостя. – Но ведь у тебя нет таких денег, красавец? – спросила она почти зло.
– Я заплачу сто талантов за любое судно, которое способно продержаться на воде хотя бы сутки, – сказал Ирод.
Во взгляде Клеопатры теперь сквозила не злость, а ненависть. Выдержав долгую паузу, она наконец произнесла:
– Ну что ж, за сто талантов найдутся самоубийцы, которые согласятся доставить тебя в Италию.
Ирод облегченно вздохнул и улыбнулся Клеопатре, стараясь выглядеть как можно вежливей.
– Спасибо, царица. Я не забуду твоей доброты.
– Да уж, постарайся, – сказала Клеопатра и демонстративно зевнула. – А теперь иди, я устала от тебя.
Ирод поднялся.
– Ты даже не поцелуешь меня на прощанье? – спросила Клеопатра.
– Ты заслуживаешь большего, чем поцелуй, – сказал Ирод. – Ты заслуживаешь преклонения.
Клеопатра махнула платочком слугам, чтобы те проводили гостя. Прежде, чем покинуть ее покои, Ирод услышал слова, произнесенные почти шепотом, напомнившим ему шипение змеи:
– Берегись, Ирод, отвергнутых женщин. Они бывают страшно мстительны.
Ирода почти силой вытолкнул за порог один из слуг – высоченного роста мрачный детина с безбородым лицом. «Запомни мое имя, – сказал он. – Меня зовут Афенион. И постарайся не появляться там, где услышишь это имя».
Глава девятая В РИМЕ
1
Клеопатра оказалась права: шторм, бушевавший на Средиземном море три недели кряду, понес утлое суденышко, зафрахтованное Иродом за огромную сумму, на восток, к побережью Малой Азии, и разбил его о скалы острова Родос [122]. Ирод лишился всего своего немудреного багажа, но чудом сберег оставшиеся у него сто талантов, подаренные сирийским богачом Сарамаллой. Впрочем, и этих денег он тут же лишился: увидев, какие страшные разрушения произвела на острове война, развязанная Кассием, он подарил их властям острова. Узнав от Ирода о постигшем его несчастье и желании как можно скорее оказаться в Риме, благодарные родоссцы предоставили ему триеру [123], которая через два дня плавания доставила его в Брундизий.
На итальянский берег Ирод сошел нищим (со своими телохранителями-германцами он расстался еще в Египте). К кому бы он ни обращался за содействием, рассказывая о себе одну только правду, его принимали в лучшем случае за самозванца, в худшем – за сумасшедшего. Тогда Ирод решил идти в Рим пешком. Наведя справки, какой путь ему лучше избрать, чтобы быстрее достичь столицы, он ступил на базальт Аппиевой дороги [124].
Настроение у Ирода, несмотря на все испытания, выпавшие на его долю в последние месяцы, и смерть брата, было приподнятое. Мысль добиться назначения царем Иудеи Аристовула согревала его. Лучшей кандидатуры, чем этот храбрый молодой человек, нельзя было и выдумать. А как обрадуется царскому сану своего брата Мариамна!.. С самого начала пешего путешествия в Рим Ирод положил себе за правило идти без отдыха весь световой день, а чтобы время проходило незаметней, стал декламировать вслух стихи Гесиода [125], которые помнил еще со школьной скамьи:
Создали прежде всего поколенье людей золотое Вечноживущие боги, владельцы жилищ олимпийских. Был еще Крон-повелитель в то время владыкою неба. Жили те люди, как боги, с спокойной и ясной душою, Горя не зная, не зная трудов. И печальная старость К ним приближаться не смела. Всегда одинаково сильны Были их руки и ноги. В пирах они жизнь проводили, А умирали как будто объятые сном. Недостаток Был им ни в чем не известен. Большой урожай и обильный Сами давали собой хлебодарные земли. Они же Сколько хотелось, трудились, спокойно сбирая богатства Стад обладатели многих, любезные сердцу блаженных…«Под властью Аристовула Иудея обретет, наконец, покой, и в ней снова появится золотое поколение людей, не знающих горя, которое станет проводить все свое время в праздничных пирах», – думал Ирод.
На Ирода, читавшего Гесиода по-гречески, оглядывались встречные путники, догоняли и шли рядом попутчики. Просили не прерывать чтения, и Ирод, уступая их просьбам, с еще большим упоением продолжал читать, удивляясь тому, что память его продолжает хранить то, что, казалось, давным-давно должно было бы забыться, а еще больше удивляясь современности звучания этих стихов, хотя созданы они были без малого восемь столетий назад. Чудилось Ироду, что продолжение этих стихов рисует современное положение Иудеи, которое Аристовулу надлежит исправить:
Землю теперь населяют железные люди. Не будет Им передышки ни ночью, ни днем от труда, и от горя, И от несчастий. Заботы тяжелые боги дадут им, Все же ко всем этим бедам примешаны будут и блага. Зевс поколенье людей говорящих погубит, и это После того, как на свет они станут рождаться седыми. Дети – с отцами, с детьми – их отцы сговориться не смогут. Чуждыми станут приятель приятелю, гостю – хозяин. Больше не будет меж братьев любви, как бывало когда-то; Старых родителей скоро совсем почитать перестанут, Будут их яро и зло поносить нечестивые дети Тяжкою бранью не зная возмездья богов; не захочет, Больше никто доставлять пропитанье родителям старым, И не возбудит ни в ком уваженья и клятвохранитель, Ни справедливый, ни добрый. Скорей наглецу и злодею Станет почет воздаваться. Где сила, там будет и право…Солнце стояла уже высоко, когда благодарные слушатели уговорили Ирода сделать привал и подкрепиться. Расстелили у дороги плащи, выложили на них снедь, предложили Ироду первому, за отсутствием чаш, выпить вина прямо из бурдюка. Поев, двинулись дальше. Среди попутчиков Ирода оказался знатный копт [126], вконец разорившийся у себя на родине и направлявшийся теперь в Рим искать правды и защиты. Сидя верхом на муле, он качался в такт его шагам и беззвучно плакал, утирая рукавом бурнуса слезы. «Нет в мире справедливости, – буднил он, ни к кому не обращаясь, – и никогда не было». Приняв Ирода за странствующего поэта, зарабатывающего себе на жизнь чтением стихов, он спросил:
– А стихи моей родины тебе известны? Не те, которые сочиняют сегодня, а старинные, которые созданы моими далекими предками?
Ирод, получивший в детстве классическое эллинистическое образование, которое предполагало основательное знание литературы древних народов, многие из которых исчезли, растворившись среди других, более молодых народов, ответил грустному копту:
– Известны.
– Старинные? – оживился копт.
– Очень старинные. Этим стихам уже три тысячи лет, и сочинены они были тогда, когда на земле не было еще ни евреев, ни греков, ни римлян.
– Умоляю тебя, прочитай! – стал просить копт. – Я хорошо заплачу тебе.
– Мне не нужны твои деньги, – ответил Ирод, – достаточно того, что вы накормили меня. Только мне не ведом язык твоих предков, я помню эти стихи в переводе на греческий.
– Все равно это стихи моего народа, читай их по-гречески, – сказал копт, слезая с мула и идя рядом с Иродом, чтобы лучше его слышать.
– Остальным нашим попутчикам, думаешь, будет интересно?
– Конечно! – с жаром произнес копт. – Как могут быть не интересны другим стихи моего народа, если мы первые в мире стали думать о душе человеческой?
– В таком случае, слушайте все, кому это интересно. – И Ирод в такт шагам, каким он и его спутники двигались по дороге, стал читать:
…Кому мне открыться сегодня? Кому мне открыться сегодня? Братья бесчестны, Друзья очерствели, Друзья охладели. Ищи у чужих состраданья! Кому мне открыться сегодня? Кому мне открыться сегодня? Алчны сердца, Потуплены взоры, На чужое зарится каждый. От братьев отвернуты лица. Кому мне открыться сегодня? Кому мне открыться сегодня? Раздолье насильнику, В сердцах воцарилась корысть. Вывелись добрые люди. Что толку – искать в них опоры? Кому мне открыться сегодня? Кому мне открыться сегодня? Хулу мирволят повсюду, Нет справедливых, Благу везде поруганье. Земля отдана криводушным. Кому мне открыться сегодня? Кому мне открыться сегодня? Над жертвой глумится наглец, Нет закадычных друзей, А людям потеха – и только! С незнакомцами душу отводят. Кому мне открыться сегодня? Кому мне открыться сегодня? У ближнего рады Нету счастливых, Последний кусок заграбастать! Нет и того, с кем дружбу водили. Кому мне открыться сегодня? Кому мне открыться сегодня? Злодею – доверие, Бремя беды на плечах, Брата врагом почитают. И нет задушевного друга. Кому мне открыться сегодня? Кому мне открыться сегодня? Не помнит былого никто. Зло наводнило землю, Добра за добро не дождешься. Нет ему ни конца, не края…Копт, прижавшись лицом к плечу Ирода, разрыдался.
– Ты… ты, – говорил он, но рыдания мешали ему высказать свою мысль до конца. Подойдя к мулу, он порылся в мешке, свешивавшемся с седла, достал оттуда небольшую статуэтку Осириса, сделанную из золота, и протянул Ироду: – Возьми на память. Это очень древняя работа, которая не имеет цены. Когда тебе станет трудно, помолись моему богу, он обязательно тебе поможет.
2
Так, за чтением стихов, которые цепкая память Ирода хранила множество, в обществе сменяющих друг друга попутчиков наш герой достиг, наконец, цели своего затянувшегося странствия – Великого города в той его части, где Аппиева дорога сливается с Латинской дорогой и находятся термы [127], на месте которых спустя два столетия возникнут роскошные императорские термы Каракаллы, сохранившиеся поныне.
Ирод, прежде чем предстать перед Антонием, решил смыть с себя многодневную грязь, накопившуюся на нем за время его нахождения в пути, и отправился в термы. Здесь его постигло первое разочарование, которое он испытал, вступив в раздевалку. Сбросив с себя одежду, он оказался в центре гогочущей толпы, которая указывала на него пальцем и улюлукала, привлекая внимание как тех, кто еще только собирался помыться, так и тех, кто уже вышел из бассейна, с удовольствием растирая свои распаренные, покрытые каплями воды розовые тела: «Смотрите, обрезанный! Вы только полюбуйтесь на этого урода! Позор! Уж лучше быть кастрированным, чем обрезанным! [128]». Вторым разочарованием для Ирода стало то, что его не впустили в дом Антония, жестоко избив при этом палками и плетьми. Один из рабов, прикованный цепью с железным ошейником к парадной двери, сжалился над Иродом, который, истекая кровью, продолжал рваться в дом, и посоветовал ему обратиться в канцелярию просьб и жалоб с письменным изложением причин, по которым ему необходимо встретиться с триумвиром. «Тогда, – сказал сердобольный раб, – тебя, быть может, допустят к Антонию».
У канцелярии просьб и жалоб собралась несметная толпа народу, съехавшаяся чуть ли не со всех концов света. Ирод понял, что пройдет не один месяц, прежде чем он попадет к заведующему канцелярией, который то ли примет у него прошение, а то ли нет, – все будет зависеть от суммы, которую Ирод ему заплатит [129]. Но самым большим разочарованием для Ирода стал сам Великий город, в котором он не обнаружил ни красивых мраморных дворцов, которые в избытке были в Тире, ни широких прямых улиц, окаймленных колоннадами, как в Апамее, ни тенистых рощ с утопающими в них виллами, которые придавали особое очарование Антиохии.
Непрекращавшаяся десятилетиями борьба оптиматов с популярами, бесконечные гражданские войны сказались на Риме самым пагубным образом. Ирод долгими часами бродил по его тесным и грязным в эти короткие декабрьские дни улочкам и спрашивал себя: неужели он в самом деле находится в столице мировой державы, пришедшей на смену некогда могущественной державы Александра Македонского?
То тут, то там ему попадались на глаза остатки Сервиевой стены [130], на которые он обратил внимание, еще только вступив по Аппиевой дороге в Рим. Из числа немногих каменных сооружений взгляд Ирода задержался разве что на базилике [131]Марка Порция Катона, Фламиниевом цирке [132]и портике Помпея у подножия Капитолия [133]. Ироду рассказывали, что за тридцать лет, прошедших со времени смерти Суллы и до убийства Цезаря, в городе появилось немало дворцов и храмов, но его в районы дворцов из-за вконец истрепавшейся одежды не впустили. В остальном же Рим больше походил на свайную деревню, застроенную без всякого плана многоэтажными инсулами [134], чем на мировую столицу.
В поисках ночлега Ирод обошел множество инсул, но ему не везло: в этих жалких строениях с перекошенными окнами или вовсе без них не находилось свободного помещения, а там, где таковые были, домовладельцы заламывали такие сумасшедшие суммы, что ему пришлось бы заложить не одну, а десять статуэток Осириса, какую подарил ему слезливый любитель древней поэзии копт.
В одной из инсул ему чуть было не повезло: толстый домовладелец в грязной тоге, услышав от Ирода, что ему нужен ночлег, по приятельски хлопнул его по плечу и сказал: «У меня есть прекрасная квартира, которая тебе подойдет. Подожди немного, как раз сейчас ее освобождает семья, которая задолжала мне за прошлый месяц и не собирается платить. – И, обратившись в черный проем сорванной с петель двери, сердито закричал: – Эй вы, поторапливайтесь, солидный господин, которому я только что сдал в наем вашу квартиру, не намерен ждать ни минуты!» Подстегнутая криком домовладельца, в дверном проеме показалась выселяемая семья. Первым вышел бледный мужчина лет пятидесяти, за ним появились три женщины разных возрастов, тащившие кровать о трех и стол о двух ножках, которые не могли стоять иначе, как только прислоненные к стене. Оставив свое добро на улице, мужчина и женщины вернулись в инсулу и вскоре снова появились, бережно неся, как сокровище, старую рухлядь: мятую латунную лампу, роговой фонарь, побитую посуду, сковороду, покрытую медянкой, глиняный горшок, от которого за версту разило тухлой рыбой, высохший венок из черного блоховника, которому приписывается целебная сила и который обыкновенно вешается в изголовье кровати, заплесневелый кусок тулузского сыра, который они берегли к празднику, моток спутанной веревки. «Поживете под мостом через Тибр, пока не поднакопите деньжат, – напутствовал их домовладелец и обратился к Ироду: – Квартира свободна, господин. Договоримся о цене и можешь вселяться хоть на всю отпущенную тебе богами жизнь, я беру недорого». Ирод, однако, отказался занять освободившуюся у него на глазах квартиру и пошел искать ночлег дальше.
В конце концов его согласилась приютить молодая проститутка с нарумяненным лицом и кривыми, как у кавалериста, ногами, взяв в оплату единственную ценность, которой располагал Ирод, – статуэтку Осириса. Статуэтка до такой степени понравилась проститутке, что она сверх жилья обещалась еженощно удовлетворять его мужские потребности, от которых Ирод сразу отказался, выставив встречное условия: ему нужен ночлег, только ночлег и ничего больше. Проститутка, пряча за пазуху золотую статуэтку, рассмеялась. «Все вы, проказники, так говорите, – погрозила она Ироду пальчиком, – пока не доберетесь до моей постели». Поднявшись следом за проституткой по шаткой вонючей лестнице на шестой этаж, Ирод оказался в тесной комнатушке-конуре, в которой не было ничего, кроме узкой кровати, голого стола и шаткого табурета. Проститутка, взобравшись на кровать, стала прыгать на ней и хвастать: «Это ложе любви познало парфян и германцев, киликийцев и каппадокийцев, египтян и нубийцев, иудеев и даков, здесь вкусил неземное блаженство даже один алан, который так страстно влюбился в меня, что чуть было не зарезал. Тебе крупно повезло, красавчик, что ты встретил меня». Ирода передернуло от развязности проститутки. «Мы договорились, что в обмен на Осириса ты уступишь мне кровать, а не станешь делить ее со мной», – сказал он. «Как? – удивилась проститутка. – Ты отказываешься вкусить моего тела?» «Именно, – подтвердил Ирод. – Так что потрудись оставить меня одного, а сама поищи на время приют у какой-нибудь своей подруги».
Проститутка, надув губы, ушла, а Ирод, смертельно уставший за долгий бестолковый день, проведенный в Риме, не раздеваясь повалился на кровать и тут же забылся сном.
Выспаться, однако, ему не удалось. Ночью его разбудили скрип ломовых телег, груженных огромными каменными глыбами и бревнами, которые не могли свернуть из одной узкой улочки в другую и, натыкаясь на стены инсул, сотрясали их от первого этажа до последнего. С возницами телег, которым, как узнал об этом позже Ирод, было запрещено въезжать в город в дневные часы, ругались погонщики вьючных животных, прибывшие в столицу из самых отдаленных мест, и требовали, чтобы возницы не загораживали дорогу и немедленно пропустили их, если не хотят, чтобы их хорошенько поколотили за испортившиеся по их вине продукты, которые ждут не дождутся в домах знатных римлян. Ближе к утру улица огласилась криками булочников и молочников, предлагавших только что выпеченный хлеб и молоко утреннего надоя. Солнце еще не взошло, когда Ирод понял, что ему не уснуть, и спустился на улицу в надежде найти что-нибудь съестное.
3
Город, несмотря на ранний час, уже оживал. Не проспавшиеся прохожие чуть ли не бегом неслись куда-то по своим неотложным делам и, натыкаясь друг на друга, обменивались репликами: «Куда ты спешишь ни свет, ни заря?» – «И не спрашивай. У меня на сегодня намечена куча важный дел». «Какие могут быть дела у такого бездельника, как ты?». «Сейчас я тороплюсь к моему патрону, чтобы раньше других пожелать ему доброго утра, а от него к его брату, который заболел, и упросить в его присутствии богов ниспослать ему скорейшее выздоровление. Потом я должен поспеть на свадьбу к Аврелии, которая выходит замуж в шестой и последний раз, как она уведомила меня в присланной вчера записке. От Аврелии мне необходимо нанести визит Клавдию Мартеллу, сын которого отмечает сегодня совершеннолетие и впервые наденет взрослую тогу. Кстати, ты не забыл, что нас с тобой ожидает сегодня к полудню Юлий Цивилис, которому мы обещали свою поддержку в суде? После Цивилиса мы должны навестить старуху Гирцию, чтобы скрепить своими печатями ее новое завещание, а от нее отправиться в театр. Из театра мне нужно еще побывать на пире, который устраивает Аэций Ампелий по случаю помолвки своей падчерицы. Скажу тебе по секрету: там сегодня состоится большая игра в кости. Надеюсь, мне сегодня повезет и я оторву, наконец, куш, а то я совсем поиздержался. Веришь ли, ни одного сестерция не осталось за душой, так что хоть беги из Рима в Остию [135], где можно вволю наесться бесплатных устриц».
Еще не отойдя от порога своего временного жилища Ирод увидел полного господина, который руководил работами рабов, подпиравших жердями покосившуюся стену и замазывающих зияющую щель, одновременно успокаивая высыпавших на улицу испуганных жильцов: «Ничего страшного не случилось и не может случиться. Смело возвращайтесь в свои квартиры и досматривайте сладкие сны, – мой дом простоит без ремонта еще сто лет, так что не забывайте вовремя вносить квартплату».
Ирод не спеша двинулся по улице по направлению к центру. За распахнутыми дверями школы дети хором читали по слогам Вергилия:
Сами домой понесут молоком отягченное вымя Козы, и грозные львы стадам уже страшны не будут. Будет сама колыбель услаждать тебя щедро цветами. Сгинут навеки змея и трава с предательским ядом…И без того узкая улица, по которой шел Ирод, была еще больше стеснена множеством деревянных построек, за которыми нельзя была увидеть входные двери в инсулы. Здесь на цепочке висела большая бутыль с вином, там красовалась калига, под которой сапожник корпел над сандалией, в третьей постройке с прибитыми к косяку огромными бритвой и ножницами ловко делал свое дело брадобрей, к которому выстроилась уже небольшая очередь из клиентов и зевак. Ирод ненадолго задержался возле пристройки с аляповатой картиной, изображающей пылающую жаровню и над ней улыбающегося поросенка на вертеле, перед пристройкой стояли столы, за которым завтракали шумно переговаривающиеся римляне. Ирод посмотрел, что они едят и что выносят им из чадящей кухни на подносах проворные официанты. В основном римляне ели черный хлеб и запивали его кислым вином. Те, что были посостоятельней, позволяли себе бобы и репу, похлебку, сваренную из чечевицы с рыбой, закусывая ее чесноком. Ну а самые богатые из них ели предварительно прокопченные и ночью сваренные с луком бараньи и свиные головы, считавшиеся у простолюдинов роскошным обедом, облизывали выпачканные жиром пальцы или вытирали их о подолы тог. У Ирода, не державшего со вчерашнего дня ни крошки во рту, при виде этой пищи пропал всякий аппетит, и он пошел дальше, натыкаясь на снующих взад-вперед лоточников и разносчиков разного рода товаров.
На выставленном прямо посреди улицы столике звенел медью меняла, предлагая желающим обменять деньги любой страны на сестерции, за менялой пристроились продавцы протертого гороха и колбас, а выглядывающий из распахнутых настежь дверей мясник «уступал почти даром» целую четверть быка с ногой, от которой за версту исходил мерзкий дух порченого мяса. Пьяный моряк, повесив на шею кусок корабельной обшивки с корявой надписью «Fortuna», жаловался на судьбу и обещался рассказать подробности пережитого им кораблекрушения каждому, кто угостит его вином. Худенький мальчик-еврей с протянутой грязной ладошкой приставал к прохожим, говоря, что мать не впустит его домой, если он не принесет ей сестерций-другой. Старик, прибывший в город из-за Тибра, предлагал купить у него серные нитки, которые надежней всего склеивают разбитую стеклянную посуду, так что она станет лучше, чем новая.
Внимание Ирода привлек нубиец, ведший в поводу слона. За нубийцем со слоном увязалась стайка горланящих мальчишек, тыкавших в ноги слона хворостинами; впрочем, ни нубиец, ни его важно шествующий слон не обращали на мальчишек ни малейшего внимания. Вскоре взору Ирода предстала еще одна занимательная сценка: фигляр демонстрировал прохожим козу с вызолоченными рогами и седлом, на котором прыгала, потрясая игрушечным копьем, обезьянка, облаченная солдатом. На противоположных углах при пересечении двух улиц пристроились заклинатель змей с плетеной корзиной и флейтой и пожиратель огня; вместе и порознь они предлагали прохожим за умеренную плату показать «смертельные номера», которые «не увидишь нигде в мире».
Чем ближе подходил Ирод к центральным кварталам Рима, тем солидней становились лавки, в которых были выставлены на продажу самые необыкновенные товары: испанская шерсть и китайский шелк, художественное стекло и тончайшее льняное полотно из Египта, вино и устрицы с греческих островов, сыр, изготовленный на альпийских лугах, и рыба, выловленная в Черном море. Персидские ковры лежали вперемешку с кусками отполированного красного дерева с затейливыми прожилками и слоновьей костью из Африки, ювелирными украшениями тончайшей работы и благовониями Востока, переливающимися всеми цветами радуги самоцветы, добытые в рудниках Урала [136].
Толпы народа, заполнившие улицы, напоминали воды Тибра, в течении которого нельзя было обнаружить ни клочка обнаженного дна. И, как лодки на Тибре, плыли многочисленные носилки, дорогу которым прокладывали мускулистые рабы. Пробежал, гремя доспехами, отряд галлов, нанятый знатным римляном в качестве охранников своего домов и челяди. Будто из-под земли выросла и важно прошествовала процессия египтян в льняных таларах и с наголо обритыми головами, высоко неся на носилках статую богини Исиды. За греческим ученым шел, нагруженный свитками, рослый эфиоп. Армянские князья в высоких шапках и широких пестрых одеждах, окруженные бесчисленной свитой, прошли по центральной части улицы с молчаливой серьезностью, нарочито глядя себе под ноги, чтобы не выдать изумления от пестроты и роскоши окружающей обстановки. В отличие от армянских князей, британцы, покрытые с головы до пят татуировками, пялились на все, что ни видели вокруг себя, и громко переговаривались на своем корявом, никому не понятном языке, обнажая крупные, как тыквенные семечки, зубы.
У многочисленных адвокатских контор, как и у контор пророков-халдеев и салонов цирюльников с выставленными в витринах белокурыми косами скандинавок толщиной с локоть, клубились озерца людей. Кому-то требовалось нотариально заверить копии документов, кому-то узнать, что сулят им звезды, невидимые в это ясное солнечное утро, а кому-то еще сделать новомодную прическу с пробором посередине и кудрями с локонами по вискам. Ирод невольно задержал шаг у одной из адвокатских контор, заслышав шумный разговор между молодым патрицием в зимней шерстяной тоге и вышедшим проводить его маленьким горбатым адвокатом, на лице которого блуждала все понимающая улыбка. Из того, что выкрикивал патриций, Ирод догадался: накануне у него умер богатый дядюшка-сумасброд, единственным наследником которого был он, патриций. Все, кто знал при жизни этого дядюшку, и прежде всего его племянник, с нетерпением ожидали, когда же его приберут к своим рукам всемилостивейшие боги и можно будет вскрыть завещание. Дядюшка, наконец, умер, горбатый адвокат, помогавший составить сумасбродному старику завещание, вскрыл его сегодня в присутствии свидетелей, и оказалось, что хотя молодой патриций значится в нем как единственный наследник немалого богатства, однако вступить в наследование он не может. «Вы только вообразите, – возмущался патриций, обращаясь одновременно к адвокату и публике, собравшейся у его конторы, – этот старый хрыч, которого я до последнего часа холил и лелеял, отказавшись решительно от всех удовольствий, приличествующих людям моего возраста, завещал мне, единственному наследнику, свое состояние с тем условии, что я разрежу на куски его труп и прилюдно съем. Я спрашиваю всех вас, как вам это понравится? Нет, Рим поистине стал местом, где не осталось ничего святого, а есть только горы трупов и терзающих их воронов! Отныне в нашем городе не найдешь ни честности, ни благородства. Все люди разделились на две партии: на тех, кто удит, и тех, кто позволяет другим выуживать себя. Таким несчастным, который попался на уду своего вздорного дяди, оказался я». Адвокат, продолжая улыбаться, как мог утешал молодого патриция. «Ну и что? – говорил он. – Ты зажмурь покрепче глаза и вообрази, что глотаешь не куски мертвечины, а десять миллионов сестерциев». «Из которых половина достанется тебе», – продолжал возмущаться патриций. На это адвокат, расточая направо и налево улыбку, лишь пожал плечами и развел руками: «Что поделаешь? Таковы условия договора, который мы заключили между собой. Я, как любой другой скромный служитель Фемиды, обязан выполнить все условия заключенного между нами договора. Таково требование римского закона, который признан в целом мире как единственно справедливый. Меня поддержит любой суд, в который ты вправе обратиться. Я только осмелюсь напомнить тебе, что и наш договор, как завещание твоего дяди, скреплен подписями и печатями двух свидетелей, которых, между прочим, ты, не доверяя моему опыту, сам назначил, а мне не оставалось ничего иного, кроме как согласиться с твоим выбором. Как говорится, закон суров, но это закон, и правосудие должно свершиться, хотя бы погиб мир». «Уж лучше бы этот мир провалился в тартар вместе с тобой и такими крючкотворами, как ты, которые придумали эти законы…» – отвечал ему молодой человек под одобрительный гул собравшихся зевак.
Ирод не стал слушать, чем закончится этот разговор, и пошел дальше. Весь оставшийся день он бесцельно бродил по городу, все более и более волнуясь за судьбу своих родных и близких, оставленных в осажденной врагами Масаде. Как они обходятся без него, хватит ли у его брата Иосифа и шурина Аристовула сил и мужества, чтобы защитить оставленных на их попечение женщин?
Мысль о женщинах, о горячо любимой Мариамне и их сыне Александре, о том, что его прекрасная хрупкая жена ждет второго ребенка, не давала Ироду покоя. «Если мне удастся уговорить Антония назначить моего шурина царем Иудеи, назову второго сына в честь брата Мариамны Аристовулом», – поклялся он. Но как ему прорваться к Антонию?! Чувство бессилия, охватившее его в этом огромном многонациональном городе, заставило Ирода заскрипеть зубами.
«Многонационального?» – повторил Ирод и стукнул себя кулаком по лбу. Как он сразу не догадался обратиться за содействием к местным иудеям, связавшись вместо них с шлюхой? «Ох, и дурак же я, – ругал себя Ирод, досадуя на себя не столько из-за утраченной статуэтки, сколько из-за собственной бестолковости, обнаружившейся в простейшей житейской ситуации, из которой наверняка с честью вышел бы его прадед, выторговавший себе некогда в Египте право на откуп налогов.
Была уже ночь, когда Ирод возвратился в снятую им лачугу, без конца повторяя про себя как заклинание или молитву, обращенную невесть к кому: «Завтра, завтра же я встречусь с Антонием, уговорю его назначить царем Иудеи Аристовула и навсегда покину этот неприютный город».
4
Улицы Рима в этот поздний час были пусты и темны. Многочисленные лавки и таверны, еще недавно оживленные, были теперь наглухо закрыты. Изредка Ироду попадались носилки с трупами бедняков, которых рабы из похоронной команды несли в крематорий, чтобы там их сжечь, а прах высыпать в мутные воды Тибра. Еще реже встречались стражники, обходящие свои участки с факелами в руках. Перезванивались колокольчиками рабы, охранявшие отдельно стоящие дома состоятельных римлян; чем дальше отдалялся от центра Ирод, тем реже слышались звуки этих колокольчиков, а там и вовсе прекратились. Пронзительно закричал одинокий, как и Ирод, прохожий, на которого напали ночные грабители. Из окна одной из инсул выплеснули на улицу нечистоты, а с подоконника другой инсулы сорвался и с грохотом разбился о мостовую глиняный горшок с чахлыми цветами. И снова, как минувшей ночью, улицы стали заполняться ломовыми телегами, груженными глыбами камня и бревнами, и в спор с их возницами вступили погонщики вьючных животных, спешащие доставить свой товар к заказчикам до восхода солнца.
Ироду и в эту ночь не удалось сомкнуть глаз. В редкие минуты забытья ему виделись обнаженная Мариамна и окровавленный Малих, который, скалясь, говорил: «Мариамна теперь моя. Неужели ты всерьез полагал, что такая страстная женщина, как твоя женушка, может долго оставаться без мужчины? Сгинь и не мешай нашему наслаждению». Едва дождавшись утра, Ирод направился в центр города, не отвлекаясь в этот раз ни на что из того, что привлекло его внимание накануне. Вскоре ему повстречался тот, кого он искал: слепой нищий с красными вывернутыми веками. Гремя оловянной кружкой и натыкаясь на прохожих, нищий громко просил милостыню, и по его картавости Ирод сразу признал в нем еврея. Схватив нищего за локоть, словно опасаясь, что тот может исчезнуть, Ирод отвел его в сторону и негромко спросил по-еврейски:
– Знакомо ли тебе имя Ревекка? Она была служанкой покойной жены Марка Антония Фульвии.
Нищий вздрогнул, повернул к Ироду лицо с всклокоченной бородой и посмотрел поверх него незрячими окровавленными глазами.
– Отвечай! – потребовал Ирод. – Мне срочно необходимо с ней свидеться.
Нищий, не говоря ни слова и не пытаясь освободить локоть от цепкой хватки Ирода, повел его в переулок, где было меньше народа, здесь наклонился, отвернулся, зачем-то поднес руки к своему лицу, что-то с ним сделал, а когда снова обернулся, Ирод подивился перемене, происшедшей в нем: теперь на Ирода смотрел не калека, а еще не старый человек с ясным пытливым взором, веки которого вернулись на место.
– Зачем тебе понадобилась Ривка? – спросил он по-латыни.
– Нужна, – ответил Ирод по-еврейски. – Меня прислал Малих.
– Малих убит, – сказал нищий, переходя на еврейский язык.
– Знаю, – сказал Ирод. – Потому-то я здесь.
Нищий недоверчиво смотрел на Ирода.
– Берегись, незнакомец, сейчас в Риме находится Ирод. Он может убить тебя.
– Я и это знаю. Теперь, полагаю, тебе не нужно объяснять, почему мне срочно понадобилось свидеться с Ривкой. Ты поможешь мне встретиться с нею?
– Это будет нелегко сделать. Теперь Ривка прислуживет новой жене Антония Октавии.
– Разве Октавия держит ее взаперти?
– Нет, конечно. Но Ривка может отказаться встретиться с незнакомцем.
– Скажи ей, что я привез письмо от Малиха.
– Покажи это письмо.
– Не могу. Малих перед смертью велел передать свое письмо в руки лично Ревекке.
Нищий долго испытующе смотрел на Ирода, прежде чем произнес:
– Попробую устроить тебе встречу с Ривкой. Как мне назвать тебя?
– Назови как угодно. Скажи, что Малих послал в Рим своего человека для встречи с Р. Так и скажи: для встречи с Р, она поймет, о ком идет речь.
– Ты в этом уверен?
– Уверен.
– Ну что ж, жди меня здесь. Я попробую передать твои слова Ривке.
Нищий отвернулся от Ирода и наклонился, снова поднес руки к лицу, что-то сделал с ним, а когда выпрямился, поверх Ирода опять смотрели невидящие глаза с красными вывернутыми веками.
– Долго мне ждать тебя? – спросил Ирод.
– Жди, – неопределенно повторил нищий. – Встретиться с Ривкой нужно тебе, а не мне. Стой здесь и никуда не уходи.
Прошла целая вечность, прежде чем до слуха Ирода донесся желанный звон монет в оловянной кружке. По-прежнему натыкаясь на прохожих, навстречу Ироду шел слепой нищий. Поравнявшись с ним, он не стал возвращать свои кроваво-красные веки на место, а лишь сказал:
– Ривка ждет тебя.
– Где? – обрадовался Ирод.
– В цирюльне.
– Там, где в витрине выставлены косы скандинавок?
– Да, – сказал нищий, не переставая потряхивать своей оловянной кружкой. – Тебя проводить?
– Не нужно, я запомнил то место. Как я узнаю ее?
– Она сама к тебе подойдет, я описал ей твою внешность.
Ирод улыбнулся.
– Как мне отблагодарить тебя?
– Никак. Пусть нашей общей благодарностью Господу Богу станет торжество дела, ради которого отдал свою жизнь Малих.
Ирод поспешил к назначенному Ревеккой месту свидания. Здесь, как и вчера, толпилось множество женщин, но ни одна из них не походила на еврейку. Ирод, чтобы не привлекать ничье внимание, стал рассматривать выставленные в витрине цветные рисунки причесок с пояснительными надписями: кудрявый тупей, тупей на лбу с косичкой, срединный пробор с волнистым париком…
– Не оборачивайся, – услышал он за своей спиной женкий голос и почувствовал легкое прикосновение руки. – Передай мне письмо, которое ты привез.
Ирод, несмотря на предупреждение, обернулся. Перед ним стояла красивая рыжеволосая женщина с большими синими глазами. «Как у Мариамны», – невольно подумал он. Снова уставившись на рисунки, сказал негромко:
– Письмо в надежном месте. Я не захватил его, чтобы не навлечь на тебя неприятности. Тебе угрожает опасность.
– От кого?
– От Ирода. Он в Риме.
– Мне это известно. Но откуда он знает обо мне?
– О тебе рассказал ему Малих. Он давал читать Ироду все твои письма.
– Этого не может быть.
– Тем не менее это так. Из этих-то писем он и узнал, что ты подписываешь свои письма инициалом «Р».
– Так ты и есть Ирод?
– Ты угадала, – сказал Ирод, на всякий случай сжимая ладонь Ревекки в своей руки, чтобы та не вздумала сбежать.
– Так это ты устроил вчера драку возле дома Антония?
– Я.
– И у тебя нет никакого письма Малиха ко мне?
– Нет.
– Отпусти мою руку, ты делаешь мне больно.
– Не отпущу. Мне необходимо встретиться с твоим хозяином.
– Чтобы он убил меня?
– Ты не умрешь. Если ты организуешь мне встречу с Антонием, ты станешь моим лучшим другом.
– И врагом Иудеи. Я не хочу становиться врагом моей родины.
– Враг Иудеи Антигон, а не ты. Именно он домогается сегодня власти в Иудее.
– Уж лучше Иудея окажется под властью Антигона, чем под твоей. Ты был и навсегда останешься чужаком в моей стране.
– Мне не нужна власть над Иудеей. Единственное, чего я хочу, это чтобы царем Иудеи стал внук Гиркана Аристовул.
– Твой шурин.
– Мой шурин, – подтвердил Ирод. – По крайней мере, он не откусывает уши у людей, как это сделал Антигон.
Ревекка молчала. Она что-то обдумывала. Наконец, спросила:
– А если я откажусь помочь тебе?
– Ты не откажешься.
– Почему?
– Потому что ты поможешь не мне, а своей родине.
– Аристовулу?
– Иудее.
Ревекка опять помолчала, прежде чем произнесла:
– Малих мне платил.
– Ты станешь получать втрое больше, чем платил тебе Малих.
– Впятеро. Рим требует больших расходов.
– Хорошо, я буду платить тебе впятеро больше.
– Не ты. Я не хочу получать от тебя деньги. Пусть мне платит Аристовул, если Антоний сделает его царем Иудеи.
– Тебе будет платить Аристовул.
– Что я должна буду делать для него?
– То же, что делала для Малиха.
Ревекка вздохнула.
– Где ты остановился? – спросила она.
– Туда, где я остановился, я больше не вернусь.
– В таком случае назови место, где люди Антония смогут найти тебя.
– Я буду ждать их у термов на пересечении Аппиевой и Латинской дорог.
– А ближе ты не можешь выбрать место?
– Я плохо знаю Рим.
– Хорошо, жди у термов. Что мне сказать хозяину?
– Скажи, что его хочет видеть Ирод.
– И только-то?
– И только.
– Полагаешь, этого будет достаточно, чтобы Антоний принял тебя?
– Вполне.
Ревекка пожала плечами.
– Будь по-твоему. А сейчас выпусти мою руку, она у меня совсем затекла. И больше не ври мне.
– Разве я в чем-нибудь соврал тебе?
– Соврал. Сказал, что письмо Малиха, адресованное мне, ты спрятал в надежном месте, чтобы не навлечь на меня неприятности.
– Извини, я больше не стану врать тебе.
– А теперь идти к термам. За тобой приедут.
5
Ревекка не подвела. Она слово в слово передала Антонию то немногое, о чем Ирод ее попросил. Не успел он достичь пересечения Аппиевой и Латинской дорог, как к термам подскакал небольшой конный отряд во главе с Валерием Мессалой. Соскочив с коня, молодой сенатор заключил Ирода в объятия.
– Я чуть было не проехал мимо тебя, – сказал он вместо приветствия. – Что сталось с твоей внешностью, откуда взялись эти седые волосы? Ты перекрасился?
– Увы, увы, – ответил Ирод. – На мою долю выпали слишком серьезные неприятности…
– Ни слова больше, – не дослушал его сенатор. – Расскажешь обо всех своих злоключениях в присутствии Антония и Октавия. Антоний не поверил, когда ему доложили, что ты в Риме, и потому послал меня. А теперь садись на коня, надеюсь, ты по-прежнему лихой наездник и не вывалишься из седла?
Ирод легко вскочил на подведенного к нему разгоряченного коня, который нетерпеливо перебирал тонкими ногами, фыркал и косил на него фиолетовым глазом.
– Вперед! – скомандовал Мессала, и кавалькада сорвалась с места.
Ирод не смог сдержать слез радости, когда увидел спешащего ему навстречу друга, следом за которым в портике появился невысокий молодой человек приятной наружности.
– Ты ли это, храбрый лев? – спрашивал Ирода Антоний, беря его за плечи и оглядывая с головы до ног. – Почему не известил меня о приезде, где твоя свита, что значит этот твой нищенский наряд? – Вопросы сыпались из Антония один за другим, а Ирод, счастливый тем, что все его мытарства остались позади, лишь улыбался ему, и слезы, которые он не пытался скрыть, катились и катились по его щекам. – Ну, будет, будет, – говорил Антоний, продолжая обнимать его за плечи и поднимаясь с ним по широкой мраморной лестнице навстречу дожидающемуся их в портике молодому человеку. – Знакомься, Ирод, это мой товарищ по триумвирату и шурин Октавий, а это, Октавий, храбрый Ирод, сын Антипатра и мой давний друг, о котором ты знаешь всё.
– Мне достаточно знать, что отец Ирода помог моему отцу выиграть Александрийскую войну, – отвечал молодой человек, обнажая в улыбке мелкие неровные зубы, – чтобы считать его не только твоим, но и моим другом. – Стиснув руку Ирода и сощурив светлые глаза, выглядывающие из-под сросшихся рыжеватых бровей, Октавий, не переставая улыбаться, добавил: – И это, Ирод, будет так, если даже ты откажешь мне в своей дружбе.
Антоний, как гостеприимный хозяин, прежде, чем пригласить Ирода к столу и выслушать его, приказал слугам отмыть гостя в бане и переодеть в новую чистую одежду, после чего пригласил в атрий, где были выставлены мраморные бюсты всех его предков начиная с Геракла, отчего, как он тут же объяснил Ироду, род Антониев издревле именуется Гераклидами [137]. «Как видишь, – заметил Антоний, – мы, римляне, не меньше вас, иудеев, почитаем своих предков и помним всех их по именам и деяниям».
Лишь после всего этого Ирода пригласили к столу, где собрался узкий круг друзей [138]Антония и Октавия. Ирод порадовался тому, что здесь присутствует Валерий Мессала, который однажды уже поддержал его и теперь, как он надеялся, поддержит его предложение утвердить на царском троне Иудеи Аристовула, немногим уступающим ему по возрасту. Октавий познакомил Ирода с Сальвидиеном Руфом и Корнелием Галлом, еще недавно никому не ведомым солдатам, поддержавшим его в войне с оптиматами и проявившим себя как опытные ораторы и дальновидные политики. Здесь же находился причисленный Антонием в свои друзья сирийский поэт Николай Дамасский, успевший завоевать сердце Октавия своей драмой, написанной на греческом языке, о целомудренной Сусанне, а больше как философ, развивающий идеи Аристотеля, и историк. В стороне от всех сидел вольноотпущенник Октавия Юлий Марат, который записывал все, о чем говорилось за столом.
Ирод, не упустив ни малейшей детали, поведал собравшимся о том, что произошло в Иудее и Сирии за последний год. Слушали его внимательно. Когда он закончил свой горестный рассказ, за столом установилась долгая тишина. Антоний, как если бы в испытаниях, выпавших на долю Ирода и его семьи, содержалась доля его вины, смежил веки и возлежал на мраморном ложе, покачиваясь из стороны в сторону. Октавий, напротив, возлежал не шелохнувшись и внимательно смотрел на Ирода, словно ожидая, что тот добавит к своему рассказу нечто важное, о чем не упомянул, но из-за чего, собственно, претерпев множество опасностей, прибыл в Рим. Мессала тоже не сводил глаз с Ирода, и во взгляде его читался вопрос: «Чем я могу помочь тебе?» Руф и Галл, лишь недавно введенные в круг друзей Антония и Октавия, не знали, как им следует вести себя в ситуациях, далеких от тех вопросов, в которых они разбирались и где их мнение могло хоть в какой-то степени оказаться полезным.
Первым заговорил Николай Дамасский.
– Конечная цель любого государства, и Иудея в этом отношении не составляет исключения, – начал он, – состоит в создании счастливой и прекрасной жизни. Так говорит Учитель, и точно так же, полагаю, считают присутствующие здесь триумвиры. – Николай отвесил легкий поклон Антонию, затем точно такой же поклон Октавию. – Зло состоит не в корысти людской и не в жажде обладания бóльшим, чем необходимо человеку для счастливой жизни, как полагал Платон, почему и предлагал отменить собственность и отказаться от семьи. Очевидно, что государство такой же естественный продукт природы, как и человек: в обществе, как и в природе, есть сильные и слабые, красивые и безобразные, богатые, как моря, кишащие рыбой, и бедные, как растительность в пустыне. Отказ от собственности, равно как от семьи, есть не что иное, как насилие над природой человека. Не государство учредило семью, но из семьи выросло государство. Чем более богатым делается государство, тем богаче становятся все его члены. В государстве, которое не содрогается от военных порясений, захватов как извне, так и изнутри, не должно быть места радикальным переустройствам. Все должно быть предоставлено естественному ходу событий, а поляризация общества на бедных и богатых снимается преобладанием зажиточных средних слоев. Вот почему, говорю я, нет и не может быть задачи более благородной, чем создание условий, при которых чувство ответственности за судьбу своего государства и нравственная добродетель становятся главным делом не только правителей, но и каждого гражданина. Отсюда становится понятным, почему сегодня Иудее более, чем какому другому государству из числа союзников Рима, необходим не просто лучший, но мудрый правитель. Из того, что мы услышали из уст нашего уважаемого гостя, – Николай наклонил голову в сторону Ирода, – можно заключить, что беда обрушилась на него и его семью не потому, что на Иудею напал Пакор, – Пакор лишь следствие сложившихся в Иудее обстоятельств, – а единственно потому, что власть в этой стране вознамерился захватить Антигон. Кто этот человек, если таковым можно назвать того, кто ради устранения соперника на пути к власти откусывает ему уши? Он опасный не только для Иудеи, но и для Рима мятежник. Вопрос в другом: а есть ли сегодня в Иудее человек, которому Рим может вверить всю полноту власти над страной, имея в виду, что страна эта должна стать для своих граждан и примером для других образцом счастливой и прекрасной жизни?
И снова за столом установилось тягостное молчание. Все ждали, что скажет Ирод. И Ирод, поняв, что именно теперь решается судьба как всей Иудеи, так и его семьи, сказал негромко, но твердо:
– Есть. Этого человека зовут Аристовул и в его жилах течет благородная кровь Хасмонеев, вернувших свободу своей родине и заключивших союз с Римом.
Неожиданно для всех слово взял недавний солдат Руф.
– Это не аргумент, – сказал он. – Добродетели не передаются по наследству. Это видно на примере того же Антигона, который довел до убийства твоего брата и откусил уши Гиркану. Если я правильно понял тебя, Ирод, то и в жилах Антигона течет та же кровь Хасмонеев? Какими другими качествами обладает Аристовул, которые побуждают тебя рекомендовать его правителем Иудеи?
– Он храбр.
– Храбрость приличествует воину, но не правителю. Мудр ли он?
– Аристовул еще очень молод. Мудрость придет к нему с годами.
– А что станется с Иудеей, пока Аристовул будет набираться мудрости? В Риме действует закон, согласно которому страной управляют консулы, избираемые народом сроком на один год. Им недосуг набираться мудрости, они должныбыть мудрыми, – сказал молчавший до той поры Галл, акцентируя слово «должны».
И снова наступило молчание. Тогда Антоний разлепил, наконец, веки и перестал раскачиваться.
– И самые могущественные люди зависят от превратностей судьбы в такой же мере, в какой зависят от нее угнетенные, – задумчиво произнес он. Помолчав, сказал уже уверенно: – У меня есть предложение: царем Иудеи должен стать Ирод. Какого мнения ты, Октавий?
Октавий, по-прежнему не сводя взгляда с Ирода, ответил:
– Ирод с сегодняшнего дня мой друг. Этим сказано всё.
6
На следующий день Антоний и Октавий созвали сенат. Первым взял слово Валерий Мессала. Прирожденный оратор, он начал издалека. Напомнил сенаторам, что Иудея стала первой страной, которая заключила союзническое соглашение с Римом. Затем кратко обрисовал политическую обстановку в стране, сложившуюся с приходом к власти Хасмонеев, и роли, которую сыграл в прекращении междоусобной борьбы, разгоревшейся среди наследников Иоанна Гиркана, отец Ирода Антипатр.
– Именно Антипатр покончил со смутой в стране, за что не кто иной, как божественный Цезарь назначил его наместником Иудеи! – с пафосом произнес он.
Далее Мессала обрисовал причины возникновения и хода Александрийской войны в таких ярких и сочных красках, как если бы сам был ее участником.
– Не окажись на стороне Цезаря Антипатр с его храбрым воинством, последствия этой войны могли бы оказаться самые непредсказуемые, – подытожил он.
Лишь после этой затянувшейся преамбулы Мессала перешел к рассказу о самом Ироде, проявившим себя не только как друг Рима, но и как храбрый воин, способствоваший подавлению бунта в Апамее.
– Вон он, этот человек! – повысил голос Мессала. – Вы видите перед собой героя, которого злой рок заставил покинуть Иудею и, преодолев множество опасностей, прибыть в Рим, чтобы просить нас о помощи. Я верю, что сенат, принимая во внимание все обстоятельства, о которых я имел честь поведать вам, коллеги, окажет нашему союзнику и другу эту помощь.
Затем выступил Антоний. Как триумвир, ответственный за мир и порядок в восточных провинциях Рима, он в кратких энергичных выражениях обрисовал обстановку, сложившуюся с захватом власти в Сирии парфянским царем Пакором.
– Этот варвар никогда не посмел бы обнажить свой меч, – сказал он, – если бы не нашел поддержки в лице мятежников из числа врагов Рима, вроде Антигона. Именно такие негодяи, как Антигон, готовы пойти на любые преступление, вплоть до предательства интересов своего народа и измены союзническим обязательствам, ради удовлетворения собственных алчности и честолюбия. Стоит ли удивляться, что, проигнорировав мнение римского сената, он возомнил себя царем Иудеи, приняв из рук Пакора одеяние первосвященника? – Сделав паузу и оглядев сенаторов, которые все еще не понимали, по какой причине их сегодня спешно созвали, Антоний негромко, как о само собой разумеющимся, заметил: – Я, разумеется, в силу полномочий, возложенных на меня, направил в Сирию во главе легиона известного вам полководца Вентидия, усилив его вспомогательным войском во главе с Силоном. Но как бы ни были храбры и опытны эти военачальника, мятеж на Востоке может быть подавлен не только победами нашего оружия на полях сражений, но прежде всего унитожением корней, питающих этом мятеж. Корни произростают на местах. В том числе в Иудее. Вырвать эти корни – задача не Рима, но наших друзей, которые лучше знают положение дел в своих странах. Я вынужден констатировать: ситуация на Востоке меняется, и меняется вопреки нашей воле. Иудее сегодня нужен не просто наместник, но царь с самыми широкими полномочиями. Только такой царь сможет покончить со ставленником парфян Антигоном, несущим гибель и страдания своему народу, но и помочь нам в восстановлении мира на всем Востоке, вернув ему покой и благоденствие.
До сенаторов, наконец, дошло, ради чего их собрали, и они, стуча грифелями о доски, на которых делали записи, стали наперебой требовать:
– Имя! Назови имя человека, который способен спасти Иудею и вернуть покой и благоденствие Востоку!
Антоний, дождавшись тишины, широким жестом указал на Ирода.
– Этот человек перед вами! И я очень и очень настоятельно рекомендую вам запомнить его имя, поскольку вы не раз еще услышите его: наш верный союзник и защитник народа Иудеи Ирод, сын Антипатра!
Сенат единогласным решением назначил Ирода царем Иудеи, о чем тут же была сделана соответствующая запись, выгравленная затем на медной доске.
Сопровождаемый аплодисментами, Ирод вышел на площадь, приветствуемый народом. По правую руку от него шел Антоний, по левую Октавий; за ними попарно шли консулы и другие должностные лица. В таком порядке они взошли на Капитолий, где в торжественной обстановке поместили в архив решение сената о назначении Ирода царем Иудеи, а оттуда в том же порядке перешли в храм Юпитера, где принесли установленную жертву богам.
7
Вечером того же дня в доме Антония состоялся пир в честь новоизбранного царя – первого после почти шестисотлетнего перерыва [139]. Ирод знал толк в пирах, сам не раз устраивал их, умел завязать непринужденную беседу, в которую втягивались все присутствующие, а когда ему это было нужно, играючи решить между двумя здравицами сложнейшие вопросы, на которые в обычной обстановке уходили месяцы. Но то, что увидел он в доме Антония, стало для него во многом внове. Начать с того, что зал, в котором были накрыты столы, поражал своими размерами и роскошью убранства. Колонны, сделанные из цветного мрамора, уходили в неизмеримую высь, подпирая золоченный потолок. Пиршественные столы и ложа перед ними были с ножками из слоновой кости и покрыты пурпуровыми покрывалами с золотой бахромой; посуда с яствами и кубки для вина также были из чистого золота. Женщины за столами не сидели, как это было принято в Иудее и на всем Востоке, а возлежали рядом с мужчинами, подложив под локти парчовые подушки.
Ироду предложили ложе между Антонием и Октавием. Напротив них возлежали Николай Дамасский и Октавия с Скрибонией – жены Антония и Октавия. Октавия, будучи на пять лет старше своего брата, выглядела такой же юной и внешне очень походила на него – такая же невысокая и светлоглазая, с рыжеватыми волосами с завитком на лбу по моде времен республики, небольшими ушами и прямым, с едва намеченной горбинкой и заостренным книзу носом, и такими же мелкими, как у брата зубами. Во все время пира она не сводили с Антония блестящих влюбленных глаза и, казалось, говорила всем: «Полюбуйтесь, как прекрасен мой муж!» В отличие от Октавии, Скрибония выглядела много старше своего мужа. Черты лица ее выглядели скорее капризными, чем приятными, а фигура излишне полной, как у женщины, которая, став дважды матерью до того, как стать женой Октавия, перестала следить за своей внешностью, полагая, что она и без того неотразимо хороша. Антоний, как это с ним обыкновенно случалось на пирах, много пил и ел, требовал от музыкантов «поддать жару», поскольку они играют не на обычном пиру, а на венчании на царство его лучшего друга, а от танцовщиц не стесняться обнажать свои плоские животы и крутые бедра. Октавий, казалось, стыдился шумливости и развязности своего старшего товарища по триумвирату, превратившегося с недавних пор в дуумвират, ел мало и еще меньше пил, предпочитая всем другим напиткам ретийское вино. По-настоящему Октавий оживился, когда Николай Дамасский предложил участникам пира вопросы, которые обыкновенно задаются гостям на пирах: кто были родители Гекубы, какими были слова песен сирен, сводивших с ума моряков, как звали собаку Одиссея – единственное существо, признавшее в возвратившемся после двадцатилетнего отсутствия герое Троянской войны своего хозяина? Чем мудреннее делались вопросы Николая, тем большее число гостей выбывало из игры. Продолжали отвечать на вопросы сирийского поэта и философа одни лишь Ирод и Октавий. В конце концов победа в этой игре досталась Октавию, знания которого оказались более свежими [140]. Октавий радовался, как ребенок, и в эти минуты показался Ироду гораздо младше своих двадцати двух лет. Ирод искренне поздравил соперника с победой, а Октавий, все еще возбужденный от игры, посоветовал ему взять с собой в Иудею Николая Дамасского и продолжить свое образование, дабы при следующей их встрече не сдасться так легко.
– Я так и поступлю, – сказал Ирод, – если только сам Николай согласится сменить Рим на Иерусалим.
– Соглашусь, – снисходительно сказал сириец, – тем более, что я давно собирался посетить Иудею, да все не представлялось случая.
По окончании пира Антоний, проводив гостей, уединился с Иродом. Странным образом он был абсолютно трезв, а не бесшабашен и шумлив, каким выглядел за столом.
– Скажи, – спросил он с тоской в голосе, – как там Клеопатра, все так же хороша собой?
Ироду Клеопатра никогда не казалась красивой, скорее наоборот, и потому он, желая отвлечь Антония от мыслей о Клеопатре, сказал:
– Твоя Октавия чудо как прекрасна. Она весь вечер не сводила с тебя влюбленного взгляда.
Антония разозлили слова Ирода.
– Точно таким же телячьим взглядом она смотрела на своего покойного мужа Марцелла, от которого, между прочим, родила сына.
Ирод удивился.
– Сколько же ей было лет, когда она овдовела?
– Пятнадцать. Я ненавижу эту рыжую курицу, которая вообразила себя венецианской блондинкой. – Злость, звучавшая в голосе Ирода, снова сменилась тоской. – Но ты не ответил на мой вопрос о Клеопатре. Она скучает без меня?
– Мне показалось, что да, – соврал Ирод, вспомнив, как царица приняла его в ванне, наполненной молоком.
Антоний просветлел лицом.
– Если тебе доведется снова встретиться с нею, скажи, что я по-прежнему люблю ее, только ее одну. – Положив руку на плечо Ирода, добавил: – И вот что еще я хочу посоветовать тебе: постарайся сделать так, чтобы Клеопатра стала твоей союзницей. Втроем мы превратим Восток в цветущий край, и тогда неизвестно, будет ли Восток оставаться провинцией Рима или Рим превратится в провинцию Востока.
Это было что-то новое. Ирод не вполне понимал, говорит ли Антоний серьезно или испытывает его на верность давним союзническим обязательствам Иудеи и Рима.
– Я передам Клеопатре твои слова о том, что ты все еще любишь ее, – сказал он.
– Ее одну, – уточнил Антоний и подтолкнул Ирода в спину. – А теперь иди отдыхай, царь Иудеи. У тебя был сегодня непростой день.
Постель Ироду приготовила Ревекка. Помогая ему раздеться, она тихо спросила по-еврейски:
– Какие будут поручения, мой мелех? [141]
– Постарайся стать служанкой не столько жены Антония Октавии, сколько его самого. Я хочу знать все, о чем он думает и какие строит планы на будущее.
Часть вторая ЦАРЬ
И собрались все старейшины Израиля, и пришли к Самуилу в Раму, и сказали ему: вот, ты состарился, а сыновья твои не ходят путями твоими; итак, поставь над нами царя, чтобы он судил нас, как у прочих народов. И не понравилось слово сие Самуилу, когда они сказали: дай нам царя, чтобы он судил нас. И молился Самуил Господу. И сказал Господь Самуилу: послушай голоса народа во всем, что они говорят тебе; ибо не тебя они отвергли, но отвергли Меня, чтобы Я не царствовал над ними.
1 Цар. 8:4–7Глава первая ВОЗВРАЩЕНИЕ
1
И третью ночь Ирод провел без сна. Едва Ревекка задула свечи и вышла, плотно прикрыв за собой двери, как к нему явился Малих и, щеря окровавленный рот, сказал: «Ну что, добился своего? Радуйся, теперь ты царь Иудеи, признанный Римом. Не этого ли ты добивался с тех пор, как отец твой назначил тебя начальником над Галилеей? Да только забыл ты слова Предвечного: ”Сыны человеческие – только суета; сыны мужей – ложь; если положить их на весы, все они вместе легче пустоты” [142]. И сан твой царский – одна лишь суета, которая легче пустоты. Зато Мариамна теперь моя. Не может быть так, чтобы одному досталось все, а другим ничего. Сказано: сила у Бога, и милость у Него; воздает Господь каждому по делам его [143]. Тут же выткалась из мрака ночи Мариамна и стала ласкать Малиха, целовать его незаживающие раны, и Малих, забыв об Ироде, отвечал ей ласками и поцелуями. Захихикала, рассеяв ночной мрак светящейся изнутри кожей, Клеопатра, приблизила к лицу Ирода свой изогнутый клювом нос и зашептала ему в ухо: «Берегись, царь, отвергнутых женщин, и не думай, что Мариамна станет дожидаться тебя, пока ты носишься по миру; женская плоть нуждается в мужчине, а не в титуле, который ты выхлопотал себе в Риме». Ирод оттолкнул Клеопатру, возразил ей: «Ложь! Не за титулом я отправился в Рим, но за справедливостью. И царского сана я искал не для себя, а для шурина моего Аристовула. Зачем мне быть царем среди народа, который считает меня чужаком?». Клеопатра, продолжая хихикать, растворилась во мраке, как растворились до нее Малих с бесстыжей Мариамной, а вместо них возникли перед ним брат его Фасаил с размозженной головой и первосвященник Гиркан с откушенными ушами. «Отомсти за нас, Ирод, сделай так, чтобы отныне Антигон не знал никакого другого чувства, кроме страха, и пусть страх этот преследует его до самой лютой смерти, которую он заслужил».
Ирод, желая прогнать не дающие ему покоя видения, плотно смежил веки. Веки горели. «Уж не заболел ли я?» – подумал он, и чтобы отвлечься от тревог, на которые так щедры оказались последние месяцы, стал перебирать в памяти детали событий, приведшие его в Рим. «Чудны дела твои, Фортуна [144], – произнес он вслух, – и неисповедимы пути твои, по которым ты гонишь людей на суше и на море». Еще недавно, думал Ирод, он был сильным и богатым человеком, с которым считались все и которого побаивались те, в ком совесть нечиста. Но и самые сильные и богатые люди зависят от превратностей судьбы. Сегодня ты был всем, а завтра стал ничем, всеми гонимым бродягой, у которого в поясе не осталось ни обола, на который можно купить кружку самого дешевого кислого вина, чтобы утолить жажду, и горсть протертого гороха, чтобы утолить голод. Такого изгоя можно и о скалы разбить в бушующем море, и избить, не рискуя встретить отпор.
Вспомнив, как позавчера рабы избили его возле дома Антония, Ирод не почувствовал ни злости на них, ни желания уничтожить этих рабов. Безразличие, с каким он вспомнил об унижении, пережитом на глазах у десятков праздношатающихся римлян, удивило его самого: да тот ли это Ирод, который помчался в Иерусалим покарать Гиркана за одно только то, что тот посмел вызвать его в суд? А может, позавчера избивали совсем другого человека, забитого и вконец униженного нищетой иудея, готового ради фанатичной веры в своего Бога безропотно снести любую боль и любые оскорбления? «Поистине чудны дела твои, Фортуна, – повторил Ирод вслух, чувствуя боль в пересохшем горле, – и неисповедимы пути твои…»
Не договорив, Ирод вздрогнул, увидев прямо перед собой большие синие глаза Мариамны. В глазах этих не было ни детского озорства, ни девичьего кокетства, ни женского томления плоти, какие видел обыкновенно в глазах своей юной жены Ирод, а был один лишь расчетливый интерес. Рывком сев на постели и отшатнувшись, он заслонился рукой от Мариамны и хрипло прокричал:
– Сгинь! Зачем ты преследуешь меня? Что тебе от меня нужно? Сгинь, грязная девка!
– Мой мелех гневается на свою рабыню? – спросила его Мариамна голосом Ревекки. – Чем заслужила я гнев господина, которому готова служить верой и правдой, сколько станет сил?
Ирод откинулся на подушки. Лоб был мокрым от покрывшей его испарины. Горло болело так, как если бы его прижигали раскаленным железом. Ирод сбросил с себя одеяло и оттер тыльной стороной ладони пот.
– Я, кажется, заболел, – сказал он, узнав служанку. – Попроси Антония прислать ко мне врача.
– Климат Рима не подходит нам, – говорила Ревекка, поправляя Ироду постель и снова укутывая его одеялом. – Особенно зимой, когда город пронизывает холодный северный ветер. – Подоткнув под Ирода одеяло, добавила, пятясь спиной к двери. – Я передам Антонию твою просьбу и принесу тебе завтрак.
2
Внезапная болезнь задержала Ирода в Риме на неделю. Впрочем, неделя эта оказалась не впустую потраченным временем. Пока Ирод отлеживался в постели, выполняя все предписания, назначенные ему врачами, Антоний развернул бурную деятельность.
Без особых хлопот он добился решения сената выделить в распоряжение Ирода галльскую когорту [145]и выдать ему деньги в сумме двенадцати миллионов сестерциев, что было эквивалентно пятистам талантам. Решение это прямо вытекало из давнего постановления сената, принятого более века назад при Иуде Маккавее и продолжающего сохранять свою юридическую силу. Затем Антоний обсудил с Иродом детали предстоящей военной операции, в которой он, Антоний, намерен принять личное участие по освобождению Сирии от власти Пакора, а Ироду поручалось покончить со своим личным врагом и врагом Рима Антигоном. Речи о Клеопатре ни разу больше не возникло, как если бы ее вовсе не существовало на свете.
Между тем в Рим из Иудеи приходили самые неблагоприятные вести. Сообщалось, что Антигон продолжал осаждать крепость Масаду, в которой нашли убежище близкие Ироду люди и его сподвижники. Вся дорога, ведущая в Масаду из внутренней Идумеи, находилась под неусыпным контролем Антигона и парфян, приданным ему в помощь Пакором, все еще надеявшимся получить от своего союзника тысячу талантов и пятьсот самых красивых женщин-евреек, включая молодую жену Ирода Мариамну. Зато оставалась свободной узкая Змеиная тропа, ведущая от Соляного моря. По этой-то тропе, рискуя сорваться в пропасть, выбирались из Масады и возвращались назад лазутчики Иосифа и Аристовула. Они сообщали, что продуктов питания осажденным хватит еще по меньшей мере на полгода, но вот запасы питьевой воды тают буквально на глазах. Дошло до того, что люди стали использовать вместо воды собственную мочу. (Ирод, представив себе эту картину, содрогнулся от сострадания к своим родным и близким, и ярость, угасшая было в нем вместе с испытаниями, выпавшими на его долю в последние месяцы, вновь охватила его.)
Брат Ирода Иосиф, желая спасти прежде всего женщин и детей, отобрал двести самых храбрых воинов и в одну из ночей предпринял вылазку из Масады, чтобы спуститься в долину и наполнить водой бурдюки. Вылазка эта обошлась ему в сорок человек, нашедших смерть в пропасти. К счастью, Предвечный не оставил осажденных в крепости людей в беде: к утру в горах разразился ливень такой силы, что в считанные часы заполнил живительной влагой все опустевшие до последней капли цистерны, вырубленные в скале.
Лазутчики, продолжавшие поддерживать связь с внешним миром, сообщали, что наследник Ареты Малх, доводящийся Ироду дядей, а матери его Кипре младшим братом, раскаялся в своем отказе поддержать родственников в трудную для них минуту и теперь готов оказать осажденным в Массаде людям всю необходимую помощь, в том числе воинами. Иосиф и Аристовул приняли предложение Малха, и одновременно с фронта и тыла атаковали войска Антигона и парфян, растянувшиеся вдоль дороги, связывающей крепость с Идумеей, и нанесли им ощутимый урон. Однако эта удачная атака не сняла осады Масады и не позволила ее защитникам переправить женщин и детей в Петру. Обозлившийся Антигон стал возводить вокруг крепости стену, с которой намеревался забросать внутреннее пространство Масады камнями.
Ирод, оправившись наконец от болезни, засобирался уже в Остию, чтобы оттуда отплыть на родину, когда в Рим пришло еще одно, на этот раз радостное сообщение: Вентидий, направленный месяцем ранее Антонием в Сирию, изгнал оттуда Пакора и направлялся теперь в Иудею на соединение с Иродом, который вот-вот должен был прибыть из Рима с новыми инструкциями от Антония. Тепло простившись с триумвирами, Ирод погрузился на три триеры и, воспользовавшись тем, что шторм, будто по заказу, пошел на убыль, взял курс на Иудею. Стоя на палубе, он думал о гостеприимном Антонии и азартном молодом Октавии, который перед самым отъездом Ирода из Рима не преминул напомнить ему об их уговоре продолжить спор на лучшее знание истории. «Как только покончишь с Антигоном и восстановишь мир в Иудее, дай мне знать – я тотчас пришлю к тебе Николая Дамасского, чтобы он пополнил твои знания о древней истории».
Через двое суток корабли пристали к Птолемаиде [146], где Ирода уже ждали союзники и друзья.
3
Братья Птолемеи [147], управлявшие городом, помогли Ироду нанять войско из числа греков и бежавших сюда отчаянных молодых сорвиголов-иудеев, которых одинаково не устраивала как власть парфян, так и римлян. Этих молодых иудеев, промышлявших грабежами, греки за их фанатичную веру в Предвечного и убеждение, что одни только евреи являются избранным Богом народом, прозвали зилотами [148], которые доставят позже Ироду массу хлопот. Но это случится позже, а теперь, занятый набором войска и обучением его правилам ведения войны по римскому образцу, Ирод узнал, что Вентидий, не дождавшись его, принялся подавлять очаги сопротивления в Иудее, а Силона отправил прямиком в Иерусалим вслед за поспешившим туда Антигоном. В этой ситуации Ирод решил, что его главной задачей является снятие осады крепости Масада. Посчитав, что его новое войско с приданной ему в Риме когортой достаточно успешно прошло обучение и дальнейшие уроки освоит в ходе реальных сражений, он двинулся вдоль побережья на юг. По дороге войско обрастало добровольцами из числа иудеев, одинаково пострадавших как от произвола Антигона, не пренебрегавшего никакими насилиями, чтобы соплеменники признали его царем, так и от парфян, почувствовавшими себя в Иудее хозяевами. Ироду, не желавшему терять ни дня на пути к Масаде, пришлось на ходу обучать новобранцев военному делу. Впрочем, полностью избежать задержек в пути ему не удалось: жители Иоппии [149]отказались пропустить войско Ирода через свой город, а разведчики, двигавшиеся впереди основных сил, возвратились с сообщением, что когорты Силона оказались окружены иудеями, высланными из Иерусалима Антигоном.
Ирод приказал части своих войск осадить Иоппию, никого не впуская в нее и никого оттуда не выпуская, а сам во главе двух центурий галлов и когорты зилотов, жаждавших показать себя, каковы они в деле свержения самозванного царя, поспешил на выручку Силону. С ходу атаковав антигоновцев, он частью рассеял их, а частью взял в плен. Обратившись к пленным с кратким словом, он наказал им передать Антигону, чтобы тот угомонился наконец и вернулся в Рим, откуда бежал в тщетной надежде стать царем Иудеи, не принеся ей ничего, кроме страданий и издевательств парфян. После этого он отпустил пленных, не наказав ни одного из них, а сам вернулся под стены Иоппии. Жители города по-прежнему не желали пропустить его войско через свой город, а Ирод, в свою очередь, не хотел оставлять у себя в тылу неприятеля, готового в любую минуту ударить по его арьергарду. Тогда-то впервые в своей военной практике Иудеи Ирод применил при штурме Иоппии стенобитные орудия, без которых не обходилось ни одно сражение римлян. Пробив стену, он без потерь вторгся в город, использовав придуманный еще греками и усовершенствованный римлянами метод «черепахи» [150]. Иоппяне, прижатые к морю, запросили пощады. Ирод велел им сдать все имеющееся у них оружие и простил их, после чего, обезопасив свой тыл, поспешил в Идумею, а оттуда в Масаду.
Свою встречу с родными и близкими после многомесячной разлуки он опишет позже в дневнике. Из пересказа этого описания, сделанного Николаем Дамасским и Иосифом Флавием, мы не узнаем деталей штурма Масады, которую иудеи из числа сторонников Антигона и парфяне, конечно же, не сдали без боя по той простой причине, что им, теснимым сзади и с боков войском Ирода, попросту некуда было отступить, кроме как совершить коллективное самоубийство, бросившись со скал в пропасть. Из пересказа Иосифа Флавия, например, можно вообще сделать вывод, будто Ирод сделал это играючи, причем войско его, и без того не по дням, а по часам разраставшееся, достигло в ходе штурма Масады непомерной величины, после чего Ироду Сам Предвечный велел идти в Иерусалим, чтобы поквитаться со своим врагом Антигоном [151]. Сама логика событий, происшедших после возвращения Ирода из Рима, подсказывает, что все обстояло не так просто, как повествуют об этом историки. Эта логика, как и все то, что мы знаем об Ироде из первоисточников, включая сюда рассказы Николая Дамасского и Иосифа Флавия, рисует нам несколько иную картину, которую я и попытаюсь воспроизвести.
Прежде всего: вступив в Масаду и найдя всех своих родственников и соратников живыми и невредимыми, Ирод сбросил с себя груз тревог за их судьбу, не дававших ему покоя во все месяцы разлуки с ними, и на радостях расплакался, как ребенок. Он прижимал к сердцу свою старую мать, брата Иосифа и шурина Аристовула, долго не выпускал из объятий похудевшую жену Дорис и заметно подросшего сына Антипатра, который носился вокруг него, цеплялся за его одежды и без умолку повторял одно и то же слово: «Авва, авва!» [152], обнимал и целовал всех, кто с честью выдержал многомесячную осаду, ни на что не жалуясь и веря, что как бы трудно им не пришлось, Ирод рано или поздно освободит их. Менее радостно встретила его Мариамна, беременная вторым ребенком и не спускавшая с рук своего первенца Александра. В первые минуты она попросту не узнала Ирода: с нитями седых волос в густой шевелюре, он показался ей стариком, волею случая оказавшимся среди освободителей Масады. Настороженный взгляд молодой жены, каким она окинула его издали, не смея подойти поближе, вызвал у Ирода новый укол ревности, терзавшей его чуть ли не с первой брачной ночи. Когда Ирод подошел к Мариамне и протянул руки, чтобы взять у нее сына, Мариамна тесно прижала к груди расплакавшегося Александра и чуть ли не с ненавистью, за которой скрывался страх, посмотрела на мужа своими удивительными синими глазами.
– Неужели я так сильно изменился? – спросил Ирод.
Лишь теперь, услышав его голос, Мариамна, передав Александра своей свекрови Кипре, которая ни на шаг не отступала от сына, бросилась Ироду на шею и стала покрывать его мокрое от слез лицо поцелуями.
– Я так ждала тебя, так ждала, – говорила Мариамна, отстраняясь от Ирода, чтобы лучше его разглядеть, и снова целовала его. Потом взяла руку Ирода в свои ладони, провела ею по своему округлившемуся животу и сказала: – Нашего следующего сына я решила назвать Иродом.
– Разве тебе мало одного меня? – спросил Ирод, лаская живот Мариамны и испытывая ни с чем не сравнимую радость от толчков плода. – Назови его лучше… – Ирод посмотрел по сторонам, взгляд его остановился на шурине, отдававшего какие-то распоряжения людям, окружавшим его, и закончил прерванное предложение: – Аристовулом. Он вырастет таким же храбрым воином и надежным другом, как твой брат.
В глазах Мариамны засветилось, наконец, счастье, которого Ирод так долго ждал.
– Будь по-твоему, – сказала Мариамна, снова прижимаясь к мужу. – Мой брат заслужил, чтобы его именем был назван второй наш сын.
Когда первая радость от встречи улеглась и родные и близкие стали готовиться к отъезду, Ирод решил еще раз осмотреть крепость. Он облазил ее всю, внимательно изучая каждую постройку, каждый камень, и в память о том, что эта крепость сохранила жизни бесконечно дорогим ему людям, став им надежным домом, дал себе слово сразу после окончания войны с Антигоном возвести здесь дворец [153].
Поручив одному из двух братьев Птолемеев, сопровождавших его от самой Птолемаиды и успевших проявить себя в сражениях с самой лучшей стороны, заботу о своей семье, он отправил их в сопровождении двух когорт в Галилею, жители которой и составили основную часть его войска. Сам же во главе основной части войска поспешил в Иерусалим, за стенами которого скрылся Антигон.
4
Зима в год назначения Ирода сенатом Рима царем Иудеи выдалась затяжная. С гор дул пронизывающий ветер, приносивший с собой холодные дожди. Дороги раскисли, и в них вязли тяжелые осадные орудия, копыта коней и калиги солдат. С трудом добравшись до Иерусалима, Ирод приказал устроить в поле к западу от города лагерь, чтобы дать возможность армии передохнуть.
Отдыха, однако, не получилось: осажденные антигоновцы ночами выбирались прорытыми под землей ходами к лагерю Ирода, вырезали караульных и устраивали среди воинов переполох. Попытки воспользоваться этими ходами, чтобы проникнуть в город, закончились неудачей: антигоновцы тщательно охраняли их, и когда в запутанных ходах появлялись иродиане, они по одному убивали их, а трупы выбрасывали на поверхность для устрашения солдат Ирода.
С первыми погожими днями, когда, наконец, выглянуло солнце и земля стала просыхать, антигоновцы применили новую тактику: на стенах города была выставлена охрана, которая круглосуточно следила за всеми передвижениями иродиан, и стоило им приблизиться, как на них обрушивались тучи стрел и летели дротики. Силон предложил Ироду приступить к осаде города по всем правилам военного искусства: возвести вокруг Иерусалима насыпи, установить на них онагры [154]для непрерывного обстрела города камнями и под их прикрытием выдвинуть вперед стенобитные орудия и солдат с штурмовыми лестницами. Ирод отклонил этот план, который неизбежно приведет к массовой гибели горожан, чего он не хотел, и, в свою очередь, предложил вступить с жителями Иерусалима в переговоры. В ответ Силон лишь пожал плечами и сказал: «Ты царь, тебе и решать».
На следующее утро, едва взошло солнце, высланные к городу глашатаи обратились к охране, находившейся на стенах, со следующими словами: «Не стрелять! С вами желает говорить Ирод, сын Антипатра! Передайте всем жителям Иерусалима: с ними желает говорить Ирод!»
Обращение возымело действие, и стены города стали заполняться не только воинами, но и мирными жителями столицы. Когда Ирод, сопровождаемый Силоном, вышел из своей палатки и подошел к Иерусалиму на расстояние выпущенной из лука стрелы, стены были густо усеяны людьми, как гроздьями винограда.
– Граждане священного города! – обратился к ним Ирод. – Я явился сюда с одной лишь целью: для вашего блага и спасения Иерусалима от разрушения. Обещаю всем вам вместе и каждому в отдельности: я не таю на вас зла и прощаю вам все обиды, которые вы причинили мне и моей семье. Я прощаю даже самых отъявленных моих врагов, которые ищут моей смерти, и объявляю им амнистию. Не верьте Антигону, который обещает вам свободу. На деле он готов признать над Иудеей власть Парфии. Да будет вам известно: в обмен на поддержку парфян Антигон обещал их царю Пакору тысячу талантов и пятьсот самых красивых еврейских девушек для его гарема. Это ли вам нужно, граждане священного города, и для того ли вы растите своих дочерей, чтобы они ублажали язычников-парфян?
С крепостной стены, усыпанной народом, внимательно слушавшим Ирода, кто-то звонким мальчишеским голосом прокричал:
– Я готов поверить тебе, Ирод! Но готов поверить в одном только случае: если ты объяснишь мне, чем римляне, которых ты привел под стены нашего города, лучше парфян, которых привел в Иудею Антигон?
– Тем хотя бы, – ответил Ирод, – что римляне признают наше право жить по своим законам, уважают эти законы и требуют от других народов, чтобы и они признавали наше право жить по своим законам. Это не пустые слова. Наше право на особое положение среди других народов подкреплено решениями сената Рима, записанным на медных досках и разосланным по всем странам, и многочисленными эдиктами Цезаря и Антония.
На стене произошло движение. Ироду показалось, что слова его произвели на защитников Иерусалима должное впечатление. Но только показалось. Люди лишь раздвинулись, и на стене появился Антигон, облаченный в одежды первосвященника.
– Кого ты имеешь в виду, Ирод, – прокричал он, – говоря о «нашем праве жить по своим законам»? Уж не себя ли, идумеянина, который был и навсегда останется для нас, евреев, чужаком, чтобы не сказать проще и понятней для твоих куцых мозгов: нашим прихвостнем, которому сам Господь Бог повелел подтирать нам задницы?
Эти дерзкие слова, вызвавшие на лице Ирода краску бешенства, вызвали на стене дружный хохот. Антигон же, повысив голос, продолжал:
– Сам факт того, что я снизошел до разговора с тобой, свидетельствует, что это не ты не таишь на нас зла и прощаешь нас, а я, первосвященник и царь Иудеи Антигон, не таю на тебя зла, хотя и не прощаю тебе тех обид, которые ты причинил членам моей семьи и лично мне. Но довольно с тебя и того немногого, что я сказал, после чего мне следовало бы помыться и очистить горло от скверны, которой я замарался, вынужденный говорить с тобой. Послушай теперь меня ты, Силон, который производит впечатление умного человека, а не тупицы, вроде стоящего возле тебя истукана. Как могло случиться, что вы, римляне, славящиеся своим неукоснительным следованием законам, ниспосланным нам Предвечным, назначили царем Иудеи не только чужеземца, но и ничтожество из ничтожеств? Мало того, что назначенный вами царь ничтожество, он и царем-то не может быть признан ни при каких обстоятельствах, поскольку является сугубо частным лицом. Прошу тебя передать сенату и триумвирам слова, с которыми я обращаюсь к тебе не только от своего имени, но и от имени всех иудеев, права которых на особое положение среди других народов вы признаете и в подтверждение признания этого нашего права заключили с моими предками союзнический договор. Запомни, Силон, хорошенько эти слова, чтобы ничего не перепутать, когда ты станешь передавать их сенату Рима и триумвирам: царем Иудеи может быть только тот, в ком течет незамутненная кровь Хасмонеев. Не думай, что мне так уж необходима царская власть, с меня достаточно того, что народ признает меня первосвященником. Если вам, римлянам, поверившим наветам на меня, не угоден такой царь, как я, Антигон, прямой наследник Матаффии Хасмонея и Иуды Маккавея, то среди членов моей семьи найдется немало людей, не причинивших Риму никаких обид, которые готовы по праву крови занять царский трон в Иудее.
– Кого из членов твоей семьи ты готов назвать в качестве претендента на занятие царского трона? – спросил его Силон.
– Аристовула, внука первосвященника Гиркана, – сказал вместо замешкавшегося Антигона Ирод. – И я буду первый, кто принесет ему присягу на верность.
Антигон замахал руками.
– Не слушай, славный Силон, этого демагога и провокатора! [155]– закричал он. – Этот гнусный инородец сознательно называет имя неуча-мальчишки и своего шурина с тем, чтобы сделать его безропотным орудием в своих руках точно так же, как сделал безропотным орудием в своих руках первосвященника Гиркана его отец Антипатр.
– За эту-то, как ты говоришь, безропотность ты и откусил Гиркану уши? – насмешливо спросил Ирод. – Как они тебе на вкус? Не желаешь ли ты теперь отведать и ушей свиней [156], которые мои солдаты выбрасывают за их несъедобностью?
Гвалт и свист заглушили последние слова Ирода. Переговоры, на которые он уповал, так и не начавшись, вылились в грубую брань и оскорбления с обеих сторон. Одни лишь зилоты хранили молчание. Их одинаково не устраивали ни Ирод, шансы которого быть признанным царем со стороны иудеев были призрачно малы из-за его происхождения, ни тем более Антигон, который ради завладения царским престолом готов продаться язычникам. Настороженность зилотов не осталась без внимания Ирода. Тем временем Антигон приказал защитникам Иерусалима отогнать противника от стены стрельбой из луков. Ирод, в свою очередь приказав своим солдатам ответить на стрельбу с крепостной стены встречной стрельбой, сказал Силону: «Ты оказался прав. Начинаем возводить насыпи и устанавливать на них онагры».
5
Теперь, однако, заартачился Силон. Он заявил, что из-за намерения Ирода вначале вызволить из заточения в Масаде свою семью, а уж потом навести порядок в стране, зимняя кампания непомерно затянулась и вверенные ему когорты устали. Своего командира поддержали солдаты. На митинге, стихийно возникшем в лагере, они стали жаловаться на скудость питания, непогоду и опостылевшую жизнь в палатках. Римлян поддержали наемники-греки. «Сколько можно мерзнуть в открытом поле, которое Антигон полностью разорил? – спрашивали они. – Здесь не найти ни чего бы то ни было съестного, ни людей, у которых это съестное можно купить». Центурионы выставили дополнительное требование: или Ирод снимает осаду Иерусалима и отводит войско на зимние стоянки впредь до наступления погожих дней, или они сами, не дожидаясь приказа, покидают его. Одни лишь иудеи из числа зилотов, которым также опостылела неопределенность в исходе затянувшейся войны, настаивали на скорейшем штурме столицы и свержении самозванного царя Антигона, но они оказались в явном меньшинстве.
Ирод, выслушав всех, выступил с ответным словом.
– Солдаты! – обратился он к митингующим. – Хочу напомнить всем вам, и прежде всего тебе, Силон, что вы находитесь здесь не по моей прихоти, а выполняя приказ сената и триумвира Марка Антония, на котором лежит ответственность по восстановлению мира и порядка на Востоке. До тех пор, пока в Иудее будут хозяйничать парфяне и их ставленник Антигон, вы обязаны подчиняться мне. Ваши жалобы и ваши требования ко мне я считаю обоснованными. Не потому, что вы угрожаете мне самовольным уходом из-под стен Иерусалима – конечной цели войны за освобождение Иудеи от захватчиков, – а потому, что ваши жалобы и требования справедливы. Слушайте же меня, солдаты! Я обязуюсь в ближайшие дни позаботиться о вашем благополучии и доставить вам в изобилии все, в чем вы нуждаетесь. Если я не выполню этого своего обязательства к началу следующей недели, я разрешаю вам покинуть меня. А теперь разойдитесь и займитесь наведением порядка в лагере.
Распустив войско, Ирод вызвал в свою палатку одного из двух Птолемеев, который командовал наемниками, своего брата Иосифа и шурина Аристовула. Птолемею он приказал вернуться в Птолемаиду и нанять там дополнительные силы на случай, если находящиеся под его началом греки взбунтуются, причем позаботиться о том, чтобы эти дополнительные силы были снабжены всем необходимым и в ближайшие месяц-два не испытывать ни в чем нужды. Иосифу он вручил письмо, адресованное своим союзникам и друзьям в Самарии, с просьбой срочно собрать и доставить в Иерихон скот, хлеб, вино и оливковое масло. Аристовулу же Ирод приказал возглавить отряд зилотов и отправиться с ним в города и деревни Иудеи, где приобрести у местного населения продукты питания и фураж для лошадей.
О приказе Ирода каким-то образом прослышал Антигон и незамедлительно выслал из Иерусалима в окрестности Иерихона вооруженные отряды с целью перехватить обоз, который надлежало доставить в город из Самарии Иосифу. Ирод не стал доискиваться, кто из его ближайшего окружения оказался предателем, отложив решение этого вопроса на более удобное время, а во главе десяти когорт римлян, иудеев и наемников кинулся вдогонку за антигоновцами.
Жители Иерихона, прослышав о приближении войск Антигона и Ирода, покинули город, оставив в нем не более пятисот мужчин, которые не могли бежать по причине того, что на их руках оставались глубокие старики, больные, жены и дети. Ирод, вступив в Иерихон, велел всем им оставаться в своих домах, приставив к ним охрану, чтобы никто не посмел обидеть их, а римляне, рассыпавшись по городу, занялись грабежами опустевших жилищ, торговых лавок и мастерских ремесленников. Тщетно призывал их Ирод к порядку – римляне при его приближении делали вид, что прогуливаются по улицам Иерихона в поисках людей, которые могли бы продать им в качестве сувениров какие-нибудь поделки с местным колоритом, а по его удалении продолжали переворачивать вверх дном все, что ни попадалось им на глаза. Выловив и уничтожив в окрестных горах сторонников Антигона, Ирод вернулся в Иерихон, встретил обоз, прибывший из Самарии в сопровождении Иосифа, и, оставив значительную часть скота и продовольствия в городе под ответственность когорты иудеев, с остальной частью обоза и девятью когортами возвратился под стены Иерусалима.
За недолгое отсутствие Ирода в лагере началось повальное пьянство. Вино солдатам в неограниченном количестве поставляли иерусалимцы, уговаривая их отойти от Ирода и примкнуть к Антигону. На вопрос Ирода, обращенный к Силону, как он, опытный воин, мог допустить массовое нарушение дисциплины, римлянин, сам в дымину пьяный, лишь часто моргал, улыбался и лопотал что-то несвязное про необходимость дать людям возможность немного расслабиться, отогреть если не души, то желудки, и предлагал Ироду разделить с ним его стол, благо вина с прибытием части обоза из Самарии стало хоть залейся, да и с питанием отныне они не будут знать нужды.
– Ты настоящий мужчина, – говорил Силон, пытаясь обнять Ирода. – Уважаю людей, которые держат свое слово.
С таким войском нечего было и думать о штурме Иерусалима. Ирод по некотором размышлении принял решение отправить римлян на зимние квартиры в верные ему Идумею и Самарию. Иосифу же во главе двух тысяч пехотинцев и четырехсот всадников он поручил взять под контроль Лидду, жители которой объявили себя сторонниками Рима, но противниками Ирода в силу его низкого и чужеродного происхождения. Сам же Ирод, свернув лагерь, отправился с основной частью войска в Галилею, главные города которой объявили о своем отложении от Рима, союзе с Парфией и поддержке Антигона.
Глава вторая ИСПЫТАНИЕ УНИЖЕНИЕМ
1
На излете зимы, когда зацвел миндаль [157]и природа, казалось, вот-вот пробудится от спячки, вдруг повалил снег. Он шел густыми хлопьями, за которыми в трех шагах от себя ничего нельзя было разглядеть. Ирод отпустил поводья и, натянув на голову капюшон плаща, ехал, покачиваясь в седле в такт шагам лошади. Мысли его были грустны. Удача отвернулась от него. Порой Ироду казалось, что над ним довлеет проклятье. Вот только кто и за какие прегрешения проклял его? Чем провинился он перед Предвечным? Цепкая память Ирода подсказала ему стихи, зацепившиеся за краешек сознания еще в детстве: «Проклят, кто сделает изваянный или литой кумир, мерзость пред Господом, произведение рук художника, и поставит его в тайном месте. Проклят злословящий отца своего и мать свою. Проклят нарушающий межи ближнего своего. Проклят, кто слепого сбивает с пути. Проклят, кто превратно судит пришельца, сироту и вдову. Проклят, кто ляжет с женой отца своего, ибо он открыл край одежды отца своего. Проклят, кто ляжет с каким-либо скотом. Проклят, кто ляжет с сестрою своею, с дочерью отца своего или дочерью матери своей. Проклят, кто ляжет с тещею своею. Проклят, кто тайно убивает ближнего своего. Проклят, кто берет подкуп. Проклят, кто не исполнит слов закона сего и не будет поступать по ним». Ни один из этих грехов не лежит на душе Ирода. Так за какие грехи и кто проклял его?
Та же память напомнила Ироду, с какой настороженностью встретила его в Масаде Мариамна, точно бы увидела не мужа своего, но врага, а когда Ирод напомнил ей, ктó стоит перед ней, вдруг смутилась и, забыв о приличествующей каждой еврейской женщине скромности, кинулась ему на шею и прилюдно стала целовать и ласкать его. Не будь Мариамна беременна, она, вероятно, тут же и отдалась бы ему, чтобы дать выход своей страсти, которая, судя по ее темпераменту, клокочет в ней от самого рождения.
Ирод поморщился, сердясь на себя за свои фантазии. Ревновать жену к самому себе – что может быть более вздорного? И точно бы в отместку ему за его нелепые фантазии из снежной пелены выткался скалящийся Малих. «Ты ищешь того, кто проклял тебя? – спросил он. – Я тебя и проклял. Некому больше, как только мне, ненавидеть тебя и весь твой презренный род. И отца твоего убил я, и брат твой Фасаил размозжил себе голову о камни темницы потому только, что и на нем лежит мое проклятие. Не будет тебе нигде сна и покоя, я всюду буду преследовать тебя до самого твоего смертного часа».
Сказав так, Малих растворился в белой мгле, а Ирод, к которому вернулась ясность сознания, подумал: ну конечно, Малих и проклял меня за то, что я встал на его пути и не дал ему осуществить свой план стать царем Иудеи.
– Ты, Малих, и подготовил все для того, чтобы стать царем, – произнес вслух Ирод. – Предал моего отца, манипулировал стариком Гирканом, завел себе глаза и уши в доме Антония, превратил синагоги в опорные пункты послушной тебе армии. И дело тут не в том, что о твоих планах проболтался трусливый, как заяц, старейшина самарийской синагоги Авизер. Рано или поздно я и сам бы проведал про твои планы. На твою беду, это случилось рано. Случись такое позже, ты завладел бы и моей женой Мариамной, чтобы уже полностью не только стереть мой род с лица земли, но и уничтожить самую память о нас…
Мысли Ирода прервал Диофант, назначенный недавно за красивый почерк писарем войска.
– Ты что-то приказал мне? – спросил он, подъезжая к Ироду. – Будь добр, повтори свои слова, за этой вьюгой я ничего не расслышал.
– Нет, ничего, – ответил Ирод. – Оставь меня одного.
Диофант придержал своего коня, и Ирод снова остался наедине со своими мыслями и не перестающим валить хлопьями снегом. Надвинув капюшон плаща еще ниже на лицо, он попытался вернуться к прерванному разговору с Малихом, но мысли его смешались и нить разговора оборвалась.
Снег прекратился так же внезапно, как и начался. Но он почему-то не таял на пробуждающейся после зимней спячки земле, на которой уже зазеленела молодая трава. Ироду вспомнилось далекое детство в родной Идумее, когда он вместе с братьями и соседскими мальчишками лепил снежки и устраивал веселые сражения. Он откинул с головы капюшон и спешился, чтобы, как в детстве, слепить снежок и запустить им в кого-нибудь из своих товарищей. Наклонившись, он сгреб было в ладони белый покров и только теперь понял, что это не снег, а лепестки цветов миндаля, разнесенные ветром. Воины Ирода, объезжая его, с недоумением смотрели на командира. Ироду стало грустно. Снова взобравшись на коня, он подумал: нет, не прав был мудрый Соломон, говоря: «Что было, то и теперь есть, и что будет, то уже было; и Бог воззовет прошедшее». Прошедшее не вернешь. Чему надлежало быть, то стало, а что стало, то отошло к безвозвратному прошедшему.
2
Разведчики, вернувшиеся из Галилеи, сообщили, что гарнизоны, верные Антигону, при известии о приближении армии Ирода стали один за другим покидать города, где были расквартированы, и стягиваться в Сепфорис. Столицу Галилеи, надежно укрепленную еще Иродом в бытность его областеначальником, иудеи и парфяне решили укрепить второй обводной стеной, возведенной внутри города. Значительная часть иудеев, от услуг которых Антигон отказался в силу их возраста и обремененности семьями, покинула города, оставленные до них находившимися там гарнизонами, и попряталась в пещерах, где некогда находили приют разбойники Езекии.
Ирод слушал доклад разведчиков вполуха: он слишком хорошо знал Сепфорис и пещеры в горах, чтобы строить какую-то особую тактику по их покорению. Единственный вопрос, который его интересовал, был один:
– Где Антигон? Мне известно, что он покинул Иерусалим тотчас вслед за нами и находится теперь в Галилее.
Но как раз на этот главный для Ирода вопрос разведчики не могли дать точного ответа. Предположительно, сказали они, Антипатр находится под надежной защитой парфян, но вот где именно, этого не знает никто.
– В качестве царя Иудеи или заложника? – спросил Ирод. Он знал, что Антигон так и не выплатил парфянам обещанные тысячу талантов и пятьсот самых красивых женщин-евреек, и потому парфяне будут стеречь его как зеницу ока до тех пор, пока не получат с него сполна обещанное.
– Это нам не удалось выяснить, – был ответ разведчиков.
Как ни были утомлены солдаты дальним переходом и непогодой, Ирод приказал войску двигаться быстрым шагом. Короткую остановку он сделал в Самарии, где находились на отдыхе направленные туда из-под Иерусалима римляне. Силон опять был пьян. Встретившись с Иродом, он стал жаловаться:
– Твой Антигон ничтожество и лгун. Обещал взять нас на полное довольствие, а сам выдал нам продовольствие всего на один месяц и не заплатил ни обола.
Слова эти насторожили Ирода.
– Разве вина и продовольствия, которым снабжает тебя мой брат Иосиф, недостаточно, чтобы римляне ни в чем не знали нужды? – спросил он.
– Вино, которое выдал твой брат, давно кончилось, а продовольствие, которое он прячет от нас в Иерихоне, поступает к нам с большим опозданием, – ответил Силон. – Поэтому я и принял предложение Антигона, а он, гад, обманул меня.
Продолжать разговор с предателем было бессмысленно. Собираясь уйти, Ирод сказал:
– Если мне удастся свидеться с Антигоном, я передам ему твое неудовольствие.
– Непременно передай! – подхватил Силон, не заметив в тоне Ирода издевки. – И добавь, что если он и дальше будет обманывать меня, я снова соединюсь с тобой, и тогда пусть он не ждет от меня пощады.
Ирод брезгливо посмотрел на Силона.
– Проспись, полководец, – сказал он и вышел на свежий воздух.
«Вот оно, проклятие Малиха, – думал он, возвращаясь к своему войску. – Меня готовы предать все: и иудеи, и римляне».
Нигде больше не задерживаясь, Ирод покинул Самарию и вступил в до боли знакомую ему Галилею. По-видимому, при своем продвижении армия Ирода производила слишком много шума, в результате чего Сепфорис оказался брошен. Парфяне бежали в Сирию, а иудеи рассеялись по окрестным горам. Внутренняя крепостная стена так и не была достроена; всюду были навалены камни, которых не коснулся резец рабочих. Для Ирода так и осталось неизвестным, где скрывается Антигон или прячут его парфяне.
Войско врага с такой поспешностью покинуло город, что оставило в нем огромные запасы продовольствия. Ирод приказал командирам разместить солдат в брошенных домах, а сам отправился в свою резиденцию. Дворец, некогда поражавший гостей своим великолепием, являл теперь жалкое зрелище. Мозаичные полы в крытом дворе были выломаны, а бассейн завален всякой рухлядью. Полы в атрии и мебель во всех комнатах частью сожжены, частью изрублены мечами и топорами. У мраморных скульптур были отбиты головы и конечности, некоторые превращены в осколки, разбросанные по всему дому, а у тех, что уцелели, были отбиты носы. Дубовые панели, некогда украшавшие стены, были ободраны, а оголившиеся стены разрисованы и исписаны скабрезностями. Самое же омерзительное состояло то, что весь дом был заполнен нечистотами, от которых исходила невыносимая вонь.
«Варвары, – думал Ирод, осматривая дом, и удивлялся самому себе: он не испытывал к тем, кто хозяйничал в его доме, ни ненависти, ни гнева. Он вспомнил, какое убогое зрелище явил собою Рим, в котором десятки лет, ушедшие на гражданскую войну, ничего не строилось. – Когда я покончу с Антигоном, первое, что сделаю, это отстрою заново все города Иудеи. Красота должна окружать людей с детства. Иначе они никогда не научатся ценить прекрасное».
При мысли об Антигоне Ирода снова охватила тоска. Где он скрывается, как найти его, чтобы поквитаться с ним разом за все страдания и разрушения, которые он принес стране, за смерть тысяч и тысяч людей, и прежде всего за смерть брата его Фасаила? Неужели Иудея так и будет все воевать и воевать, точно бы жители ее задались целью поскорей приблизить время, когда исполнится реченое Предвечным: «Города ваши сделаю пустынею, и опустошу святилища ваши, и не буду обонять приятного благоухания жертв ваших. Опустошу землю вашу, так что изумятся о ней враги ваши, поселившиеся на ней. А вас рассею между народами, и обнажу вслед вас меч, и будет земля ваша пуста и города ваши разрушены» [158].
Тоска, охватившая Ирода, сменилась усталостью. Все пережитое им за последние месяцы не прошло бесследно. И он, и войско его нуждались в отдыхе. В конце концов, подумал Ирод, они заслужили этот отдых. В сердцах людей, бесконечно занятых войной, поселяется злоба. А злоба в мирное время, не находя выхода, оборачивается против ближних. Этого нельзя допустить. Разве не затем сенат Рима объявил его царем, чтобы он принес Иудее мир и благоденствие?
На следующий день Ироду доставили письмо от матери. Прочитав его, Ирод решил, что письмо это продиктовал матери Сам Предвечный, чтобы он мог забыть на время о войне. Поручив командование войском Птолемею и наказав ему не ввязываться без крайней нужды ни в какие вооруженные стычки, чтобы дать возможность солдатам хотя бы на время забыть о войне, Ирод, ознакомившись с содержанием письма состарившейся Кипры, собрался в дорогу.
3
«Мать твоя Кипра, – читал и перечитывал письмо матери Ирод, – шлет тебе благословение свое и пожелание здоровья. Теперь, после смерти отца и брата твоего Фасаила, ты остался в нашей семье за старшего. Понимаю, что тебе нелегко сейчас, да только кому в наше время легко? Иосиф пишет, что ты поручил ему вразумлять непокорных, дабы народ следовал указаниям не властителей-корыстолюбцев, коих развелось великое множество, а слушался наставлений одного лишь закона, который дан нам свыше и сокрыт в членах и сердцах наших. Еще незабвенный отец твой и мой муж Антипатр, да не иссякнет добрая память о нем, любил повторять, наставляя на путь истинный Гиркана: “Когда страна отступит от закона, тогда много в ней начальников; а при разумном и знающем муже она долговечна”. Не послушал его Гиркан, и вот результат: пока был жив отец твой и мой муж Антипатр, одолели они властолюбивого брата его Аристовула, а не стало отца твоего и моего мужа, поглумился над безвольным Гирканом нечестивый племянник его Антигон. Послушай же теперь меня ты, сын мой, которого я выносила в чреве моем и вскормила молоком из сосцов моих: постигнет и нашу семью горестная судьба Хасмонеев, если не станет слушаться наставлений старшего в нашем доме, коим остался теперь ты, человек, уважаемый даже в Риме. Сестра твоя Саломия уже взрослая, в прошлом месяце исполнилось ей шестнадцать лет, а не хочет она выходить замуж за человека ученого, хотя и увечного с детства, когда упал с лошади и повредил ногу свою. Вразуми сестру свою, объясни ей, что лучше увечье физическое, чем душевное. Ничего дурного не могу сказать о жене твоей Дорис: почитает она меня, как родную мать, слушается во всем и во всем помогает. А вот Мариамна, которая не сегодня – завтра родит второго ребенка, выказывает нрав Хасмонеев. Относится ко мне так, будто я не свекровь ей, а рабыня, которой помыкают. Но ведь и рабыню можно любить, как полюбил нашу рабыню-италийку младший брат твой Ферора. Перед людьми стыдно, глядя, как милуется с этой рабыней младший сын мой, как будто мало ему свободных женщин. И слышать не хочет ни о ком, кто одарит его счастьем, а меня внуками. Может, не следовало мне писать тебе про все мои горести, да только с кем же я могу поделиться, как не с тобой, на которого, как на старшего в нашей семье, мне только и остается уповать? Прости, если что не так написала. Писать письма я не приучена, а приказать материнскому сердцу молчать и дальше нет больше сил моих. Об одном прошу тебя, сын мой: если представится случай – приезжай, соскучилась я по тебе очень. Да и послушаться твоего совета мне, старой, будет полезно, а всем остальным в нашем доме необходимо, ибо мир в семье зиждется на исполнении приказаний старших».
Письмо это, по-женски бестолковое и по-женски же искреннее, взволновало Ирода. Кто этот увечный ученый, за которого мать сватает Саломию, и почему сестра не хочет выйти за него замуж? С какой радости-печали влюбился в рабыню Ферора и какие планы на будущее строит с нею? Молодчина Дорис, что слушается во всем свекровь. А какая шлея угодила под хвост Мариамне? Капризы ли это молодой женщины, находящейся на сносях, или тут что-то другое?
Ирода, прибывшего в Идумею с небольшим отрядом кавалеристов, встретили на этот раз не с той радостью, с какой встретили в Масаде. Ферора, знавший уже со слов матери, что она написала Ироду о его связи с рабыней-италийкой, демонстративно вышел встретить брата вместе со своей любовницей («Красивая», – отметил про себя Ирод, обнимая младшего брата). Куксилась и Саломия, держась подальше от калеки с приятным лицом, который прятался за спину Кипры, чтобы скрыть свое увечье, и виновато смотрел на Ирода. Мариамна нарочно выпятила и без того огромный свой живот, будто хотела показать Ироду, кому он теперь должен отдавать предпочтение в доме. Одна только Дорис, заметно похорошевшая после того, как сбросила с себя лишний вес, откровенно радовалась приезду Ирода. Бросилась ему на шею на виду у всех, как это сделала при освобождении Масады Мариамна, тесно прижалась к нему всем телом и шепнула на ухо: «Господь свидетель, как истосковалась моя плоть по твоим ласкам». Из-за плеча Дорис Ирод увидел, как потемнели большие синие глаза Мариамны, в которых ему почудилась не ревность, а злость. Одного этого взгляда Мариамны Ироду было достаточно, чтобы догадаться: разлад в семье начался из-за раскола среди женщин. И чтобы в семье снова воцарился мир, ему следует начать с примирения женщин.
Свою первую ночь Ирод провел с Дорис в благодарность за то, что та поддержала его мать. Дорис ничуть не изменилась за прошедшие годы: была все такой же лениво-грациозной, как на пиру в доме Секста, где пленила Ирода своим танцем, и такой же неподвижно-послушной, как в их первую ночь, когда Секст приказал евнуху приготовить для них постель. Ирод, сам истомившийся по женской плоти, жадно набросился на Дорис, а та, жарко дыша ему в лицо, была пленительно-расслабленной, возбуждая его своими сладострастными стонами. Наутро, за завтраком, Ирод насмешливо смотрел на Саломию, которая демонстративно отворачивалась от калеки, предназначенного матерью ей в мужья, и через стол громко переговаривался с ним, находя его все более и более интересным собеседником.
Этому калеке, которого, как и третьего брата Ирода, звали Иосифом, было на вид лет тридцать. Был он родом из вавилонских евреев и действительно оказался ученым. Несмотря на увечье, он объехал множество стран, зарабатывая на жизнь врачеванием, и параллельно изучал нравы и обычаи населявших эти страны народов. Эти поездки навели Иосифа на мысль углубленно заняться вопросами религии. Тогда он вернулся в Вавилон, где стал учеником Гиллеля [159], снискавшего славу глубокого знатока и толкователя Священного писания. Гиллель и посоветовал Иосифу отправиться в Иудею, где его любознательность и опыт врача могут найти полное удовлетворение.
– Итак, ты ученик Гиллеля? – спросил Ирод.
– Не только, – ответил Иосиф, – своими учителями я считаю также Гиппократа [160]и Платона [161].
Такой ответ чрезвычайно заинтересовал Ирода, который сам был большим почитателем всего греческого.
– Любопытно, – сказал он. – Не будешь ли ты так любезен, чтобы растолковать нам, какая может быть связь между Гиллелем, Гиппократом и Платоном?
– Самая прямая! – воскликнул Иосиф, и лицо его, до той поры хранившее выражение виноватости, стало одухотворенным. – Большая ошибка думать, будто всеми нашими поступками управляет промысел Предвечного. Будь это так, люди не совершали бы дурных поступков, а творили бы одно только добро. Но разве это так? Разве милость Предвечного к нам, Его созданиям, не простирается столь далеко, что Он предоставил нам право самим решать, что есть благо в этом мире, а что зло, и самостоятельно выбирать, встать ли нам на сторону добра или зла? Добродетельный человек не станет поступать дурно. Но тут встает другой вопрос: а что есть добродетель? Сократ [162]учил: добродетель есть знание. Невежественный человек не может быть добродетельным. При этом, правда, он не обязательно должен стать злым. Невежественный человек подобен животному. Можно ли назвать волка злым за то только, что он питается овцами, а овец добродетельными за то, что они едят траву, а не плоть? Такими их создал Предвечный и они таковы, какие есть: не добродетельные и не злые, а просто неразумные твари…
Ирод внимательно слушал Иосифа, одновременно наблюдая за реакцией на его рассказ сидящих за столом женщин. Мать его, Кипра, смотрела на Иосифа с обожанием и время от времени бросала на Ирода взгляд, в котором читалось: «Разве я не права? Разве избранник, за которого я сватаю дочь мою и сестру твою Саломию, не достоин войти в нашу семью?» Саломия, напротив, сидела насупившись, ничего не ела и весь ее вид говорил о том, что, будь ее воля, она вышла бы из-за стола и ушла куда подальше, только бы не находиться в обществе умничающего калеки. Дорис, напротив, беспрерывно жевала, рассказ Иосифа ее мало интересовал, она время от времени облизывала пальцы, выпачканные жирны мясом, и, заметив на себе взгляд Ирода, виновато улыбалась. «Не осуждай меня; после ночи блаженства, которое ты подарил мне, я страшно проголодалась», – читалось в ее взгляде. Зато Мариамна была само внимание. Она, как и Саломия, ничего не ела, неотрывно смотрела на Иосифа, ловя каждое его слово, и в больших синих глазах ее Ироду чудился не просто интерес к тому, что говорил калека, а обожание.
Между тем Иосиф, польщенный вниманием к нему Ирода, увлеченно продолжал. Мысль его уносилась в далекое прошлое, чтобы рассказ его был более понятен слушателям, перескакивала на современное положение дел, а от современности переходила к частностям, в которых объединялось прошлое и настоящее. Заговорив о природе возникновения самобытности евреев, он вспомнил Манефона [163], который первым из историков древности изложил свой взгляд на евреев как народ, оформившийся в Египте. От Манефона Иосиф перешел к рассказу о типах различных народов, среди которых ему довелось жить, а от типов народов к индивидуальным особенностям людей внутри каждого из этих народов.
– Мне довелось изгнать беса из одной девушки обыкновенной валерианой, – похвастал он. – После этого ко мне стали относиться как к чародею, а между тем все дело заключалось в том, что тó, что несведущие люди называют одержимостью бесами, мы, врачи, называем нарушением пропорций телесных соков в организме человека.
Заявление это вызвало живой интерес за столом. Одна только Саломия, поморщившись, пробурчала:
– Какая глупость.
– Глупость? – удивился Иосиф. – Но разве ты станешь отрицать, что одни люди горячи, а другие холодны, одни легко возбудимы и все их чувства выплескиваются наружу, а другие сдержанны и чувства их спрятаны глубоко в них, одни восприимчивы к страданиям ближних своих, а других эти страдания оставляют равнодушными? Так вот, девушка, из которой я якобы изгнал бесов, была просто-напросто легко возбудимой, которая остро пережила смерть своего брата.
– Совсем как наша Саломия, – вздохнув, сказала Дорис, и принялась за фрукты.
– На себя посмотри! – огрызнулась Саломия.
– Но какое все это имеет отношение к тому, чему ты научился у своих учителей? – спросил Ирод.
– Самым непосредственное, – подхватил Иосиф. – Иудаизм – это религия добра и братского единения людей. Наши предки не сразу пришли к пониманию Предвечного, имена Которому, как учит нас Священное писание, Благ и Праведен, Истинен и Свят, Вечен и Непостижим, Всеведущ и Премудр, Ненавидящий зло и Хотящий спасения всех, одним словом – Любовь. Трудно поверить, но были времена, когда наши предки, как и родственные им народы, поклонялись другому верховному богу по имени Эл, который управлял советом богов. Были среди этих богов богини-женщины и боги-мужчины: великая владычица и праматерь всех богов супруга Эла Ашера, богиня любви и плодородия Астарта, бог земли Баал. Были среди сонма богов и каждый год умирающий и вновь воскрешающий бог урожая Таммуз, богиня-охотница и воительница Анатбетэль. Всем этим богам вместе взятым и каждому из них в отдельности люди молились и приносили им жертвы. Еще при последнем царе Иудеи Седекии на улицах Иерусалима можно было увидеть сцены, о которых Предвечный сказал так: «Дети собирают дрова, а отцы разводят огонь, и женщины месят тесто, чтобы делать пирожки для богини неба и совершать возлияния иным богам, чтоб огорчать Меня» [164]. А что такое «священный брак», как не оргии, которые устраивали обнаженные мужчины и женщины на свежевспаханной земле, а потом, усаживаясь в круг, ели мясо козленка, сваренного в молоке его матери? [165]Но самое непостижимое состоит в том, что наши предки приносили богам в жертву своих первородных сыновей [166]. От всех этих мерзостей иудеи сегодня избавлены. Но как им избавиться от движения соков внутри себя, которые делают разных людей не похожими один на другого? Только усилием собственной воли, которой наделил каждого из нас от рождения Предвечный, предоставив нам возможность самостоятельно делать выбор между добром и злом. Но и здесь Предвечный не забыл о нас, и здесь Он пришел нам на помощь, поселив в наши души страх. Меня долго занимал вопрос об обязательном соблюдении иудеями субботы [167]. Почему этот праздник так необходимо соблюдать, разве праздновать или не праздновать тот или иной день не зависит от свободной воли каждого из нас? Ребенком я горько плакал над участью человека, который собирал дрова в субботу и за то был приговорен к смерти. Мне чудилось, что у человека этого тяжко заболел такой же ребенок, каким был я, и чтобы не дать ему умереть от голода, он решил приготовить ему немного горячей пищи. А человека этого, даже не поинтересовавшись, зачем ему понадобились дрова в субботний день, взяли и убили [168]. Лишь став много старше я понял: любой человек, нарушивший повеления Предвечного, подлежит смерти. Страх перед неминуемой карой – вот лучший способ отвратить человека от греха и сделать его счастливым. Страх, с которого начинается любая дисциплина – будь то послушание родителям своим или исполнения воли властей – лежит в основе идеального государства Платона, и этот же страх формирует идеальных людей [169]…
Время приближалось к полудню, когда Ирод вышел из-за стола и, обращаясь к Иосифу, сказал:
– Ты оправдываешь свое имя [170]. Мы еще побеседуем с тобой о многом, что известно тебе и что интересует меня. – Обратившись к матери, добавил так громко, чтобы его услышали все: – Эм [171], ты решила выдать дочь свою и сестру мою Саломию замуж за Иосифа. Да будет так! Ты, Дорис, поможешь матери подготовить все необходимое к свадьбе. Свадьбу сыграем через неделю.
Лицо и шея Саломии покрылись красными пятнами. Однако возразить решению брата она не посмела.
4
Ночью Ирод вошел к Мариамне. Та уже лежала в постели, но еще не спала. Распущенные волосы ее рассыпались по подушке, большие синие глаза удивленно смотрели на мужа.
– Скажи, ты хорошо знала Малиха? – спросил Ирод, устраиваясь в кресле в тени спальни.
– Знала, – ответила Мариамна, не понимая, к чему клонит муж.
– Я спрашиваю, хорошоли ты его знала?
– Можно сказать и так: да, я хорошо его знала.
– А он тебя?
– Малих был частым гостем в доме моего деда.
– Он любил тебя?
– Любил.
– А ты его?
– И я любила Малиха. Он баловал меня, угощал сладостями, играл со мной.
– И ласкал?
– И ласкал. Он часто брал меня на руки, кружил меня, мне доставляло это удовольствие. Я даже ревновала его, когда он также развлекал других детей в доме. Например, моего брата Аристовула.
– Он целовал тебя?
– Конечно. Все взрослые целуют детей, когда играют с ними.
– А ты?
– Что я?
– Ты тоже целовала Малиха?
Глаза Мариамны потемнели. Она догадалась, к чему клонит Ирод, устроив посреди ночи этот нелепый допрос.
– Ты хоть представляешь, сколько лет мне было, когда Малих играл с нами, внуками и внучками Гиркана?
– Ты не ответила на мой вопрос.
– Целовала, – с вызовом ответила Мариамна. – Разве тебя не целуют маленькие девочки, когда ты играешь с ними? Или ты настолько очерствел сердцем, что уже не берешь на руки маленьких детей?
– Тебя опечалила смерть Малиха?
– Я устала и хочу спать.
– Опечалила или нет?
– Опечалила.
– И ты плакала?
– Не помню. Кажется, плакала. Смерть близких всегда огорчает.
– Ты хочешь сказать, что была близка с Малихом?
Мариамна села на постели.
– Послушай, Ирод, зачем ты задаешь мне эти нелепые вопросы? Что ты хочешь выведать?
– Я просто беседую с тобой.
– Я слишком устала за сегодняшний день, мне необходимо отдохнуть и хорошенько выспаться. Не забывай, что у меня со дня на день появится сын. Твой сын, Ирод.
– Я знаю об этом. Но сейчас я хочу узнать другое.
– Что именно?
– Я хочу узнать, от чего ты устала. Я, кажется, не слишком обременяю тебя?
– Не слишком. В этот свой приезд ты решил обременить Дорис, проведя вчерашнюю ночь с нею.
– Дорис жена моя.
– А я?
– И ты мне жена.
– Почему же ты вчера пришел не ко мне, а к Дорис? Ты любишь ее больше меня?
– Ты ждешь второго ребенка, а у Дорис только один сын.
– Это потому, что она стала неплодна.
– Это потому, что я, взяв тебя в жены, ни разу не вошел к ней.
– Прежде, чем жениться на мне, ты четыре года жил с Дорис. Но она почему-то так ни разу больше и не забеременела. А ко мне ты вошел всего дважды, и оба раза я понесла от тебя.
– Ты стала рассуждать, как врач. Наслушалась рассказов Иосифа?
– Теперь ты станешь допрашивать меня, как я отношусь к жениху Саломии?
– Он тебе нравится?
– Нравится. Как, к слову сказать, нравится твоей матери. Будь Саломия хоть чуточку умней, она вышла бы за Иосифа замуж, не дожидаясь твоего приезда.
– Саломию удерживало от замужества то, что у Иосифа покалечена нога.
– Для того, чтобы иметь детей, от мужа не требуются здоровые ноги.
– А ты бы вышла замуж за Иосифа?
– Должна ли я понимать твой вопрос таким образом, что ты забыл, что я уже замужем?
– Нет, я не забыл об этом. Но ты опять не отвечаешь на мой вопрос. Вышла бы ты замуж за калеку, если бы была свободна?
– Ты имеешь в виду вообще калеку или конкретно Иосифа?
– Иосифа.
– Если бы я не была твоей женой, то за такого человека, как Иосиф, я бы вышла замуж. Ты хотел услышать от меня такой ответ?
– Я и сам не знаю, чего я хочу, а чего нет, – ответил Ирод и поднялся с кресла.
– Ты уходишь? – спросила Мариамна.
– Да, время позднее.
– Ты не останешься сегодня со мной? – В тоне Мариамны послышались просящие нотки. Ирод почувствовал прилив нежности к этой молодой красивой женщине.
– Тебе нужно отдохнуть. Не сегодня – завтра ты разрешишься от бремени. Роди мне второго сына. Мы назовем его в честь твоего брата Аристовулом. Тебе нравится это имя?
– Нравится. Погоди, Ирод, не уходи. Побудь со мной еще немного.
– Ты хочешь спросить меня о чем-то?
– Хочу.
– Спрашивай.
– Ты все еще любишь меня?
Ирод подошел к Мариамне, нежно обнял ее и поцеловал.
– Люблю. И не смей больше огорчать мою мать и свою свекровь.
– И я тебя люблю. А матери своей и моей свекрови передай, что я не нуждаюсь в ее бесконечных поучениях. Все-таки во мне течет кровь Хасмонеев, а не каких-нибудь простолюдинов.
Последние слова болью отозвались в груди Ирода. Он резко выпрямился, но, вспомнив слова Иосифа о том, что все люди разные – одни горячи, а другие холодны, одни легко возбудимы и все их чувства выплескиваются наружу, а другие сдержанны и чувства их спрятаны глубоко в них, – усилием воли сдержал вспыхнувший было гнев и, еще раз поцеловав Мариамну, вышел.
5
Через неделю сыграли свадьбу Саломии и Иосифа, а еще через два дня у Мариамны начались схватки. Случилось это глубокой ночью, когда в доме уже все спали, бодрствовала одна лишь стража. Крики Мариамны переполошили всех. Ирод ворвался в ее спальню, когда там уже была рабыня-италийка, любовница Фероры. Она обладала навыками повитухи, но сейчас она виновато смотрела на Ирода, точно бы извинялась за свою беспомощность. А Мариамна все кричала и кричала от боли. Околоплодные воды отошли, но ребенок не желал появляться на свет. Мариамна стала синеть, и крики ее становились все глуше и глуше, переходя в стоны умирающей. Ирод был в отчаянии. Спальня заполнилась женщинами, но никто не мог помочь Мариамне. Тогда Кипра послала за Иосифом. Муж Саломии, сильно припадая на поврежденную ногу, ворвался в спальню и потребовал, чтобы все удалились.
– Тебя это тоже касается, – сказал он, обращаясь к Ироду, когда спальня Мариамны опустела.
– Я останусь, – сказал Ирод.
– Как знаешь, – ответил Иосиф. – Только, по крайней мере, отвернись.
Ирод во все глаза смотрел, как Иосиф уверенно перевернул лишившуюся сознания Мариамну на спину, разорвал на ней насквозь промокшую от отошедших вод ночную сорочку, согнул в коленях ее ноги и чуть ли не по локоть засунул свою руку в ее чрево. Ироду показалось, что прошла целая вечность, прежде чем Иосиф осторожно стал вытягивать из чрева Мариамны одну крошечную ножку ребенка, выпачканную кровью, за ней вторую, а там, надавливая свободной рукой сверху вниз на живот Мариамны, вытянул из нее весь плод. Держа его головой вниз, он пошлепал его, ребенок дернулся раз, другой и пронзительно закричал.
Иосиф улыбнулся и протянул ребенка Ироду:
– Получи, отец, сына. Он вырастет упрямцем – пожелал появиться на свет не головой, а ногами вперед. Такое случается. Пригласи сюда женщин, ребенка необходимо умыть и запеленать, чтобы он не простыл. – Сам же тем временем стал манипулировать с Мариамной: подняв ей веки, заглянул в закатившиеся глаза, похлопал ее по щекам, но роженица не подавала признаков жизни. Тогда Иосиф раскрыл ей рот, прильнул к нему своим ртом и с силой стал вдувать в нее воздух.
Ирод словно окаменел. Он беспомощно стоял посреди спальни, не понимая, что происходит вокруг. Комната вновь заполнилась женщинами. Кипра взяла из рук сына все еще орущего ребенка, которого Ирод продолжал держать за ноги вниз головой, появились тазы с теплой водой, с треском разрывались на лоскуты ткани, и среди этой суеты и гомона оглушительной музыкой прозвучал еле слышный голос Мариамны:
– Кто у меня родился?
– Сын, – ответил за всех Иосиф, укладывая растрепанную голову Мариамны на подушках и, обернувшись к Ироду, кивком пригласил его подойти поближе.
– Передайте мужу, что у него появился сын Аристовул, он обрадуется, – слабым голосом произнесла Мариамна и впала в беспамятство, которое теперь уже никого не пугало.
– Ей необходимо отдохнуть, – сказал Иосиф и первым вышел из спальни.
А Ирод все стоял посреди комнаты, всеми забытый и ставший вдруг лишним в огромном доме. По щекам его катились слезы.
6
Мариамна быстро шла на поправку. Маленький Аристовул отличался завидным аппетитом, и ему пришлось нанять кормилицу. Саломия все еще куксилась и на людях сторонилась Иосифа, будто желая показать всем, что продолжает считать себя незамужней. В отношениях Ирода к Иосифу также что-то надломилось. Ему по-прежнему было интересно беседовать с ним, слушать его рассуждения о страхе Господнем, на котором покоится самая совершенная изо всех известных миру религий иудаизм – вера Авраама и, стало быть, всех евреев, произошедших от его младшего внука, но, оставаясь наедине с мужем Саломии и глядя на его руки и рот, он видел одно и то же, что угнетало его: как эти руки влезают в чрево Мариамны, а рот сливается с ее ртом.
Разум подсказывал Ироду, что, не случись этого, он потерял бы и Мариамну, и сына Аристовула, но чувства не могли смириться с виденным. Ирод решил, что сходит с ума, и потому чрезвычайно обрадовался, когда по истечении месяца получил тревожное письмо от Птолемея. Оставленный за командующего войском Птолемей сообщал, что на выдвинутые в деревню Арбела близ Сепфориса в качестве боевого охранения три отряда пехоты и один эскадрон кавалерии напали иудеи – сторонники Антигона. Птолемей, которому Ирод приказал не ввязываться в сражение с противником без крайней на то необходимости, сдерживает, насколько у него хватает сил, натиск иудеев и ждет от Ирода новых указаний.
Ирод, не медля больше ни дня, отправился в Галилею, и спустя сорок дней после своего отъезда снова вступил в Сепфорис. Ознакомившись с положением дел на месте и выслушав доклад ординарца Птолемея, высланного ему навстречу, Ирод во главе двух когорт и одного эскадрона двинулся в сторону Арбелы. На подступах к сгоревшей деревне кипел бой. Иудеи Антигона, смяв правое крыло Птолемея, стали окружать его и деловито, как мясники в лавке, принялись рубить сторожевой отряд с тыла. От победы над Птолемеем их отделяла горстка отчаянных вояк, занявших круговую оборону. Тут-то и появился Ирод со своими воинами. Заметив клубы пыли, поднятой кавалерийским эскадроном, основные силы Антигона, оказавшиеся не у дел, развернулись к Ироду фронтом и пошли в атаку. Ирод врезался в самую гущу иудеев, отвлекая на себя врагов, зашедших в тыл Птолемею, а подоспевшие когорты, разделившись на центурии, пустили в ход стрелы и пращи. Антигоновцы дрогнули и стали отступать. Ирод со своими воинами, развивая успех, не давал им возможности перестроиться и, давя их конями, продолжал оставаться в самой их гуще, пустив в ход мечи. Отступление антигоновцев превратилось в бегство. Ирод устремился за ними. Подоспевшие из Сепфориса основные силы иродова войска довершили разгром иудеев.
Весь путь от Сепфориса до Иордана был усыпан трупами врагов. Пленных Ирод приказал не брать, а раненых добивать. Такая жестокость, впервые проявленная Иродом не без влияния слов хромоногого Иосифа, напомнившего ему о пользе страха как основе дисциплины и послушания, вызвала в стане противника панику. Каждый думал теперь не столько о товарищах, сколько о личном спасении. От основных сил антигоновцев отделялись отдельные группы и одиночки, сворачивавшие на боковые дороги. Ирод не оставлял в покое и их: кавалеристы легко настигали беглецов, убивали их и возвращались к основным силам. Массовое убийство людей, потерявших способность защищаться, прекратилось лишь тогда, когда единицы уцелевших бросились в реку и вплавь перебрались на восточный берег реки. Лишь тогда Ирод протрубил отбой и приказал войску возвратиться в Сепфорис. Здесь он одарил каждого солдата, участвовавшего в изгнании из Галилеи войска Антигона, ста пятьюдесятью драхмами, а их командиров суммой втрое большей.
О разгроме войск Антигона стало известно иудеям, скрывшимся со своими семьями в пещерах Галилеи. В отместку за гибель единоверцев они стали совершать набеги на города, вернувшиеся под власть Ирода, грабить их и вступать в стычки с размещенными там гарнизонами. Дерзость иудеев удивила Ирода: ведь, по толкованию мужа Саломии Иосифа, суть закона, данного Предвечным через Моисея, состоит в страхе перед неизбежностью кары за непослушание. Разве уничтожение войска Антигона не должно было вызвать чувство страха за собственную жизнь и жизнь своих жен и детей у оставшихся в живых сторонников самозванного царя Иудеи? Какие еще нужно применить меры, чтобы подчинить себе этих непокорных людей?
Пока Ирод размышлял над этим вопросом, из Самарии прибыл со своими солдатами Силон. Римляне вконец отощали за зиму: коварный Антигон, пообещавший взять их на полное довольствие при условии, что те не станут вмешиваться в войну, ведущуюся между ним и Иродом, обманул их. Он не только лишил римлян продуктов питания и вина, но и приказал своим приверженцам в Самарии собрать все припасы, имевшиеся у них в наличии, и бежать с ними в горы, дабы римляне, лишенные средств к существованию, погибли от голода. Ирод, узнав о бедственном положении союзников, написал своему младшему брату Фероре письмо с приказом загрузить обозы запасами продовольствия, остававшиеся еще в Иерихоне, собрать в гурты скот и перегнать все это в Галилею. Заботу о римлянах Ирод возложил лично на брата, пообещав ему убить его красавицу-рабыню, если тот не выполнит его приказа. А чтобы Ферора не скучал, поскольку сбор и доставка в Галилею продуктов питания не потребует от него особого умственного напряжения и оставит ему массу свободного времени, Ирод дополнительно приказал брату заново отстроить давным-давно покинутый жителями город Александреум и переименовать его в Александрион, дабы славные дела и намерение Александра Македонского объединить все покоренные им народы в одну семью, связанную узами кровного родства, никогда не истерлась из памяти иудеев.
Забегая вперед, скажу, что Ферора, опасаясь за жизнь своей обожаемой италийки, успешно справился как с первым, так и вторым приказом брата. Ирод же тем временем не стал больше мириться с набегами, совершаемыми иудеями из пещер на мирные города Галилеи, и, собрав отряд, состоящий из верных ему иудеев, отправился в горы.
Был месяц нисан [172]. Мирные жители, среди которых преобладали женщины и дети, вышли в поля на уборку ячменя. Приближался великий праздник Пасхи [173]. Наиболее набожные иудеи потянулись поодиночке и небольшими группами в Иерусалим, чтобы принести Предвечному установленную законом жертву. Ирод, оглядываясь на своих солдат, растянувшихся длинной цепочкой по каменистой горной дороге, мысленно одобрил свое решение взять в поход одних только иудеев: евреи с евреями всегда найдут общий язык и прекратят, наконец, непростительно затянувшуюся братоубийственную войну.
Чем выше забирался Ирод со своим отрядом в горы, тем круче становились тропы, тем неприступней выглядели скалы, вздымавшиеся по одну сторону тропы, и опасней пропасти по другую сторону. Галька ссыпалась из-под калиг солдат, лошади, понукаемые возницами, спотыкались, повозки с шанцевыми инструментами и всем необходимым для взятия пещер кренились, грозя опрокинуться в пропасть. Ирод спешился и вместе с солдатами стал помогать лошадям преодолевать крутой подъем и опасные повороты. Откуда-то сверху на него упал горящий кусок асфальта и, отскочив от железного наплечника, огненным шаром скатился в пропасть. Следом за первым куском асфальта сверху стали падать другие горящие шары. Солдаты попрятались под скальные выступы, загнав туда же и лошадей. Когда огненный обстрел стал менее интенсивным, Ирод, прикрывшись щитом, выглянул из-под каменного навеса, чтобы оценить обстановку. Насколько хватало глаз, отвесная скала сплошь зияла тесными входами в пещеры, напоминавшими снизу птичьи гнезда. Перед некоторыми входами были сооружены площадки, из других свешивались концы недоубранных веревочных лестниц. Разбойники Езекии, с которыми Ирод некогда без труда расправился, не забирались так высоко. Одолеть нынешних сторонников Антигона будет непросто. Ирод собрал командиров и приказал им растянуться вдоль горной тропы и обратиться к антигоновцам с увещевательными словами. Уже через минуту скалы огласились криками, многократно повторенными эхом: «Братья! К вам обращается храбрый Ирод, который только что изгнал из Галилеи войско Антигона и теперь пришел к вам с миром и предложением сложить оружие. Прекратим проливать кровь единоверцев, перестанем делать наших жен вдовами, а детей сиротами. Приближается Пасха. Помиримся в честь этого нашего общего великого праздника, сядем рядом за общий стол и вместе вкусим пасхального агнца! Да не поднимется больше рука брата на брата своего, да не останется меж нами вдов и сирот, да сбудутся реченые Богом нашим слова, обращенные к народу Своему: “Да благословит тебя Господь и сохранит тебя! Да призрит на тебя Господь светлым лицем Своим и помилует тебя! Да обратит Господь лице Свое на тебя и даст тебе мир! Так пусть призывают имя Мое на сынов Израилевых, и Я благословлю их” [174]. Всем, кто добровольно покинет пещеры, Ирод обещает сохранить жизнь и наградит щедрыми подарками».
Слова эти, однако, не возымели должного действия. Вместо примирения, на которое рассчитывал Ирод, возникла перебранка между противостоящими друг друга иудеями, вылившаяся в пошлую склоку:
– Передайте Ироду, что мы не нуждаемся в его подарках и обещаниях сохранить нам жизнь! Жизни наши принадлежат единственно нам и нашему Господу Богу! Как пожелает поступить с нами Господь Бог и как решим мы сами, так оно и будет!
– Если вам не дорога ваша жизнь, то подумайте хотя бы о женах ваших и ваших детях!
– Не учите нас, о ком нам думать! Мы свободные люди и сами решаем, как поступить с нашими женами и детьми! Пусть лучше Ирод позаботится о своей жизни и подумает о своих женах и детях, а не о том, как бы ему угодить своим дружкам-римлянам!
– Римляне наши давние союзники и не покушаются на веру наших отцов! В отличие от парфян, которые ходят в дружках вашего Антигона потому только, что он обещал им за их верность тысячу талантов и пятьсот самых красивых иудеек для его гарема!
– В жилах Антигона течет кровь освободителей Иудеи Маккавеев, а кто ваш Ирод? Бродяга без роду и племени! Он только прикидывается иудеем, а сам как был, так и остался язычником, которых наши отцы сбрасывали с высот!..
Ирод почувствовал, как в нем закипает гнев, и, не желая дать ему прорваться наружу, вышел из укрытия и сам обратился к иудеем, выглядывающим из пещер:
– Прекратим этот пустой разговор. Для вас, как я погляжу, нет врага более заклятого, чем я. Оставим меня. Я обращаюсь к сердцу вашему, которое, хочу надеяться, в помышлениях своих свободно от зла, затмившего ваш разум. Поля ваши налились зерном, и зерно это страждет рук ваших. Или вы забыли заповедь Господа, повелевшего нам шесть дней в неделю работать и только один субботний день отдыхать? Чем вы станете кормиться сами и кормить семьи ваши, если не желаете трудиться все дни недели?
– Знаем, знаем, к чему ты клонишь! – ответил ему чей-то звонкий голос. – Да только неведомы тебе, язычнику, слова писания нашего: «Сытые работают из хлеба, а голодные отдыхают» [175]. Мы сытые и хлеба нам, да будет тебе известно, хватит до конца дней твоих! Так что не рассказывай нам сказки про зерна в полях, а поди-ка сам собери их и прихвати с собой своих прихвостней, которые прикидываются братьями нашими!
Слова эти вызвали смех в пещерах, многократным эхом рассыпавшийся по скалам. Хохотали мужчины и женщины, хохотали дети, выглядывавшие из пещер. Кто-то выплеснул на тропу, запруженную солдатами Ирода, нечистоты, и его примеру последовали обитатели других пещер.
Ирод понял: увещаниями этих упрямцев не переломишь. Надо действовать. Вопрос: как? Судя по количеству асфальта, доставленного сюда из дальнего Соленого моря, к длительной обороне сторонники Антигона приготовились основательно. Штурмовые лестницы тут мало чем помогут, если вообще помогут. Необходимо применить какое-то иное средство, чтобы без потерь проникнуть внутрь пещер на отвесных скалах. Решение, столь же необычное, сколь и дерзкое, пришло в голову Ирода неожиданное: нужно забраться на вершины скал, сколотить там ящики, и в ящиках этих спустить на веревках солдат до уровня входов в пещеры. Тут же нашелся доброволец, вызвавшийся осуществить замысел Ирода. Ирод предупредил его о риске, которому он подвергает свою жизнь: если обороняющиеся иудеи догадаются перерезать веревки, на котором его спустят к пещере, он сорвется в пропасть и погибнет. Доброволец лишь усмехнулся: «Прежде, чем они дотянутся до моих веревок, я дотянусь до них своим копьем и перебью их моим верным мечом».
Так и поступили. Солдаты, забравшиеся на вершину одной из скал, сколотили там ящик, прикрепили к нему веревки, доброволец, вооружившись копьем и багром и опоясавшись мечом, впрыгнул в него, и товарищи стали осторожно спускать его вниз. Достигнув площадки, доброволец дал знак товарищам, наблюдавшим за ним сверху, остановиться, выпрыгнул из ящика и исчез в пещере. Прошла вечность, прежде чем солдат снова появился на площадке. Зрелище, открывшееся Ироду и его товарищам, было ужасно. Солдат выволакивал багром из пещеры убитых и сбрасывал трупы в пропасть. Ирод отвернулся. Лишь когда возле него хрустнула галька под тяжестью спущенного со скалы ящика, он подбежал к выбирающемуся на тропу добровольцу.
– Ну как?
– Проще простого, – все так же усмехаясь ответил солдат, вырывая чахлую траву из-под ног и вытирая ею окровавленное оружие. – При моем появлении у входа в пещеру разбойников охватил такой ужас, как если бы они увидели нос к носу не человека, а исчадия, окружившие Иова. Тогда я копьем перебил тех, кто оказался ближе ко мне, проник внутрь пещеры и прикончил тех, кто искал там спасения.
Ирод приказал сколотить новые ящики и продолжить дело, начатое добровольцем. Весь оставшийся световой день ушел на избиение сторонников Антигона, впавших в оцепенение. Лишь с закатом солнца Ирод дал отбой. Наутро он снова обратился к антигоновцам со словами увещевания, пообещав каждому, кто сдастся, сохранить жизнь. На этот раз его послушались. Из пещер были сброшены веревочные лестница и по ним один за другим стали спускаться старики, мужчины и женщины, дети. Ирод каждому вручал деньги и отпускал с миром. Кто-то со страхом смотрел на солдат, ожидая от них подвоха, кто-то падал перед Иродом ниц, кто-то целовал ему руки. В это самое время сверху раздался зычный голос:
– Эй, Ирод, ты слышишь меня?
Ирод поднял голову и увидел в проеме одной из пещер старика.
– Я слышу тебя. Говори, если тебе есть что сказать, хотя я предпочел бы, чтобы ты спустился вниз, где нам не придется надрывать горло.
– Тебе не придется надрывать горло, говорить буду я, а ты слушай и хорошенько запоминай все, что я тебе скажу. Меня зовут Давид. Тебе знакомо это имя? Так звали царя, возлюбленного Господом [176]. Я не царь, я простой пахарь, о котором в одной из притч Соломоновых сказано: «Богатство от суетности истощается, а собирающий трудами умножает его» [177]. Здесь со мной находятся моя жена и семеро моих сыновей. Все они, как и эти малодушные, которых ты купил обещаниями сохранить им жизнь и одариваешь теперь деньгами, тоже хотят спуститься к тебе.
– Ну так пусть спускаются, они получат то же, что и другие, которых ты называешь малодушными, – прокричал Ирод.
– Не перебивай меня, я еще не все сказал, – ответил ему старик. – Есть, однако, ценность, которая превыше и твоих денег, и самой жизни. Эта ценность – свобода. Со времени исхода из Египта для нас, евреев, не было ничего дороже свободы. Заметь: я говорю о евреях, а не о твоем паскудном племени идумеян, которые не то что свободу, но и право первородства готовы продать за миску чечевичной похлебки. Ты, Ирод, раб от рождения и рабом останешься всегда. Евреи никогда не признают твоей власти над собой, будь ты не римлянами, а самим Господом Богом помазан на царство. Сколь бы ни был почитаемый мною Антигон жесток, искалечивший своего дядю-первосвященника, но он еврей и уже одним этим достойней тебя, поскольку из вас двоих именно он и по праву рождения, и по праву принадлежности к роду Маккавеев принадлежит к избранному Богом народу. А ты, как я уже сказал, раб, обязанный подчиняться нам, евреям, а не властвовать нами. Это о нас, евреях, сказано Господом: «И буду ходить среди вас, и буду вашим Богом, а вы будете Моим народом» [178]. Избрав нас, евреев, Своим народом, Господь сказал о таких, как ты, и о всех прочих народах, которые должны трепетать при одном только упоминании имени нашего: «С сего дня Я начну распространять страх и ужас пред тобою на народы под всем небом; те, которые услышат о тебе, вострепещут и ужаснутся тебя» [179].
Ирод почувствовал себя униженным, как в Риме, когда рабы у дома Антония избили его.
– Глупец! – прокричал он старику. – Ты можешь умничать сколько твоей душе угодно, но при чем здесь твои жена и дети, которые хотят спуститься к нам? Отпусти их, не делай их заложниками своего сумасбродства.
– Тебе придется помочь им предстать перед тобой, – сказал старик и, обернувшись, вывел за руку на площадку бледного молодого человека. – Получи старшего моего сына, – крикнул он, подвел его к краю площадки, ударом ножа поразил в спину и сбросил в пропасть.
– Остановись! – в ужасе закричал Ирод. – Не обагряй руки своей кровью невинных детей своих!
– Тебе, инородцу и простолюдину, никогда не понять, почему свободолюбивые евреи предпочитают смерть рабству! – прокричал в ответ старик, выводя на площадку второго своего сына.
Ирод заклинал его всем святым, что только еще теплится в его душе, не безумствовать, говорил, что никто не покушается на его свободу, что он волен жить и поступать так, как ему заблагорассудится, но старик в ответ говорил, что Ироду, рабу от рождения, никогда не понять величия души и самого ничтожного из евреев, и продолжал закалывать одного за другим всех своих сыновей. Сбросив в пропасть последнего, седьмого сына, которому, судя по виду, не исполнилось еще пяти лет, он вывел на площадку свою жену, еще не старую, оцепеневшую от ужаса женщину. Заколов и жену и сбросив ее в пропасть, он прокричал:
– Ирод, ты еще слышишь меня? Перед светлыми душами моих любимых сыновей и жены я говорю тебе: будь ты проклят! – С этими словами он вонзил нож себе в живот, согнулся и, не отнимая рук от сжатого в них ножа, рухнул в пропасть.
Ирод, как и его солдаты и недавние враги, не успевшие получить своей доли денег и потому задержавшиеся на узкой тропе, долго еще стояли, не смея произнести ни слова, потрясенные развернувшимся перед их глазами зрелищем, и страшились заглянуть в пропасть, где нашла смерть семья безумного старика с царским именем Давид. А в ушах Ирода гулом бившейся в виски крови все звучали и звучали его последние слова: «Будь ты проклят!»
Глава третья КРОВЬ И ВИНО
1
Казнь стариком своей семьи и последовавшее за этой казнью самоубийство ввергло Ирода в депрессию. Он верил в довлевшее над ним проклятие, но не связывал это проклятие с последними словами старика. Как, впрочем, не связывал его и с проклятием Предвечного, якобы ниспосланным на все другие народы, кроме избранного Им. Будучи образованным человеком и обладая феноменальной памятью, он прекрасно знал Библию, хотя относился к ней не как к Откровению, данному Предвечным евреям через Моисея, а как к научному труду, содержащему заслуживающие доверия исторические факты. Потому-то корни проклятия, довлевшего над ним, равно как над всем народом идумеян, к которому он принадлежал, он находил не в наивном библейском рассказе о причинах вражды, возникшей между братьями-близнецами Исааком и Исавом, а за власть над себе подобными, которую человек получает не в силу своих достоинств, а единственно по праву первородства. Власть безусловная и абсолютная, думал Ирод, власть, освященная именем Предвечного, – вот первопричина зла, царящего на земле. Евреям, возжелавшим иметь над собой царя, чтобы он судил их, веками вбивалась в головы мысль о том, что одного слова такого царя достаточно, чтобы стать послушными [180]. Но они так и не усвоили другой истины, изреченной Предвечным: «Народ Мой! вожди твои вводят тебя в заблуждение, и путь стезей твоих испортили» [181].
Чем больше размышлял Ирод над вопросом о причинах слепого подчинения евреев власти своих царей как избранным из избранных, а любую иную власть воспринимал как покушение на их свободу и стремление ввергнуть этот народ в рабство, тем больше приходил к выводу, что главнейший враг его сегодня Антигон, который не остановится ни перед какими жертвами, чтобы евреи признали его царем даже ценой поголовного умерщвления своих семей и самоубийства. А потому чем раньше будет уничтожен Антигон, решил Ирод, тем скорее установится на земле Иудеи мир.
Вскоре после окончания восьмидневного празднования Пасхи, во время которой Ирод не предпринимал никаких боевых действий, предоставив возможность своему войску отойти телом и душой от бранных дел, ему донесли, что Антигон обнаружился в Самарии. Силон, уже изнывавший от затянувшегося безделья, предложил свои услуги по поимке Антигона, который по-прежнему считался врагом Рима. Ирод, однако, отказался от его услуг. «Это внутреннее дело самих иудеев, в которое не следует вмешиваться римлянам», – сказал он и предложил Силону отправиться в Сирию, где Вентидий продолжал войну с парфянами. Когда Силон покинул Сепфорис, Ирод вызвал Птолемея и поручил ему командование наемниками, служившими в его армии. «Твоя задача – следить за порядком в Галилее, чтобы никто и ничто не посмело нарушить мир в этом крае», – сказал он. Сам же, снарядив войско, состоящее из одних только евреев, среди которых преобладали зилоты, выступил в поход в Самарию, чтобы решить свой спор с Антигоном в открытом сражении.
Судьбе, однако, было угодно продлить дни жизни Антигона. Едва Ирод со своим войском покинул пределы Галилеи, как узнал, что евреи, скрывавшиеся со своими семьями в пещерах, вновь объединились в вооруженные отряды. Его попросту обманули! Сделав вид, что сдались и, получив от Ирода деньги, чтобы при переходе к мирной жизни не знать нужды в самом необходимом, они вновь объединились в вооруженные отряды. Ночью отряды эти напали на наемников, которым надлежало следить за порядком в Галилее, перерезали их и в довершение всего обезглавили Птолемея. После этого разбойники рассеялись по всей Галилее, грабя и насилуя ее население за то, что те признали над собой власть Ирода. Совершив злодеяние, они бежали на этот раз не в горы, где Ирод легко достал их, а в топкие болота, где, не зная потайных троп, гибли не только кони, но и люди.
Не передать ярости, какую испытал при этом известии Ирод.
– Вот оно, проклятие старика! – вскричал он и повернул войско назад.
Ограбленные мирные жители показали Ироду все тайные тропы, которые вели в болота. Ирод проник к попрятавшимся в болотах иудеям, чувствовавшим себя там в полной безопасности и потому не выставившим даже караульных постов, всех их выловил, связал и привел в Сепфорис. Здесь он перво-наперво приказал им навести в городе безукоризненную чистоту, вернув ему прежний вид, который они же сами и нарушили, восстановить в первозданном виде свою резиденцию, на что у них ушел целый месяц, а по завершении всех работ приказал всех их вывести за город на заранее расчищенное и огороженное место, и поставить там столы и скамьи. Пленные недоумевали: что нового затеял Ирод и не означают ли эти столы, за которые их рассадили, что он снова их простил? Никто не давал им ответа, а когда солдаты внесли за ограду и расставили на столах в немерянных количествах вино и воду, все решили, что Ирод наверняка и на этот раз простил их и стали пить за его здоровье, соревнуясь друг с другом, кто из них произнесет более красноречивый тост [182].
Ирод, стоя у раскрытых ворот загона, угрюмо наблюдал за пиршеством, устроенным им для пленных, которых он теперь называл не иначе, как разбойниками. Солнце достигло зенита, когда солдаты Ирода снова вошли в загон и вынесли оттуда столы и скамьи вместе с остатками вина и воды. Опьяневшие пленники, ожидая, что теперь Ирод отпустит всех их по домам, радостно кричали:
– Ирод, мы любим тебя! Да хранит Всевышний тебя и твою семью и да ниспошлет тебе долгие годы жизни и достаток, чтобы ты и дальше заботился о нас и радовал нас, как позаботился и порадовал нас сегодня! Мы готовы служить тебе до скончания дней наших! Скажи же и ты нам что-нибудь!
Ирод, все так же угрюмо глядя на пленных, поднял руку и, дождавшись тишины, негромко произнес:
– Вы получили всё, что обещал вам Антигон, но получили не из его рук, а из моих. Свободу, чтобы вы могли жить так, как повелевает вам совесть ваша и как велит вам закон. Деньги, на которые вы могли купить себе хлеба и утолить голод ваш. Вино, чтобы возвеселились души ваши. Теперь вы изъявили готовность служить мне. Я знал, что вы, получив от меня все, что обещал вам Антигон, скажете мне именно это, как скажете то же самое и Антигону, когда он сделает для вас то, что сделал я. Но вы забыли, что нельзя служить двум господам, что бы они вам ни обещали и что бы ни делали для вас. И потому все вы должны умереть [183].
Сказав так, Ирод вскочил на коня и вернулся в город. Он ни на йоту не сомневался в том, что его солдаты в точности выполнят его приказ, не оставив в живых никого из пленных единоверцев.
2
Вечером того же дня Ироду доставили письмо, из которого явствовало, что Антоний, направившись в Сирию, чтобы принять личное участие в войне с парфянами, остановился в Афинах и в скором времени прибудет в Самосату [184], куда приглашает приехать и Ирода. В том же письме, подписанном командующим римскими войсками в Сирии Вентидием, сообщалось, что Антоний выразил крайнее неудовольствие действиями Силона в Иудее (равно как и в Сирии, добавил от себя Вентидий), и распорядился направить в помощь Ироду Махира с двумя легионами и тысячью всадников, дабы он, Ирод, покончил наконец с Антигоном, поддерживаемым парфянами, и ко времени прибытия Антония в Самосату смог, уже ни на что не отвлекаемый, разделить с триумвиром праздничную трапезу по случаю их общей победы над общим врагом.
В это же время возвращавшиеся домой по окончании празднования Пасхи мирные иудеи сообщили Ироду, что Антигон покинул Самарию и перебрался в Иерусалим. Туда-то и отправился со своей армией Ирод, послав к Махиру фельдкурьера с сообщением, что ждет его в Эммаусе [185].
Махир со своими легионами и конницей прибыл в Эммаус на пятый день после получения письма Ирода. Объединенными силами двух армий взять Иерусалим не стоило никакого труда. Ирод, однако, и на этот раз решил воздержаться от штурма столицы, который неизбежно привел бы к значительным разрушениям в городе и гибели его жителей. Он предложил Махиру выманить Антигона из столицы и сразиться с ним в открытом поле. Махир отклонил это предложение, заявив, что по правилам ведения войны солдаты, участвующие в сражениях, имеют право на равную долю добычи из доставшихся им людей, скота и драгоценностей.
– А что достанется моим солдатам, если мы сразимся с Антигоном в открытом поле? – спросил Махир. – Разве что оружие врага, которого у нас самих вдосталь. Законы войны выдуманы не мною, а определены Моисеем, и я всегда следую этим законам, а не советам людей, мало сведущим в военном деле [186].
– Ты рассуждаешь, как правоверный еврей, – сказал Ирод.
– А я и есть еврей, хотя и не иудей, – сказал на это Махир. – Я признаю богов, которым поклоняется Рим, но во всем, что касается вопросов ведения войны, я черпаю полезное всюду, где нахожу [187].
Ирод и Махир спорили два долгих дня, но так и не пришли к единому мнению. На третий день Махир протянул Ироду свиток:
– Вот цена твоего промедления и вот что думает по этому поводу Антигон, чью голову, не окажись ты таким упрямцем, я еще два дня назад мог отправить в Рим.
Ирод развернул свиток и прочитал послание Антигона, адресованное Махиру. Антигон не был оригинален, и в этом своем письме он говорил о том же, о чем говорил всегда, и обещал Махиру то же, что обещал Пакору. Ирод, писал он, назначенный римским сенатом царем Иудеи, не заслуживает этого звания по тому одному уже, что он не еврей; Антигон же и Махир евреи по крови и потому лучше поймут друг друга, чем весь римский народ, к которому Антигон относится с величайшим уважением и в любую минуту готов подтвердить все прежние союзнические договоренности и соглашения, достигнутые между Римом и Иудеей. В конце своего письма Антигон обещал Махиру тысячу талантов и пятьсот самых прекрасных наложниц из числа евреек, если тот встанет на его сторону и поможет уничтожить Ирода со всеми его наемниками и предателями-евреями.
– Ну, теперь-то ты согласишься на штурм Иерусалима? – спросил Махир.
– Нет, я и теперь остаюсь при мнении, что голова Антигона не стóит разрушения Иерусалима и гибели его обитателей, – ответил Ирод.
– В таком случае я во исполнение приказа Антония начинаю действовать самостоятельно, – сказал Махир и, отобрав у Ирода свиток, вышел из дому, превращенного в штаб командования объединенных армий, с грохотом захлопнув за собой дверь.
Поход Махира на Иерусалим закончился провалом. И виной тому стал сам Махир, переоценивший свои силы. При появлении римских легионов и конницы под стенами города Антигон запер все ворота, приказал никого не впускать и никогда не выпускать из Иерусалима, а с наступлением ночи в лагере Махира появились никем не опознанные тени, которые подожгли римский обоз с осадными машинами и всем армейским имуществом, включая продовольствие. В довершение всего эти тени перерезали на ногах лошадей сухожилия, после чего, выведя из строя сторожевые посты, проникли в солдатские палатки и принялись убивать спящих легионеров и кавалеристов. Наутро среди выживших после ночного кошмара римлян распространился слух, что никем не опознанные тени, не ведавшие к чужеземцам ни малейшей жалости, были сикариями, подосланными Антигоном.
Разяренный от гнева Махир приказал оставшимся в живых воинам оцепить город и во что бы то ни стало найти в его стенах уязвимое место, которое существует в любой крепости. Но и этот его приказ не возымел должного действия: защитники Иерусалима по всему периметру его стен встречали римлян градом стрел и дротиков, бросали им на головы горящие куски асфальта, а с тыла их атаковали все те же тени-сикарии, появлявшиеся столь же стремительно, сколь стремительно исчезали, прежде чем римляне успевали выстроиться в боевые порядки. Проведя в бессмысленном противостоянии три долгих дня и неся невосполнимые потери, Махир дал сигнал к отступлению. Отступая, он, однако, избрал не прямую дорогу на Эммаус, а окольные пути, грабя и убивая всех, кто ему попадался на глаза, не делая различия между сторонниками Антигона и его противниками. Прежде, чем римляне вошли в Эммаус, сюда устремились сотни мирных жителей с жалобами на самоуправство и жестокость Махира.
Ирод вскочил на коня и выехал навстречу незадачливому союзнику. Едва завидев римлян, он дал коню шпоры и, подскочив к Махиру, набросился на него с упреками:
– Я немедленно отправляюсь к Антонию и доложу ему, что не нуждаюсь в союзниках, которые приносят мне и мирным жителям Иудеи вреда больше, чем врагам! Я и сам в состоянии справиться с Антигоном, запомни это!
Махир не остался в долгу.
– Если ты сам в состоянии справиться с Антигоном, то почему тратишь попусту столь драгоценное время? Со времени, когда Антигон вступил в союз с парфянами и объявил себя царем Иудеи, прошло больше года. И что за этот год успел сделать ты?
Ирод, вернувшись к своему войску, приказал ему собираться в Сирию. Махир, несколько поостыв, стал упрашивать Ирода:
– Пойми, горячая ты голова, я обязан выполнить приказ Антония, чего бы мне это ни стоило. Если ты надумал ехать в Сирию, то оставь здесь по крайней мере своего брата Иосифа, которому лучше, чем мне, известны местные нравы и обычаи.
В словах Махира содержался резон. Ирод, поразмыслив, отправил брату письмо с требованием немедленно явиться со своим отрядом в Эммаус и в дальнейшем выполнять все приказы Махира, кроме одного: ни под каким предлогом не брать Иерусалим штурмом и всеми возможными мерами стремиться сохранить жизнь мирных жителей.
3
Ирод вступил в Галилею, когда получил второе письмо от Вентидия. В письме этом римский полководец подробно изложил детали своего последнего сражения с парфянами, снова вторгшимися в пределы Сирии, и гибели Пакора. В постскриптуме Вентидий сообщил, что среди личных вещей Пакора были обнаружены два документа. Первый документ гласил: «Я, Антигон, сын Аристовула, внук царей Иудеи Александра Янная и Александры, продолжатель славного рода Хасмонеев [188], настоящим заключаю союзнический и военный договор с царем Парфии и Сирии Пакором на следующих условиях. 1) Царь Пакор оказывает мне всемерную поддержку в утверждении меня царем Иудеи. 2) После утверждения меня царем Иудеи я обязуюсь выплатить царю Пакору 1000 талантов золотом и предоставить в его полное распоряжение 500 самых прекрасных женщин-евреек, включая мою племянницу Мариамну, славящуюся своей красотой, ныне жену простолюдина и врага всех иудеев идумеянина Ирода». Документ был скреплен личной печатью и подписью Антигона. Второй документ был написан Пакором и скреплен его подписью и печатью. Вот что говорилось в нем: «Я, царь Парфии и Сирии Пакор, настоящим сообщаю. 1) Я соглашаюсь с условиями заключенного между мною и наследником Хасмонеев Антигоном союзнического и военного договора, равно как подтверждаю, что я сделаю все от меня зависящее, чтобы условия эти были выполнены. 2) В случае, если богам будет угодно взять мою жизнь прежде, чем Антигон утвердится на царстве в Иудее, я завещаю весь его долг передо мной (1000 талантов золотом и 500 самых прекрасных женщин-евреек, включая жену Ирода Мариамну) сполна передать Риму и римскому народу». Вентидий спрашивал, знал ли Ирод о сделке, заключенной между Антигоном и Пакором, и не считает ли он, что теперь, когда условия этой сделки нашли документальное подтверждение, Антигон заслуживает более лютой смерти, чем Пакор, погибший в бою как солдат?
Ирод не стал отвечать на письмо Вентидия. Он лишь с ненавистью подумал о старике в пещерах Галилеи, убившего всю свою семью и прежде, чем покончить жизнь самоубийством, проклявшего его.
– Сколько еще проклятий просыплется на мою голову и сколько еще прольется крови иудеев, прежде чем они поймут, что я желаю им одного только добра и ничего кроме добра? – гневно произнес он, пряча письмо Вентидия.
– Мой господин желает, чтобы я записал эти слова? – спросил случившийся рядом Диофант, никогда не расстававшийся с пером и чистым листом пергамента.
– Не нужно, – ответил Ирод и обратился к начальнику своих телохранителей, арабу по происхождению Коринфу. – Найди Терона и передай ему, чтобы он срочно явился ко мне.
Терон был опытным воином, начавшим служить у Ирода еще в то время, когда тот был назначен областеначальником Галилеи. Не желая подвергать опасности жизнь ветерана, Ирод по возвращении из Рима сделал его своим ординарцем. Когда Терон явился, Ирод приказал ему объехать всех командиров и передать им его устный приказ: войско направляется кратчайшим путем в Антиохию. По дороге держаться всем вместе и ни на что не отвлекаться. В авангарде и на флангах пойдет конница Юкунда, на которого возлагается охрана войска на марше на случай, если на него вздумают напасть шайки разбитого Вентидием войска парфян, которые, по данным разведки, не желали уходить из Сирии без добычи. Забота об обозе, следующего в арьергарде, поручается пехотинцам под командованием Терона.
– Ты все понял? – спросил Ирод.
– Всё, – ответил Терон.
– Выполняй. Встретимся в Антиохии. Да хранит тебя Предвечный!
В Антиохии собралось множество знатных лиц со своими вооруженными отрядами и свитой, съехавшиеся со всех концов Малой Азии. Всем им не терпелось лично приветствовать Антония, прибывшего уже в Самосату, но они не решались самостоятельно следовать дальше из опасения, что на них нападут рассеявшиеся по стране парфяне, поддержанные частью сирийцев, также решивших поживиться на еще не оконченной войне. Ирод предложил им влиться в свое войско, подчинив их отряды своим командирам, произвел смотр невероятно разросшейся разномастной армии и остался ею недоволен. Эта новая армия, оказавшаяся под его началом, больше походила на сборище вооруженных людей, чем на воинство, готовое действовать в боевой обстановке слаженно и решительно. Такой сброд, случись Ироду встретить его на открытой местности, стал бы для него легкой добычей.
Опасения Ирода оправдались. Едва он отдалился от Антиохии на сотню верст, как в тыл ему ударили объединенные отряды сирийцев и парфян с намерением отбить обоз. Знатные особы, взятые Иродом под свою защиту, запаниковали: в обоз были включены немалые ценности и рабы, которых они везли в дар Антонию. Скот и вьючные животные, также находившиеся в обозе, оставшись без присмотра пастухов и погонщиков, стали разбегаться. От Терона и поспешившего ему на выручку Юкунда потребовались все их мужество и военный опыт, чтобы отбить дерзкий налет противника. Тут, однако, случилось другое, более опасное для Ирода событие: воспользовавшись тем, что боевое охранение, следовавшее впереди и по флангам войска, оказалось смещенным в арьергард, с фронта ударили другие отряды сирийцев и парфян, затаившиеся в лесах по обе стороны дороги. Авангард войска был смят, а поскольку Ирод приказал командирам центурий и когорт не отвлекаться на возможное нападение противника на основные силы, возложив отражение его атак на кавалеристов Юкунда, воины, не смея действовать самостоятельно, бросились искать спасения за деревьями и на близлежащих холмах. Ирод, исправляя собственную ошибку, ринулся со своими галлами-телохранителями в контратаку. Рука его, выхватив из ножен меч, не знала устали, рубя врагов направо и налево. Пример Ирода отрезвляюще подействовал на бежавших воинов, и они стали возвращаться. Теперь отряды сирийцев и парфян оказались взяты в клещи. Бежать им было некуда, и они с отчаянием приговоренных к смерти вступили в рукопашную. Стоны раненых, ругань сражавшихся, блеянье овец и мычание волов, разбежавшихся по всему полю, лошадиное ржание, которое не могли перекричать вопли насмерть перепуганных знатных особ, слились в один сплошной гул, повисший над полем вместе с клубами пыли, за которыми трудно было различить, где свои, а где чужие. Дополнительную путаницу внесли чужеземные воины, влившиеся в войско Ирода и в большинстве своем одетые так же, как были одеты сирийцы и парфяне. Рубка продолжалась вплоть до наступления сумерек, когда зажглись факелы и иродиане стали подсчитывать свои и вражеские потери. Прежде, чем разбить лагерь на ночлег, Ирод вызвал всех своих командиров и приказал им отныне действовать сообразно складывающейся обстановке, а разведке рассеяться по окрестным местам и обследовать каждый куст, каждую неровность рельефа и все рощи и леса, какие только им встретятся, на предмет обнаружения скрывшихся там врагов.
Два дня, требовавшиеся в обычных условиях на переход от Антиохии до Самосаты, обернулись для Ирода в неделю беспрерывных сражений, стоивших ему немалых потерь. Но и потери объединенных сил сирийцев и парфян оказались столь значительны, что они потеряли способность к дальнейшим боям. Знатные особы, еще накануне ругавшие Ирода и себя за то, что согласились встать под его защиту, теперь до небес превозносили Ирода за его полководческое искусство и личную храбрость и называли не иначе, как своим спасителем и заступником, ниспосланным им богами. Путь на Самосату был открыт, и пестрое войско Ирода, предав земле павших товарищей и разместив на повозках обоза раненых, быстрым маршем двинулось к цели своей экспедиции.
4
Ирода опередили знатные особы, поспешившие первыми предстать перед могущественным Антонием, вручить ему свои подарки и выразить беспредельную верность Римской державе. Они-то и сообщили Антонию об испытаниях, выпавших на их долю при переходе из Антиохии в Самосату. Знатные особы не пожалели красок при описании воинской доблести, проявленной Иродом при отражении атак «бесчисленного множества врагов». Если бы не храбрый Ирод, заявили они, все они полегли бы на поле брани от рук варваров, так и не увидев божественного сияния, исходящего от покрытого всемирной славой триумвира.
Антоний, подавив последний очаг сопротивления в Малой Азии и казнив Антиоха, провозгласившего себя царем Сирии и заранее позаботившегося о возведении для себя гробницы, сменил позолоченные латы на ставший с некоторых пор более привычным для него костюм Диониса. Выслушав похвальные слова в адрес Ирода и приняв подарки, Антоний во главе многочисленной свиты, состоящей из молодых полуобнаженных женщин с распущенными волосами, облаченных вакханками, мужчин с подвязанными к головам ослиными ушами, козлиными бородами и копытами на ногах, изображавших сатиров и панов, мальчиков с привязанными к их бедрам огромными кожаными фаллосами, туго набитыми луговой травой, и бесчисленного множества музыкантов, неумолчно игравших на свирелях, вышел из Самосаты на встречу с другом. Завидев Ирода, Антоний забрался на плечи вакханок и, сопровождаемый пляшущими сатирами и панами, между которыми сновали мальчики, потрясавшие непосильными для них фаллосами, двинулся ему навстречу. Другие женщины-вакханки, оказавшиеся свободными, опередили Антония, подбежали к Ироду и, стащив его с коня, со смехом и визгом водрузили на свои плечи.
– Приветствую тебя, храбрый лев! – уже издали закричал Антоний и, сблизившись с Иродом, заключил его в свои объятия. – Я уже наслышан о твоих подвигах, благодаря которым остался в живых весь цвет Азии, и готов простить тебе твою медлительность, из-за которой мне пришлось одному справиться с коммагенами. Но, благодарение богам, на пир ты не опоздал, – праздничные столы ждут нас!
Так, на плечах женщин, сопровождаемые сатирами и панами, мальчиками, вконец обессилевшими под тяжестью привязанных к их бедрам фаллосов, и музыкантов, Антоний и Ирод вступили в Самосату, улицы которой были заполнены веселящимися и уже изрядно подвыпившими мирными жителями и солдатами. Следов разрушений нигде не было видно. Столица Коммагены, похоже, сдалась без боя. Ирод, оглядываясь по сторонам, с тоской подумал, что таким же сохранившимся, заполненным веселящимися людьми он хотел бы видеть и Иерусалим после свержения ненавистного ему Антигона.
Веселье и попойки продолжались три дня и три ночи. Вино лилось, как из рога изобилия. Мужчины и женщины без различия сословий предавались оргиям, которым, казалось, не будет конца. Даже огромная пиршественная зала – и та превратилась в вертеп. Ирод с неприятно кольнувшей его в самое сердце болью узнал в одной из голых женщин, сидевшей на коленях у мужчины в задранной консульской тоге, Ревекку. Ее большие синие глаза неотрывно смотрели на Ирода в то время, когда руки ее ласкали мужчину. Антоний перехватил ее взгляд и со смехом спросил Ирода:
– Узнал эту красавицу?
– Узнал, – признался Ирод.
– Октавии она не понравилась, а вот Соссию, похоже, пришлась по вкусу. Поэтому Ревекка здесь, а не в Риме. Ну да Соссию недолго осталось тешиться с прекрасной еврейкой – я решил взять ее с собой в Египет.
– А кто этот Соссий? – спросил Ирод, чтобы сменить скользкую для него тему.
– Как, ты еще не знаком с ним? – удивился Антоний и сделал знак рукой мужчине в задранной тоге. Тот немедленно согнал со своих колен Ревекку, оправил тогу и подошел к Антонию и Ироду. – Знакомься, – сказал Антоний, обращаясь к римлянину, – это мой друг и царь Иудеи Ирод, а это Соссий, новый наместник Сирии. Присоединяйся к нам, Соссий, не приличествует мужчине на виду у всех заниматься любовью, когда настоящие мужчины наслаждаются вином – этой чистейшей кровью земли.
За беспробудным весельем и пьянкой Антоний не забывал о делах. Разосланные им по всей Сирии откупщики возвращались с мешками, набитыми золотом. Антоний тут же, не считая, одаривал этим золотом своих и союзных солдат. Немалая сумма перепала и солдатам Ирода. К исходу третьих суток в пиршественной зале появился некто Гибреас, родом сириец, которого Антоний представил Ироду как радетеля интересов всей Азии.
– Выпей с нами, честный Гибреас, – предложил Антоний, наполняя его кубок вином.
– С удовольствием, – сказал Гибреас, принимая кубок. – Твой здоровье, всемогущий маг и чародей, щедрый на самые невероятные чудеса.
Антоний удивленно поднял правую бровь.
– Почему ты называешь меня магом и чародеем и о каких невероятных чудесах толкуешь? – спросил он.
– Потому, – ответил Гибреас, укладываясь на мраморное ложе, покрытое синим бархатным покрывалом с серебряными кистями, и кладя под локоть такую же бархатную подушку, расшитую причудливым восточным узором, – что если ты взыскал с нас две дани, то можешь даровать нам и два лета и две осени.
– О каких двух данях ты толкуешь, честный человек? – Изумлению Антония не было предела.
– О тех самых, которые доставили тебе твои сборщики дани, – ответил, улыбаясь, Гибреас и протянул Антонию свиток.
– Я не знаю ни о какой двойной дани, – сказал Антоний, отклоняя руку Гибреаса со свитком. – Тебе хорошо известно, что я никогда не считаю денег и, тем более, не веду записей моих расходов [189]. Все, что доставляют мне мои люди, я тут же раздаю солдатам. Разве это не так, Ирод?
– Зато я веду подробный подсчет дани, которую собирают для тебя твои сборщики, – сказал Гибреас. – Азия уже уплатила тебе сто двадцать мириад [190]талантов.
– Это много? – обратился Антоний к Ироду.
– Это непомерно много, – ответил вместо него Гибреас. – Если ты не получил этих денег, то поинтересуйся у своих сборщиков, куда они их дели. Если же получил и раздал своим друзьям и солдатам, находящимся сегодня в Самосате, то мы погибли.
На четвертый день Антоний засобирался к Клеопатре. Ехать в Египет он решил морем. Перед отъездом Антоний устроил небольшое застолье, на которое пригласил узкий круг самых близких друзей. В ходе застолья он поинтересовался у Ирода:
– Что слышно нового о нашем общем с тобой враге Антигоне?
– Антигон все еще скрывается в Иерусалиме.
– Кто из римлян находится теперь в Иудее? – спросил Антоний Соссия.
– Махир с двумя легионами и тысячью всадников, – ответил Соссий.
– Этого мало, – сказал Антоний. – Пошли туда столько же и лично проследи за тем, чтобы с нашим врагом было, наконец, покончено.
– Слушаюсь, – сказал Соссий, склонив голову. – Я немедленно направлю в Иудею еще два легиона и сам отправляюсь туда, как только освобожусь от самых неотложных дел в Сирии.
– Вот и ладно, – сказал Антоний, поднимаясь. – Жду вашего совместного доклада об освобождении Иудеи из-под власти самозванца.
5
Доклад этот, однако, Антоний получит не скоро. Проклятие, довлевшее над Иродом, обернулось для него новой кровью. Возвращаясь из Самосаты на родину, он сделал короткую остановку в предместье Антиохии Дафне. Здесь ему опять приснился окровавленный человек, которого он поначалу принял за Малиха. Когда же человек этот приблизился к нему, то оказался не Малихом – ночным кошмаром последних лет, – а братом Иосифом. Иосиф держал свою отрезанную голову в руках, и голова эта с немым укором смотрела на Ирода. Ирод проснулся в холодном поту. Сев на постели и оттерев со лба липкую влагу, он долго смотрел в темноту, и из темноты этой уже не во сне, а въяве смотрела на него отрезанная голова Иосифа, в глазах которой читалась невыразимая тоска.
Иродом овладело беспокойство за судьбу оставленного в Иудее брата. Беспокойство это не прошло и тогда, когда на его зов в спальню влетел перепуганный начальник телохранителей Коринф и зажег все имевшиеся в наличии свечи. К утру беспокойство это усилилось, и Ирод уже не как ошеломившую его новость, а как продолжение превратившегося в явь сна прочитал доставленное ему из Иудеи донесение о гибели брата. Иосиф, приняв под свое командование шесть когорт, приданных Махиром в дополнение к имевшимся у него силам, отправился в Иерихон, чтобы взять оттуда последние запасы продовольствия и скота. По дороге в Иерихон на него напали притаившиеся в горах антигоновцы, следившие за каждым его шагом от самого Иерусалима. Командовал этими отрядами некто Папп – друг детства Антигона, заявивший о себе в последние годы как убежденный зилот. Словно бы в насмешку над притязаниями Антигона стать царем Иудеи, Папп приказал выгравировать на своем щите девиз всех зилотов: «Никакой власти, кроме власти Закона, и никакого царя, кроме Бога». До поры до времени Антигон мирился с дерзостью Паппа, утешая себя мыслью, что девиз зилотов, пока он борется с Иродом за высшую власть в стране, ему только на руку. Про себя же он решил, что как только Ирод будет убит, следующей жертвой станет Папп, которую он принесет самому себе в качестве искупительного дара за все перенесенные им мытарства [191].
Но до Ирода нужно было еще добраться, что оказалось делом непростым. Зато оставались в живых два других его брата, которые наверняка станут мстить ему не только за Ирода, но и за Фасаила, которого он довел до самоубийства. Вот Антигон и решил использовать Паппа с его крайней нетерпимостью ко всем инородцам для физического устранения ближайших родственников Ирода, а польщенный таким доверием Папп, в свою очередь, сколотил вокруг себя отряды отчаянных головорезов из числа сикариев.
Иосиф, не ожидавший нападения на него людей Паппа, не успел даже перестроиться в боевые порядки, – настолько нападение противника оказалось неожиданным. Численность антигоновцев была меньше численности воинов Иосифа, но если антигоновцы были сплошь сикариями, искусно владевшие кинжалами и мечами, то когорты Махира, состоявшие преимущественно из необученных сирийских наемников, еще только учились обращению с оружием. Пока отряды Иосифа были в состоянии сражаться, Иосиф держался, показывая сирийцам пример личным мужеством. Когда же бóльшая часть воинов Иосифа пала, началась самая дикая резня. Сикарии, выполняя приказ Антигона никого не оставлять в живых под страхом децимации [192], добивали даже тех, кто, смертельно раненые, подавали хотя бы малейшие признаки жизни. Взору прибывших с большим опозданием Махира и спешно вызванному из Идумеи Фероры предстало жуткое зрелище: все пространство между горами, с которых напали на воинов Иосифа сикарии Паппа, было сплошь усеяно трупами, с которых было снято и унесено все, что представляло хоть малую ценность. Раздетые трупы на жарком летнем солнце вспучились и источали смердящий запах, привлекавший внимание падальщиков. Сколько ни искал Махир среди павших труп Иосифа, но так и не нашел его, пока Ферора не признал наконец по большому родимому пятну на правом плече одного из догола раздетых, с бесчисленным множеством колотых и резаных ран трупов своего брата. Поручиться с уверенностью, что это труп именно Иосифа, а не кого другого, Ферора не мог, поскольку тело с родимым пятном на правом плече было обезглавлено, и потому его похоронили вместе с сотнями других павших воинов в одной общей братской могиле. Позже Махиру стало известно, что труп, опознанный Ферором как его брат, был действительно погибшим в бою Иосифом, а голову его отрезал и доставил в Иерусалим Антигону Папп. Ферора послал в Иерусалим парламентера с предложением Антигону выкупить у него голову Иосифа за двадцать пять талантов. Антигон запросил вдвое дороже. Ферора выкупил у него голову брата за пятьдесят талантов и захоронил ее в могиле отца.
Этой страшной для Ирода потерей проклятие, довлевшее над ним, не исчерпалось. По всей Иудее прокатились смуты. Восставшие выставляли разные, порой взаимоисключающие требования. Одни настаивали на полном отложении Иудеи от Рима и чуть ли не объявлении ему войны. Другие говорили, что Рим связан с Иудеей союзническими обязательствами, которые никогда не нарушал, и потому Рим вряд ли потерпит измены со стороны иудеев, тем более объявления ими независимого государства, по территории которого пролегают пути, связывающие две крупнейшие его провинции – Сирию и Египет. В конце концов было решено составить представительную депутацию из самых уважаемых и состоятельных иудеев численностью в одну тысячу человек и отправить ее в Рим с требованием к сенату объявить назначение царем Иудеи Ирода незаконным и признать право иудеев считать своим царем Антигона.
Узнав о демарше иудеев, отложилась от Ирода и покоренная им Галилея. Все, кто продолжал считать себя приверженцами Ирода и не желал признать над собой власть Антигона, были схвачены, связаны, этапом согнаны в Магдалу [193]и утоплены в Геннисаретском озере [194].
Наконец, Ироду стало известно, что Махир, осознав свою неспособность в одиночку продолжить войну с Антигоном, послушался совета Фероры и удалился со своим войском в Идумею, население которой если и не поддерживало в открытую Ирода, то по крайней мере лояльно относилось к своему соплеменнику. Здесь Махир взял под охрану семью Ирода, для чего приступил к строительству в местечке Гитта сильно укрепленной крепости.
Ирод, оказавшийся во враждебном окружении, также понимал бессмысленность ведения войны против Антигона, располагая столь незначительными силами. Проводя сутки напролет в размышлениях, как ему одолеть своего смертельного врага и утвердиться во власти, дарованной ему Римом, он стал испытывать раздражение против воинствующего национализма евреев. Он понимал, что евреи, провозгласив над собой царем Антигона, в скором времени разочаруются в нем, обнаружив, что Антигон, как и большинство наследников славного Маттафии, печется отнюдь не об их благе, а единственно о том, чтобы удовлетворить свое тщеславие. Жестокий по натуре, он окажется для Иудии даже худшим царем, чем был для нее его дед Александр Яннай. Но как убедить в этом евреев, пока земля Иудеи не пропиталась кровью ее народа и не обезобразилась крестами, на которых будут мучительно умирать ее сыновья на глазах своих жен и детей? И тут ему снова вспомнился давний разговор в кругу семьи за завтраком, во время которого муж Саломии Иосиф сказал: «Страх перед неминуемой карой – вот лучший способ отвратить человека от греха и сделать его счастливым». Страх, который повелевает иудеям быть законопослушными, страх, впитываемый с молоком матери, страх, ниспосланный на них устами пророка Иеремии, если те не прислушаются к его предостережениям: «Воздай им, Господи, по делам рук их; пошли им помрачение сердца и проклятие Твое на них; преследуй их, Господи, гневом и истреби их из поднебесной» [195].
Как ни хотелось Ироду расправиться с Антигоном силами одних лишь евреев, ситуация складывалась против его намерений. Иудеям хочется его, Ирода, крови и крови его близких и союзников? Они получат кровь. Но не ту, какая им грезится, а захлебнутся в собственной крови.
6
Осень в тот год выдалась ранняя. Но не было видно людей, собирающих виноград, фиги и маслины, как не было видно и земледельцев, вышедших в поля сеять пшеницу и ячмень. Обочины опустевших дорог поросли бурьяном, и в них горько плакали в предчувствии близящейся беды анака [196].
Ирод, не задерживаясь в Келесирии, оставил по левую руку от себя заснеженную вершину Гермона, воспетую псалмопевцем [197], и вступил в дружественный ему Тир. Наняв здесь восемьсот греков, он дождался прибытия из Сирии первого легиона римлян из двух обещанных Соссием и спустился берегом моря в Птолемаиду, где из-за начавшихся дождей вынужден был провести с войском на зимних квартирах весь долгий месяц тебеф [198]. Пошел третий год назначения Ирода сенатом Рима царем Иудеи, а он не только не стал царем, но и самая его жизнь зависела от исхода затянувшейся войны с Антигоном, на стороне которого находилось большинство населения Иудеи и Галилеи.
С окончанием дождей, едва небо очистилось от туч и выглянуло солнце, Ирод начал поход в Галилею. И опять, точно бы проклятие, довлевшее над ним, не желало отпускать его из своих цепких объятий, начались холода, с гор налетел ветер и принес с собой обильный снегопад, вскоре превратившийся в бурю. Ирод, кутаясь в плащ, с тоской думал о том, что если Предвечный ниспошлет на Иудею еще одну такую суровую зиму, как прошлая и нынешняя, страну постигнет голод.
Солдаты на марше согревались неразбавленным вином, а на привалах разводили костры в полнеба. То и другое быстро выдало присутствие в Галилее большого войска. На Ирода внезапно напали, и он не мог поручиться, что на этот раз его крови жаждали родственники казненных им бунтовщиков, прятавшиеся год назад в пещерах. Не желая нести неоправданные потери, Ирод отступил и заперся в одной из повстречавшихся на его пути крепостей, население которой давно покинуло ее, отчего в крепости все покрылось плесенью и гнилью, а остатки съестных припасов сгрызли мыши. Впрочем, последнее обстоятельство мало беспокоило Ирода: у него своего продовольствия хватило бы на несколько месяцев обороны, возникни в этом необходимость.
Сюда, в крепость, в средние числа месяца шиват [199], прибыл из Сирии второй легион римлян. При виде столь значительной армии галилеяне сняли осаду крепости и разбежались. Ирод, горя желанием поскорее разделаться с убийцами своего брата Иосифа, созвал военный совет, на котором объявил о своем намерении кратчайшим путем двинуться в Иерихон. Возражений не последовало. Ирод приказал накрыть столы и сытно накормить и напоить командиров. Когда ужин закончился и все, включая Ирода, покинули дом, в котором проходил совет и затянулся до глубокой ночи ужин, внезапно раздался треск сгнивших стропил и внутрь дома всей своей массой рухнула крыша, а вслед за ней обвалились и стены. Не отходивший ни на шаг от Ирода Коринф лишился дара речи, потрясенно глядя на развалины, в которые превратился казавшийся с виду прочным большой дом, и понадобилась целая вечность, прежде чем он пришел в себя и сказал:
– Вот, царь, лучшее доказательство того, что Предвечный любит тебя, раз Он дал тебе и твоим людям возможность избегнуть висевшей над нами на волоске гибели.
Ирода удивили не столько слова своего верного телохранителя, в котором он не подозревал наличие большого ума, сколько его обращение к нему: царь. Так за все время, прошедшее с назначения его сенатом Рима царем Иудеи, к нему обратилась лишь раз Ревекка, готовя для него постель в доме Антония.
«Царь, – повторил про себя Ирод. – Ну конечно, я царь, и должен доказать это прежде всего самому себе, чтобы признали меня царем все остальные».
Наутро, построившись в походные колонны, армия Ирода выступила из крепости. На границе с Самарией на них напало до шести тысяч отчаянных храбрецов из числа евреев, обстреляв их из луков и камнями из пращей. Одна из стрел задела ногу Ирода. Рану врачи тут же обработали мазями и наложили повязку. Когда Ирод снова взобрался на коня, все шесть тысяч храбрецов были убиты. В Самарии против него выступил значительный по численности отряд Паппа, направленный сюда Антигоном. На этот раз под началом Паппа находились не только сикарии, но и тяжеловооруженные воины, обученные всем правилам ведения боя. Отряд Паппы на всем протяжении от Иерусалима до Самарии преследовал со своим войском Махир, который, узнав о вылазке антигоновцев, спустился с гор Идумеи и наносил ему болезненные уколы с тыла. Папп, которому Антигон приказал на этот раз доставить ему голову Ирода, всячески уклонялся от прямых стычек с Махиром. Встретившись лицом к лицу с армией Ирода и в то же время теснимый с тыла Махиром, Папп оказался в западне, из которой сделал отчаянную попытку вырваться.
– Какой будет приказ? – спросил подскочивший на коне к Ироду Юкунд.
– Уничтожить всех, – кратко ответил Ирод.
Сражение сразу же приняло ожесточенный характер. Перевес явно был на стороне Ирода. Воинам Паппа, однако, придавало мужество отчаянное положение, в котором они оказались. Оба – и Ирод, и Папп – стремились каждый по-своему использовать свои сильные стороны и слабые стороны противника. Когда же, наконец, с отрядом Паппа был покончено, Ирод отдал приказ изменить маршрут движения на Иерихон и следовать прямо на Иерусалим [200].
Армия уже построилась в походные колонны, когда Ирода догнал Юкунд, к седлу которого была приторочена веревка, на которой волочился один из схваченных в плен антигоновцев.
– Я сказал – уничтожить всех! – рассердился Ирод, мельком глянув на волочившегося по земле пленного.
– Я помню твой приказ, – кивнул Юкунд. – Но тут случай особый. Этот, – кивнул он на поднимающегося с земли пленного, – назвался Паппом. А насколько мне известно, именно Папп отрезал голову твоего брата Иосифа и отослал ее Антигону. – С этими словами Юкунд протянул Ироду щит, на котором были выгравированы слова: «Никакой власти, кроме власти Закона, и никакого царя, кроме Бога».
Ирод развернул коня и подъехал к мрачно глядящему на него пленному.
– Так ты и есть Папп? – спросил Ирод, тесня его грудью коня.
– Ты не ошибся, мое имя Папп, – ответил пленный, уклоняясь от наезжающего на него коня Ирода. – Это известно каждому, кто хоть раз видел мой щит.
– Меня не интересует твой щит, – сказал Ирод. – Я хочу знать: ты ли тот Папп, который отрезал голову моего брата?
– Ты и на этот раз не ошибся, – подтвердил пленный. – Я тот самый Папп, который отрезал голову твоего брата и отправил ее в дар Антигону.
– Ты хочешь сказать – царю Антигону, ради которого ты, чтобы выслужиться, не остановишься перед тем, чтобы отрезать голову своему отцу?
– Я не признаю никаких царей, – ответил Папп. – Ни царя Антигона, ни царя Ирода, ни кого другого. Для меня существует лишь один царь – Бог иудеев. И если Бог потребует от меня, чтобы я отрезал голову моему отцу и поднес ее в качестве жертвы Господу, я отрежу отцу голову и поднесу ее моему Богу.
Слова дерзкого зилота потрясли Ирода своей откровенностью и силой веры в Предвечного. Он спешился и вплотную приблизился к Паппу, который оказался на голову выше него. Глядя ему прямо в глаза, он приказал собравшимся вокруг него солдатам:
– Освободите его от пут.
На Паппе разрезали веревку, и она упала к его ногам.
– Какой род оружия ты предпочитаешь? – спросил Ирод.
Черты лица Паппа смягчились, он улыбнулся и, в свою очередь, спросил:
– Ты хочешь со мной сразиться? Но я вижу, ты ранен в ногу.
– Пусть тебя моя рана не беспокоит. Итак, я повторю свой вопрос: какой род оружия ты предпочитаешь?
Теперь Папп уже не улыбался, а смеялся, глядя сверху вниз на невысокого и щуплого Ирода.
– Выбирай сам – я готов отрезать и твою голову любым оружием и принести ее в дар моему Богу.
– Я тоже люблю делать подарки, – сказал Ирод, – но намерен подарить твою голову не Предвечному, Которого может оскорбить столь ничтожная жертва, а моему младшему брату Фероре, который выкупил твой дар у Антигона за ничтожно малую сумму в пятьдесят талантов. – Отступив на шаг от Паппа, Ирод приказал своим воинам: – Принесите ему оружие, которое было при нем до того, как он оказался в плену, и верните ему его щит.
Ирод подошел к своему коню, отвязал от седла щит и вынул из ножен обоюдоострый короткий меч. Коринф, тенью преследующий Ирода, шепнул ему на ухо:
– Позволь, царь, мне оторвать башку этому напыщенному петуху. Я сделаю это без всякого оружия одними голыми руками.
– Не вмешивайся, – сказал Ирод. – И потрудись проследить за тем, чтобы нам никто не помешал сразиться.
Вокруг Ирода и Паппа образовалось тесное кольцо воинов. Паппу вручили его щит и длинный меч с золотой рукоятью с нанесенной на него инкрустацией из черной эмали. Противники сошлись. Ироду мешала его раненая нога. Но и Папп был не в лучшей форме: после того, как Юкунд протащил его волоком по земле, тело его ныло от ушибов и ссадин. К тому же его длинный тяжелый меч не позволял ему отбивать выпады Ирода, а только рубить им, как топором. Глядя на них со стороны, можно было подумать, что сошлись в поединке не смертельные враги, а гладиаторы, не испытывающие друг к другу никакой ненависти, а озабоченные лишь тем, чтобы доставить удовольствие наблюдающим за их поединком зрителям. Охочие до такого рода зрелищ римляне даже стали делать между собой ставки на победителя. В какой-то момент всем показалось, что споткнувшийся на больную ногу Ирод неминуемо погибнет от удара занесенного над ним меча. Но Ирод ловко перекатился с одного бога на другой, отвел удар Паппа щитом и снова оказался на ногах.
Римляне дружно скандировали свое излюбленное: «Бей, режь, жги!», – как они делали это обыкновенно в цирках, поддерживая пыл дерущихся не на жизнь, а на смерть гладивторов, и было непонятно, кому адресовался их крик. Чем дольше продолжался поединок, тем более заметным становилось, что Папп устал. Ему все трудней и трудней было размахивать тяжелым мечом. Теперь он орудовал им, как копьем, делая выпады и выбрасывая вооруженную руку далеко вперед. Ирод тоже устал, но выглядел свежее противника. В один из выпадов Паппа, когда он ринулся на Ирода, выставив перед собой меч, Ирод коротким движением щита отбил меч в сторону и принял налетевшего на него Паппа на свой короткий меч. Папп, еще не понимая, какую ошибку совершил, удивленно посмотрел на свой живот, из которого хлынула кровь, поднял глаза на Ирода, согнулся в пояснице и ничком рухнул на землю. Ирод вытер свой меч о подол плаща, убрал его в ножны, подобрал тяжелый меч, выроненный Паппом, высоко занес его и одним ударом отсек ему голову. Римляне устроили овацию, приветствуя Ирода. Ирод же, ни на что и ни на кого больше не обращая внимания, подозвал Терона, простоявшего весь бой будто в оцепенении, и приказал:
– Отправь голову этого ничтожества в дар моему брата Фероре, а тело оставь лежать здесь, – пусть оно станет моим даром шакалам.
Верный Терон только теперь обрел дар речи.
– С одним условием, – сказал старый воин. – Пусть поединок, свидетелем которого я стал, будет последним в твоей жизни.
Ирод поднял глаза на ординарца, встретился с ним взглядом и по тому, что прочитал в его глазах, понял, что это не просто требование подчиненного, а угроза, которую незамедлительно приведет в исполнение этот подчиненный, если командир не выполнит его условия.
– Ты прав, Тирон, – сказал он. – Недостойно царя Иудеи вступать в поединки на потеху публике. Обещаю тебе, что такое никогда впредь не повторится [201].
7
Поединок с Паппом вымотал последние силы Ирода. К тому же разболелась раненая нога. Продолжать в таком состоянии поход на Иерусалим не имело смысла. Ирод отпустил солдат на ночлег, а себе приказал приготовить баню. В ожидании, когда нагреется вода, он прилег отдохнуть и тотчас впал в забытье. Когда его разбудили, над деревней опустилась ночь. Солдаты уже поужинали и легли спать. Ирод, прежде чем помыться, решил проверить караулы. Припадая на раненую ногу, он обошел лагерь и, удостоверившись, что посты бодрствуют, отправился в сопровождении мальчика-раба в баню. Истопники, сделав свое дело, тоже ушли спать, оставив в помещении бани горящие факелы. Мальчик-раб помог Ироду раздеться и погрузиться в ванну. С наслаждением вытянувшись в горячей воде, Ирод жестом отпустил раба, у которого уже слипались глаза. Мальчик, благодарно улыбнувшись, убежал. Ирод остался один. Каждой порой своего измученного тела он ощущал благотворное действие горячей воды. Тишина стояла такая, что треск догорающих в печи дров казался ударами онагров о каменную крепостную стену. «Вот так же будут трещать стены Иерусалима», – подумал Ирод. На поверхности воды, наполнившей ванну, отражались огни факелов.
И тут до слуха Ирода донесся слабый металлический звук. Ирод насторожился. Ему не показалось: это был звук скользнувшего по каменному полу меча. Тотчас вслед за металлическим звуком раздался шепот: «Да тише ты! Он может нас услышать». «Ну и что? – ответил ему другой голос. – Он же голый». «Он и голый оторвет тебе башку, так что ты и пикнуть не успеешь».
Ирод скользнул взглядом по бане, заполненной паром. Одежда его вместе с мечом находилась шагах в пяти от него. Если те, кто прячется в бане, вздумают напасть на него, он не успеет даже выскочить из ванны.
– Бежим! – вдруг явственно прокричал кто-то третий, и Ирод увидел, как за колоннами возник в полном вооружении папповец и стремглав бросился к выходу. За ним появились и тоже пробежали к выходу двое других папповцев, держа наготове мечи. Прежде, чем Ирод успел что-либо сообразить, следом за тремя первыми папповцами появились еще двое. Один из них на мгновенье задержался, бросил на Ирода полный ужаса взгляд и уже в следующее мгновенье исчез. Позже Ирод, вернувшись к своему дневнику, напишет об этом случае так: «В помещении бани, где я решил по солдатскому обычаю помыться после боя, спрятались несколько папповцев, решивших таким образом избежать сражения. Остается удивляться, как их не обнаружили мои телохранители и люди, готовившие мне баню. Или то был знак Предвечного, что Он хранит меня? Как бы там ни было, а воинам Паппа не пришло в голову, что им ничего не стоило убить меня, безоружного и голого, как только что появившийся на свет младенец. А может быть, страх, обуявший их, действительно стал той единственной силой, которая способна ввергнуть людей в оцепенении и сделать их послушными, как агнцы, ведомые на заклание?»
Эта запись в дневнике – единственное свидетельство достоверности одного из множества других подобных эпизодов, которые в конце концов убедили Ирода в том, что на царство в Иудее его назначил не сенат Рима, а помазал Сам Предвечный, не найдя никого другого из среды коренных евреев, достойных этого высшего в стране сана.
Глава четвертая ОКОНЧАНИЕ ДНЕВНИКА ИРОДА
1
Следом за ранней осенью наступила такая же ранняя зима. Из-за тревожной обстановки, сложившейся в Иудее, земля осталась не вспаханной. Обычная в это время года картина, когда поля заполняются людьми, сеющими пшеницу и ячмень, выглядела теперь угрюмой и вымершей. Ирод, чтобы поддержать дисциплину в своей разросшейся армии, разослал солдат по окрестным местам и приказал им вспахать и засеять землю. Солдаты были недовольны, но ослушаться приказа не посмели. К концу месяца мархесван [202]работы были закончены, и солдаты снова заскучали. Старослужащие воины все дни напролет играли в кости. Хуже дело обстояло с молодыми. В лагере появились женщины, участились случаи пьянства с драками и поножовщиной. Центурионы жаловались Ироду на резкое падение дисциплины среди подчиненных и просили его принять меры для исправления этого явно ненормального положения. С первым снегом Ирод объявил о начале больших маневров с возведением крепостей и земляных валов и обучению новичков правилам ведения наступательных боев. Выпавший снег вскоре растаял, по утрам на поля опускался густой туман, и это радовало Ирода, поскольку усложняло задачу обучения солдат.
В начале месяца тебеф из Александрии пришло письмо от Ревекки. Из него Ирод узнал о размолвке, случившейся между Антонием и Октавием. Октавий выражал недовольство тем, что его товарищ по триумвирату слишком долго пребывает в Египте в обществе распутнойКлеопатры (он так и написал в своем письме – «распутной»). Между тем, продолжала Ревекка описание недовольства Октавия, Антонию следовало бы вспомнить о своем мужнином долге перед своей законной женой Октавией и государственных обязанностях по укреплению позиций Рима на Востоке, где взбунтовалась Армения. К своему письму Антонию Октавий приложил золотую монету, на одной стороне которой был отчеканен профиль Антония, а на другой профиль Октавии. Антонию этот недвусмысленный намек младшего по возрасту товарища на то, что в сложившейся ситуации ему одному приходится думать как о благополучии семьи своей сестры, так и государственных делах, не понравился. Он выбросил монету, которую Ревекка подобрала и отослала со своим письмом Ироду, а сам, сообщала Ревекка, морем отплыл в Киликию [203], где возглавил римские легионы и отправился усмирять Армению. Закончила Ревекка свое послание тем, что поскольку у Клеопатры своих слуг и служанок предостаточно, она отказалась от услуг Ревекки, и ее в числе других женщин, всегда составлявших значительную часть свиты Антония, триумвир взял с собой.
Из последующих писем Ревекки Ирод узнал, что зимний поход Антония в Армению не принес ему ни славы, которая обыкновенно сопутствовала всем его военным начинаниям, ни примирения с Октавией, на что рассчитывал ее брат, отправив в Александрию гневное послание и отчеканенную в укор ему монету. Вместо того, чтобы дать возможность солдатам передохнуть после длительного пешего перехода, Антоний, уже тоскуя по Клеопатре, которую он оставил беременной, приказал армии двигаться форсированным маршем, чтобы поскорее покончить с непокорной Арменией. Легионы Антония продвигались настолько быстро, что за ними не поспевали тяжелые осадные машины и обозы с провиантом, и уже при штурме первых армянских крепостей, встретившихся Антонию, он испытал серьезные трудности. Обходной маневр также ничего не дал: усилившиеся морозы и отсутствие продовольствия стали союзниками армян и противниками римлян, так что на подступах к Арарату [204]Антоний потерял в горах, сплошь покрытых снегом, до 25 тысяч солдат.
Октавия, узнав о несчастье, постигшем мужа, продала все свои драгоценности, наняла две тысячи самых опытных солдат, вооружила их и отправилась вместе с ними на встречу с Антонием. Тот, однако, получив от нее из Афин ободряющее письмо, послал гонца с требованием к жене не сметь приезжать к нему и вернуться в Рим. Оскорбленная женщина выполнила его приказ, а Антоний, лишившись значительной части своего войска, заключил с Арменией мир и, взяв в качестве гаранта соблюдения этого мира царского сына Артаваза со всей его семьей, возвратился в Египет. Следующее свое письмо Ревекка обещала прислать Ироду уже из Александрии.
2
Откуда было знать Ревекке, что с последним ее письмом Ирод получил и записку Антония, в которой тот обозвал его размазней, не способным вступить во власть над Иудеей, дарованной ему сенатом Рима и подкрепленной римскими легионами, направленными в помощь ему наместником Сирии Соссием? Заканчивалась записка Антония обидными для Ирода словами: «Из твоей медлительности я делаю вывод: у тебя, кого я считал своим другом и бесстрашным воином, на уме одни лишь бабы да пьянки и полное нежелание заняться государственными делами».
В месяце адар [205], когда снова зацвел миндаль, границу Галилеи пересек Соссий во главе большого пешего и конного отряда и быстрым маршем направился в Самарию на соединение с основными силами Ирода. Теперь под началом Ирода оказалась армия численностью тридцать тысяч человек, – больше, чем насчитывала армия Александра Македонского в начале Великого восточного похода. Вся эта масса мужчин, разделившись на одиннадцать легионов, шеститысячную конницу и вспомогательные войска сирийцев, двинулась тремя колоннами под командованием Соссия, Махира и самого Ирода на Иерусалим.
На шестой день похода взору Ирода предстала столица Иудеи – «радость всей земли», как называл его псалмопевец [206], и «святой город», как назвал его Неемия [207]. Этот город Ироду предстояло покорить. Взять во что бы то ни стало. И дело тут было не только в том, что двоевластие, сложившееся в Иудее, становилось далее нетерпимым, – Ирод, вопреки мнению, сложившемуся о нем среди евреев, вовсе не держался за царскую власть, во всяком случае, покане держался. Как и три года назад в Риме он готов был уступить ее Аристовулу, благо за это время его шурин превратился из мальчика, не знающего страха, в рассудительного шестнадцатилетнего юношу, который имел еще и то преимущество перед простолюдином Иродом, что происходил из рода Хасмонеев. Антигон же, проводящий явно националистическую политику, обрекал Иудею и ее народ на физическое уничтожение. Всецело поглощенный одной лишь страстью – во что бы то ни стало стать общепризнанным царем, – он никак не мог взять в толк, что мир пришел в движение и стал теперь совсем не таким, каким был при Маттафии. В этом мире происходили невидимые поверхностному взгляду процессы сближения отдельных небольших стран с другими, более крупными, равно как сближения, а в ряде мест и слияния отдельных народов с соседними и образование новых наций. Процессы сближения и слияния разных народов, начавшиеся еще при Александре Македонском, стали теперь преобладающими. Они шли на пользу всем. Греки дали миру великую культуру, которая научила народы понимать и ценить красоту. Римляне проложили первоклассный дороги, которые сократили расстояния и способствовали развитию мировой торговли, что, в свою очередь, вызвало к жизни необходимость разработки общих правил поведения для всех стран и народов, и правила эти легли в основу возникновения новых норм сосуществования различных народов – международного права, одинаково соблюдаемого всеми. Свое слово в этих изменяющихся условиях жизни могли сказать и евреи с их приверженностью к неукоснительному следованию древним законам нравственности, известным как Десять заповедей заповедей Моисея [208]. Могли бы, но не сделали этого. И не сделали по причине своего национализма, искусственно подогреваемого вождями, убежденными в исключительности евреев, в их избранности Предвечным как особого народа, стоящего выше любого другого народа, в праве евреев использовать эти народы для достижения собственных корпоративных интересов и в то же время независимых от кого бы то ни было. С таким положением в меняющемся мире никто из соседей евреев не станет мириться, и рано или поздно неприязнь соседей евреев к их вождям распространится на весь народ. Именно такую неприязнь и испытали на себе евреи со стороны египтян, среди которых они появились и сформировались в самостоятельный народ. Вместо того, чтобы перенять у египтян то лучшее, что у них несомненно было как у древнейшего народа, ставшего основоположником цивилизации, евреи придумали себе миф о своей Богоизбранности и противопоставили себя коренному народу, среди которого жили и которым уже во времена сына патриарха Иакова и первенца Рахили Иосифа управляли. Когда же коренной народ не пожелал и дальше мириться с зависимым от все более разрастающегося по численности и все более замыкающегося в себе народа и указал ему на подобающее ему место рядом с собой, но не выше себя, евреи объявили себя рабами, хотя таковыми никогда в Египте не были, и покинули страну своего происхождения и многовекового пребывания в поисках более удобного для себя места проживания, объявив это место Землей, обетованной им Богом.
Та же Библия без прикрас рассказывает, сколько горя и страдания принесли евреи народам, тысячелетиями проживавшими на Святой земле и считавшими эту землю своей родиной. Точно в таком же зависимом от новых пришельцев положении могли оказаться теперь, во времена Ирода, и евреи, настаивая на своей исключительности и нежелании походить на кого бы то ни было.
Египтяне не простили евреям их предательствапо отношению к себе, думал Ирод, сам в полной мере испытавший на себе ненависть евреев как к инородцу, и стали первым древним народов, который проникся неприязнью к евреям, сочиняя о них разного рода небылицы. От египтян неприязнь к евреям унаследовали греки, а за ними и римляне. Ирод, воспитанный в эллинистическом духе, прекрасно знал историю и многое в этой неприязни если не разделял, то понимал и пытался в меру сил исправить. Что-то ему удалось, что-то нет. Примирение других народов с евреями произойдет много позже в христианстве, которое возникло в недрах иудаизма как ересь, а позже стало мировой религией. Этому во многом способствовала деятельность Ирода и как царя, наделенного огромными властными полномочиями, и как личности, искавшей, подобно греческим философам, высшего смысла существования и предназначения на земле человека. Парадокс, однако, состоял в том, что евреи, давшие миру христианство, сами в христианство не обратились, тем самым дав пищу их противникам для новых обвинений в самых невероятных преступлениях против человечества [209].
Иное дело шурин Ирода и брат Мариамны Аристовул. Воспитанный, как и Ирод, в эллинистическом духе, он, несмотря на свою молодость, одинаково равно относился ко всем людям вне зависимости от их национальной принадлежности и вероисповедания. Для него не имело значения, кто перед ним: иудей, грек, римлянин или кто другой. Длительная оборона Масады, когда ему, природному еврею, приходилось сражаться с евреями же, научила его другому: различать людей не по их национальной принадлежности, а по тому, враги ли они ему или друзья. Именно таким и должен быть, думал Ирод, царь Иудеи. Ну да что толку гадать, каким царем мог стать Аристовул, если царем уженазначен он, Ирод? Ему и надлежит спасти Иудею и ее народ. Даже ценой все возрастающей ненависти к нему со стороны евреев.
Ирод с грустью думал о тяжести ответственности, которую возложила на его плечи судьба. На время он даже забыл о защитниках города, которых ему для их же блага предстояло покорить. Он чувствовал себя Давидом, оказавшимся один на один перед огромным Голиафом. А как было бы славно, если бы перед ним находился сейчас не Голиаф-Иерусалим, а благочестивый Орна – славный потомок внука Ноя Иевуса, основавшего в незапамятные времена этот Великий город [210].
Впрочем, рассчитывать на благородство сторонников Антигона не приходилось. Иерусалим основательно подготовился к обороне. На десятки верст вокруг города были вырублены все леса и сожжены деревни, чтобы армии Ирода не досталось ничего съестного, а его коннице и вьючным животным фуража. В самом Иерусалиме сосредоточились значительные силы иудеев. По сведениям перебежчиков, там находилось до полумиллиона одних только воинов, не считая мирных жителей. Ворота города частью были заложены камнем, а частью обиты снаружи и изнутри железными и медными листами. Над воротами были надстроены сторожевые башни, в которых постоянно находились дозорные, внимательно следившие за всеми перемещениями воинов Ирода.
Нечего было и думать о том, что иудеев удастся выманить на открытую местность и тем самым сохранить Иерусалим. Город придется брать штурмом. Ирод с болью в сердце думал о том, какие разрушения претерпит Иерусалим, прежде чем Антигон признает свое поражение. Мысли о неизбежных людских потерях Ирод гнал прочь, – к крови он стал привыкать, и это было худшей из его привычек, которые он приобрел со времени обретения власти над себе подобными.
На военном совете, проведенном с Соссием и Махиром, Ирод принял решение возвести вокруг Иерусалима три земляных вала, превышающих по высоте стены города, и установить на них метательные машины. Командование первым валом, возведенным напротив Храма – самым укрепленным местом в городе, откуда двадцать семь лет назад Помпей штурмовал Иерусалим, – Ирод принял на себя; работами по возведению двух других валов и установкой на них метательных орудий он поручил руководить Соссию и Махиру. Пока сирийцы из вспомогательных войск занимались возведением валов, а воины под руководством центурионов снова и снова отрабатывали навыки штурма крепостных стен и ведения уличных боев, Ирод разослал по всей стране отряды с приказом собрать и доставить в лагерь продовольствие и фураж в необходимом для длительной осады количестве.
Иудеи, с раннего утра и до позднего вечера наблюдавшие со стен Иерусалима за ходом подготовки к штурму, насмехались над римлянами и сирийцами и осыпали оскорблениями Ирода, а ночами выбирались потайными подземными ходами наружу, вступали в короткие схватки с противником и поджигали осадные орудия. Ирод приказал солдатам выявить все выходы из подземелья и установить там засады. С окончанием возведения валов Ирод приступил к методичному обстрелу столицы горящим асфальтом, а крепостные стены огромными камнями. Защитников города это, однако, не смутило. Несмотря на пожары, возникшие в Иерусалиме, они по-прежнему все дни напролет проводили на стенах города, хвастая неприступностью столицы и тем, что на их стороне стоит сам Господь Бог.
– Эй, Ирод, – кричали они, – проваливай подобру-поздорову в свою Идумею и помолись своему истукану Котзе [211], чтобы он даровал силу твоим ятрам, пока мы тебе их не отрезали! Где это видано, чтобы народом, избранным Предвечным, правил простолюдин из чуждого нам племени? Не было такого от самого сотворения мира и никогда не будет, пока на земле останется хотя бы один еврей, ты это так и передай своим хозяевам в Риме!
Эти и другие подобные оскорбления всякий раз вызывали дружный хохот на стенах Иерусалима. Между тем время шло, а армии Ирода все никак не удавалось соорудить достаточно высокий земляной вал. Наступил праздник Пасхи, за ним праздник Пятидесятницы. В Иерусалиме наступил голод. Ирод приказал солдатам готовить пищу на виду у горожан и громко нахваливать ее, приглашая осажденных разделить с ними трапезу. Уловка ему удалась: иерусалимцы направили к Ироду посольство с просьбой разрешить ввоз в столицу животных, дабы не прекратились ежедневные жертвоприношения Господу Богу, как того требует древний обычай. Ирод удовлетворил просьбу осажденных. Каково же было его негодование, когда во время очередной трапезы, когда солдаты, как это и стало правилом в ходе непомерно затянувшейся осады, принялись нахваливать свою пищу, высыпавшие на стены Иерусалима иудеи, каждый с огромным ломтем жареного мяса в руке, отвечали им:
– Да провалитесь вы со своей непотребной мертвечиной, лучше посмотрите, чем питаемся мы! Не угодно ли и вам разделить с нами нашу трапезу, а то мы до того объелись, что в нас уже не лезут и самые лакомые куски!
Нашлись двадцать добровольцев из числа верных Ироду евреев, которых возглавил идумеянин Костобар. Человек огромного роста и недюжинной силы, способный завалить быка, он изложил Ироду свой план овладения Иерусалимом. Евреи-добровольцы переодеваются в одежду мирных иудеев и под покровом ночи проникают в город, выдав себя за сторонников Антигона, которые пришли помочь ему. Оказавшись в столице, они овладевают Яффскими воротами, расположенными на западе, откуда менее всего можно ожидать штурма, и отпирают их. Дальнейший успех зависит от расторопности Махира, которого иерусалимцы не считают серьезным противником. Ему и надлежит первым вступить в Иерусалим. Ирод одобрил план Костобара.
Солнце еще не взошло, когда Яффские ворота распахнулись, и в город ворвались манипулы Махира, за которыми ринулись центурии Соссия. Следом за Яффскими распахнулись Золотые ворота [212]на востоке, ведущие к Храмовой площади, а за Золотыми – Дамасские ворота на севере и Навозные на юге. Объединенная армия Ирода со всех сторон вступила в столицу. На улицах и площадях началась страшная резня. Загорелся Храмовый портик. Ирод метался среди сражающихся и, срывая голос, кричал:
– Антигон, ты жалкий трус! Зачем ты велел поджечь Храм? Или ты решил таким образом отомстить Предвечному за то, что Он отвернулся от тебя? Выходи, сразимся с тобой один на один, и пусть Господь Бог решит, кому из нас двоих быть царем Иудеи!
За Храмовым портиком огонь охватил жилые дома. Дым и копоть заполнили город. Верные Ироду евреи убивали каждого, у кого в руках оказывался хотя бы кухонный нож. От евреев не отставали и сирийцы, желавшие доказать всем и прежде всего себе, что и они храбрые воины. Но особенно свирепствовали римляне. Они не щадили никого: ни стариков и старух, ни женщин, ни малых детей. Убийства сопровождались грабежами. Срывали с тел убитых украшения и тащили из горящих домов все, что попадалось под руку. Ирод был в отчаянии. Отыскав Соссия, он схватил его и потребовал:
– Прикажи своим солдатам прекратить бесчинства!
Соссий, размазывая копоть на мокром от пота лице, отвечал ему:
– Слишком поздно! Мои солдаты обозлены на иудеев за то, что им пришлось в течение пяти месяцев осаждать Иерусалим. Так долго римляне не сражались еще ни за один город!
– И тем не менее я требую, чтобы ты положил конец убийствам и грабежам! Если ты пришел сюда затем, чтобы сделать меня царем пустыни, то мне не нужна такая честь даже над всей Вселенной, если за нее приходится расплачиваться ценой гибели и ограбления такого огромного числа моих сограждан!
Соссия эти слова разозлили.
– Мои солдаты имеют право на ограбление побежденных! – заявил он. – Таковы правила ведения любой войны и особенно такой упорной, какую мы ведем здесь. Золото – вот единственная награда, которая венчает победу! К тому же оно не нужно мертвым.
– Поэтому ты и убиваешь всех подряд, не считаясь с тем, враги перед тобой или немощные старики и старухи, слабые женщины и беспомощные дети? Скажи своим солдатам, что я одарю золотом каждого из них, пусть только они прекратят убийства и грабежи!
– Не переоценивай своих возможностей, Ирод: золота никогда не бывает много, а у тебя не найдется и тысячной доли того, что заслужили мои воины.
– Найдется! – в отчаянии закричал Ирод, желая во что бы то ни стало прекратить резню. – Ты только прикажи своим солдатам остановиться!
– Ловлю тебя на слове, – сказал Соссий и поспешил к Стратоновой башне [213], где, как ему доложили, сдался в плен Антигон. По дороге он отдал приказ римлянам прекратить избиение иерусалимцев и грабежи, удовольствовавшись тем, что им уже досталось в качестве трофеев.
3
С падением Иерусалима испытания Ирода не закончились. Пока Соссий допрашивал Антигона, презрительно называя его Антигоной [214]за то, что тот, вместо того, чтобы возглавить борьбу осажденных иудеев, трусливо, будто женщина, прятался за каменными стенами цитадели, Ироду пришлось с оружием в руках усмирять сирийцев, которые, глядя на римлян, не хотели уступать им в убийствах и грабежах, равно как своих сторонников-евреев, не желавших оставлять в живых никого из своих врагов. Едва усмирив тех и других, он тут же вынужден был кинуться к Храму, где оказавшиеся не у дел римляне вознамерились собственными глазами увидеть то, что хранилось в Святом Святых и что запрещалось видеть любому смертному, кроме разве что первосвященнику, да и тому не чаще одного раза в году. Наконец, наведя в городе относительный порядок, Ирод приказал представить ему списки всех самых знатных и богатых иудеев – сторонников Антигона, арестовать их, а принадлежащее им имущество конфисковать в пользу государственной казны, которая отныне переходит под его полный и безусловный контроль.
В городе началась охота за людьми. Знатными и богатыми оказались чуть ли не все горожане, у которых в поясах находили хоть один золотой, припасенный на черный день. Опасаясь, что в погромах примут участия римляне и сирийцы, Ирод уговорил Соссия и Махира вывести свои войска за стены Иерусалима. Сторонники Антигона увязались за ними, ища у них защиты, но Ирод приказал запереть ворота и обыскивать каждого, кто вознамерился ускользнуть от него. Зародился и быстро распространился слух, будто иерусалимцы проглатывают деньги и таким образом стремятся сохранить свои сбережения. Тогда всех, кто намеревался бежать из Иерусалима, стали убивать, тут же, у ворот, вспарывали им животы и копались в их внутренностях. Кое-кто действительно таким образом стремился избежать конфискации последнего. У большинства же убитых желудки оказались пусты. Из списков знатных иудеев, представленных Ироду, он приказал казнить на базарной площади самых активных сторонников Антигона. Таких насчиталось сорок пять человек. Казни еще продолжались, когда Ироду донесли, что на одного из приговоренных к смерти указали как на человека, который в ходе штурма столицы уговаривал Антигона и защитников города открыть ворота и во избежание неоправданных жертв впустить в Иерусалим Ирода с его армией. Этот человек якобы говорил: «По вероисповеданию Ирод иудей, а у каждого правоверного иудея не поднимется рука покарать своих единоверцев за одно только то, что они хотят видеть своим царем человека, в жилах которого течет царская кровь, а не простолюдина». Ирод спросил:
– Имя этого человека?
– Старейшина Самея, – ответили ему. – Один из самых богатых иудеев, имущество которого конфисковано.
Ироду это имя что-то напомнило, но что именно, он не мог вспомнить.
– Приведите его ко мне, – приказал он.
Человека, назвавшегося Самеей, привели. Ироду было достаточно одного беглого взгляда, чтобы узнать его. Как он и предполагал, этим человеком оказался старейшина, некогда выступивший против него в суде за казнь галилеянина Езекии и ста двадцати семи его разбойников, грабивших соседей-сирийцев. За время, прошедшее с тех давних пор, Самея заметно постарел, но голос у него оставался таким же зычным и многотонным, как прежде.
Представ перед Иродом, Самея сказал:
– По дороге сюда я увидел на площади тела моих товарищей, которых ты приказал казнить, не удосужившись даже допросить их. Между тем большинство из них ты легко узнал бы, поскольку все они присутствовали на суде над тобой, устроенном по моему настоянию первосвященником Гирканом за преступление, которое ты совершил, едва став областеначальником Галилеи. Напомню тебе, Ирод: щадя твою молодость, никто из них не подал свой голос против тебя. Это сделал один только я. И вот результат: те, кто пощадил тебя, убиты, а меня ты вызвал к себе. Уж не хочешь ли ты собственноручно казнить меня? Изволь, я готов принять смерть. Я ничем не лучше моих товарищей, которые до сегодняшнего утра составляли цвет и славу Иудеи.
Ирод не мог не признать, что старейшина, выступивший с памятной ему обвинительной речью в суде, исполнен достоинства, которое не часто встретишь в людях на краю гибели. Ему лишь раз довелось встретить подобного человека, но то был безумный старик, прятавшийся высоко в горах в пещере и казнивший у него на глазах всю свою семью, а затем, прокляв Ирода, покончил с собой. Самея не был похож на безумца и, судя по его словам, не собирался проклинать Ирода. И Ирод, не желая уступать Самее в проявлении чувства собственного достоинства, сказал:
– Нет, Самея, я не собираюсь казнить тебя. Более того: за тобой сохраняются все твои богатства, которые ты накопил за свою жизнь. Можешь получить их назад и идти, куда пожелаешь. Ты свободен.
Ни один мускул не дрогнул на лице гордого старика. Он сказал:
– Я никогда не был твоим сторонником, а теперь, после казни моих товарищей, подавно им не стану. По какой причине ты унижаешь меня, сохраняя мне жизнь?
Ирод усмехнулся.
– По одной-единственной, любезнейший Самея: чтобы ты до последних своих дней продолжал испытывать то унижение, какое испытал я, слушая твою речь в суде.
Позже Ирод узнал, что Самея не взял ничего из того, что у него конфисковали. Ирода это ни удивило, ни раздосадовала. Он лишь подумал о том, что хорошо бы иметь своими врагами побольше таких людей, как Самея.
4
Отпустив старика, Ирод из средств, конфискованных у своих состоятельных противников, вознаградил всех римских солдат, принявших участие в осаде и штурме Иерусалима. Не остались без наград начальники легионов, включая Махира, чей срок пребывания в Иудее закончился, но особенно щедро он одарил Соссию. Принимая деньги, наместник Сирии сказал:
– Мы пришли в Иудею, чтобы выполнить приказ Антония. Мы покидаем твою страну, Ирод, с чувством благодарности тебе за твою щедрость. Позволь и мне, прежде чем мы вернемся в Сирию, в знак памяти о нашем пребывании здесь поднести тебе дар, достойный твоего царского сана.
С этими словами Соссий поднес Ироду венец, выполненный из чистого золота.
– Я с благодарностью принимаю твой дар, – сказал Ирод, – и если у тебя не будет возражений, передаю этот венец в Храм в качестве жертвы Господу Богу, благодаря Которому нам ниспослана победа.
– Венец твой и тебе решать, как им распорядиться, – ответил Соссий.
Расстались они друзьями. Ирод проводил римлян до Самарии, где, взяв свою семью, возвратился в Иерусалим, а Соссий, отправился дальше, в Антиохию, ведя закованного в цепи Антигона, объявленного главным врагом Рима.
Из дальнейших записей Ирода, использованных позже Николаем Дамасским, нам известно, что Ирод запретил кому бы то ни было называть его царем Иудеи до тех пор, пока ему не сообщили, что по приказу Антония Антигон был обезглавлен. Факт казни Антигона подтвержден многими древними авторами, в их числе древнегреческим историком и географом Страбоном. Вот что написал он в своих «Исторических комментариях» [215]: «Привезя иудея Антигона в Антиохию, Антоний отрубил ему там голову. Он был первым римлянином, который велел таким образом казнить царственное лицо; по его мнению, иначе нельзя было заставить иудеев признать вместо него вновь провозглашенного царем Ирода, потому что даже пытки не могли побудить иудеев называть последнего царем. Антоний при этом полагал, что бесславная смерть царя заставит забыть иудеев о нем, а с другой стороны, ослабит ненависть их к Ироду».
5
В этой записи Страбона содержится одна неточность. В Антиохию Антигона доставил не Антоний, а Соссий. Соссий намеревался отправить Антигона в Рим, дабы предать там его суду сената. Этого-то суда и опасался Ирод. Антоний уже обвинил его в нежелании заниматься государственными делами, а новые сообщения Ревекки, поступившие из Александрии, о которых мы поведем сейчас речь, заставили его думать, что Антоний решил лишить его царского сана. Ничто не могло помешать и сенату, тремя годами ранее утвердившего Ирода в звании царя Иудеи, отобрать теперь у него этот титул и провозгласить царем Иудеи Антигона, благо он, в отличие от простолюдина Ирода, происходит из рода Хасмонеев и пользуется поддержкой огромного числа иудеев.
Недели и месяцы, проведенные в неизвестности, показались Ироду годами муки. Мать уговаривала его не повторять ошибок отца и, заполучив власть, немедленно начать укреплять ее не только в Иерусалиме, но и во всей стране. Ирод ничего ей на это не отвечал. Да он и не знал толком, радоваться ему, что он наконец добился царской власти, или эта власть ему не нужна? Состояние неопределенности с выбором, предоставленным ему самой судьбой, угнетала Ирода. Ничто не радовало его: ни семья, с которой он наконец соединился, ни бурные ласки Мариамны, которая изводила его своей ненасытной страстью, ни беседы с мудрым калекой Иосифом, которого он слушал вполуха, не сводя при этом взгляда с его волосатых рук, которые проникли в лоно Мариамы и извлекли оттуда на свет Божий его сына Аристовула. Став наконец царем, Ирод страшился: даже если Антоний подтвердит его полномочия, удастся ли ему сохранить за собой эту власть, как если бы царский титул был кубком, выполненным из тончайшего стекла, который ему поручили нести в кромешной тьме по узкой горной тропе, а ему в этом не только никто не помогает, но каждый норовит вырвать кубок из его рук, а самого Ирода столкнуть в пропасть.
А тут еще письма Ревекки, которая сообщала, что Антоний всецело подпал под влияние крючконосой Клеопатры, посулившей некогда Ироду: «Берегись отвергнутых женщин, они бывают страшно мстительны». Клеопатра манипулировала триумвиром как хотела. Пирам и оргиям, требовавшим огромных расходов, не было конца. Клеопатра велела изготовить для себя и своего любовника два литых золотых трона с жестким сидением и высокой фигурной спинкой, на которых было неудобно сидеть. Тем не менее Антоний, не желая огорчать Клеопатру, объявил ее царицей всего Востока, а ее детей и прижитого с нею сына провозгласил наместниками всех африканских и азиатских провинций. Сбросив тогу, он облекся в пурпурную мантию, надел на голову венец и в таком виде разъезжал с Клеопатрой по улицам Александрии, требуя от ее горожан, чтобы они при виде царской колесницы усыпали дорогу перед ней цветами, а сами падали ниц и закрывали глаза руками, как если бы видели перед собой не царствующих особ, а слепящее африканское солнце.
Октавий продолжал слать из Рима своему товарищу гневные письма. Он требовал от Антония прямого ответа на вопрос: соответствуют ли истине слухи, распространяемые в Риме, что Антоний вознамерился перенести столицу мировой республики в Александрию, а Рим превратить в провинцию Востока? Антоний лишь посмеивался и оставлял письма Октавия без ответа. Из Рима, продолжала Ревекка, приходили вести, что Октавий потребовал от своей сестры Октавии покинуть дом мужа и переехать к нему, и что Октавия будто бы умоляла брата разрешить ей остаться и дальше жить в доме мужа, не делать ему неприятностей, а что касается ее детей и детей Антония, оставленных на ее попечение покойной Фульвией, то она не жалела никаких сил и средств, чтобы они ни в чем не нуждались. Антоний, узнав об этом благородном поступке Октавии, сказал: «Ну и дура, лучше бы она последовала совету братца и переехала жить к нему, а что касается его и Фульвии детей, то и без Октавии найдется масса людей, которые почтут за честь позаботиться о них».
Клеопатра не удовольствовалась провозглашением себя царицей всего Востока, а требовала от Антония, чтобы тот передал в ее прямое подчинение Аравию и Иудею. Ложась во время нескончаемых пиров на одно ложе рядом с Антонием, она водила пальцем, унизанным перстнем с огромным рубином [216], по его лицу и говорила: «Ну что тебе стоит подарить мне эти царства? Разве моя любовь к тебе не заслуживает такой малости?» Антоний отводил руку Клеопатры и отвечал ей: «Сегодня тебе захотелось заполучить царства Ирода и Малха, завтра ты потребуешь подчинить тебе Сирию, а послезавтра отравишь меня, чтобы я не мешал тебе единовластно править половиной мира». «И отравлю, – смеялась Клеопатра. – Зачем мне любовник, который скупится сделать мне такой ничтожный подарок, как Аравия и Иудея?» Антоний воспринял шутливую угрозу Клеопатры всерьез и с тех пор, прежде чем приступить к трапезе, требовал, чтобы все кушанья и напитки пробовала вначале Клеопатра. Царицу веселила подозрительность Антония. Пробуя очередное блюдо, она говорила: «Это ты можешь съесть, оно слишком невкусное. А вот это я не советую тебе даже попробовать – оно так прекрасно приготовлено, что я съем его одна».
Во время одного из пиров Клеопатра вынула из своей прически цветок, погрузила его в кубок с вином и протянула Антонию. Тот, благодарно улыбнувшись, поднес было к своим губам, но Клеопатра удержала его руку. «Ты не заметил, что я не отведала вина из этого кубка?» Антоний насторожился. Теперь улыбнулась Клеопатра. «Если бы я хотела отравить тебя, – сказала она, – тебе достаточно было бы сделать всего глоток из этого кубка». «Что ты хочешь этим сказать?» – спросил Антоний. «Посмотри сам», – ответила Клеопатра и, подозвав одного из рабов, прислуживавших за столом, приказала ему выпить вина. Раб послушно взял кубок, пригубил его и тут же упал замертво. Клеопатра, глядя, как из искаженного судорогой рта раба повалила пена, расхохоталась. «Ну что, любимый? Теперь-то ты подаришь мне хотя бы кусочек Иудеи?»
В последнем письме, поступившим из Александрии, Ревекка сообщала, что на имя Клеопатры поступило послание от тещи Ирода Александры, в котором та приглашала египетскую царицу посетить Иерусалим и познакомиться с ее детьми – сыном Аристовулом и прекрасной дочерью Мариамной, женой Ирода. Это сообщение вывело Ирода из состояния оцепенения. «Довольно ждать, – решил он, – иначе Иудеей управлять стану не я, а мои родственники».
6
Вскоре в Иерусалим прибыл легат Антония Деллий. Молодой человек с подведенными глазами и повадками женщины привез Ироду личное послание Антония с поздравлениями с фактическим вступлением в царствование («Я уже отчаялся дождаться этого радостного дня, – писал Антоний, – и с тем большим основанием поздравляю тебя, храбрый лев») и сообщением, что по его приказу казнен в Антиохии Антигон – последний претендент на царский трон в Иудее из рода Хасмонеев. Пока Ирод читал и перечитывал послание Антония, Деллий, подобно бабочке, порхал с этажа на этаж дворца Гиркана – одном из немногих уцелевших от пожара домов Иерусалима, где разместился со своей семьей Ирод, – осматривал многочисленные его помещения, не оставляя без внимания даже спальни женщин, и не уставал восхищаться изысканностью вкуса иудеев. Восхищенье его превратилось в сплошной птичий щебет, когда во время обеда, данного в его честь Иродом, он увидел Мариамну и Аристовула.
– Ты не обыкновенная земная женщина, ты сама богиня Лето, которую изводила своей ревностью Гера. – говорил он теще Ирода Александре, красневшей от неумеренных восторгов гостя, – и дети твои не обыкновенные земные дети, а солнцеликий Аполлон и подобная луне Артемида, которые заслуживают поклонения [217]. От имени триумвира Марка Антония должен выразить тебе, Александра, внушение за то, что ты утаиваешь от мира своих божественных детей. Единственное, что может извинить тебя, так это то, что ты немедленно пригласишь художника и велишь срисовать с Аристовула и Мариамны их портреты. Эти портреты я покажу Антонию, и можешь быть уверена, что мой господин, едва увидев их, выполнит любую твою просьбу.
Иосиф, муж Саломии, с улыбкой наблюдал за Деллием и посылал Ироду ироничные взгляды. Ирод, напротив, был мрачен. Ему претили женоподобные мужчины, а Деллий и не пытался скрыть своих педерастических наклонностей [218]. Особенно Ирода взбесило то, что его теща Александра, вступившая в тайную переписку с Клеопатрой, затеяла собственную игру, не поставив об этом в известность Ирода, и продолжала как ни в чем не бывало гнуть свое, отлично понимая, что Ирод не посмеет возразить против предложения Деллия написать портреты Мариамны и Аристовула. Художник действительно в тот же день появился во дворце Гиркана и в три сеанса написал в красках заказанные ему портреты.
Портреты ему удались. Мариамна и Аристовул выглядели на них как живые. Вопреки иудейскому запрету изображать людей, Ирод с удовольствием оставил бы эти портреты у себя. Но заказ на их написание поступил не от Ирода, а от Александры, работу художника оплатил Деллий, и у него не было никаких оснований воспрепятствовать их отправке в Александрию. Спустя два месяца в Иерусалим прибыл уже не очередной легат, а целая депутация от Антония с письмом, адресованном Ироду. Антоний писал, что хотел бы лично познакомиться с Александрой и ее детьми и надеется, что со стороны Ирода это не вызовет возражений. Правда, продолжал он, поскольку поездка тещи Ирода и его жены Мариамны в Египет может вызвать в среде иудеев ненужные кривотолки, он просит Ирода отпустить в Александрию одного лишь Арстовула, о храбрости которого он наслышан, а теперь и покорен его красотой. Письмо Антония заканчивалось словами: «Если только это не представит затруднений».
Приписка к письму оказалась как нельзя более кстати. Ирод тут же написал Антонию ответное письмо, в котором указал, что отъезд Аристовула из страны приведет к смутам среди иудеев, поскольку тем только и нужен повод для совершения государственного переворота. «Тебе лучше, чем кому бы то ни было, известно, – писал Ирод, – сколь нетерпимы иудеи к назначению меня, инородца, царем Иудеи. Теперь, когда я делаю все для того, чтобы навести в стране порядок, любой опрометчивый шаг с моей стороны может привести к нежелательным последствиям и отторжению Иудеи от Рима, что, полагаю, ни в твоих личных интересах, ни в интересах наших стран».
Ирод, отправляя письмо с депутацией Антония в Александрию, заботился не только о чести своей семьи, что могло вызвать неудовольствие со стороны падкого на сомнительные удовольствия триумвира. Как только ему стало известно о казни в Антиохии Антигона, он действительно предпринял ряд шагов по укреплению своей власти в Иудее. Прежде всего он разыскал давнего друга своего покойного брата Фасаила Офелия и через него выяснил, что Гиркан, после того как Антигон нанес ему тяжкие увечья, был увезен Пакором в Парфию в качестве пленника на случай, если Антигон его обманет и не расплатится с ним обещанными тысячью талантами и пятьюстами самыми прекрасными женщинами-еврейками. Пакор, однако, был убит, как, впрочем, был казнен и Антигон. Тем не менее изувеченный Гиркан постеснялся возвратиться в Иудею, где его помнили и почитали как первосвященника, и, заручившись посредничеством Сарамаллы, злейшего врага Пакора, обратился к провозглашенному царем Парфии Фраату с просьбой разрешить ему навсегда остаться в Вавилоне. Фраат, узнав со слов Сарамаллы о печальной участи Гиркана, такое разрешение дал, благо местные иудеи, во множестве осевшие в Вавилоне при Навуходоносоре, продолжали считать его первосвященником и воздавали ему соответствующие почести.
Ирод направил Фраату письмо, в котором просил его, равно как подчиненных ему вавилонских иудеев, не сердиться на него, если он пригласит Гиркана вернуться в Иерусалим и разделит с ним его царскую власть, дарованную ему три года назад сенатом Рима, а теперь вверенную ему волею Предвечного. В подтверждение своего намерения царствовать совместно с Гирканом он уговорил Сарамаллу в качестве своего полномочного представителя лично переговорить с Фраатом и убедить его в том, что Ирод глубоко почитает Гиркана как друга своего отца Антипатра и что как раз теперь наступил тот момент, когда он сможет отблагодарить его за все благодеяния, оказанные ему бывшим первосвященником за полученное воспитание и образование, а также за спасение его жизни во время суда, учиненного над ним по наущению его врагов-иудеев в отместку за справедливую казнь разбойников-галилеян, грабивших миролюбивых соседей-сирийцев.
Сарамалла, имевший на Фраата влияние, блестяще справился с возложенной на него миссией, и Гиркан, несмотря на мольбы вавилонских иудеев не покидать их и не верить на слово Ироду, который, как все идумеяне, обещает одно, а делает прямо противоположное, собрался в дорогу. Иудеи снабдили его значительной суммой денег, а вавилонский священник Ананил, покровительствовавший Гиркану за годы его вынужденного изгнания, вызвался проводить его до самого Иерусалима.
Нельзя было без чувства горечи и сострадания смотреть на изуродованного старика, которому перевалило за восемьдесят лет. Его дочь и теща Ирода Александра без устали рыдала и ни на шаг не отходила от отца. Не просыхали от слез и глаза его внучки Мариамны и внука Аристовула. Гиркан и сам разрыдался при виде поседевшего Ирода. Оставшись наедине с Гирканом, Ирод спросил:
– Что я могу сделать для тебя?
– Мне, старику, ничего не нужно, с меня достаточно того, что я снова дышу воздухом моей родины. Лучше позаботься об Ананиле, в доме которого я нашел приют и заботу об мне.
Ирод тут же назначил Ананила первосвященником вместо казненного Антигона. Это решение Ирода вызвало крайнее неудовольствие со стороны Александры. Как-то во время ужина, когда за столом собралась вся семья, включая приглашенного в качестве почетного гостя Ананила, с нею случилась истерика.
– Как ты мог, – кричала Александра, – как ты мог до такой степени унизить не только меня, но и моего отца, который был первосвященником при самом Помпее? Или ты, простолюдин, выскочивший в цари, решил, что отныне все важнейшие должности в Иудее станут занимать такие же простолюдины-выскочки, как ты?
За столом наступила гробовая тишина. Гиркан сидел, глядя в свою тарелку, и не смел ни на кого поднять глаза. Покрасневший Ананил, для которого назначение его первосвященником явилось полной неожиданностью, сослался на какие-то неотложные дела и, извинившись, вышел. Ирод, дождавшись, когда Александра немного успокоится, спросил:
– А кого бы ты хотела видеть на месте первосвященника?
– Моего сына и твоего шурина Аристовула! – с вызовом ответила Александра. – И я добьюсь, что Аристовул станет первосвященником!
По тому, как испуганно вскрикнула Мариамна, всем стало ясно, что Александра хватила через край. Дорис, снова непомерно располневшая, с интересом наблюдала, во что выльется эта внезапно вспыхнувшая ссора. Насторожившаяся Кипра всем своим видом умоляла сына не давать волю гневу. Даже Ферора, демонстративно сторонящийся всего, что происходит в их семье, и тот присмирел, с тревогой глядя на Саломию, которую, это было видно по ее помрачневшему взгляду, особенно задели слова Александры об ее брате-простолюдине, выскочившем в цари, и, стало быть, всех их, наследниках Антипатра, с которым считались первые лица Рима, – ничтожном происхождении.
– Кто станет первосвященником, а кто нет, – тихо произнес Ирод, обращаясь к одной лишь теще, – решаю я и никто другой. Ты, Александра, поступишь благоразумно, если раз и навсегда усвоишь это.
Тон, каким были произнесены эти слова, привел, наконец, Александру в чувства. Ирод же после этого злополучного ужина сделал для себя вывод: поскольку он по воле Предвечного царь и, послушный Его воле, должен оставаться таковым и впредь, то начинать следует с наведения дисциплины и полного послушания в собственном доме.
7
Начать, однако, ему пришлось не со своего дома и даже не с усмирения страны, народ которой продолжал роптать против его утверждения в царском сане, а с отражения внешней угрозы. Без всяких видимых причин царь Аравии Малх перешел со своим войском через Иордан и, вторгшись в пределы Иудеи, стал грабить и убивать ее население. Ирод, никак не ожидавший такого коварства со стороны родственника, немедленно снарядил и послал к Малху посольство с намерением вразумить того и объяснить, что Иудея, равно как ее царь Ирод, никоим образом не являются врагами Аравии, а, напротив, рассматривают ее как своего ближайшего соседа, с которым Иудея жила прежде и намерена жить впредь в мире и согласии. Малх, даже не приняв послов, приказал убить их. Это было невиданным нарушением всех норм взаимоотношений между соседними государствами. Ирод спешно собрал войско и выступил навстречу Малху. В первом же сражении арабы потерпели поражение и вернулись восвояси. Ирод расставил вдоль Иордана сторожевые посты, приказав им не вступать в стычки с арабами, если те вздумают снова вторгнуться в пределы Иудеи, а сам с основными силами вернулся в Иерусалим. Когда войско было уже на марше, в тыл ему неожиданно ударили невесть откуда взявшиеся египтяне под командованием Афениона, с которым Ирод по пути в Рим имел несчастье познакомиться во время своего кратковременного пребывания в Александрии. Афенион был евнухом, бесконечно преданным Клеопатре. Тот факт, что Ирод уклонился от удовлетворения похоти крючконосой царицы, вызвал в Афенионе презрение к нему. Клеопатра, потакая влюбленности в нее Афениона, позволяла ему наблюдать через специальную дырочку, сделанную в пологе кровати, за ее интимными утехами с мужчинами, доставляя тем самым своему обожателю единственную радость, на которую тот был способен. Лишившийся этой радости Афенион, рассчитывавший насладиться зрелищем связи царицы с гостем из Иудеи, сразу же возненавидел Ирода. Когда отвергнутая Клеопатра сказала Ироду: «Берегись отвергнутых женщин, они бывают страшно мстительны», – судьба его для Афениона была решена. Выпроваживая Ирода из покоев царицы, Афенион сказал ему: «Ты запомнил, что сказала тебе моя госпожа? Берегись, Ирод: оскорбление, которое ты нанес сегодня самой прекрасной в мире царице, не подлежит прощению».
Ирод тогда не придал словам Афениона никакого значения, и лишь теперь, встретившись с ним лицом к лицу и с потерями для себя отразив его подлый удар в спину своему войску, вспомнил его давнюю угрозу.
Ирод был исполнен решимости сделать все от него зависящее, чтобы раскрыть глаза Антонию на замыслы Клеопатры, влиянию которой он всецело подчинился и которая одна только и стала виновницей вторжения Малха в пределы Иудеи. Чем больше размышлял Ирод над причинами, побудившими его родственника со стороны матери нарушить мир между их странами, тем больше приходил к выводу, что их авторство принадлежит египетской царице. Стравив Аравию с Иудеей, она намеревалась ослабить их, а ослабив, включить их в состав Египта, распространив, таким образом, свою власть вплоть до Сирии.
Самым разумным в сложившейся ситуации было, конечно, привлечь на свою сторону Малха и вместе с ним убедить Антония в необходимости усмирить зарвавшуюся царицу. К сожалению, Малх оказался слишком глуп, если не только позволил сделать себя орудием в руках Клеопатры, но и казнил послов Ирода, предпочтя незнание знанию. Ироду не оставалось ничего другого, кроме как действовать самостоятельно. Он написал Антонию подробное письмо, ничем не выдав источник своей информации о замыслах Клеопатры. Антоний ответил ему своим письмом, в котором просил Ирода не придавать значения слухам, лишенным основания. Ирод в новом своем письме указал ему на факты, которые пусть не прямо, но косвенным образом указывают на заинтересованность Клеопатры в войне между Аравией и Иудеей. Антония эти факты убедили в том, что подозрения Ирода относительно замыслов Клеопатры небеспочвенны, поскольку она действительно донимала его просьбами подчинить своей власти Аравию и Иудею, хотя и не целиком, как ошибочно предполагает Ирод, а лишь незначительные ее части. К своему письму Антоний сделал приписку: «Бабы – они и есть бабы, даже если принадлежат к царскому роду. Я не знаю ни одной женщины, которая удовольствовалась бы тем, что имеет. Поэтому советую тебе поступить следующим образом: пошли Клеопатре отступного в сумме двести талантов золотом и столько же от имени Малха. Взбалмошная царица, полагаю, угомонится, а мы с тобой тем временем придумаем, как укоротить ее буйный нрав». Ирод последовал совету Антония и послал Клеопатре четыреста талантов от своего имени и от имени Малха.
Пока шла эта переписка между Иродом и Антонием, с берегов Иордана пришло новое трагичное известие: центурионы Ирода, оставленные там для несения сторожевой службы, нарушили его приказ не вступать в стычки с соседями и сами перешли через Иордан, чтобы, воспользовавшись затишьем, пограбить арабов в отместку за те грабежи и убийства, которые те совершили в приграничных районах Иудеи. Малх отразил вторжение в Аравию немногочисленных сил иудеев и полностью уничтожил их, не оставив в живых никого. Отныне ничто не мешало ему снова вторгнуться в пределы Иудеи и продолжить дело, начатое несколькими месяцами ранее.
И опять Ироду пришлось собирать войско. В то самое время, когда он уже готов был выступить в поход, случилось непредвиденное: Иудею потрясло страшное землетрясение. Обрушились дома и крепостные стены, погребя под собой множество людей, погибало множество скота в крытых загонах, уцелело одно лишь войско Ирода, да и то потому только, что находилось в палаточном лагере на открытой местности. Страну охватила паника. Слухи, один другого нелепее, с быстротой молнии облетели всю Иудею и свелись к тому, что землетрясение это – кара Господня, ниспосланная на иудеев за то, что они признали своим царем инородца, который вознамерился подчинить Богоизбранный народ язычникам и заставить его молиться их богам.
Брожение началось и в войске Ирода. В нарушение воинской дисциплины солдаты стали дезертировать и возвращаться в свои разрушенные землетрясением дома. Наступил самый критический момент во всей жизни Ирода. Он понимал, что если немедленно не предпримет самых решительных мер по восстановлению порядка, произойдет непоправимое: армия исчезнет, он лишится царского сана, арабы до нитки оберут Иудею, а самая Иудея войдет в состав Египта на правах захолустной провинции, с которой никто не станет считаться.
И тогда Ирод собрал свое разбегающееся войско перед стенами Иерусалимом и обратился к нему со следующей пространной речью [219]:
«Солдаты! Я отлично понимаю, что в настоящее время произошло многое такое, что препятствует нашему преуспеянию. Вполне естественно, что даже самые храбрые люди при таких обстоятельствах теряют свое мужество. Однако, так как война теперь неизбежна и постигшие нас бедствия не таковы, чтобы одним славным подвигом нельзя было поправить все сделанное, я решился поговорить с вами и указать, каким образом вы сможете вновь явить свою прежнюю врожденную вам храбрость. Сперва я желаю объяснить вам всю правоту этой нашей войны, к которой мы вынуждены благодаря наглости наших врагов. Если вы об этом хорошенько подумаете, то это должно быть для вас главной побудительной причиной к храбрости. После этого я намерен доказать вам, что постигшие нас теперь бедствия вовсе не так страшны и что у нас есть немало надежды на победу.
Итак, я начну с первого пункта, причем беру вас в свидетели правильности моих слов. Вы, конечно, знаете беззаконный образ действий арабов, которые всегда и всюду отличаются вероломством, как то естественно варварам, не знающим Господа Бога. Особенно они насолили нам своим корыстолюбием, своей заносчивостью и своими коварными интригами. Зачем мне много говорить об этом? Кто другой, как не мы, спасли их от опасности потерять власть и подпасть под иго Клеопатры? Только моя дружба с Антонием и расположение его к нам были причиной того, что их не постигли слишком тяжелые бедствия, так как Антоний старательно избегал предпринимать все такое, что могло бы возбудить наше подозрение. Когда же Антоний пожелал предоставить Клеопатре по части наших обоюдных владений, я также уладил это дело, одарив ее из своих средств богатыми подарками и снискав обоим дальнейшую безопасность. Расходы по этому делу я также взял на себя, выплатив двести талантов и поручившись за арабов такой же суммой. Эти деньги должны были бы пасть на всю страну, а теперь мы освобождены от этого платежа. Если уже несправедливо, чтобы иудеи платили кому-нибудь подати или поземельные налоги, то еще более неосновательно, чтобы мы платили таковые за тех, кого мы сами выручили. Особенно это относится к арабам, которые удержали за собой свою независимость благодаря нам и которые теперь желают лишить нас всего и обидеть нас, причем мы не враги их, но друзья. Если верность должна иметь место относительно самых ярых врагов, то тем более она неизменно должна быть соблюдаема по отношению к друзьям. Впрочем, это не относится к арабам, которые на первом плане преследуют одну только свою личную выгоду, причем не отступают даже перед явной несправедливостью, лишь бы иметь возможность обогатиться. Итак, неужели у вас еще возникает сомнение в том, следует ли наказать нечестивцев, когда того желает сам Предвечный и требует, чтобы мы всегда ненавидели заносчивость и несправедливость, тем более что мы в данном случае начали не только вполне справедливую, но и необходимую войну? То, что у эллинов и даже варваров признается за величайшее беззаконие, они сделали с нашими посланными, а именно – убили их. Греки считают послов людьми священными и неприкосновенными, мы же получили величайшие откровения и священнейшие законы наши от вестников самого Господа Бога. Священное имя послов может напоминать людям о Господе Боге и в состоянии примирить врагов между собой. Итак, разве можно совершить более крупное беззаконие, как убить послов, отправленных для выяснения истины? И каким образом такие люди смогут впредь быть счастливыми в жизни или рассчитывать на военную удачу, если они совершили такое злодеяние? Я полагаю, что это невозможно. Впрочем, может быть, найдется человек, который скажет, что правда не на нашей стороне, так как враги и многочисленнее и храбрее нас. Но говорить так совершенно недостойно нас, ибо на чьей стороне право, там и Бог, а где Господь Бог, там и сила и мужество. Если мы разберем наше нынешнее положение, то придем к следующим результатам: когда мы сразились с арабами, они, не выдержав нашего удара, обратились в бегство. Когда мы возвращались домой, на нас напал Афенион, не известив нас о своей войне с нами. Разве это свидетельствует о храбрости врагов, а не о вторичной их гнусности и коварстве? Чего нам поэтому отчаиваться в таком положении, которое, напротив, раскрывает нам наилучшие надежды? Неужели нам страшиться таких людей, которые всегда побеждаемы, когда сражаются по всем правилам, а когда считают себя победителями, то всегда достигают этого незаконным способом? Итак, если кто-нибудь все-таки станет еще считать их храбрыми, разве он сам при таком положении вещей не бросится на них с еще большим мужеством? Ибо отвага заключается не в бою со слабыми противниками, а в умении побить более сильных врагов. Если же кого-либо устрашают наши домашние бедствия и результаты землетрясения, то пусть он подумает о том, что этими самыми бедствиями введены в заблуждение те же арабы, имеющие о них самое преувеличенное представление, а также о том, как недостойно нам трусить из-за того, что придает им столько смелости. Ведь враги наши набираются храбрости не вследствие какой-нибудь своей личной удачи, но потому, что рассчитывают, что мы утратили всякую надежду, будучи сломлены нашими бедствиями.
Когда же мы двинемся на них, то сумеем умерить их пыл, причем наше мужество возрастет по мере того, как они в битве будут падать духом. Ведь мы вовсе не понесли уже столь крупного урона, да и постигшее нас бедствие вовсе не является, как готовы думать некоторые, знаком гнева Предвечного на нас. Вся эта неудача – дело простого случая. Если же все это случилось по желанию Господа Бога, то ясно, что теперь прекратилось по Его желанию, ибо Он удовлетворяется происшедшим. Если бы Он и дальше думал наказывать нас, то не изменил бы теперь Своего решения. А что сам Господь желает этой войны и считает ее справедливой, это видно из следующего: в то самое время, когда многие в стране погибли от землетрясения, все солдаты остались невредимыми и все вы спаслись. Тем самым Предвечный показал вам, что если бы вы двинулись в поход всем народом, с детьми и женами, никто из вас не потерпел бы никакого урона. Имея все это в виду, особенно же памятуя, что в Господе Боге вы имеете всегдашнего заступника, вы теперь смело и спокойно можете выступить против тех, кто нечестив к друзьям, кто вероломен в битвах, кто насильствен по отношению к послам и кто всегда был побеждаем нашей доблестью».
Это была последняя запись, собственноручно сделанная Иродом в своем дневнике [220].
Глава пятая НАЧАЛО ПРЕОБРАЗОВАНИЙ
1
Речь Ирода возымела на солдат должное действие. Паника прекратилась. Войско, состоящее на этот раз из одних евреев, выступило в поход, и уже на третий день, форсировав Иордан, вступило на территорию Аравии. Не встречая на своем пути особого сопротивления, войско стремительно продвигалось на восток, к Филадельфии [221]. Великан Костобар, отличившийся при штурме Иерусалима и назначенный Иродом командиром первого легиона, оторвался далеко вперед от основных сил евреев и первым встретил арабов, которыми командовал любимец Малха Элфем. Элфем закрепился в крепости, сооруженной как форпост в двадцати верстах от Филадельфии. Костобар с ходу атаковал крепость и выбил Элфема из нее. Оказавшись в открытом поле, арабы построились в боевой порядок и приготовились отразить натиск Костобара. Завязалось сражение. Обе стороны понесли значительные потери, но в конце концов перевес оказался на стороне Костобара.
В это время подоспели основные силы евреев, которыми командовал Ирод. Войско Элфема отступило и скрылось за стенами Филадельфии. Ирод приказал возвести вокруг города валы и начал методично обстреливать арабов камнями и горящим асфальтом. Город охватил пожар. На помощь Элфему уже спешил с основными силами Малх. При виде царя Элфем, чтобы не погибнуть в огне, покинул город, рассчитывая взять войско Ирода в клещи. Перевес в силах с прибытием Малха оказался на стороне арабов. Перевес, но не военная удача. Смешавшись с евреями, арабы перестали ориентироваться, где свои, а где чужие. Началась ожесточенная рубка, в которой евреи одолели арабов. Не выдержав рукопашной, арабы кинулись в догорающий город. Евреи продолжали находиться среди них, вынуждая численно превосходящих их арабов топтать и убивать друг друга. Лишь у самых городских ворот Ирод приказал своему войску прекратить преследование противника. Потери евреев в том сражении составили не свыше пятисот человек, потери арабов – более пяти тысяч. Теперь дело осталось за малым: набраться терпения и дождаться, когда арабы, оказавшись в выгоревшем городе, запросят пощады.
Расчет Ирода оправдался: уже через неделю Малх, лишенный продовольствия и воды, направил к нему парламентеров с поручением принять все условия мира, какие сочтет нужным выставить Ирод, а также готовности заплатить любые деньги за воду, которую они намерены у него купить. Ирод отказался принять послов и отослал их назад, передав через Костобара, что условия, на которых возможно заключение мира между Иудеей и Аравией, должны представить сами арабы, а что касается воды, то он никогда ею не торговал и впредь торговать не намерен, так что они обратились не по адресу.
Уже на следующий день из города вышли сто безоружных арабов и добровольно сдались в плен. Ирод разгадал уловку Малха: тому хотелось узнать, как царь Иудеи обойдется с пленными, казнит ли их, как казнил Малх послов Ирода, или свяжет их и обратит в рабов. Ирод не сделал ни того, ни другого: он приказал накормить и напоить пленных и отпустил их по своим домам. Этот поступок Ирода, показавший арабам всю ничтожность своего царя, привел Малха в бешенство. Он насильно вытолкал свое войско из города с приказом или покончить с Иродом и его войском, или пасть в бою. Арабы с отчаянием приговоренных к смерти ринулись на евреев. Евреи встретили их во всеоружии, умертвив еще до семи тысяч человек, а остальных оттеснили в город, приказав им запереть за собой ворота.
Осажденные окончательно пали духом. К Ироду вышел сам Малх со своей свитой и признал свое полное поражение.
Ирод сурово принял своего родственника и, не позволив ему сесть, спросил:
– Тебе передали твои послы, что ты должен сам предложить мне условия, на которых возможно заключение мира между нами?
– Передали, – не смея поднять глаза на Ирода, ответил Малх.
– Назови их.
– Ты получишь пятьсот талантов… – начал было Малх, но Ирод не дал ему договорить:
– Я пришел сюда не затем, чтобы торговаться с тобой. Назови условия, на которых ты намеревался покорить мою страну. Тебе наверняка эти условия известны лучше, чем мне, поскольку переговоры с Клеопатрой вел ты, а не я.
Малх, прежде чем ответить, тяжело вздохнул, снял с головы венец и, опустившись на колени, протянул его Ироду:
– Отныне правителем Аравии становишься ты, царь Иудеи.
Следом за Иродом опустилась на колени вся его свита, провозгласив:
– Приветствуем тебя, царь Иудеи и Аравии!
Ирод удовлетворился такими условиями мира, предложенного ему самими арабами, и приказал своему войску возвратиться на родину. Поверженные арабы одарили евреев щедрыми подарками и деньгами, а Ироду подарили табун чистокровных арабских скакунов белой масти [222], покрытых белой же попоной из тончайшей шерсти.
2
Возвращение Ирода из победоносного аравийского похода в Иерусалим нельзя было назвать триумфальным, несмотря на то, что назначенный им первосвященником Ананил устроил торжественное богослужение в храме с обильным жертвоприношением и угощением народа. Евреи опасались, что Малх лишь на словах признал Ирода правителем Аравии и при первом же удобном случае снова нападет на Иудею; арабы, в свою очередь, еще больше возненавидели евреев за причиненное им унижение и гибель своего войска и стали распространять о них слухи один другого нелепей. Чем нелепее эти слухи ни становились, тем более они походили на правду. Последующие события показали, что взаимное недоверие и вражда двух родственных народов не были лишены оснований и стали даже обосновываться исторически [223].
Первое, что сделал Ирод, вернувшись домой, это сформировал правительство, назначив на все высшие должности в государстве людей, доказавших ему свою личную преданность. По сути дела, это был первый опыт создания высшего коллективного органа управления страной, который позже был заимствован другими восточными монархами, создавшими при своих дворах диваны [224].
То обстоятельство, что Ирод не включил в состав первого во всей истории Израиля и Иудеи правительства никого из своих родственников, а первым министром и хранителем печати назначил вообще не еврея, а грека Птолемея, вызвало недовольство со стороны членов его семьи, особенно тещи Александры. Эта женщина, кичившаяся своей принадлежностью к роду Хасмонеев, никак не могла смириться с мыслью, что на должность первосвященника Ирод назначил не ее сына Аристовула, а никому неведомого простолюдина Ананила. Подстрекаемая саддукеями, всегда имевшими на нее сильное влияние, она жаловалась своему отцу Гиркану и дочери Мариамне на то, что Ирод оскорбляет ее достоинство, а в ее лице всех иудеев, которые никогда не смирятся с тем, что ими правят чужеземцы и простолюдины.
Гиркан, никогда не отличавшийся честолюбием, отвечал дочери:
– Разве тебе недостаточно того, что Ирод объявил меня, иудея, соправителем, а своего единокровного брата Ферору не приглашает даже на семейные советы?
Александра впадала в негодование.
– Ферора ничтожество и тряпка, который не смеет высунуть носа из-под каблука своей рабыни! – кричала она. – А тебя Ирод сделал соправителем только для отвода глаз, чтобы подчинить своему влиянию ненавидящих его иудеев!
Гиркан искренне удивлялся:
– Меня всегда занимал вопрос, за какие прегрешения иудеи ненавидят Ирода?
– Это оттого, что ты слеп, а теперь, когда тебе откусили уши, стал еще и глух! – отвечала ему Александра. Гиркан, не обращая внимания на оскорбление, нанесенное ему дочерью, продолжал:
– Точно так же, как Ирода, иудеи ненавидели и его отца Антипатра. А за что? Этого я никогда не понимал и, наверно, до самой своей смерти не пойму. Антипатр, например, всегда был моим благодетелем, как был моим благодетелем его старший сын Фасаил, а теперь стал Ирод. Все они достойные люди, которые желают блага нашей стране и ее народу.
– Они идумеяне, и этим сказано все! – отрезала Александра.
– По вероисповеданию они такие же правоверные иудеи, как мы с тобой, – возразил Гиркан. – Если уж говорить о тех, от кого я более других претерпел множество горя и унижений, которых не пожелаю даже врагам моим, то ими окажутся мой единокровный брат Аристовул и его сын и мой племянник Антигон, возомнившие себя царями, а вовсе не Антипатр и его сыновья.
Александра сердилась на бестолковость отца, который к старости вконец выжил из ума, если перестал понимать вещи, доступные разумению любого неграмотного иудея, и шла со своими жалобами к Мариамне, которая была беременна уже третьим ребенком от Ирода.
Мариамна, в отличие от деда, лучше понимала свою мать и была вовсе не против того, чтобы ее младший брат Аристовул стал первосвященником.
– Это было бы так здорово! – говорила она матери и обещала: – Я поговорю с мужем.
– Поговори, дочка, непременно поговори, – просила Александра. – Он так тебя любит, что не посмеет тебе отказать.
В минуты любовных игр, разжигая страсть Ирода, Мариамна действительно заводила с ним разговор, о котором просила ее мать.
– Ты любишь меня? – спрашивала она.
– Больше жизни! – говорил Ирод, покрывая ее тело поцелуями.
– Ты любишь меня как женщину или как царицу? – продолжала допытываться Мариамна.
– Как богиню! – отвечал Ирод и, желая продлить ласки, шептал ей на ухо так полюбившиеся ему еще в отроческие годы стихи: – «О, как прекрасны ноги твои в сандалиях, дщерь именитая! Округление бедр твоих как ожерелье, дело рук искусного художника; живот твой – круглая чаша, в которой не истощается ароматное вино; чрево твое – ворох пшеницы, обставленный лилиями; два сосца твои, как два козленка, двойни серны…» [225]
Мариамна, распаляясь от этих слов, отвечала в тон Ироду:
– «Положи меня, как печать, на сердце твое, как перстень, на руку твою: ибо крепка, как смерть, любовь; люта, как преисподняя, ревность; стрелы ее – стрелы огненные; она – пламень весьма сильный» [226]. – И, не в силах больше сдерживать страсть, охватившую обоих, они набрасывались друг на друга, как изголодавшиеся животные.
Насытившись, они откидывались на подушки, и Мариамна томно спрашивала:
– Почему ты перестал делать мне подарки?
– Что бы ты хотела получить? – вопросом на вопрос отвечал Ирод.
– Сделай моего брата первосвященником, – говорила Мариамна, и Ирод, благодарный жене за доставленное ему наслаждение, обещал, не придавая своим словам значения:
– Придет время – сделаю, любовь моя.
Вечерами, когда намеченные на день дела были выполнены, семья Ирода, включая равнодушную ко всему Дорис с заметно повзрослевшим сыном Антипатром, собиралась в огромном зале, брат хромоного Иосифа Досифей, обладавший зычным голосом и артистизмом, начинал читать вслух стихи. Гиркан обожал эти минуты семейного умиротворения, был благодарен Досифею за его артистизм, считая, что это он внес мир в их семью, и даже настоял на том, чтобы Досифей поселился во дворце, формально ставшим дворцом Ирода, а фактически принадлежавшим ему, Гиркану.
В один из таких вечеров Досифей избрал для чтения «Фаиду» Менандра [227]. Когда он прочитал стихи: «Худые сообщества развращают добрые нравы» [228], – Иосиф вскочил и, сильнее обычного припадая на больную ногу, стал вышагивать по залу и возбужденно говорить, обращаясь главным образом к Ироду:
– Вот! Вот слова, которыми дóлжно руководствоваться каждому правителю, ибо только страх перед неизбежным наказанием за грехи побуждает народ жить по законам, установленным Предвечным. Страх и только страх, которым пронизана вся Тора от первой ее строчки до последней, содействует установлению между людьми добрых нравов!
Ирод ничего не ответил на эти слова. С некоторых пор он стал испытывать отвращение к насилию. Ирод пресытился кровью и считал, что ее потоки льются не по вине людей, не соблюдающих законы, а по вине их вождей, преследующих свои корыстные интересы, далекие от предписаний Предвечного.
3
Проведя месяц в Иерусалиме, Ирод собрался в путешествие по стране, оставив за себя своего соправителя Гиркана. Переодевшись, чтобы его не узнали, в домотканый кутонет [229], подвязанный льняным поясом, и накинув на плечи широкий шерстяной плащ, на углах которого были подвязаны голубыми нитями кисточки, как это предписывалось законом [230], он ранним утром, когда еще не взошло солнце, вышел из города по направлению к Эммаусу, ведя в поводу осла. На значительном расстоянии от него город покинул конный отряд телохранителей во главе с верным Коринфом, ни на минуту не выпускавшим из виду царя.
Путешествие, которое Ирод намеревался завершись в две недели, растянулось на долгих три месяца. Иудея была разорена. Люди бедствовали. Все, с кем ни доводилось беседовать Ироду, ругали его и жалели Антигона. Антигон-де, говорили ему, был богобоязненным царем и желал блага своему народу, а чужеземец Ирод, обманом пленивший Антигона, откусил ему уши и съел их, после чего отрубил голову и тоже съел, за что римляне, ненавидевшие Антигона, объявили Ирода царем Иудеи. «Сбывается реченое пророками за прегрешения отцов наших, отступивших от уставов Господа, – говорили Ироду случайные собеседники. – И проклятием проклял нас Господь, весь народ Свой, и отдал нас на поругание нечестивцу».
Эти нелепые слухи, распространяемые по всей Иудее, не могли не иметь общего источника. И вскоре Ирод обнаружил этот источник. В ходе своего путешествия по стране он посетил множество синагог [231], в которых трижды в неделю собирались на богослужение иудеи. Ирод не мог не обратить внимания на то, что в каждой синагоге после традиционной молитвы, которую он помнил с детства [232], следовало чтение пророков, причем, как по сговору, всюду читалась одна и та же книга Малахии, начинающаяся словами: «Я возлюбил вас, говорит Господь. А вы говорите: “в чем явил Ты любовь к нам?” – Не брат ли Исав Иакову? говорит Господь; и однако же Я возлюбил Иакова, а Исава возненавидел и предал горы его опустошению, и владения его – шакалам пустыни. Если Едом скажет: “мы разорены, но мы восстановим разрушенное”, то Господь Саваоф говорит: они построят, а Я разрушу, и прозовут их областью нечестивою, народом, на который Господь прогневался навсегда. И увидят это глаза ваши, и вы скажете: “возвеличился Господь над пределами Израиля!”…» [233]
Не нужно было обладать особой проницательностью, чтобы догадаться: ненависть к Ироду как к представителю рода Исава искусственно культивируется, и культивируется прежде всего в синагогах, откуда затем растекается по всей стране. Это насторожило Ирода, помнившего, что в свое время Малих, вознамерившийся стать царем Иудеи и ставший причиной смерти его отца Антипатра, использовал в качестве базы для подготовки переворота синагоги. Появился ли в Иудее новый Малих, взявшийся за организацию свержения законного царя Иудеи? Этого Ирод не знал и не пытался узнать, поскольку ненависть к нему евреев, подогреваемая священнослужителями, зашла слишком далеко. Необходимо было выбить почву из-под ног тех, кто распускает о нем слухи чуть ли не как о людоеде, а для этого, думал Ирод, оказалось мало того, что он, сформировав первое в Иудее правительство, не включил в него ни одного священнослужителя, тем самым отстранив их от участия в управлении страной. Следовало озаботиться о создании некой новой структуры, которая, формально не завися от его, Ирода, царской воли и не подчиняясь ему, взяла бы под свой контроль все существующие в Иудее и за ее пределами синагоги и умонастроение людей.
Продолжая путешествовать по стране и размышляя над вопросами укрепления Иудеи и роста ее авторитета среди соседних стран, Ирод определил для себя задачи, нуждающиеся в первоочередном решении. Среди этих задач он поставил на первое место усиление границ страны, для чего наметил строительство новых крепостей и восстановление старых, где разместятся гарнизоны и устроены арсеналы для хранения оружия. Следующей по важности задачей он наметил для себя реформу правосудия, взяв себе за образец римское право, представлявшееся ему наиболее подходящим для Иудеи [234]. Но как заставить народ озаботиться больше делами земными, прежде всего ростом собственного благосостояния, ограничив влияние на него священнослужителей и при этом не оскорбив его религиозного чувства? Ирод решил повременить с решением этого вопроса и посоветоваться прежде с Гирканом, имевшего пусть небольшой и в целом неудачный, но все же опыт первосвященства.
Вернувшись после долгого отсутствия в столицу, он сразу же уединился с Гирканом и поведал ему обо всем, что услышал и увидел собственными глазами в ходе своего странствия по Иудее. Старик, польщенный доверием, которое оказывает ему Ирод, внимательно его выслушал и, когда Ирод закончил свой рассказ, сказал:
– Ты спрашиваешь моего совета, как тебе поступить, чтобы, не вмешиваясь в дела веры, усмирить священнослужителей и ограничить их влияние народ? Позволь мне посоветовать тебе сделать то, что сделал по повелению Господа Моисей, избрав себе совет семидесяти из числа старейшин, который сопроводил его на гору Синай, но приблизиться к Господу не посмел [235]. Эти семьдесят пусть да будут твоими советниками и судьями народа во всякое время и по всем вопросам, не касающимися дел твоих и тебя, возведенного на царство сенатским установлением в Риме и волею Предвечного на небе.
В словах Гиркана был резон, и Ирод по некотором размышлении собрал правительство, пригласив на заседание Гиркана и первосвященника Ананила. Здесь он объявил о своем решении учредить при Храме синедрион [236].
4
Весть о создании нового высшего органа управления страной быстро распространилась по всей Иудее и выплеснулась за ее пределы. Одни с одобрением отнеслись к нововведению Ирода, приструнившего таким образом местные религиозные власти, которые за годы борьбы между ним и Антигоном вышли из-под какого бы то ни было контроля и стали явно злоупотреблять своей властью. Другие, и в их числе приверженцы Ирода, отнеслись к учреждению синедриона скептически, полагая, что разделение высшей власти на два самостоятельных органа – исполнительную царскую власть и власть религиозную, на которую возлагались судебные функции, – ослабит Иудею в решении как внутриполитических, так и, в особенности, внешнеполитических вопросов. Третьи сочли учреждение синедриона очередной блажью Ирода, который, не зная, как править непокорными евреями, придумывает все новые и новые затеи.
Известие об учреждении синедриона, всецело подчиненного первосвященнику, вызвало ярость у Александры. Теперь она чувствовала себя не только оскорбленной, но и смертельно раненой, когда ей только и остается что умереть, навсегда унеся с собой в могилу надежду на то, что ее сын Аристовул – последний представитель некогда славного рода Хасмонеев – обретет хотя бы видимость власти. Она написала новое письмо Клеопатре, жалуясь на то, что Ирод оказался никчемным царем, не способным самостоятельно решить ни одного вопроса, которые должен решать любой царь. «То он объявляет своим соправителем моего выжившего из ума отца, – писала она, – то делит свою власть со случайными людьми, которые только и умеют, что без конца помазывают елеем его седую голову, а то выдумал какой-то совет, назвав его синедрионом, и назначил старшим над этим советом выскочку из вавилонян Ананила, который абсолютно не знает страны и традиций ее народа и потому ничего, кроме вреда, принести Иудее не может. Единственный человек, который в состоянии возвеличить Иудею, это мой сын Аристовул, но Ирод понимает, какую опасность таит для него мой мальчик и всячески его унижает, превратив в частное лицо, которое тем только и отличается от раба, что не горбит свою спину от зари до зари в каком-нибудь винограднике и не пасет овец». Заканчивалось письмо Александры словами: «Я бы почла за великую честь, милая Клеопатра, если бы ты приняла меня с моим единственным мальчиком под свое крыло и предоставила нам кров, но самая мысль о том, что Ирод каким-то образом узнает про мое намерение, страшит меня: это ничтожество, которое только и умеет, что заделывает моей красавице дочке одного за другим детей, при этом страшно ревнуя ее ко всем, кто посмеет посмотреть на нее, тут же прикажет убить нас».
Клеопатра показала это письмо Антонию, о чем Ироду тут же сообщила Ревекка, присовокупив при этом, что триумвир лишь посмеялся над страхами Александры, заявив, что Ирод действует обдуманно и смотрит далеко вперед, куда не в состоянии заглянуть ни один смертный, не наделенный талантами Ирода.
Клеопатра закатила Антонию истерику.
– Ты слишком доверяешь своему любимцу, которого называешь не иначе, как львом. А лев всего лишь лев, удел которого плодить себе подобных, дожидаться, когда его львицы принесут ему готовую добычу, и следить за порядком в своем прайде. Но для того, чтобы следить за порядком в прайде, не подпуская к нему посторонних львов, не нужно быть царем, – для этого достаточно нанять евнуха. Твой Ирод – евнух, и я сильно сомневаюсь в том, что дети, которых одного за другим рожает Мариамна, его дети. Он не только никакой не царь, но даже не мужчина!
– Ты говоришь так, как если бы провела с ним ночь в постели и лично удостоверилась в его неспособности быть мужчиной, – продолжал смеяться Антоний.
Лицо Клеопатры залила краска и глаза потемнели от гнева.
– Не смей оскорблять меня! – взвизгнула она. – Не забывай, что я царица Востока, а не шлюха, готовая лечь в постель с первым встречным!
Антонию нравилось, когда Клеопатра вот так вот краснела, невольно выдавая клокотавшую в ней похоть, и сама же на себя гневалась за свою женскую слабость.
– Царица, ну конечно, ты царица всего Востока, – примирительно сказал Антоний, обнимая Клеопатру и прижимаясь к ней всем телом. – Царица, которая не прочь переспать со всеми царями, которые только существуют на свете.
Клеопатра вырвалась из объятий Антония.
– Ты издеваешься надо мной только потому, что прекрасно знаешь, что никакая я не царица Востока, хотя сам же удостоил меня этого титула. Царица, которая не правит ни пядью земли за пределами Египта и которая не в состоянии дать приют своей несчастной подруге и ее сыну. Не смей больше прикасаться ко мне!
Вспыхнувшая перебранка грозила превратиться в ссору. Антоний не хотел ссориться с женщиной, которую любил искренне и преданно. Растянувшись на постели, он сказал:
– Ты получишь земли, которые просишь, и вправе дать приют всем, кому считаешь нужным. А теперь ляг рядом со мной и забудем обо всех львах и их прайдах, с которыми – ты права – в мире людей лучше львов справятся евнухи.
Клеопатра добилась того, чего хотела. Прежде, чем лечь рядом с Антонием, она спросила:
– Ты обещаешь мне это?
– Я клянусь тебе в этом.
Удовлетворив свою и Антония похоть, Клеопатра села за стол и написала Александре ответное письмо, которое попалось на глаза Ревекке. Ревекка тут же изложила его содержание в очередном послании Ироду. Так Ирод узнал о хитроумном плане бегства Александры с Аристовулом из Иудеи, придуманном Клеопатрой. Александре надлежало приготовить два гроба, в один из которых она должна была лечь сама, а в другой уложить Аристовула. Под покровом ночи гробы верные люди вынесут из Иерусалима и доставят в Аскалон [237], где их возьмут на борт присланные Клеопатрой галеры и доставят в Египет. Вырвавшись таким образом на свободу, Александре с Аристовулом незачем будет страшиться гнева своего царя.
Ирод созвал семейный совет, на котором в шутливой форме поведал всем о намерении Александры бежать из Иудеи с Аристовулом в гробах. Обращаясь к шурину, он спросил:
– Как тебе понравится идея отправиться в дальнее путешествие на галере в тесном гробе?
Аристовул, которому мать не сказала ни слова о своем письме в Египет и ответном послании Клеопатры, в котором содержался план их бегства из Иудеи, рассердился.
– Никак, – сказал он. – Предпочитаю путешествовать на коне, а не на галере и, тем более, не в гробе. – Смело посмотрев в глаза Ироду, добавил: – Если ты, конечно, разрешить мне и моей матери отправиться в Египет погостить у Клеопатры.
Александра сидела ни жива, ни мертва. Ей уже чудилось, что с лица Ирода вот-вот исчезнет улыбка и оно примет жесткое выражение, после чего он объявит о своем решении казнить ее и ее сына. Ирод, однако, продолжал улыбаться. В уме у него созрел другой план, которым он не спешил делиться.
– Разрешу, почему бы не разрешить погостить у нашей союзницы, – сказал он Аристовулу. – Смéните обстановку, увидите новые земли – в Египте есть на что посмотреть. Отдохнете от всех нас, тем более что Мариамна и Саломия вот-вот разрешатся от бремени и в доме негде будет укрыться от детского крика. – Не меняя шутливого тона, обратился к теще: – Я тебя понимаю, Александра. Зачем тебе возиться со своими внуками? Куда приятнее провести время в обществе мудрой царицы, если, конечно, не залеживаться в гробе, который ты избрала в качестве транспорта для своего путешествия. Из гроба ты мало что увидишь, если вообще что-либо увидишь, кроме крышки над головой. Ни встать, ни сесть, ни даже повернуться. Нудно путешествовать в гробе и неинтересно. Ты со мной согласна?
Александра ничего не ответила зятю. Она не смела поднять глаза на Ирода и все ждала, когда тот объявит о своем решении казнить ее и Аристовула.
– Ты стала туга на ухо? – повышая голос, спросил Ирод. – Или не хочешь говорить со мной?
– Я хорошо слышу тебя, – тихо проговорила Александра.
На помощь дочери пришел Гиркан.
– Отвечай, дочка. Ты же видишь, что Ирод отпускает тебя и Аристовула в Египет.
– Не сейчас, дорогой отец, не сейчас, – поправил Гиркана Ирод. – Есть одно маленькое дельце, за исполнением которого Александре надлежит проследить, чтобы его не испортить. Никому другому, кроме твоей дочери и моей тещи, я не могу поручить это дело. Оно слишком ответственное, чтобы пустить его на самотек.
В зале наступило тягостное молчание.
– Что это за дело? – решился, наконец, спросить Гиркан.
– В высшей степени ответственное, отец, – повторил Ирод. – Тебя не смущает, что твой друг Ананил ходит в одеждах, никоим образом не соответствующих сану первосвященника?
– И ты решил, – начал было Гиркан, но Ирод перебил его:
– Ты угадал: я решил, что первосвященнику надлежит облачиться в талес [238], как это и предписано законом.
– Но почему за пошивом талеса для Ананила должна следить моя дочь? – спросил Гиркан.
– Не для Ананила, дорогой отец, не для твоего друга. Талес необходимо пошить для Аристовула, и кому, как не его матери, проследить за этим важным делом, хотя она и считает, что я никчемный царь и с радостью сместила бы меня с трона, будь на то ее воля. Я решил, что мой шурин находится уже в том возрасте, когда ему можно доверить сан первосвященника. А Ананил пусть немного отдохнет от груза ответственности, который лежит на его плечах.
Эти слова Ирода вызвали недоумение у присутствующих и бурные слезы у Александры. С одной стороны, все понимали, что Ирод, смещая с должности первосвященника Ананила и назначая на его место Аристовула, поступает противозаконно. Первосвященник, раз назначенный, не может быть смещен до самой свой смерти. В истории Иудеи, правда, было два случая отстранения от должности действующего первосвященника – в первый раз так поступил Антиох Епифан, сместив здравствующего Иисуса, больше известного под именем Иасон, и назначив на его место Менелая, во второй раз Аристовул II сместил с должности первосвященника своего брата Гиркана и сам занял его место, – но оба эти случая были противозаконными. Теперь, уже в третий раз, точно так же противозаконно поступал Ирод. Но Александре было не до соблюдения и нарушения закона – для нее главным было то, что сбылась, наконец, ее мечта и ее сын становится первосвященником Иудеи.
Бросившись в ноги Ироду, она стала обливать их слезами и прокрывать поцелуями.
– Видит Бог, как я виновата перед тобой, мой царь, как видит Он и то, насколько глубоко и искренне мое раскаяние, – говорила она. – Я ожидала от тебя чего угодно, но только не благодеяния, которым ты одариваешь меня и которым я совершенно подавлена. Если можешь, прости меня и не считай, что я злоумышляла против твоего царского достоинства. Никто, кроме тебя, сделавшего мою дочь царицей, не в силах защитить и облагодетельствовать меня и моих детей так, как это делаешь ты. Еще раз умоляю простить меня, если ты полагаешь, что я, болея всем сердцем за судьбу моих детей, совершила в своих помыслах или поступках что-либо противоправное в отношении тебя.
Многочисленная семья Ирода была тронута слезами и раскаянием благодарной Александры, а Ирод мягко сказал, поднимая ее с колен:
– Ты прощена.
В Иерусалим со всех концов Иудеи съехались лучшие портные и ювелиры и принялись за пошив для юного Аристовула первосвященнических одежд. Александра не отходила от мастеров, придирчиво следя за тем, чтобы они ни на йоту не отступили от Божественных предписаний относительно талеса, содержащихся в Торе [239].
Пока шились одежды для Аристовула, который, помимо сана первосвященника, становился еще, как глава синедриона, верховным судьей Иудеи, Гиркан поинтересовался у Ирода, как он мыслит себе судопроизводством над народом, который все последние годы тем только и занимался, что доказывал свою непокорность. Ирод, в свою очередь, спросил Гиркана:
– А как это представляешь ты?
Гиркан не сразу ответил.
– Знаю, что в Иудее сегодня мало осталось людей, почитающих заветы наших предков так же свято, как почитаешь их ты, – сказал, наконец, он. – А потому позволь мне дать тебе совет, какой дал Моисею его тесть Иофор [240]: не возлагай на неокрепшие плечи моего внука непомерную тяжесть и не суди народ сам, а усмотри из евреев людей способных, боящихся Бога, правдивых и ненавидящих корысть, и поставь их над народом начальниками. Пусть они судят народ во всякое время, и о всяком важном деле доносят тебе, а все малые дела судят сами: и тебе будет легче, и они понесут с тобою бремя, и ты устоишь.
– Да будет так, как советуешь мне ты, отец, – согласился Ирод. – И да возродятся в Иудее традиции и восстановятся законы, по которым жили наши предки.
5
Назначив первосвященником Аристовула, которому едва минул семнадцатый год, Ирод сделал беспроигрышный ход, в чем убедился, когда наступил самый радостный праздник иудеев – праздник кущей. В ходе подготовки к празднику весь Иерусалим и его окрестности покрылись шалашами и палатками, вокруг которых горели костры, неумолчно звучала музыка, и народ пел и плясал, отдавая дань предкам, жившим в шалашах во время сорокалетнего странствия по пустыне. Праздник этот был одновременно праздником сбора плодов, так что и стар, и млад на время переселились в поля, покинув свои дома. Дети с визгом носились друг за другом, размахивая ветвями с лимонами и финиками, с лиц немощных стариков и старух не сходили улыбки, а отцы и матери, забыв о степенности, перемежали нескончаемые пиры плясками даже по ночам, размахивая пылающими факелами и рискуя поджечь свое временное жилье или загореться сами.
Наконец наступил торжественный день открытия праздника, когда каждый совершеннолетний мужчина должен был лично предстать перед Богом. Древний Храм заполнился таким множеством людей, что яблоку негде было упасть. Каждый держал в левой руке по спелому лимону, а в правой пальмовую ветвь, перевитую миртом. Все, включая Ирода, занявшего место перед жертвенником, ждали появления первосвященника. И вот он явился – молодой Аристовул в новых одеждах. Талес небесно-голубого цвета подчеркивал его статную фигуру и оттенял синие, как у Мариамны, глаза. Казалось, в храм слетел сам посланец Бога – безупречной красоты ангел. Народ, не в силах сдержать охватившего его восторга, бурно приветствовал молодого первосвященника, подступившего к алтарю, где ему предстояло принести в жертву за народ теленка. На Ирода никто не обращал внимания, как если бы его вовсе не было в Храме. Оно было к лучшему: Ирод мог, не привлекая ничье внимание, внимательно следить за происходящим. Он был рад безумию толпы, увидевшей в Аристовуле продолжателя рода Хасмонеев, к которым, несмотря на преступления некоторых из них, народ продолжал относиться с глубочайшим уважением и сочинял самые невероятные легенды об их благочестии и бескорыстной заботе об иудеях. Переведя взгляд на шурина, Ирод невольно поймал себя на мысли, что и у жертвенного теленка, которому вот-вот надлежало быть убитым, такие же огромные, как у его шурина, синие глаза. Ирод почувствовал укол в сердце, представив, что это не теленок, а Аристовул будет сейчас принесен в жертву за народ, и зажмурился. Он не видел, как священники выстроились стройными рядами об обеим сторонам всех пятнадцати ступеней, ведущих к алтарю, но слышал, как они слаженно запели:
Хвалите Господа, все народы, прославляйте Его, все племена; ибо велика милость Его к нам, и истина Господня вовек. Аллилуия [241].Народ продолжал безумствовать. Те, кто стоял сзади и не мог видеть всего, что происходит у алтаря, напирали на передних, и вот уже кто-то бесцеремонно толкнул Ирода в спину. Ирод встал и, никем не замеченный, покинул Храм. Он не хотел видеть, как прольется кровь теленка, и все оставшиеся семь дней праздника провел во дворце. Александра с восторгом рассказывала ему, как проходит праздник и как прекрасно держится при этом ее сын. Наконец, наступил последний, восьмой день праздника, когда вода, ежедневно приносимая из Силоамского источника [242]в золотом кувшине и сливаемая в две большие серебряные чаши, укрепленные на жертвеннике, была смешана с вином, и смесью этой были окроплены молящиеся в благодарность Господу за то, что Он не дал погибнуть народу от жажды в пустыне.
Аристовул, возбужденный от переполняющих его чувств, пришел к Ироду со словами благодарности. Ирод, понимая состояние шурина, все еще находящегося под впечатлением от праздника, который ему довелось вести, не дал ему договорить.
– Пустяки, – сказал он. – Ты получил то, что заслужил по праву рождения. Теперь тебе совместно с твоим дедом надлежит заняться обычной черновой работой первосвященника, которую никто за тебя делать не станет.
Так Ирод руками Аристовула заменил на местах всех своих противников из числа архисинагогов, судей и надзирателей за народом на людей если и не преданных, то по крайней мере лояльных ему. Замена эта, осуществленная по решению первосвященника и поддержанная соправителем царя Гирканом, не вызвала особого недовольства в стране, а в ряде мест, где религиозная власть была особенно скомпрометирована бесчисленными поборами и неправедным судом, нашла даже поддержку. Народ, не стесняемый больше никем и ниоткуда не ожидающий опасности, получил, наконец, возможность заняться мирным трудом, по которому истосковался. Ироду не было никакого дела до того, что люди связывали эти счастливые перемены не с его именем, а с именами Аристовула и его деда; для него было куда важней, что он мог в спокойной обстановке заняться делом, которому намеревался посвятить всю свою жизнь, – делом возрождения Иудеи из руин, в которые она превратилась в ходе нескончаемой череды внешних войн и внутренних смут.
6
Иначе отнеслась к результатам реформ, проведенных Иродом, Клеопатра. Узнав о начинаниях Ирода, она разразилась бранью: этот выскочка, ставший благодаря Антонию царем, в очередной раз перехитрил ее. Она не желала мириться и дальше с поражениями, которые наносил ей исподволь Ирод, и потребовала у Антония, чтобы тот, наконец, предоставил ей не продекларированные им, злящие одного лишь Октавия в Риме, а реальные царские полномочия над восточными землями. Антоний почувствовал себя в западне. С одной стороны, он не хотел ссориться с царицей, которую любил все сильней и безнадежней. С другой – он не хотел окончательно порывать с Октавием, который продолжал донимать его своими письмами с упреками. Похоже, Октавий смирился с мыслью, что Антоний больше не товарищ ему по триумвирату, но он не мог простить ему свой сестры, продолжавшей любить его с прежней пылкостью. Получив очередное письмо от Октавия с обвинениями в супружеской неверности, Антоний дружески отписал ему: «С чего ты озлобился? Оттого, что я живу с царицей? Но она моя жена, и не со вчерашнего дня, а уже десять лет. А ты как будто живешь с одной лишь Друзиллой? Будь мне неладно, если ты, пока читаешь это письмо, не переспал со своей Тертуллой, или Терентиллой, или Руфилой, или Сильвией Титизенией, или со всеми сразу, да и не все ли равно в конце концов, где и с кем ты путаешься?»
Ирод, получив копию этого письмо от Ревекки, всерьез обеспокоился судьбой своего друга. Как мужчина мужчину, он понимал Антония, поскольку сам был без памяти влюблен в Мариамну, которая, родив ему третьего сына, тут же забеременела четвертым ребенком. У Клеопатры было немало общего с Мариамной, прежде всего в ненасытной чувственности. Ревновал ли Антоний Клеопатру к другим мужчинам, пусть не к новым, а прежним, которые были у нее начиная с ее братьев и кончая Цезарем? Наверное, да, как Ирод ревновал Мариамну решительно ко всем, включая мертвого Малиха, который долгое время был его ночным кошмаром, да и теперь нет-нет, а снился ему. Но дело было не в Ироде; все дело было в натянутых отношениях между Антонием и Октавием, и отношения эти в один недобрый день могли вылиться в войну между ними.
Ирод понимал, что письмо Антония вызовет гнев у Октавия. Все знали, что Октавий и сам был слаб по женской части и в этом своем качестве ничуть не уступал Антонию, а если принять во внимание то обстоятельство, что Антоний, влюбившись в Клепатру, напрочь забыл обо всех других женщинах, включая свою жену и сестру товарища по распавшемуся триумвирату, то и превзошел его. Евреи, постоянно проживавшие в Риме, писали на родину, что в то время, когда не только в столице, но и во всей Италии разразился голод, поскольку Клепатра прекратила поставки туда хлеба, Октавий продолжал устраивать в своем доме пиршества, выливавшиеся в самые непристойные оргии. Оргии эти народ прозвал «пирами двенадцати богов», и их суть состояла в том, что гости и гостьи возлежали за столами, облаченные богами и богинями, а Октавий, облаченный в одежды Аполлона, время от времени удалялся с одной или двумя гостьями во внутренние покои и спустя час-другой возвращался, как ни в чем не бывало, хотя прически женщин были разлохмачены, а стóлы разорваны, так что из-под них виднелись обнаженные груди.
Не составляло для римлян секрета и то, что гостей для мужниных утех подбирала сама Ливия Друзилла, которую Антоний в своем письме фамильярно назвал просто Друзиллой. Не следовала этого делать Антонию, как не следовало нарочито искажать имя Теренции: Ливия была слабым местом Октавия, а Теренция женой его фаворита Мецената [243]. Но если экзальтированный Меценат мог проглотить нарочитое искажение имени своей жены, поскольку Теренция не делала тайны из своей любви к Октавию и всюду открыто сопровождала его, то намекать на то, что не кто иной, как сама Ливия выступала в роли устроительницы оргий в своем доме, было со стороны Антония явной провокацией. Пусть Ливия, оправдывая распущенность мужа, говорила, что связь Октавия с чужими женами никакая не похоть, а высокая политика, – у нее были на это основания [244]. Но считал ли Октавий удовлетворение своей похоти политикой? Едва ли: из того, что знал о нем Ирод, следовал совсем иной вывод, – Октавий никогда не смешивал два этих понятия и не позволял ни одной из женщин, с которыми находился в связи, вмешиваться в политику.
В этом и состояла принципиальная разница между триумвирами: если Октавий, ведя разгульный образ жизни, ни на минуту не забывал о государственных делах, то Антоний, сам в недалеком прошлом любитель женщин, остепенился, целиком и полностью подпав под влияние властолюбивой Клеопатры и совершенно забросив государственные дела.
7
Вскоре Ирод удостоверился в правильности своих выводов, чреватых самыми непредсказуемыми последствиями для Иудеи, только-только выходящей из состояния разрухи: в Иерусалим прибыла в сопровождении многочисленной свиты и вооруженного отряда под командованием Афениона Клеопатра. Формальным поводом для ее нежданно-негаданного визита послужило желание увидеться со своей подругой Александрой, которая обещалась навестить ее в ее столице, но почему-то (Клеопатра со значением произнесла это почему-то, пристально заглянув при этом в глаза Ирода) не сдержала своего обещания.
– Ты права, царица, – спокойно сказал ей на это Ирод. – Александру задержали в Иерусалиме неотложные дела, связанные с посвящением ее сына и моего шурина (теперь Ирод со значением произнес моего шуринаи насмешливо посмотрел при этом на Клеопатру) в сан первосвященника.
Разговор с самого начала обрел форму недомолвок как со стороны Ирода, так и Клеопатры, и оставался таким все дни ее визита в Иудею. Афенион же, этот верный евнух и раб Клеопатры, неотлучно находился рядом с царицей, с нескрываемой ненавистью глядя на Ирода.
Единственным человеком, которого обрадовал приезд Клеопатры, была Александра. Она всюду сопровождала царицу, познакомила ее со своими детьми Аристовулом и Мариамной, заставила Аристовула облачиться в наряд первосвященника и все тараторила без умолку:
– Не правда ли, эта одежда очень к лицу моему сыну? А как ты нашла мою дочь? Не правда ли, она необыкновенно хороша собой? Согласись, Клеопатра, в моих детях чувствуется порода!
– О да! – соглашалась Клеопатра. – Они рождены для того, чтобы царствовать над Иудеей.
Двусмысленность слов Клеопатры не осталась незамеченной со стороны Ирода, но проскочила мимо внимания Александры.
– Моя дочь уже царица! – простодушно воскликнула она. – А Аристовул теперь первосвященник – эта должность по своей значимости ничуть не уступает царской. Разве я не права, Ирод? Ты не представляешь, царица, как я благодарна моему зятю за оказанную мне честь.
– Твой зять, подруга, – сказала Клеопатра, – вообще большой мастер по оказанию чести не одной только тебе. Очень большой мастер! Так что благодарной ему должны быть не одна ты.
– Кто же еще? – не поняла Александра.
– Твои дети, – нашлась что ответить Клеопатра, а у Афениона, стоящего за ее спиной в полном вооружении, побелели косточки пальцев, сжимавшие рукоять вложенного в ножны меча.
После официального обеда, устроенного в честь египетской царица, Ирод и Клеопатра уединились для конфиденциального разговора, предусмотренного международным протоколом. При этом разговоре присутствовали со стороны Клеопатры Афенион, на чем настояла сама царица, со стороны Ирода первый министр его правительства и хранитель печати Птолемей. Чтобы Афенион не понял ничего из того, о чем беседуют царствующие особы, Ирод предложил вести речь на арамейском языке, благо Клеопатра свободно им владела, как владела множеством других языков.
Разговор начала Клеопатра, игнорируя Птолемея – грека, как и она, по происхождению.
– В твоей внешности, Ирод, – сказала она, – тоже чувствуется порода.
– Благодарю тебя, – ответил Ирод, не желая дальше развивать эту тему.
– Ты не хочешь знать, что я имею в виду под словом порода?
– Не хочу.
– А зря. Я бы сказала тебе, что со времени нашей последней встречи ты совсем поседел, но стал при этом выглядеть не как мудрый старец, а как заправский уличный хулиган. Я с детства испытываю слабость к уличным хулиганам и бандитам. Они меня заводят. Тебе Антоний говорил об этом?
– Нет, не говорил. Как, кстати, поживает мой друг?
– Твой друг немного приболел и потому не смог приехать со мной. Но он написал тебе письмо, которое я захватила с собой. Поскольку я так и так собралась посетить Иудею и мою подругу, то подумала, почему бы не оказать твоему другу эту маленькую любезность? Письмо меня не слишком обременило.
Клеопатра протянула Ироду свиток, который не был даже запечатан. Ирод прочитал письмо. Антоний в свойственной ему шутливой манере просил Ирода уступить Клеопатре часть Аравии, признавшей над собой власть Ирода, и Иерихон с его окрестностями, где растут лучшие во всей Иудее финиковые пальмы. «Клеопатра обожает финики, – писал Антоний, – а ты, насколько мне известно, абсолютно равнодушен к сладкому. Вот я и подумал: зачем тебе пальмы и, тем более, чужая земля, когда у тебя своих забот по горло? Пусть уж ты переложишь часть своей головной боли на прелестную головку Клеопатры, тем более, что с передачей ей части Аравии и Иерихона с его пальмами вся ответственность за поддержание мира между Иудеей и Аравией ляжет на ее плечи, которые не менее прелестны, чем ее головка».
Ирод свернул письмо Антония. Не скрепленное его печатью, оно представляло собой не что иное, как послание одного частного лица другому частному лицу, и этому другому частному лицу предоставлялась полная свобода в принятии решения, последовать ли ему совету друга или отклонить его.
Клеопатра, внимательно наблюдавшая за реакцией Ирода во время чтения письма Антония и не обнаружив в нем ничего, что могло бы выдать его чувства, спросила:
– Что мне передать твоему другу?
– Что тебе придется объявить мне войну, прежде чем ты овладеешь хотя бы пядью моей земли или частью Аравии.
И без того некрасивое лицо Клеопатры стало еще неприятней из-за отразившейся на нем злости.
– Ты невнимательно прочитал послание самого могущественного человека Рима, который сделал тебя царем, – сказала она.
– Ошибаешься, царица: я внимательно прочитал письмо моего друга и самого могущественного римлянина.
– И тем не менее смеешь ослушаться приказа Антония?
– Смею. Впрочем, если ты не хочешь воевать со мной и в то же время настаиваешь на включении части Аравии и Иерихона с окрестностями в состав Египта, мы можем поступить проще.
– Это как же?
– Мы заключим договор. В этом договоре в первом пункте будет сказано, что ты получаешь часть Аравии и Иерихон с окрестностями, о чем просит меня Антоний, на какой-то достаточно длительный срок, скажем, на десять лет. Тебя устроят десять лет?
– Продолжай. Ты сказал о первом пункте договора. А что будет сказано во втором?
– Во втором пункте будет сказано, что я беру у тебя в аренду интересующие тебя земли на эти десять лет. Согласна?
– Меня не устраивает обозначенный тобой срок в десять лет.
– Заключим договор на тридцать лет. Срок вполне достаточный, чтобы удовлетворить твой аппетит.
– На пятьдесят лет. Через пятьдесят лет, я надеюсь, твои кости давно истлеют в могиле.
– Как знать, дорогая Клеопатра, как знать. Но я готов заключить с тобой договор на пятьдесят лет.
– Остается выяснить, какую сумму ты собираешься предложить мне за аренду моихтерриторий?
– Назови эту сумму сама.
– На меньшее, чем двести талантов в год, я не соглашусь.
Ирод улыбнулся.
– Чему ты улыбаешься? – спросила Клеопатра.
– Я вспомнил нашу последнюю с тобой встречу в Египте, – сказал Ирод. – Когда мне понадобился корабль, на котором я намеревался добраться до Рима, ты сказала: «За сто талантов найдутся самоубийцы, которые согласятся доставить тебя в Италию». С тех пор ставки выросли? Ты не представляешь, какая талантливая торговка из тебя могла бы получиться! К несчастью, ты стала царицей. Но я согласен с названной тобою суммой в двести талантов и распоряжусь, чтобы за время, которое ты намерена провести здесь в качестве гостьи моей тещи, договор между нашими странами был подготовлен.
8
Клеопатра провела в Иерусалиме в общей сложности три недели. Договор о передаче части Аравии и Иерихона с окрестностями в аренду Египту на пятьдесят лет и одновременной аренде этих земель у Египта за двести талантов в год между Иудеей и Египтом был подготовлен и подписан Иродом и Клеопатрой. Основная цель, какую поставила перед собой царица, приехав в Иерусалим, была достигнута. Тем не менее она не спешила вернуться на родину. Ирод догадался: ей хотелось позлить Антония, оставив его одного в Александрии. Она придумывала все новые и новые предлоги, чтобы продлить свое пребывание в Иерусалиме. Когда не осталось уже ничего из того, чего бы хотелось Клеопатре и что не было бы исполнено, она пожелала устроить охоту на львов, которые в пору смут в избытке развелись в Иудее.
– Я всю жизнь мечтала собственными руками убить хотя бы одного льва, – заявила она со значением. И уточнила: – Заметь, я говорю льва, а не львицу.
Ироду не нужно было объяснять, какого именно льва она имеет в виду, но не подал виду. Внезапно ему в голову пришла безумная идея избавиться от Клеопатры. Эта «баба», как назвал ее в одном из ранних писем к нему Антоний, не оставит его в покое, пока не уничтожит его. Охота на львов, предложенная самой Клеопатрой в присутствии своих приближенных, давала ему прекрасную возможность уничтожить ее саму. Этим он окончательно выведет своего друга из состояния безропотной покорности алчной египетской царице и помирит его с Октавием. Однако для этого Ироду следовало освободиться от ненужных свидетелей.
– Изволь, – сказал он. – Мы отправимся с тобой поохотиться на львов, но только с одним условием: Афенион останется в Иерусалиме.
Клеопатра сделала вид, что слова Ирода удивили ее.
– Ты так боишься моего слугу? – спросила она. – Должна заметить, что он никогда не оставляет меня одну.
У Ирода чуть было не сорвалось с языка: «Даже в минуты твоих постельных утех», – но вслух он произнес другое:
– Я остерегаюсь охотников, которые могут перепутать льва с человеком.
Пока шла подготовка к опасной охоте, Ирод всесторонне обдумывал спонтанно пришедшую ему на ум идею избавиться от Клеопатры. Известие о том, что египетская царица случайно погибла во время охоты на львов, не приведет, конечно, Антония в восторг. Скорей всего, Ирод станет первой жертвой его гнева. Но гнев не может продолжаться вечно, а с течением времени, поостыв, Антоний поймет, каким благом обернется для него избавление от Клеопатры.
Однако прежде, чем осуществить эту идею, Ирод решил посоветоваться со своими министрами. Костобар сразу поддержал Ирода, заявив, что устранение Клеопатры станет благом для всех, а не для одного только Антония. Более осторожную позицию заняли другие министры. Один лишь Птолемей выразил категоричное несогласие с замыслом Ирода.
– Это мальчишество, – заявил он. – Ты поставил перед собой и всеми нами такие грандиозные задачи по преобразованию Иудеи, что не вправе ставить их под угрозу срыва. Не спеши с осуществлением своего во всех отношениях непродуманного плана. Страсть Антония к Клеопатре слишком велика, чтобы простить тебе ее устранение. Да и какие аргументы ты сможешь привести в оправдание своего поступка? Возможность примирения Антония с Октавием? Они, может быть, и помирятся, но какой ценой? Ценой объявления войны нам, поскольку после устранения столь известной в мире женщины забудутся ее злодеяния и она в глазах всех предстанет чуть ли не святой, а ее убийцей будешь объявлен ты.
Резоны, выставленные первым министром и хранителем печати, убедили колеблющихся, и с ними в конце концов вынужден был согласиться и Ирод.
Охота на львов прошла удачно. Клеопатра прекрасно держалась в седле и стреляла из лука не хуже любого мужчины. Ирод, сам великолепный наездник и стрелок из лука, невольно залюбовался ею. В какой-то момент ему показалось, что раненый ею лев набросится на нее, и он поспешил ей на помощь. Клеопатра, однако, сама добила истекающего кровью зверя. Соскакивая с коня, она обняла Ироду, делая вид, что страшно испугана.
– Ты спас мне жизнь, – говорила она, прижимаясь к Ироду. – Если бы не ты, этот ужасный зверь растерзал бы меня.
– Не скромничай, – ответил Ирод, отстраняя от себя царицу. – Ты сама завалила льва, и если бы остальные звери не разбежались, ты покончила бы с ними со всеми.
По тому, как потемнели глаза царицы, стало ясно, что очередная ее попытка соблазнить Ирода стала последней и отныне она навсегда становится его злейшим врагом.
Прощанье с Клеопатрой было долгим и слезливым. Александра залила ее слезами чуть ли не с головы до ног. Ирод проводил царицу до самой границы и, вручив ей щедрые подарки и подарки для Антония, возвратился в Иерусалим.
Глава шестая И СНОВА КРОВЬ
1
Вскоре Ирод убедился, насколько оказался прав относительно изменившегося к нему отношения Клеопатры.
Царица была слишком умна, чтобы действовать против Ирода напрямую. Она избрала окольный путь, тем самым надежнее стянув удавку на шее не поддавшегося ее чарам иудейского царя. Начала она с Малха. Для этого в Аравию был отправлен Афенион с сильным отрядом. Афенион потребовал от Малха уплаты долга в сумме пятисот талантов – двести за минувший год, которые он задержал, и еще триста в виде штрафа, чтобы впредь ему неповадно было нарушать условия соглашения, заключенного между Клеопатрой и Иродом.
Малх был искренне удивлен.
– Разве Ирод не заплатил египетской царице? – спросил он.
– Ирод заплатил за себя, а ты пропустил срок своего расчета. За то царица и наказывает тебя штрафом в триста талантов.
– Но по условиям договора, который заключили между собой Клеопатра и Ирод, – попытался возразить Малх, – в двести талантов, выплаченных Иродом, входит плата как за аренду Иерихона с его окрестностями, так и за часть земель Аравии.
Афенион угрожающе сдвинул брови.
– Ты считаешь себя умнее всех? С какой стати Ирод должен платить за тебя?
– После победы Иудеи в войне, в которую, кстати, втравил меня ты, – ответил Малх, – Ирод стал правителем Аравии.
– Победы? – иронично спросил Афенион. – Ты называешь победой то, что теперь Ирод должен расплачиваться за твои долги? В таком случае это победа не Ирода, а твоя, старый лис. А чтобы ты не считал себя умнее всех, моя царица требует, чтобы ты не только погасил свой долг, но и, сверх того, заплатил триста талантов штрафа. Эта справедливая мера научит тебя тому, что долги следует гасить своевременно.
Малх окончательно растерялся.
– Но где я возьму такие огромные деньги?
– Где хочешь. Я прибыл сюда не затем, чтобы давать тебе советы, а за пятьюстами талантами. В противном случае Клеопатра покажет тебе, чтó значит быть правителем Аравии на деле. Впрочем, если ты нуждаешься в совете, я могу по старой дружбе посоветовать тебе пойти войной на Иудею и, таким образом, не только выйти из-под власти Ирода, но и обогатиться за счет иудеев.
Малх, потерпев серьезное поражение от Ирода, не был в состоянии начать новую войну. Самое большое, что он мог сделать, это совершать короткие набеги на соседей, занятых мирным трудом, и грабить их. Он так и поступил. Ирод вынужден был укрепить границу с Аравией и ответить Малху ответными набегами на его территория. Это не была война в исконном значении этого слова. Но обоюдные набеги легли тяжелым бременем на мирное население по обеим сторонам границы, так что Ироду пришлось принять дополнительные меры по укреплению безопасности своей территории, прилегающей к Аравии.
2
Спустя некоторое время Ироду пришлось озаботиться укреплением не только восточной, но и северной границы государства. Все дело было в том, что сенат Рима по настоянию Октавия отозвал из Сирии ставленника Антония Соссия и назначил вместо него новым наместником Квинта Дидия.
Молодой Квинт, дабы оправдать высокое доверие своего патрона, начал свою деятельность с глупостей: запретил все, что разрешал делать Соссию Антоний, и насаждать то, что запрещал Антоний. Так, он запретил бои гладиаторов. Гладиаторы, видевшие в своем ремесле единственную возможность быстро разбогатеть и получить вожделенную свободу, взбунтовались. Их поддержали сирийцы, для кого гладиаторские бои были любимым времяпрепровождением. Перепугавшийся Квинт отменил свое прежнее решение и разрешил продолжить игры, но с условием: гладиаторы будут биться тупым оружием и ни в коем случае не доводить дело до кровавой развязки. Теперь к взбунтовавшимся гладиаторам и сирийцам присоединились римские солдаты. «Гладиаторские бои без крови, – говорили они, – это все равно, что близость с женщиной без возможности овладеть ею». Бунт вылился в восстание, грозившее перекинуться в Галилею, где также было немало любителей кровавых зрелищ. Квинт запросил военной помощи у Ирода для подавления восстания в зародыше, пока оно не приняло организованного характера. Ирод откликнулся на просьбу Квинта, снарядив ему в помощь легион под командованием Костобара. Прежде, чем легион выступил в поход, Ирод строго-настрого наказал Костобару ни под каким видом не вступать в сражение с римскими солдатами и по возможности щадить сирийцев. Гигант, на котором с трудом сходились доспехи, по-детски похлопал глазами:
– С кем же мне в таком случае воевать?
– С гладиаторами.
Костобар так и не понял Ирода, но ослушаться приказа не посмел. Смутно представляя себе, каким образом ему удастся отделить гладиаторов от остальной массы восставших и подавить их, он отправился со своим легионом в Сирию.
3
На этом испытания, выпавшие на долю Ирода, не закончились. Его ожидало куда как большее потрясение, получившее далеко идущие последствие. И потрясение это подстерегло царя не за пределами Иудеи, а в его собственной семье. Случилось же вот что.
Спустя год после назначения Аристовула первосвященником Александра решила пышно отметить его восемнадцатилетие. Для этого она пригласила Ирода со всем его двором в Иерихон, где у нее был собственный дом, окруженный тенистым парком и живописными прудами. Был жаркий летний день. Солнце палила нещадно. Александра распорядилась накрыть столы в тени деревьев. Пока старшие пировали, молодые решили искупаться. Аристовул тоже полез в пруд. Здесь молодежь стала резвиться, окуная друг друга с головой в воду. Аристовул, несмотря на свою молодость, физически был сильнее каждого из купающихся в отдельности. На него-то и навалилась скопом молодежь. Аристовул, смеясь, отбивался от них, а одного чуть было не утопил. Тогда тот разозлился на Аристовула и подговорил товарищей проучить первосвященника, поступив с ним так же, как тот с ним. Сознательно это было сделано или произошла роковая случайность, но молодые люди продержали Аристовула под водой дольше, чем у того хватило воздуха в легких. Когда Аристовула вытащили из воды, он был мертв. Поднялся страшный шум. Попытки оживить первосвященника с помощью искусственного дыхания и массажа сердца закончились тем, что юноше сломали ребра, осколки которых вонзились в сердце. Теперь Аристовула уже ничто не могло вернуть к жизни. Юношу вытащили на берег и послали сообщить о случившемся несчастье Александре.
Горе матери было неподдельным. Она сразу же обвинила в убийстве сына своего зятя. Ирод и сам был в отчаянии от произошедшего и в первые минуты не стал даже оправдываться перед тещей. Впоследствии это обернулось против него, поскольку все, включая его жену Мариамну, решили, что виновником внезапной смерти Аристовула стал именно он, якобы усмотревший в своем шурине, ставшим всеобщим любимцем, опасного соперника на царский престол [245].
Ирод глубоко скорбел по поводу внезапной кончины шурина, с которым связывал надежду на осуществление многих из своих задуманных преобразований. Смерть Аристовула, казалось ему, разом перечеркнула все. Иродом овладела апатия и он стал даже подумывать о смерти. Единственное, что его еще удерживало на земле, это Мариамна, из-за гибели брата раньше времени освободившаяся от бремени и родившая дочь. На кого он оставит жену и детей и что станется с ними со всеми? Чтобы не дать себе окончательно пасть духом, Ирод вплотную занялся организацией похорон шурина. Обычно помогавшая ему во всем Саломия на этот раз оказалась в стороне – сестра, как и Мариамна, тоже родила дочь. Ироду одному пришлось заниматься всеми вопросами, связанными с похоронами. Он решил проводить шурина в последний путь не как первосвященника, а как солдата, мужественно оборонявшего в Масаде семью Ирода. Одежды первосвященника, пошитые специально для Аристовула, были переданы возвращенному на прежнюю должность Ананилу, а мертвый Аристовул облачен в доспехи. Не удовлетворившись этим, он приказал положить в гроб с телом юноши множество драгоценностей, да и самый гроб, сделанный из ливанского кедра, искусно украсить работами лучших ювелиров Иудеи. Лишь после этого гроб, обильно окуренный Ананилом бальзамом, был выставлен в Храме для прощания народа со своим воином, пробывшим в звании первосвященника всего один год.
4
Александра была убеждена, что гибель ее сына целиком и полностью лежит на совести Ирода и что следующей его жертвой станет она. Не надеясь больше на Клеопатру, которая – это не прошло мимо ее внимания – была влюблена в Ирода, она написала письмо Антонию, обвинив зятя во всех смертных грехах. «Несправедливо, – писала она, – что человек, получивший из твоих рук царскую власть без малейших на то оснований, использует эту власть для совершения преступлений против тех, кому эта власть принадлежит по самому своему рождению. Особая гнусность преступления Ирода состоит в том, – продолжала Александра, – что со смертью моего мальчика, не успевшего жениться и оставить после себя наследника, оборвался род Хасмонеев-Маккавеев, и за то я прошу тебя, великий Марк Антоний, покарать Ирода со всей строгостью во имя торжества справедливости».
Антоний не заставил Александру долго ждать с ответом. В Иерусалим прибыл с отрядом кавалеристов уже успевший осточертеть Ироду Афенион, который доставил два письма: одно от Клеопатры на имя Александры с выражением соболезнования по поводу постигшего ее горя, второе от Антония, адресованное Ироду. Антоний потребовал, чтобы тот незамедлительно явился в Александрию и лично отчитался во всех деталях гибели Аристовула. «Если окажется, – писал он, – что смерть первосвященника не роковая случайность, а преднамеренное убийство, совершенное по твоему приказу, то приготовься к суровому наказанию».
– Я арестован? – спросил Ирод евнуха.
– Пока нет, – ответил тот.
– Сколько времени мне дается на сборы?
– Ровно столько, сколько требуется моим людям для отдыха. Выезжаем завтра с восходом солнца.
Не зная за собой никакой вины за случившееся, Ирод отправился попрощаться с Мариамной. Та, однако, отказалась принять его. Тогда Ирод пошел к Иосифу, которого застал у Саломии. Еще на подступах к ее покоям Ирод услышал голос сестры: «Если бы не мой брат, я бы никогда не согласилась стать твоей женой. Теперь, когда я родила тебе дочь, не смей больше показываться мне на глаза, урод! Я тебя ненавижу!»
Ирод без стука распахнул дверь и, войдя в покои Саломии, попросил ее удалиться.
– Мне необходимо поговорить с твоим мужем, – сказал он.
– Он мне больше не муж! – выкрикнула Саломия.
– Оставь нас одних, – повторил Ирод.
Саломия, подхватив на руки дочь, выбежала из спальни.
Иосиф виновато смотрел на Ирода.
– Пустое, – сказал Ирод. – Не обращай на нее внимания. Мы, наследники Антипатра, все такие: сгоряча можем наговорить массу обидных слов, но быстро отходим. Главное, что ты любишь Саломию, а все остальное не имеет значения. – Помешкав, добавил: – Твоя, как, впрочем, и моя беда состоит в том, что ты любишь мою сестру так же пылко, как я люблю Мариамну.
Наступила долгая пауза, во время которой Ирод рассеянно оглядывал спальню Саломии, в которой никогда прежде не был. «Удивительно, – подумал он, – как много могут рассказать о человеке вещи, которые его окружают».
– Зачем я сюда пришел? – спросил Ирод, продолжая рассматривать комнату сестры, обставленную с той роскошью, которая призвана поразить воображение прежде всего посторонних, которым открыт сюда доступ. «У нее явно есть кто-то, кого она тайно принимает, – подумал он. – И этот кто-то не ее муж. В таком случае, кто?» Мысль, внезапно пришедшая на ум и столь же внезапно улетучившаяся, вернула Ирода к действительности. – Вспомнил, – сказал он, усаживаясь на постель сестры. – Я хочу попросить тебя об одной услуге.
– Слушаю тебя, – сказал Иосиф, продолжая оставаться на ногах, как если бы чувствовал себя в спальне Саломии гостем.
– Видишь ли… – Ирод трудно подбирал нужные слова. – Ты знаешь, как дорога мне Мариамна. Она для меня всё и даже сверх того. Она… – Ирод пощелкал пальцами. – Она для меня как солнце, как воздух, как вода… – Произнеся слово «вода», Ирод вспомнил о нелепой гибели Аристовула и поморщился от неуместности сравнения Мариамны с водой. – Я хочу сказать, что Мариамна для меня то же, что жизнь. Завтра я по требованию Антония отправляюсь в Александрию. Скорей всего, назад я больше не вернусь. То есть, я хочу сказать, не вернусь живым.
Брови Иосифа вскинулись, что не осталось незамеченным со стороны Ирода. Иосиф хотел что-то возразить, но Ирод жестом приказал ему молчать.
– Не перебивай меня, – сказал он и повторил: – Да, скорей всего, я не вернусь из Александрии живым. Но смерть не страшит меня. Меня страшит другое: что станется с Мариамной?
– И с Дорис, – осторожно вставил Иосиф.
Ирод нахмурился и грубо произнес:
– Мне наплевать на то, что станется с Дорис. Она меня не интересует. Пусть делает, что хочет: продолжает жить одна или выйдет за кого-нибудь замуж, а если не то и не другое, то лишится, наконец, хоть на время своего немереного аппетита… Нет, аппетита она, пожалуй, не лишится, – поправил себя Ирод. – Эта женщина годится только для одного: жевать, бесконечно жевать, без устали перемалывать любую пищу, какая только попадется ей на глаза… – Помолчав, он продолжил прежним тоном: – Даже мертвый, я не смирюсь с потерей Мариамны. Даже мертвый! – повторил он. – Я и после моей смерти не найду покоя, если буду знать, что Мариамна сойдется с кем-нибудь еще, кроме меня. Ни найду покоя до тех пор, пока Мариамна снова не станет моей на этом или другом свете. Сегодня она отказалась видеть меня. Это ее право. Но и у меня, пока я еще жив, тоже есть право. Право на ее целомудрие. Вот я и хочу попросить тебя, Иосиф: как только тебе станет известно, что меня больше нет в живых, убей Мариамну. Этим ты окажешь мне последнюю услугу: ты снова соединишь меня с моей женой. И когда она вслед за мной сойдет во гроб, я приду к ней и скажу: «Встань, возлюбленная моя, прекрасная моя, выйди!» [246]И моя прекрасная возлюбленная выйдет, и мы отправимся с нею к Предвечному, и Предвечный соединит наши руки и благословит на жизнь вечную…
Иосифа удивило, с каким спокойствием Ирод произнес все это, поручив ему в случае его смерти совершить страшное злодеяние. Но что было хуже всего, так это то, что Ирод, судя по его тону, ничуть не сомневался, что Иосиф не посмеет ослушаться его. По телу Иосифа пробежала дрожь. А Ирод, как ни в чем не бывало, поднялся с постели сестры и, прежде чем выйти, буюдничным тоном произнес:
– Вот, собственно, то, что я хотел тебе сказать тебе. Ты выполнишь мою волю?
– Выполню, – едва слышно произнес Иосиф, не смея поднять глаза на того, кто представлялся ему грозным правителем, а на деле оказался беззащитным влюбленным, для которого самая мысль о возможности потерять любимую хуже лютой смерти.
5
В тот же день возвратился из Сирии со своим легионом Костобар. Увидев на Храмовой площади египетских кавалеристов, он приказал солдатам атаковать их и всех до одного уничтожить. Лишь чудо помогло избежать кровопролития. Выбежавшая навстречу Костобару Саломия рассказала ему о внезапной смерти Аристовула и о том, что Антоний вызывает в Александрию Ирода. Лицо ее при этом почему-то не выглядело печальным, а, скорее, светилось непонятной радостью. Костобар поспешил к Ироду и вручил ему письмо от Квинта Дидия, в котором тот благодарил царя Иудеи за оказанную помощь в подавлении восстания гладиаторов. Ирод, прочитав письмо, вернул его Костобару.
– Трудно пришлось? – спросил он, с неудовольствием наблюдая за сестрой, которая ни на шаг не отходила от Костобара.
– Нормально, – ответил тот.
– Поедешь в Идумею, – неожиданно для себя сказал Ирод, еще минуту назад не помышлявший ни о каком новом поручении для бесстрашного великана. – А сейчас отправляйся к Птолемею и скажи ему, что я назначил тебя правителем Идумеи и Газы. Он подготовит все необходимые распоряжения.
– А как же… – начал было Костобар, но Ирод не дал ему договорить:
– Выполняй.
Ночь Ирод провел без сна, приводя в порядок личные бумаги и государственные документы. Солнце еще не взошло, когда он послал за Гирканом. Тот, заспанный, явился, трудно передвигая ноги (с годами у старика появилась боль в коленях, и с болью этой никто из врачей не мог справиться).
– Здесь собрано все, что тебе может пригодиться на первое время, – сказал он, показывая на заваленный документами стол.
– Зачем мне это? – спросил Гиркан, и остатки сна тотчас слетели с него: самая мысль о том, что ему поручается какое-то дело, приводила его в ужас.
– На случай, если тебе придется одному править Иудеей, – сказал Ирод. – Но не пугайся. Тебе помогут первый министр и хранитель печати Птолемей, Иосиф, который отвечает за все дела во дворце, первосвященник Ананил, которого ты знаешь лучше меня, другие верные люди, на которых ты всецело можешь положиться. Они тебя не подведут.
– А как же ты?
– Я отправляюсь к Антонию и, может статься, задержусь у него. Прощай, отец.
– До свидания, сын. Постарайся вернуться поскорей.
С восходом солнца Ирод вскочил на коня и, сопровождаемый Афенионом и его кавалеристами, тронулся в путь.
6
Потянулись томительные дни ожидания вестей из Египта. Александра без устали молилась, прося у Господа наслать на своего зятя самую долгую и мучительную смерть. Гиркан из-за груза ответственности, свалившейся на него, вконец разболелся и не вставал с постели, жалуясь всем на невыносимые боли в коленях, которые сведут его в могилу. Снова оживились присмиревшие было зилоты, и на домах и крепостных стенах по всей Иудее появились огромные надписи, видные издалека: «Никакой власти, кроме власти Закона, и никакого царя, кроме Бога». Из-за неопределенности, сложившейся в стране, стали пошаливать сикарии, захватывая власть на местах и предавая публичной казни тех, кто не желал уступить им эту власть. Осложнилась ситуация на границе с Аравией: Малх, видя, что его набеги на Иудею остаются безнаказанными, осмелел и, перейдя через Иордан, захватил Иерихон, обложив город данью.
Обострились и без того непростые отношения в семье Ирода. Саломия и ее мать Кипра вконец рассорились с Александрой и ее дочерью Мариамной. Дорис, обыкновенно не вмешивавшаяся во внутрисемейные дела, встала на сторону Александры и ее дочери и громче других стала обвинять Кипру и Саломию в низком происхождении. Непрекращающаяся ругань незаметно переросла в рукоприкладство.
– А ты кто, кто ты? – спрашивала Саломия, вцепляясь в волосы Дорис. – Тоже мне, нашлась высокородная танцовщица! Благодари моего брата, что вытащил тебя из грязи, а не то так бы и провела всю жизнь, вертя своим неохватным задом на пирах перед носами пьяных мужчин, а ночами служила им подстилкой.
– Я чистокровная еврейка и горжусь этим! – визжала Дорис. – А ты неизвестно какого рода-племени!
Мир в семье старался восстановить Иосиф, но Саломия окрысилась и на него, а когда по делам своей новой службы в Иерусалим приехал Костобар, демонстративно проводила все дни в его обществе, и никто не мог поручиться, что с наступлением ночи эти встречи прекращались. Ферора, чтобы не участвовать в этом набирающим силу бедламе, перебрался со своей возлюбленной италийкой в дом отца, разрушенный в ходе последнего штурма Иерусалима, и занялся его восстановлением. И вот в это-то самое время по столице расползся слух, будто Антоний предал Ирода в Александрии позорной казни [247].
Иосиф, после демонстративной измены ему Саломии, не покидал пределов дворца, отведенных под покои Александры и Мариамны. Здесь, стремясь скрасить их и свое собственное одиночество, он часами рассказывал им о том, как искренно и самозабвенно любит Ирод Мариамну и высоко чтит ее мать. Женщины из вежливости слушали Иосифа, не веря ни одному его слову.
– Если бы он на самом деле любил мою дочь и хотя бы капельку уважал меня, – говорила Александра, – он ни за что бы не решился убить моего единственного мальчика.
– Не убивал он Аристовула, клянусь всем святым, не убивал! – тщетно пытался доказать ей обратное Иосиф. – И Мариамну он любит больше жизни, он сам мне об этом говорил!
– С какой стати он стал бы говорить о своей любви к моей дочери тебе, а не самой Мариамне? – спрашивала Александра.
– Он и мне много говорит о своей любви, – заметила Мариамна. – Только разговоры эти больше походят на ревность, чем на любовь. Разве я дала ему хоть раз повод для ревности?
– Ирод потому-то и ревнует тебя, что любит! – горячился Иосиф, досадуя, что женщины ему не верят. – Если бы с тобой что-нибудь случилось, он наложил бы на себя руки!
– Сомневаюсь в этом, – говорила Александра. – Тут же нашел бы себе новую жену.
– А что мешает ему завести себе новую жену уже теперь? – спрашивал Иосиф. – У Соломона было семьсот жен и триста наложниц, а знаем мы лишь одну из них – рыжеволосую негритянку Суламиту благодаря его непревзойденной по выражению силы чувств «Песни Песней».
– Суламита была не первой женой Соломона и не последней, – упрямо возражала Александра.
– Верно, не первой, – соглашался Иосиф. – Соломон, влюбившись в Суламиту, сам прямо говорит об этом: «Есть шестьдесят цариц и восемьдесят наложниц и девиц без числа; но единственная – она, голубица моя, чистая моя» [248]. Но Суламита-то – главная его любовь, вот что важно понять! Были и после нее у Соломона жены и наложницы, но кого из них можно поставить рядом с Суламитой?
В день, когда по Иерусалиму распространился слух, что Антоний казнил Ирода, Иосиф по своему обыкновению находился у Мариамны. Мариамна, не стесняясь слез, горько плакала. Иосиф, желая утешить ее, выставил, как последнее доказательство силы любви к ней Ирода, не допускавшего даже мысли расстаться с ней и после своей смерти, последнюю волю царя: убить Мариамну, как только станет известно о его казни.
Мариамну испугало откровение Иосифа, который так долго и так тщательно скрывал от нее приказ Ирода. Она еще горче разрыдалась. Иосиф, поняв, что даже под угрозой собственной смерти не сможет выполнить данное Ироду обещание, тоже расплакался. Так они и сидели на постели Мариамны, обнявшись, будто брат и сестра, и рыдали каждый о своем.
Саломия, обезумев от новости, мгновенно ставшей известной всем, носилась по всему дворцу, рвала на себе волосы и кричала:
– Не верьте! Не верьте никому, кто распространяет сплетни о смерти моего брата! Это все ложь, наглая ложь! – Ворвавшись в спальню Мариамну и увидев ее в объятиях своего мужа, она, вконец обезумев, закричала во весь голос: – Бесстыжая блудница! Ты еще не предала земле своего мужа, а уже путаешься с другими мужчинами!..
Мариамна поведала матери о последней воле своего мужа, которая стала известна ей со слов Иосифа. Перепугавшаяся Александра предложила дочери бежать из страны.
– Ирод достанет нас и с того света. Оставаться в Иерусалиме и дальше опасно для нас обеих. Во дворце наверняка находятся убийцы, которые выполнят приказ Ирода!
Она тут же села писать письмо Малху, вступившему в Иерихон и, таким образом, оказавшемуся всего в нескольких часах езды от Иерусалима, с просьбой принять ее с дочерью под свое покровительство. Поддался общей панике и бесстрашный Костобар. Он тоже сел за написание письма, адресовав его не врагу Ирода Малху, а Клеопатре, которую также нельзя было причислить к друзьям Ирода. Но именно потому, что Клеопатра была врагом не только Ирода, но и Иудеи, Костобар решил обратиться к ней, а не кому другому. Для него было ясно, что Иудея без Ирода неминуемо распадется. Собственно Иудея отойдет под власть Клеопатры. Галилия, скорей всего, отойдет к Сирии. Находящаяся между Иудеей и Галилеей Самария поспешит заявить о своей автономии и окажется втянута в войну между Египтом и Сирией, как это уже не раз случалось. Остается нерешенной судьба родины Ирода и Костобара Идумеи. Вот ее-то и необходимо поскорей прибрать к своим рукам, пока этого не сделали другие. Костобар в своем письме напомнил царице, что Идумея всегда находилась в натянутых отношениях с Иудеей и дружеских отношениях с Египтом. Обстоятельства сложились таким образом, что с приходом к власти Маккавеев Идумее пришлось делать выбор, на чью сторону встать – на сторону ли Сирии или примкнуть к Египту? Сирия, потерпев поражение от Маккавеев, не стала брать под свое крыло Идумею. Египет также отказался от притязаний на нее, поскольку Маккавеи заключили с Римом союзнический договор, а Рим не потерпел бы, чтобы в дела его союзников совали нос посторонние. Ситуация осложнилась тем, что отец Антипатра, а следом за ним и сам Антипатр, отец Ирода, добровольно пошли в услужение евреям. «Но мы, идумеяне, – писал Костобар Клеопатре, – не для того приняли иудаизм, чтобы оказаться в подчинении у Иудеи. Нас здесь ненавидят и рассматривают как чужаков, от которых следует поскорей избавиться. Я почту за честь, если ты, великая царица, добьешься у Антония переподчинения моей страны Египту. Можешь не сомневаться в том, что я, Костобар, как и весь народ Идумеи, станем самыми верными твоими союзниками, готовыми не задумываясь положить свои жизни ради твоего, Клеопатра, и великого Египта процветания».
Неизвестно, во что распущенный кем-то слух о казни Ирода в конце концов вылился и в какую бездну оказалась бы ввергнута Иудея, если бы из Александрии не пришло письмо, написанное самим Иродом [249].
7
Самый тон этого письма свидетельствовал о том, что Ирод, прибыв по требованию триумвира в Египет, еще не вполне вышел из состояния затянувшейся депрессии, на что сразу обратил внимание Антоний.
– Где твои люди? – спросил он.
– Люди? – не понял Ирод.
– Да, я имею в виду твою свиту, телохранителей. Ты царь или не царь?
– Я прибыл один. Точнее, в сопровождении Афениона и его кавалеристов.
Антоний бросил в сторону Клеопатры быстрый недовольный взгляд. Клеопатра, мило улыбнувшись, сказала:
– Ты знаешь, мой друг, как относятся к Ироду иудеи. Я послала к нему небольшой отряд всадников в целях его безопасности. Но я ни слова не сказала о том, что Ироду не следует брать с собой свою свиту и охрану. Подтверди, Афенион.
Евнух почтительно склонил голову:
– Точно так, великая царица. Я лишь сказал, что Ироду следует поторопиться.
Антония объяснение Клеопатры и слова Афениона не удовлетворили, и он сказал Ироду:
– Отдохни с дороги, лев, помойся – рабы приготовили для тебя ванну, – у нас с тобой впереди масса времени, чтобы спокойно во всем разобраться и многое обсудить. Ступай.
Сопровождаемый безмолвными слугами, Ирод вышел из залы и нос к носу столкнулся с Мариамной. Сердце кольнуло, в глазах помутилось. В руках у Мариамны были аккуратно сложенные простыни. Поравнявшись с Иродом, она голосом Ревекки тихо сказала ему:
– Приветствую тебя, мой мелех. Скоро начнется война.
– Война? – переспросил Ирод и от неожиданности этого известия остановился. – Кого с кем?
– Не останавливайся, – все так же тихо произнесла Ревекка. – Война между Антонием и Октавием. Клеопатра делает все, чтобы стравить их.
– Война… – эхом отозвался Ирод. – Мне жаль Антония.
После ванны Ревекка проводила гостя в отведенную ему спальню, и Ирод, едва коснувшись головой подушки, тут же провалился в глубокий сон.
За ужином, данным в честь прибытия царя Иудеи, Клеопатра была весела, много шутила и в лицах рассказывала Антонию, как Ирод по ее просьбе устроил охоту на львов, как ее чуть не разорвали звери и, наверное, разорвали бы, если бы ей на помощь не поспешил Ирод. Антоний слушал ее вполуха, не сводя внимательного взгляда с Ирода. О причине его срочного вызова в Александрию не было сказано ни слова. На третий или четвертый день пребывания в столице Египта Ирод сам было заговорил о трагедии, случившейся в Иерихоне, но Антоний жестом прервал его.
– Можешь не продолжать, – сказал он. – Я внимательно наблюдаю за тобой все дни, что ты гостишь у меня, и пришел к выводу: ты не виновен в смерти своего шурина, ты подавлен несчастьем, свалившимся на тебя. Человек, подавленный горем, не способен на обдуманное преступление. – И без всякого перехода продолжил: – Кстати, об Иерихоне. Я слышал, что Малх, воспользовавшись неразберихой в Иудее, вызванной смертью Аристовула, завладел этим городом. Что бы это значило? Ты недостаточно наподдал ему жару или арабу все неймется? Кстати, он ведь доводится тебе родственником со стороны матери?
Новость, которую сообщил Антоний Ироду, огорошила его.
– Малх завладел Иерихоном? – переспросил он. – Я ничего об этом не знаю.
– То-то и оно. Ты перестал владеть ситуацией. А это дурной признак. Я настаиваю, чтобы ты основательно отдохнул у меня в гостях, пока не станешь прежним Иродом. Мы давно с тобой по-настоящему не пировали. Хочешь, вызовем сюда твою Мариамну? Ее портрет, как и портрет Аристовула, хранится у Клеопатры. Она необыкновенно хороша. Кстати, ты не находишь, что Ревекка похожа на нее?
Прислуживавшая за столом Ревекка покраснела и отвернулась.
– Да, в их внешности есть что-то общее, – согласился Ирод. – Надеюсь, ты не рассердишься, если я скажу, что Мариамна, тем не менее, превосходит Ревекку своей красотой?
– Не рассержусь. По мне, на земле нет женщины прекрасней, чем моя Клеопатра. Но она, кажется, не в твоем вкусе?
– Разве дело в моем вкусе? Главное, что она нравится тебе.
– Нравится? – переспросил Антоний. – Если бы дело было только в том, нравится она мне или не нравится. Я, мой друг, безумно влюблен в нее! Влюблен, как мальчишка, впервые познавший женщину и потому потерявший от нее голову. Это-то меня больше всего и угнетает: я давно уже не в том возрасте, когда любовь может свести с ума. А я, сознаюсь тебе по секрету, сошел с ума. Она вьет из меня веревки и думает, что я становлюсь от этого счастливее. Временами – ты не поверишь – я устаю от нее, от всех ее хитросплетений, и тогда мне хочется все бросить и возвратиться в Рим, где меня все еще ждет моя жена Октавия. Ты помнишь ее? Маленький серый воробушек с большим добрым сердцем. Чего не скажешь о ее братце, который все еще смеет поучать меня, как и с кем мне жить дальше. Как будто у меня своей головы на плечах нет. А может, он прав? Ведь я действительно потерял голову из-за Клеопатры, а с рождением у нас с нею общих детей и вовсе сошел с ума?
Ирод не знал, что посоветовать другу, как, впрочем, не знал он и того, а нуждается ли Антоний в его советах. Разве сам Ирод не лишился головы из-за своей любви к Мариамне и тем стал похож на Антония? Да и кто в состоянии стать советчиком в таком неразрешимом вопросе, как то, кого мы любим и за что любим?
Спустя неделю Ирод засобирался в обратный путь. Антоний, однако, удержал его.
– Погости у меня еще немного. Надеюсь, я не в тягость тебе? Ты действуешь на меня благотворно: я стал меньше пить, не изображаю больше из себя Бахуса, перестал шляться ночами по кабакам, изображая из себя заезжего купца, и таскать всюду за собой Клеопатру, которой доставляет удовольствие изображать мою рабыню. Хотя в жизни у нас все наоборот.
Как-то Ревекка, убирая за Иродом постель, шепнула ему:
– Сегодня ночью у моих господ случилась ссора. Клеопатра потребовала, чтобы Антоний наказал тебя за смерть Аристовула. Не потому, что ты стал виновником его гибели, а потому, что не доглядел за своим шурином.
Ирод насторожился.
– А что Антоний?
– Антоний ответил, что нехорошо привлекать к ответственности царя за то, что происходит у него в царстве. Те, кто предоставил царю власть, сказал он, должны предоставить ему и полное право пользоваться ею. А еще он сказал, что не позволит больше Клеопатре вмешиваться в дела правителей. Царицу это страшно рассердило.
В том, что между Антонием и Клеопатрой пробежала кошка, Ирод вскоре удостоверился сам. Антоний ежедневно стал приглашать Ирода на все совещания, которые проводил со своими приближенными, и находил тысячи предлогов для того, чтобы не допускать к участию в этих совещаниях Клеопатру. Много времени проводили они и за столом, рассуждая на темы любви. В конце концов оба пришли к выводу, что любовь – смертельный яд, но, в отличие от обычного яда, которого люди страшатся, яд любви они принимают счастливо, испытывая при этом мучительное наслаждение.
Обо всем об этом Ирод рассказал в своем письме на родину, опустив сообщение Ревекки о скором начале войны между Октавием и Антонием (об этом он скажет лишь узкому кругу доверенных лиц, когда предотвратить эту войну станет уже невозможно). А вскоре вслед за письмом возвратился в Иерусалим и сам Ирод.
8
Страну он застал в запустении. Люди были напуганы, в поля и на виноградники меньше, чем группами по десять-пятнадцать человек, никто не выходил, все, даже рабы, были вооружены на случай, если на них нападут разбойники. Пасущихся стад не было видно; люди предпочитали держать скот дома. В городах хозяйничали зилоты и сикарии. Многие из них еще недавно были врагами, воюя между собой на стороне Ирода и Антигона. Теперь они объединились и стали действовать заодно. Городские рынки опустели, лавки торговцев и мастерские ремесленников были заперты на замок. Зато площади перед городскими воротами были полны народу: людей сюда сикарии сгоняли палками, чтобы они участвовали в непрекращающихся судебных тяжбах.
Впрочем, то, что творилось на площадях, нельзя было назвать судом. Свидетелями сплошь и рядом оказыввлись одни и те же лица, которые давали ложные показания, зарабатывая на этом немалые деньги. Обвиняемыми становились, как правило, отцы семейств, имевшие кое-какие сбережения. Но были среди них и люди неимущие, чаще всего девушки и молодые женщины, которые оказали отпор насильникам. Этих девушек и молодых женщин обвиняли в блуде со скотом и супружеской неверности, выводили в поле за городскими стенами и до смерти побивали камнями. Имущество состоятельных граждан, приговоренных к смерти, конфисковывалось в пользу обвинителей. Если обвиняемые соглашались откупиться штрафом, наказание становилось менее суровым: их или приговаривали к бичеванию, или вовсе отпускали на волю.
Ирод дивился: сколько, оказывается, нужно приложить сил и стараний, сколько потратить времени, чтобы в стране установился хотя бы относительный порядок! И как немного нужно времени, чтобы этот хрупкий порядок разрушить. Мотивация при этом не имела никакого значения: в несчастьях, обрушившихся на страну, обвинялись греки, сирийцы, египтяне, римляне, но больше всего доставалось идумеянам, которые заполонили Иудею и навязали евреям свои безбожные порядки. «Слава Всевышнему, Ирод подох, теперь мы вычистим обетованную нам землю от его поганого семени», – доходили до Ирода слухи еще по пути домой.
Впрочем, и дом свой Ирод застал в ужасающем беспорядке. Женщины, их прислуга и даже рабы и рабыни разделились на два враждующих лагеря. Один лагерь возглавила его теща Александра, другой – сестра Саломия. Мужчины перестали играть сколько-нибудь заметную роль в преодолении распри между ними. Гиркан не вставал с постели, жалуясь на не проходящую боль в коленях, от него ни шаг не отходил его верный друг Ананил, все реже появлявшийся в Храме для исполнения своих обязанностей первосвященника. Ферора демонстративно обосновался со красавицей-италийкой в доме отца, где закончился ремонт, и наслаждался там ее ласками. Иосиф, отвергнутый Саломией, ждал возвращения Ирода, рассчитывая на то, что тот с его строгостью быстро восстановит мир в доме.
Возвращение Ирода, избавившегося, наконец, от вмешательства в дела Иудеи Клеопатры, действительно поначалу принесло облегчение всем. Своему правительству он устроил настоящий разнос за полную неспособность управлять в его отсутствие страной и сгоряча чуть было не казнил Птолемея. Тот слезно умолял простить его и обещал в ближайшее время навести в стране порядок. Досталось и женщинам, прежде всего Александре и Саломии. Первой он сказал: «Если тебе не терпится спрятаться под крыло Малха – убирайся к нему сегодня же. Малх, насколько мне стало известно, завладел твоим родовым имением в Иерихоне. Я дарю тебе этот город вместе с его окрестностями и не стану изгонять оттуда Малха – живи с ним, как тебе заблагорассудится, но уберешься ты к нему одна – мою жену Мариамну я тебе не отдам». Не менее круто обошелся он и со своей сестрой. «Тебе надоел Иосиф? – спросил он. – Тебе нужен Костобар? Это ты ради него превратила свою спальню в гнездо разврата? Ну так знай: я заставлю Иосифа написать тебе разводное письмо, чтобы ты могла соединиться с Костобаром. Но соединишься ты с ним не здесь, в Иерусалиме, а где-нибудь в Газе или другой глухой дыре. Начинай свою новую семейную жизнь с нуля, а мне ты больше не сестра, я не желаю знать о тебе ровным счетом ничего».
Ах, если бы Ирод мог предположить, что Саломия унаследовала от своего отца тот же крутой нрав, что и Ирод! Он бы, наверное, не стал спешить ссориться с нею.
9
Ирод сколько мог оттягивал встречу с Мариамной. Он все ждал, когда та сама позовет его к себе. Не дождавшись, на четвертый день отправился к ней. Мариамну он застал за чтением какого-то свитка.
– Что читаешь? – спросил он.
– Посмотри сам, – ответила Мариамна, не поднимая на него глаз.
Ирод взял свиток, посмотрел отчеркнутое женой место. Прочитал вслух:
– «Поднимись ветер с севера и принесись с юга, повей на сад мой, – и польются ароматы его! Пусть придет возлюбленный мой в сад свой и вкушает сладкие плоды его» [250].
Взгляды Ирода и Мариамны встретились. В больших синих глазах жены Ирод, наконец, увидел то, что так давно и так страстно хотел увидеть: желание. Они набросились друг на друга с жадностью, с какой истомившийся от жажды путник набрасывается на живительную воду. Сорванные одежды их полетели на пол, губы впились в губы, тела слились в неистовой страсти. Ничего им не нужно было в эти сладостные минуты, кроме одного: раствориться друг в друге и стать одним целым – тем самым, что называется словом любовь.
Насытившись, Мариамна откинулась на подушки. Ирод нежно ласкал ее тело и говорил:
– «Пришел я в сад мой, сестра моя, невеста; набрал мирры моей с ароматами моими, поел сотов моих с медом моим, напился вина моего с молоком моим…» [251]Как ты прекрасна, возлюбленная моя, на теле твоем нет ни пятнышка, которое я бы не любил так же пылко и страстно, как люблю тебя всю.
Мариамна сделалась строгой.
– Верить ли мне тебе?
– Верь, ненаглядная моя, чистая моя, верь! Я люблю тебя так, как никто никогда не любил и не способен полюбить. Люблю губы твои, глаза твои, люблю сосцы твои, чрево твое. Я люблю тебя больше жизни!
Мариамна приложила палец к губам мужа.
– Можешь не продолжать. Я верю тебе. Иначе зачем бы ты стал приказывать Иосифу убить меня, если бы тебя казнил Антоний?
Слова эти были произнесены негромко и нежно, но Ироду вдруг почудилось, что над ним внезапно разверзся потолок, в нем образовалась огромная дыра, и сквозь дыру эту в него ударила и поразила в самое сердце молния. Ничего не соображая, он вскочил с постели, натянул на себя одежды и бросился вон из спальни Мариамны. Пробегая по бесчисленным коридорам, заставленным греческими вазами и мраморными скульптурами и задевая их, отчего они летели на пол и с грохотом разбивались, он желал сейчас только одного: увидеть Иосифа, схватить его за горло и собственными руками вырвать его болтливый язык.
Двери в коридор одна за другой распахивались, из них выглядывали испуганные родственники и приживалы, он отталкивал их и бежал дальше, пока не налетел на Саломию, уже приготовившуюся ко сну.
– Где твой треклятый муж? – спросил Ирод, хватая ее за плечи.
– Не знаю, – в страхе пролепетала Саломия. – Поищи его у Мариамны.
– Что значит – поищи у Мариамны! – взревел Ирод. – Я только что от нее. Что ему делать в спальне моей жены?
– Он спит с твой женой, – вконец оробев, сказала Саломия.
Теперь не потолок, а пол разверзся под ногами Ирода, и из-под пола вырвался столб пламени, грозя ввергнуть его в геенну огненную. Ирод оттолкнул Саломию и помчался назад. Он ничего и никого не видел вокруг. Перед глазами его стояла одна и та же картина, о которой он на время забыл: волосатые руки Иосифа проникают в лоно Мариамны и извлекают оттуда за ноги его сына Аристовула. Ирод был в бешенстве на себя за свое легкомыслие: как мог он доверить свою самую сокровенную тайну тому, кто грубо, подобно мяснику на рынке, влез своими лапищами в чрево несчастной жертвы? Дверь в спальню жены едва не слетела с петель, когда Ирод ударом ноги распахнул ее. Мариамна смотрела на мужа с неподдельным ужасом. Ирод схватил жену за горло и яростно прохрипел:
– Ты спала с Иосифом? Отвечай: ты спала с этим калекой?
Мариамна от нехватки воздуха обмякла под руками Ирода и едва слышно произнесла:
– Нет, Богом клянусь, нет. Я чиста перед тобой.
– В таком случае почему Саломия говорит, что Иосиф спит с тобой?
– Не знаю. Я ничего не знаю. Спроси у нее сам.
– Саломия не станет мне лгать. Она видела вас вместе?
– Да, однажды. Иосиф приходил к нам с матерью и рассказывал нам о том, как ты сильно любишь меня.
– Он не посмел бы признаться тебе в моем приказе убить тебя при известии о моей смерти, если бы ты не спала с ним. Что вы делали, когда оставались одни?
– Ничего. Клянусь тебе, Ирод, ничего. Прошу тебя, выпусти меня, ты меня задушишь.
Ирод оттолкнул Мариамну, и та ничком упала на постель, еще не остывшую от их недавних безумных ласк.
– Не молчи, отвечай, что вы делали, когда оставались одни? – продолжал допрос Ирод.
– Ничего, – повторила Мариамна. – Сидели и плакали вместе.
– Где сидели?
– Здесь, на этой постели. По городу ходили слухи, будто Антоний казнил тебя. А потом от тебя пришло письмо…
– Не нужно мне рассказывать о моем письме, я сам знаю, что писал в том письме. Значит, говоришь, вы вместе сидели на этой постели и плакали?
– Да, сидели и плакали.
– Отчего же вы плакали?
– Вначале оттого, что думали, что Антоний на самом деле казнил тебя, а потом потому, что ты оказался жив.
– Так вы плакали потому, что я остался жив?
– Нет, то есть – да. Я не помню, почему мы плакали.
– Но ты помнишь, что сидела с этим калекой на твоей постели?
– Да, это я помню.
– Вы сидели обнявшись?
– Не знаю. Кажется, да.
– Он обнимал тебя или ты его?
– Ирод, умоляю, пощади меня, избавь от этих нелепых вопросов!
– Нет, Мариамна, ты ответишь на все мои вопросы. Что было после того, как вы сидели обнявшись и, как ты говоришь, оплакивали меня?
– Ничего не было. Сюда вошла Саломия и стала оскорблять меня.
– Оскорблять невинную овечку! А ты хотела бы, чтобы моя сестра поудобнее устроила вам наше с тобой супружеское ложе?
– Ирод, лучше убей меня, чем так мучить.
– Это все твоя мать, – прохрипел Ирод. – Она ненавидит меня и хочет разлучить нас.
Выбежав во второй раз из спальни жены, Ирод помчался к себе в кабинет и вызвал Коринфа. Начальник телохранителей тут же явился.
– Немедленно разыскать моего шурина Иосифа и казнить его, – распорядился Ирод. – Тещу Александру заточить в подвал и ничего ей не давать ей, кроме хлеба и воды, чтобы она не натворила новых глупостей. Выполняй!
10
Покончив таким образом с мужем Саломии, не удосужившись даже добросить его, Ирод испытал угрызения совести за свою горячность. С Мариамной после казни Иосифа он не смел видеться. Чтобы отвлечься от мучивших его мыслей, он снарядил войско и отправился с ним под Иерихон с намерением раз и навсегда вышвырнуть оттуда Малха. Он находился уже в пути, когда пришло известие о начавшейся войне между Октавием и Антонием. Ирод послал Антонию письмо с просьбой указать время и место, куда он должен прибыть со своими легионами для войны с Октавием. Антоний ответил, что благодарит его за верность в дружбе, но нужды в помощи не испытывает и сам готов проучить зарвавшегося мальчишку. Его не смущало, что Октавий давно уже не мальчишка, но зрелый муж и опытный государственный деятель, заставивший служить интересам Рима всю Европу. То обстоятельство, что в отношения между бывшими товарищами по триумвирату вмешались причины личного свойства, сделали начавшуюся войну еще более жестокой: Ирод по собственному опыту знал, какими безрассудными и неуправляемыми делаются мужчины, когда оскорбляются их личные интересы.
С минимальными для себя потерями Ирод выбил Малха из Иерихона и оттеснил его за Иордан. Преследовать противника дальше он не стал, заключив с Малхом мирный договор. По условиям этого договора он снял с себя титул правителя Аравии, но наложил на нее огромную контрибуцию; Малх, в свою очередь, обязался никогда больше не нападать на Иудею. Затем Ирод приступил к наведению порядка в собственной стране, беспощадно расправляясь с зилотами и сикариями, представлявшими, по его мнению, главную опасность для установления порядка в Иудее.
Иначе развивались дела на средиземноморском театре военных действий. Собственно, войну между Антонием и Октавием спровоцировала Клеопатра. Она была в курсе всей переписки между триумвирами. Октавий не простил ему его дружеское по форме и язвительное по духу письмо относительно множества женщин, с которыми тот путается, смея при этом упрекать его в супружеской неверности, и разразился грубым ответом, в котором обвинил бывшего товарища в измене не жене, но Риму. Антоний ответил, что Октавий окончательно выжил из ума, если считает, что Рим одна из его бесчисленных пассий, с которыми можно миловаться в постели, а для него, Антония, Рим не женщина, но мать, к которой он относится с высочайшим почтением и сыновней любовью. Октавий, в свою очередь, обвинил Антония в оскорблении отечества и выступил в сенате с требованием лишить Антония гражданства. Тем самым, заявил он, весь мир увидит, что это не Антоний упорно не хочет возвратиться в Рим, а Рим не желает видеть того, кто добровольно сменил тогу триумвира на собачий ошейник и валяется в ногах у спесивой египетской царицы, найдя свое высшее счастье и доблесть в вылизывании ее пяток.
Клеопатра, прочитав речь Октавия в сенате, которую сам Октавий приказал размножить и предать ей самую широкую огласку, поинтересовалась у Антония, когда он начнет лизать ей пятки. Антоний вспылил: «Ты смеешь оскорблять меня?» «Не я, мой друг, – ответила ему Клеопатра, – не я, а ты позволяешь мальчишке оскорблять тебя». Антоний действительно считал себя оскорбленным сверх меры. «Что, по-твоему, я должен ответить ему на этот раз?» – спросил он. Клеопатра сказала: «Время обмена письмами закончилось. Настало время поступков. Ты должен возвратиться в Рим. Но не так, как возвращается домой побитая собака, а как победитель». «Ты предлагаешь мне начать войну с Римом из-за Октавия?» – спросил Антоний. «Войну за Рим против Октавия», – ответила царица.
Тетива была спущена. Превосходство в силах было на стороне Антония. Помимо собственных легионов и легионов Лепида, формально остававшегося третьим товарищем Антония и Октавия по триумвирату и продолжавшего исполнять обязанности правителя африканских провинций, Антоний получал в свое распоряжение сильную армию Египта и армии вассалов из Киликии, Каппадокии, Ливии и Фракии. Собственно, весь Восток выразил готовность поддержать Антония в его войне с Октавием. В результате под его командованием собралась огромная армия численностью девятнадцать легионов и двадцати тысяч конницы, не говоря уже об огромном флоте Клеопатры, позволявшем господствовать на всем пространстве Средиземного моря. Сил у него было достаточно, чтобы покончить с любым противником, и потому Антоний отказался от услуг части своих друзей. Так, он отказался от предложения Ирода предоставить в его распоряжение свою армию, и на то у него были веские основания. Во-первых, Ирод, нейтрализовав взбунтовавшуюся Сирию и поставив под контроль Аравию, обеспечивал ему надежный тыл, что немаловажно при ведении той масштабной войны, какая вспыхнула между триумвирами. Во-вторых, он рассчитывал, что, разгромив Октавия, перекроит карту провинций и сделает Ирода царем всего Ближнего Востока вплоть до беспокойной Армении. Было еще и в-третьих, и в-четвертых, что обязан учитывать при ведении войны любой полководец, но о чем до поры до времени никто не должен был знать даже из числа ближайших его друзей, к каковым, несомненно, принадлежал и Ирод.
Октавий, в отличие от Антония, не заручился союзом ни с одной из подвластных Риму европейских территорий. Скорее наоборот: властители этих территорий желали поражения Октавия, чтобы выйти из подчинения Риму. В этой ситуации триумвир, ввязываясь в войну с Антонием, мог рассчитывать лишь на собственные силы и свой флот, который состоял в основном из торговых судов. С такими силами самонадеянный триумвир не выдержал бы и первого серьезного сражения с Антонием. Дело оставалось за малым: за погодой. Но и погода стала союзницей Антония, а не Октавия.
Лето было на исходе. Изнуряющая жара спала. На море установился полный штиль, что облегчало работу гребцов. Антоний со своей огромной разношерстной армией перебрался в Грецию и соединил ее в мощный кулак в районе Акция [252], откуда было рукой подать до Италии. Октавий, стремясь воспрепятствовать высадке Антония в Италию, сосредоточил все свои силы и маломощный флот в Брундизии. Антоний собрал военный совет, в котором приняла участие и Клеопатра. Антоний настаивал на скорейшей высадке армии на материк и, пользуясь превосходством своих сил, нанести поражение Октавию на суше, после чего беспрепятственно вступить в Рим. Клеопатра настаивала на сражении на море, что исключило бы возможность бегства Октавия с поля боя и усиления его армии в ходе отступления за счет вступления в нее мирных граждан и ветеранов, отслуживших свои сроки службы. Мнение царицы было признано обоснованным, и Антоний с Клеопатрой, поделив между собой флот, стали готовиться к морскому сражению.
Их замысел, однако, разгадал Агриппа [253]. В то время, когда Антоний и Клеопатра разводили свои корабли, чтобы взять флот Октавия в клещи и разгромить его, римляне нанесли упреждающий удар. Ранним утром, когда солнце только-только поднялось над горизонтом, они на своих небольших судах вошли в Амбракский залив и атаковали противника. В тесной акватории громоздким египетским пятипалубным пентерам с веслами от двух с половиной до почти шестиметровой длины негде было развернуться. С кораблей римлян на корабли Антония обрушились тучи стрел. Пентеры Клиопатры стали сшибаться друг с другом бортами, ломая при этом весла и калеча гребцов. Тогда воины Антония укрылись в деревянных башнях, возведенных на палубах кораблей, и под их защитой стали отвечать своими тучами стрел. Римляне не растерялись и стали поджигать вражеские суда.
Дым окутал залив и сделал практически невидимыми корабли римлян. Клеопатра, понимая, что в этих условиях они с Антонием скорее уничтожат друг друга, чем сумеют одержать победу над общим врагом, вывела свои шестьдесят кораблей в открытое море, рассчитывая этим маневром увлечь за собой юркие суда римлян. Римляне, однако, не поддались на уловку царицы, а стали добивать остающиеся в заливе пентеры. Тому стóило огромных трудов вырваться из западни, в которую он сам себя загнал. Вдогонку за Антонием бросились две быстроходные триеры с мощными железными таранами на носу. Первым же ударом одна из триер проделала огромную брешь в корме пентеры, на которой находился Антоний. В это же время вторая триера атаковала Антония с носа. Антоний, задыхаясь от набившегося в легкие дыма и заходясь в кашле, гневно обратился к человеку, изготовившемуся метнуть с палубы триеры копье, на конце которого горела смоченная в смоле пакля:
– Кто осмелился преследовать Антония?
– Это я, македонянин Эврикл, сын Лахара, которого ты неправедно обвинил в разбое и приказал его обезглавить! – крикнул человек в доспехах и метнул подожженное копье. Копье, угодив в металлическую стяжку, отскочило от борта пентеры, упало в воду и с шипением погасло. – Благодаря счастью, дарованному мне богами, я мщу за смерть своего отца!
Первая римская триера, протаранив корму пентеры Антония, застряла в ней и не могла отойти для новой атаки. Матросы вынуждены были попрыгать в воду, и вторая триера поспешила на помощь товарищам. Лишь эта счастливая случайность избавила Антония от гибели.
Тем временем корабли римлян, покончив с кораблями Антония в заливе и захватив в качестве боевых трофеев триста пентер противника, бросились в погоню за кораблями Клеопатры. Солнце уже скрылось за горизонтом и на море отпустился ночная мгла, когда погоню пришлось прекратить.
Позже Ирод узнал, что многоплеменная и многотысячная армия, остававшаяся на берегу в Акции, не хотела верить в гибель своего флота. Чтобы избежать ненужного кровопролития, Октавий трижды посылал в Акций парламентеров с предложением ко всем сторонникам Антония возвратиться в свои дома с оружием и обозами с личным имуществом и провиантом, что по условиям военного времени не считалось поражением, и трижды парламентеры возвращались назад с отрицательным ответом. Наконец, на седьмой день, когда Антоний так и не объявился в лагере, а все его полководцы тайком бежали из Акция, армия осознала обреченность своего положения и приняла предложение Октавия. На этот раз, однако, Октавий изменил условия сдачи: армия должна была полностью разоружиться, оставить в городе коней и обоз и вернуться домой с пустыми руками. Что же касается римлян, выступивших на стороне Антония, то с ними Октавий обошелся куда как суровей: каждый десятый из них был казнен, а те, кому была сохранена жизнь, должны были отправиться в дальние северные провинции и работать там на строительстве дорог, в копях и возведении новых городов фактически в качестве рабов.
О печальном исходе войны между Антонием и Октавием Ирод узнал из письма Ревекки. Это было последнее донесение женщины, которая, прожив всю жизнь на чужбине, продолжала любить свою родину и делала все от нее зависящее, рискуя при этом собственной жизнью, для ее блага. О дальнейшей ее судьбе нам ничего не известно.
Оплакав поражение Антония, Ирод совершил несколько шагов кряду, которые были расценены евреями как стремление Ирода ценой страшных преступлений выслужиться перед Октавием, оказавшимся более удачливым соперником за высший пост в государстве, а историками как тщательно продуманное предательство своего друга ради сохранения за собой царского сана. Обе эти оценки представляются мне ошибочными. Если поступки Ирода, совершенные на завершающем этапе войны между Антонием и Октавием, действительно могут быть расценены как не имеющие оправдания злодеяния, то свидетельствуют они скорее о пагубности влияния на человека власти, который, достигнув ее вершин, превращается из вершителя истории в ее заложника.
Я не прошу читателя о снисхождении к Ироду, которого его биограф Николай Дамасский, а следом за ним Иосиф Флавий назвали человеком крайне несчастным; я прошу моего читателя лишь об одном: знакомясь с общеизвестными фактами из жизни Ирода, задуматься над вопросом, почему имя этого царя вошло в мировую историю с добавлением Великий.
Глава седьмая ПОКАЯНИЕ
1
Итак, Ироду стало известно, что война между Антонием и Октавием закончилась поражением Антония. Судьба Клеопатры его мало интересовала, если вообще интересовала. Знакомство с этой женщиной не принесло ему ничего, кроме неприятностей. И потому ему было безразлично, жива ли еще эта интриганка или погибла вместе с Антонием.
Сегодня, с дистанции в две с лишним тысячи лет, многое видится не в том свете, в каком оно представлялось свидетелям и участникам событий того далекого времени. Ирод оказался в одиночестве. Властители не только соседних стран, но и его ближайшее окружение было убеждено, что дни царя Иудеи сочтены. Октавий не простит ему его дружбы с Антонием и готовность поддержать все его начинания. По стране снова, как в дни, последовавшие после гибели первосвященника Аристовула, поползли слухи о скором приходе к власти в Иудее нового монарха. Большинство склонялось к мнению, что на этот раз Октавий позаботится о том, чтобы новым царем Иудеи стал еврей, а не очередной пришелец, который не знает и не может знать души иудеев, поскольку сам не еврей.
На улицах, на рынках, в лавках и мастерских только и было разговоров, на ком именно остановит свой выбор Октавий. Вновь подняли голову усмиренные было Иродом зилоты, которые говорили, что лучшим выходом для Иудеи окажется отказ от любого царя, будь то еврей или нееврей. Им возражали саддукеи, говоря, что времена судей, когда каждый делал то, что казалось ему справедливым, безвозвратно миновали, и отсутствие царя в Иудее обернется тем, что страна превратится в шеол [254]. Странным образом саддукеев поддержали их вечные оппоненты фарисеи. В синагогах они говорили, что отказ от царя ввергнет иудеев в геенну огненную [255], в пламени которой погибнет весь избранный Предвечным народ. Возникли споры: что хуже, оказаться в шеоле или быть заживо поглощенными гееной огненной? В конце концов все решили, что на первое время лучшего нового царя Иудеи, чем престарелый Гиркан, нельзя себе и представить, а там, после свержения и казни Ирода, станет видно, кем заменить Гиркана, который в силу уродства, нанесенного ему Антигоном, не может занимать никаких важных государственных постов в Иудее.
Споры эти и эти разговоры не могли не дойти до слуха Ирода. Поначалу он не придавал им значения, понимая, что Октавий, одержавший победу над Антонием и расправившийся со всеми его друзьями и союзниками, в скором времени займется и им. Не желая больше ждать неизбежной развязки, он решил сам отречься от царского звания, возложенного на него сенатом Рима, и лично сообщить об этом Октавию. Он уже собрался было в дорогу, когда ему стало известно, что Александра уговорила своего отца Гиркана обратиться с новым письмом к Малху, прося его прислать за ними всадников и укрыть их у себя на время, пока Октавий не покончит с Иродом. Несчастный старик, всегда сторонившийся какой бы то ни было власти и пуще смерти боявшийся взять на себя хоть малейшую ответственность, на этот раз послушался дочь и такое письмо написал. В этом письме под диктовку Александры он обещал Малху, что в случае, если тот возьмет его семью под свое покровительство и предоставит ей надежное убежище, то с приходом к власти Гиркан отменит все прежние тяготы, наложенные на Аравию Иродом, и, более того, сам щедро одарит Малха.
Доставить письмо в Аравию было доверено родственнику казненного по приказу Ирода Иосифа некоему Досифею. Тот, однако, почему-то решил прежде, чем отправиться в Аравию, показать письмо Ироду. Ирода возмутил не столько тот факт, что Гиркан, и без того являвшийся его соправителем, вознамерился стать единоличным царем Иудеи, хотя не мог не понимать, что реальной царицей при нем станет Александра, а он будет продолжать лежать в постели, жалуясь всем на нестерпимые боли в коленях, – сколько предательство старика, которому Ирод искренне благоволил. На вопрос Досифея, как ему следует поступить с письмом, Ирод ответил:
– Запечатай его и доставь тому, кому оно предназначено.
Ироду было небезынтересно посмотреть, как отреагирует на послание Гиркана Малх: согласится ли взять под свою опеку Гиркана с его дочерью и внучкой, женой Ирода, или поостережется? Сыграло свою роль в таком ответе и то обстоятельство, что Ирод уже свыкся с мыслью, что пока он жив, лишь он один является царем Иудеи – слишком дорогой ценой достался ему этот титул, чтобы он легко уступил его кому бы то ни было другому.
Через неделю Досифей вернулся с ответом. Прежде, чем вручить письмо Гиркану, он показал его Ироду. Малх писал, что готов принять у себя не только Гиркана и его семью, но и всех его единомышленников-иудеев, которым власть Ирода давно уже в тягость, и в ближайшее время пришлет за ними вооруженный отряд, о точном сроке и месте прибытия которого в Иудею сообщит дополнительно. Ирод снял копию с этого письма, а оригинал велел вручить Гиркану.
На следующий день первосвященник Ананил по просьбе Ирода созвал синедрион. На заседание, как член синедриона, был приглашен и Гиркан. Ничего не подозревающий Ананил предоставил слово Ироду. Ирод начал издалека.
– Господа судьи, – сказал он, – вы знаете, какая непростая обстановка сложилась вокруг нашей страны и внутри Иудеи в связи с поражением нашего покровителя и моего друга Марка Антония. Знаете вы и то, что мне, вашему царю, осталось властвовать недолго. Но означает ли это, что мы уже теперь, не дожидаясь, когда Рим официально сместит меня, должны забыть о главном своем предназначении – заботиться о безопасности Иудеи и благе ее народа, – и подбирать себе нового царя, поставив на первое место свои личные интересы? Я хочу спросить вас: каким словом вы назовете проступок тех, кто, забыв о своем долге перед народом Иудеи и о том, что государство наше пока еще имеет своего законного царя, уже теперь обеспокоились устройством личных дел, которые обеспечат им безоблачное существование в будущем?
– Измена, – раздались отдельные голоса, поддержанные другими членами синедриона: – Измена.
– Измена, – подтвердил Ананил и обратился к Ироду: – Назови нам имена этих изменников.
– Прежде, чем назвать имя, – сказал Ирод, – я просил бы синедрион решить, какого наказания заслуживает этот изменник.
– Смерти! – снова раздались голоса, и Ананил вслед за другими судьями повторил:
– Смерти.
– А что скажешь ты, Гиркан? – обратился Ирод к старику, который как ни в чем не бывало продолжал сидеть на своем судейском месте.
– Смерти, – подтвердил Гиркан.
– А теперь ответь мне, Гиркан, не обращался ли ты с какой-нибудь просьбой личного свойства к аравийскому царю Малху?
Вопрос Ирода застал Гиркана врасплох; лишь теперь он стал трудно соображать, к чему клонит тот, кто со времени его возращения из Вавилона обращался к нему не иначе, как отец.
– Не помню, – произнес Гиркан, и голос его задрожал. – Кажется, нет. Но, может быть, и писал.
– Постарайся вспомнить, писал ли ты Малху и о чем именно писал?
– Извини, Ирод, но память у меня уже не та, что прежде. – Голос Гиркана дрожал все заметней. – Кажется, напомнил Малху, что он должен выплатить Иудее контрибуцию.
– И что ответил тебе Малх?
– Опять же не помню. Меня последние месяцы мучат страшные боли в ногах. Эти боли настолько сильные, что я даже не помню, куда подевал письмо Малха.
– Надеюсь, боли, которые тебя мучат, не настолько сильные, чтобы ты успел забыть, какой только что вынес приговор изменнику?
– Нет, я это помню. Изменник в такое тревожное время, которое переживаем все мы, заслуживает смерти.
– Все слышали, что сказал Гиркан?
– Все, – ответил за всех Ананил. – Можешь не сомневаться, Ирод, что любой изменник, даже если им окажусь я, будет немедленно казнен по приговору синедриона. Потрудись назвать его имя и привести доказательства его измены.
– Изволь, – сказал Ирод и зачитал письмо Малха, адресованное Гиркану.
Наступила гробовая тишина. Взоры всех судей обратились на Гиркана. Ананил, не в силах сдержать выступившие на глаза слезы, спросил:
– Гиркан, зачем ты это сделал?
– Не знаю, – едва слышно произнес старик; лицо его побелело, в то время как места, где некогда у него были уши, стали пунцовыми, как горящие угли. – Не знаю, – повторил он.
– Но ты по крайней мере отдаешь себе отчет в том, что только что мы вынесли тебе смертный приговор и ты подтвердил его?
– Отдаю. – Старик, закрыв лицо руками, разрыдался. – Я не заслуживаю пощады за предательство человека, которого любил и продолжаю любить, как сына, и потому должен умереть.
Ирод встал со своего места и молча покинул двор первосвященника. Он не сомневался, что приговор синедриона уже через час будет приведет в исполнение [256].
2
Теперь Ирода ничто больше не удерживало в Иерусалиме, кроме разве того, что Александра после казни отца еще больше возненавидит его и, воспользовавшись его отсутствием в Иудее, может устроить государственный переворот. На этот случай Ирод, заранее смирившийся с мыслью, что Октавий может не только отобрать у него царский сан за дружбу с Антонием, но и казнить его, принял некоторые превентивные меры. Так, он поручил своему брату Фероре не оставаться в Иерусалиме, а отправиться вместе с их матерью, сестрой и женами с детьми в Масаду и оставаться там вплоть до получения известий от него или о нем.
Мариамна, однако, ни под каким видом не соглашалась ехать в Масаду со всей семьей Ирода, в которой, как она сказала, «все ее ненавидят», и пожелала остаться со своей матерью. Ирод внял ее желанию, но, дабы Александра не вздумала взбунтовать во время его отсутствия народ, выслал ее с Мариамной и детьми в Александрион, несколькими годами ранее заново отстроенный и укрепленный Феророй. Надзор за ними он поручил измаильтянину Соэму из Итуреи [257]. При этом Соэму был дан приказ немедленно убить обеих женщин, как только им станет известно о гибели Ирода.
Отдав необходимые распоряжения, Ирод, сопровождаемый своим первым министром Птолемеем, отправился в Тир, откуда морем отбыл на остров Родос, где устроил свою штаб-квартиру Октавий. Знал ли он, что другие ближневосточные правители, выступившие на стороне Антония, после капитуляции были частью прощены триумвиром-победителем, а частью казнены? По-видимому, знал, поскольку до него доходили самые нелепые слухи как о них, так и о его, Ирода, якобы измене Антонию, который, как это стало ему известно позже со слов самого Октавия, был в то время еще жив [258]. Тем не менее Ирод отправился на встречу с Октавием, чтобы тот не по слухам судил о его взаимоотношениях с Антонием, а по его собственному рассказу, в котором не будет ни слова лжи.
Октавий не сразу принял Ирода, поскольку проводил военный совет. Тогда Ирод, точно бы бросая вызов судьбе и желая поскорей приблизить час расплаты за свою предшествующую жизнь, облачился в лучшие свои царские одежды, водрузил на голову корону и сам отправился к Октавию, заявив, что имеет сообщить ему информацию чрезвычайной важности. Октавий прервал совет, отослал всех, кроме Агриппы и вольноотпущенника Юлия Марата, который записывал все, что произносилось в присутствии его патрона и что говорил сам патрон, и велел впустить Ирода.
Октавий был уже не тот, что десять лет назад, когда Ирод впервые познакомился с ним в доме Антония в Риме. И без того невысокий, он, казалось, стал еще ниже ростом, что особенно было заметно на фоне Агриппы, который напомнил Ироду Костобара – такого же огромного, с суровым, будто вырубленным из камня лицом, и могучего телосложения. Редкие рыжеватые волосы Октавия еще больше поредели, и чтобы скрыть наметившиеся залысины он зачесывал их на лоб и виски. Узкие губы были плотно сжаты, но когда он заговаривал или улыбался, что случалось редко, открывались его мелкие неровные зубы, что придавало ему сходство с хищной рыбой. Даже светлые глаза его, некогда искрящиеся, будто излучали свет, теперь потускнели, а левый и вовсе был прищурен, и глядели из-под низких сросшихся бровей настороженно и пытливо. При всем при том (Ирод и это отметил про себя), весь его облик выражал величавость, какая обнаруживается у людей удачливых, привыкших за годы властвования к подчинению со стороны окружающих и их готовности выполнить любой его приказ, будь это даже приказ взрезать себе вены. Благодаря этой величавости в лице Октавия и во всей его осанке появились то спокойствие и уверенность в своих возможностях, которые парализует волю людей даже очень сильных [259].
Узнал ли и Октавий Ирода, некогда затеявший с ним в присутствии эрудита Иосифа Дамасского игру на лучшее знание истории? Трудно сказать. Да это и не имело сейчас значения. Ирод, едва переступив порог огромной залы, где проходил военный совет, сразу сделал то, что заранее намеревался сделать: снял с головы корону и положил ее к ногам Октавия. Этим жестом он хотел показать триумвиру, что если и он, Октавий, вместе с Антонием настоял на том, чтобы сенат Рима назначил его царем Иудеи, то слагает с него это звание теперь не сенат и не Октавий, оказавшийся победителем в войне с Антонием, а он сам, Ирод.
Октавий безучастно посмотрел на корону, лежащую у его ног, так что ему и оставалось разве что только придавить ее сапогом, снова поднял глаза на Ирода и коротким жестом руки предложил ему говорить.
– Я пришел к тебе, Цезарь, – начал Ирод, – не с оправданиями и уж тем более не с поздравлениями с победой, одержанной тобой над Антонием. Я прибыл сюда с единственной целью: развеять ложные слухи о том, будто я перешел на твою сторону.
В лице Октавия не дрогнул ни один мускул, как не дрогнул он и в лице Агриппы; лишь Юлий Марат на короткое время оторвался от своих записей и удивленно посмотрел на Ирода, как если бы ожидал, что тот своей следующей фразой сообщит триумвиру не о том, что к нему пришел его друг, в чем пытались убедить Октавия все остальные восточные правители, поплатившись при этом за свою ложь головой, а враг, вознамерившийся объявить ему войну.
– Я всегда считал себя другом Антония, – продолжал Ирод, – и останусь таковым до самой своей смерти. Можешь не сомневаться, что если бы я не втравился в войну с арабами, которую спровоцировала Клеопатра и на чем настоял мой друг, с началом войны между тобой и Антонием я бы оказался на его, а не на твой стороне. Говорю тебе об этом со всей искренностью, потому что считаю: тот, кто открыто объявляет себя чьим бы то ни было другом, должен всеми силами души и тела быть на его стороне.
В глазах Октавия проявился интерес и появился прежний мальчишеский блеск. Переглянувшись с Агриппой, он снова обратился в слух, всем своим видом показывая, что слушает Ирода с большим вниманием.
От волнения у Ирода пересохло во рту. Он взял со стола серебряный кувшин с водой, налил себе в такую же серебряную чашу, отпил глоток и лишь после этого продолжил свой рассказ:
– Мне нечего стыдиться памяти о моем друге. И хотя я оказал ему меньше услуг, чем он того заслуживал, я не предал его и не перешел на сторону того, кто оказался более удачливым. Единственное, в чем я могу себя упрекнуть, так это в том, что был недостаточно последователен в разоблачении коварства Клеопатры. Лучшим выходом для Антония была бы казнь Клеопатры, что я и намеревался сделать, когда она прибыла в Иудею. Я бы так именно и поступил, если бы меня не удержали от этого, во-первых, мои товарищи, и, во-вторых, соображения того, что убийство этой женщины стало бы изменой Антонию, поскольку он слишком любил ее. В переписке с моим другом я пытался в меру моих сил убедить Антония в том, что Клеопатра оказывает на него самое дурное влияние. Если бы он избавился от нее, у него была бы возможность захватить верховную власть на Востоке, а с сильным противником ты не стал бы воевать. Скорее случилось бы обратное: устранение Клеопатры стало бы средством к вашему обоюдному примирению.
Ирод отпил еще глоток воды.
– Не хочу, чтобы ты, Цезарь, понял меня таким образом, будто я, превыше всего ставя дружбу к моему благодетелю, не помню благодеяний, оказанных мне другими людьми. Сенат Рима провозгласил меня царем Иудеи по вашему обоюдному настоянию. Если ты, гневаясь на Антония, поставишь мне в вину мое к нему расположение, то я не только не отрекусь от него, но и еще раз открыто подтвержу, что я был и до конца дней моих останусь верным своей дружбе и памяти о нем. Если же ты, оставя в стороне Антония, посмотришь, каков я на деле к своим благодетелям и каков я в дружбе, то у тебя сложится единственно верное представление обо мне и мотивах, какими я руководствуюсь в своей жизни. Могут измениться обстоятельства, которые зависят не от нас, а от воли Предвечного, во всесилие Которого я верую, но даже воля Предвечного не способна поколебать моих правил и принципов. – Ирод сделал паузу, в третий раз отпил из серебряной чаши и закончил словами: – Я сказал все, что имел сказать тебе, Цезарь. Если душа Антония видит теперь с небес, что я до конца сохранил верность нашей с ним дружбе несмотря на переменившиеся обстоятельства, то он не осудит меня, а то, как ты решишь поступить со мной, зависит уже от одного только тебя.
Октавий, внимательно выслушав покаянную речь Ирода, сказал:
– Ты рано хоронишь своего друга: по имеющимся у меня сведениям он все еще жив.
Новость эта ошеломила Ирода. Почему он не подумал о такой возможности раньше? Ведь если Антоний жив, он нашел бы способ разыскать его и доставить в Иудею, а уж там-то они вместе придумали бы, как примириться с Октавием. Оплошность, допущенную при известии о поражении Антония в войне с Октавием, Ирод не мог себе простить. К счастью, Октавий не заметил перемены, произошедшей в Ироде: как раз в это время он наклонился, поднял с пола корону и надел ее на голову Ирода.
– Тебе ничто не угрожает, – сказал он. – Правь своим царством с большей уверенностью, чем делал это прежде. Твоя верность в дружбе к тому, кого я сам считал своим другом, делает тебе честь и доказывает твою независимость от переменчивости обстоятельств. Я желал бы видеть в тебе такого же верного друга, каким ты был и остаешься в отношении Антония. – С этими словами Октавий пожал руку Ирода и пригласил его в соседнюю залу, где был накрыт стол с холодными блюдами. Приглашая Ирода занять ложе напротив, а Агриппе указав на место рядом с собой, Октавий жестом приказал рабам подать горячее, а сам, выбрав из всего разнообразия закусок мелкую отварную рыбу [260], продолжил:
– Антоний хорошо сделал, что больше слушался Клеопатры. Благодаря его безумию мы приобрели тебя. Я не замедлю официальным эдиктом утвердить тебя в царском звании, дабы ты не имел причины горевать об Антонии. – Приступив к трапезе, Октавий резко сменил тему разговора, тем самым давая понять Ироду, что не намерен больше возвращаться к Антонию и Клеопатре. – Мне написал наместник Сирии Квинт Дидий. Следовало бы показать его письмо тебе, чтобы ты сам удостоверился в его восторженном мнении о тебе за то, что ты поддержал его в войне с гладиаторами.
Октавий сдержал свое слово: он не только восстановил Ирода в царском звании, но и подарил ему огромную Трахонитскую область [261]с примыкающей к ней Авранитидой [262].
Расстались они если и не друзьями, то людьми, достаточно близко познакомившимися друг с другом и проникшимися взаимной симпатией. После этого они разъехались: Ирод вернулся в Иерусалим, а Октавий отправился в Аниохию, чтобы разобраться с еще не явившимися к нему ближневосточными царями, выступившими на стороне Антония, а оттуда в Египет, где намеревался закончить еще не оконченную войну с Антонием и Клеопатрой.
3
Между тем положение Антония, бежавшего после поражения в морском сражении при Акции в Ливию [263], стало критическим. Что искал он в этой далекой африканской стране? Надеялся на поддержку третьего товарища по триумвирату Лепида, который должен был бы помнить, что не кто другой, а именно Антоний способствовал его провозглашению великим понтификом, а позже включению его в триумвират? Но тот же Антоний не без помощи Октавия способствовал тому, что триумвират этот развалился, и шестидесятилетний Лепид доживал свой век в Риме, отойдя от всех дел и рассказывая своим внукам о славных былых временах, когда именно он, будучи претором, добился предоставления самому Гаю Юлию Цезарю диктаторских полномочий, за что был назначен магистром его конницы. Конечно, было бы наивным думать, что отправься Антоний не в Ливию, а к своему другу Ироду в Иудею, тут нашел бы способ и пути к примирению врагов и в некотором роде родственников, несмотря на то, что Антоний бросил сестру Октавия, объявив себя мужем Клеопатры. Но и этого Антоний не мог сделать, поскольку на руках у него была египетская царица, которую он продолжал любить со всем пылом своего сердца, а у Ирода с Клеопатрой сложились давние натянутые, чтобы не сказать враждебные, отношения.
Как бы там ни было, а Антоний, высадившись в Ливии и отправив Клеопатру в Египет, сам в сопровождении лишь двух людей – грека-ритора Аристократа и римлянина Луцилия, который в сражении при Филиппах выдал себя за Брута, дабы дать тому возможность бежать, сам сдался в плен Антонию, а тот, разоблачив его обман, поскольку знал Брута в лицо, тем не менее не казнил его, а, тронутый его мужеством и верностью в дружбе, приблизил к себе, – отправился скитаться по пустыне.
Здесь он узнал от бедуинов о печальной участие, постигшей его многочисленную армию, оставшуюся в Акции, и поспешил в Александрию, где у Клеопатры возник новый чудесный план спасения. Бросившись в объятия сразу постаревшего, заросшего многодневной щетиной Антония, она посвятила его в этот план, состоящий из двух частей. Первая часть состояла в том, что ее верные рабы-ныряльщики поднимут с потопленных кораблей все ее сокровища и доставят их в Александрию. Вторая часть плана сводилась к тому, что, получив свои сокровища, Клеопатра и Антоний удалятся в пустыню и там, у самой оконечности Аравийского залива, в стороне от всех и не мешая никому, начнут новую жизнь, ни в чем себе не отказывая и живя в собственное удовольствие.
Антоний не верил в возможность осуществления первой части плана Клеопатры, но вторая его часть представилась ему заманчивой: почему бы не прожить остаток своих дней жизнью самых простых людей в месте, где они никому не станут мешать? [264]Антоний даже написал Октавию письмо, в котором предложил ему запоздалые условия мира. Октавий, однако, отклонил эти условия: ему была нужна одна только полная и безусловная победа над врагом, а не сделка, и он написал в ответ, что отправляется теперь в Азию, чтобы, наведя порядок в Сирии и дав возможность армии немного отдохнуть от ратных дел, двинуться оттуда в Египет. Тогда Антоний написал Октавию новое письмо с просьбой разрешить ему и Клеопатре поселиться в Афинах, если ему не по сердцу его пребывание в Египте – этой житнице Рима. Клеопатра сделала к этому письму приписку, в которой просила сохранить ее царство за ее детьми, которые заключат с Римом мир на вечные времена.
Октавий ответил им обоим. В своем письме он запретил Антонию даже думать о том, что он позволит ему перебраться жить вместе с Клеопатрой куда бы то ни было, а Клеопатре пообещал выполнить ее просьбу, если та собственноручно убьет Антония.
Тогда Клеопатра велела верному Афениону возвести вблизи храма Исиды дворец-усыпальницу, куда свезла немалую часть оставшихся при ней сокровищ и драгоценностей: золото, серебро, изумруды, жемчуг, скульптуры и картины, богато отделанные музыкальные инструменты, слоновую кость, черное дерево, уникальную коллекцию ваз и амфор, ковры дивной работы, дорогие шелковые, шерстяные и льняные ткани, в немерянных количествах благовонные масла и смолы, словом – все, чем только она располагала. Слухи об этом дошли до Октавия. Опасаясь, что Клеопатра вознамерилась сжечь все свое достояние, он отдал приказ войскам двинуться форсированным маршем в Египет, и в то же время каждый день посылал ей письма с обещаниями о снисхождении.
Узнав, что Октавий вступил в Галилею, Ирод выехал ему на встречу в тщетной надежде задержать его там до наступления зимы и уговорить разместить свои войска в городах Иудеи на зимние квартиры. «Время самое непредсказуемое, что только существует в мире, и кто возьмется определить, какое оно сегодня и каким станет завтра, – говорил себе Ирод и, дав шпоры коню, без устали повторял про себя строки из Священного писания: – “Всему свое время, и время всякой вещи под небом. Время рождаться, и время умирать; время насаждать, и время вырывать посаженное. Время убивать, и время врачевать; время разрушать, и время строить; время плакать, и время смеяться; время сетовать, и время плясать; время разбрасывать камни, и время собирать камни; время обнимать, и время уклоняться от объятий; время искать, и время терять; время сберегать, и время бросать; время раздирать, и время сшивать; время молчать, и время говорить; время любить, и время ненавидеть; время войне, и время миру” [265]…»
Одновременно с Иродом на встречу с Октавием отправился Малх. Узнав о поражении своей покровительницы Клеопатры, он решил продемонстрировать Октавию свою лояльность, в подтверждение которой предоставил в его распоряжение арабское войско. Встреча двух царей с Октавием произошла в окрестностях Самарии. Октавий поблагодарил Малха за предоставленное ему войско и пригласил Ирода устроить смотр объединенной армии. Стремя к стремени, они вдвоем, сопровождаемые на некотором отдалении от них свиты Октавия, объехали когорты и легионы, которые приветствовали их.
Ирод ни на минуту не переставал соображать, что бы такое придумать, чтобы уговорить Октавия остаться на зиму в Иудее и тем самым отсрочить вступление его армии в Египет. Как на грех, ничего дельного на ум не приходило, и тогда он по завершении смотра устроил пир в честь Октавия. На следующий день Ирод угостил и всю его армию. Уловка удалась лишь отчасти: Октавий оценил его щедрое гостеприимство и позволил армии задержаться в Иудее на двое суток. Когда и это время истекло, Ирод пошел на отчаянный шаг: поднес Октавию подарок в виде восьмисот талантов [266]. Это было больше, чем стоили все сокровища Клеопатры вместе взятые, и значительно превышало прибыль, которую сулила Октавию его окончательная победа над Антонием. Октавий разгадал умысел Ирода и, принимая его более чем щедрый дар, сказал:
– Твой подарок превышает платежеспособные силы Иудеи. Если ты теперь предложишь мне принять под свои знамена еще и свою армию, как это сделал Малх, то я откажусь от такой услуги.
Ирод не собирался оказывать Октавию военную помощь, но на всякий случай поинтересовался:
– Почему?
– Потому, мой друг, – ответил Октавий, – что мне не хуже твоего известно, чем чреваты дары данайцев [267].
4
Проводив Октавия до Пелузия, Ирод вернулся в Иерусалим. Отношение к нему со стороны евреев после его вторичного утверждения Октавием на иудейском престоле не стало лучше. По стране расползлись слухи о том, что Октавий, вместо того чтобы казнить Ирода как союзника Антония, пощадил его с единственной целью: ему недостаточно было смерти одного Ирода, – Октавий желал смерти всем иудеям, и Ирод, будучи иноземцем, как нельзя больше подходил на роль палача еврейского народа.
Не стало лучше и положение дел в семье Ирода. Послав письмо Фероре с приказом возвратиться из Масады в Иерусалим, сам Ирод поспешил в Александрион, чтобы поскорей заключить в объятия ненаглядную Мариамну, находившуюся там вместе с матерью под надзором измаильтянина Соэма. Он решил лично сопроводить их в Иерусалим, куда уже направлялся Ферора с их матерью, сестрой Саломией и другими членами семьи. По дороге домой он рассказывал Мариамне, как тепло его встретил на Родосе Октавий и каким чудесным человеком оказался его главный полководец Агриппа, с которым он успел подружиться.
Мариамна слушала его вполуха. Казалось, откровения мужа, столь счастливо избежавшего опалы со стороны могущественного римлянина, Мариамну не столько обрадовало, сколько огорчило. Когда Ирод заметил, что Мариамна его не слушает, он пришел в негодование.
– Да тебе абсолютно неинтересен мой рассказ! – воскликнул он.
– Неинтересен, – подтвердила Мариамна. – Тебя радует то, что печалит меня.
– Тебя печалит, что Октавий не казнил меня, а возвысил? – взъярился Ирод.
– Считай как угодно, – равнодушно ответила Мариамна. – Но я больше не желаю становиться затворницей всякий раз, как только ты покидаешь меня. Если я тебе все еще жена и мать твоих детей, то, как жена и мать, заслуживаю с твоей стороны большего уважения, чем то, которое выказывают мне назначаемые тобой стражники. Если же ты перестал считать меня своей женой и матерью наших детей, то уж лучше прикажи своим стражникам убить меня, чем контролировать каждый мой шаг.
Ирод чувствовал правоту Мариамны. Но он не знал, как объяснить ей, что она для него больше, чем жена и мать их детей. Она давно уже стала смыслом и сутью его существования, и потому все, что он ни делает, он делает не для себя, а для нее и во имя своей любви к ней. Эта непонятливость Мариамны и собственное неумение объяснить ей то, что она для него значит, угнетали Ирода. Его бросало то в жар, то в холод, и тут он с ужасом осознал, что равнодушие, проявленное к нему Мариамной, привело к тому, что сила его любви к ней стала соизмеримой с ненавистью, которую он начал испытывать к жене.
Чтобы не дать излиться гневу, охватившему его, он дал шпоры коню и поспешил в Иерусалим, оставив женщин на попечение сопровождавшего их Соэма.
Прибыв в Иерусалим и узнав от Саломии, что ее отношения с Костобаром зашли дальше обычной симпатии, которую они и не думали скрывать от окружающих, Ирод, чтобы чем-то занять себя, стал готовить их свадьбу. Но и свадьба эта, сыгранная с пышностью, с какой он не позволил сыграть собственную свадьбу ни с Мариамной, ни, тем более, с Дорис, полнота которой в сочетании с ненасытным аппетитом стала уже попросту безобразной, не отвлекла его от мрачных мыслей. Тогда Ирод, не желая обострять и без того обострившиеся отношения с Мариамной, отправился принимать дарованные ему Октавием области.
Это помогло ему на время забыть о домашних делах. Он даже испытал чувство благодарности к некоему Зенодору, который, держа на откупе Трахонитскую область с примыкающей к ней Авранитидой, воспользовался уходом из Сирии основных римских войск и стал натравливать своих разбойников на жителей Дамаска, обложив их непомерными поборами, львиную долю которых присваивал себе.
Октавий, недовольный работой Квинта Дилия, сместил его с занимаемой должности и назначил новым наместником Сирии Варрона. Варрон оказался в двусмысленном положении: с одной стороны, он не мог мириться с самоуправством разбойников, творивших беззакония на подведомственной ему территории, с другой – он был лишен права вторгнуться со своими когортами на земли, дарованные Октавием Ироду, и навести там порядок. Инспекционная поездка Ирода в Трахонитскую область разрешила эту двусмысленность. Ирод, встретившись с Варроном, разрешил ему поступить с разбойниками по собственному усмотрению. А чтобы не затягивать дела с ликвидацией разбойничьих шаек, он сам возглавил объединенные римско-еврейские отряды и выступил с ними в поход, как некогда выступил в поход против галилейских разбойников, терроризировавших мирное сирийское население.
На этот раз, однако, на ликвидацию разбойничьих гнезд у него ушло больше времени и сил. Объяснялось это главным образом тем, что пещеры, в которых обитали разбойники, имели не один, а несколько входов и выходов, причем все они были до такой степени тесны, что в них с трудом можно было протиснуться одному человеку, равно как козам и овцам – основному богатству местных жителей. Внутри же эти пещеры представляли собой огромные залы, в которых хранились большие запасы пищи и воды, позволявшие разбойникам месяцами не покидать своих убежищ. Тем не менее Ирод справился с ними и всех их продал в рабство, поделившись выручкой от этой сделки с Варроном.
Наместник Сирии не преминул написать Октавию об успешной военной операции, проведенной в Трахонее, особо отметив при этом роль, какую сыграл в ликвидации разбойничьих гнезд Ирод [268].
5
Пока Ирод совместно с Варроном наводил порядок на новых территориях, присоединенных к его царству, Октавий с отрядами конницы, предоставленными в его распоряжение Малхом, подступил под стены Александрии. Здесь его встретила египетская конница под командованием Антония. Атака бывшего товарища Октавия была столь стремительной, что арабская конница, не выдержав лобового удара, отступила и сделала попытку соединиться с основными силами римлян.
Гордый одержанной победой, Антоний послал Октавию вызов на единоборство. Октавий ответил, что перед Антонием открыто множество других путей к смерти. Антоний обозвал Октавия трусом и возвратился в Александрию.
С заходом солнца Антоний приказал открыть все кладовые и винные погреба и накрыть столы для праздничного ужина прямо на улицах. Слуги пришли в смятение: можно ли думать о празднике, когда враг стоит у ворот столицы? Антоний же выглядел веселее и беззаботнее больше обычного.
– Неизвестно, – заявил он, – представится ли нам другой случай провести время за пиршественными столами. Быть может, завтра все вы станете служить другим господам. Пока же я жив, я хочу повеселиться вместе с вами со всеми, как с равными мне и царице.
Очевидцы этих событий писали: слуги, накрывая столы, рыдали. Глядя на них, не в силах были сдержать слезы и соратники Антония. Антоний шутливо выговаривал им:
– Нечего разводить мокроту, друзья мои. Завтра я поведу вас в бой, где буду искать не славной смерти, но победы ради жизни. Так давайте же веселиться!
Проведя всю ночь за щедро уставленными изысканными яствами столами и так и не сомкнув глаз, Антоний с восходом солнца вывел свое войско из города и построил его на высотах, окружающих Александрию. Отсюда он наблюдал, как в море выходят его корабли, спасшиеся после разгрома при Акции. Со стороны Ливии появились корабли, которые вел на помощь Октавию Агриппа.
Антоний, следя за маневрами кораблей, довольно потирал руки: открытое море – это не тесный Амбракский залив, где негде было развернуться его могучим пятипалубным пентерам. Сейчас флот Агриппы получит наглядный урок правил ведения морских сражений. Но что же увидел он? Его пентеры, сблизившись с кораблями Агриппы, подняли весла, приветствуют флотоводца Октавия, после чего, выстроившись в линию, повернулись и взяли курс на Александрию с явным намерением высадить десант в дельте Нила.
С востока к городу подступали несметные полчища Октавия, и оттуда уже доносились радостные крики вражеских солдат. Войско Антония охватила паника. Первой, не выдержав напряжения, покинула высоты вокруг Александрии его конница. Антоний отдал приказ пехоте выступить на встречу приближающимся легионам Октавия. Пехота, расчехлив щиты [269], устремилась в бой. Однако силы были слишком неравны, и пехота Антония практически вся погибла в первом же боевом столкновении. Антоний поспешил в город, пока его ворота еще не закрылись, и что есть мочи кричал, так что жилы на его шее вздулись и были готовы вот-вот лопнуть от напряжения:
– Клеопатра, ты предала меня! Предала тем, с кем я готов был сразиться ради тебя! Где ты прячешься, Клеопатра? Выйди, докажи мне, что ты все еще любишь меня, и умрем вместе!
Голос Антония, отраженный от домов, эхом дробился и рассыпался по опустевшим улицам города. Клеопатра, страшась гнева Антония, заперлась в возведенной по ее приказу роскошной усыпальнице и послала рабов сообщить ему, что она умерла. Антоний поверил рабам. Опустившись на колени посреди улицы, он, воздев руки к небу, воскликнул, и слезы заструились по его небритым щекам:
– Боги, боги мои, ответьте мне, отчего я жив? Почему то единственное благо, которое привязывало меня к жизни, умерло, а я все еще малодушно медлю поспешить к своей любимой?
Оттерев слезы, Антоний опустил руки и, все еще стоя на коленях, посмотрел по сторонам. Он с удивлением обнаружил, что его покинули даже рабы, принесшие весть о смерти Клеопатры. С трудом, как немощный старик, лишившийся возможности самостоятельно передвигаться, он, помогая себе руками, встал на подкашивающиеся ноги и медленно побрел во дворец, волоча за собой позолоченный щит. Двери дворца были распахнуты. Антоний не обнаружил здесь никого, кто бы мог оказать ему последнюю в его жизни услугу. Не в силах больше волочить за собой ставший непомерно тяжелым щит, он бросил его на пороге дворца и, цепляясь за мраморные перила, с трудом поднялся в свои покои. Развязав ремни золотой брони, свидетельницы многих славных его побед, он бросил ее на мозаичный мраморный пол и, разорвав на себе тунику, обнажил грудь.
– Клеопатра, – произнес он, – я не упрекаю тебя за то, что судьба разлучила нас. Я лишь корю себя за то, что я, полководец, оказался менее мужествен, чем ты, женщина. Но ничего: я иду к тебе, и смерть снова соединит нас.
С этими словами Антоний вынул из ножен короткий меч, взял его обеими руками за рукоять и с последним усилием воли вонзил себе в живот. Ноги его подкосились, и он, скорчившись, упал на постель.
Боли он не чувствовал. Но он почувствовал, что из-за того, что он лежит на постели скорчившись, кровь его свернулась и перестала литься. В покои его вбежал секретарь Клеопатры Диамед. Антоний, с трудом сев на постели, попросил секретаря покончить с ним. Однако Диамед получил совсем другой приказ, с которым его послала к Антонию царица: доставить его в ее дворец-гробницу. Диамед приказал сопровождающим его рабам перенести раненого Антония к Клеопатре.
Царица в нетерпении стояла у окна, ожидая, когда к ней приведут ее любимого – живого или мертвого. Увидев Диамеда и рабов, несущих окровавленного Антония, она приказала двум рабыням – единственным существам, которым она позволила запереться с нею в гробнице, – спустить из окна веревки и, обвязав ими Антония, втащить его к себе. Силы женщин оказались слишком слабы, чтобы втащить тяжелое тело Антония в окно. Тогда Клеопатра сама взялась за веревки, чтобы помочь им. Плутарх, опираясь на рассказы немногих свидетелей последних дней жизни Антония и Клеопатры, пишет:
6
«Никогда не бывало зрелища более жалостного. Облитый кровью, едва дыша, Антоний простирает руки к Клеопатре и силится подняться к ней. А поднять его женщинам было нелегко. Клеопатра с напряженными руками и лицом тянет за веревки при поощрениях и помощи лиц, стоящих внизу. Наконец она принимает Антония, кладет его, падает на него, разрывает на себе одежды, бьет себя в грудь, ранит руки, вытирает его кровь своим лицом, называет его своим господином, мужем, императором и готова забыть собственное страдание из жалости к Антонию. Антоний просит ее успокоиться и требует вина для утоления жажды или для ускорения своей смерти. Он пьет и убеждает Клеопатру принять меры к своему спасению, если она сможет сделать это, не покрывая себя позором, и довериться, предпочтительно перед другими друзьями Цезаря, Прокулею. О себе он говорит, что достоин не сожаления по поводу последних несчастий, а зависти из-за благ, которыми наслаждался, был знаменитейшим из людей, и римлянин побежден римлянином.
Как только Антоний испустил дух, является от Цезаря Прокулей. Уже тотчас после того, как Антоний поразил себя мечом и был отнесен к Клеопатре, один из стражников по имени Децестий взял этот меч, спрятал под платьем, отнес к Цезарю и показал его, обагренный кровью, в подтверждение вести о смерти Антония. Цезарь удаляется в глубь своей палатки и проливает слезы над участью Антония, своего родственника, товарища по верховной власти и соратника в стольких битвах. Затем он отыскивает у себя письма Антония, сзывает своих друзей, читает им эти письма и посланные на них ответы и обнаруживает, как на предложения, разумные и справедливые, Антоний отвечает лишь выходками тщеславия. Затем он посылает Прокулея захватить Клеопатру, если можно, не только из опасения за ее сокровища, но и прельщаясь мыслью, для блеска своего триумфа, везти царицу за собою. Но Клеопатра не соглашается сдаться Прокулею. Во время переговоров Прокулей стоял вне гробницы, но несмотря на плотно запертые двери, голос его доходил до царицы. Клеопатра требует унаследования царства за ее детьми, а Прокулей советует ей ободриться и положиться во всем на Цезаря.
Прокулей, хорошо заметив местность, доносит обо всем Цезарю. Последний отправляет к Клеопатре для продолжения переговоров Галла. Тот с намерением затягивает их, стоя у двери, а в это время Прокулей при помощи лестницы влезает в то самое окно, через которое женщины подняли Антония. Оттуда в сопровождении двух офицеров он проникает к дверям, перед которыми Клеопатра слушала Галла. Одна из заключенных с нею женщин восклицает: ”Несчастная Клеопатра, тебя возьмут живою!” Клеопатра оборачивается, видит Прокулея и хочет ударить его кинжалом, висевшим у нее на поясе. Прокулей кидается к ней, хватает ее и восклицает: ”Ты несправедлива и к себе, и к Цезарю, что лишаешь его прекрасного случая выказать свою кротость, и выставляешь самого милосердного полководца коварным и безжалостным”. В то же время он вырывает у нее из руки кинжал и ощупывает ее платье, чтобы не оставить при ней какого-либо яда. Затем Цезарь поручает своему вольноотпущеннику Эпафродиту строго стеречь Клеопатру, дозволяя ей, впрочем, все удобства и наслаждение жизнью.
Цезарь вступает в Александрию, беседуя с философом Ареем и держа его за руку, чтобы этим отличием обратить на него внимание и возбудить к нему уважение сограждан. Он отправляется в гимнасию и восходит на приготовленное для него возвышение. Все присутствующие охвачены страхом и падают на колени. Цезарь велит им встать и говорит, что прощает народу его вину, во-первых, из уважения к основателю города Александру Великому, затем ради величины и красоты города, и, наконец, для доставления удовольствия другу своему Арею. Такое почтение выразил Цезарь к Арею, который испросил еще у него прощение многим согражданам, между прочими Филострату, искуснейшему софисту [270]своего времени.
Несколько дней спустя Цезарь посетил Клеопатру. Она кидается к ногам его с искаженным от страха лицом, дрожащим голосом и опущенными глазами. На груди ее видны следы ран, нанесенных ею себе; словом, тело ее было не в лучшем состоянии, чем ее дух. И, однако, прелесть ее гордой красоты не совсем исчезла: наряду с отчаянием лицо ее отражает прежнее величие. Цезарь заставляет ее подняться и садится с нею рядом. Тогда Клеопатра пытается оправдаться, приписывая все свои поступки необходимости и страху перед Антонием, а когда Цезарь останавливает ее на каждой подробности и уличает в неверном толковании, Клеопатра прибегает к просьбам и жалости, как бы страстно дорожа жизнью. Наконец она передает ему опись своих сокровищ. Один из ее казначеев, Селевк, упрекает ее в сокрытии части сокровищ; она кидается на него, хватает его за волосы и дает ему несколько пощечин. Когда же Цезарь улыбается и пытается успокоить ее, Клеопатра отвечает: ”Не омерзительно ли, Цезарь, что в то время, когда ты не погнушался посетить меня и говорить со мною в моем теперешнем положении, мои рабы выставляют преступлением, что я отложила несколько женских украшений, и не для себя, несчастной, а чтобы сделать маленький подарок твоей Октавии [271], твоей Ливии в надежде, что они умилостивят тебя ко мне”. Цезарь в восторге от этих слов, видя в них доказательство, что Клеопатра вновь дорожит жизнью. Он не только позволяет Клеопатре сохранить эти драгоценности, но заверяет, что поступит с нею превыше ее ожиданий. Затем он удаляется в убеждении, что обманул ее, тогда как сам был обманут ею.
Между друзьями Цезаря был Корнелий Делабелла. Несчастья Клеопатры трогают его, и чтобы услужить царице, он тайно уведомляет ее, что Цезарь отправляется в Рим сушею через Сирию, и решился отправить ее с детьми в течение трех дней. Получив это известие, Клеопатра просит у Цезаря дозволения совершить возлияния на могилу Антония, получает разрешение, велит отнести себя на могилу и, повергаясь на нее в присутствии своих прислужниц, говорит: ”Дорогой Антоний, когда я хоронила тебя здесь, руки мои были еще свободны; теперь я совершаю возлияния, пленная и сторожимая, меня стерегут из боязни, чтобы мои сетования и удары не обезобразили тела рабыни, назначенной украсить торжество над тобою. Не ожидай от меня других почестей, кроме этих возлияний: то последние почести, воздаваемые тебе пленною Клеопатрой. При жизни нас ничто не разлучало; но мертвым грозит опасность покоиться в различных местах. Ты, римлянин, будешь лежать здесь, а я, несчастная, в Италии, и это будет единственным благом, оказанным мне твоей родиной. Но так как здешние боги нам изменили, то умилостивь своих теперешних и не покинь твоей живой супруги: не допусти, чтобы враги торжествовали над тобою, прими меня к себе в могилу, потому что из постигших меня бесчисленных бедствий ни одно не было ужаснее времени, прожитого мною без тебя”.
Затем Клеопатра украшает могилу цветами, целует ее и велит изготовить себе баню. После бани она ложится и приказывает подать роскошный обед. К вратам дворца приходит селянин с корзиной. Стража спрашивает, что он несет; селянин приподнимает прикрывающие корзину листья и показывает, что она полна фиников. Стража удивляется их величине и красоте. Селянин, улыбаясь, предлагает им отведать их, и стража доверчиво пропускает его. После обеда Клеопатра берет свои записные дощечки, запечатывает их, отсылает Цезарю, удаляет всех присутствующих, кроме своих двух женщин, и запирает двери. Вскрыв таблички и прочитав мольбы Клеопатры, чтобы ее похоронили рядом с Антонием, Цезарь тотчас догадывается о том, что она убила себя. Сначала он хочет сам бежать спасти ее, но потом поспешно посылает узнать, что случилось. Смерть была быстрая. Прибежав ко дворцу, посланцы Цезаря видят, что стража еще ничего не знает. Они вбегают во дворец и видят царицу мертвой, лежащей на золотой кровати в царских одеждах. Одна из ее прислужниц лежала мертвая у ее ног; другая, Хармия, расслабленная, еще поправляет царский венец на голове Клеопатры. Один сторож говорит ей с досадой: ”Красиво, Хармия!” – ”Очень красиво, – отвечает она, – и достойно наследницы стольких царей!” Произнеся эти слова, она падает мертвою у постели.
Рассказывают, что Клеопатре принесен был между финиками прикрытый листьями аспид. Так приказала принести его Клеопатра, чтобы подвергнуться укусу змеи, как бы не заметив ее. Но вынимая финики, она увидела аспида и сказала: ”Так он здесь!” И она подставила ему голую руку.
Цезарь, и сердясь на смерть этой женщины, удивлялся высоте ее помыслов. Он приказал похоронить ее с почестями и великолепием подле Антония. По его приказанию и две прислужница были похоронены с почетом».
7
Покончив с похоронами, Октавий, прежде чем вернуться через Иудею и Сирию в Рим, пригласил в Александрию Ирода, чтобы и тот мог проститься со своим другом. Ирод незамедлительно явился. Вдвоем они постояли над могилой Антония и Клеопатры, каждый думая о том, что хотя их друг и стал жертвой интриг коварной женщины, стремившейся к господству над половиной мира, все же есть высшая справедливость в том, что они нашли успокоение вместе.
– Ты немало претерпел от Клеопатры, – сказал Октавий, – и вряд ли теперь когда-нибудь вновь посетишь по своей воле этот город. На что бы тебе хотелось посмотреть здесь, прежде чем мы уедем отсюда? – спросил он.
– Я бы хотел поклониться праху Александра Македонского, – ответил Ирод.
– Похвальное желание, – сказал Октавий. – Я и сам собирался посетить могилу этого достойного всяческих почестей человека.
На следующий день они отправились в усыпальницу великого полководца. Октавий в знак преклонения перед Александром Македонским возложил на его гроб золотой венец, Ирод усыпал его цветами. На вопрос подошедшего к ним Прокулея, не желает ли Цезарь взглянуть также на усыпальницу Птолемеев, Октавий нахмурился и, не оборачиваясь, ответил:
– Я пришел сюда затем, чтобы увидеть царя, а не мертвецов.
Затем Октавий приказал тайно казнить пятнадцатилетнего Цезариона – сына Клеопатры от Юлия Цезаря, – а других ее детей, прижитых от Антония, взял с собой в обратный путь, уговорил свою сестру Октавию принять и их на воспитание, и позаботился о том, чтобы все они получили прекрасное образование и ни в чем не нуждались.
При прохождении армии Октавия через Иудею Ирод снова позаботился о том, чтобы все его солдаты были вдосталь накормлены, хотя на этот раз пир, устроенный в их честь, не носил того праздничного характера, как по дороге в Египет, когда Ирод пытался задержать их на зиму. Эта сдержанность в угощении не осталась незамеченной со стороны Октавия, и потому он, дабы не ставить Ирода в неловкое положение, отказался заехать в Иерусалим и познакомиться с его семьей.
– Сделаю это как-нибудь в другой раз, – сказал он. Перед тем же, как покинуть пределы Иудеи и вступить на территорию Сирии, на границе с которой его уже дожидался наместник Варрон, Октавий, отведя в сторону Ирода, сказал ему:
– Вижу, как угнетающе подействовала на тебя смерть Атония. Означает ли это, что ты подумываешь о том, как увековечить его память?
– Я уже решил, как это сделать, – ответил Ирод.
– Не поделишься со мной своим секретом?
– Здесь нет никакого секрета: я возведу в центре Иерусалима неприступную цитадель, которую назову башней Антония.
Не сказав Ироду больше ни слова, Октавий крепко пожал ему руку и, не оглядываясь, быстрым шагом направился к дожидавшемуся его Варрону.
8
Вернувшись в Иерусалим, Ирод приказал разобрать остатки Старотоновой башни [272], разрушенной еще Помпеем, и на ее месте возвести башню, нависшую над северо-восточным углом Храма – его самым уязвимым в военном отношении месте. Теперь, имея столь мощное сооружение, за каменными стенами которого мог укрыться целый легион, за судьбу Храма можно было не тревожиться: он из крепости, на территории которой часто разворачивались боевые действия, превратился в то, чем и предназначен был быть изначально, – Дом Господа.
Но если начало строительной деятельности Ирода, чему он посвятит всю свою дальнейшую жизнь, можно было назвать удачным, то этого никак нельзя было сказать о положении дел в его семье. Собравшись вновь под одной крышей, члены его семьи стали ссориться все чаще и чаще, и ссоры эти в конце концов вылились в открытую вражду.
Тон этой вражде придали его сестра Саломия и любимая жена Мариамна, вытеснившая с первых ролей свою мать Александру.
Ирод стал подумывать о том, чтобы снести дворец Гиркана, где продолжала жить его семья, и дом своего отца, занятый Ферором, и на их месте возвести новый дворец с таким множеством комнат и покоев, чтобы в них счастливо могла жить его разрастающаяся семья, месяцами не соприкасаясь друг с другом.
Исмаильтянин Соэм, доказав Ироду свою верность, домогался теперь более важной для себя должности, чем надсмотрщик за Александрой и Мариамной. Домогательства эти поддержала Мариамна. Зная, что Ирод ни в чем не посмеет отказать ей, она стала просить его назначить Соэма командиром одного из легионов. Вначале Ирод попытался обратить просьбу жены в шутку:
– Может быть, для начала он согласится стать командиром когорты?
Мариамна, ничего не понимавшая в военном деле, упрямо повторила:
– Нет, именно легиона. Он заслужил это.
– Чем же?
– Тем, что оберегал нас во время твоей поездки к Октавию на Родос.
– Уговорила: пусть он будет почетным военачальником, – согласился Ирод.
– Почетный – это старше, чем просто командир легиона?
– Ну конечно, старше, – сказал Ирод, привлекая к себе жену. – Но за эту услугу я потребую, чтобы ты еще сильнее полюбила меня.
– Сильнее, чем любишь меня ты?
– Сильнее моей любви к тебе ничего не может быть. Полюби меня так же, как я люблю тебя.
– Я подумаю.
– Думай скорей.
– Я люблю тебя так же сильно, как любишь меня ты, – сказала Мариамна, отвечая на ласки мужа своими ласками, от которых Ирод терял голову.
Примирение брата с женой никоим образом не входило в планы Саломии. Однажды, когда Ирод засиделся с документами далеко за полночь, она послала к нему виночерпия с наполненным кубком.
– Что это? – спросил Ирод, устало откидываясь в кресле.
– Любовный напиток, который прислала тебе Мариамна. – Улыбнувшись, он добавил шепотом, как если бы открывал Ироду великую тайну: – Царица даже подарила мне новый плащ из китайского шелка, чтобы я по дороге к тебе не расплескал ни капли этой драгоценной жидкости.
Усталость как рукой сняло с Ирода. Почему-то ему вспомнилось, как Клеопатра точно так же поднесла к губам Антония кубок с отравленным вином, а когда тот собрался было пригубить его, отобрала кубок и, сказав: «Если бы я хотела отравить тебя, тебе достаточно было бы сделать всего глоток из этого кубка», – после чего приказала рабу отпить из кубка, и тот тут же упал замертво.
– Этот кубок дала тебе сама Мариамна? – спросил Ирод.
– Нет, – ответил виночерпий, – ее евнух, я все забываю его имя.
– Но ты хотя бы знаешь, что намешано в этом кубке?
Виночерпий, видя возбужденное состояние Ирода, побледнел.
– Не знаю. Мне лишь было приказано принести тебе этот кубок.
Ирод вскочил, вызвал охрану и потребовал немедленно схватить евнуха Мариамны и дознаться, что он влил в кубок, доставленный ему виночерпием. Евнуха схватили и допросили, но тот ничего внятного сказать не мог. Тогда Ирод велел пытать его. Но и под пыткой евнух путался в объяснениях, говорил, что не может нести ответственности за то, что дала ему его госпожа, которой, в свою очередь, принесла этот кубок с напитком сестра царя Саломия с тем, чтобы Мариамна отведала его. Когда же из евнуха палачи стали вытягивать жилы, причиняя ему невыносимую боль, он понес полную околесицу о том, что его госпожа давно разлюбила мужа, который хочет погубить ее, и что об этом ему сказал сам Соэм.
Взбешенный Ирод не находил себе места. «Так вот оно в чем дело! – говорил он себе. – Пока я находился на Родосе, ожидая, что Октавий казнит меня, моя обожаемая женушка путалась с Соэмом!»
Он приказал немедленно разыскать только что назначенного почетным командиром легиона Соэма и убить его. Того нашли в его комнате, где он, стоя перед зеркалом, примерял новый наряд трибуна. Соэму заломили руки за спину, вытащили во двор дворца и, ничего не сказав, закололи кинжалами.
Ирод едва дождался утра, чтобы собрать всех своих приближенных, и сообщил им о ставшей ему известной измене Мариамны. Ярость, клокотавшая в нем, мешала ему говорить. Он, подобно евнуху жены накануне, путался в своих обвинениях, плакал, раздирал на себе одежды, требовал, чтобы его приближенные тут же убили его, поскольку он не может жить без Мариамны, но и продолжать жить с ней дальше, зная об ее измене, он не хочет. Тогда слово взяла Саломия. Поджав по своему обыкновению губы и сложив на выпуклом животе руки (она, несмотря на то, что была замужем за Костобаром всего месяц, была уже на шестом месяце беременности от него), вышла на середину залы и стала спокойно рассказывать собравшимся о том, что Мариамна не достойна быть женой царя Иудеи. Не встретив ни с чьей стороны отпора своим наветам, Саломия заявила, что Мариамна готова затащить к себе в постель первого попавшегося ей на глаза мужчину, что она не брезговала сожительствовать с ее бывшим мужем Иосифом, который, как это всем хорошо известно, был попросту уродом, и закончила свою речь словами:
– Мариамна должна умереть.
Услышав этот страшный приговор, все невольно обратили взоры на Ирода, который, слушая сестру, уже бился в истерике.
– Надо бы вызвать сюда царицу и допросить ее, – неуверенно произнес Птолемей – единственный из присутствующих, который не хотел верить в то, что говорили о Мариамне сам Ирод и его сестра. – Боюсь, что, казнив Мариамну, мы совершим непростительную ошибку.
– Зачем? – повысила голос Саломия. – Разве тебе недостаточно того, о чем здесь уже было сказано? Мариамну следует казнить немедленно!
– Что скажешь ты, царь? – обратился Птолемей к Ироду. Тот, однако, был уже невменяем. Он сполз с кресла, стучал кулаками по полу, рвал на себе волосы и кричал: «Казнить! Казнить! Моя ненаглядная Мариамна, моя любимая жена за свою измену не заслуживает снисхождения!»
Ирод все еще катался по полу и бил себя кулаками по лицу, так что разбил себе нос и губы и из них брызнула кровь, пачкая все вокруг. Еще сонную Мариамну вытащили из постели, не дали ей одеться и прямо в ночной сорочке поволокли на казнь. И тут случилось нечто невообразимое, что позже было осуждено решительно всеми историками, писавшими об Ироде: когда полураздетую Мариамну с распущенными волосами и наполненными ужасом огромными синими глазами тащили по улицам, приводя в трепет ранних прохожих, на нее набросилась ее мать Александра. Вцепившись в горло дочери, Александра стала поносить ее самыми гнусными словами, крича во все горло:
– Люди добрые, взгляните на ту, которую я выносила в своем чреве, вскормила молоком из своих сосцов, вырастила и отдала в жены самому благородному, самому справедливому человеку, какого только знала Иудея, – отдала в жены Ироду! И что же она? Чем ответила эта гадина на любовь своего мужа? Гнусной изменой, которой нет и не может быть оправдания!
Поведение женщины, которая, как это всем было понятно, сама люто ненавидела Ирода, всячески поносила его, называла чужеземцем, который недостоин править избранным Богом народом, – до такой степени выглядело неприлично, что люди стыдливо отводили от нее и ее несчастной дочери глаза. А Александра все не унималась, продолжая поносить Мариамну, а когда стража попыталась оттащить ее в сторону, вцепилась дочери в волосы.
Тут и Мариамне стал ясен не только весь трагизм положения, в каком она оказалась непонятно по какой причине, но и крайняя непристойность поведения ее матери. Никто так никогда и не узнал, какие чувства испытала в последние минуты своей жизни Мариамна и какие при этом мысли пронеслись в ее прекрасной голове. Но она, когда стражникам наконец удалось оттащить от нее ее мать, попросила их освободить ее руки, гордо выпрямилась и уже сама, никем не понукаемая, направилась к месту казни.
Ирод лишь к вечеру пришел, наконец, в себя, потребовал принести ему воды, умылся, причесался и вызвал Коринфа. Тот немедленно явился.
– Пригласи ко мне царицу, – приказал он.
Брови Коринфа дрогнули и поползли вверх.
– Царь желает видеть Дорис? – уточнил он.
Ирод поморщился, досадуя на всегда понятливого, а в этот раз оказавшегося никчемным начальника охраны.
– Какая, к черту, Дорис? Я желаю видеть Мариамну!
Коринф вытянулся в струнку, не смея пошевелиться.
– Что же ты медлишь? – сорвался на крик Ирод. – Ты стал туг на ухо или тебе непонятен мой приказ?
– Но это невозможно, – дрожащим голосом ответил Коринф. – Мариамна сегодня утром казнена.
– Как казнена?! – На Ирода была страшно смотреть. – Почему казнена? Кто посмел поднять руку на мою жену? Отвечай, мерзавец, по чьему приказу лишена жизни та, кто сама является моей жизнью?
– Мариамна казнена по твоему, царь, приказу, – тихо произнес Коринф.
Уже не крик, а дикий вой смертельно раненного льва вырвался из груди Ирода. Иосиф Флавий так напишет о реакции Ирода на известие о гибели женщины, которая стала для него поистине сутью и смыслом жизни:
«После казни Мариамны любовь царя к ней возросла еще более, чем то было когда-либо раньше. Дело в том, что эта любовь к ней царя вовсе не была временной или ослабилась вследствие привычки, но как она с самого начала отличалась страстным энтузиазмом, так она не ослабевала и впоследствии при постоянном сожительстве. Теперь же казалось, что, в виде наказания за казнь Мариамны, любовь к ней охватила его в еще гораздо более сильной степени, так что он часто громко призывал ее к себе, предавался ничем не сдерживаемым слезам, в конце концов стал придумывать всевозможные способы забыться и развлечься и с этой целью задавал попойки и пиры. Впрочем, все это отнюдь не помогало, так что он запустил даже все государственные дела и страдал в столь высокой степени, что приказал своим слугам громко звать Мариамну, как будто бы она была еще жива и могла слышать это и явиться».
От себя добавим: лишившись Мариамны, Ирод стал все чаще задумываться над вопросом, а что он сам представляет собою не как царь, но как человек, которому присущи все людские слабости, что представляют собой другие люди и в чем состоит истинный замысел Предвечного, сотворившего человека по образу Своему и подобию?
Часть третья ЧЕЛОВЕК
Я предпринял большие дела: построил себе домы, посадил себе виноградники, устроил себе сады и рощи, и насадил в них всякие плодовые дерева; сделал себе водоемы для орошения из них рощей, произращающих деревья; приобрел себе слуг и служанок, и домочадцы были у меня; также крупного и мелкого скота было у меня больше, нежели у всех, бывших прежде меня в Иерусалиме; собрал себе серебра и золота и драгоценностей от царей и областей; завел у себя певцов и певиц и услаждения сынов человеческих – разные музыкальные орудия. И сделался я великим и богатым больше всех, бывших прежде меня в Иерусалиме; и мудрость моя пребыла со мною. Чего бы глаза мои ни пожелали, я не отказывал им; не возбранял сердцу никакого веселия; потому что сердце мое радовалось во всех трудах моих; и это было моею долею от всех трудов моих. И оглянулся я на все дела мои, которые сделали руки мои, и на труд, которым трудился я, делая их; и вот, все – суета и томление духа, и нет от них пользы под солнцем!
Еккл. 2:4-11Глава первая БЕЗУМИЕ
1
Ирод заболел. Со смертью Мариамны жизнь потеряла для него всякий смысл. Он не мог оставаться во дворце, где решительно все напоминало ему о жене, и, переодевшись в хламиду и натянув на лицо капюшон, чтобы не быть узнанным, долгими часами бродил по улицам Иерусалима, сопровождаемый на расстоянии верным Коринфом. Завидев блудницу, неподвижно сидящую на пересечении улиц под покрывалом, он подходил к ней и открывал ее лицо [273]. Он и мертвую продолжал ревновать Мариамну, полагая, что та избежала казни и теперь занимается тем, в чем не знает себе равных. Убедившись, что перед ним не Мариамна, он шел к следующей блуднице и у нее открывал лицо. Когда же очередная блудница хотя бы отдаленно напоминала ему Мариамну, он вел ее во дворец, приказывал накрыть столы и устраивал в честь мнимой Мариамны пиры, прося у нее прощения за свою ревность, и напивался до такой степени, что уже не справлялся с блудницей в постели. Тогда он просил: «Сделай со мной то, что умеешь ты одна», блудница мучила его и мучилось сама, и заканчивалось все это одним и тем же: Ирод кричал: «Ты не Мариамна, прочь из моего дворца!» – и изгонял ее, не забывая, впрочем, заплатить ей втрое больше того, что та просила за свою любовь.
Все в семье Ирода понимали, что царь серьезно болен и ищет не столько удовольствий от связей со случайными женщинами, сколько соединения со своей покойной женой. Дорис, желая напомнить мужу, что у него есть те, ради кого следует вернуться к прежнему образу жизни, привела к нему своего сына Антипатра и сыновей Мариамны Александра и Аристовула. Ирод не узнал их.
– Кто эти молодые люди? – спросил он.
– Твои сыновья, – ответила Дорис. – Старший из них твой первенец Антипатр, а это Александр и Аристовул.
– Надо же, какие они стали большие, – удивился Ирод. – Их пора женить, чтобы у меня появились внуки.
Дорис счастливо улыбалась.
– Пора, – соглашалась она. – Особенно Антипатра, который уже закончил свое образование. Вот ты и займись поиском для них достойных невест.
– Займусь, – обещал Ирод. – А теперь идите, оставьте меня одного. Мне необходимо кое о чем подумать.
Оставшись один, Ирод продолжал думать о Мариамне, мысленно звал ее, говоря: «Ты видела, какими большими стали наши сыновья? Не прячься от меня, я не причиню тебе зла, появись, полюбуйся вместе со мной на наших повзрослевших детей. Они уродились в тебя – такие же статные и красивые, с такими же, как у тебя, большими синими глазами и густыми волосами. Ну, что же ты не идешь? Не веришь, что я снова не обижу тебя своей ревностью? Я больше не ревную тебя. Да и к кому мне тебя ревновать, когда ты любишь меня одного? Скажи, ведь ты по-прежнему любишь только меня?»
Саломия, беспокоясь о здоровье брата, стала приводить к нему греков-врачей. Но Ирод всех их прогонял, не позволяя осмотреть себя. Саломия говорила:
– Брат, тебе необходимо лечиться.
– Разве я болен? – удивлялся Ирод.
– Да, брат, болен. И, к сожалению, давно.
– В таком случае позови ко мне Иосифа, – говорил Ирод.
– Какого Иосифа?
– Своего мужа. Это единственный врач, которому я доверяю. Он может все, даже принять роды. Что ты смотришь на меня, как на умалишенного? Иди за Иосифом!
Глаза Саломии увлажняли слезы. Она садилась рядом с братом, прижимала к себе его голову и, плача, говорила:
– Это я, одна я виновата в том, что ты заболел. Как бы я хотела, чтобы все прежнее вернулось!
– Не бывает так, – сердился Ирод и отстранялся от сестры. – Прежнее прошло [274].
Чтобы не видеть слез сестры и не слышать вздохов домашних, которые утомляли его, Ирод отправился на охоту в Эн-Геди [275]. Но и охота в этот раз не задалась ему: преследуя леопарда, Ирод упал с лошади и получил сотрясение мозга. Вернулся он в Иерусалим вконец разболевшийся. Птолемей доложил ему, что за время его отсутствия он провел в стране налоговую реформу. Теперь, рассказывал он, ответственность за сбор пошлин несут не откупщики, злоупотреблявшие своим положением, а мытари, которые напрямую подчинены правительству. Благодаря этому нововведению государственная казна наполнилась, и у правительства самые благоприятные виды на будущее.
Ирод смотрел на Птолемея и никак не мог понять, о каких мытарях тот ведет речь и в какой связи находится наполненная государственная казна с благоприятные видами на будущее. Слушая Птолемея, он не слышал его. «Мой первый министр и хранитель печати, – думал он, – говорит, кажется, о деньгах. Глупец! Какой должна стать государственная казна, если никакие сокровища мира не способны оживить Мариамну?»
В довершение всех бед на страну обрушился мор [276], унесший тысячи жизней не только простолюдинов, но и мать Ирода. Кипру набальзамировали, по дворцу стлался удушливый запах благовоний и мастик, наняли множество искусных плакальщиц [277], которые, сменяя друг друга, безостановочно славили покойницу и рыдали. Мать лежала в гробу строгая и пугающе неподвижная. Нос и подбородок ее заострились, закрытые глаза запали, лицо и руки стали желтыми, как если бы были сделаны из воска. Ирод смотрел на эти руки и лицо, все ждал, что они пошевелятся, и тогда окажется, что мать не умерла, а лишь уснула и скоро пробудится. Он так долго и так пристально смотрел на мать, что в какой-то момент ему показалось, что мать действительно просыпается. Но мать так и не проснулась. Ирод распорядился похоронить ее рядом с отцом, а сам отправился в Самарию, где вдали от дома решил побыть в одиночестве.
А мор, обрушившийся на Иудею, продолжался, унося все новые и новые жизни. Во всех синагогах читали книгу пророка: «Итак, слушайте, женщины, слово Господа, и да внимает ухо ваше слову уст Его; и учите дочерей ваших плачу, и одна другую – плачевным песням. Ибо смерть входит в наши окна, вторгается в чертоги наши, чтоб истребить детей с улицы, юношей с площадей. Скажи: так говорит Господь: и будут повержены трупы людей, как навоз на поле, и как снопы позади жнеца, и некому будет собрать их» [278]. Евреи, и без того ненавидевшие Ирода как чужеземца, поставленного над ними царем такими же чужеземцами-римлянами, обвинили в напасти, обрушившейся на Иудею, его. Это по его приказу, перешептывались на рынках и улицах евреи, была казнена безвинная Мариамна, за что разгневанный Предвечный решил покарать весь народ, не сумевший оградить от смерти женщину, являвшую собой образец чистоты, красоты и святости.
2
Мор, внезапно начавшийся, так же внезапно кончился. Люди восприняли это как знак свыше, данный Самим Предвечным в качестве последнего шанса для того, чтобы евреи изгнали нечестивца Ирода со всем его правительством, в котором хозяйничают такие же инородцы, как он сам. Возглавить движение, направленное против Ирода, было порученош его теще Александре.
Воспользовавшись тем, что Ирод находится в Самарии [279], Александра, остававшаяся в Иерусалиме, вступила в переговоры с первосвященником Ананилом. Ей не стоило особого труда уговорить друга своего отца Гиркана, казненного по приговору синедриона, в том, что Ирод неизлечимо болен, и что во избежание смут, могущих последовать за его смертью, власть в Иудее следует передать ее внукам Александру и Аристовулу – единственным из оставшихся в живых законным представителям рода Хасмонеев. На вопрос Ананила, кому из двух внуков следует отдать предпочтение – старшему ли Александру или младшему Аристовулу, – Александра, поморщившись, ответила:
– Ах, какая разница! Главное, чтобы царем снова не оказался какой-нибудь чужеземец, удобный Риму, а прямой наследник моего отца Гиркана, к смерти которого ты, первосвященник иудейский, также приложил руку.
Последний аргумент Александры Ананил воспринял как призыв смыть с себя праведную кровь Хасмонеев-Маккавеев и единственную возможность реабилитировать себя в глазах всех правоверных иудеев, которые считают главным виновником гибели не выжившего из ума Ирода, а именно его, Ананила, как первосвященника и председателя синедриона.
В число заговорщиков вошли начальники синагог, видные саддукеи, зилоты. Но именно потому, что заговор возглавила Александра, он не нашел широкой поддержки среди народа: люди помнили, как безобразно повела она себя в день казни Мариамны, и никто не мог поручиться, что точно так же не поведет она себя в отношении своих внуков, если заговор почему-либо сорвется.
Решительными противниками заговора выступили фарисеи и ессеи. Тогда случилось нечто дикое: возле дверей одной из синагог, расположенных на самой вершине Сиона, накануне объявления поста [280]была найдена собака с перерезанным горлом. Среди жителей Верхнего города распространился слух, что это невиданное по дерзости кощунство совершено по приказу Ирода, который, будучи сам поклонником всего языческого, решил таким образом бросить вызов народу, превыше всего ставящего закон. Дело, однако, зарезанной собакой не ограничилось: в другой синагоге, расположенной в Нижнем городе, по окончании службы были обнаружены трое заколотых кинжалами батланимов [281]. Это было уже слишком, и Иерусалим загудел, как растревоженный улей.
Ситуация стала складываться явно в пользу Александры. Чтобы закрепить эту ситуацию, она решила привлечь на свою сторону и сына покойного Фасаила Ахава, назначенного Иродом командующим иерусалимским гарнизоном.
– Дядя твой плох, – с места в карьер начала она, – сердце его надломлено смертью моей любимой дочери Мариамны и не сегодня-завтра он последует за ней, чтобы теперь уж навсегда соединиться с нею. Подумай, что станется с нашей страной и со всеми нами, когда весть о кончине Ирода достигнет Иерусалима? Тебе не хуже меня известно, как нежно любил твой отец своего брата. Оказавшись пленником Антигона, он, храня верность Ироду, бросился на стену и покончил с собой. Ты, я верю, такой же гордый и независимый, как твой отец. И не потому, что Ирод доводится тебе дядей, но прежде всего потому, что ты такой же сторонник законности и порядка, как твой отец. Грядут тяжкие времена. Уже сегодня находятся злые люди, которые подбрасывают к дверям синагог зарезанных собак, а в стенах синагог убивают ни в чем неповинных батланимов, и обвиняют в этих гнусностях Ирода, как будто все это делается по его приказу. Когда Ирод умрет – а ждать этого осталось недолго, – они первым делом убьют тебя, поскольку ты доводишься племянником царя и одной с ним крови, следом за тобой убьют его сыновей и моих внуков Александра и Аристовула, поскольку и они одной крови с твоим дядей, а за ними изничтожат всех нас, семью Ирода. – Заметив, что Ахав с нарастающим вниманием слушает ее, Александра с еще большим жаром продолжала: – Но дело еще можно поправить. И это должен сделать ты. Для этого необходимо усилить охрану арсенала, где хранится оружие, и взять под свой контроль Храм как самое укрепленное место в Иерусалиме. Надежды на Ананила мало: он слишком мягкотел и податлив на мнение других, что доказал, вынеся смертный приговор моему отцу Гиркану. Точно так же он, послушавшись совета злых людей, приговорит к смерти всех нас. Только ты один, когда Иерусалим узнает о смерти Ирода, сумеешь восстановить законность и порядок, объявив преемником покойного царя его сыновей Александра или Аристовула. В этом вопросе я целиком полагаюсь на тебя: кого из двух моих внуков ты объявишь царем, тот и станет править Иудеей.
До Ахава стал постепенно доходить далеко идущий замысел Александры. Он сказал:
– Ты забыла, что у Ирода есть еще старший сын Антипатр.
– Нет, я помню об этом, – возразила Александра. – Я продумала и этот вопрос и пришла к выводу, что назначение Антипатра царем ничего в нашей горестной судьбе не изменит.
– Почему?
– Подумай сам. Антипатр, при всей моей любви к нему и его матери Дорис, не принадлежит к царской крови, в отличие от моих внуков, в жилах которых течет кровь Хасмонеев. Злые люди не потерпят, чтобы ими стал править простолюдин. А власть наследников Хасмонеев по линии моей горячо любимой дочери Мариамны они признáют. Уж я-то позабочусь, чтобы любой из моих внуков, кого ты сочтешь более достойным занять царский трон, позаботился о том, чтобы возвысить тебя. Ты можешь прямо сейчас выбрать себе любую должность, какую только пожелаешь. Хочешь стать первым министром и хранителем печати? Считай, что ты уже министр. А хочешь стать первосвященником? Считай, что ты уже первосвященник. Какая должность тебе больше по душе?
– Не знаю, – ответил Ахав, – все это так неожиданно для меня. Нужно подумать.
– Думай поскорей, – сказала Александра. – До меня доходят верные слухи, что Ирод уже находится при последнем издыхании. Он потому-то и отправился в Самарию, чтобы не огорчать нас своей смертью. Если ты промедлишь хотя бы день, может случиться непоправимое. Постарайся дать мне ответ сегодня же, чтобы я могла знать, на кого мне рассчитывать.
Прямо из покоев Александры Ахав отправился к своей тетке Саломии и передал ей весь разговора, состоявший между ним и бабкой сыновей покойной Мариамны. Случившийся тут же Костобар заявил:
– А Александра вовсе не такая дура, какой кажется. Я не удивлюсь, если узнаю, что и дохлая собака, и убийство в синагоге батланимов дело ее рук. Надо, жена, поспешить, чтобы опередить ее.
– Что ты имеешь в виду? – спросила Саломия.
– Власть ни в коем случае не должна перейти к Александру или Аристовулу. Новым царем Иудеи следует провозгласить кого-нибудь из нас, ближайших родственников Ирода.
– Который, между прочим, еще жив, – заметила Саломия. – И я сильно сомневаюсь, что моему брату понравится, когда он узнает, что ты вознамерился стать царем Иудеи.
– Я?! – искренне удивился Костобар. – Я имел в виду тебя, а не себя! Что касается меня, то с меня хватит того, что ты назначишь меня областеначальником моей родной Идумеи.
– Знаю я, каким областеначальником ты вознамерился стать. – Обратившись к Ахаву, сказала: – Спасибо за откровенность, племянник. А теперь иди и постарайся сделать все так, как просила тебя Александра. Но не для того, чтобы сбылись ее коварные планы, а чтобы предотвратить бунт, если он случится в Иерусалиме до возвращения моего брата.
3
Саломия написала Ироду письмо, в котором кратко сообщила о готовящемся государственном перевороте. Как ни был плох Ирод, но письмо сестры его насторожило, и он вернулся в столицу. Первое, что он узнал, вступив во дворец Гиркана, было разводное письмо [282], которое Саломия послала Костобару. Это было против всяких правил: жене возбранялось становиться инициатором разводы с мужем. Саломия, прижимая к груди сына Антипатра, рожденного от Костобара, и держа за руку испуганную дочь Веренику, рожденную от Иосифа, кинулась со слезами в ноги Ироду и стала клясться в своей безмерной любви к нему:
– Лишь ради тебя, брат, из любви к тебе одному я не желаю больше ни дня жить с Костобаром, который оказался предателем! Хотя он одного рода-племени с нами, но он оказался хуже, чем Александра, вздумавшая погубить тебя!
– Погоди, сестра, перестань рыдать и пугать детей, – попытался успокоить сестру Ирод. – Расскажи по порядку все, что случилось за время моего отсутствия, и каким образом Костобар оказался связан с Александрой.
Саломия рассказала, призвав в свидетели Ахава. Из картины, нарисованной ими, Ирод понял: не возвратись он в Иерусалим, Александра добилась бы, не дожидаясь его смерти, которой Ирод действительно себе желал, чтобы новым царем Иудеи был бы провозглашен кто-либо из ее внуков – править страной в любом случае стала бы она. И без того больное воображение Ирода помутилось еще больше, и он, не пожелав вникнуть в существо дела и выявить других заговорщиков, тотчас приказал казнить Александру. Что и было сделано палачами на месте, где годом ранее была казнена Мариамна.
– А теперь расскажи все, что тебе стало известно о Костобаре, – потребовал Ирод от Саломии.
Намерение Костобара получить в свое управление Идумею не слишком расстроило Ирода; с рождением у него и его сестры сына он и сам стал подумывать о том, чтобы предоставить им одну из областей Иудеи, с которой они имели бы постоянный доход. А вот то, что поведала дальше Саломия о своем муже, заставило его подумать о том, что тот действительно вступил в заговор с Александрой, преследуя при этом собственные корыстные цели.
Еще в ходе штурма Иерусалима, где засел Антигон, Ирод приказал Костобару взять под личную охрану все ворота города, чтобы никто из состоятельных сторонников Антигона не сумел бежать, прихватив с собой свое состояние. Одним из таких богатых сторонников Антигона был некто Вав, убитый при взятии храма. Имущество Вава было конфисковано, а сыновей его Ирод приказал Костобару казнить, поскольку те, когда столица уже пала, не желали сдаться. Больше всего оскорблений в свой адрес Ирод услышал именно от них, а когда их отец был казнен, ненависть его сыновей к Ироду достигла крайнего предела. Продолжая вооруженное сопротивление, они поносили его самыми последними словами, чем снискали особую симпатию иерусалимцев. Этим, собственно, и объяснялся приказ Ирода казнить их, когда тех наконец удалось взять в плен. За грудой дел, свалившихся на него в первые дни после свержения Антигона, Ирод забыл о своем приказе. Костобар же, как это стало известно Саломии, увез их в Идумею в качестве заложников, где они благополучно проживали до сих пор, не зная ни в чем нужды. «Зачем это понадобилось Костобару?» – спрашивал себя Ирод. Ответ напрашивался один: в случае свержения Ирода или его внезапной смерти, сыновья Вава стали бы его охранной грамотой.
Вот почему, закончила свой рассказ Саломия, она и решила развестись с Костобаром, а решение о его дальнейшей участи предоставить брату.
– Ты царь, тебе и решать, как следует поступить с предателем, обманувшим не только тебя, но и меня, – сказала Саломия.
Ирод послал верных ему людей в Идумею, которые разыскали сыновей Вава, заковали их в цепи и доставили в Иерусалим. На очной ставке, устроенной Иродом, Костобар клялся, что в свое время не выполнил приказа Ирода исключительно из жалости к молодым людям, а позже забыл об их существовании, как забыл о них и Ирод.
– Разве забывчивость не свойственна всем людям, даже если люди эти возносятся так высоко, как вознесся ты? – спросил Костобар Ирода.
Сыновья Вава, однако, заявили, что все эти годы они жили припеваючи на деньги, которые им регулярно посылал Костобар. Более того, добавили они, когда им стало известно о заговоре, который составила против Ирода Александра, они потребовали от Костобара увеличить ежемесячное денежное содержание с тем, чтобы они могли нанять арабов и принять личное участие в свержении Ирода. В обмен на это увеличение денежного содержание Костобару было обещано, что с приходом к власти нового царя они выхлопочут ему должность начальника Идумеи. Последним штрихом, дополнившим портрет Костобара как давнего предателя, стало его письмо Клеопатре, предъявленное в копии одним из рабов сыновей Вава, выполнявшим при них роль порученца по особо важным делам.
Закончив следствие и не найдя никого, кто мог бы сказать хоть слово в защиту Костобара и сыновей Вава, Ирод приказал всех их казнить.
В день казни Костобара и сыновей Вава тихо и незаметно, как подобает первосвященнику, ушел из жизни Ананил. Трудно сказать, что послужило причиной скоропостижной смерти этого праведного человека: чувство ли пусть косвенной, но вины в гибели Гиркана, участие ли в заговоре, организованном Александрой, или опасение, что Ирод теперь доберется и до него? Незадолго перед смертью он на собственные средства возвел памятник Гиркану неподалеку от его дворца. Этот памятник стал как бы его извинением перед погибшим другом. Когда Ироду предложили снести этот памятник, он сказал:
– Зачем? Пусть стоит.
Мысленно он одобрил поступок покойного первосвященника. На место Ананила новым первосвященником синедрион избрал некоего Иисуса, сына Фабия. Кто был этот Иисус, был ли он местный или приехал с Гирканом и Ананилом из Вавилона, Ирод не знал, да и не хотел знать. Избрали и избрали. Пусть заботится о душах иудеев, только не вмешивается в его, Ирода, дела, который, желая отвлечься от продолжавших мучить его мыслей о Мариамне, все дни напролет проводил в северо-западной части Храма, где полным ходом шло строительство башни Антония. На предложение познакомиться с новым первосвященником Ирод ответил отказом.
– Не сейчас, как-нибудь позже, – сказал он.
Иисус, впрочем, тоже не горел желанием узнать поближе Ирода: он, как и остальные члены синедриона, был недоволен тем, что на месте снесенной Стратоновой башни вплотную к Храму возводится цитадель, названная именем некогда могущественного язычника.
4
К окончанию строительства башни Антония в Иерусалим прибыл с огромной свитой Николай Дамасский [283]. Он привез Ироду подарок от Октавия – четыреста прекрасно вооруженных галлов, составлявших некогда отряд телохранителей Клеопатры, и два постановления сената. Первым постановлением устанавливалось, что Сирия, завоеванная еще Помпеем, отныне и навсегда превращается в провинцию Рима [284], одновременно становясь его основной военной базой на Востоке, а ее главный торговый город Пальмира [285]объявляется свободным городом. Вторым постановлением сената Иудее даровалась на вечные времена клиентела [286].
Вместе с Николаем Ирод осмотрел башню, ревниво наблюдая за его реакцией на увиденное. Впрочем, ученый сириец ничем не выдал своих эмоций, так что к концу осмотра можно было подумать, что цитадель, мрачной тучей нависшая над Храмом, не произвела на гостя впечатления.
Сам Ирод остался доволен тем, как удалось воплотить его замысел в жизнь архитекторам и строителям. Гигантский прямоугольник, притулившийся к северо-западной части храма, был целиком вырублен из камня и казался продолжением скального грунта, из которого вырастал подобно могучему Орку [287]. На четырех углах Антониевой башни, или просто Антония, как ее называл Ирод, возвышались другие башни, внутри которых находились помещения различного назначения – от арсеналов и продовольственных складов до покоев, по роскоши убранства не уступавших дворцовым покоям. Самой примечательной частью цитадели по замыслу Ирода стал обширный внутренний двор, вымощенный мозаикой и окруженный мраморными аркадами. Это место Ирод назвал просто Мостовая, которое Николай Дамасский тут же перевел на греческий как Лифострон, а сопровождающий их еврей-архитектор назвал по-арамейски Гаввафа, то есть возвышенное место. Под Мостовой находились огромные каменные цистерны, куда вели хитроумно сделанные водостоки, так что ни одна дождевая капля не могла задержаться на поверхности дворе, образуя здесь лужицы. Собранная в цистерны вода с помощью противовесов и шкивов подавалась на любую высоту. Защищенная с трех сторон глубоким рвом и крутыми откосами, цитадель имела двойные парадные ворота, выходящие за городскую стену [288].
Закончив осмотр цитадели, Николай Дамасский спросил Ирода:
– Ты несчастлив, мой друг?
Вопрос Николая застал Ирода врасплох. Несмотря на разницу в возрасте – Николай Дамасский был младше него на десять лет, – Ирод чувствовал себя рядом с ним беспомощным мальчишкой, нуждающимся в защите со стороны взрослого, многое постигшего и много знающего человека.
– Не знаю, – ответил он, отводя глаза. Подумав, прибавил: – Пожалуй, что несчастлив.
– Это заметно, – сказал Николай, касаясь руки Ирода. – Заметно не только по твоим глазам, но и по башне, которую ты воздвиг в честь Антония.
– Тебе не понравилась башня? – спросил Ирод. – Жаль. Мне так хотелось увековечить в ней память о нашем общем друге, к которому и ты, насколько мне известно, питал добрые чувства.
– Тебе удалось это сделать, – успокоил Ирода Николай. – Ты не только увековечил память об Антонии, но и свою тоску о нем.
Они подходили уже ко дворцу Гиркана и стоящему по соседству с ним дому отца Ирода Антипатра, где теперь жил со своей рабыней-италийкой Ферора, когда Ирод сказал:
– Моя следующая задумка состоит в сносе этого дворца и дома моего отца и строительстве на их месте нового дворца. Уж в этой-то постройке я постараюсь упрятать свою тоску так глубоко, что ее никто не заметит.
– Дом отца ты можешь снести, он обветшал и того гляди развалится, – сказал Николай. – А вот дворец Гиркана я бы не стал сносить, в нем чувствуется время. К тому же он стоит в самом центре Иерусалима, и если ты снесешь его, тебе придется перестраивать весь центр заново, что потребует больших затрат. Найди для строительства своего дворца другое место.
За обедом, данным в честь прибытия в Иерусалим ученого сирийца, Николай Дамасский, улучив минуту, наклонился к Ироду и шепнул ему на ухо:
– За время, что мы не виделись с тобой, ты заметно переменился. В Риме я познакомился с человеком, который несмотря на все испытания, выпавшие на его долю, был уверен в себе, знал, чего он хочет, и уверенно двигался навстречу поставленной цели. Сегодня ты достиг всего, о чем простой смертный может только мечтать, но в глазах твоих я вижу не торжество победителя, а скорбь страдающего человека [289].
Ирод смутился. Ему не хотелось обсуждать с гостем свое состояние. Он был просто рад приезду Николая Дамасского и рассчитывал, что теперь в его жизни если не все, то многое переменится в лучшую сторону. Одно лишь тревожило его: захочет ли этот человек поселиться в Иерусалиме или вернется в Рим? Ирод прямо спросил его об этом. Николай, улыбнувшись, ответил:
– Вопрос не в том, захочу ли я поселиться в Иерусалиме; вопрос в другом – захочешь ли ты видеть меня жителем твоей страны?
Ирод благодарно пожал руку гостя.
– Почту за честь называть тебя моим земляком, – сказал он. – Ты послан сюда самим Предвечным.
– Скажем проще: меня прислал сюда Цезарь, – поправил его Николай. – А потому, если у тебя нет возражений, предлагаю поднять кубки во славу Цезаря.
5
Из рассказов домашних и дворцовой челяди Николай Дамасский довольно скоро понял причину скорби Ирода. Причина эта показалась ему столь ничтожной, что он не придал ей значения.
– Ты царь, – заявил он Ироду, – и ты вправе поступать не только с членами своей семьи, но и с целым народом так, как сочтешь нужным. Судить тебя вправе одни только боги – никому другому, даже тебе самому, непозволительно это делать.
Ирод никак не отреагировал на слова ученого сирийца. Тот, однако, истолковал молчание Ирода как его согласие с ним и принялся развивать свою мысль:
– Я вовсе не хочу сказать этим, что цари в отличие от простых смертных лишены человеческих слабостей. Но даже слабости царей проистекают не от их несовершенства, а даются им свыше как испытания их способности управлять судьбами многих. То, что предопределено богами, обязательно осуществится, и тот, кому в предсуществовании предназначено стать царем, станет им.
Для этого, однако, продолжал Иосиф Дамасский, цари и сами должны уподобится богам. С этой минуты Иосиф Дамасский сел на своего излюбленного конька и стал с жаром, как если бы речь шла о людях и делах, которые он близко и хорошо знает, рассказывать о Лугальзагеси [290], «Законнике Билаламы» [291], своде законов Хаммурапи [292], Драконе [293]и других царях и законодателях древности.
6
С приездом Николая Дамасского жизнь Ирода переменилась. Трудно сказать, что именно стало причиной этой перемены, – то ли рассказы сирийца о давней истории, то ли его убежденность, что царями люди становятся не случайно и даже не в силу династического наследования, а только и исключительно по воле бессмертных богов, которым лучше ведомо, кто из смертных достоин возвыситься над другими смертными и править ими, а кто нет. Как бы там ни было, но Ирод стал деятелен, энергичен, брался сразу за множество дел, и все у него получалось.
В самом центре Иерусалима он выстроил огромный каменный театр на манер театра Помпея в Риме с полукруглой орхестрой и зрительным залом на двадцать тысяч мест. По примеру римлян, он набрал труппу из рабов, а для первой постановки избрал трагедию Еврипида «Медея». Во время премьеры Ирод сидел рядом с Николаем Дамасским в орхестре, страшно волновался и не выпускал из своих вспотевших рук ладонь сирийца. Когда же раб в маске Медеи стал читать знаменитый монолог:
О дети, дети! Есть у вас и город, Теперь и дом – там поселитесь вы Без матери несчастной… Навсегда… А я уйду в изгнание, в другую Страну, и счастья вашего ни видеть, Ни разделять не буду, ваших жен И свадеб ваших не увижу, вам Не уберу и ложа, даже факел Не матери рука поднимет вам. О горькая, о гордая Медея! Зачем же вас кормила я, душой За вас болела, телом изнывала И столько мук подъяла, чтобы вам Отдать сиянье солнца?.. Я надеждой Жила, что вы на старости меня Поддержите, а мертвую своими Оденете руками… —Ирод вдруг разрыдался и выбежал из театра.
От внимательного взгляда Николая Дамасского не могло укрыться то, что все, что ни делал Ирод, он делал с какой-то горячечной страстью. Следом за театром он возвел в окрестностях столицы немыслимых размеров амфитеатр, где состязались лучшие поэты, танцоры и музыканты. При амфитеатре имелся зверинец, в котором содержались дикие животные из стран Азии и Африки, причем особенно много там находилось львов. Зверей на потеху публике, валом повалившей в Иудею из ближних и дальних государств, стравливали между собой, а чтобы удовлетворить вкусам особенно привередливых зрителей, искавших острых ощущений, на бой со зверями выпускали приговоренных к смертной казни преступников.
В разных городах Иудеи Ирод построил стадионы, на которых устраивались скачки квадриг, запряженных не только конями, но и слонами. В одиночных скачках, равно как в стрельбе из лука, Ирод сам принимал участие, и не было равных ему по искусству наездничества и меткости попадания в цель стрелы, выпущенной на полном скаку из лука.
По примеру греческих Олимпиад он установил общественные игры, которые постановил устраивать раз в пять лет, и стал приглашать на эти игры атлетов со всех концов земли. В особом указе, изданном в связи с учреждением игр, говорилось, что каждый вне зависимости от своего происхождения и занимаемого положения, кто посмеет в дни проведения игр обнажить оружие, подлежит казни. Он же первый ввел щедрые вознаграждения не только победителям игр, но и атлетам, занявшим вторые и третьи места, чего никогда прежде не было и что впоследствии стало правилом при организации подобных игр в других странах.
Все эти начинания требовали огромных затрат, но Ирод не останавливался перед расходами. Более того: ему доставляло удовольствие обставлять все свои зрелища с особой роскошью, так что на обозрение публики выставлялись не только трофеи, добытые Иродом в предыдущих войнах, но и представлялись на всеобщее обозрения дарованные ему доспехи, принятые на вооружение в разных странах от Африки до Британии и от Испании до Индии.
Если бурная деятельность, развитая Иродом, вызывала интерес иностранцев, не жалевших никаких денег, чтобы приехать в Иудею и собственными глазами увидеть то, чего нельзя было увидеть даже в Риме, то эта же деятельность Ирода встречала все больший ропот и неудовольствие со стороны евреев. Страна наполнилась слухами о том, что Ирод, вводя в Иудее чужеземные зрелища и порядки, подтачивает издревле установленный образ жизни. После одного из состязаний борцов, в которых победителями вышли евреи, той же ночью вся команда победителей была убита. На тела борцов было вылито кошерное оливковое масло, которым они намазывались перед схваткой, и приколоты кинжалами записки: «Так будет с каждым, кто предаст поруганию заветы наших отцов».
Ирод нанял и разослал по всей Иудее шпионов с целью розыска и наказания убийц. Частенько он сам, переодевшись простолюдином, обходил ночами публичные места и выведывал, что говорят о нем люди. Отчасти это помогло пресечь вздорные слухи. Но лишь отчасти. Когда же в театре были выставлены золотые доспехи, подаренные Ироду царями из ближних и дальних стран, ситуация вышла из-под контроля, и Иудея оказалась на грани бунта.
Получив от своих шпионов информацию о готовящемся бунте, Ирод созвал в Иерусалим самых уважаемых в народе евреев и пригласил их в театр. Предложив им осмотреть и общупать доспехи, он спросил:
– Что в этих изделиях рук человеческих порочного?
В ответ раздались гневные голоса, из которых Ирод понял одно: если до сих пор евреи сносили богохульства царя, то теперь, когда Ирод наводнил страну идолами, терпение их иссякло.
– Да будет тебе ведомо, что закон запрещает нам творить истуканов, – сказал самый старший из вызванных в Иерусалим евреев. – Сказано: «Твердо держите в душах ваших, что вы не видели никакого образа в тот день, когда говорил к вам Господь на Хориве из среды огня, дабы вы не развратились и не сделали себе изваяний, изображений какого-либо кумира, представляющих мужчину или женщину». Ты же, Ирод, презрел закон, данный нам Господом, и тем самым навлек на нас гнев Предвечного.
– По-вашему, эти побрякушки изображают людей? – спросил Ирод, постукивая костяшками пальцев по металлу.
– Будь это даже не люди, – сказал старик, – закон запрещает нам их лицезреть.
– Нет ничего проще, – подхватил Ирод. – Закрой глаза, старик, и изображения эти тотчас исчезнут. А те из вас, кто не желает закрывать глаза, могут сами удостовериться в том, люди ли перед вами, скот, птица крылатая, гад, ползающий по земле, рыба ли, плавающая в воде, или обыкновенное оружие, подобное инструментам, которыми каждый из вас пользуется в хозяйстве.
С этими словами Ирод снял ближайшие к нему шлем, латы, щит, налокотники, пояс с мечом и поножи и бросил все это к ногам старика. Взору присутствующих предстал голый деревянный столб, вкопанный в землю, на котором держались доспехи.
– Вот эта-то деревяшка и вызвала ваше негодование? – спросил Ирод. – Я разрешаю любому из вас выкопать этот столб, разрубить на куски и использовать в качестве дров для печи. После этого я с удовольствием послушаю ваш рассказ о том, совершили ли вы богопротивное действо или просто приготовили себе пищу.
Напряжение сразу спало, раздался смех, и даже старик, хмуро наблюдавший за манипуляциями Ирода, улыбнулся.
7
Среди уважаемых евреев, созванных со всей Иудеи, нашелся, однако, один иудей, постигший все премудрости Талмуда, кто воспринял продемонстрированный Иродом в театре столб, на который были надеты золотые доспехи, как изощренную форму издевательства царя над народом и его верностью заветам отцов. Он стал ездить по стране, посещал синагоги и всюду рассказывал, что Ирод, построив в Иерусалиме огромный театр, полностью изобличил себя как гнусный язычник, не постеснявшийся выставить облаченные в золотые доспехи фаллосы, на которые, собственно, и опирается его скабрезный театр [294].
Для иудеев, считавших, что обрезание крайней плоти является знаком вечного союза между Богом и человеком, поведение Ирода стало не просто издевательством над избранным народом, но вызовом Самому Господу Богу, за что он по закону заслуживал лишь одного – смерти. Зилоты стали открыто говорить о том, что Ирод, поставленный римлянами царем над Иудеей, является злейшим врагом народа, вознамерившимся извести его под корень. Нашлись десять заговорщиков, и среди них даже один слепой, которые поклялись скорее умереть, чем позволить Ироду осуществить свой подлый замысел.
Заговорщики решили собраться в Иерусалиме на Праздник труб [295], к которому была приурочена премьера спектакля по пьесе Аристофана «Плутос» [296]. Было известно, что на спектакле будут присутствовать Ирод и объявленный врагом номер два народа Иудеи сириец Николай Дамасский. Заговорщики договорились проникнуть в театр с кинжалами, спрятанными в складках одежды, внезапно напасть на Ирода и его сирийского друга и заколоть обоих. Если же им почему-либо не удастся осуществить свой замысел, то они, прежде чем погибнуть, перережут множество приверженцев Ирода, заставив его образумиться и подумать над тем, насколько далеко зашло его глумление над народом.
К счастью для Ирода, один из его шпионов, внедрившийся в ряды заговорщиков, заблаговременно известил Ирода о готовящемся на его жизнь покушении. Шпиона удивило, что сообщение его не только не насторожило, а, скорее, позабавило царя.
– Посмотрим, насколько проворными окажутся Клеопатровы галлы [297], которых ты привез мне в подарок от Цезаря, – сказал он Николаю Дамасскому.
Тот, вопреки ожиданию Ирода, не порадовался вместе с ним возможности испытать свою судьбу, а страшно испугался.
– Ты должен отменить спектакль! – потребовал он.
– Зачем? – удивился Ирод. – В Иудею съехалось множество гостей, которым не терпится поглядеть «Плутоса», и я не вправе обмануть их намерение вволю посмеяться над людьми, которым сколько ни дай золота, а им все мало.
– Не думаю, что твоя и моя кровь, которая зальет орхестру, может послужить достаточным поводом для веселья, – заметил Николай Дамасский. – Ты, конечно, волен поступать так, как считаешь нужным, но что касается меня, то я останусь дома.
В конце концов Николаю удалось убедить Ирода в бессмысленности рисковать жизнями множества людей, собравшихся посетить театр в Праздник труб, благо и сам Аристофан был решительным противником любого кровопролития и сторонником мира. Ирод помрачнел. В глубине души он понимал, что публичным наказанием заговорщиков ничего евреям не докажешь, поскольку всё, что бы он ни делал, вызывает с их стороны активное неприятие. Это разозлило царя.
С наступлением дня Праздника труб он приказал оцепить театр и тщательно обыскивать всех стекавшихся туда зрителей. Без труда и излишнего шума все десять заговорщиков, включая слепого бунтаря, были схвачены и обезоружены, после чего доставлены к Ироду. В присутствии бледного Николая Дамасского Ирод вызывал их по одному и допрашивал. Никто из заговорщиков не раскаялся в затеянном преступлении против царя и его высокочтимого гостя и не выказал ни малейшего страха перед неизбежным наказанием, а слепой даже выступил с речью, в которой объяснил мотивы, побудившие его принять участие в заговоре:
– Говорю ли я, Ирод, с тобой одним или здесь присутствуют посторонние? – спросил он.
– Здесь, помимо меня, присутствует мой друг и историк Николай Дамасский, – ответил Ирод и, не заметив в лице слепого никакого движения, добавил: – Если тебе это имя о чем-нибудь говорит.
– Говорит, – подтвердил слепой, глядя в пространство невидящими глазами. – Тот, кого ты называешь своим другом и историком, мой злейший враг, и я сожалею, что он будет продолжать жить в то время, когда меня не станет.
– Ты с кем-то меня путаешь, – взволнованно произнес сириец. – Я не причинил зла ни одному человеку в мире и молю богов, чтобы они и впредь удерживали меня от всякого зла.
– Это тебе только кажется, что ты не причинил никому зла, – сказал слепой. – На самом деле все историки – суть зло, поскольку мнят себя носителями истины, тогда как истина открыта одному лишь Предвечному. Но я намерен говорить не с тобой, ничтожнейший из ничтожных, а с тем, кто полагает себя царем. Ты еще здесь, Ирод?
– Я здесь и продолжаю слушать вздор, какой ты несешь, – сказал Ирод. – Если тебе есть что сказать по существу обвинения в заговоре, которое выдвинуто против тебя, то говори.
– Есть, Ирод. То, что я намерен сообщить тебе, есть истина, которую моими устами сообщает тебе мой Бог. Слушай же и не смей меня перебивать. Тебя, наверное, удивляет, почему я, слепой от рождения, решил убить тебя? Отвечаю: потому, что решение это продиктовано намерением поднять против тебя дух в моих товарищах, подобно тому, как мой дух против тебя возвысил Сам Предвечный. Я не выказываю раскаяния в деле, на которое подвиг меня Господь, как не выказал сопротивления твоим стражникам, когда они обыскали меня и отобрали у меня мой кинжал. Ты, конечно, можешь возразить на это, что я, слепой, пустив оружие в дело, мог поразить не тебя и не твоего друга, а кого-либо из праведников, оказавшихся по недоразумению или ошибке в построенном тобой языческом капище, которое ты называешь театром. Но у меня и на это твое возражение есть ответ: мой кинжал направляла рука Господа, и ни один праведник не пал бы от него по той просто причине, что все праведники в великий Праздник труб слушают на площадях закон Моисеев, а не посещают такие гнусные места, как твой театр. Давая клятву Предвечному поразить тебя, я не искал для себя выгоды, равно как не руководствовался соображениями отомстить тебе за твои бесчинства. Единственное, что подвигло меня взяться за оружие, это благо избранного Богом народа, к которому я, в отличие от тебя, имею честь принадлежать, и каждый, кто готов умереть за это благо, заслуживает бессмертия. Я все сказал, Ирод, и готов принять смерть.
Ирод посмотрел на Николая Дамасского. Тот по-прежнему был бледен, в глазах явственно светился страх, а руки, покоящиеся на коленях, дрожали мелкой дрожью. Ирод жестом велел увести слепого.
– Что скажешь, мой друг? – спросил Ирод, когда они остались вдвоем.
– Н-ничего, – заикаясь, ответил Николай.
– Ты ожидал услышать от этого калеки что-то иное?
– Н-нет.
– Как ты считаешь, какого наказания заслуживают эти люди? – спросил Ирод.
– Я не знаю, я ничего не знаю, – ответил Николай Дамасский и, вскочив, стал нервно вышагивать по комнате. Он был близок к истерике. – Это не люди. Это… это какие-то одержимые фанатики! – воскликнул он. – Почему они решили, что все, что они делают, освящено именем Бога и направлено на благо народа, а то, что делают для этого же народа другие люди, делаешь ты, аправлено им во вред?
Ирод ничего не ответил на это. Он поднялся с кресла, в котором сидел во все время долгого допроса, вышел в коридор и распорядился подвергнуть всех схваченных в театре заговорщиков пытке, после чего казнить. Приказ Ирода в тот же день, несмотря на праздник, был исполнен. А спустя неделю ему донесли, что шпион, сообщивший ему о заговоре, был схвачен неизвестными лицами, разорван на части и брошен псам.
Николай Дамасский, прослышав об этом, стал спешно упаковывать свои вещи и рукописи.
– Ты куда-то собрался? – спросил Ирод.
– Не останусь здесь больше ни минуты! – воскликнул ученый сириец.
– Не спеши уезжать, – попросил его Ирод. – Постарайся осмыслить случившееся и тем самым помочь не только себе, но и мне.
Долго сдерживаемый страх, владевший историком с тех пор, как ему стало известно о заговоре и заговорщиках, выплеснулся наружу.
– Чем я могу помочь тебе, если я не понимаю и не хочу понять ничего из того, что здесь происходит? – вскричал он. – Ты царствуешь над больными людьми в больной стране!
– Не больными, – мягко возразил ему Ирод. – Просто другими людьми, не похожими на нас с тобой. Разве тебе, как историку, не интересно понять этих людей?
– Нет, не интересно! Я не в состоянии понять, что творится в голове слепого, который решил, что кинжал в его руку вложил Господь Бог, и этот Господь Бог не промахнется в выборе своей жертвы, поскольку праведники не ходят в театр! Несчастная страна, несчастный народ, который придумал себе жестокого Бога, несчастный ты, которого другие боги, добрые, а не свирепые, вроде Бога иудеев, поставили здесь царем!
– Это не так, – возразил Ирод. – И Иудея не такая уж несчастная страна, и наш Бог не такой уж жестокий, каким ты Его себе представляешь. А что касается народа, то он, как в любой другой стране, разный и по-разному ищет пути к истине. Прежде, чем ты уедешь, я хотел бы познакомить тебя с одним человеком, которого сам не видел целую вечность.
Выплеснув накопившийся в нем страх Николай Дамасский несколько успокоился.
– Кто этот человек?
– Некто Менахем, который называет себя ессеем. Когда-то я, еще ребенком, шел с друзьями в школу. По дороге нам встретился странный человек, облаченный в хламиду. Я бы не обратил на него внимания, если бы он не подозвал меня. Обрати внимание: я шел в школу не один, нас было несколько мальчишек, но этот человек выбрал почему-то меня одного. Когда я подошел, незнакомец велел мне наклонить голову. Я никогда не отличался особым послушанием, но в тот день какая-то сила заставила меня подчиниться ему. И тут страшной силы удар по шее молнией пронзил мое тело. Я едва устоял на ногах, от боли на глаза мои навернулись слезы и я, помнится, спросил: «Ты чего дерешься?» А человек этот, улыбаясь, ответил: «Запомни хорошенько все, что я тебе сейчас открою. Ты станешь царем Иудеи, – великим царем, славе которого будут завидовать многие сильные мира сего. Но ты совершишь и множество преступлений, за которые к концу жизни глубоко раскаешься. Вспоминай почаще мой сегодняшний удар, это удержит тебя от многих ошибок и поможет быстрей отыскать истину».
Николой Дамасский внимательно выслушал Ирода, но, похоже, ничего из него не понял.
– Зачем мне нужно знакомиться с еще одним ненормальным? – спросил он.
– Я не знаю, нормальный он или ненормальный, – сказал Ирод, – но я знаю, что человеку этому открыто будущее. Во всяком случае, все, что происходило со мной до сих пор, происходит по его слову. Я хочу снова встретиться с этим человеком и вместе с тобой выслушать его пророчество о будущем. Пожалуйста, задержись в Иерусалиме хотя бы еще на месяц, а там поступай, как знаешь.
– А если ты не найдешь этого… как, ты сказал, его имя?
– Я найду ессея Менахема, – заверил ученого сирийца Ирод.
Глава вторая ИСЦЕЛЕНИЕ
1
Ирод не ошибся: люди, разосланные им по всей стране, уже на шестой день отыскали человека, называвшего себя ессеем Менахемом, и доставили его в Иерусалим. Заметно постаревший – все-таки с первой и последней встречи Ирода с этим человеком минуло почти тридцать лет, – Менахем то ли потому, что на нем были поношенный балахон и стоптанные сандалии, а то ли потому, что в карих глазах его искрились все те же смешинки, какие запомнились Ироду, когда он получил увесистую затрещину, выглядел моложе своих лет.
– Сбылось мое предсказание, – сказал Менахем, поклонившись Ироду и Николаю Дамасскому. – Ты стал великим царем и ты же совершил множество преступлений, в которых уже теперь раскаиваешься. Из этого я делаю вывод, что мой давний удар не удержал тебя от множества ошибок, от которых я тебя предостерегал, а от пути к истине ты отстоишь сегодня даже дальше, чем когда был ребенком.
Ирод обнял пожилого ессея и пригласил его к столу. Николай Дамасский не без иронии наблюдал за оборванцем и за тем, как обходительно относится с ним царь. За трапезой Ирод обратился к ученому сирийцу:
– Вот человек, которому открыто будущее. Не желаешь ли и ты, мой друг, узнать от нашего гостя о том, что ожидает тебя?
– Нет, не желаю, – ответил Николай, продолжая изучать Менахема. – Но мне, как историку, было бы небезынтересно узнать, что думает наш гость о будущем мироустройстве и месте правителя в нем.
– Ты хочешь спросить, что станется с будущими царствами и царями? – спросил Менахем и сам же ответил на свой вопрос: – А ничего не станется: грядет полнота времени, цари и царства исчезнут, ибо близок час, когда «Господь сотрет препирающихся с Ним; с небес возгремит на них и будет судить концы земли, и даст крепость царю Своему, и вознесет рог помазанника Своего» [298].
– То есть, другими словами, – сказал Николай, бросив в сторону Ирода насмешливый взгляд, – царства и цари исчезнут и на всей земле установится новое царство с единым для всех царем?
– Истинно так, – подтвердил Менахем.
– Кто же будет этот единый царь над всеми людьми во всех концах земли? – спросил Николай, не скрывая иронии.
– Мессия [299], – кратко ответил Менахем.
Николай Дамасский оживился, почувствовав себя на любимом коньке.
– Но как этот Мессия станет управляться со всеми людьми, если люди такие разные? – спросил он. – Ведь не станешь же ты возражать против того, что одним людям дано больше, а другим меньше, одним предназначено быть свободными, а другим рабами, одни рождаются богатыми, а другие бедными?
– Люди одинаковые, – сказал на это Менахем. – Все они созданы по образу и подобию Господа Бога нашего, а разными их сделала гордыня, которая, как сказано пророками, «споткнется и упадет, и никто не поднимет ее» [300].
Николай рассмеялся.
– Что рассмешило тебя? – спросил Менахем.
– Твоя наивность, – ответил сириец. – Ты что-то слышал, что-то читал, но и слышал и читал бессистемно, и потому в голове твоей образовалась каша. Демокрит [301]в твоем сознании смешался с Аристотелем [302], а тот и другой с Платоном, который считал, что все люди станут одинаково счастливыми, если откажутся неимущими.
Менахем улыбнулся.
– Послушай на этот счет притчу, – сказал он. – Быть может, она не столь научна, как труды упомянутых тобой мудрецов, но зато поучительна. Тебе, наверное, известна история о двух братьях Авеле и Каине и о том, что Каин убил Авеля за то, что Господь призрел на его дар, а на дар Каина не призрел? Глупая история, ибо не убил бы брат брата из-за такой малости. Ты скажешь: но ведь Каин убил Авеля! Убил. Но совсем по другой причине. Ты готов выслушать историю о том, почему случился этот тяжкий грех? [303]
– Готов.
– Ну так слушай. – Напевным голосом, будто читал молитву, Менахем стал рассказывать: – И сказала Каин Авелю, брату своему: «Поделим мир между собою». «Поделим», – согласился Авель. Взял Каин землю, а Авель стада. И условились не затрагивать один владения другого. Погнал Авель свои стада в поле, а Каин кричит ему: «Земля, по которой ты ходишь, моя!» – «А одежда, которая на тебе, не из шерсти ли моиховец сделана?» – отвечает ему Авель. «Прочь с моейземли!» – потребовал Каин. «Долой одежду из моейшерсти!» – ответил брату Авель. Погнался Каин за Авелем по холмам и долинам, пока не настиг его. Завязалась борьба. Не выдержал Каин, упал и, прижатый к земле, стал молить о пощаде: «Авель, брат мой! Нас двое на земле. Умертвив меня, что ты скажешь отцу нашему?» Сжалился Авель над Каином, освободил его. Встал Каин и убил Авеля. Медленно, долго убивал его Каин: схватив камень, но не зная, как нанести смертельный удар, он наносил ему побои по всему телу, пока не перешиб ему горло, – и Авель умер.
Менахем закончил, и все так же улыбаясь смотрел на Николая Дамасского, ожидая, что тот скажет.
– Любопытная сказка, – произнес наконец Николай.
– Притча, – поправил его Менахем. – И Платон, которого ты ругаешь за то, что в его государстве счастливыми окажутся лишь неимущие люди был вовсе не так глуп, как тебе это кажется. Во всяком случае, мы, ессеи, не чувствуем себя ущемленными оттого, что ничего своего не имеем, в сравнении с теми, кто имеет много и готов из-за этого многоперешибить горло брату своему.
Тем же вечером Ирод спросил Николая Дамасского:
– Останешься ли ты еще на некоторое время в Иудее или вернешься в Рим?
– Пожалуй, останусь, – ответил Николай. – Хочу послушать другие сказки, которыми, похоже, заполнена голова твоего ессея.
– Притчи, – рассмеявшись, поправил его Ирод.
2
Ирод медленно выходил из состояния безумия, в которое впал после казни Мариамны. Однажды Николай Дамасский застал царя в работе над чертежами. Всмотревшись в них и обнаружив контуры дворцовых сооружений и целых городов, он поинтересовался:
– Зачем тебе заниматься тем, чем надлежит заниматься рабам? [304]
– Людям надлежит заниматься конкретными делами, – ответил Ирод. – Сказал Предвечный: «Я воздам им по их поступкам и по делам рук их» [305].
Николай Дамасский пожал плечами.
– Ну-ну… – Сам же погрузился в чтение дневника Ирода, который тот передал ему в один из первых дней его приезда в Иерусалим.
Ирод с головой ушел в строительство, чем давно собирался заняться.
В Иерусалиме, в его западной части, он в короткое время возвел роскошный дворец, украшенный двумя башнями, названными в память о покойном старшем брате и казненной им жене башнями Фасаила и Мариамны [306], и соединил дворец подземным тоннелем с Антониевой башней. Старый переход, соединявший Антония с дворцом Гиркана, он приказал засыпать. Переселив в новый дворец семью с многочисленной челядью и рабами, он отправился в Самарию, где на месте одноименного города заложил новый город, которому дал название Себаста. Город еще строился, когда он окружил его красивой стеной с зубцами и башенками протяженностью двадцать стадий [307]. Здесь он поселил шесть тысяч человек из числа своих бывших солдат и рабочих с семьями, представлявших собой жителей не только Иудеи, но и соседних стран. Им он предоставил в бессрочное пользование плодородные земли в окрестностях города, посреди города выстроил храм, посвященный Октавию, храм окружил живописной оливковой рощей, а самой Себасте и ее жителям предоставил статус самоуправляемой общины.
За две с лишним тысячи лет, прошедших со времени смерти Ирода, имя его и дела обросли множеством нелепиц. Свой вклад в это неблагодарное дело внес и Иосиф Флавий в своем обширном историческом труде «Иудейские древности», где каждая новая постройка Ирода трактуется как стремление царя задобрить ненавидевших его евреев, как очередную его попытку «обезопасить свое положение» и намерение «держать в своих руках весь народ, чтобы он менее думал о возмущении». (В чем в чем, а в заискивании перед своими подданными Ирода нельзя было упрекнуть: он был с ним одновременно и крут, когда того требовали обстоятельства, и милостив, когда народ нуждался в его защите и поддержке.)
Поскольку ни одна из построек Ирода не сохранилась, имеет смысл предоставить слово тому же Иосифу Флавию, которому были известны все постройки и города, возведенные Иродом. Для этого мы, однако, обратимся не к «Иудейским древностям», а более скромной по объему «Иудейской войне», в которой деяния великого царя описаны без предвзятости. Более того, описания Иосифа Флавия, сделанные в «Иудейской войне», представляются особенно ценными потому, что содержат в себе характеристику самого Ирода в период его глубокого духовного кризиса после казни горячо любимой им Мариамны, из которого он не без влияния Николая Дамасского только-только стал выходить, рисуют глубину его чувств к покойным отцу и матери, любви к покончившему жизнь самоубийством брату Фасаилу, а также описание его внешности. Итак, слово человеку, который воочию видел итоги преобразований, произведенных Иродом как в самой Иудее, так и в соседних странах, а также пользовался описанием внешности царя, почерпнутой из биографии Ирода, написанной Николаем Дамасским:
«Когда Август подарил ему новые области, Ирод и там выстроил ему храм из белого мрамора у истоков Иордана, в местности, называемой Панионом. Здесь находится гора с чрезвычайно высокой вершиной; под этой горой, в ложбине, открывается густо оттененная пещера, ниспадающая в глубокую пропасть и наполненная стоячей водой неизмеримой глубины; на краю пещеры бьют ключи.
И в Иерихоне, между крепостью Кипрон и старым дворцом, царь приказал воздвигнуть новое, лучшее и более удобное здание, назвав его именем своего друга [Октавия]. Словом, не было во всем государстве ни одного подходящего места, которое бы он оставил без памятника в честь императора. Наполнив храмами свою собственную страну, он украсил зданиями также и вверенную ему провинцию и во многих городах воздвигал Кесарии.
Заметив, что Стратонова башня – город в прибрежной полосе – клонится к упадку, он ввиду плодородной местности, в которой она была расположена, уделил ей особое свое внимание. Он заново построил этот город из белого камня и украсил его пышными дворцами; здесь в особенности он проявил свою врожденную склонность к великим предприятиям. Между Дорой и Иоппией, на одинаковом расстоянии от которых лежал посередине названный город, на всем протяжении этого берега не было гавани. Плавание по Финикийскому берегу в Египет совершалось, по необходимости, в открытом море ввиду опасности, грозившей со стороны африканского побережья: самый легкий ветер подымал в прибрежных скалах сильнейшее волнение, которое распространялось на далекое расстояние от берега. Но честолюбие царя не знало препятствий: он победил природу – создал гавань бóльшую, чем Пирей, и превосходившую его многочисленностью и обширностью якорных мест.
Местность ни в каком отношении не благоприятствовала ему; но именно препятствия возбуждали рвение царя. Он хотел воздвигнуть сооружение, которое по силе своей могло противостоять морю и которое своей красотой не давало бы возможности даже подозревать перенесенные трудности. Прежде всего он приказал измерить пространство, назначенное для гавани; затем он велел погружать в море на глубину двадцати сажен камни, бóльшая часть которых имела пятьдесят футов длины, девять футов высоты и десять – ширины, а другие достигали еще бóльших размеров. После того как глубина была выполнена, построена была надводная часть плотины шириной в двести футов: на сто футов ширины плотина была выдвинута в море для сопротивления волнам – эта часть называлась волноломом; другая же часть шириной в сто футов служила основанием для каменной стены, окружавшей самую гавань. Эта стена местами была снабжена чрезвычайно высокими башнями, самая красивая из которых была названа Друзионом, по имени пасынка императора Друза.
Масса помещений была построена для приема прибывавших на судах грузов. Находившаяся против них кругообразная площадь доставляла много простора для гулянья высадившимся на сушу мореплавателям. Вход в гавань был на севере, потому что северный ветер там наиболее умеренный. У входа на каждой стороне его находятся три колоссальные статуи, подпираемые колоннами: на левой стороне входа статуи стоят на массивной башне, а на правой стороне – их поддерживают два крепко связанных между собой камня, превышающих своей величиной башню на противоположном берегу. Примыкающие к гавани здания построены из белого камня. До гавани простираются городские улицы, отстоящие друг от друга в равномерных расстояниях. Напротив входа в гавань стоял на кургане замечательный по красоте и величине храм Августа, а в этом последнем – его колоссальная статуя, не уступавшая по своему образцу олимпийскому Зевсу, равно как и статуя Рима, сделанная по образцу Аргосской Юноны. Город он посвятил всей области, гавань – мореплавателям, а часть всего этого творения – кесарю и дал ему имя Кесарии (Цезареи).
И остальные возведенные им постройки: амфитеатр, театр и рынок – были также достойны имени императора, которое они носили. Дальше он учредил пятилетние состязательные игры, которые он также назвал именем Цезаря. Открытие игр последовало в 192-й олимпиаде [308]: Ирод сам назначил тогда богатые призы не только для первых победителей, но и второстепенных и третьестепенных из них. Разрушенный в войнах приморский город Анфедон он также отстроил и назвал его Агриппиадой. От избытка любви к этому своему другу он даже приказал вырезать его имя на построенных им храмовых воротах в Иерусалиме.
И в сыновней любви никто его не превосходил, ибо он отцу своему соорудил памятник. В прекраснейшей долине, в местности, орошаемой водными потоками и покрытой деревьями, он основал новый город и назвал его в память о своем отце Антипатридой. По имени матери своей он назвал Кипроном новоукрепленную им крепость, чрезвычайно сильную и красивую, возвышавшуюся над Иерихоном. Брату своему, Фазаелю [Фасаилу], он посвятил Фазаелеву башню в Иерусалиме. Имя Фазаелиды он дал также и городу, основанному им близ глубокой долины, тянущейся к северу от Иерихона.
Увековечив таким образом своих родных и друзей, он позаботился также о собственной своей памяти. На горе, напротив Аравии, он построил крепость, которую назвал по своему собственному имени Иродионом. Тем же именем он назвал сводообразный холм в 60 стадиях от Иерусалима, сделанный руками человеческими и украшенный роскошными зданиями: верхнюю часть холма он обвел круглыми башнями, а замкнутую внутри площадь застроил столь величественными дворцами, что не только внутренность их, но и наружные стены, зубцы и крыши отличались необыкновенно богатыми украшениями. С грандиозными затратами он провел туда из отдаленного места обильные запасы воды. Двести ослепительно белых мраморных ступеней вели вверх к замку, потому что холм был довольно высок и целиком составлял творение человеческих рук. У подошвы его Ирод выстроил другие здания для помещения утвари и для приема друзей. Изобилие во всем придало замку вид города, а занимаемое им пространство – вид царского дворца.
После всех этих многочисленных строений Ирод начал простирать свою княжескую щедрость также и на заграничные города. В Триполисе, Дамаске и Птолемаиде он устроил гимнасии; Библ получил городскую стену; Берит и Тир – колоннады, галереи, храмы и рынки; Сидон и Дамаск – театры; морской город Лаодикея – водопровод, Аскалон – прекрасные купальни, колодцы и, кроме того, колоннады, вызывавшие удивление своей величиной и отделкой; другим он подарил священные рощи и луга. Многие города получили от него даже поля и нивы, как будто они принадлежали его царству. В пользу гимнасиев иных городов он отпускал годовые или постоянные суммы, обусловливая их, как, например, в Косе, назначением в этих гимнасиях на вечные времена состязательных игр с призами. Сверх всего этого он всем нуждающимся раздавал даром хлеб. Родосцам он неоднократно и при различных обстоятельствах давал деньги на вооружение их флота. Сгоревший пифийский храм он еще роскошнее отстроил на собственные средства. Должно ли еще упомянуть о подарках, сделанных им ликийцам или самосцам, или о той расточительной щедрости, с которой он удовлетворял самые разнообразные нужды всей Иоппии? Разве Афины и Лакедемония, Никополис и Мизийский Пергам не переполнены дарами Ирода? Не он ли вымостил в Сирийской Антиохии болотистую улицу, длиной в 20 стадий, гладким мрамором, украсив ее для защиты от дождя столь же длинной колоннадой?
Можно, однако, возразить, что все эти дары имели значение лишь для тех народов, которые ими воспользовались. Но то, что он сделал для жителей Элиды, было благодеянием не для одной Эллады, а для всего мира, куда только проникла слава Олимпийских игр. Когда он увидел, что эти игры, вследствие недостатка в деньгах, пришли в упадок и вместе с ними исчезал последний памятник древней Эллады, Ирод в год олимпиады, с которым совпала его поездка в Рим, сам выступил судьей на играх и указал источники дохода на будущие времена, чем и увековечил свою память как судьи на состязаниях. Я никогда не приду к концу, если захочу рассказать о всех случаях сложения им долгов и податей; примером могут служить Фазаелида и Валанея, а также города на киликийской границе, которым он доставлял облегчение в ежегодных податях. В большинстве случаев его щедрость не допускала даже подозрения в том, что, оказывая чужим городам больше благодеяний, чем их собственные властители, он преследует этим какие-либо задние цели.
Телосложение его соответствовало его духу. Он с ранней молодости был превосходным охотником, и этим он в особенности был обязан своей ловкости и верховой езде. Однажды он в один день убил сорок животных (тамошняя стороны воспитывает, между прочим, диких свиней; но особенно изобилует она оленями и дикими ослами). Как воин Ирод был непобедим; также и на турнирах многие страшились его, потому что они видели, как ровно он бросает свое копье и как метко попадает его стрела. При всех этих телесных и душевных качествах ему покровительствовало и счастье: редко когда он имел неудачу в войне, а самые поражения его являлись всегда следствием или измены известных лиц, или необдуманности его солдат».
Описание это и эта характеристика Ирода как строителя, воина и человека, мало согласуется с устоявшимся представлением о нем, как об изверге, лишь по недоразумению удостоившимся титула Великий.
3
Однако главным делом всей жизни Ирода, обессмертившим его имя, стало возведение нового Храма в Иерусалиме на месте полностью сгоревшего полутысячелетим ранее Храма Соломона. Но как раз это главное дело Ирода встретило активное противодействие со стороны евреев: они опасались, что царь уничтожит старый Храм [309]прежде, чем сможет построить на его месте новый. Ирод поспешил успокоить соотечественников, заверив их, что снесет старый храм не ранее, чем у него будет все подготовлено для сооружения нового святилища. И он не обманул соотечественников: прежде, чем приступить к строительству главного своего сооружения, Ирод заготовил тысячу телег для перевозки камней, нанял десять тысяч самых опытных строителей, приобрел для тысячи священников новые одеяния и обучил часть из них плотничьему делу, а другую строительному искусству, предполагая доверить этой части священнослужителей возведение тех помещений храма, куда доступ мирянам был запрещен. После этого он созвал в Иерусалим народ со всех концов Иудеи и обратился к ним со следующим словом:
– Сограждане! Говорить обо всем, что сделано мною во время моего царствования, я теперь считаю излишним; впрочем, все это я сделал не столько для своей собственной славы, сколько в видах вашей же личной безопасности. И вот, после того как я не забывал о вас в многоразличных и крайних бедствиях и при сооружении разных построек думал менее о себе, чем о вашем благе, я полагаю, что мне с помощью и по желанию Предвечного удалось довести вас до такого цветущего благосостояния, которого раньше не достигал народ иудейский…
Был конец дня. Солнце клонилось к горизонту. Ирод стоял спиной к солнцу и лицом к народу. Тень от него, постепенно увеличиваясь, медленно ползла по площади и к концу его выступления достигла народа. Ироду показалось знаменательным, что эта тень легла на его подданных и, продолжая удлиняться, поползла по их головам. «Что бы это могло значить? – мелькнуло в мозгу Ирода, и тут же откликнулось ответом: – Мой храм освятит народ иудейский новой верой!» Ирод на минуту смутился таким ответом. «Какой новой верой? – спросил он себя. – Разве прежняя вера исчерпала себя? Неужто прав ессей Менахем, который полагает, что грядет полнота времени и Предвечный станет судить концы земли, а царю Своему даст крепость и вознесет рог помазанника Своего? Кто этот царь и кто помазанник Предвечного?»
Ирод помотал головой, как бы отгоняя от себя неуместные в разговоре с народом мысли, и, набрав в грудь побольше воздуха, зычно продолжал:
– Поэтому мне кажется теперь лишним говорить здесь вам, кто это сам прекрасно знает, о том, что я сделал для страны, сколько городов мы воздвигли в стране и вновь присоединенных к ней владениях, чем отличнейшим образом мы сами возвысились; здесь я хочу указать лишь на то, сколько поднимет наше благочестие и прославит нас то сооружение, приступить к которому я теперь имею в виду. Этот храм построили в честь Всесильного Бога наши отцы по возвращении из Вавилона; но ему не достает целых шестидесяти локтей в вышину, чтобы сравняться с древним Соломоновым храмом. Но пусть никто не вздумает при этом случае обвинять предков наших в недостатке благочестия. Они сами имели в виду соорудить его в должных размерах, но меры были тут предписаны им Киром и Дарием Гистаспом, которым и потомкам которых были подвластны наши предки, равно как впоследствии они были подчинены македонянам. Поэтому они не имели возможности построить храм такой высоты, какой бы требовали его прототип и их собственное благочестие. А так как я теперь, по милости Божьей, правлю самостоятельно, наслаждаюсь полным миром, у меня много денег и большие доходы, а, главным образом, так как к нам расположены и дружелюбны римляне, эти властители всего, как говорится, мира, то я попытаюсь исправить ошибку прежних времен, объясняющуюся стесненным положением зависимых людей, и воздам Предвечному дань благочестия за все те благодеяния, которыми Он осыпал меня во время этого моего царствования…
4
На описании этого Храма, уничтоженного в ходе Иудейской войны 66–73 гг. н. э., следует чуть подробней остановиться, воспользовавшись для этого рассказом упомянутого выше шведского библеиста XIX века Эрика Нюстрема:
«Так как евреи не допустили, чтобы храм Зоровавелев был сразу разрушен, то Ирод, уступая их желанию, убирал части старого храма по мере постройки новых, почему этот храм долгое время назывался «вторым храмом», хотя увеличенным и украшенным. Этот храм Ирода требует однако же особенного внимания, так как он украшал Иерусалим во дни нашего Спасителя. Он учил на его дворах и предвозвестил его гибель, когда ученики указывали Ему на роскошь и драгоценности храма. Этот храм, который со своими дворами занимал площадь 500 кв. локтей, или, по Талмуду, 250 кв. метров, т. е. почти то же пространство, что и теперешняя площадь Харам, был построен террасами, так что каждый из внутренних дворов был расположен выше внешнего, а самый храм возвышался на западной стороне и, обозреваемый из города и его окрестностей, представлял величественное зрелище. ”Учитель! посмотри, какие камни и какие здания!”, – сказал Иисусу один из Его учеников. Внешний двор, который был доступен также для язычников и нечистых, был окружен высокой стеной с несколькими воротами; он был вымощен разноцветными плитами; с трех его сторон шла двойная колоннада, а с четвертой, южной стороны – тройная колоннада под кедровой крышей, которая поддерживалась мраморными колоннами в 25 локтей вышиною. Эта южная колоннада, самая лучшая и большая, называлась царским портиком. Восточная была названа притвором Соломоновым, вероятно, как сохранившаяся с более древних времен. На этом внешнем дворе продавали волов, овец и голубей и сидели меновщики, предлагавшие деньги для размена. С внутренней стороны этот двор был отделен от внутренних дворов храма каменным парапетом в три локтя вышиною и террасой в десять локтей шириною. На этом парапете в нескольких местах были помещены доски с греческими и латинскими надписями, которые воспрещали не евреям – под страхом смертной казни – проходить дальше. Такая доска из Иродова храма недавно найдена в Иерусалиме с греческой надписью следующего содержания: ”Никакой иноплеменник не имеет доступа внутрь ограды и каменной стены вокруг храма. Кто будет застигнут в нарушении этого правила, пусть сам несет ответственность за смертную казнь, которая за это следует”. Даже римляне с уважением относились к этому запрещению. До какой степени евреи проявляли фанатизм по отношению к преступившим это запрещение, указывает случай с Павлом и Трофимом [310]. Самое место храма внутри этой преграды было со всех сторон окружено стеною, которая с внешней стороны была сорока локтей (20 метров) вышины, а с внутренней только 25 локтей (12,5 метров) вследствие уклона горы, так что туда должно было всходить по лестницам.
Сперва вступали на двор женщин, имевший 135 кв. локтей (67,5 кв. метров). Главные из ворот, которые вели во двор женщин, были восточные, или Никаноровы ворота, покрытые коринфской медью, которые назывались также Красными. Со двора женщин попадали через несколько ворот на расположенный выше вокруг здания храма большой двор – 187 локтей длины (с востока на запад) и 135 локтей ширины (с севера на юг). Часть этого двора была ограждена и называлась двором израильтян; внутренняя его часть называлась двором священников; здесь стоял большой жертвенник всесожжения 30 локтей длины и ширины и 15 локтей высоты, и умывальница, предназначенная для священников, а дальше, в западной части с входом с востока, находилось само здание храма…
Внешняя стена, которая окружала все дворы и возвышалась высоко над уровнем земли, представляла особенно с западной и южной сторон замечательнейший вид глубоких долин у подножия горы. Раскопки последних лет показали, что южная стена храма, которая возвышается на 20–23 метра над теперешней поверхностью, тянется сквозь массы развалин до 30 метров в глубину под землей, – следовательно, эта стена возвышалась на 50 метров выше горы, на которой она была построена. Вполне понятно, каких огромных трудов стоило возведение таких стен и планировка храмовой горы, особенно когда подумаешь о том, как огромны те камни, из которых складывались эти стены. Если посмотреть на большие каменные плиты, например, в «стене плача» или на «арке Робинзона», и подумать о том, что здесь стена опускается глубоко под землю, пока не достигает монолитной скалы, то не удивляешься изумлению, которое выражают Иосиф Флавий и ученики Христа.
Само здание храма было расположено двенадцатью ступенями выше двора священников, в северо-восточной части храмовой горы; оно было построено на новом фундаменте из огромных белых мраморных плит и богато выложено золотом внутри и снаружи. Его вышина и длина вместе с притвором достигала ста локтей, ширина с севера на юг от шестидесяти до семидесяти локтей; на каждой стороне притвора были выступы в двадцать (или 15) локтей, так что ширина его достигала ста локтей. Притвор внутри был десяти локтей в глубину (с востока на запад), пятьдесят локтей ширины и девяносто высоты, с порталом в семьдесят локтей вышины и двадцати пяти ширины без дверей, внутри сплошь покрытый золотом. Храм, как и прежний, был разделен на Святое и Святое Святых. Портал имел две открытые двухстворчатые двери, 55 локтей вышины и 16 локтей ширины, они служили входом в Святое; над ними было украшение в виде огромной золотой виноградной лозы с кистями в человеческий рост.
При входе висела вавилонская завеса, сотканная из священных цветов. В Святом, которое было 40 локтей длины, 20 ширины и 60 вышины, стоял золотой светильник, стол для хлебов предложения и жертвенник для курения. Стена с дверью и завеса отделяли Святое от Святого Святых, которое было 20 локтей длины и ширины и 60 высоты, и внутри было совершенно пусто. Эти и другие определения размеров Иродова храма нельзя считать безошибочными. По сведениям раввинов, между обоими помещениями не было стены, а только двойная завеса из двух полотнищ с промежутком в один локоть. Об этой завесе Талмуд говорит, что ”она была толщиною в ладонь, выткана из 72 нитей утока, причем каждая нить была скручена из 24-х нитей; она была 40 локтей длины и 20 ширины”. Это была та завеса, которая разодралась при смерти Христа. До крыши храма над Святилищем оставалось еще 40 локтей, которые, по всей вероятности, употреблялись как верхние горницы. С боковых и задней сторон храма были, равно как и в Соломоновом храме, пристройки в три этажа, внутри 10 локтей ширины и все вместе 60 локтей высоты, так что самый храм возвышался на 40 локтей выше их. Крыша была двухскатная, низкая, украшенная золотыми шпицами.
Уход за храмом и охрана его лежали на обязанности священников и левитов. Во главе стражи стояло пользовавшееся почетом лицо, называвшееся ”начальником стражи” при храме. Этот начальник упоминается наряду с первосвященником. Это же слово встречается также во множественном числе, когда говорится о его помощниках. Иосиф Флавий сообщает, что ежедневно требовалось 200 человек для закрывания ворот храма; из них 20 человек только для тяжелых медных ворот на восточной стороне.
Для защиты и охраны дворов храма служила также крепость Антония, расположенная в северо-западном углу храма, как раз там, где соединялись северная и западная колоннады. По Иосифу Флавию, она была построена на скале в 50 локтей вышиною и облицована гладкими каменными плитами, которые делали затруднительным ее взятие и придавали ей великолепный вид. Она была окружена стеною в 30 локтей вышины и снабжена четырьмя башнями, из которых три были в 50 локтей вышины, и четвертая на юго-востоке – 70 локтей, так что оттуда было видно все местоположение храма.
Этому роскошному храму, в притворах которого благовествовали Иисус и апостолы, ненадолго было дано сохранить свою славу. Мятежный дух народа наполнил его дворы насилием и кровью, так что Иерусалимский храм представлял подлинный вертеп разбойников. В 70 году после Рождества Христова он был разрушен при взятии Иерусалима Титом. Тит хотел пощадить храм, но римские солдаты сожгли его дотла. Священные сосуды были вывезены в Рим, где изображения их еще и теперь можно увидеть на триумфальной арке. На прежнем месте храма возвышается теперь мечеть Омара – роскошное восьмиугольное здание около 56 метров вышины и восьми сторон по 22,3 метра в окружности с величественным куполом; она называется также Куббет-ес-Сахра (”мечеть скалы”) по находящемуся внутри ее обломку скалы 16,6 метра длины и ширины, который, по преданию, был гумном Орны. Под основанием храма ниже поверхности земли можно еще и теперь ходить по огромным коридорам со сводами и колоннадами древних времен; но от самого храма не осталось и камня на камне».
5
А вот как описывал Храм Ирода Иосиф Флавий – живой свидетель главного творения нашего героя, видевший Храм во всем его великолепии до разрушения Иерусалима легионами Тита:
«Срыв древние фундаменты и возведя вместо них новые, [Ирод] воздвиг на них храм, длиной в сто локтей, шириной в сто, вышиной же в сто двадцать локтей, из которых последние двадцать с течением времени ушли в землю, когда фундамент опустился. Впрочем, возвести эти добавочные двадцать локтей мы собирались во времена Нерона. Храм был сооружен из прочных белых камней, из которых каждый имел в длину двадцать пять, в вышину восемь, а в ширину около двенадцати локтей. Все здание, подобно царскому чертогу, понижалось к краям, тогда как высшей частью являлась середина, так что ее можно было видеть издалека на расстоянии многих стадий; особенно же хорошо видно было это тем, кто жил как раз напротив здания или подходил к нему. Входные двери и их карнизы были, наподобие входа в сам храм, украшены пестрыми занавесами, на которых были вышиты узорами цветы и которые свешивались со столбов. Сверху над входом с фриза свешивалась золотая виноградная лоза, кисти которой спадали вниз. Зрители поражались в одинаковой мере как величиной, так и искусством этого украшения, равно как ценностью употребленного на него материала. Царь окружил здание храма рядами покоев, которые все находились по величине своей в соответствии со зданием храма. При этом он потратил на них такое множество денег, что, казалось, никто раньше его не мог так украсить храм. Эти здания покоились на огромной стене, в свою очередь представлявшей одно из замечательнейших человеческих сооружений. Гора, на которой стоял храм, представляла значительный каменистый холм, постепенно повышавшийся к восточной стороне города и оканчивавшийся там крутой вершиной. По повелению Предвечного первый наш царь Соломон вершину этого холма отделил и обстроил крупными сооружениями, равно как воздвиг стену и снизу у подошвы холма, там, где открывается глубокое ущелье. Тут он постепенно охватил края холма большими, соединенными свинцовыми скрепами, глыбами камня, так что в конце концов получилась четырехугольная терраса, удивительная как по своему объему, так и по высоте, на которой она находится. Огромные глыбы показывали снаружи всю свою величину, тогда как внутри они были связаны между собой прочными железными скреплениями, делавшими их устойчивыми навеки. Когда это сооружение было таким образом доведено до вершины холма, царь велел сравнять верх тем, что засыпал промежуток между скалой и стеной и устроил таким образом совершенно гладкое и ровное место без выступов. Вся окружность этой площади обнимала в совокупности четыре стадии, причем каждая сторона ее имела одну стадию в длину. Внутри, вокруг всей вершины горы, тянулась еще стена, к которой с востока примыкала двойная галерея одинаковой со стеной длины и лежала как раз напротив находившегося в центре площадки входа в здание храма. Эту галерею украсили многие из прежних царей. Вокруг всего здания храма тянулись прибитые к стенам доспехи варваров, и к этим трофеям, которые Ирод опять поместил теперь на их прежнем месте, он присоединил еще доспехи, отнятые им у арабов.
С северной стороны этого сооружения была построена прямоугольная сильная крепость, славившаяся своей неприступностью. Ее воздвигли еще предшественники Ирода, цари и первосвященники из дома хасмонейского, и назвали ее Варис. Здесь сохранялось у них священное облачение, которое надевал на себя только первосвященник в случае необходимости принести жертву. Также и Ирод сохранял здесь это облачение…
В западной стене, окружавшей все храмовые постройки, было четверо ворот. Одни из них вели к царскому дворцу, причем необходимо было пересечь лежавшую по пути котловину, двое вели к предместью города, а четвертые ворота обращены были к самому городу. При этом спуск в ложбину и выход из нее совершались по ряду специально устроенных для того ступеней. Город лежал как раз напротив святилища, образуя амфитеатр, за которым с южной стороны тянулось глубокое ущелье.
Фасад святилища также имел с южной стороны в середине входы и вместе с тем тройную царскую галерею, тянувшуюся от восточного до западного склона в долину; провести ее дальше оказалось невозможным. Это было одно из самых замечательных сооружений в мире. Дело в том, что долина была так глубока, что голова кружилась, если смотреть в нее сверху; а тут была построена еще громадная галерея, так что у каждого кружилась голова еще раньше, чем взор достигал дна долины, потому что здесь присоединялась глубина последней к высоте галереи. Вместе с тем с одного конца галереи до другого были воздвигнуты четыре параллельных ряда колонн; из них последний, четвертый ряд входил в самую стену здания. Толщина каждой колонны была так значительна, что для обхвата ее требовалось три человека; высота каждой достигала двадцати семи футов, причем подножие ее составляло двойную базу. Всех колонн было сто шестьдесят две; капители их были снабжены коринфскими украшениями и поражали тонкостью своей работы. Так как колонны тянулись четырьмя рядами, то получались три крытые галереи. Из них две были совершенно одинаковы, а именно – имели по тридцать футов в ширину, по стадии в длину и более чем по пятидесяти футов в вышину. Ширина же средней галереи была в полтора, а высота в два раза больше крайних галерей, так что она значительно возвышалась над последними. Крыши этих зданий были украшены рельефными резными деревянными изображениями. Крыша средней галереи была выше прочих, и кругом вдоль стены были поставлены небольшие колонки, делившие все пространство на отдельные поля. Все это было так гладко и отполировано, что иной, кто не видал этого, пожалуй, и не поверит, и что никто не мог взирать на это без величайшего изумления.
Такова была внешняя ограда храма. Внутри, в небольшом от нее расстоянии, была другая, снабженная несколькими ступенями. Она образовалась из каменной стены, на которой находилась надпись, под страхом смертной казни запрещавшая иностранцам доступ сюда. Эта внутренняя ограда имела на южной и северной стороне по три входа, отстоявших друг от друга на равном расстоянии, с восточной же стороны одни большие ворота, через которые входим мы с женами своими в состоянии ритуальной чистоты. За этой оградой находилось недоступное женщинам святилище, а дальше третье отделение, доступ куда был открыт одним только священнослужителям. Тут находился самый храм, а перед ним возвышался алтарь, на котором мы приносим Господу Богу жертвы всесожжения. Ни в одно из этих трех отделений царь Ирод не вступал, – ему это было запрещено как не священнослужителю; он лично участвовал лишь в возведении галерей и внешних стен, которые и были воздвигнуты им в течение восьми лет.
Сам храм был отстроен священнослужителями за один год и шесть месяцев. Весь народ преисполнился радости и возблагодарил Господа Бога, во-первых, за быстрое окончание работы, а затем и за ревность царя. При этом они устроили радостный праздник в честь освящения храма. Царь принес в жертву Предвечному триста волов; остальные жертвовали каждый сообразно своим средствам; впрочем, невозможно установить совершенно точное число принесенных тогда в жертву животных. При этом день освящения храма совпал с днем восшествия царя на престол, – а этот день уже тогда праздновался, – и поэтому теперь празднество отличалось особенным блеском.
Вместе с тем был сооружен для царя также подземный ход, ведший от цитадели Антония до самого храма, вплоть до восточного входа. Тут Ирод воздвиг себе башню, куда он мог проникнуть подземным ходом, если бы пришлось опасаться народных волнений. Существует предание, что во все время производства работ по постройке храма днем ни разу не было дождя, который шел исключительно ночью, чтобы не препятствовать правильному ходу работ. Это предание сохранилось у нас от предков. Оно вполне правдоподобно, потому ведь и в других случаях виден был перст Божий».
6
Пока строился новый Храм, постепенно освобождаясь от стен старого, Ирода одолевали сомнения, подобные тем, какие одолевали при возведении первого Храма Соломона: «Богу ли жить на земле? Небо и небо небес не вмещают Его, тем менее сей храм, который я строю» [311]. Мысли эти не давали ему покоя, он вносил все новые и новые уточнения в чертежи Храма, стремясь достичь максимального величия и соразмерности всех его частей. Отчасти этой требовательностью к себе можно объяснить тот факт, что Храм Ирода так и не был при жизни его достроен окончательно. Тем не менее народ, увидев новый Храм освободившимся от строительных лесов и поразившись его великолепию, счел, что к нему больше нечего прибавить и ничего от него не убавить, и посмотреть на него, принести в нем жертвы Предвечному и помолиться Ему толпами потянулись иудеи из самых дальних стран, куда забросила их судьба. Тогда-то Ирод, внутренне все еще недовольный своим главным детищем, решился освятить Храм, благо день, выбранный для освящения, совпал с очередной годовщиной его победы над Антигоном и началом фактического царствования над Иудеей.
В Иерусалим съехалось неисчислимое множество народа и гостей из ближних и дальних стран. Неподдельному восторгу людей не было предела. В числе почетных гостей, которых Ирод пригласил на освящение, были Николай Дамасский и ессей Менахем. Николай, превыше всего ценивший прекрасное в природе и человеке и вслед за Аристотелем полагавший его проявлением порядка в пространстве и соразмерности всех составляющие его частей, даже не пытался скрыть своего восхищения. По внешнему виду Менахема, которому, в отличие от Николая Дамасского, было дозволено осмотреть весь храм и составить о нем более полное представление, трудно было угадать, какое у него сложилось впечатление. Закончив осмотр, он присоединился к дожидавшимся его во дворе язычников перед Никаноровыми воротами Ироду и Николаю Дамасскому, и по своему обыкновению улыбался, лукаво поглядывая на царя. Тот в конце концов не выдержал его взгляда и спросил:
– Что скажешь, пророк?
Менахем вместо ответа на прямо поставленный вопрос, воздел глаза к необыкновенно ясному в это утро небу, на котором из одного его края до другого раскинулась по-праздничному нарядная радуга, и процитировал слова молитвы соломоновой, произнесенной в день освящения первого храма:
– «Да будут очи Твои отверсты на храм сей день и ночь, на сие место, о котором Ты сказал: “Мое имя будет там”…» [312].
Ирода не удовлетворил такой ответ ессея.
– Только имя? – спросил он. – Я рассчитывал, что Предвечный поселится здесь.
И снова Менахем ответил уклончиво:
– Похоже, сбылось реченое Всевышним: «Се, Дева во чреве приимет, и родит Сына, и нарекут имя ему: Еммануил» [313].
Ирод стал сердиться.
– Не хочешь ли ты, пророк, сказать этим, что храм свой я построил не для Предвечного, а для Сына Его? – спросил он.
– Обещанного народу нашему Искупителя и Царя, – поправил его Менахем, – Которому даст крепость Свою и станет судить через Него народы во всех концах земли.
Ирод почувствовал легкий укол в сердце. «Царя!» У Иудеи уже есть царь, этот царь – он, Ирод, и Сам Предвечный признает это, доказательством чему служит эта роскошная радуга, раскинувшаяся во все небо.
В сладком предвкушении чего-то необычного, что откроется ему сегодня при освящении Храма, Ирод спросил еще:
– По каким признакам можно будет определить, что обещанный Предвечным Искупитель и Царь явится пред нами и поселится в Храме, построенном мною? – Ироду хотелось, чтобы Менахем, наделенный даром пророчества, если и не сказал бы прямо, то хотя бы намекнул на то, что Сын Предвечного явится – или уже явился? – миру точно так же, как являются в мир все другие дети, ничем внешне не отличаясь от них. Разве не сам Менахем, впервые увидев Ирода-ребенка, угадал в нем будущего царя Иудеи? Ирод буравил Менахема взглядом, как если бы хотел внушить ему произнести вслух слова пророка Исаии: «Он будет питаться молоком и медом, доколе не будет разуметь отвергать худое и избирать доброе» [314].
Ессей действительно ответил словами Писания. Но не теми, которые ожидал услышать от него Ирод, а другими:
– «Даст знак Господь мухе, которая при устье реки Египетской, и пчеле, которая в земле Ассирийской, – и прилетят, и усядутся все они по долинам опустелым, и по расселинам скал, и по всем колючим кустарникам, и по всем деревам. В тот день обреет Господь бритвою, нанятою по ту сторону реки, царем Ассирийским, голову и волоса на ногах, и даже отнимет бороду. И будет в тот день: кто будет содержать корову и двух овец, по изобилию молока, которое они дадут, будет есть масло; маслом и медом будут питаться все, оставшиеся в этой земле» [315].
– О чем это он? – спросил Ирода Николай Дамасский, вконец запутавшийся в существе разговора между царем и Менахемом, невольным слушателем которого стал.
– Пророчествует о наступлении времен, – ответил разочарованный ответом Менахема Ирод, – когда все мы превратимся в ессеев, и каждый из своего станет давать другому все, что ему нужно, и получать у товарища то, в чем сам нуждается.
– Хорошо бы при этом, – заметил Николай Дамасский, – чтобы у каждого в изобилии было все, из чего можно часть отдать другому, а у товарищей наших то, в чем мы испытываем нужду.
Ночью Ироду приснился обритый наголо Бог с размытыми чертами лица; Бог этот держал руку Свою на руке Ирода и говорил:
– Вот, Отрок Мой, которого я держу за руку, избранный Мой, к которому благоволит душа Моя. Положу дух Мой на него, и возвестит народам суд. Не возопиет и не возвысит голоса Своего, и не даст услышать его на улицах. Трости надломленной не переломит, и льна курящегося не угасит; будет производить суд по истине; не ослабеет и не изнеможет, доколе на земле не утвердит суда, и на закон Его будут уповать острова [316].
Волосы на голове Бога стали отрастать, появилась и стала расти борода, черты лица проясняться, и вот вместо Бога перед Иродом возник Менахем. Ирод спросил его:
– Скажи, как могло случиться, что я, не еврей, стал царем над евреями?
– Разве неведомо тебе, что власть не от рода в род? [317]– отвечал ему Менахем, и всегдашняя улыбка исчезла с губ его, а глаза сделались грустными. – Никому не дано предугадать помыслы Предвечного.
– Когда-то, когда я был еще ребенком, ты напророчествовал, что я буду царствовать счастливо, – напомнил Ирод.
– А разве ты не счастлив? Боюсь только, что ты забыл о моих ударах. А удары те должны были послужить тебе знаком переменчивости судьбы. Все было бы прекрасно, если бы ты всегда любил справедливость и благочестие, равно как всегда был мягок со своими подданными. Но я, который знает все, знаю, что ты не таков. Правда, ты счастлив, хотя и не сознаешь этого, и будешь счастлив и впредь, как никто другой, и обретешь вечную славу. Но вместе с тем ты забудешь о благочестии и справедливости. Тень испытаний и искушений лежит на доме твоем, как твоя собственная тень легла на народ твой, когда ты задумал возвести храм Предвечному. Сказано: «Не верьте другу, не полагайтесь на приятеля; от лежащей на лоне твоем стереги двери уст твоих. Ибо сын позорит отца, дочь восстает против матери, невестка – против свекрови своей; враги человеку – домашние его» [318]. Все это известно Предвечному, и в конце своей жизни ты вспомнишь о Его гневе на тебя. А теперь я возвращаюсь к братьям моим, я загостился у тебя.
– Подожди, побудь со мной еще немного, – попросил Ирод. – Скажи, как долго я буду еще властвовать над Иудеей?
Менахем, казалось, не слышал его.
– Будет ли мое царствование продолжаться десять лет? – спросил еще Ирод.
– И двадцать лет, и тридцать, – ответил Менахем. – Мне пора.
– Разве тебе плохо в доме моем? – спросил Ирод.
– Мне пора, – повторил Менахем.
– Скажи хоть, что надлежит мне делать?
– Тебе это лучше ведомо, – сказал Менахем. – Не пристало мне, червю в сравнении с тобой, поучать царя, что ему надлежит делать. Ты избран Предвечным, и через испытания и искушения, которые ниспосылает на тебя Господь, Он творит твоими руками будущее.
Наутро Ирод, проснувшись, не удивился, когда ему доложили, что ночью ессей покинул дворец. Не удивился он и сообщению ночной стражи о том, что некий оборванец, при котором не обнаружено решительно ничего, что могло бы навести на мысль о его злокозненности, назвался гостем Ирода, который пришел в Иерусалим на освящение храма Господня, а теперь возвращается к своим братьям.
Глава третья ИСПЫТАНИЯ И ИСКУШЕНИЯ
1
В день, когда Менахем покинул Иерусалим, над городом разразился страшной силы ураган. Он принес с собой черные клубящиеся тучи, пролившиеся буйным дождем. Низкие голубые молнии разрывали небо и сопровождались оглушительным громом. Ветер вырывал с корнем деревья, бросал на землю, где их подхватывали бурлящие мутные потоки и несли вдоль узких улиц, образуя преграды. Ураганом и дождем были полностью сметены постройки на базарной площади, сломанные деревья задавили насмерть женщину с ребенком, одного вола и двух ослов. От очередного удара молнии загорелся дом бедняка в Нижнем городе, и огонь от него грозил перекинуться на соседние постройки.
Иерусалимцы, не зная, за что им такая напасть, бежали под надежные стены Храма, где находили спасение от разыгравшейся стихии. Первосвященник Иисус, сын Фабия, желая успокоить их, читал им стихи о злоключениях праведника Илии, бежавшего к горе Хорив от преследований бесстыдной любодейки Иезавели, подучившей своего мужа, царя Ахава, и весь народ израильский творить бесстыдное пред очами Предвечного: «И вошел он там в пещеру, и ночевал в ней. И вот, было к нему слово Господне, и сказал ему Господь: чтó ты здесь, Илия? Он сказал: возревновал я о Господе, Боге Саваофе; ибо сыны Израилевы оставили завет Твой, разрушили Твои жертвенники, и пророков Твоих убили мечем; остался я один, но и моей души ищут, чтоб отнять ее. И сказал [Господь]: выйди и стань на горе пред лицем Господним. И вот, Господь пройдет, и большой и сильный ветер, раздирающий горы и сокрушающий скалы пред Господом; но не в ветре Господь. После ветра землетрясение; но не в землетрясении Господь. После землетрясения огонь; но не в огне Господь. После огня веяние тихого ветра…» [319]
Стихия, обрушившаяся на Иерусалим, прекратилось столь же внезапно, как и началась. Следом за ней наступила затяжная засуха. Столица Иудеи изнемогала от зноя, растительность в городе и вне стен его пожухла, обезвоженная земля потрескалась. Засуха стала быстро распространяться по окрестностям и вскоре охватила всю страну. Урожай погиб полностью. Земля не дала и того, что обыкновенно дает, даже если ее не возделывают. Люди и скот подъели припасы, остававшиеся с прошлого года, а когда исчезли и эти припасы, наступил голод. Вместе с голодом в Иудею пришли болезни. Люди и скот умирали тысячами. Казалось, сам Предвечный наслал на страну мор, дабы свершилось реченое в Писании: «Как потускло золото, изменилось золото наилучшее! камни святилища раскиданы по всем перекресткам. Сыны Сиона драгоценные, равноценные чистейшему золоту, как они сравнены с глиняною посудою, изделием рук горшечника! И чудовища подают сосцы и кормят своих детенышей, а дщерь народа моего стала жестока подобно страусам в пустыне. Язык грудного младенца прилипает к гортани его от жажды; дети просят хлеба, и никто не подает им. Евшие сладкое истаивают на улицах; воспитанные на багрянице жмутся к навозу. Наказание нечестия дщери народа моего превышает казнь за грехи Содома: тот низринут мгновенно, и руки человеческие не касались его. Князья [320]ее были в ней чище снега, белее молока; они были телом краше коралла, вид их был, как сапфир; а теперь темнее всего черного лице их; не узнают их на улицах; кожа их прилипла к костям их, стала суха, как дерево. Умерщвляемые мечем счастливее умерщвляемых голодом, потому что сии истаивают, поражаемые недостатком плодов полевых. Руки мягкосердных женщин варили детей своих, чтоб они были для них пищею во время гибели дщери народа моего» [321].
Шпионы Ирода доносили, что в бедах, обрушившихся на страну, народ обвиняет царя, припоминая ему все его прежние прегрешения вплоть до строительства городов и храмов в чужих городах, на которые он истратил все имевшиеся в казне деньги. Ирод вспомнил свой последний разговор с Менахемом и его слова: «Ты избран Предвечным, и через испытания и искушения, которые ниспосылает на тебя Господь, Он творит твоими руками будущее». «Что означают эти слова ессея? – думал Ирод. – Какое будущее хочет видеть Предвечный, ниспосылая на меня испытания и искушения?»
Голод и болезни поразили не только Иудею, но и соседние страны, пощадив один лишь Египет: там из-за ежегодных разливов Нила, питающих водой и илом почву, урожай выдался обильней обычного. А голод и болезни в Иудее продолжали уносить все новые и новые тысячи жизней. Люди, подъев прошлогодние припасы, съели теперь подчистую и семена, предназначавшиеся для будущих посевов. Страна оказалась на краю гибели, и спасти ее могло только чудо.
В это трагичное для Иудеи время Ирод все чаще обращался к Священному писанию, стремясь найти в нем если не ответы на свои вопросы, то хотя бы подсказку, как ему следует поступать, дабы свершилось чудо. Порой ему казалось, что он нащупывал такую подсказку и чудо вот-вот произойдет: «Раздели с голодным хлеб твой, и скитающихся бедных введи в дом; когда увидишь нагого – одень его, и от единокровного твоего не укрывайся. Тогда откроется, как заря, свет твой, и исцеление твое скоро возрастет, и правда твоя пойдет пред тобою, и слава Господня будет сопровождать тебя» [322]. Ирод открыл государственные закрома и отдал народу все, что там хранилось. Однако и эта мера не помогла покончить с голодом и болезнями: хранимое в закромах съестное исчезло в считанные дни, и голод, терзавший Иудею, оказался еще страшнее и нестерпимей.
Досадуя на себя, Ирод отбросил прочь Священное писание и в ярости прокричал, воздев кулаки и грозя ими небу: «Что Тебе еще требуется, чтобы засуха прекратилась и земля научилась рождать, как рождала прежде? Жизнь моя? Ну так возьми ее!» Ответом ему были молчание и сухой зной, заполнивший все окрест, не пощадив и его дворец. Тогда он опустил кулаки, подошел к свитку, валяющемуся на полу, и поднял его. Растрепавшийся свиток открылся ему стихами. Ирод бегло пробежал их глазами, не очень вникая в их содержание, но что-то привлекло краешек его сознания к этим стихам. Он перечитал их еще раз, уже внимательней, и, наконец, прочитал вслух: «И возроптало все общество сынов Израилевых на Моисея и Аарона в пустыне. И сказали им сыны Израилевы: о, если бы мы умерли от руки Господней в земле Египетской, когда мы сидели у котлов с мясом, когда мы ели хлеб досыта! ибо вывели вы нас в эту пустыню, чтобы все собрание это уморить голодом. И сказал Господь Моисею: вот, Я одождю вам хлеб с неба; и пусть народ выходит и собирает ежедневно, сколько нужно на день, чтобы Мне испытать его…» [323]
Смысл прочитанных стихов оказался таким простым и ясным, что злость Ирода исчезла, и он рассмеялся. «Вот ключ к чуду, который я искал! – подумал он. – Благодарю тебя, Господи, за то, что Ты просветил меня». Оставалось только отпереть обнаружившимся в Священном писании ключом чудо, и оно свершится. И Ирод, не мешкая, стал действовать.
Специальным указом он освободил всех своих подданных от уплаты налогов и пошлин за текущий и будущий год. Затем он приказал собрать всю серебряную и золотую посуду, имевшуюся в его дворце, всю художественную утварь, снять со стен и потолков украшения из драгоценных металлов, и все эти сокровища переплавил в деньги. Получилась сумма, на которую можно было приобрести в достаточном количестве в том же Египте зерно, несмотря на страшно подскочившие цены. Ситуация осложнилась тем, что в Египет кинулись скупать зерно и цари из соседних с Иудеей стран, что еще больше повысило цены. Тогда Ирод прибег к хитрости: воспользовавшись тем, что наместником Египта в то время был давний друг Антония Петроний, он обратился за содействием непосредственно к нему. Петроний, благодарный Ироду за память, которую тот сохранил об их общем друге возведением в Иерусалиме башни, равно как ценивший добрые отношения, сложившиеся между ним и Октавием, пошел навстречу царю Иудеи и предоставил ему право первым приобрести в Египте по льготным ценам зерно и вывезти его на родину.
Однако для того, чтобы снять проблему голода, мало было скупить и доставить в Иудею в достаточном количестве хлеб; необходимо было разумно распределить этот хлеб среди населения. Ирод справился и с этой непростой задачей: он приказал правительству, возглавляемому расторопным Птолемеем, на основании имеющихся у него записей об имущественном положении жителей Иудеи, по которым взимались налоги, разделить их на категории. В первую категорию вошли те, кто был в состоянии самостоятельно готовить себе пищу и возделывать землю под будущий урожай. Эти люди получили хлеб и зерно для посевов в первую очередь. Вторую категорию составили те, кто по возрасту или болезни не мог обеспечить себя и свои семьи продовольствием. Для людей этой категории Ирод снабдил в достаточном количестве зерном пекарни по всей стране, обязав пекарей ежедневно снабжать свежим хлебом стариков и немощных. В третью категорию вошли вдовы и их малолетние дети-сироты, нуждающиеся в государственной поддержке. В отдельную категорию были выделены те, кто, лишившись скота, одновременно лишился возможности обеспечить себя теплой одеждой на надвигавшуюся зиму. Когда и эти лица были взяты под государственную опеку, Ирод позаботился о своих ближайших соседях, отправив в Сирию и Аравию семена для посевов.
Иосиф Флавий следующим образом обрисовал деятельность Ирода по ликвидации голода, обрушившегося на Иудею и соседние с нею страны: «Не было такого лица, постигнутого нуждой, которому [Ирод] не помог бы сообразно средствам; при этом он оказал поддержку даже целым народам и городам, не говоря уже о тех частных лицах, которые впали в нужду вследствие многочисленности своих семей. Все, кто обращались к нему, получали просимое, так что по точному подсчету оказалось, что царь раздал иностранцам десять тысяч кóров [324]хлеба, а своим подданным – около восьмидесяти тысяч. Эта заботливость и своевременная помощь царя настолько упрочили его положение среди иудеев и так прославили его у других народов, что возникшая прежде к нему ненависть из-за введения новых порядков в царстве теперь прекратилась у всего народа, потому что царь своей щедрой помощью в столь опасную минуту примирил с собой всех. Слава его росла за пределами его владений, и казалось, что все это постигшее страну горе было предназначено лишь для того, чтобы увеличить его популярность. Так как Ирод во время бедствия выказал столь неожиданное великодушие, то отношение простонародья к нему совершенно изменилось: народ смотрел теперь на него не так, как привык судить о нем по его прежним деяниям, а видел в нем своего заступника в беде».
Вмешательство Ирода помогло народу выжить в невероятно сложных условиях и своевременно провести посевную кампанию. Когда же наступило время жатвы, он разослал по всей Иудее пятьдесят тысяч жнецов, содержание которых взял на себя, и тем самым обеспечил сбор урожая без малейших потерь.
2
В это же время по Иерусалиму распространился слух о некоем александрийском священнике Симоне, сыне Боэта, предки которого бежали в Египет еще при Александре Яннае и который возвратился теперь в Иерусалим с дочерью. Дочь эта, говорили люди, видевшие ее, отличалась невероятной красотой, а кое-кто даже сравнивал ее с красотой безвинно погибшей жены Ирода Мариамны. Случайность то была или знак свыше, но и девушку эту звали Мариамной. Заинтригованный Ирод пожелал познакомиться с таинственной александрийкой, для чего устроил пир, на который пригласил Симона с дочерью.
Мариамна оказалась моложе его сыновей Александра и Аристовула, подаренных ему его Мариамной, не говоря уже об Антипатре, рожденном Дорис, и внешностью она действительно походила на его покойную жену – с той, однако, разницей, что его Мариамна синеглазой, а у дочери Симона были карие глаза.
При первом же взгляде на дочь страшно смущавшегося, не знавшего, куда деть свои руки Симона, Ирод почувствовал к ней влечение. В какую-то минуту ему захотелось даже выйти из-за стола и увести девушку в свою спальню. Лишь усилием воли он подавил в себе внезапно вспыхнувшую страсть, которую вызывала в нем его Мариамна. Чувства, охватившие Ирода, не остались незамеченными со стороны его близких, а заметно постаревшая Дорис, по своему обыкновению облизывавшая пальцы, выпачканные сочным мясом, заметила:
– Кажется, в нашей семье ожидается прибавление в лице дочери простого священника.
– Первосвященника, – поправил жену Ирод. И спросил, обращаясь к Симону: – Ты уже видел новый Храм, который я посвятил Предвечному?
– Это было первое, что побудило меня приехать в Иерусалим и навсегда поселиться здесь, – робко ответил тот, со страхом глядя на Дорис.
– Новому Храму нужен новый первосвященник, – сказал Ирод. – И этим первосвященником станешь ты.
Симон окончательно растерялся.
– Но в Иудее уже есть первосвященник, – слабо возразил он, – и имя этому первосвященнику Иисус, сын Фабия.
– Абсолютно никчемная личность, – презрительно произнес Ирод. – Когда на Иудею обрушился голод, он не нашел ничего умнее, как обвинить в этом голоде меня. Ты, Симон, я уверен, лучше справишься с обязанностями первосвященника.
– Но согласится ли синедрион признать меня первосвященником? – совсем уж робко спросил Симон, и в глазах его отразился ужас.
– Согласится, – сказал Ирод. – Синедрион давно нуждается в сильном властном первосвященнике, и я не сомневаюсь, что именно таким первосвященником станешь ты, Симон, сын Боэта. – Движением головы приказав слугам наполнить кубки вином, он поднял свой кубок и провозгласил здравицу: – Предлагаю выпить за нового первосвященника Симона и его прекрасную дочь Мариамну!
Дорис снова не удержалась от колкой реплики.
– Новую невесту царя Иудеи Ирода, – сказала она.
Ирод, вопреки ожиданию присутствующих за столом людей, хорошо знавших его непредсказуемый нрав, не рассердился, а, улыбнувшись, поддержал жену:
– Выпьем за Симона, сына Воэта, и мою невесту Мариамну, – и первым осушил свой кубок до дна.
Сестра Ирода Саломия нахмурилась и сердито посмотрела на Симона, точно бы требуя от него, чтобы тот отклонил тост царя. Дорис же, довольная, что угадала истинные намерения Ирода, устроившего пир, расхохоталась так искренне, что выронила полуобглоданную кость, выпачкав свое новое платье.
Привыкший в делах личного свойства к незамедлительному исполнению однажды принятого решения, Ирод тотчас после избрания синедрионом на должность первосвященника Симона легко добился от него согласия выдать свою дочь Мариамну за него замуж. Свадьбу сыграли с необыкновенной пышностью. Ирод с обожанием смотрел на невесту, находя в ней все больше сходства с покойной Мариамной. Однако брачная ночь, проведенная с новой женой, принесла Ироду одно лишь разочарование. Походя внешне на покойную жену, юная Мариамна не обладала ни ее страстью, ни ненасытностью в постели, ни ее манерами. Это обстоятельство и стало причиной того, что уже через год Ирод женился еще раз, избрав себе новой женой самаритянку Мальфаку. Но и Мальфака ничем не походила на его прежнюю Мариамну, так что следом за ней он женился на простолюдинке из Иерусалима Клеопатре, потом были еще и еще жены. Ни с одной из них Ирод не был так счастлив, как с первой своей Мариамной, внучкой Гиркана и дочерью Александры, ни одну не любил так страстно, как ее, и ни одну не ревновал так безумно, как ревновал казненную по его приказу Мариамну [325].
3
После женитьбы Ирода на дочери Симона сыновья его Александр и Аристовул стали замкнуты больше обычного. И без того сторонившиеся людей, они, обретя новую мачеху, стали демонстративно избегать ее, и, если не считать занятий с учителями, старались уединиться и могли часами сидеть где-нибудь в закутке, не проронив ни слова и уставившись взглядом в одну точку.
Ироду тяжело было видеть такую перемену в своих сыновьях. Он чувствовал свою вину перед детьми, а то обстоятельство, что мальчики лишились матери по его вине, делало его вину особенно тяжкой. Чтобы отвлечь сыновей от их одиночества и отвлечься самому от мыслей об их матери, которую он все еще продолжал любить, Ирод решил отправиться с ними в путешествие, благо обстановка в Иудее стабилизировалась, правительство справлялось со своей работой, а новый первосвященник, вопреки ожиданию, оказался человеком деятельным и, в силу своего терпимого характера, легко примирял между собой людей с самыми разными взглядами. Смена обстановки, полагал Ирод, пойдет на пользу как его мальчикам, так и ему самому.
С выбором цели путешествия долго ломать голову не пришлось: Ирод давно не был в Риме, а Александр и Аристовул вообще никогда там не были, и потому Ирод решил отправиться в Рим. По тому, как зажегся огонек в потускневших глазах Александра и Аристовула, напоминавших глаза их матери, Ирод догадался, что предложение увидеть Рим заинтересовало его сыновей. Отправив в мировую столицу Николая Дамасского, чтобы тот подготовил все необходимое к его визиту, Ирод стал готовиться к отъезду.
Рим удивил прежде всего самого Ирода. За те двенадцать с небольшим лет, прошедших со времени его первого и последнего пребывания здесь, город переменился неузнаваемо. Напоминавший прежде большую свайную деревню, он разросся вширь, далеко шагнув за Сервиеву стену [326]. Еще не отдохнувших с дороги детей Ирод сразу же повел на Марсово поле, где их сверстники под присмотром воспитателей занимались спортивными упражнениями. Заключенная в изгибе Тибра громадная площадь, во все времена года покрытая подстриженной зеленой травой, произвела на Александра и Аристовула большее впечатление, чем знаменитые римские холмы. Мальчики во все глаза смотрели на толпы своих сверстников, упражнявшихся в беге и спортивной борьбе, там и сям сновали экипажи вперемешку с наездниками, и веселый гомон парил в воздухе. Площадь окружали великолепные здания и памятники, лабиринт портиков с колоннами, покрытый сводчатыми, украшенными фронтонами крышами, а за портиками, насколько хватал глаз, виднелись рощи и поля, плавно переходящие в возвышающиеся полукругом по ту сторону реки холмы и склоны. Сыновей Ирода привело в восторг то, что все Марсово поле можно было обойти под крышами колонн, число которых, как сообщил им пожилой важный римлянин, приглядывавший за своими резвящимися воспитанниками, составляло ровно две тысячи. Забавными выглядели надписи внутри портиков, указывавшие расстояние между отдельными колоннами в футах. По этим надписям можно было легко подсчитать, сколько шагов предстоит прогуливающимся сделать, чтобы покрыть расстояние в одну милю. Казалось, что самый Рим в сравнении с Марсовым полем может представиться чем-то второстепенным, не заслуживающим внимания. Но это было обманчивое впечатление. Стоило Ироду с Александром и Аристовулом войти в город, как архитектурные постройки Капитолия и Палатина заставили забыть о красотах Марсова поля. На месте прежних грязных улочек с домами, построенными из дерева, глины и соломы, появились мощенные брусчаткой проспекты с белокаменными дворцами, храмами и общественными зданиями.
Ирод поведал детям, что проспекты в Александрии и Антиохии шире римских, но зато римские дома превышают тамошние постройки по высоте. Если, сказал Ирод, дома Рима представить себе одноэтажными и выстроить их в одну линию, то ими окажется покрыта вся Италия от Тирренского моря до Адриатического. И Ирод, и его сыновья не уставали восхищаться новыми постройками Октавия, украсившими Рим. Они подолгу стояли у храма Юпитера Громовержца на Капитолии и ходили вокруг форума с храмом Марса Мстителя и святилища Аполлона на Палатине неподалеку от дворца самого Октавия, куда, однако, Ирод не спешил войти со своими сыновьями прежде, чем они наберутся впечатлений. Сведущие римляне, когда Ирод обращался к ним с вопросами о происхождении той или иной постройки, охотно рассказывали им, что, например, новый форум Октавий воздвиг потому, что два прежних не вмещали уже толпы народа, стекавшиеся сюда для рассмотрения бесчисленного множества судебных дел. Что касается храма Марса, то Октавий приступил к его строительству в исполнение обета, данного богам в самом начале филиппийской войны, в которой он мстил за убийство Гая Юлия Цезаря, и предназначил его для заседаний сената, где принимались решения об объявлении войн и назначений триумфов. Святилище Аполлона он воздвиг в той части Палатинского холма, которую бог сам избрал ударом молнии, а к храму Октавий присоединил портик с библиотекой, где хранились все известные на то время латинские и греческие книги. Юпитеру Громовержцу Октавий посвятил храм в память об избавлении от опасности, когда во время кантабрийской войны при ночном переходе молния ударила буквально в трех шагах от его носилок и убила раба, шедшего впереди с факелом.
Из дальнейших рассказов словоохотливых римлян Ирод и его сыновья узнали, что Октавий украсил свою столицу не только от собственного имени, но и от имени родных и близких ему людей, а когда у него не хватало средств, обращался за содействием к гражданам, которые охотно вносили свой вклад в украшение Рима. Так в Риме появился храм Геркулеса, построенный Марцием Филиппом, храм Дианы, построенный Луцием Корнифицием, храм Сатурна – Мунацием Планком, атрий Свободы – Азинием Поллионом, новый роскошный театр – Корнелием Бальбой, амфитеатр – Статилием Тавром. Особенно же много построек возвел в Риме соратник и друг Октавия Агриппа, и едва ли не главнейшая из его построек – водопровод, позволивший сделать водоотвод к своему дому каждому римлянину и пользоваться им бесплатно. Когда много лет спустя граждане Рима стали роптать на недостаток и дороговизну вина, Октавий, ставший к тому времени императором Августом, пресек вспыхнувший было бунт одной-единственной фразой: «Мой зять Агриппа достаточно построил водопроводов, чтобы никто не страдал от жажды».
4
К вечеру, усталые и довольные увиденными постройками и богатствами, свезенными со всех концов света и выставленными напоказ, Ирод и его сыновья подошли к дворцу Октавия, где их уже ждали. Приветствуя Октавия, Ирод сказал, что тот задался целью превратить Рим в блестящую мировую столицу не по названию только, но и блеску, и в этом отношении вполне преуспел. Довольный похвалой, Октавий ответил, что, по сравнению с Иродом, который, как об этом свидетельствует молва, построил куда как больше не в одном только Иерусалиме, но и по всей Иудее и в соседних странах, – он всего лишь «принял город глиняный, а превратил его в мраморный» [327].
Сопровождая Ирода и его сыновей в зал, в котором уже были накрыты столы и толпились гости, Октавий, отдавая должное успехам Ирода в строительном деле, сказал:
– За тобой не угонишься. Пока я перестраиваю Рим, ты успел застроить половину мира. Особенно хвалят твой Храм, который ты возвел в Иерусалиме. Наш друг Николай Дамасский уверяет, что, пока ты строил храм, дожди шли только по ночам, а к утру ветер разгонял облака и светило солнце, так что рабочие с пользой для дела использовали все отведенное для строительства время. Если это действительно так, то работа твоя воистину угодна Богу иудеев.
– Надеюсь, что так, – ответил Ирод, приветствуя поклоном головы улыбающегося Николая Дамасского и находящихся в зале гостей и представляя всем своих сыновей.
– А еще о построенном тобой Храме ходит молва, – продолжал Октавий, приглашая Ирода с детьми к столу: – что кому не довелось видеть твоего Храма, тот не видел ничего истинно великолепного.
– Это преувеличение, – ответил Ирод, занимая отведенное ему место за столом. – О Риме, заново перестроенном тобой и твоими друзьями, тоже ходит молва: никогда небо не взирало ни на что более величественное, чем твой город, ничей взгляд не может охватить его ширины, никакой ум не постигнет его красоты и ни одни уста не способны выразить достойной его похвалы. Так что будем считать, что мы оба преуспели в своих делах, а чтобы и ты мог увидеть мою работу, приезжай в Иерусалим и оцени мои старания сам.
– Непременно воспользуюсь твоим приглашением, – пообещал Октавий, устраиваясь рядом с Иродом.
За столом собралась разнополая и разновозрастная публика, частью уже знакомая Ироду, частью нет. Из мужчин здесь были Агриппа, сенатор Валерий Мессала, вальяжный Меценат с золотым кольцом всадника на безымянном пальце правой руки, философ Арей, по-прежнему служивший у Октавия в качестве главного его советника, сын вольноотпущенника и сборщика налогов поэт Гораций, добившийся признания при дворе благодаря своему таланту и покровительству Мецената, недавний раб, а теперь личный врач Октавия Антоний Муз, как всегда сидящий в стороне от всех вольноотпущенник Юлий Марат с неизменными табличками и грифелем в руках. Женщины были представлены женой Октавия Ливией, его бывшими женами Клавдией [328]и Скрибонией, сестрой Октавией, которая после гибели Марка Антония так и не вышла замуж, женами Мецената Теренцией и Агриппы Марцеллой, бывшей рабыней, а ныне фавориткой Ливии еврейкой Акме [329]и еще двумя-тремя особами, имен которых Ирод не запомнил. Отдельную группу в дальнем конце стола составили дети: сыновья Ирода Александр и Аристовул, младший сын Ливии и ровесник Аристовула Друз Старший, ее старший сын, ровесник Алесандра Тиберий, готовящийся отметить своей совершеннолетие и потому держащийся с особой серьезностью, над которой потешалась Юлия, дочь Октавия и Скрибонии, и не по годам серьезная, заметно выделяющаяся среди других детей своей красотой Антония Младшая [330].
Чтобы дети не чувствовали себя за столом лишними, Октавий предложил устроить состязание: кто из них лучше расскажет сказку? [331]Тиберий, не пожелавший, чтобы его наряду с другими детьми сочли ребенком, лишь фыркнул, его примеру последовала и двенадцатилетняя Юлия, также старавшаяся казаться старше своих лет, а Друз Старший беспомощно развел руками и чистосердечно признался, что не помнит ни одной сказки. Эта чистосердечность ребенка развеселила гостей. Ирод ожидал, что следом за другими детьми откажутся рассказывать сказки и его сыновья, но неожиданно для него младший Аристовул, по-школьному подняв руку, произнес:
– Я могу рассказать сказку.
– Молодец, – поддержал его Октавий. – Начинай, мы внимательно тебя слушаем.
– Жил-был царь, – звонким голоском начал Аристовул, – и звали его Александр Македонский.
Сросшиеся на переносице рыжеватый брови Октавия поднялись, тонкие губы тронула улыбка, обнажив мелкие редкие зубы.
– Зачин интересный! Попрошу тишины за столом. – И сам обратился в слух, давая тем самым пример другим участникам застолья.
– Однажды царь, – продолжал все тем же звонким голоском Аристовул, – заявил своим советникам: «Я побывал во многих землях, повидал многие страны; желаю теперь идти в землю Африканскую». «Проникнуть туда невозможно, – ответили ему советники, – горы Мрака мешают попасть туда, а в самой земле Африканской живут храбрые воительницы амазонки». «Но мне необходимо проникнуть в землю Африканскую, – сказал Александр, – и я прошу вас придумать, как мне одолеть горы Мрака». Долго думали советники и, наконец, придумали. «Возьми, – сказали они, – ливийских ослов, привыкших к темноте, и запасись клубками веревок. Прикрепи концы этих веревок к входу в ущелье и, постепенно разматывая их, перейди через горы Мрака. Так ты окажешься в земле Африканской, а когда завоюешь ее, легко найдешь обратную дорогу по веревкам, привязанным ко входу в ущелье». Александр так и поступил. Когда горы Мрака остались позади и он вступил в землю Африканскую, то объявил войну амазонкам. На это женщины-воительницы сказали ему: «Победишь ты нас, люди скажут: “Женщин победил он”. А одолеем мы тебя, люди скажут: “Этого царя победили женщины”. Выбирай сам, какой исход войны тебе больше по душе». Думал царь, думал, ничего не придумал и попросил: «Принесите мне хлеба». Принесли ему амазонки на золотом блюде золотые гранатовые яблоки, начиненные рубинами. Удивился царь: «Разве в вашей стране едят золото?» Амазонки ответили ему: «А разве ты не за золотом пришел воевать в землю Африканскую? Нам казалось, что обыкновенного хлеба и в твоей стране вдосталь. За чем же еще, как не за золотом, было идти тебе в такую даль? Возвращайся домой и ешь свой хлеб, а когда он у тебя кончится, мы пришлем его тебе столько, что ни ты, ни народ твой не будете знать в нем нужды». Подивился Александр мудрости амазонок, и прежде, чем вернуться назад, приказал начертать на воротах земли Африканской надпись: «Я, Александр Македонский, был царем-глупцом, пока не пришел в землю Африканскую и не научился мудрости от женщин».
– Прекрасная сказка! – похвалил Аристовула Октавий и похлопал в ладоши, а восхищенный Гораций добавил:
– Эта сказка заслуживает того, чтобы переложить ее на стихи!
– Я тоже знаю сказку про мудрых женщин, – сказал старший сын Ирода Александр и, смутившись под обращенными на него взглядами, поправил себя: – Точнее, про одну женщину.
– Расскажи нам сказку про одну мудрую женщину, – ободряюще произнес Октавий, улыбнувшись Александру.
– Это даже не совсем сказка, а, скорее, быль, – вконец смутился Александр.
– Хотим послушать быль, – сказал Агриппа и похлопал в ладоши ребенку.
– Случилось это в давние-предавние времена, – начал Александра, исподлобья глядя почему-то на одного Ирода, точно бы адресовал сказку-быль о мудрой женщине ему одному. – Пришел раз в нашу страну из дальних мест царь и захотелось ему посмеяться над нашим Богом. Сказал он первосвященнику: «Ваш бог вор! Усыпил Адама и, когда он забылся крепким сном, выкрал у него из груди ребро и сотворил из него женщину». Ничего не посмел возразить чужеземному царю первосвященник, и тогда дочь его попросила: «Позволь, отец, мне ответить вместо тебя». Лишившийся дара слова первосвященник кивнул дочери, и та, обращаясь к чужеземному царю, сказала: «Требую правосудия: прошлой ночью в наш в дом забрались воры и похитили у нас кубок из серебра, а вместо него оставили кубок из чистого золота. Прикажи наказать воров!» Удивился царь. «Хотел бы я, – сказал он, – чтобы боги почаще посылали ко мне таких воров!» Тогда дочь первосвященника спросила: «Так худо ли поступил наш Бог, если взамен ребра дал Адаму женщину?» [332]
Присутствующие за столом зааплодировали Александру, а подросток, не обращая ни на кого внимания, все глядел и глядел пристально на отца, и во взгляде его Ироду чудился укор.
5
Ирод дивился не только внешним переменам, произошедшим в Риме, но и образу жизни его несметного множества жителей. До рассвета было еще далеко, а улицы города уже заполнились толпами людей, спешащими ко дворцу Октавия и других знатных римлян, чтобы приветствовать их и заодно разрешить свои мелкие или крупные заботы. Огромная пестрая толпа, под шагами которой гудела земля, со всех сторон стекалась на площадь, где стояли дома важных государственных особ. Носильщики в красных плащах быстрым шагом несли богатого человека, который за опущенными занавесками досматривал свой недосмотренный сон. Послышался зычный голос ликтора, возвещавшего о приближении консула, и перед этим высокопоставленным сановником толпа почтительно расступалась, чтобы тот вне очереди мог первым ступить под своды дворца Октавия. В толпе можно было увидеть и бедного учителя-грека, добивающегося места в знатном доме по соседству с дворцом Октави, и музыкантов с флейтой и кифарой, и начинающего поэта со свитком под мышкой, и танцора, – кто только в этот ранний час не стремился предстать пред очи человека, одного только благосклонного кивка которого было достаточно, чтобы сделать его счастливым!
Перед заветной дверью стоял надутый от осознания собственной значимости привратник с тростью, который в зависимости от сумм, ссыпаемых ему в ладонь, решал, кого из просителей пропустить в первую очередь, кого заставить подождать, а от кого сразу же избавиться, как от назойливой мухи.
Прием происходил в атрии – просторном помещении с колоннами, бюстами многочисленных реальных и выдуманных предков хозяина дома и большим отверстием в потолке, через которое просачивался в атрий тусклый предутренний свет. Здесь распоряжался так называемый номенклатор с длинным списком в руках, который громко выкрикивал имя визитера и указывал на дверь, в которую тому следовало пройти. Остальные допущенные в атрий жались по углам или устраивались на низких диванах без спинок, поставленных по периметру атрия, и терпеливо дожидались своей очереди.
Великолепие атриев, выложенных цветным мрамором, суровые лица предков хозяина дома, глядящих на мир глазами без зрачков, производили на посетителей угнетающее впечатление. Те, кто оказывался побойчей, вступали в переговоры с разодетыми слугами, в большинстве своем состоявшими из рабов и вольноотпущенников, брали их под локоть, отводили в сторону и, ссыпав им звенящие монеты, добивались, что те подходили к номенклатору, что-то шептали ему на ухо, и тот или выкрикивал имя особенно настойчивого просителя, или отрицательно мотал головой. Здесь, в атрии, образовывались свои очереди, делившиеся на тех, кто поодиночке или небольшими группами допускались во внутренние покои хозяина, и на тех, кто довольствовался тем, что рабы и вольноотпущенники, получив с них искомую сумму, брали у них их прошения, заверяя, что прошениям этим будет дан ход.
Ранними утрами происходили не только посещения, вызванные необходимостью подать прошение или просто вежливостью, но и другие события, нуждавшиеся в присутствии большого числа гостей. К таким событиям относились празднование совершеннолетия мальчиков, когда они облачались во взрослую тогу, после чего все отправлялись в один из храмов и совершали там жертвоприношение. Без множества гостей не обходились обручения и свадьбы, когда еще затемно в домах нареченных собирались толпы приглашенных и случайных зевак. Собирали множество гостей и проводы знатных особ в одну из провинций, назначения на важные должности по выбору или жребию, болезни знатных особ и похороны. Для многих римлян обязанность нанесения ранних визитов превратилась в ритуал, неисполнение которого было равносильно добровольному уходу из жизни.
Ирод, наблюдая за этими утренними священнодействиями, мог смело сказать о римлянах и их странном обычае словами древних писателей: «В Риме существует нация бездельников, которые бегают повсюду, волнуются из-за пустяков, занимаются всем сразу и ничего не доводят до конца. Без всякой цели они выходят ранним утром из дому, чтобы увеличить собой толпу. Когда они выходят из дверей, то на вопрос: “Куда ты идешь? чем собираешься заняться?” – отвечают: “Я сам еще, право, не знаю; я должен сделать несколько визитов, после которых совершить еще массу других неотложных дел”. Чувствуешь сострадание к ним, когда видишь их бегущими, точно на пожар, наталкивающимися на знакомых и незнакомых и сбивающими их и себя с ног. И зачем они бегут? Чтобы сделать визит, на который не получат ответа? Чтобы явиться на похороны незнакомого или на обручение женщины, которая тем только и занимается, что справляет свадьбу, тут же разводится и снова выходит замуж? Обежав из-за пустяков весь город и вернувшись, наконец, домой, они сами не знают, чего ради вышли ни свет, ни заря из дому, а на следующий день снова пускаются в свои странствия, чтобы раскланяться перед носилками каждой женщины, по десять раз подняться по улицам, ведущим к дворцам важных особ, посетить судебные заседания, не имеющие к ним ровным счетом никакого отношения, в конце концов стать влажными от поцелуев всего Рима и, довольные собой и смертельно уставшие от беспокойной праздности, кулем свалиться в постель» [333].
И еще одна особенность римлян, на которую Ирод обратил внимание в ходе своего первого приезда сюда, неприятно поразила его: всеобщая погоня за богатством. В Иудее тоже было немало таких людей, особенно в священнической среде, для кого деньги стали главным смыслом существования. Собственно, эта страсть к богатству и привела к расслоению иудаизма на секты, из которых самыми могущественными стали саддукеи и фарисеи, по сравнению с которыми ессеи с их полным безразличием к богатству выглядели беспорочными агнцами. В Риме же страсть к накопительству превзошла все разумные пределы. Нет, в этой столице мира золото еще не стало божеством, которому возводятся храмы и сооружаются алтари, но звонкая монета уже превратилась в страсть, которая захватила всех. Эта-то жажда богатства, заметил Ирод, и была главной причиной неуемной суетни римлян с самого раннего утра, поскольку стремление во что бы то ни стало разбогатеть стало считаться высшим и единственным благом, от которого зависело все остальное: сан и положение в обществе, почет и уважение. То, что открылось в Риме Ироду и что заставит его позже приблизить к себе ессеев, неприятно поразит и Плиния Старшего [334], который напишет: «Погибло все то, что придавало жизни настоящую ценность и значение, и унижение стало главным средством к повышению. Каждый по-своему, но желания и стремления всех направлены на одну и ту же цель – на богатство. Даже лучшие люди, и те в большинстве случаев оказывают больше почета чужим порокам, чем собственным добродетелям».
Но чтó давало людям богатство, почему оно одинаково развращающе действует как на имущих, так и на неимущих? Сколько ни задавал себе этот вопрос Ирод, ответ находился один и тот же: чтобы в беспечности и праздности провести свою жизнь. Никаких иных разумных причин стремления во что бы то ни стало разбогатеть Ирод не видел. Чем больше у человека денег, тем больше у него оснований ничего не делать и жить в свое удовольствие. В этом отношении Ирод нашел полное понимание со стороны Октавия. Однажды Ирод увидел Октавия подле своего дворца стоящим с протянутой рукой, просящим милостыню у прохожих. Потрясенный Ирод спросил, зачем он это делает? Октавий ответил:
– Затем, чтобы показать римлянам: денег никогда не бывает много. Сколько их не имей, всегда оказывается, что их мало и хочется иметь больше. Даже если представить себе, что все богатства мира сосредоточились в одних руках и ни у кого больше не осталось за душой ни гроша, то и тогда окажется, что этих богатств все же мало и хочется завладеть еще бóльшим.
6
Слова эти объяснили Ироду, почему Октавий так упорно отказывается от предлагаемого ему титула императора и стремится сохранить республику. Но не только. При всем несходстве масштабов деятельности Октавия и Ирода, при всей разности задач, стоявших перед каждым из них в отдельности – первый правил половиной мира, второй крошечной в сравнении с Римской державо й страной, – Ирод обнаружил внутреннее несходство между собой и Октавием, и это внутреннее несходство оказалось куда как более значимым не только для каждого из них в отдельности (Август вошел в историю как один из самых удачливых политиков, создавший первую в мире империю и удостоившийся после смерти титула Божественного, тогда как Ирод вошел в историю как злобный тиран и детоубийца, а имя его стало синонимом человеконенавистничества), но и для всех последующих веков.
В то время, когда сыновья Ирода в сопровождении Николая Дамасского продолжали знакомство с Римом, отдавая предпочтение всем видам его бесчисленных зрелищ боям гладиаторов [335], сам Ирод старался проводить время в обществе Октавия, внимательно наблюдая за ним и сравнивая себя с ним. Октавий верил в свое божественное происхождение и считал своим подлинным отцом Аполлона [336]. Ирод никогда не обольщался на счет своего происхождения, знал, что все его предки были простолюдинами, как знал он и то, что царем Иудеи стал во многом случайному стечению обстоятельств. Октавий пользовался неизменной любовью не только граждан Рима, но и провинций: имя отца народа было поднесено ему всеми римлянами и жителями провинций, некоторые города день, когда он впервые посетил их, сделали началом нового года, во многих странах воздвигались в его честь храмы и алтари, дружественные ему цари основывали в своих царствах города, называя их Цезарея, или Кесария, и часто, сняв с себя все царские регалии и облачившись в простые тоги, прибывали в Рим, чтобы прислуживать ему не только в столице, но и сопровождать в поездках по провинциям [337].
Евреи на протяжении всей жизни Ирода считали его чужаком, не упускали ни одного повода, чтобы не выказать ему своего презрения, а когда их постигали бедствия и природные катаклизмы и Ирод делал все от него зависящее, чтобы смягчить удары судьбы и улучшить положение народа, на короткое время признавали за ним его право быть царем, но при первой же неблагоприятно складывающейся для них ситуацией напрочь забывали обо всех его благодеяниях и осыпали новой порцией ненависти и презрения.
Октавий, стремясь всецело подчинить себе сенат, сделал это до пошлого просто: он купилсенаторов, кичащихся древностью своих родов, как покупают рабов на невольничьем рынке [338]. Ирод, учредив синедрион и тем самым отделив высший судебный и законодательный орган Иудеи от государства, хотя и вмешивался в его структурную организацию, назначая по собственному усмотрению его главу в лице первосвященника, тем не менее в деле содержания членов синедриона руководствовался древним законом, предписывавшим всем иудеям выделять десятину из всего, что у них имеется [339]. Октавий вслед за Николаем Дамасским считал, что не государство учредило семью, но из семьи выросло государство, и стремился построить свою державу по типу одной большой семьи, управляемой отцом – верховным правителем. Ирод чем дальше, тем больше убеждался в том, что евреи никогда не признают в нем отца-покровителя, и если прислушивался к советам Николая Дамасского, которого приблизил к себе, то только в той части, где ученый сириец говорил ему, что для него как царя нет задачи более благородной, чем создание условий, при которых чувство ответственности за судьбу своего государства и нравственная добродетель становятся главным делом не только правителя, но и каждого гражданина.
Другими словами, Октавий в деле строительства государства шел от внутреннего убеждения, что все, что он ни делает, идет на благо отечеству, тогда как Ирод шел от обратного: мудрый правитель тот, кто ставит превыше всего собственную нравственную добродетель, которую стремится обнаружить в себе, и, глядя на него, такими же добродетельными стремятся стать все граждане его государства.
Раз между Октавием и Иродом в присутствии Валерия Мессалы возник спор о том, какая форма государственного устройства предпочтительней – монархическая или республиканская. Октавий доказывал, что его ничто не может переубедить в преимуществах республиканской формы правления, когда первому лицу государства помогают советами друзья.
– Для государства безопасней и лучше, – заметил при этом Октавий, – если будет дурной правитель, нежели его дурные друзья. Один дурной может быть обуздан многими хорошими; против многих дурных один хороший не может сделать ничего.
– Это-то и доказывает преимущества монархии над республикой, – возразил ему Ирод. – Монарх вправе сместить дурных друзей, тогда как при республиканском строе он не может этого сделать.
– Однако ты не станешь возражать против того, – заметил Октавий, – что друзья полезней правителю, чем глаза, потому что при их посредстве он может видеть до пределов земли, полезней, чем уши, потому что при их посредстве он может слышать все, о чем ему следует знать, полезней, чем язык и руки, потому что через друзей он может говорить со всеми людьми разом. Через друзей он может одновременно делать множество дел, о многом думать и советоваться, быть в одно и то же время повсюду, где его присутствие вызывается необходимостью. Что же касается дурных друзей, то хороший правитель тем и хорош, что имеет возможность выбрать себе самых надежных и способных, потому что никто не в состоянии наградить их так, как правитель.
– Ибо кто другой, кроме правителя, – подхватил Валерий Мессала, – может доставить своим друзьям более почестей? Кто нуждается в большем числе чиновников? Кто в состоянии раздать более видные места? Кто, кроме него, может поручить другому вести войну и заключить мир? Кем могут быть оказаны более блестящие почести, чей стол пользуется большим почетом, и если дружба оказывается продажной, кто, кроме властителя, имеет более денег, так что никто не в состоянии воздать ему тем же за его дары? Все это доказывает, что монархия превосходит республику по одному тому уже, что ставит друзей властителя на то место, которого они заслуживают.
Октавий посмотрел на Ирода, ожидая, чтó тот скажет на его слова и слова Мессалы. Ирод ограничился ссылкой на их общего кумира Гомера, процитировав его стих:
– «Нет в многовластии блага, да будет единый властитель!»
Разговор этот никого ни в чем не убедил: Октавий остался при своем мнении, Ирод и Валерий Мессала при своем. Октавий после этого памятного для всех его участников разговора стал еще настойчивей проводить политику создания единого для всех государства-семьи: свою единственную дочь Юлию заставлял заниматься рукоделием и носил тогу, вытканную ее руками, издал несколько указов в защиту семьи и поощрения многодетных отцов и матерей, лично обучал своих пасынков Тиберия и Друза плаванию и верховой езде, пригласил к ним лучшего в то время филолога Веррия Флакка в качестве домашнего учителя, а когда тот отказался бросить свою школу ради заманчивого предложения переселиться во дворец, нанял его со всей его школой, дабы ученики не прерывали занятий и не искали себе новых учителей [340].
Октавий был чужд роскоши – это бросалось в глаза всем, кто хоть раз переступал порог его дворца: в простоте окружающей его обстановки и утвари он походил скорее на простолюдина, чем на властителя мировой державы. Столь же скромен он был и в делах общественных, что засвидетельствовано многими историками древности. Светоний писал о нем:
«Храмов в свою честь он не дозволял возводить ни в какой провинции иначе, как с двойным посвящением ему и Риму. В столице же он от этой почести отказался наотрез. Даже серебряные статуи, уже поставленные в его честь, он все перелил на монеты, и из этих денег посвятил два золотых треножника Аполлону Палатинскому.
Диктаторскую власть народ предлагал ему неотступно, но он на коленях, спустив с плеч тогу и обнажив грудь, умолял его от этого избавить. Имени “государь” он всегда страшился как оскорбления и позора. Когда при нем на зрелищах мимический актер произнес со сцены:
– О добрый, справедливый государь! —и все, вскочив с места, разразились рукоплесканиями, словно речь шла о нем самом, он движением и взглядом тотчас унял непристойную лесть, а на следующий день выразил зрителям порицание в суровом эдикте. После этого он даже собственных детей и внуков не допускал ни в шутку, ни всерьез называть его господином, и даже между собой запретил им пользоваться этим лестным обращением. Не случайно он старался вступать и выступать из каждого города и городка только вечером или ночью, чтобы никого не беспокоить приветствиями и напутствиями. К общим утренним приветствиям он допускал и простой народ, принимая от него прошения с необычайной ласковостью; одному оробевшему просителю он даже сказал в шутку, что тот подает ему просьбу, словно грош слону. Сенаторов в дни заседаний он приветствовал только в курии на их местах, к каждому обращаясь по имени, без напоминания; даже уходя и прощаясь, он не заставлял их вставать с места. Со многими он был знаком домами и не переставал бывать на семейных праздниках, пока однажды в старости не утомился слишком сильно на чьей-то помолвке. С сенатором Церринием Галлом он не был близок, но когда тот вдруг ослеп и решил умереть от голода, он посетил его и своими утешениями убедил не лишать себя жизни.
Присутствуя на выборах должностных лиц, он всякий раз обходил трибы со своими кандидатами и просил за них по старинному обычаю [341]. Он и сам подавал голос в своей трибе, как простой гражданин. Выступая свидетелем в суде, он терпел допросы и возражения с редким спокойствием. Он уменьшил ширину своего форума, не решаясь выселить владельцев из соседних домов. Представляя вниманию народа своих сыновей, он всякий раз прибавлял: “Если они того заслужат”. Когда перед ними, еще подростками, встал и разразился рукоплесканиями целый театр, он был этим очень недоволен. Друзей своих он хотел видеть сильными и влиятельными в государственных делах, но при тех же правах и в ответе перед теми же судебными законами, что и прочие граждане. Когда его близкий друг Ноний Аспренат был обвинен Кассием Севером в отравлении, он спросил в сенате, как ему следует поступить: он боится, что, по общему мнению, если он вмешается, то отнимет из-под власти законов подсудимого, а если не вмешается, то покинет и обречет на осуждение друга. И с одобрения всех он несколько часов просидел на свидетельских скамьях, но все время молчал и не произнес даже обычной в суде похвалы подсудимому…
Какой любовью пользовался он за эти достоинства, нетрудно представить. О сенатских постановлениях я не говорю, так как их могут счесть вынужденными или льстивыми. Всадники римские добровольно и по общему согласию праздновали его день рождения каждый год два дня подряд. Люди всех сословий по обету ежегодно бросали в Курциево озеро монетку за его здоровье, а на новый год приносили ему подарки на Капитолий, даже если его не было в Риме; на эти средства он потом купил и поставил по всем кварталам дорогостоящие статуи богов – Аполлона-Сандалиария, Юпитера-Трагеда и других. На восстановление его палатинского дома, сгоревшего во время пожара, несли деньги и ветераны, и декурии, и трибы, и отдельные граждане всякого разбора, добровольно и кто сколько мог; но он едва прикоснулся к этим кучам денег и взял не больше, чем по денарию из каждой».
Когда взрослеющая дочь Октавия Юлия явилась однажды на ужин в чересчур декольтированном наряде, отец выговорил ей, что своим видом она оскорбляет чувство нравственности. Обидевшаяся на замечание отца, высказанное вслух в присутствии посторонних, Юлия расплакалась и выбежала из-за стола, а на следующий вечер явилась в самой скромной стóле, приличествующей больше старухе, стремящейся скрыть свою немощь, чем пышущей здоровьем юной особе, желающей понравиться окружающим. Октавий взял за руку дочь, обнял ее и шепнул на ухо: «Сегодня ты примирила меня со своим вчерашним проступком». Юлия, отшатнувшись от отца, вскричала: «Сегодня я представляюсь отцу, а вчера я хотела понравиться мужчине!»
Ирод, проводя долгие часы рядом с Октавием и обсуждая с ним различные вопросы будь то частного или государственного порядка, с удовольствием отмечал присущий ему демократизм, проявляющийся даже в его словах. Так, вышучивая склонность Мецената к выспренним словам, он называл речи друга «напомаженными завитушками»; если кто-то не собирался выплатить свой долг, говорил: «заплатит в греческие календы» [342]; вместо «дурак» говорил «дубина», вместо «сумасшедший» – «рехнувшийся»; если чувствовал недомогание, то говорил не «мне не по себе», а «меня мутит», вместо «чувствовать слабость» – «глядеть свеклой», а когда кто-то из его приближенных принимал поспешные решения, требовавшие предварительного обдумывания и обсуждения, говорил: «скорей, чем спаржа варится». Единственное, чего Ирод не понимал и не принимал в Октавии, было то, что все свои выступления, даже предполагавшиеся беседы со своей женой Ливией, он предварительно записывал и заучивал наизусть, чтобы ненароком не сказать лишнего или не договорить того, что собирался сказать. Ирод, получивший греческое образование, в котором видное место отводится риторике, никогда этого не делал, что, впрочем, не мешало ему экспромтом выступать с длинными речами.
7
Когда пребывание Ирода в Риме приближалось к концу, в столице случилась беда: вышедший из берегов Тибр залил подвалы жилых строений и склады, погубив значительные запасы хлеба. Жители полуторамиллионого города оказались перед угрозой голода. Цены на зерно у частных торговцев мгновенно выросли в пять и более раз. Всегдашнее требование народа «хлеба и зрелищ» сменилось одним: «хлеба, мы требуем хлеба!» Ирод посоветовал Октавию срочно закупить за счет казны в Египте и провинции Африка дополнительное зерно в счет будущих поставок. Однако двести кораблей, отправленных за море и загруженных там зерном, на обратном пути разбились в устье Тибра из-за разыгравшегося шторма; сто других кораблей, преодолевших стихию и уже вставших было под разгрузку, внезапно сгорели то ли от случайно возникшего пожара, а то ли из-за умышленного поджога. В столице назревал бунт.
Октавий приказал выслать из Рима всех привезенных сюда для продажи рабов вместе с работорговцами и гладиаторов. За ними последовали иностранцы, не имевшие римского гражданства. Но и эти меры не выправили тяжелого положения, сложившегося в Риме. Октавий созвал совещание ближайших своих друзей, включая Ирода. На общем совете было решено открыть стратегические запасы хлеба, предназначенного на случай войны, и раздать его народу бесплатно из расчета одной месячной нормы на каждого взрослого человека, равной пяти модиям [343]. Частным торговцам, чтобы сбить цену, мудрый Арета предложил приплачивать за каждый проданный модий по два сестерция. Тем же, кто осмелится нарушить установленные правила торговли, грозила немедленная смерть без суда и следствия.
Решения эти, принятые узким кругом приближенных к Октавию лиц, вызвало протесты в сенате. Октавия обвинили в игнорировании старцев [344], славных многими заслугами своих отцов перед Римом, предпочтя им чужестранцев, вроде греческого философа Ареты и царя Иудеи Ирода, которые желают гибели Рима, грубейшим образом нарушая свободу торговли [345]. Октавий оставил без внимания протесты сенаторов и энергично провел в жизнь решения, принятые совещанием друзей.
Когда положение с хлебом несколько выправилось и угроза голода миновала, Валерий Мессала предложил Ироду совместно убедить Октавия в необходимости принять титул императора.
– Только так можно будет преодолеть сопротивление сенаторов, у которых на первом месте всегда их собственные шкурные интересы, – сказал он.
Ироду предложение Валерия понравилось. Однако он спросил:
– Какого мнения на этот счет Арета? – Без согласия своего ближайшего советника, Ирод знал это, Октавий не примет решения ни по какому вопросу.
– Арета против, – признал Валерий. – Он считает, что Рим должен оставаться республикой.
Это был веский довод. Того же мнения, Ирод знал и это, придерживалось большинство сенаторов. Ирод обратил внимание Валерия на возможный бунт со стороны сенаторов и прямо высказал ему свои опасения:
– Сенат ни под каким видом не согласится провозгласить Октавия императором.
– С недовольными мы поступим так, как поступили с Сальвидиеном Руфом [346], – возразил Валерий. – Стеснением немногих мы достигнем соблюдения интересов всех.
Ирод поддержал Валерия. Вместе он стали убеждать Октавия в необходимости проведения кардинальной реформы правления. На сторону Ирода и Валерия встали Ливия, имевшая на Октавия огромное влияние, и жена Мецената Теренция. В конце концов им удалось совместными усилиями убедить Октавия стать императором, приняв титул Августа, благо народ давно уже удостоил его имени отца народа.
В день заседания сената толпы плебеев с лавровыми венками на головах заполнили улицы и площади Рима, скандируя: «Октавий – отец народа, Октавий – император, Октавий – Август». Валерий Мессала первым взял слово, выступив «по поручению» сената, хотя никакого поручения сенаторы ему не давали. Не вдаваясь в детали и не утруждая себя приведением аргументов в пользу назначения Октавия императором, он с ходу заявил:
– Да сопутствует счастье и удача тебе и дому твоему, Цезарь Август! Такими словами молимся мы о вековечном благоденствии и ликовании всего государства. – Сделав короткую паузу и со значением оглядев сенаторов, добавил: – Ныне сенат в согласии с римским народом нарекает тебя отцом отечества!
Сенаторы, ничего толком не поняв, зашумели, и шум этот можно было принять как за одобрение слов Валерия, так и негодование.
Мессала, повысив голос, выкрикнул:
– Ты слышишь эти голоса, Цезарь Август? Эти голоса красноречивей любых слов подтверждают волю народа, собравшегося в эти минуты за стенами сената, и служат лучшим доказательством единодушного требования сенаторов вековечного благоденствия и ликования нашего государства, против которого могут выступить разве что отпетые негодяи и враги народа!
Ирод, имевший в силу давнего постановления сената право присутствовать на его заседаниях, восхитился ловкостью Валерия, и не удивился, когда увидел на глазах Октавия, которого отныне следовало называть Возвеличенным, слезы. Подняв руку, Октавий-Август дождался тишины и, не утирая слез, произнес:
– Достигнув исполнения моих желаний, о чем еще могу я молить бессмертных богов, отцы сенаторы, как не о том, чтобы это ваше единодушие сопровождало меня до скончания жизни.
Спектакль был сыгран на славу! И Валерий Мессала, дабы спектакль, разыгранный им, нашел достойное завершение, после чего самая мысль о возвращении к его началу выглядела бы абсурдной, от имени сената объявил жену Октавия Ливию матерью отечества и назвал ее Августой. Буквально на следующий день все присутственные места и частные дома в Риме, а следом за ним по всей Италии и в провинциях заполнились бюстами и скульптурными изображениями Августа и в честь него и его жены заложены храмы и алтари. Злые языки поговаривали, что сделано это было по наущению хитроумного грека Ареты, всегда умудрявшегося оставаться в тени своего могущественного патрона, но даже те, кто разделял злокозненные слухи, поспешили заказать для своих атриев мраморные портреты новоявленного императора и внести значительные суммы для строительства храмов и алтарей в честь Августа и его жены, дабы их не заподозрили в неблагонадежности.
Глава четвертая СМЯТЕНИЕ
1
В первых числах елула [347]Ирод с Николаем Дамасским возвратились в Иудею, оставив Александра и Аристовула в Риме для получения образования при дворе Августа в школе Веррия Флакка. Их возвращение на родину совпало с началом сбора винограда. Урожай выдался отменный! Настроение у людей – свободных и рабов – было приподнятое. Срезанные кисти аккуратно складывались в большие плетеные корзины, корзины погружались на телеги, запряженные волами, и свозились в давильни, где разутые прессовщики под звуки флейт и барабанов, задававших ритм работе, выжимали ногами из винограда тягучий сок, стекавший в отстойники. Из села в село переходили толпы греков и сирийцев, сопровождаемые музыкантами и пляшущими женщинами; то были праздничные процессии ряженых, во главе которых шел уже заметно пьяный Дионис, сопровождаемый свитой из сатиров. Евреи в этих языческих процессиях не участвовали, что, однако, не мешало и им праздновать начало сбора винограда, славя Предвечного за щедрый дар, веселящий сердце человека [348], и пробуя только что выдавленный хмельной сок. Впрочем, старики, наблюдая за молодыми людьми, очень уж откровенно веселящими не только свое сердце, но и плоть, одинаково критически относились как к непристойным шествиям греков и сирийцев, так и к своим единоверцам, коря их словами пророка: «Блуд, вино и напитки завладели сердцем их» [349].
Николай Дамасский, также не чуравшийся отведать молодого вина, быстро захмелел и без умолку тараторил о том, какими образованными людьми станут Александр и Аристовул, получив образование в Риме. Перескакивая с пятое на десятое, он тут же принимался расхваливать Ирода за то, что тот, чествуя провозглашение Октавия императором Августом, подарил ему четыреста галлов в качестве телохранителей, и не уставал восхищаться Цезарем, который, став во главе огромной державы, принесет миру счастье и благоденствие. Ирод тоже находился под впечатлением от всего произошедшего в Риме, но мысли его были далеки от того, о чем разглагольствовал ученый сириец: он размышлял о власти, которая даруется человеку свыше, выделяя одного из числа бесчисленного множества прочих смертных.
Почему, спрашивал себя Ирод, Предвечный отказался от Своей власти над людьми, предоставив эту власть земным царям? Ведь понимал же Он, что, отказавшись от Него, люди тем самым отвергли Предвечного, отказав Ему в праве царствовать над ними. Хотел испытать их? Или напугать? Пригрозил же он людям: «Вот какие будут права царя, который будет властвовать над вами: сыновей ваших он возьмет, и приставит к колесницам своим, и сделает всадниками своими, и будут они бегать пред колесницами его; и поставит их у себя тысяченачальниками и пятидесятниками, и чтобы они возделывали поля его, и жали хлеб его, и делали воинское оружие и колесничный прибор его. И дочерей ваших возьмет, чтоб они составляли масти [350], варили кушанья и пекли хлебы. И поля ваши и виноградные и масличные сады ваши лучшие возьмет и отдаст слугам своим. И от посевов ваших и из виноградных садов ваших возьмет десятую часть, и отдаст их евнухам своим и слугам своим. И рабов ваших, и рабынь ваших, и юношей ваших лучших, и ослов ваших возьмет, и употребит на свои дела. От мелкого скота вашего возьмет десятую часть; и сами вы будете ему рабами. И восстенаете тогда от царя вашего, которого вы избрали себе, и не будет Господь отвечать вам тогда» [351]. Но никакие угрозы не подействовали на людей, и сказали они: «Нет, пусть царь будет над нами; и мы будем, как прочие народы: будет судить нас царь наш, и ходить пред нами [352], и вести войны наши» [353].
Ирод знал историю, как знал он и то, что прежде, чем евреи потребовали себе царя, монархия была уже у шумеров и египтян, как появилась она позже у других народов. Эти народы судили свои цари, народы поклонялись им и почитали их за богов. Может, так и было задумано Предвечным? Может, Он и придумал царей для того, чтобы государства, управляемые ими, были упорядочены, подобно тому, как упорядочен космос [354], и чтобы народы, населяющие землю, были послушны их воле ради собственного благоденствия, ради примирения противоположностей, достижения единства в многообразии?
Ирод и сам был сторонником монархического устройства государства, никогда не задумывался над вопросом, чем такая форма правления лучше других форм, просто верил, что как старшинство в семье принадлежит мужу и отцу, так и в государстве власть должна принадлежать одному человеку – царю. Однако легкость, с какой республиканец Октавий превратился в императора Августа, смутила его: он понимал, что Августа могло и не быть, если бы не ловкость, с какой Валерий Мессала использовал его, Ирода, женщин, а затем и часть сенаторов, которые были подкуплены щедрыми денежными подарками. Было в этом что-то противоестественное, что-то искусственное, к чему ни Предвечный, в которого верил Ирод, ни боги, в которых верили Октавий и римляне, не были причастны. Это-то и побудило Ирода впервые задуматься над вопросом о природе власти, над тем, ради каких высших целей немногие подчиняют своей воле многих и убеждением или насилием добиваются их послушания.
Ответы на эти вопросы Ирод мог почерпнуть отчасти из книг Платона «Государство», или, как называл свой труд сам Платон, «О справедливости», поскольку понятия государствои справедливостьбыли для него синонимами. Но что такое справедливость? Цари, подобно богам, заслуживают поклонения и почестей, а лучших почестей удостаиваются те, кто богат. Стало быть, цари, желающие, чтобы их почитали, как богов, должны быть самыми богатыми из всех смертных. Разве не к этому стремился царь Фригии Мидас, за что Аполлон наделил его ослиными ушами? Уверовав во всесилие богатства, Мидас потребовал у Диониса, чтобы все, к чему они ни прикасался, превращалось в золото. Дионис выполнил его требование, и с тех пор даже пища и вода, к которым прикасался Мидас, стали превращаться в золото, так что царю угрожала смерть от голода и жажды. Стало быть, богатство не имеет ничего общего с тем, что уравнивает царей с богами? Это понял уже Соломон, сделавшись самым богатым из всех смертных и добившись положения, при котором он не отказывал себе ни в чем и не возбранял сердцу своему никакого веселья. А что в итоге? Оглядел Соломон все, что стало принадлежать одному ему, и пришел к выводу: «Все – суета и томление духа, и нет от них пользы под солнцем!» Стало быть, богатство вовсе не то, что подразумевал Платон под справедливостью или, что то же самое, государством, управляемом царями?
Ирод оказался мудрее своих предшественников: он не задумываясь истратил все свои богатства на помощь своему и соседним народам, когда на них навалился голод, и спустил все свое состояние на возведение дворцов, храмов и целых городов в Иудее и сопредельных с нею государствах. Стал ли после этого Ирод если не в глазах людей, то хотя бы в собственных глазах справедливым? Подумав, Ирод ответил: нет. Он просто сделал то, что обязан был сделать любой царь, желающий, чтобы его почитал зависимый от его воли народ. Тогда, может быть, справедливость суть праведность? Сказал ведь Предвечный, назначая евреям судей: «Судите справедливо» [355], и евреи послушались слова Его, и во все время судей «каждый делал то, что ему казалось справедливым» [356]. Однако делать то, что кажется справедливым, и справедливость в том значении слова, которое вкладывал в него Предвечный, не одно и то же. Что же помешало евреям, почитающим себя за Богоизбранный народ, поступать по справедливости, зачем понадобилось требовать поставить над собой царя, как у других народов, и признавать уже не Божий, а царский суд над собой? Священное писание не дает ответа на этот вопрос, а вот Платон – дает: только государство в состоянии противостоять несправедливости, ибо если дать волю справедливому и несправедливому, оба они станут вести себя несправедливо, поскольку быть справедливым тяжело и обременительно, а несправедливым – легко и приятно. При этом за несправедливым – и в этом, как пишет Платон, состоит величайшая несправедливость – закрепляется слава величайшей справедливости, поскольку человек, ее олицетворяющий, пойдет на все, чтобы добиться этой славы, а человек, стремящийся к справедливости, лишается всего, в том числе славы быть признанным справедливым. Соблюдая поддельную справедливость, продолжает Платон, легко обмануть не только людей, но и богов, а потому нужно определить воздействие справедливости как таковой на душу человека, и независимо от того, как это оценят люди и боги, показать всем, что справедливость – единственное благо, а несправедливость – худшее из зол.
Ирод, вспомнив книгу Платона, порадовался цепкости своей памяти. «Ну а поскольку справедливость и несправедливость полней всего проявляются не в отдельном человеке, а в государстве, – сказал он себе, – и поскольку государство и человеческая душа устроены одинаково, царь, олицетворяющий собой государство, должен стремиться к тому, чтобы душа его стала кристально чистой и праведной». Именно это имел в виду Сократ, подумал Ирод, который лучше других понимал: у разных людей разные потребности, которые способно уравновесить одно только государство. Потому-то он и предложил разделить людей на три сословия: правителей, стражу и земледельцев с ремесленниками, что соответствует трем составляющим души – разумной, аффективной и вожделеющей. Этим трем составляющим души, в свою очередь, соответствуют три добродетели – мудрость, мужество и сдержанность. Вот эти-то три добродетели и объединяет справедливость – главная добродетель, – которая состоит в том, что каждый гражданин, причисленный к тому или иному сословию, должен неукоснительно выполнять соответствующие своему сословию функции: правитель мудро править, стражник быть мужественным, а земледелец и ремесленник отличаться сдержанностью.
– Государство, построенное на таких основаниях, – произнес вслух Ирод, – подобно дню, в котором вечно светит солнце. Государство же несправедливое подобно пещере, в которую никогда не проникает солнечный свет.
Человек, обреченный жить в вечной темноте, неминуемо слепнет. Человек, живущий при ярком солнечном свете, способен постичь справедливость и добро, а через справедливость и добро – истину, которая ведома одному Предвечному. В какой мере способен открыть миру истину новоявленный Август?
Задавшись таким вопросом, Ирод спросил себя: а в какой мере способен сделать это он, царь Иудеи, чтобы каждый человек, хотя бы раз посетивший его страну и познакомившийся с нравами и обычаями, которым следуют евреи, задумался бы над тем, как ему устроить самого себя? Ответа на этот вопрос у Ирода не было, и он, чтобы отвлечься от своих мыслей, решил, прежде чем возвратиться в Иерусалим, посетить подаренную ему некогда Октавием Трахонитскую область.
2
Трахонитскую область с примыкающей к ней Авранитидой Ирод нашел в запустении. Здесь по-прежнему хозяйничал Зинодор, державший эти земли на откупе. Не довольствуясь доходами, которые официально давал ему сбор дани, Зинодор вел собственную политику, состоявшую в натравливании трахонцев как на сирийцев, так и на своих богатых южных соседей, имея с этих грабежей собственную долю. Попытки наместника Сирии навести здесь порядок ни к чему не привели: трахонцы, привыкшие жить разбоями, после очередного налета на соседей скрывались в своих бесчисленных пещерах, имевших очень узкие входы, и выходили на поверхность лишь для того, чтобы пасти свой скудный скот, которым они якобы кормились. Уличить их в беспрестанных грабежах было трудно.
Ирод был далек от мысли полагать, что Октавий, подаривший ему эти земли, снял с себя ответственность за наведение здесь порядка. Но так думал сирийский наместник, решивший, что отныне за порядком на беспокойных территориях надлежало следить Ироду, а не ему. От него же, как наместника Сирии, требовалось лишь укрепить границу с Трахоном и не допускать на подвластные ему земли неугомонных соседей.
Меры, принятые наместником Сирии, обернулись дорогой ценой против жителей Аврана: в какие-то два-три года они были обобраны до нитки и стали покидать обжитые земли. Тогда трахонцы стали грабить друг друга, не останавливаясь перед убийствами соплеменников. И странное дело: чем хуже становилась ситуация на подвластных Ироду землях, тем вольготней чувствовал себя Зинодор. Это был скользкий тип, внешне изображавший из себя иудея-святошу, а на деле самым бесстыжим образом наживавшийся на соседях: вначале он получал от трахонцев свою долю награбленного, которую тут же продавал по взвинченным ценам, а затем деньги, вырученные от спекуляции, ссужал тем же бедолагам под огромный процент.
На все попытки дважды ограбленных соседей пристыдить его за стремление нажиться на несчастье других, Зинодор молитвенно складывал руки, поднимал глаза к небу и читал стихи из Священного писания: «Не отдавай в рост брату твоему ни серебра, ни хлеба, ни чего-либо другого, что можно отдавать в рост. Иноземцу отдавай в рост, чтобы Господь, Бог твой, благословил тебя во всем, что делается руками твоими, на земле, в которую ты идешь, чтоб овладеть ею» [357]. Ирод понял: для того, чтобы навести порядок в Трахоне, надо приструнить Зинодора. И он собственной властью отобрал у него право на откуп налогов и податей, а самому Зинодору приказал покинуть территорию его царства.
Возмущению Зинодора не было предела. Он потребовал суда над собой и предоставления доказательств своей несостоятельности как откупщика. На все его претензии Ирод ответил коротко:
– Мне достаточно знать, что ты жаден без меры, и это веское доказательство твоей несостоятельности как откупщика. Убирайся с глаз моих долой.
Зинодор обратился с жалобой на самоуправство Ирода в Рим, но Август не удостоил его даже ответом. Тогда Зинодор прибег к хитрости: он продал Авранитиду, платившую ему налоги, за пятьдесят талантов арабам. Те, не зная о ссоре, произошедшей между ним и Иродом, поспешили оформить сделку и выплатили Зинодору искомую сумму. Ироду, направившемуся было в Иерусалим, пришлось вернуться обратно и расторгнуть эту сделку. Арабы усмотрели в этом насилие над собой и попытались взбунтоваться. Их поддержали некоторые из ветеранов Ирода. Следом за арабами и ветеранами взбунтовалась соседняя с Авранитидой Гадара; Зинодору удалось убедить их в том, что он сделает все от него зависящее, чтобы вывести их из-под власти Ирода и подчинит напрямую Цезарю.
Снарядив представительную депутацию, он отправил ее к Агриппе, находившемуся в это время в Митилене [358]. Друг Августа и Ирода принял депутацию, а когда узнал о цели ее приезда, рассердился, приказал всех депутатов заковать в цепи и в таком виде отправил к Ироду. Царь Иудеи, впрочем, обошелся с бунтовщиками милостиво: пожурив, он отпустил их на все четыре стороны, чем, в свою очередь, вызвал ропот среди евреев.
– Почему Ирод столь великодушен к чужеземцам? – спрашивали они и сами же отвечали: – Да потому, что он такой же чужеземец, как они, и ему нет никакого дела до нас.
Ирод недоумевал: почему людям не живется в ладу друг с другом? Почему они столь податливы на наускиванья разного рода отщепенцев, преследующих всюду свои корыстные цели? Почему они ставят происхождение тех или иных народов или их представителей выше собственного блага?
С началом весны в Сирию с инспекционной поездкой прибыл сам Август. Зинодор воспользовался этим, чтобы направить в Антиохию еще более представительную депутацию, чем та, которую он послал в Митилену. Поскольку депутацию на этот раз возглавил сам Зинодор, Ирод также решил ехать в Антиохию, пригласив с собой первосвященника Симона и некоторых членов синедриона. Обе делегации прибыли в Антиохию одновременно. Август тепло встретил Ирода, обнял его на виду у всех и рассказал об успехах, которые делали в учебе его сыновья Александр и Аристовул. Ирод, в свою очередь, познакомил Августа со своим тестем Симоном и членами синедриона. Зинодор, ставший свидетелем радушной встречи Цезаря с царем Иудеи, страшно огорчился и заболел непонятной болезнью, от которой уже не оправился. Через три дня он умер. Гадаринцы по-своему истолковали внезапную смерть Зинодора. Видя, что Август по-прежнему не обращает на них внимания, они стали один за другим сводить счеты с жизнью: кто-то кончал с собой, вскрывая себе вены, кто-то бросался со скал, а кто-то, привязав к шее тяжелый камень, кидался в реку, находя смерть в ее водах. Поведение гадаринцев поставило перед Иродом новые вопросы, на которые он не находил ответа, а Август, как если бы ничего не случилось, по всем правилам оформил дарственную Ироду на Трахонитскую область с Авранитидой, присовокупив к ним земли, власть над которыми осуществлял Зинодор. После этого Август устроил в честь Ирода пир, на котором присутствовали наместник Сирии и видные римские военачальники. Обращаясь к ним, Август назвал Ирода вторым человеком после Агриппы, который особенно близок его сердцу, и призвал их не предпринимать никаких шагов по управлению обширной восточной провинцией, не посоветовавшись предварительно с царем Иудеи. Ирод расчувствовался и, в свою очередь, заявил, что сердце его в одинаковой степени принадлежит Августу и Агриппе.
На следующий день он проводил Августа до Тира, откуда тот взял курс на Италию, а сам возвратился на подаренные ему земли Зинодора, где неподалеку от истока реки Иордан заложил из белого мрамора великолепный храм в честь римского императора.
3
Ханжество Зинодора, скончавшегося от жадности, вызвало у Ирода внутренний протест. Кажется, он в первый раз за всю свою жизнь связал власть с стремлением обладать деньгами. В храм, воздвигнутый в честь Августа, он вложил всю остававшуюся в его распоряжении наличность. Но и этого ему показалось мало. Вернувшись в Иерусалим, он издал указ, по которому освободил всех жителей Иудеи от трети податей. Когда первый министр Птолемей заметил ему, что такая мера вконец разорит государственную казну, так что не из чего будет платить жалованье чиновникам, Ирод ответил:
– Мы, благодарение Предвечному, не умираем с голоду, а народ Иудеи еще не вполне оправился после пережитого неурожая.
Птолемей и его министры решили, что Ирод кривит душой: освобождая народ от трети податей, он на самом деле стремится вернуть себе утраченное расположение сограждан, которые в его неумеренном увлечении строительством усматривают залог гибели прежнего благочестия и падение нравов. В этом мнении им удалось убедить и имевшую большое влияние на Ирода его сестру Саломию.
– Ирод стареет, – сказал ей Птолемей. – Надо бы подумать, кто станет его преемником.
– А кого ты хотел бы видеть царем Иудеи? – спросила Саломия.
– Это решать не мне, а Ироду, – ответил Птолемей. – Если, не приведи Господь, с Иродом случится какое несчастье, в стране может случиться бунт.
Николай Дамасский, присутствовавший при этом разговоре, пришел в негодование.
– Никто не смеет учить царя Иудеи, как ему следует поступать! А твое предположение, Птолемей, что с Иродом может случиться несчастье, подобно государственной из мене!
– Я просто хотел сказать, что все мы находимся в руках Предвечного, – смутившись, ответил первый министр и хранитель печати.
Саломия передала брату содержание этого разговора. Ирод по-своему отреагировал на ее слова: он потребовал привести народ Иудеи к присяге. Присягнуть на верность Ироду и повиновение правительственным предначертаниям обязаны были все граждане Иудеи, включая учеников саддукеев и фарисеев. Единственное исключение было сделано в отношении ессеев. Причиной тому стало письмо Менахема, доставленное ему молодым оборванцем-ессеем, назвавшимся его сыном. Из письма пророка он узнал, что тот тяжело болен и готовится к встрече с Предвечным. «Перед тем, как предстать перед Творцом, я должен открыть тебе истину, – продолжал Менахем. – Приезжай один, дорогу тебе покажет мой сын».
Отдав распоряжение о принесении ему, царю Иудеи, присяги на верность, Ирод покинул Иерусалим и в сопровождении молодого оборванца отправился к Соленому морю, на берегу которого обосновалась община ессеев. Менахема он застал умирающим. Взяв Ирода за руку, он попросил его наклонится и прошептал ему на ухо, обдав царя предсмертным жаром дыхания:
– Скоро, скоро на землю явится обещанный нам сын Предвечного Машиах. Ждать осталось недолго. Подготовь народ к этой радостной встрече и приготовься сам.
– Что я должен для этого сделать? – спросил Ирод.
Менахем, не выпуская его руки из своих рук, сказал:
– Не откладывая, отправляйся в дорогу навстречу Обещанному. Он ждет тебя… – Дыхание Менахема прерывалось, жар, исходивий от него, становился невыносимым.
– Тебе необходим врач, – сказал Ирод.
Менахем сжал его руку в своих ладонях.
– Не перебивай меня. Мне уже не поможет никакой врач. Ты понял, что я тебе сказал?
– Ты не сказал, куда мне отправиться, чтобы встретить сына Предвечного.
Менахем поморщился.
– Какой ты непонятливый. Встреча эта произойдет внутри тебя. – Дышать Менахему становилось все трудней, жар, еще минуту назад опалявший его лицо, стал ослабевать. – Только смотри, Ирод, не обманись. Будут такие, кто станет объявлять себя Машиахом и царем Иудеи. Не слушай их, гони прочь, а того лучше – казни. Кровь этих нечестивых, вводящих тебя в заблуждение, станет твоей искупительной жертвой сыну Предвечного. Ты поймешь это, когда встретишь истинного Машиаха. Если успеешь к тому времени подготовиться лицезреть его. Поторопись, Ирод! – Теперь от Менахема веяло холодом, который испугал Ирода, дыхание стало редким, глаза закатились.
– Как мне готовиться, чтобы понять, что передо мной истинный Машиах, а не лже-царь! – вскричал Ирод.
– Ты знаешь это лучше меня, – едва слышно произнес Менахем, и дыхание его оборвалось.
В тот же день, еще до захода солнца, тело Менахема было предано земле. Ессеи объявили семидневный траур по покойному. Ирод решил задержаться на берегу Соленого моря на все дни траура. Пребывание среди ессеев затянулось, и Ирод пробыл среди них значительно дольше – вплоть до окончания месяца ав [359].
Нет нужды домысливать то, что хорошо известно истории. Влияние ессеев, вобравших в свое учение не только идеи иудаизма, но и современной им греческой философии, испытали на себе многие. Ирод, проведя в их обществе несколько месяцев, ввел в свое правительство несколько ессеев, а одного из них – Иоанна – назначил даже командующим округом Фамны, подчинив ему также Лидду, Иоппию и Эммаус. Определенное влияние учение ессеев испытал на себе и Иосиф Флавий, к книге которого «Иудейская война» мы теперь и обратимся, дабы у читателей сложилось объективное представление об этих предтечах христиан, связанных между собой высокими нравственными принципами и чувством братской любви.
4
«Чувственных наслаждений они избегают как греха и почитают величайшей добродетелью умеренность и поборение страстей. Супружество они презирают, зато они принимают к себе чужих детей в том возрасте, когда они еще восприимчивы к учению, обходятся с ними, как со своими собственными, и внушают им свои нравы. Этим, впрочем, они отнюдь не хотят положить конец браку и продолжению рода человеческого, а желают только оградить себя от распутства женщин, полагая, что ни одна из них не сохраняет верность одному только мужу своему.
Они презирают богатство, и достойна удивления у них общность имущества, ибо среди них нет ни одного, который был бы богаче другого. По существующему у них правилу, всякий, присоединяющийся к секте, должен уступить свое состояние общине; а потому у них нигде нельзя видеть ни крайней нужды, ни блестящего богатства – все как братья владеют одним общим состоянием, образующимся от соединения в одно целое отдельных имуществ каждого из них. Употребление масла они считают недостойным, и если кто из них, помимо своей воли, бывает помазан, то он утирает свое тело, потому что в жесткой коже они усматривают честь, точно так же и в постоянном ношении белой одежды. Они выбирают лиц для заведования делами общины, и каждый без различия обязан посвятить себя служению всем.
Они не имеют своего отдельного города, а живут везде большими общинами. Приезжающие из других мест члены ордена могут располагать всем, что находится у их собратьев, как своей собственностью, и к сочленам, которых они раньше никогда не видели в глаза, они входят, как к старым знакомым. Они поэтому ничего решительно не берут с собой в дорогу, кроме оружия для защиты от разбойников. В каждом городе поставлен общественный служитель специально для того, чтобы снабжать иногородних одеждой и всеми необходимыми припасами. Костюмом и всем своим внешним видом они производят впечатление мальчиков, находящихся еще под строгой дисциплиной школьных учителей. Платье и обувь они меняют лишь тогда, когда прежнее или совершенно разорвалось, или от долгого ношения сделалось негодным к употреблению. Друг другу они ничего не продают и друг у друга ничего не покупают, а каждый из своего дает другому то, что тому нужно, равно как получает у товарища все, в чем сам нуждается; даже без всякой взаимной услуги каждый может требовать необходимого от кого ему угодно.
Своеобразен также у них обряд богослужения. До восхода солнца они воздерживаются от всякой обыкновенной речи; они обращаются тогда к солнцу с известными древними по происхождению молитвами, как будто испрашивают его восхождения. После этого они отпускаются своими старейшинами, каждый к своим занятиям. Проработав напряженно до пятого часа, они опять собираются в определенном месте, опоясываются холщовым платком и умывают себе тело холодной водой. По окончании очищения они отправляются в свое собственное жилище, куда лица, не принадлежащие к секте, не допускаются, и, очищенные, словно в святилище, вступают в столовую. Здесь они в строжайшей тишине усаживаются вокруг стола, после чего пекарь раздает всем по порядку хлеб, а повар ставит каждому посуду с одним-единственным блюдом. Священник открывает трапезу молитвой, до которой никто не должен дотронуться к пище; после трапезы он опять читает молитву. Как до, так и после еды они славят Бога как дарителя пищи. Сложив с себя затем свои одеяния, как священные, они снова отправляются на работу, где остаются до сумерек. Тогда они опять возвращаются и едят тем же порядком. Если случайно являются чужие, то они участвуют в трапезе. Крик и шум никогда не оскверняют места собрания: каждый предоставляет другому говорить по очереди. Тишина, царящая внутри дома, производит на наблюдающего извне впечатление страшной тайны; но причина этой тишины кроется, собственно, в их всегдашней воздержанности, так как они едят и пьют только до утоления голода или жажды.
Все действия совершаются ими не иначе как по указаниям лиц, стоящих во главе их; только в двух случаях они пользуются полной свободой: в оказании помощи и в делах милосердия. Каждому предоставляется помогать людям, заслуживающим помощи, во всех их нуждах и раздавать хлеб неимущим. Но родственникам ничто не может быть подарено без разрешения предстоятелей. Гнев они проявляют только там, где справедливость этого требует, сдерживая, однако, всякие порывы его. Они сохраняют верность и стараются распространять мир. Всякое произнесенное ими слово имеет больше веса, чем клятва, которая вовсе ими не употребляется, так как само произнесение ее они порицают больше, чем ее нарушение. Они считают потерянным человеком того, которому верят только тогда, когда он призывает имя Бога. Преимущественно они посвящают себя изучению древней письменности, изучая главным образом то, что целебно для тела и души; по тем же источникам они знакомятся с кореньями, годными для исцеления недугов, и изучают свойства минералов.
Желающий присоединиться к этой секте не так скоро получает доступ туда: он должен, прежде чем быть принятым, подвергать себя в течение года тому же образу жизни, как и члены ее, и получает предварительно маленький топорик, упомянутый выше передник и белое облачение. Если он в этот год выдерживает испытание воздержанности, то он допускается ближе к общине: он уже участвует в очищающем водоосвящении, но еще не допускается к общим трапезам. После того как он выказал также и силу самообладания, испытывается еще два дальнейших года его характер. И лишь тогда, когда он и в этом отношении оказывается достойным, его принимают в братство. Однако, прежде чем он начинает участвовать в общих трапезах, он дает своим собратьям страшную клятву в том, что он будет почитать Бога, исполнять свои обязанности по отношению к людям, никому ни по собственному побуждению, ни по приказанию не причинит зла, будет ненавидеть всегда несправедливых и защищать правых; затем, что он должен хранить верность к каждому человеку, и в особенности к правительству, так как всякая власть исходит от Бога. Дальше он должен клясться, что если сам будет пользоваться властью, то никогда не будет превышать ее, не будет стремиться затмевать своих подчиненных ни одеждой, ни блеском украшений. Дальше он вменяет себе в обязанность говорить всегда правду, разоблачать лжецов, содержать в чистоте руки от воровства и совесть от нечестной наживы, ничего не скрывать перед сочленами; другим же, напротив, ничего не открывать, даже если пришлось бы умереть за это под пыткой. Наконец, догматы братства никому не представлять в другом виде, чем он их сам изучил, удерживаться от разбоя и одинаково хранить и чтить книги секты и имена ангелов. Такими клятвами они обеспечивают себя со стороны новопоступающего в члены.
Кто уличается в тяжких грехах, того исключают из ордена; но исключенный часто погибает самым несчастным образом. Связанный присягой и привычкой, такой человек не может принять пищу от несобрата – он принужден поэтому питаться одной зеленью, истощается таким образом и умирает от голода. Вследствие этого они часто принимают обратно таких, которые лежали уже при последнем издыхании, считая мучения, доводившие провинившегося близко к смерти, достаточной карой за его прегрешения.
Очень добросовестно и справедливо они совершают правосудие. Для судебного заседания требуется по меньшей мере сто членов. Приговор их неотменим. После Бога они больше всего благоговеют перед именем законодателя: кто хулит его, тот наказывается смертью. Повиноваться старшинству и большинству они считают за долг и обязанность, так что если десять сидят вместе, то никто не позволит себе возражать против мнения девяти. Они остерегаются плевать перед лицом другого или в правую сторону. Строже, нежели все другие иудеи, они избегают дотронуться до какой-либо работы в субботу. Они не только заготавливают пищу с кануна для того, чтобы не разжигать огня в субботу, но не осмеливаются даже трогать посуду с места и даже не отправляют естественных нужд. В другие же дни они киркообразным топором, который выдается каждому новопоступающему, выкапывают яму глубиной в фут, окружают ее своим плащом, чтобы не оскорбить лучей божьих, испражняются туда и вырытой землей засыпают опять отверстие; к тому же еще они отыскивают для этого процесса отдаленнейшие места. И хотя выделение телесных нечистот составляет нечто весьма естественное, тем не менее они имеют обыкновение купаться после этого, как будто они осквернились.
По времени вступления в братство они делятся на четыре класса; причем младшие члены так далеко отстоят от старших, что последние, при прикосновении к ним первых, умывают свое тело, точно их осквернил чужеземец. Они живут очень долго. Многие переживают столетний возраст. Причина, как мне кажется, заключается в простоте их образа жизни и в порядке, который они во всем соблюдают. Удары судьбы не производят на них никакого действия, так как они всякие мучения побеждают силой духа, а смерть, если только она сопровождается славой, они предпочитают бессмертию…
Они твердо веруют, что, хотя тело тленно и материя невечна, душа же всегда остается бессмертной; что, происходя из тончайшего эфира и вовлеченная какой-то природной пленительной силой в тело, душа находится в нем как бы в заключении, но как только телесные узы спадают, она, как освобожденная от долгого рабства, весело уносится в вышину. Подобно эллинам, они учат, что добродетельным назначена жизнь по ту сторону океана – в местности, где нет ни дождя, ни снега, ни зноя, а вечный, тихо приносящийся с океана нежный и приятный зефир. Злым же, напротив, они отводят мрачную и холодную пещеру, полную беспрестанных мук. Эта самая мысль, как мне кажется, высказывается также эллинами, которые своим богатырям, называемым ими героями и полубогами, предоставляют острова блаженных, а душам злых людей – место в преисподней, жилище людей безбожных, где предание знает даже по имени некоторых таких наказанных, как Сизиф и Тантал, Иксион и Титий [360]. Бессмертие души, прежде всего, само по себе составляет у ессеев весьма важное учение, а затем они считают его средством для поощрения к добродетели и предостережения от порока. Они думают, что добрые, в надежде на славную посмертную жизнь, считаются еще лучшими; злые же будут стараться обуздать себя из страха перед тем, что если даже их грехи останутся скрытыми при жизни, то, по уходе в другой мир, они должны будут терпеть вечные муки. Этим своим учением о душе ессеи неотразимым образом привлекают к себе всех, которые только раз вкусили их мудрость.
Встречаются между ними и такие, которые после долгого упражнения в священных книгах, разных обрядах очищения и изречениях пророков утверждают, что умеют предвещать будущее. И, действительно, редко до сих пор случалось, чтобы они ошиблись в своих предсказаниях.
Существует еще другая ветвь ессеев, которые в своем образе жизни, нравах и обычаях совершенно сходны с остальными, но отличаются своими взглядами на брак. Они полагают, что те, которые не вступают в супружество, упускают важную часть человеческого назначения – насаждение потомства; да и все человечество вымерло бы в самое короткое время, если бы все поступали так. Они же испытывают своих невест в течение трех лет, и, если после трехкратного очищения убеждаются в их плодородности, они женятся на них. В период беременности своих жен они воздерживаются от супружеских сношений, чтобы доказать, что они женились не из похотливости, а только с целью достижения потомства. Жены их купаются в рубахах, а мужчины в передниках. Таковы нравы этой секты».
5
Ирод вернулся в Иерусалим просветленный. Преобразившийся сам, он намеревался преобразить весь подвластный ему народ, искоренив из него всяческое зло. Бесконечно повторял он про себя предсмертные слова Менахема: «Встреча твоя произойдет внутри тебя. Только смотри, Ирод, не обманись. Будут такие, кто станет объявлять себя Машиахом и царем Иудеи. Не слушай таких, гони их прочь, а того лучше – казни. Кровь этих нечестивых, вводящих тебя в заблуждение, станет твоей искупительной жертвой сыну Предвечного». Вслух же ко всем он обращался с другими словами: «О, человек! сказано тебе, чтó – добро, и чего требует от тебя Господь: действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренномудренно ходить пред Богом твоим», – и во всех своих поступках стремился следовать этим словам.
Ирода не узнавали. Кто-то решил, что царь тронулся умом, кто-то стал распространять слухи, будто царь опасно заболел и скоро умрет. Находились и такие, кто говорил: «Царь, вознамерясь превратить страну в обитель добра, на деле хочет всецело подчинить Иудею Риму». Налоги, и без того сокращенные Иродом, народ перестал вносить в казну вовсе. Зилоты призывали свергнуть Ирода, как помеху, стоящую между народом и Предвечным. Ослабленную власть на местах захватывали сикарии, чиня самосуд и по малейшему поводу и без повода предавая людей казни.
Ироду докладывали о беспорядках, чинимых в стране самозванными судьями. Но царь не обращал на эти доклады внимания. Чем дальше, тем больше он приходил к выводу, что беспорядки эти прекратятся сами собой, как только люди, беря пример с него, станут очищаться от скверны и открывать в себе ту божественную сущность, которую вдохнул в человека Господь Бог, сотворив его из праха земного по образу и подобию Своему. Он вновь и вновь возвращался мысленно к давним временам счастливой молодости, когда между ним и покойным братом Фасаилом возникали споры, и тот, подтрунивая над Иродом, читал ему высказывания греческих философов, из которых ему больше всего запомнился Фалес с его центральным тезисом: «Что на свете труднее всего? – Познать себя». Ироду казалось тогда, что Фасаил впустую тратит время, до бесконечности читая и перечитывая одно и то же, а брат удивлялся: «Как может надоесть приобщение к мудрости?» Теперь, по прошествии стольких лет, он запоздало убедился в правоте Фасаила и, не замечая, что совершенно перестал заниматься государственными делами, с головой окунулся в чтение древних книг, отдавая предпочтение книгам греческих философов.
Николай Дамасский одобрил перемену, произошедшую в Ироде. Он рассказывал ему о сущности понимания греками эона и отличии этого понятия от хроноса [361], посвящал в тайны нового нарождающегося учения гносиса [362], поклонником которого был сам, подолгу беседовал с ним об опасности мамоны [363], которая разлагает душу человеческую.
6
Между тем обстановка в стране становилась все хуже и хуже. За Иродом прочно закрепилась репутация умалишенного, который ударился в мистику и уже не способен ни на какие вменяемые действия. Казна опустела. Правительство бездействовало. Саддукеи требовали от синедриона взять всю полноту власти в Иудее в свои руки. Фарисеи призывали народ к смирению и покорности, сами показывая в этом пример для подражания. Но если в прежние времена их поведение вызывало уважение со стороны окружающих, то теперь, в обстановке всеобщего хаоса, они стали предметом насмешек. Молодые люди, завидев на улицах городов фарисеев, бросали им в лицо оскорбления и улюлюкали. О них стали говорить как о лицемерах, которые думают лишь о себе, а на то, что станется с народом, им наплевать. Получила хождение поговорка: «Если Предвечному будет угодно взять на небо всего двух людей, то одним из них наверняка окажется фарисей».
Не стало видно и слышно ессеев: они уверовали в полноту времени и со дня на день ожидали прихода Мессии. Зато зилоты разошлись вовсю: они уже открыто призывали к свержению с престола Ирода и провозглашению единственным царем над Иудеей Бога. В это тревожное, полное противоречий и неясностей относительно будушности страны время стали обретать популярность законоучителя Шаммай и Гиллель, собиравшие вокруг себя множество людей, ищущих ответы на свои непростые вопросы. Учили Шаммай и Гиллель не в школах, а академиях, созданных по образцу академии Платона [364]. Но и эти законоучителя, или, как их еще называли, книжники, становились объектами насмешек со стороны все той же молодежи. О них придумывали всякого рода байки и небылицы, вроде, например, такой, которая вошла позже в книгу «Агада» как достоверная история:
«Рассказывают про Гиллеля, что он нанимался на поденную работу и, получая полдинария в день, половину отдавал привратнику академии, а другую половину тратил на пропитание своей семьи.
Однажды случилось так, что он остался без заработка, и привратник не впустил его в академию. Тогда он взобрался на кровлю и, держась в полувисячем положении, припал лицом к решетчатому просвету, чтобы услышать слово Бога Живого из уст законоучителей Шаммая и Авталиона.
Случилось это – рассказывают – в канун субботы, в зимнюю пору. Выпал снег и засыпал его. Когда стало рассветать, Шаммай сказал Авталиону:
– Брат Авталион! Всегда в это время светало, а сегодня темно. Настолько ли облачно сегодня?
Взглянули наверх и видят человеческий облик в просвете. Взошли на кровлю и нашли Гиллеля покрытым слоем снега в три локтя толщиною. Очистив его от снега, умыли, умастили елеем и усадили у очага.
– Этот, – сказали Шаммай и Авталион, – заслуживает, чтобы ради него и субботний покой нарушить».
Но что было хуже всего, так это вконец распоясавшиеся сикарии. Грабежи и убийства происходили теперь не только в темное время суток, но и среди бела дня. Дошло до того, что шайка самых отчаянных сикариев численностью до десяти человек проникла во дворец Ирода, зарезала стражников и похитила из покоев погибшей царицы Мариамны, куда доступ решительно всем был строжайше запрещен, принадлежавшие ей драгоценности, включая носильные вещи.
Когда Ироду доложили о краже, царь пришел в неистовство. Самая мысль о том, что платья и украшения, которые некогда носила его любимая жена, теперь станут носить другие женщины или, того хуже, наложницы сикариев, вызвала у Ирода острое желание немедленно разыскать грабителей и казнить их, как казнил он некогда галилеянина Езекию и сто двадцать семь его товарищей по разбойничьему ремеслу. Несколько поостыв, он решил, что крови на его век достаточно, и что от него, как от царя, требуется не личная месть, а такое переустройство государства, которое вытеснит любое зло как из Иерусалима, так и пределов Иудеи. С этой целью он издал указ, по которому все воры, невзирая на их происхождение и социальный статус, подлежат немедленному аресту и продаже в вечное рабство в чужеземных странах.
На сикариев началась самая настоящая охота. В короткое время были выловлены и закованы в цепи десятки тысяч людей, заподозренных в кражах и убийствах. Хватали не только тех, кто явно был изобличен в разбойничестве, но и тех, кто сбывал краденое и покупал его. Успеху этой масштабной операции, охватившей всю Иудею, в немалой степени способствовали призванные на военную службу ветераны Ирода, с которыми он одержал немало славных побед, и тайные агенты, которые от долгого безделья сами стали пошаливать, наживаясь на горе и страданиях простых людей.
Спустя три месяца после обнародования указа Ирода в Иерусалим были согнаны первые десять тысяч сикариев. Ирод лично вышел посмотреть на эту армию отщепенцев. Обезоруженные, присмиревшие под взглядом царя и тяжестью оков, сковавших их по рукам и ногам, они выглядели жалкими, как побитые псы. Жители Иерусалима и его окрестностей, высыпавшие на улицы, чтобы поглазеть на тех, кто совсем недавно наводил ужас на страну, требовали сурового наказания ворам, насильникам и убийцам. Ирод, казалось, никого не слышал. Он медленно обходил одну группу арестованных за другой, подолгу всматривался в их лица и думал: «Почему вы не хотите жить честно? Что толкает вас на грабежи и убийства? Голод? Вы не выглядите голодными. Нужда? Вы даже теперь, закованные в цепи, одеты лучше, чем эти толпы простолюдинов, требующие покарать вас за ваши преступления. В таком случае чтó? Почему вам неймется? Какая страсть завладела вашими душами, если страдания ни в чем неповинных людей, которых вы грабите сотнями и тысячами, не только не отрезвляет вас, а толкает на все новые и новые преступления?»
Закончив осмотр, Ирод повернулся к сопровождающим его лицам и отдал приказ Птолемею:
– Всех перестроить в три колонны, приставить к ним охрану и выпроводить на юг, восток и север за пределы Иудеи. Продать их чужеземцам на невольничьих рынках в рабство на вечные времена.
И тут случилось нечто невообразимое, не укладывающееся в рамки самой элементарной логики. Толпы народа, еще минуту назад требовавшие самого сурового наказания преступников, протестующе загудели, запротестовали и стали обвинять Ирода в неоправданной жестокости и нарушении установлений древних законов. Отовсюду доносились голоса, сливающиеся в один несмолкаемый гул:
– Будь справедлив, Ирод!
– Никто не вправе продавать иудеев в рабство!
– Евреи не должны становиться рабами язычников!
– Если вор пойман, то пусть он заплатит вдвое за украденное! [365]
– Вели казнить их, Ирод, но не делать вечными рабами чужеземцев! «Если кто застанет вора подкапывающего, и ударит его, так что он умрет, то кровь не вменится ему»! [366]
– «Но если взошло над ним солнце, то вменится ему кровь! Укравший должен заплатить; а если нечем, то путь продадут его для уплаты за украденное им» [367].
– Продадут иудеям же, но никак не чужеземцам! Будь благочестив, Ирод!
Случившийся тут же первосвященник Симон, отец Мариамны II и тесть Ирода, приблизившись к царю, шепнул ему на ухо:
– Не бери греха на душу, Ирод. Закон запрещает продавать еврея на вечные времена. Сказано: «Если купишь раба Еврея, пусть он работает шесть лет; а в седьмой пусть выйдет на волю даром» [368].
Ирод неприязненно посмотрел на первосвященника, ничего ему не ответил, а Птолемею сказал:
– Тебе ясен мой приказ? Выполняй! – И, ни на кого больше не обращая внимания и ничего перед собой не видя, кроме мраморных плит, которыми была вымощена площадь, вернулся во дворец.
7
Продажа первой партии выловленных преступников в рабство и протесты простолюдинов, поддержанные первосвященником Симоном, произвели на Ирода двойственное впечатление. С одной стороны, он понимал, что всякое зло должно быть своевременно и самым беспощадным образом выкорчевано, ибо, укоренившись, оно может заполнить собой всю жизненную ниву, не оставив росткам добра ни малейших шансов пробиться к свету и выжить. С другой стороны, он понимал и людей, благочестию которых претила такая беспощадная борьба со злом. Стало быть, думал Ирод, зло не должно искореняться злом? Но как быть в таком случае с заповеданным «глаз за глаз, зуб за зуб, руку за руку, ногу за ногу, обожжение за обожжение, рану за рану, ушиб за ушиб»? [369]Ирод провел несколько бессонных ночей в поисках ответов на свои вопросы, но так и не нашел их. В утомленном сознании его зло перемешивалось с добром, а добро со злом, и тогда, чтобы не мучить себя и дальше, он утешился скорбной фразой пророка: «Горе тем, которые зло называют добром, и добро злом…» [370]
Он не отменил своего указа о продаже воров и убийц в вечное рабство чужеземцам, что породило в народе слухи о заносчивости царя, который поступает не как мудрый правитель, а как тиран, насмехающийся над своими подданными. В то же время Ирод стал более чуток ко всем жалобам евреев, проживающих в других государствах, на притеснения со стороны коренных жителей этих государств. Щепетильность, с какой Ирод рассматривал каждую из таких жалоб и делал все от него зависящее, чтобы евреи и в диаспорах могли чувствовать себя такими же свободными людьми, как в своей собственной стране, снискала ему уважение со стороны зарубежных соотечественников. Ирод не ограничивался денежными воспомоществлениями пострадавшим от притеснений и своими обращениями к Октавию, которого называл теперь не иначе, как Августом, но и лично отправлялся в страны, откуда поступали жалобы, чтобы разрешить все спорные вопросы на месте. Август оказывал ему в этой его деятельности всемерную поддержку, а когда жалобы с мест становились особенно настойчивыми, направлял в помощь Ироду одного из своих приближенных, чтобы тот при разрешении спорных вопросов мог употребить власть и авторитет Рима. Одним из таких приближенных чаще всего становился сподвижник и друг Августа Агриппа. Влиятельный военачальник и политик, происходивший, как и Ирод, из простолюдинов, он благодаря своим талантам добился звания второго, после Августа, человека в империи. Подобно Ироду, Агриппа на собственные средства построил многочисленные общественные здания, возвел Пантеон [371], основал город Кёльн, соорудил водопровод и термы в Риме, осуществил геодезическую съемку всей Римской империи, которая легла в основу составления первой карты мира. Между Агриппой и Иродом вообще было много общих черт, включая присущую им обоим щедрость в оказании помощи нуждающимся, что не могло не сказаться на их личных взаимоотношениях, которые до самой смерти Агриппы (умер Агриппа в 12 г. до н. э. в возрасте 52-х лет) оставались не просто дружественными, но сердечными.
Случилось так, что от евреев, живших в Ионии [372], одновременно в Рим и Иерусалим поступила жалоба тамошних евреев на притеснения со стороны греков. Греки, писали евреи, мешают им жить сообразно их обычаям, заставляют являться в суд в священные субботы, отбирают предназначенные для Иерусалимского Храма деньги, заставляют нести военную службу и заниматься общественными работами, от которых они навсегда освобождены римлянами, предоставившими им право жить по собственным законам. Ирод, получив эту жалобу, сразу же отправился в Ионию; туда же в сопровождении высокопоставленных римских чиновников прибыл и Агриппа. Давние друзья тепло приветствовали друг друга и, не теряя времени, немедленно приступили к рассмотрению существа жалобы евреев, собрав для этого многочисленных представителей обеих тяжущихся сторон – греков и евреев. От имени евреев выступил некто Николай, почитавший себя другом Ирода за щедрую материальную помощь, которую тот некогда оказал ионийским евреям, о чем сам Ирод успел забыть. Вот эта речь в том виде, в каком она дошла до нас:
«Всесильный Агриппа! Все те, которые находятся в стесненном положении, должны обращаться за помощью к лицам, могущим поддержать их. Особенное право на это имеют здесь предстоящие ныне ты, Агриппа, и ты, Ирод. Получая от вас прежде неоднократно те милости, которые служили к их благополучию, они теперь просят, чтобы вы, даровавшие им эти милости, теперь не лишали их таковых.
Ведь они получили свои привилегии от тех, у которых исключительно и есть на то возможность и власть, а теперь у них отнимают эти преимущества не более сильные, но такие же точно, как они сами, подданные ваши. Если они удостоились бóльших преимуществ, то в этом самом и заключается уже похвала им: значит, они оказались достойными таких великих милостей.
Если же преимущества незначительны, то гнусно, что даровавшие их не дают им возможности спокойно пользоваться ими. Вполне ведь ясно, что те, которые стесняют и гнетут иудеев, оскорбляют обе стороны – как тех, кто удостоился милостей, не признавая порядочными людьми тех, кого таковыми признали более могущественные, почему и даровали им указанные привилегии, так и самих даровавших эти преимущества, потому что стараются свести на ничто дарованные ими привилегии. И вот, если бы кто-нибудь спросил их, чего они предпочли бы лишиться, жизни или родных своих обычаев, процессий, жертвоприношений и празднеств, устраиваемых ими в честь так называемых богов их, то я отлично знаю, что они готовы были бы претерпеть все, лишь бы не тронуть чего-либо из обычаев. Ведь большинство их и предпринимает войны для ограждения этих установлений. Мы же тем измеряем благополучие, которым ныне благодаря вам пользуется все человечество, что каждой стране предоставлена возможность справлять почитаемые родные обычаи и жить по ним. И вот теперь люди, которые сами не согласились бы претерпеть таковое, изо всех сил пытаются навязать это другим, совершенно упуская из виду, что они поступают одинаково безбожно, когда пренебрегают собственными священными постановлениями относительно своих богов или когда святотатственно посягают на подобные чужие установления.
Посмотрим теперь на дело еще с другой стороны. Разве существует такое племя, такой город или целый народ, которым покровительство вашей власти и могущество римлян не представлялось бы величайшим благом? Разве найдется кто-либо, который бы отказался от ваших милостей? Нет, не найдется такого сумасшедшего. Нет никого, ни частного лица, ни общины, которые бы не чувствовали на себе этих милостей. Действительно, те, кто собирается отнять у кого бы то ни было вами дарованные милости, должны отказаться, в свою очередь, и от своих собственных вами дарованных привилегий; при этом все такие милости не могут быть даже вполне оценены во всем их значении: если сопоставить прежнюю форму правления с теперешней, то среди многих прочих преимуществ последней, направленной к всеобщему благополучию, следует особенно остановиться на том, что ныне люди более не рабы, но свободны.
И тем не менее, невзирая на все наши преимущества, последние все-таки не могут возбуждать зависти. Благодаря вам мы живем счастливо во всех отношениях и теперь просим только одного, именно: и впредь пользоваться правом беспрепятственно соблюдать требования древнего благочестия, а это как само по себе не может быть вредно, так не может стеснять и тех, кто нам разрешил это. Ведь Божество в одинаковой мере охотно принимает поклонение, как и относится доброжелательно к тем, кто способствует поклонению Ему. В наших установлениях нет решительно ничего несовместимого с человеческим достоинством, а все направлено к благочестию и благотворной справедливости.
Мы отнюдь не утаиваем данных нам для повседневной жизни предписаний, которые являются лишь напоминанием о нашем благочестии и свидетельствует о прекрасном отношении нашем к людям вообще; каждый седьмой день недели мы посвящаем изучению законов и предписаний, считая необходимым такое напоминание и изучение всего, что избавило бы нас от будущих прегрешений. Если кто рассмотрит эти наши законы поближе, то увидит, что они, и сами по себе прекрасные, особенно выигрывают в наших глазах от своей древности, хотя некоторые и отрицают это; а эта древность их вызывает к ним тем более почтения и любознательности в тех, кто, приняв эти законы, свято чтит их.
Теперь нас лишают этих преимуществ, насильно отнимая у нас деньги, собранные нами с богоугодной целью, и, таким образом открыто кощунствуя, назначают нам принудительные работы, заставляют нас в праздники являться в судилища и на работы, и все это не на основании заранее заключенного договора, но чтобы поглумиться над нашей хорошо всем известной религиозностью и для того, чтобы выразить нам свою ни на чем не основанную и беспредельную ненависть. Впрочем, ваше распространившееся по всей земле владычество одно в состоянии поддерживать в одинаковой мере добрые стремления, как и сдерживать всякое недоброжелательство, высказываемое одними против других.
Поэтому, могущественный Агриппа, мы теперь просим о том, чтобы не подвергаться обидам и глумлениям, чтобы не быть стесненными в наших обычаях, чтобы не лишаться нашего преимущества и не подвергаться насилиям со стороны тех, кого мы сами ни в чем не стесняем.
Все эти требования наши не только справедливы, но уже раньше были признаны с вашей стороны вполне законными. Мы могли бы сослаться на целый ряд сенатских постановлений и на таблицы, помещенные на Капитолии, относительно наших привилегий, которые наглядно показали бы, что они дарованы нам вами за испытанную верность нашу, и которые имели бы все-таки законную силу, даже если бы мы их вовсе не заслужили своим к вам отношением. Охраняя права не только наши, но вообще всех людей, вы благодетельствуете в вашем владычестве всем, даруя милости в большей мере, чем можно было бы рассчитывать; всякий, кто вздумал бы перечислять все оказанные вами благодеяния, мог бы вести свою речь без конца. Впрочем, для того, чтобы доказать, что мы достигли всех милостей совершенно справедливо, нам достаточно, умолчав о всем прочем, назвать одно лишь имя теперешнего царя нашего, который ныне сидит здесь рядом с тобой.
Разве он хоть раз изменил своему расположению к вашему дому, разве он когда-либо обнаружил какую-нибудь неверность? Разве можно говорить о какой-нибудь такой чести, которой он не оказал бы вам? Разве есть такая услуга, в оказании которой он не явился бы первым? Что же препятствует тому, чтобы число наших услуг не сравнялось с числом ваших нам благодеяний? Конечно, вполне уместно, чтобы я не оставил теперь без упоминания также и доблести отца его Антипатра, который явился на помощь Цезарю с двумя тысячами воинов при вторжении его в Египет и не уступал в храбрости никому ни во время сухопутных сражений, ни во время морских битв. Что теперь говорить о том, какой поддержкой явились тогда эти воины и каких великих наград удостоился каждый из них от Цезаря; мне следовало бы тут напомнить о письмах, посланных тогда Цезарем сенату, о том почете, которого публично удостоился Антипатр, получивший тогда и право римского гражданства.
Итак, все с достаточной убедительностью свидетельствует о том, что мы вполне заслужили римские милости и теперь на вполне законном основании требуем от тебя подтверждения этих наших преимуществ, на которые мы могли бы, если бы они даже не были дарованы нам раньше, ныне рассчитывать, видя добрые отношения нашего царя к вам, а ваши к нему. Напоминая тебе обо всем этом, мы теперь, в присутствии здесь сидящего царя нашего, не просим ничего сверх того, что вы сами уже даровали нам, и умоляем не относиться безразлично к тому, что этих ваших милостей собираются теперь лишить нас посторонние лица».
Эту речь Николая Иосиф Флавий сопроводил следующим комментарием:
«На такую речь Николая греки и не думали возражать, тем более что тут не было никакого судебного разбирательства, но лишь возбуждался вопрос о насильственном нарушении фактических прав. Поэтому греки вовсе и не отрицали правильности приведенных фактов, но ограничились лишь указанием на то, что иудеи совершенно завладели теперь их территорией и позволяют себе всяческие несправедливости. На это иудеи отвечали, что они сами являются такими же коренными жителями страны, как и греки, и, соблюдая свои родные установления, никому не причиняют ни малейшего зла. Тогда Агриппа признал, что иудеи являются потерпевшей стороной, и ввиду расположения к нему и дружбы Ирода выразил готовность оказать иудеям всяческую поддержку в их совершенно законных требованиях, сказав при этом, что он готов исполнить и всякие другие просьбы их, лишь бы это не умаляло власти римлян. Что же касается их просьбы о подтверждении уже прежде дарованных им прав их, то он сим вновь утверждает их за ними и требует, чтобы никто не препятствовал им спокойно жить сообразно их собственным установлениям.
С этими словами он распустил собрание. Ирод же поднялся с места, обнял Агриппу и выразил ему свою признательность за его расположение к нему. Обрадованный этим Агриппа, в свою очередь, заключил царя в объятия и расцеловался с ним».
8
Комментарий к речи Николая, обращенной к Агриппе и присутствующему при рассмотрению тяжбы между греками и евреями Ироду, может, однако, быть иным. Смею высказать мысль, что с учетом всех недавних событий, очевидцем и участником которых стал Ирод (его указ о продаже за пределами Иудеи в рабство всех воров и убийц, который иерусалимские евреи расценили как заносчивость царя и произвол тирана), равно как всей последующей истории еврейского народа, зачатки которой обнаружились уже при жизни Ирода, – комментарий этот должен быть другим.
Николай, как это явствует из его речи, говорил об иудеях, поселившихся в диаспоре (в нашем случае в Ионии). Но иудаизм – это религия, которую исповедовал и Ирод, а до Ирода – его отец Антипатр. Между тем национализм евреев, а говоря точнее – национальная самоизоляция евреев, проявившаяся на ранних ступенях развития истории, оказалась самым таесным образом переплетена с религией иудаизма. Ветхий Завет переполнен примерами, в которых Господь прямо призывает евреев истребить племена и народы, населявшие Палестину задолго до прихода сюда евреев. Идумеяне, к которым принадлежал Ирод, не составляли в этом отношении исключения, и Ирод сполна испил горькую чашу неприязненного отношения к нему евреев как к инородцу. Мне могут возразить на это, что в Ветхом Завете можно найти примеры и прямо противоположного свойства, в которых Бог евреев призывает Свой народ к терпимому отношению к иноплеменникам. Действительно, такие примеры есть. Так, читаем: «Не гнушайся Идумеянином, ибо он брат твой; не гнушайся Египтянином, ибо ты был пришельцем в земле его; дети, которые у них родятся в третьем поколении, могут войти в обществе Господне» [373]. Но примеры эти столь немногочисленны и сопровождаются таким длинным перечнем племен и народов, с которыми евреям запрещается вступать в какие бы то ни было отношения, что буквально тонут в них. Процитированному только что фрагменту из Второзакония предшествует вот какое указание Господа: «Аммонитянин и Моавитянин [374]не может войти в общество Господне, и десятое поколение их не может войти в общество Господне во веки; потому что они не встретили вас с хлебом и водою на пути, когда вы шли из Египта, и потому что они наняли против тебя Валаама, сына Веорова, из Пефора Месопотамского [375], чтобы проклясть тебя. Но Господь, Бог твой, не восхотел слушать Валаама, и обратил Господь, Бог твой, проклятие его в благословение тебе; ибо Господь, Бог твой, любит тебя. Не желай им мира и благополучия во все дни твои, во веки» [376].
Рискну высказать более дерзкое предположение: у евреев с древнейших времен на первом месте стояли соображения национальной солидарности и, как следствие такой солидарности, национальной исключительности. Истоки иудаизма следует искать именно в этой внутренней убежденности евреев в своей исключительности, облачившейся в идею богоизбранности (в задачу автора не входит рассмотрение вопроса об особенностях иудаизма как религии, вобравшей в себя многое из других древних религий). В такой именно последовательности – вначале национальная исключительность, а уж потом религия – и кроется «тайна» самоидентификации евреев как народа. Эта последовательность в полной мере выдержана в клятве моавитянки Руфи, с которой она обращается к своей свекрови Ноемине: «Народ твой будет моим народом, и твой Бог моим Богом» [377]. Приоритет убежденности евреев в своей национальной исключительности над соображениями веры, нашедшей опору в национальной солидарности евреев вне зависимости от того, что собой представляет конкретный еврей – достойный ли он человек, наделенный талантами и добродетелями, или законченный мерзавец, – нашел подтверждение в одном из изречений древних мудрецов: «Каждый еврей в ответе за своего собрата».
Уникальность еврейского народа по-своему определил вскоре после Второй мировой войны еврейский религиозный философ и писатель Мартин (Мордехай) Бубер, исповедовавший идею бытия как диалог между Богом и человеком, между человеком и миром: «Израиль – это народ, отличный от всех остальных народов, ибо он с древнейших времен представлял собой одновременно и национальную, и религиозную общину». Другой еврейский мыслитель Юджин В. Боровиц убежден: «Единство еврейского народа – неотделимая часть еврейской религиозной мысли и еврейской религиозной практики. Жить именно еврейской религиозной жизнью – означает жить среди еврейского народа, в общине Завета. Когда минимум десять евреев собираются на молитву, они представляют весь Израиль, его прошлое и будущее, здесь и повсюду». А вот что пишут современные исследователи еврейского вопроса Стивен М. Коэн и Джек Вертхаймер: «С библейских времен и до наших дней истинным пониманием того, что значит быть евреем и принимать на себя ответственность за будущее еврейского народа, являлось представление о евреях как о единой всемирной семье и выражение заботы о каждом члене этой семьи. Евреи являются не просто скоплением отдельных последователей определенной религии, каждый из которых ведет свой личный поиск смысла жизни. Это прежде всего народ, чьим отличительным знаком было признание его уникальной коллективной роли в истории. Выражаясь классическим теологическим языком, это знак избранности. Не рассматривать евреев как единый народ означает отказаться от стержневой сущности еврейства».
Было бы нелепо думать, что все это – пусть в зачаточной форме – осознавал Ирод. Но, будучи образованнейшим человеком своего времени и исповедуя иудаизм, он не мог не понимать, что многие из отрицательных черт его подданных проистекают, с одной стороны, из национальной чванливости евреев (их неприязнь к нему как инородцу Ирод испытал в полной мере и никогда не мог смириться с их заносчивым отношением к себе, почему среди ближайшего его окружения было так мало евреев), а с другой – из ограниченности иудаизма как вполне сформировавшейся религии. (Впрочем, ограниченность иудаизма понимали и многие образованные евреи его времени, этим-то и объясняется возникновение внутри иудаизма различных сект – от ессеизма до зачатков христианства.)
Едва ли Ирод мог разделить все позиции речи Николая, выставленные им в качестве аргументов в пользу права евреев на особое их существование среди другого народа и незыблемости привилегий, дарованных им Римом. Скорее, он мог признать правоту греков, которые, будучи коренными жителями Ионии, не хотели мириться с тем, что все тяготы общественных работ и несения военной службы должны лежать на них одних, тогда как иудеи в это время будут отправлять свои религиозные обязанности и соблюдать свои установленные в древности обычаи. Ссылка на то, что евреи при этом нисколько не стесняют греков в их образе жизни, служила слабым доводом в пользу сохранения за ними всех прежних привилегий, благодаря которым они оказывались в явно выигрышном положении.
В еще меньшей мере могла удовлетворить Ирода та часть выступления Николая, в которой тот ссылался чуть ли не как на козырь в праве евреев на особое их существование, на пример Ирода и его отца Антипатра, всемерно оказывавших поддержку проводимой Римом политики. И Антипатр, и в еще большей мере Ирод по горло были сыты упреками евреев в том, что для них всегда на первом месте были интересы Рима, а не Иудеи и ее народа. И потому, полагаю, в комментарии Иосифа Флавия к речи Николая – «Ирод поднялся с места, обнял Агриппу и выразил ему свою признательность за его расположение к нему», – упор следует сделать на словах за его расположение к нему,Ироду, а отнюдь не к тому, чего добился от Агриппы своим выступлением Николай. Самым же правильным определением чувства, которое испытал Ирод после выступления Николая и подтверждения Агриппой уже прежде дарованных евреям прав на особые для них льготы, будет слово смятение. И тогда, несомненно, Ирод еще раз вспомнил предсмертное пророчество ессея Менахема о скором приходе Мессии, Которому он, Ирод, передаст всю полноту царской власти над Иудеей.
Глава пятая ЛЖЕ-МЕССИЯ
1
Ирод пригласил Агриппу посетить Иудею. Приглашение Агриппа принял. Три корабля, на которых находились Ирод и Агриппа, сопровождающие их лица и охрана, вошли в гавань только что отстроенной Кесарии.
Стоял тихий осенний день. На пронзительно синем небе не было ни облачка. Зелень террасами расходящегося от гавани берега сочеталась с лазурью моря, которое было так прозрачно, что просматривалось до самого дна. Неподвижные стайки рыб пучили немигающие глаза на крутые борта триер с налипшими на них пучками водорослей и ракушек, через равные промежутки времени, вспугнутые плеском весел, стремительно исчезали, чтобы в следующую минуту снова собраться в неподвижные любопытные стайки. У причалов стояли под разгрузкой торговые корабли, прибывшие в Иудею из самых разных стран. Здесь же были пришвартованы корабли, которые загружались товарами, изготовленными в Иудее и предназначенными для отправки за границу.
Особенно же красиво выглядел беломраморный город с дворцами и памятниками, прямыми, будто по линейке вычерченными улицами, веером сходящимися к кругообразной площади. По случаю прибытия в город знатных особ площадь была запружена самым разным людом. Когда триеры, управляемые лоцманами, лавировали в гавани в поисках свободного места, чтобы пристать к берегу, взгляд Ирода выхватил из множества народа на берегу молодого мужчину в белоснежном хитоне. В отличие от других встречающих мужчина этот не кричал и не размахивал руками; чуть наклонив голову с длинными шелковистыми волосами и такими же шелковистыми усами и бородкой, он приветливо смотрел на Ирода, и во взгляде его больших добрых глаз Ироду почудилось, что он говорит ему: «Ты ожидал встречи со мной? Вот я и пришел. Здравствуй, Ирод!»
«Мессия! – мелькнуло в мозгу царя, и тут же по-древнееврейски: – Машиах!»
Едва сойдя на берег, Ирод хотел было поспешить к незнакомцу, но тот уже исчез, как если бы его вовсе не было среди встречающих. Толпа, запрудившая площадь, ликовала. Агриппа, сошедший на мраморную пристань вслед за Иродом, тепло приветствовал собравшихся и тут же распорядился за собственный счет выставить из множества портовых таверн прямо на площадь и прилегающие к ней улицы столы, накрыть их снедью и вином и досыта накормить и напоить всех, не делая различия между мужчинами и женщинами, стариками и детьми. Сам же, сопровождаемый Иродом и многочисленной свитой, отправился осматривать город, носящий имя Цезаря Августа.
За ними увязалась толпа, которая даровому угощению предпочла общество могущественного римлянина и своего царя. Ирод, идя рука об руку с Агриппой и рассеянно отвечая на его расспросы, озирался по сторонам в надежде еще раз увидеть незнакомца. Но тот как в воду канул. Агриппа поинтересовался:
– Ты ожидаешь кого-то увидеть?
– Нет, – поспешно ответил Ирод. – Не обращай на меня внимания.
– Прекрасный город! – похвалил Агриппа. – Август порадуется, когда я опишу ему всю эту красоту, которую ты возвел в его честь. Ничего более величественного мне еще не доводилось видеть.
Из Кесарии Ирод и Агриппа отправились в Себасту, а оттуда в Антипатриду и Иродион. Всюду, куда прибывали они, их встречали толпы восторженного народа. Агриппа искренне восхищался всем, что видел, и не скупился на похвалы талантам зодчих. В благодарность за это Ирод не останавливался ни перед какими расходами, чтобы Агриппа и сопровождающие его лица ни в чем не знали нужды. Агриппа, впрочем, также не скупился на расходы. Когда же они, наконец, достигли Иерусалима и взору Агриппы уже издали открылся храм, возведенный Иродом в честь Предвечного, у него не нашлось слов, чтобы выразить свое восхищение. Он просто обнял Ирода и прижал его к своей груди.
– Ты поистине велик, Ирод, и нет тебе равных среди всех многочисленных друзей Рима, – только и сказал он.
Известие о прибытии в Иудею Агриппы достигло Иерусалима прежде, чем он и Ирод прибыли в столицу. Встречать знатных особ высыпал, кажется, весь город. Народ в праздничных одеждах заполнил площади и улицы Иерусалима и сопровождал Агриппу криками восторга. Агриппа раскланивался направо и налево, бросал в толпы звонкие монеты и никому не позволял превзойти себя в щедрости. Могущественный полководец и политик радовался, как ребенок. По случаю прибытия в столицу Иудеи знаменитого римлянина первосвященник и тесть Ирода Симон устроил торжественное богослужение. Агриппа и здесь проявил свою щедрость. В благодарность за радушный прием, оказанный ему евреями, и в знак признательности Ироду за его впечатляющие достижения в строительном деле, он принес в жертву Предвечному гекатомбу [378]и устроил народу обильное угощение. В ходе богослужения Ирод опять увидел молодого красивого незнакомца, встретившемуся ему в Кесарии. На этот раз незнакомец, облаченный все в тот же сверкающий белизной хитон, выглядел грустным. Он точно бы был удручен обилием крови, пролитой бессловесными животными перед алтарем [379]. Тонкие черты лица его еще более утончились, а большие глаза источали печаль. «Вот так же, – казалось, говорил весь его вид, – когда-нибудь прольется и моя кровь». Ирод хотел протиснуться к незнакомцу, утешить его, но тот затерялся среди публики, и сколько ни вглядывался Ирод в праздничную веселящуюся толпу, не был виден. Незнакомец, как это случилось уже в Кесарии, снова исчез.
2
Агриппа подробно описал свои впечатления от пребывания в Иудее в пространном письме в Рим. В ответном письме Август пригласил его и Ирода в столицу империи на церемонию усыновления сына Октавии и своего племянника Марцелла, которому шел восемнадцатый год, и намеченной на это же время его свадьбе со своей дочерью Юлией, которой только-только исполнилось четырнадцать лет. Агриппа и Ирод засобирались в дорогу.
Со времени последней поездки в Рим Август сильно переменился. Теперь это был мудрый правитель, ищущий внутри Италии и за ее пределами не врагов, но союзников. О впечатлениях Ирода о переменившимся Августе можно сказать то же, что написал о нем Светоний:
«Никакому народу он не объявлял войны без причин законных и важных. Он настолько был далек от стремления распространять свою власть или умножать воинскую славу, что некоторых варварских вождей он заставлял в храме Марса Мстителя присягать на верность миру, которого они сами просили; а с некоторых впервые пробовал брать заложниками женщин, так как видел, что заложниками-мужчинами они не дорожат; впрочем, всем и всегда он возвращал заложников по первому требованию. Всех, кто бунтовал слишком часто или вероломно, он наказывал только тем, что продавал их пленниками в рабство с условием, чтобы рабскую службу они несли вдалеке от родины и освобождение не получали раньше, чем через тридцать лет. Слава о такой достойной его умеренности побудила даже индийцев и скифов, лишь понаслышке нам известных, просить через послов о дружбе Августа и римского народа. А парфяне по его требованию и уступили ему беспрекословно Армению, и вернули ему знамена, отбитые у Марка Красса и Марка Антония, и добровольно предложили заложников, и даже царем своим избрали из нескольких притязателей того, которого одобрил Август.
Храм Януса Квирина [380], который от основания города и до его времени был закрыт только раз или два, он за весьма короткое время запирал трижды в знак мира на суше и на море…
В военном деле он ввел много изменений и новшеств, а кое в чем восстановил и порядки старины. Дисциплину он поддерживал с величайшей строгостью. Даже своим легатам он дозволял свидания с женами только в зимнее время, да и то с большой неохотой. Римского всадника, который двум юношам-сыновьям отрубил большие пальцы рук, чтобы избавить их от военной службы, он приказал продать с торгов со всем его имуществом; но увидев, что его порываются купить откупщики, он присудит его своему вольноотпущеннику с тем, чтобы тот дал ему свободу, но отправил в дальние поместья. Десятый легион за непокорность он весь распустил с бесчестьем. Другие легионы, которые неподобающим образом требовали отставки, он уволил без заслуженных наград. В когортах, отступивших перед врагом, он казнил каждого десятого, а остальных переводил на ячменный хлеб. Центурионов, а равно и рядовых, покинувших строй, он наказывал смертью, за остальные проступки налагал разного рода позорящие взыскания: например, приказывал стоять целый день перед преторской палаткой, иногда – в одной рубахе и при поясе, иной раз – с саженью или дерновиной в руках.
После гражданских войн он уже ни разу ни на сходке, ни в приказе не называл воинов “соратниками”, а только “воинами”, и не разрешал иного обращения ни сыновьям, ни пасынкам, когда они были военачальниками: он находил это слишком льстивым и для военных порядков, и для мирного времени, и для достоинства своего и своих ближних. Вольноотпущенников он принимал в войска только для охраны Рима от пожаров или от волнений при недостатке хлеба, а в остальных случаях – всего два раза: в первый раз для укрепления колоний на иллирийской границе, во второй раз для защиты берега Рейна. Но и этих он нанимал еще рабами у самых богатых хозяев и хозяек и тотчас отпускал на волю, однако держал их под отдельным знаменем, не смешивал со свободнорожденными и вооружал по-особому. Из воинских наград он охотнее раздавал бляхи, цепи и всякие золотые и серебряные предметы, чем почетные венки за взятие стен и валов: на них он был крайне скуп и не раз присуждал их беспристрастно даже рядовым бойцам. Марка Агриппу после морской победы в Сицилии он пожаловал лазоревым знаменем. Только триумфаторам, даже тем, кто сопровождал его в военных походах и участвовал в победах, он не считал возможным давать награды, так как они сами имели право их распределять по своему усмотрению.
Образцовому полководцу, по его мнению, меньше всего пристало быть торопливым и опрометчивым. Поэтому он часто повторял: “Спеши не торопясь”, “Осторожный полководец лучше безрассудного” и “Лучше сделать поудачней, чем затеять побыстрей”. Поэтому же он никогда не начинал сражения или войну, если не был уверен, что при победе выиграет больше, чем потеряет при поражении. Тех, кто домогается малых выгод ценой больших опасностей, он сравнивал с рыболовом, который удит рыбу на золотой крючок: оторвись крючок, – никакая добыча не возместит потери…
Трибунскую власть он принял пожизненно, и раз или два назначал себе товарищей на пять лет. Принял он и надзор за нравами и законами, также пожизненно; в силу этого полномочия он три раза производил народную перепись, хотя и не был цензором: в первый и третий раз – с товарищем, в промежутке – один.
О восстановлении республики он задумывался дважды: в первый раз – тотчас после победы над Антонием, когда еще свежи были в памяти обвинения его, будто единственно из-за Октавия республика еще не восстановлена; и во второй раз – после долгой и мучительной болезни, когда он даже вызвал к себе домой сенаторов и должностных лиц и передал им книги государственных дел. Однако, рассудив, что и ему опасно будет жить частным человеком, и республику было бы неразумно доверять своеволию многих правителей, он без колебания оставил власть за собой; и трудно сказать, что оказалось лучше, решение или его последствия. Об этом решении он не раз заявлял вслух, а в одном эдикте он свидетельствует о нем такими словами: “Итак, да будет мне дано установить государство на его основе целым и незыблемым, дабы я, пожиная желанные плоды этого свершения, почитался творцом лучшего государственного устройства и при кончине унес бы с собой надежду, что заложенные мною основания останутся непоколебленными”. И он выполнил свой обет, всеми силами стараясь, чтобы никто не мог пожаловаться на новый порядок вещей».
3
Этим, однако, деятельность Августа по совершенствованию государственного устройства, отчасти напоминавшая деятельность Ирода по наведению законности и порядка в Иудее, не ограничилась. Любви народа, всегда переменчивой, подобно любви между мужчиной и женщиной, он предпочитал почитание. И делал всё, чтобы подвести под это почитание прочный фундамент. Светоний продолжает:
«Весь город он разделил на округа и кварталы, постановив, чтобы округами ведали по жребию должностные лица каждого года, а кварталами – старосты, избираемые из окрестных обывателей. Для охраны от пожаров он расставил посты и ввел ночную стражу, для предотвращения наводнений расширил и очистил русло Тибра, за много лет занесенное илом и суженное обвалами построек. Чтобы подступы к городу стали легче со всех сторон, он взялся укрепить Фламиниеву дорогу до самого Аримина [381], а остальные дороги распределил между триумфаторами, чтобы те вымостили их на деньги от военной добычи.
Священные постройки, рухнувшие от ветхости или уничтоженные пожарами, он восстановил и наравне с остальными украсил богатыми подношениями. Так, за один раз он принес в дар святилищу Юпитера Капитолийского шестнадцать тысяч фунтов золота и на пятьдесят миллионов сестерциев жемчуга и драгоценных камней. В сане великого понтифика – сан этот он принял только после смерти Лепида, не желая отнимать его при жизни, – он велел собрать отовсюду и сжечь все пророческие книги, греческие и латинские, ходившие в народе безымянно или под сомнительными именами, числом свыше двух тысяч… Календарь, введенный божественным Юлием, но затем по небрежению пришедший в расстройство и беспорядок, он восстановил в прежнем виде; при этом преобразовании он предпочел назвать своим именем не сентябрь, месяц своего рождения, а секстилий [382], месяц своего первого консульства и славнейших побед. Он увеличил и количество жрецов, и почтение к ним, и льготы, в особенности для весталок… Он восстановил и некоторые древние обряды, пришедшие в забвение, например гадание о благе государства, жречество Юпитера, игры на луперкалиях [383], столетние торжества, праздник перепутий [384]. На луперкалиях он запретил безусым юношам участвовать в беге, на столетних играх разрешил молодым людям обоего пола присутствовать при ночных зрелищах не иначе как в сопровождении старших родственников. Ларов на перепутьях он повелел дважды в год украшать весенними и летними цветами.
После бессмертных богов он больше всего чтил память вождей, которые вознесли державу римского народа из ничтожества к величию. Поэтому памятники, ими оставленные, он восстановил с первоначальными надписями, а в обоих портиках при своем форуме каждому из них поставил статую в триумфальном облачении, объявив эдиктом, что это он делает для того, чтобы и его, пока он жив, и всех правителей после него граждане побуждали бы брать пример с этих мужей. А напротив царского портика, что при театре Помпея, он поставил над мраморной аркой статую Помпея, перенеся ее из той курии, где был убит Юлий Цезарь.
Общей погибелью были многие злые обычаи, укоренившиеся с привычкой к беззаконию гражданских войн или даже возникшие в мирное время. Немало разбойников бродили среди бела дня при оружии, будто бы для самозащиты; по полям хватали прохожих, не разбирая свободных и рабов, и заключали в эргастулы [385]помещиков; под именем новых коллегий собирались многочисленные шайки, готовые на любые преступления. Против разбоев он расставил в удобных местах караулы, эргастулы обыскал, все коллегии, за исключением древних и дозволенных, распустил. Списки давних должников казны, дававшие больше всего поводов к нареканиям, он сжег; спорные казенные участки в Риме уступил их держателям; затянувшиеся процессы, в которых унижение обвиняемых только тешило обвинителей, он прекратил, пригрозив равным взысканием за возобновление иска.
Чтобы никакое преступление или судебное дело не оставалось без наказания и не затягивалось, он оставил для разбирательств и те тридцать с лишним дней, которые магистраты посвящали играм. К трем судейским декуриям он прибавил четвертую, низшего состояния, назвав этих судей “двухсотниками” и отдав им тяжбы о небольших суммах. Судей он назначал только с тридцати лет, то есть на пять лет раньше обычного…
Сам он правил суд с большим усердием, иногда даже ночью; если же бывал болен – то с носилок, которые ставили возле судейских мест, или даже дома, лежа в постели. При судопроизводстве он обнаруживал не только высокую тщательность, но и мягкость; например, желая спасти одного несомненного отцеубийцу от мешка и утопления – а такая казнь назначалась только признавшимся, – он, говорят, обратился к нему так: “Значит, ты не убивал своего отца?” А когда разбирался подлог завещания и все, приложившие к нему руку, подлежали наказанию по Корнелиеву закону [386], он велел раздать судьям для голосования кроме двух обычных табличек, оправдательной и обвинительной, еще и третью, объявлявшую прощение тем, кто дал свою подпись по наущению или по недомыслию. Апелляции от граждан он каждый год передавал городскому претору, апелляции от провинциалов – лицам консульского звания, которых он назначал для разбора по одному на каждую провинцию.
Он пересмотрел старые законы и ввел некоторые новые: например, о роскоши, о прелюбодеянии и разврате, о подкупе, о порядке брака для всех сословий… Чтобы больше народу участвовало в управлении государством, он учредил новые должности: попечение об общественных постройках, о дорогах, о водопроводах, о русле Тибра, о распределении хлеба народу, городскую префектуру, комиссию триумвиров для выборов сенаторов и другую такую же комиссию – для проверки турм всадников в случае необходимости… В народном собрании он восстановил древний порядок выборов, сурово наказывая за подкуп; в двух своих трибах, Фабианской и Скаптийской, он в дни выборов раздавал из собственных средств по тысяче сестерциев каждому избирателю, чтобы они ничего уже не требовали от кандидатов».
4
Сыновья Ирода, Александр и Аристовул, не выказали никакой радости от встречи с отцом. Повзрослевшие за время, которое они не виделись, ставшие удивительно похожими на свою покойную мать – оба такие же синеглазые, – они превратились в юношей, которые обращали на себя внимание окружающих своей красотой и статью.
Август похвалил их за усердие, проявленное в обучении наукам и, особенно, риторики, в которой они превзошли не только его дочь Юлию, но и пасынка Друза, и оставил их одних, отправившись готовиться к предстоящей церемонии усыновления своего племянника Марцелла и его женитьбе на Юлии. Ирод, улыбаясь, хотел было обнять сыновей, но, почувствовав, как оба они напряглись, точно бы ласка отца была им неприятна, отказался от своего намерения.
– Ну, рассказывайте, как вам жилось здесь, в Риме? – спросил он.
– Нормально, – ответили юноши, стараясь не смотреть на отца.
– Как ваша учеба?
– Нормально, – повторили юноши.
– Император доволен вашим усердием, – сказал Ирод и понял, что за стремительно пролетевшие годы разлуки говорить ему с сыновьями, в сущности, не о чем.
Юноши на этот раз ничего не ответили ему. Им, похоже, не о чем было говорить с отцом. Ирод почувствовал досаду не столько на отдалившихся от него сыновей, сколько на себя. Разве он уделял им достаточно внимания и отцовской заботы, когда они были маленькими? Разве интересовался, чем живут они, когда сыновья подрастали? Разве, наконец, они не вправе испытывать отчуждение к тому, кто из-за слепой, ни на чем не основанной ревности приказал убить их мать?
– Скоро мы вернемся домой, – сказал Ирод, чтобы что-то сказать. – Вы соскучились по дому?
И снова сыновья ничего не ответили, продолжая смотреть не на него, а на свои руки, сложенные на коленях. Ирод, понимая, что отчуждение, испытываемое к нему Александром и Аристовулом, может перерасти в неприязнь, и поднялся.
– Рад был встретиться с вами, – сказал он. – А теперь идите, вам, наверно, нужно многое еще успеть, прежде чем мы вернемся в Иудею.
И в тот первый день их встречи, и позже, на церемонии усыновления Марцелла, и на свадьбе племянника Августа с его единственной дочерью Юлией, когда молодые люди держались отдельной стайкой, Ирод продолжал любоваться своими сыновьями, явно выделявшимися среди сверстников. Особенно выигрывали они в сравнении с Марцеллом, который в свои семнадцать лет выглядел болезненным и тщедушным. Устроив церемонию усыновления, Август не делал тайны из того, что хочет видеть его своим преемником на посту императора. Ливия, ставшая женой Августа, так и не родила ему наследника. Ирод переводил взгляд с Марцелла на его мать Октавию, старшую сестру Августа, и ловил себя на мысли, что думает совсем не о том, станет ли Марцелл наследником императора, а о том, что этого болезненного вида юношу постигнет судьба его отца.
Чтобы отогнать от себя эти неуместные мысли, Ирод стал думать о том, что и ему пора задуматься над вопросом, кому из своих сыновей передать царский трон в Иудее, – старшему Александру или младшему Аристовулу? Но ведь у него есть еще и третий сын – его первенец Антипатр, рожденный Дорис, и если следовать закону, то его преемником должен стать именно Антипатр, а не Александр и, тем более, не Аристовул.
Тут ему совсем некстати вспомнились слова ессея Менахема, произнесенные перед самой своей кончиной: «Будут такие, кто станет объявлять себя Машиахом и царем Иудеи. Не слушай таких, гони их прочь, а того лучше – казни. Кровь этих нечестивых, вводящих тебя в заблуждение, станет твоей искупительной жертвой сыну Предвечного. Ты поймешь это, когда встретишь истинного Машиаха». Вспомнив эти слова, Ирод вспомнил и молодого красавца с большими печальными глазами и в белоснежном хитоне, которого он разглядел среди многочисленной толпы встречающих в Кесарии и позже, когда Агриппа приносил в жертву сто отборных быков в Иерусалимском Храме. Чему верить, а что подвергнуть сомнению? И почему одни люди, вроде Менахема, наделены даром предвидения, а другие, вроде него, Ирода, нет?
Ирод усилием воли отогнал от себя все эти мысли и стал просто смотреть на разворачивающуюся перед ним сцену торжественного провозглашения Марцелла сыном Августа, как позже стал просто наблюдать за его женитьбой на превратившейся из голенастого подростка в статную девушку Юлии. И невдомек ему было, что первая мысль о скорой кончине Марцелла, мелькнувшая в его мозгу при взгляде на юношу, старавшегося выглядеть старше своего возраста, окажется пророческой.
Муж Октавии, Гай Клавдий Марцелл, от которого она в четырнадцать лет родила своего первенца, действительно умер рано, оставив свою жену в шестнадцать лет вдовой. Но и их сын Марк Клавдий Марцелл, женившись на дочери Августа, уйдет из жизни, когда ему исполнится всего девятнадцать лет. С его смертью оборвется знаменитый род, давший Риму не одного славного мужа, и единственной памятью о нем станут не дети, которых Юлия не успела родить от него, а Театр Марцелла, воздвигнутый от его имени Августом на берегу Тибра у подножия Капитолийского холма спустя двенадцать лет после кончины приемного сына и зятя.
Причудливо складываются судьбы сильных мира сего, которые наивно полагают, что определяют, кому править после их смерти, а кому нет, тогда как это решает за них Предвечный! Октавия, рано овдовевшая и оставшаяся с маленьким сыном на руках, по настоянию своего брата вышла замуж за его тогдашнего союзника и товарища по триумвирату Антония, от которого родила двух прелестных дочерей – Антонию Старшую и красавицу Антонию Младшую. Антония Старшая, повзрослев, выйдет замуж за Домиция Агенобарба, родив ему сына, названного так же, как и его отец, а уже этот сын женится на «самой неприятной женщине империи», как назовут ее древние авторы, Агриппине Младшей, которая родит будущего императора Нерона, снискавшего недобрую славу как среди своих современников, так и потомков. А ведь и император Клавдий, женясь на Агриппине Младшей и усыновляя ее сына, полагал, что Нерон станет достойным его преемником на посту императора Римской державы.
Впрочем, еще до того, как на трон Римской империи взойдут Клавдий и сменивший его Нерон, императорами мировой державы станут поочередно нелюбимый Августом Тиберий, а после смерти Тиберия и вовсе ненормальный Калигула, сын племянника Тиберия Германика, которого только-только принявший титул императора вначале усыновил, а затем, завидуя его воинской славе и опасаясь, что тот может свергнуть его с престола, приказал отравить.
Да, причудливо складываются судьбы сильных мира сего. Вторая дочь сестры Августа Октавии, рожденная ею от Антония и названная Антонией Младшей, станет по настоянию Августа женой его пасынка, младшего сына Ливии Друза, получившего позже прозвище Старшего. Август явно благоволил этому второму пасынку, родившемуся всего через три месяца после того, как Ливия развелась с Тиберием Клавдием Нероном и стала его, Августа, женой. От брака Друза Старшего и Антонии Младшей родился всенародно любимый Германик, который, женившись на Агриппине, стал отцом Калигулы. Между тем Агриппина эта была не кто иной, как дочерью Августа Юлии и его ближайшего сподвижника и друга Ирода Агриппы, который, когда Август устроил этот брак, был старше своей жены на двадцать четыре года (Август и Агриппа были ровесниками и оба младше Ирода на десять лет). Юлия, уже в раннем возрасте стремившаяся нравиться всем мужчинам подряд, не делая исключения даже для собственного отца, родила Агриппе пятерых детей – сыновей Гая Цезаря, Луция Цезаря и Агриппу Постума и дочерей Юлию и Агриппину, будущую жену Германика и мать Калигулы (упомянутая Агриппина была не единственная дочь у Марка Агриппы: от первого брака у него была еще одна дочь, тоже Агриппина, на которой женился Тиберий вскоре после свадьбы своей ровесницы Юлии и Марцелла.) Обоих внуков-цезарей Август также усыновил в надежде оставить империю одному из них (к Агриппе Постуму он испытывал недоверие), но Предвечный снова разрушил его планы, – и Гай, и Луций умерли довольно рано.
В случае с Юлией природа взяла свое: из стремления просто нравиться всем мужчинам она, едва став женой Марцелла, тут же стала изменять ему. Ее первой неудачной попыткой соблазна стал Тиберий, с которым она росла в одном доме, а после смерти Марцелла Юлия пустилась во все тяжкие, превратившись в распутную девку. И второму ее мужу Агриппе, и в еще большей степени Августу поведение Юлии доставляло массу огорчений. Когда одна из товарок Юлии, вольноотпущенница Феба, устав от бесконечного распутства, в которое вовлекала ее Юлия, повесилась, Август с горечью произнес: «Лучше мне было бы быть отцом Фебы». Вскоре после самоубийства Фебы скончался и Агриппа, уставший от нескончаемых измен жены. Август предпринял последнюю попытку образумить свою порочную дочь и выдал ее в третий раз замуж – на этот раз за нелюбимого своего пасынка Тиберия, принудив того развестись со своей женой Агриппиной. Тут в дело вмешалась Ливия: узнав о намерении мужа устроить судьбу своей дочери за счет ее старшего сына, она настояла, чтобы Август прежде усыновил Тиберия, как усыновил он Марцелла, выдавая за него замуж Юлию. Август вынужден был внять требованию жены, сделав таким образом Тиберия своим преемником. Об этом эпизоде в биографии Тиберия и Агриппины Светоний напишет: «Хотя они жили в согласии, хотя она родила ему сына Друза и была беременна во второй раз, ему было велено дать ей развод и немедленно вступить в брак с Юлией, дочерью Августа. Для него это было безмерной душевной мукой: к Агриппине он питал глубокую сердечную привязанность, Юлия же своим нравом была ему противна – он помнил, что еще при первом муже она искала близости с ним, и об этом даже говорили повсюду. Об Агриппине он тосковал и после развода; и когда один только раз случилось ему ее встретить, он проводил ее таким взглядом, долгим и полным слез, что были приняты меры, чтобы она больше никогда не попадалась ему на глаза. С Юлией он поначалу жил в ладу и отвечал ей любовью, но потом стал все больше от нее отстраняться; а после того, как не стало сына, который был залогом их союза, он даже спал отдельно».
Бесконечные фортели дочери, начавшей к тому же спиваться, а затем и тезки-внучки, недалеко ушедшей от матери, надоели Августу и он круто обошелся с ними обеими, сослав их на отдаленный остров. Тот же Светоний напишет: «Сосланной Юлии он запретил давать вино и предоставлять малейшие удобства; он не подпускал к ней ни раба, ни свободного без своего ведома и всегда в точности узнавал, какого тот возраста, роста, вида, и даже какие у него телесные приметы или шрамы. Только пять лет спустя он перевел ее с острова на материк и немного смягчил условия ссылки; но о том, чтобы совсем ее простить, бесполезно было его умолять».
Впрочем, мы забежали слишком далеко вперед. Вернемся к рассказу об Ироде и его сыновьях Александре и Аристовуле, которых он нашел в Риме не только повзрослевшими, но вполне образованными. Тотчас по окончании церемонии усыновления Августом Марцелла и его свадьбы с Юлией, Ирод с сыновьями вернулся в Иудею.
5
Поспешность, с какой Ирод отплыл из Италии, объяснялась неприятной новостью, которую он узнал о своих сыновьях и на которую поначалу списал неудовольствие, с каким они встретили его в Риме. Доброхоты из числа местных евреев, явившихся к нему, чтобы засвидетельствовать свое почтение, сообщили, что оба его сына не только изучали вдали от родины различные науки, но и предавались недостойному иудеев разврату: младший, Аристовул, стал сторонником конкубината [387], а старший, Аристовул, и вовсе впал в смертный грех, сожительствуя с мужчинами.
От самой Кесарии, в одном из дворцов которой после утомительной морской поездки Ирод переночевал с сыновьями, и до самого Иерусалима юношей приветствовали толпы восторженных евреев. Казалось, теперь не Ирода, а Александра и Аристовула они хотели видеть своими царями, и воздавали им поистине царские почести. И юноши действительно выглядели по-царски: оба красивые, статные, облаченные в одежды из китайского шелка, расшитые золотыми и серебряными нитями, они, стоя на колеснице, радушно отвечали на приветствия несметных толп народа. На Ирода, ехавшего, по своему обыкновению, верхом, никто не обращал внимания, как если бы он был уже не царем, а одним из множества членов свиты и охраны, сопровождавшей царевичей. Ироду это было только на руку: он внимательно всматривался в людские массы, стараясь разглядеть среди них незнакомца с длинными шелковистыми волосами и большими темными глазами, одетого в белоснежный хитон. Однако все его старания оказались тщетными, – того, кого он мысленно прозвал Машиахом, или Мессией, нигде не было видно.
Восторг простонародья, когда Ирод с сыновьями вступил в Иерусалим, достиг своего апогея. Людское море смело охрану и свиту, прорвалось к колеснице и, высоко подняв царевичей, на руках отнесло их во дворец. Александр и Аристовул уже давно скрылись за высокими резными дверьми парадного входа, а море все еще волновалось, ликуя по поводу возвращения на родину молодых красавцев, наследников столь любимой всеми царицы Мариамны.
К ликующим массам людей, радовавшимся возвращению домой царственных юношей, прибавился и младший брат Ирода Ферора. Особенно он подружился с Аристовулом – сторонником конкубината, поскольку сам был без памяти влюблен в свою рабыню-италийку и продолжал сожительствовать с нею, не имея законных прав жениться на ней. Нашлись во дворце, однако, и те, кого возвращение братьев ввергло в уныние; таких оказалось немного, но они довольно быстро составили партию, которая встала в оппозицию к молодым царевичам, и партию эту возглавила сестра Ирода Саломия.
Ирод по-своему разрешил назревавший внутридворцовый конфликт: он устроил сразу две свадьбы – старшего, Александра, женил на Глафире, дочери дружественного ему царя Каппадокии [388]Архелая, а младшего, Аристовула, женил на вошедшей в пору зрелости Беренике, дочери Саломии. Обе свадьбы, со свойственной Ироду широтой и расточительностью и приглашением гостей из множества стран, сыграли одновременно. Ни Август, ни Агриппа, хотя им также были направлены приглашения, в Иерусалим не приехали, сославшись на занятость, но прислали молодоженам богатые подарки.
Как показало недалекое будущее, хорошо, что не приехали. События неожиданно для всех, и прежде всего для молодых царевичей, приняли трагичный оборот, а Ирода народная молва окрестила детоубийцей. Со временем молва эта обрастет самыми нелепыми слухами, а к самому концу жизни Ирода превратится в ни на чем не основанное обвинении в убийстве всех невинных младенцев в возрасте от двух лет и младше, которое-де было совершено по его приказу в Вифлееме и его окрестностях, когда прибывшие с Востока волхвы сообщили ему о рождении нового царя Иудеи Иисуса Христа [389].
Случится это много позже, а пока Ирод радовался счастливо, как ему казалось, разрешившемуся конфликту в его семье. Чтобы радость его могли разделить с ним и другие члены семьи, он сам вскоре в соответствии с нормами, принятыми в Иудее, женился на прекрасной простолюдинке из Самарии Мальфаке, которая одарит его четырьмя детьми – тремя сыновьями и дочерью.
Благополучное разрешение назревавшего конфликта, на которое рассчитывал Ирод, не получилось. Пока он радовался счастью со своей молодой четвертой женой и даже стал красить в черный цвет свои вконец поседевшие волосы, не обращая внимания на интриги, сплетавшиеся вокруг него подобно паутине, Александр и Аристовул не стали ни ближе с ним, ни откровенней. Более того: младший Аристовул завел себе даже юных наложниц, которые тешили его танцами днем и ласками ночью, а старший Александр, не желая расставаться с приобретенными в Риме греховными наклонностями, стал проводить больше времени не со своей женой Глафирой, а с тремя евнухами отца, первый из которых исполнял обязанности виночерпия, другой прислуживал за столом, а третий, которому Ирод доверял больше, чем своим телохранителям, заботился о ложе царя, выполняя обязанности постельничего. Но то, чего не замечал Ирод, не проходило мимо внимания Саломии.
Нежелание братьев, один из которых стал ее зятем, входить в какое бы ни было общение с нею, она относила на счет их врожденной спеси, унаследованной от матери, принадлежавшей к роду Хасмонеев. «Ну конечно, – ворчала она, завидев Александра и Аристовула, – где уж вам, принцам крови, снисходить до нас, простолюдинов, к тому же, в отличие от вашей матери, неевреям». Упоминание матери производило на братьев угнетающее впечатление. Они действительно помнили о своей несчастной матери, ставшей жертвой оговоров, инициатором которых, как они считали, была Саломия, и за это не только избегали ее общества, но и ненавидели ее. Ферора, в отличие от других домочадцев Ирода находивший общий язык с царевичами, в этом отношении понимал Саломию, хотя и не разделял ее неприязни к братьям: она всегда имела сильное влияние на Ирода, умело использовала это влияние, и ее главенствующая роль в гибели несчастной Мариамны, любившей своего мужа и бывшей абсолютно верной ему, не составляла для него секрета. Союзнические отношения, сложившиеся между Феророй и сиротами, не желавшими забыть свою покойную мать, вызывали у Саломии дополнительную озлобленность. Ей не стоило особого труда привлечь на свою сторону старшего сына Ирода Антипатра и его мать Дорис, которая с годами превратилась в тучную малоподвижную особу, единственным смыслом существования для которой стало бесконечно есть без разбору все мало-мальски съедобное, что только попадалось ей на глаза. Антипатр, шансы которого стать преемником на царство именно в силу своего низкого происхождения превратились ко времени возвращения из Рима Александра и Аристовула в призрачную мечту, с готовностью встал на сторону тетки.
6
В это самое время во дворце Ирода объявился тот, встречи с которым он так долго ждал, – таинственный незнакомец с длинными шелковистыми волосами, большими печальными глазами и в неизменно белоснежном, подобном облаку, хитоне, от которого исходил едва уловимый аромат мирры. «Благоухание одежды твоей подобно благоуханию Ливана!» [390]– вспомнилось Ироду, и он поклонился в ноги незнакомцу.
Поведение Ирода смутило незнакомца.
– Ты приветствуешь меня так, как если бы царем был не ты, а я, – сказал он по-гречески.
– Ты и есть царь, – подтвердил Ирод, не смея поднять на незнакомца глаза. – Мессия, встречу с которым обещал мне Менахем. Помазанник Божий.
– Христос [391], – снова по-гречески произнес незнакомец.
– Истинно так, – сказал Ирод, и только теперь осмелился поднять на незнакомца глаза.
На вид ему было не больше тридцати лет. Темные большие глаза его казались еще больше в сравнении с тонким носом и узкими губами. Длинные шелковистые волосы, ниспадавшие на плечи, были расчесаны на прямой пробор; такими же шелковистыми были борода и усы, скрывавшие нижнюю часть лица. Казалось, лицо это никогда не улыбалось, и потому глаза его, особенно привлекавшие внимание, выглядели особенно печальными.
Ирод не выдержал долгого взгляда этих глаз и посмотрел на руки незнакомца. Кисти этих рук были белые и тонкие, никогда не знавшие ни тяжелого физического труда, ни меча воина. Было во всем облике незнакомца и исходящем от его белоснежного хитона аромата нечто такое, что обнаруживало в нем одновременно пророка, помазанника и царя. Подумав так, Ирод хотел было снова поклониться в ноги незнакомцу, но тот удержал его.
– Кто этот Менахем, о котором ты упомянул? – спросил он.
– Ессей, – коротко ответил Ирод.
– Я знаком с некоторыми людьми из числа этих праведников, – сказал незнакомец. – Он знает меня?
– Он умер, – так же коротко произнес Ирод.
– Жаль, – сказал незнакомец. – Я бы хотел познакомиться с ним, расспросить его, откуда ему стало известно обо мне.
– Он пророк, – сказал Ирод.
– Пророк? – переспросил незнакомец. – Нигде в мире, где мне довелось побывать, я не встречал такого множества пророков, как в Иудее. Здесь их так много, что уже не знаешь, кому из них верить, а кто попросту шарлатан. И что самое удивительное, все их пророчества строятся на том, что им привиделось во сне. Иудейские пророки большие любители поспать. Я, например, тоже люблю поспать. Но мне при этом снится такая чепуха, о которой потом становится неловко вспоминать, а уж тем более рассказывать даже самым близким людям. А как с этим делом обстоит у тебя?
Ирод почувствовал легкую обиду за Менахема, которого не понимал никто, даже такой образованный человек, как Николай Дамасский, называвший его наивным. Менахем вовсе не был соней. Во всяком случае, в разговорах с Иродом, начиная с самой первой их встречи, когда Ирод был еще ребенком, он никогда не ссылался в качестве доказательства правоты своих слов на то, что ему пригрезилось во сне.
– Перед тем, как покинуть этот мир, – сказал Ирод, – Менахем предостерег меня от излишней доверчивости. «Будут такие, – сказал он, – кто станет объявлять себя Машиахом и царем Иудеи. Не слушай таких, гони их прочь, а того лучше – казни. Кровь этих нечестивых, вводящих тебя в заблуждение, станет твоей искупительной жертвой сыну Предвечного. Ты поймешь это, когда встретишь истинного Машиаха. Если успеешь к тому времени подготовиться лицезреть его».
– Ты готов лицезреть того, кого называешь истинным Машиахом?
– Готов.
– Другими словами, ты подготовился к встрече с Христом, а остальных, кто станет выдавать себя за царя Иудеи, казнишь?
– Казню.
– Мне следует опасаться тебя, – сказал незнакомец. – Но я не объявляю себя ни Христом, ни Машиахом, ни даже пророком. Меня зовут Эврикл, и прибыл я из Лакедемона [392], чтобы собственными глазами увидеть Храм, который ты воздвиг во славу своего Бога. О Храме этом наслышан весь мир. Я вообще много путешествую. А чтобы ты не сомневался, что я не тот, за кого ты меня принимаешь, я привез тебе в дар священный фрагмент трона Аполлона из посвященного ему храма в Амикле [393].
С этими словами незнакомец, назвавшийся Эвриклом, вручил Ироду крошечную золотую пластинку с выгравированным на ней лавровым листом, почитавшимся священным деревом Аполлона. Ирод с благоговением принял от Эврикла дар и, в свою очередь, распорядился изготовить точный макет своего Храма в Иерусалиме, изготовленный из покрытой золотом слоновой кости, и вручить его гостю.
Поверил ли Ирод в то, что Эврикл из Лакедемона оказался вовсе не Мессией, встречу с которым обещал ему перед смертью ессей Менахем? Полагаю, что нет. Во всяком случае, радушие, какое было оказано чужеземному гостю Иродом и по его настоянию всеми его домочадцами, равно как приглашение поселиться в царском дворце на срок, который сам гость сочтет для себя желательным, позволяют с достаточной степенью уверенности говорить о том, что Ирод воспринял его отказ признаться в своей мессианской миссии в Иудею как тайну, о которой до поры до времени не должен знать никто, кроме одного Ирода. И Ирод принял условия сохранения тайны, предложенные ему гостем, в то же время в любую минуту готовый признать его сыном Предвечного, как только он сочтет, что время такое наступило. До тех же пор Ирод решил не подавать виду, что ему известна правда о незнакомце с печальными глазами, и вести себя так, как если бы он поверил гостю, что тот не мессия, наблюдавший за ним от самой Кесарии, а обыкновенный любитель странствий, который нашел приют в царском дворце.
7
С появлением в Иерусалиме Эврикла в семье Ирода не произошло никаких изменений. Александр и Аристовул по-прежнему избегали встреч с отцом, его сестра Саломия и старший сын Антипатр возмущались этим, объясняя их поведение не столько непреходящей тоской по матери, казненной по приказу Ирода, сколько врожденной спесью, не позволявшей им снизойти до общения с простолюдинами. Между теми и другими метался Ферора, в жилах которого текла та же кровь, что и в жилах его сестры и царствующего брата, но который понимал и своих племянников-сирот, в особенности ценил усвоенный ими за время учебы в Риме независимый взгляд на мир и свое место в нем, лишенный иудаистской зашоренности, расписывающей в деталях каждый шаг, который вправе совершать или не совершать под страхом неминуемой кары каждый благочестивый еврей.
Приезд Эврикла, впрочем, внес в обострившиеся отношения между членами семьи Ирода некоторое умиротворение. Спартанец одинаково легко находил общий язык как с Александром и Аристовулом, с одной стороны, так и с Антипатром, с другой. По тому, как легко и непринужденно входил он в общение со всеми ими, можно было подумать, что лучшего друга и доброго советчика, чем Эврикл, у сыновей Ирода никогда не было. Ирода радовало это обстоятельство, и он мысленно не раз благодарил покойного Менахема за то, что тот предсказал ему скорую встречу с этим необыкновенным человеком, явно несшим на себе печать всеблагого и всемилостивого Бога.
Наступившую зиму Ирод провел в разъездах по стране, чтобы, когда благочестивый гость объявит, наконец, ктó он на самом деле и призовет его на суд свой, на котором, как сказано в Писании, отвергнет худое и изберет доброе [394], успеть довести все задуманные дела до конца. В нечастные дни, когда Ирод наезжал в Иерусалим, всегда, впрочем, неожиданно, верхом на коне, как простой воин или нарочный, прибывший с очередным сообщением из одного из городов или областей Иудеи, его вниманием всецело завладевал Николай Дамасский. Той зимой ученый сириец особенно плодотворно работал над книгой о царе Иудеи, и потому его интересовали все, даже самые незначительные детали из жизни царя. «Истина в подробностях», – говорил при этом он.
Впрочем, в эти нечастые дни пребывания в столице Ирод не забывал и о государственных делах, требуя от своего правительства и его первого министра Птолемея подробного отчета обо всем, что успели сделать они во время его отсутствия и насколько преуспели в выполнении его приказов. От Птолемея он, между прочим, узнал и о том, что если дела в Иудее шли нормально и ни один из его приказов не оставался невыполненным, то вот что касается его семьи, тут положение дел оставляло желать лучшего. Дошло до того, что Александр и Аристовул восстановили против себя не только Саломию, имевшую большое влияние на Ирода, но и Ферору, который поначалу был всецело на стороне сирот.
Об внутрисемейных неурядицах, которые не могли не сказаться на общем положении дел в стране, Птолемей рассказал не только Ироду, но и Николаю Дамасскому. Тот по-своему интерпретировал его рассказ в своей книге о царе Иудеи, а уже книга ученого сирийца была столетие спустя использована Иосифом Флавием, который также не оставил без внимания этот трагичный период в жизни Ирода. Вот что поведал сириец: «С одной стороны, Саломия как бы по наследству перенесла всю свою ненависть на юношей и, принимая во внимание успешность своих интриг против их покойной матери, совершенно потеряла чувство меры и дошла до того, что решилась не оставить в живых никого из родни покойной ею загубленной, кто мог бы отомстить за смерть ее; с другой же стороны, и у юношей кипела глухая злоба против отца отчасти при воспоминании о страданиях их матери (и эта злоба была вполне основательная), отчасти вследствие пробуждавшегося и в них страстного желания власти. И вот вновь началось горе, подобное прежнему, а именно – раздались укоры юношей по адресу Саломии и Фероры, возникали ненависть последних к юношам и интриги против них. Обе стороны отличались одинаковой ненавистью друг к другу; неодинаков был лишь характер проявления этой ненависти. В то время как юноши видели признак благородства в том, что по неопытности не сдерживали своего гнева и всегда были готовы открыто высказать хулу и порицания, придворная партия поступала таким же образом, но прибегала при этом к ловким и остроумно подведенным наветам, постоянно тем самым подзадоривая юношей и побуждая их к решительному и рискованному шагу относительно их родителя. Так как юноши не обращали внимания на приписываемые их матери провинности и полагали, что она, во всяком случае, пострадала невинно, то придворные не сомневались, что они лично отомстят тому, кто, видимо, являлся виновником ее смерти. В конце концов этими слухами преисполнился весь город, и, как это бывает в борьбе, все сожалели о неопытности юношей; вместе с тем росла и бдительность Саломии, которая старалась в поведении самих юношей найти доказательство непреложности своих слов. Они так скорбели о смерти своей матери, и смерть ее, по их мнению, ложилась позором и на них самих, что старались повсюду вызвать законную жалость не только к участи своей матери, но и к самим себе, которые принуждены жить вместе с убийцами ее и делить с ними все».
Ни Николай Дамасский, ни тем более Иосиф Флавий ни словом не обмолвились о том, что интрига, завязавшаяся в семье Ирода, если и причиняла боль царю, то скорее по сугубо человеческим, личностным причинам, легко объяснимым особенностями характера царя, которому слишком часто напоминали о его нееврейском происхождении, что не могло не раздражать его и подозревать управляемый им народ во врожденной неблагодарности несмотря на все благодеяния, которые он творил для него. Они прошли мимо того факта, что до поры до времени Ирод делал все от него зависящее, чтобы в его доме установились мир и взаимоуважение, что было присуще его натуре и что так ярко проявилось в его отношении к своим родителям, братьям и сестре. Главную причину вызревавшего, подобно раковой опухоли, конфликта они увидели в борьбе за власть, тогда как единственной причиной, по которой Ирод не хотел вмешиваться в этот конфликт, стало ожидание скорого прихода обещанного в Писании Мессии, Который установит новое царство на Земле – царство добра и справедливости – и Сам станет Царем над всеми народами. К концу царствования Ирода ожидание Мессии охватило значительную часть населения Иудеи от зилотов до ессеев, причем ожидание этого скорого прихода в самом Ироде переросло в убеждение, а затем и веру, которая, в свою очередь, передалась от него многим его современникам-евреям.
Незнание этого внутреннего ожидания Ирода, с которым он ни с кем не делился, привело и Николая Дамасского, и Иосифа Флавия к непониманию мотивов поведения царя в осложнившейся обстановке в его семье, а непонимание мотивов поведения – к односторонней оценке самого Ирода, – оценке, в которой больше противоречий, чем логики. А ведь сказано было: «враги человеку – домащние его» [395].
Впрочем, противоречия эти становились очевидны каждому непредубежденному читателю, кто внимательно вчитывался в характеристику Ирода, данную ему Иосифом Флавием, – характеристика эта сыграла самую негативную роль в оценке Ирода первыми, а вслед за ними и всеми последующими христианскими (и не только) авторами:
«При таких обстоятельствах, конечно, многие изумляются противоречиям в характере Ирода. Если мы взглянем на щедрость и благодеяния, которыми он осыпал всех людей, то никто, сколь низко ни оценивал бы его, не смог бы не согласиться, что царь обладал весьма доброй душой. Если же, с другой стороны, обратить внимание на насилия и несправедливости, которые он совершал относительно своих подчиненных и ближайших родственников, и вспомнить о жестокости и неумолимости его характера, то придется склониться к убеждению, что Ирод являлся чудовищем, чуждым всякой мягкости. Вследствие этого некоторые полагают, что он страдал внутренним разладом и всегда боролся сам с собой. Я, впрочем, с этим не согласен и думаю, что обе указанные черты его характера имеют одну общую причину. Так как он был честолюбивым и совершенно подчинялся этой страсти, то он предавался порывам великодушной щедрости, лишь бы у него была надежда сейчас же снискать себе славу или впоследствии увековечить себя; благодаря, однако, непосильным при этом денежным затратам ему приходилось быть жестоким к своим подданным. Все то, что он изобильно тратил на одних, приходилось насильно отнимать у других. Отлично сознавая, насколько подданные ненавидят его за все притеснения, а с другой стороны, не будучи в состоянии прекратить насилия, что отозвалось бы неблагоприятно на его доходах, он пользовался этим самым нерасположениям народа в целях личного своего обогащения. Что касается, далее, его приближенных и домашних, то если кто-либо из них не льстил ему на словах, или не признавал себя рабом его, или возбуждал к себе подозрение в смысле злоумышления против царской власти, то Ирод не умел владеть собой и свирепствовал без меры против родственников и друзей своих, обходясь с ними как с врагами; все эти гнусности он позволял себе относительно их исключительно потому, что безумно жаждал личного почета. Доказательством столь сильно в нем развитой страсти этой служат мне почести, оказанные им Цезарю (Августу. – В. М.), Агриппе и прочим друзьям своим. Поскольку сам он преклонялся перед более могущественными, постольку же он желал почета и для себя лично, и такое сильное приложение с его стороны старания доказывало лишь, что он сам домогался подобного. Народ иудейский по своему закону чужд всему подобному и привык ставить справедливость выше славолюбия. В силу всего этого он и не пользовался благосклонностью в глазах Ирода, так как не умел льстить честолюбию царя ни статуями, ни храмами, ни подобными средствами. Во всем этом я вижу причину безобразного отношения Ирода к своим домашним и приближенным, а также объяснение его потворства иноземцам и людям вообще недостойным».
8
К числу «иноземцев и людей вообще недостойных» Иосиф Флавий отнес прежде всего Эврикла из Лакедемона, которого Ирод принял за предсказанного ему Менахемом Мессию и которому предоставил в полное распоряжение свой дворец в Иерусалиме. Что же касается «доброй души» Ирода, который осыпал «всех людей» «щедростью и благодеяними», о чем пишет Иосиф Флавий, и в то же время «чудовища, чуждого всякой мягкости», чудовища в том числе к своим «домашним и приближенным», то и спустя десятилетия после смерти Ирода иудеи, ставшие первыми христианами, не считали такую «раздвоенность» натуры признаком «славолюбия», а, скорее, проявлением высшей справедливости и святости. Чтобы убедиться в этом, достаточно сопоставить два фрагмента из Евангелия от Матфея, в которых Иисус Христос, обращаясь к евреям, говорит: «Не думайте, что Я пришел принести мир на землю; не мир пришел Я принести, но меч; ибо Я пришел разделить человека с отцем его, и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее. И враги человеку – домашние его» [396]; буквально в следующей главе мы читаем нечто прямо противоположное: «Приидите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас; возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим; ибо иго Мое благо, и бремя Мое легко» [397].
Обстановка в семье стала до такой степени тягостной, что, объезжая страну по служебным делам, Ирод ловил себя на мысли, что не хочет возвращаться в Иерусалим. Он все чаще стал задерживаться в Кесарии, где к его услугам был дворец, ни в чем не уступавший иерусалимскому дворцу [398]; сюда же, в Кесарию, к нему приезжал с отчетами глава правительства Птолемей – один из немногих приближенных Ирода, которому он всецело доверял.
Птолемей и сообщил царю, что его сыновья Александр и Аристовул вконец распоясались, а в одной из ссор с Саломией, когда та пригрозила им, что наглость братьев может обернуться их казнью, в ответ заявили, что если в их семье кто и заслуживает казни за свою наглость и бесчисленные злодеяния, так это она, Саломия, и ее полоумный братец. Ссора эта стала достоянием многочисленных слуг во дворце, а уже слуги разнесли слухи о ней по всей столице, приукрасив их, как это случается со всеми слухами, множеством самых нелепых деталей. Так, народ стал уверенно поговаривать о том, что Ирод сошел с ума, почему и не возвращается в Иерусалим, а прячется в Кесарии, в своем безумии вынашивает идею государственного переворота, для чего намеревается вырезать в Иерусалиме всех евреев во главе со своими сыновьями Александром и Аристовулом, евреями по матери, но храбрые братья, благодарение Господу, не намерены превращаться в жертвенных агнцев, а сами решили возглавить восстание, в ходе которого будут казнены Ирод и его сестра Саломия, а вслед за ней все инородцы, с помощью и поддержки Рима незаконно захватившие власть в стране.
Новость эта глубоко опечалила Ирода. Самое же печальное для него во всей этой крайне обострившейся домашней обстановке было то, что он любил Александра и Аристовула, как продолжал любить их мать Мариамну, казненную по его приказы в слепом порыве ни на чем не основанной ревности. Он решил возвратиться в Иерусалим, созвать туда всех самых знатных евреев со всей Иудеи и объявить о своем добровольном отречении от власти [399].
Прибыв в Иерусалим, он сообщил о своем намерении правительству, которое специально для этого созвал, и первосвященнику. Никто из них, однако, не одобрил планов Ирода.
– Что вы посоветуете мне? – спросил Ирод.
– Продолжать оставаться царем Иудеи, – было ему ответом. – Твое отречение от престола ничего, кроме несчастья, стране не принесет.
Ирод провел несколько дней в раздумьях, прежде чем его осенило: почему бы ему не объявить своим официальным преемником старшего сына Антипатра? Пусть Антипатр родился у него, когда он был еще частным лицом, пусть мать его не принадлежала к знатному роду, а было лишь танцовщицей, ублажавшей своей ленивой грацией осоловевшие от вина взгляды пирующих. В конце концов и он, Ирод, не мог похвастать знатностью своего происхождения, к тому же он не еврей, но вот уже какой год царствует над Иудеей, и царство его, в отличие от его семьи, не страдает от внутренних раздоров.
Была в этом осенившем его намерении еще одна положительная сторона: Александр и Аристовул, поставленные перед фактом, поймут, что не они одни являются хозяевами положения, что есть более старший их по возрасту брат, имеющий те же права, что и они, и факт этот неминуемо образумит их. Ирод так и поступил: созвал в Иерусалим всех самых знатных евреев со всей Иудеи и объявил им о назначении своим преемником старшего сына Антипатра. Объявление это не вызвало у народа особого энтузиазма, но не вызвало и протестов: в конце концов царем Иудеи является Ирод, ему и решать, кто унаследует его трон.
Но то, что народ воспринял как данность, не подлежащую обсуждению и, тем более, пересмотру, не понравилось Александру и Аристовулу. Они почувствовали себя глубоко оскорбленными тем, что отец поставил их на подчиненное от воли старшего брата место, и стали еще более замкнутыми, чем прежде. Ироду, внимательно наблюдавшему за ними, доставило это дополнительные страдания, о чем в тайне ото всех он поведал в письме Августу. Николай Дамасский, ставший невольным свидетелем все более и более обострявшейся обстановки в семье Ирода, описал все эти перипетии в своей книге о царе Иудеи. Записями эти спустя век воспользовался Иосиф Флавий. Вот что писал он, идя вослед очевидцу неурядиц в семье Ирода Николаю Дамасскому: «Антипатр выказал всю силу своего характера, внезапно добившись власти, на которую раньше никак не мог рассчитывать; теперь у него была одна только цель – вредить своим братьям и не допускать их к занятию первенствующего положения, равно как не отходить от отца, который уже поддался наветам со стороны и благодаря стараниям Антипатра мог быть еще более возбуждаем против опороченных юношей. Все такие наветы исходили от Антипатра, причем последний, однако, остерегался подавать вид, что он является виновником их; напротив, он пользовался для этого совершенно неподозрительными клевретами, которые тем самым лишь еще более доказывали свое мнимое расположение к царю. В то время при дворе было уже много лиц, которые примкнули к Антипатру в расчете на награды и которые заставляли Ирода верить, что они говорят все это из преданности ему. При таком дружном и верно рассчитанным образе действий сами юноши, со своей стороны, подавали все новые поводы к сплетням. Они нередко плакали над постигшим их унижением, взывали к матери своей и открыто в присутствии приближенных царя обвиняли последнего в нарушении права. Все это ловко подхватывалось гнусными сообщниками Антипатра и доносилось Ироду в приукрашенном виде, так что домашние смуты только росли и росли. Царь расстраивался этими доносами и, желая еще более унизить сыновей Мариамны, все более возвышал Антипатра, так что в конце концов решился даже пригласить ко двору мать его; вместе с тем он неоднократно писал о нем императору и выставлял его как особенно дельного человека».
Верил ли сам Ирод в то, что его старший сын действительно является «особенно дельным человеком», во всех отношениях превосходящим Александра и Аристовула? Едва ли. Ирод был достаточно проницателен, чтобы не видеть, как объявление Антипатра его преемником вскружило голову этому уже зрелому в сравнении с горячими, но все еще наивными в силу возраста сыновьями Мариамны. Воспользовавшись тем, что его друг Агриппа, находившийся в это время в Азии, собирается вернуться в Рим, он уговорил его взять с собой Антипатра, чтобы тот мог заслужить благоволение Августа, а на деле хоть на время перестал раздражать своим присутствием Александра и Аристовула.
9
В этом состояла ошибка Ирода. Вопреки его расчетам установить в семье с отправкой в Рим Антипатра хотя бы видимость мира, он получил новую вспышку ненависти. Ошибка его состояла и в том, что вдали от дома честолюбивые замыслы Антипатра несколько поумерятся, случилось обратное: Антипатр, благосклонно встреченный Августом, чуть ли не как новый царь Иудеи был воспринят многочисленной еврейской диаспорой Рима. То, что в Иерусалиме служило слабым местом Антипатра, – его незнатное происхождение, – в Риме обернулось достоинством: он был одним из них и, стало быть, мог рассчитывать на полное взаимопонимание и поддержку со стороны своих единоплеменников.
Почувствовав себя на новом месте царем всех евреев, проживавших на обширном пространстве империи, Антипатр чуть ли не ежедневно отправлял Ироду письма, в которых выражал свои опасения за его здоровье и жизнь, поскольку оставил его одного в окружении злокозненных младших братьев, только и подумывающих о том, как бы поскорее сжить его со свету. Письма свои он неизменно заканчивал просьбой к отцу избегать каких бы то ни было контактов с Александром и Аристовулом, тщательно обыскивать их, когда они приходят к нему, чтобы в складках своих одежд они не пронесли кинжалы, не притрагиваться ни к одному из блюд без того, чтобы их предварительно не отведали рабы.
Ирод незаметно для себя стал подозрительным. Страхи за свою жизнь, подогреваемые Саломией и матерью Антипатра Дорис, росли в нем, как тесто на дрожжах. Они превратились в навязчивую фобию после того, как его новая жена самаритянка Мальфака публично обвинила его в мужском бессилии, поскольку царь совсем перестал входить в ее спальню. Чтобы проверить, действительно ли он стал беспомощен как мужчина, Ирод женился в пятый раз – своей новой женой он избрал случайно встретившуюся ему и понравившуюся своей молодостью и кокетством в глазах простолюдинку из Иерусалима по имени Клеопатра. Собственно, это ее имя, напомнившее ему о египетской царице, так откровенно желавшей близости с ним, и несчастном Антонии, безнадежно влюбленном в нее, и побудило Ирода жениться на простолюдинке. Первая же брачная ночь, проведенная с молодой женой, показала, что Ирод действительно заболел: он так и не смог овладеть Клеопатрой. Наутро он вызвал к себе врачей и велел им внимательнейшим образом осмотреть его и назначить ему лекарства, которые избавят его от полового бессилия. Врачи осмотрели Ирода, успокоили его, сказав, что бессилие его вызвано не потерей мужской силы, а вконец истощившимися нервами, но лечение на всякий случай назначили.
Доведенный до полного отчаяния Ирод обратился за советом к Николаю Дамасскому: как ему следует поступить со своими открыто ненавидящими его сыновьями? Ответ ученого сирийца был скорым и беспощадным:
– Прикажи казнить их.
Ирод испугался. Самая мысль о том, что он может убить своих сыновей, столь живо напоминавших ему их красавицу-мать, была ему ненавистна. Тогда он поведал об обуревавших его страхах Эвриклу. Тот долго смотрел на Ирода своими печальными глазами, перебирая тонкими пальцами длинные шелковистые волосы, и, наконец, произнес:
– Я вычитал в ваших священных книгах прекрасную заповедь: не убий. Казнить безвинных великий грех.
– Ты считаешь Александра и Аристовула безвинными?
– Я не знаю за ними никакой вины. Если ты считаешь их в чем-то виновными, вели судить их.
– Кто вправе судить моих сыновей? – воскликнул Ирод. – Уж не этот ли рохля и мой тесть Симон, которому не верят даже члены синедриона?
– Предай их суду того, кому ты сам доверяешь. Отправляйся вместе со своими сыновьями в Рим, и пусть вас рассудит Август.
– Ты сказал «вас»? – спросил Ирод. – Ты считаешь, что в том, что в доме моем все перевернулось вверх дном, есть не только вина Александра и Аристовула, но и моя?
– Я не исключаю этого, – мягко произнес Эврикл. – Но я не судья тебе и твоим сыновьям. Вашим судьей может быть только тот, кто ни в чем не зависит от вас. Я знаю только одного такого человека. Этот человек Август.
Предложение Эврикла показалось Ироду разумным. И он, взяв с собой Николая Дамасского (Эврикл отказался ехать с ними), отправился с Александром и Аристовулом за море.
Глава шестая ХРУПКОЕ ПРИМИРЕНИЕ
1
Август в это время находился в Аквилее [400], куда отправился после долгой зимы в Риме поправить свое здоровье. Здесь же находился и Антипатр, подружишвийся за время пребывания в Италии с женой Августа Ливией и ее фавориткой еврейкой Акме. На Ливии, как и на других матронах двора, сверкали серьги с драгоценными камнями, руки украшали браслеты из чистого золота, ноги были обуты в сандалии, усыпанные жемчугом и алмазами, шею отягощали массивные золотые цепи с рубинами. Август выглядел бледнее обычного. Он был одет в две шерстяные тоги, выглядывавшие одна из-под другой, рыжеватые волосы его были взлохмачены, как если бы расчесывание их доставляло ему боль, мелкие зубы, когда он заговаривал, казались еще мельче и острее, как у хищной рыбы.
Несмотря на недомогание, Август сразу откликнулся на просьбу Ирода выступить в качестве судье при рассмотрении существа конфликта, вспыхнувшего в его семье. Ирод, в свою очередь, не желая обременять больного императора изложением всех деталей, вызвавших обострение отношений внутри его семьи, сразу же перешел к рассказу о существе постигшего его горя.
Представив присутствующим в зале Александра и Аристовула, которых те, включая Августа и его жену, сами прекрасно знали, Ирод пожаловался на их недружелюбное отношение к своему отцу, которое он, Ирод, не может объяснить иначе, как дерзкие помыслы юношей, направленные к тому, чтобы всячески выказать свою ненависть к отцу и желание умертвить его. Таким преступным образом они намереваются завладеть царским престолом, заявил Ирод.
– Впрочем, – продолжал он, обращаясь к Августу, – они не столь уж заботятся об узурпации власти и готовы охотно отказаться не только от нее, но и от собственных жизней, лишь бы только иметь возможность убить своего отца. Вот такая дикая и свирепая ненависть ко мне развилась в их сердце.
Антипатр при этих словах, заметил Ирод, посмотрел на Ливию и кивнул ей головой, как бы подтверждая обоснованность обвинения отца, а большие синие глаза обоих его сыновей засверкали от навернувшихся на них слез.
– Горе мое, – снова обратился Ирод к одному лишь Августу, – я долгое время таил в себе, и только теперь, когда о нем стало известно не только во всей Иудее, но и в других странах, включая Италию, я осмелился выплеснуть его перед тобой, Цезарь, рискуя навлечь на себя твой гнев за оскорбление твоего слуха. Пусть скажут Александр и Аристовул, подверглись ли они хоть раз какому-либо стеснению с моей стороны? Пусть скажут, был ли я когда-нибудь несправедлив и жесток с ними? Как же смеют они оспаривать у своего отца право на власть, которую сам я, и это, Цезарь, известно тебе лучше, чем кому-либо другому из присутствующих, достиг после долгих трудов и опасностей? – Ирод почувствовал в горле ком, который мешал ему говорить; он боялся посмотреть в сторону своих и Мариамны детей, чтобы самому не расплакаться от жалости и любви к тем, кого он сейчас обвинял перед Августом в самом страшном преступлении, какое только можно представить себе, – в намерении совершить отцеубийство. – Как они смеют мешать мне пользоваться своей властью и предоставить ее тому, кого я сочту достойным? – Ирод усилием воли сдерживал слезы, готовые вырваться из него. – Ведь такая награда, наравне со всякой другой наградой, выпадает на долю лишь тех, кто заслужил ее своим благочестием. Между тем все их интриги, направленные против меня, не могут быть названы не только благочестивыми, но и попросту приличными. Те, кто только и думает об узурпации власти, тем самым рассчитывают и на смерть отца своего, который обладает этой властью; иначе им этой власти не достичь. Сам я до сих пор давал всем своим подданным и в особенности царственным детям моим в изобилии все, в чем они нуждались. При этом я во всех своих поступках руководствовался лишь одним: заботой не только об их образовании и содержании, но и дав им в жены прекрасные партии – одному дочь царя Архелая, а другому дочь сестры моей. При таких обстоятельствах я не воспользовался данным мне законом правом самому решить их судьбу, но решился представить своих сыновей на суд нашего общего благодетеля. Отказавшись ото всего, на что имеет право оскорбленный отец и подвергшийся козням царь, я готов выслушать твое решение, Цезарь, и поступить сообразно ему.
Ирод закончил и сел на подготовленный для него стул, лишь теперь бросив взгляд на сыновей. Оба они не сдерживали слез, катившихся из их прекрасных, как у матери, глаз. Весь их вид говорил о том, что они никогда и в мыслях не держали ничего из похожего на то, в чем обвинил их перед Августом отец. Казалось, они желали теперь не столько того, чтобы оправдаться перед императором, сколько узнать правду о том, кто стал виновником выпавших на их долю обвинений.
Август, все это время молча сидевший в судейском кресле и внимательно слушавший Ирода, зябко кутаясь в обе тоги, легким движением головы показал, что ему ясны обвинения его друга, выдвинутые против сыновей. От его внимательного взгляда не укрылось, что не только большинство присутствующих жалеют юношей, которых успели узнать и полюбить за годы учебы, проведенные в Риме вместе с их детьми, но и сам Ирод испытывает к своим сыновьям сострадание. Хриплым из-за простуды голосом он произнес:
– Теперь я хотел бы выслушать тех, кого царь Иудеи и мой друг обвинил в безбожном намерении. Кто из вас начнет первым?
Младший Аристовул разрыдался в голос; в силу своей неопытности и из-за смущения, охватившего его, он не знал, что говорить. Старший Александр, усилием воли совладав со слезами, поднялся со своего места и обратился к отцу со следующей речью [401]:
«Отец! Расположение твое к нам подтверждается уже всем эти делом; ведь если бы ты замышлял против нас что-нибудь ужасное, ты не привел бы нас к тому, кто является общим спасителем. Тебе, в силу твоей царской и отцовской власти, было вполне возможно расправиться с людьми, тебя обидевшими. Но то, что ты привел нас в Рим и посвящаешь императора во все это дело, служит гарантией нашего спасения. Ведь никто не поведет того, убить кого имеет в виду, в святилище и храмы. Но наше положение отчаянное: мы не желали бы оставаться долее в живых, если во всех укоренилась уверенность, что мы посягали на такого отца. Еще хуже было бы, если бы [мы] предпочли безвинной смерти жизнь, оставаясь в вечном подозрении. Итак, если наше сознание, что мы говорим правду, имеет некоторую силу в глазах твоих, нам доставило бы блаженство возможность единовременно убедить тебя в своей невиновности и избегнуть грозящей нам опасности; но если все-таки клевета удерживается на месте, то к чему нам солнце, на которое мы взирали бы, запятнанные подозрением? Конечно, указание на то, что мы стремимся к власти, является достаточно ловким обвинением по отношению к таким молодым людям, как мы, а если к тому еще присоединить упоминание о нашей достойной матери, то этого вполне достаточно, чтобы усугубить первое наше несчастье и довести нас до настоящего горя. Но взгляни на то, не общий ли этот случай и не применимо ли подобное обвинение в сходных случаях. Ведь ничто никогда не мешает царю, у которого есть молодые сыновья, мать коих умерла, видеть в них подозрительных лиц, домогающихся престола своего отца. Однако одного только подозрения не довольно, чтобы высказывать столь безбожное обвинение. Пусть кто-либо осмелится сказать нам, что случилось нечто такое, в силу чего при всем легковерии людей нечто невероятное стало непреложным. Разве кто-либо смеет обвинять нас в составлении отравы, или совершении заговора среди сверстников, или в подкупе прислуги, или в распространении воззваний против тебя? И все-таки каждое из таких преступлений, даже если оно и не имело места, легко служит предметом клеветы. Правда, отсутствие единодушия в царской семье является крупным несчастьем, и та власть, которую ты называешь наградой за благочестие, часто вызывает в гнуснейших людях такие надежды, ради которых они готовы не сдерживать своих дурных наклонностей. Никто не сможет упрекнуть нас в чем-либо противозаконном. Но как устранит клевету тот, кто не желает слушать? Быть может, мы сказали что-либо лишнее?
Если это так, то, во всяком случае, это не относилось к тебе, ибо это было бы несправедливо, но относилось к тем, которые не умалчивают ни о чем сказанном. Кто-либо из нас оплакивал свою мать? Да, но мы жаловались не на то, что она умерла, а на то, что и после смерти она подвергается поруганию со стороны недостойных людей. Обвиняемся мы в том, что стремимся к власти, которая, как нам известно, в руках отца нашего? Но с какой стати? Если, как это и есть на самом деле, мы пользуемся царским почетом, разве мы стараемся не напрасно? Или если мы им еще не пользуемся, то разве мы не можем впоследствии рассчитывать на него? Или неужели мы стремились захватить власть, уничтожив тебя? Но после такого злодеяния нас не несла бы земля и не держало бы море. Разве благочестие и религиозность всего народа допустили бы, чтобы во главе правления стали отцеубийцы и чтобы такие люди входили в священный храм, тобой же сооруженный? Далее, наконец! Оставя в стороне все прочее, разве мог бы, пока жив император, оставаться безнаказанным какой-либо убийца? Сыновья твои не так безбожны и безумны, но, право, они гораздо несчастнее, чем бы следовало для тебя. Если же у тебя нет поводов к обвинениям, если ты не находишь козней, что же укрепляет тебя в уверенности совершения такого страшного преступления? Мать наша умерла. Но ее судьба не могла нас восстановить против тебя, а лишь сделала нас более рассудительными. Мы хотели бы еще многое привести в свое оправдание, но у нас нет слов для этого, так как ничего не случилось. Поэтому мы предлагаем всемогущему Цезарю, являющемуся в настоящую минуту судьей между нами, следующий исход: если ты, отец, вновь желаешь относиться к нам без подозрительности и верить нам, то мы готовы оставаться в живых, хотя, конечно, уже не будем по-прежнему счастливы, ибо среди крупных несчастий одно из наиболее тяжких – быть ложно обвиненным; если же у тебя еще есть какое-либо опасение относительно нас, то спокойно принимай себе меры к ограждению своей личной безопасности, мы же удовлетворимся сознанием своей невиновности: нам жизнь вовсе не так дорога, чтобы сохранять ее ценой беспокойства того, кто даровал нам ее».
2
Выступление Александра растрогало всех. Антипатр первым бросился обнимать своих братьев, чем вызвал слезы умиления у Ливии и сидящей у нее в ногах на подушках Акме. Август, пока говорил Александр, наблюдал за Иродом, отмечая про себя, что за время, прошедшее с их последней встречи, тот сильно переменился, – обрюзг, постарел, несмотря на то, что стал красить волосы, и было ясно, что перемена эта была напрямую связана с тяжелой обстановкой, сложившейся в его доме. Приближенные Августа, прежде всего Валерий Мессала, питавший давнюю симпатию к Ироду, на этот раз шумно негодовал, крича царю: «Будь милосерден, Ирод!» Обвиняемые юноши сидели потерянные, не смея ни на кого поднять глаз, и смотрели себе под ноги.
Все ждали, какой вердикт вынесет Август. Император не стал томить собрание своим приговором.
– Я внимательно выслушал доводы обеих сторон, – сказал он. – Твоим обвинениям, Ирод, не достает веских оснований, и ты это знаешь лучше, чем кто бы то ни было другой из присутствующих в этом зале. Что касается твоих сыновей, то хотя, по моему мнению, они были далеки от желания совершить возводимое на них преступление, все же они поступали в отношении своего отца не так, как следует поступать в отношении родителя благовоспитанным детям, тем самым подав повод к подозрению в злых умыслах. Решение, которое я принял по данному делу, следующее. Предлагаю тебе, Ирод, оставить всякие подозрения и помириться с сыновьями, – несправедливо верить в козни собственных детей. То же относится и к вам, Александр и Аристовул: помиритесь со своим отцом. Взаимное примирение заставит вас поскорей забыть все случившееся и усилит вашу взаимную любовь. Простите друг другу слишком поспешные обоюдные подозрения и постарайтесь загладить их еще большей преданностью.
Сказав так, Август щелкнул пальцами, чтобы привлечь внимание так и не посмевших поднять глаза от земли юношей, и когда те посмотрели на него, указал им головой на Ирода. Те вскочили со своих мест и бросились к отцу, чтобы пасть ему в ноги. Тот предупредил их намерение, подхватил обоих и, прижав к груди, стал осыпать их поцелуями, смешанными со слезами.
По окончании суда Антипатр, выглядевший счастливейшим из людей, обнял братьев и повел их осматривать город. Разошлись и все остальные, кроме Августа и Ирода. Август, положив руку на плечо Ирода, не спеша направился к выходу, признаваясь на ходу:
– Я понимаю тебя, мой друг. Моя единственная дочь Юлия доставляет мне не меньше огорчений, чем Александр с Аристовулом тебе. Но что поделаешь? Такова участь всех отцов: уметь прощать своих детей и быть к ним терпимыми. – Август остановился, сделал паузу и, сняв руку с плеча Ирода и ощерив рот с мелкими острыми зубами, отчего сразу сделался похож на мурену, зло прибавил: – Впрочем, до разумных пределов.
Вскоре после суда все его участники возвратились в Рим – предстояла очередная раздача хлеба народу, которая проходила при личном участии Августа, и приуроченные к этому событию игры. По случаю праздника Ирод одарил Августа тремястами талантами, поскольку как бесплатная раздача хлеба, так и устройство игр требовали значительных государственных затрат. Август, в свою очередь, подарил Ироду половину доходов с кипрских медных рудников и поручил ему заведование второй половиной. Перед тем, как расстаться, Август устроил в честь Ирода и его сыновей пир, на котором объявил во всеуслышание:
– Сегодня я подписал эдикт, согласно которому царю Иудеи и моему другу Ироду предоставляется полная свобода в выборе престолонаследника. Никто не вправе вмешиваться в этот выбор. Ирод волен самостоятельно решить, сделать ли ему выбор в пользу одного преемника или нескольких, между которыми разделит свое царство.
Ирод в знак благодарности хотел было тут же, на пиру, объявить о своем решении определить престолонаследника, но Август удержал его.
– Пока ты, Ирод, здоров – да продлят боги твою жизнь! – и остаешься царем Иудеи, не следует отказываться ни от власти над страной, ни над своими детьми.
3
На обратном пути корабли Ирода вошли в киликийский порт Елеус, где сошедших на берег царя и троих его сыновей приветствовал каппадокийский царь Архелай. Обняв Ирода, он так же сердечно приветствовал Антипатра и Архелая и особенно долго не выпускал из своих объятий Александра, мужа своей любимой дочери Глафиры. Архелаю уже было известно об оправдании Августом сыновей Мариамны, и он радовался, как если бы это не с его зятя, выступившего с защитительной речью, а с него было снято подозрение в подготовке преступления, к которому он не имел отношения. От Архелая же Ирод узнал, что за время его отсутствия в Трахонитской области случился бунт, имевший целью отделить эту область от Иудеи. Впрочем, не без удовольствия добавил Архелай, назначенные Иродом военачальники быстро восстановили порядок, и Трахонитская область осталась в составе Иудеи.
Прибыв в Иерусалим, Ирод с сыновьями отправился в Храм, где принес Предвечному жертву благодарения, после чего обратился к собравшемуся там народу.
– Соотечественники! – сказал он. – Вы знаете о том, какие тяжкие дни пришлось пережить мне и всем вам из-за той обстановки, какая сложилась в моем доме. Знаете вы и о том, что Цезарь разрядил эту обстановку, ибо добрые вести имеют то отличие от недобрых, что быстро распространяются по миру, вселяя в наши сердца уверенность в лучшем будущем. Какой урок вынес я, ваш царь, из свой поездки в Италию и встреч с Цезарем? Всем нам необходимо жить в мире и согласии, ибо только мир и согласие разгоняют тучи недоверия и подозрительности и дают возможность солнцу беспрепятственно изливать свои живительные лучи на землю. Слова мои в равной степени относятся как ко всем вам, присутствующим в этом священном для каждого иудея месте, так и к моим придворным, к сыновьям моим и ко мне, вашему царю. Чтобы никто из вас не усомнился в искренности моих слов, объявляю вам о принятом мною решении, которое продиктовано следованием мудрости нашего великого предтечи: «Род проходит, и род приходит, а земля пребывает вовеки» [402]. Не давно человеку изменить установленный Предвечным порядок вещей, а потому слушайте. Преемниками своими по престолу я назначаю сыновей моих – сперва Антипатра, как старшего по возрасту, а затем сыновей моих от незабвенной Мариамны – Александра и Аристовула. Такова воля моя, которую я доношу до вашего, жители Иерусалима, сведения, а в вашем лице до сведения всего народа Иудеи. Об одном лишь прошу вас: пока я жив, смотрите на меня одного как на вашего царя и властелина. Я еще в силах управлять государством и держать в повиновении детей моих. Отдельно я хочу обратиться к присутствующим здесь военачальникам и воинам. Если вы и впредь будете смотреть на меня как на государя, жизнь ваша будет протекать спокойно, ибо вы сами будете способствовать собственному благополучию и благополучию страны, мир и покой которой вы призваны охранять.
С этими словами Ирод и сопровождающие его лица покинули Храм.
4
Радость и наступивший душевный покой продолжали владеть Иродом. Ему захотелось встретиться с Эвриклом, чтобы поблагодарить его за дельный совет обратиться к суду Августа, но того нигде не было видно. Никто не знал, когда и насколько покинул дворец лакедемонянин и вернется ли он назад. Ироду почудилось, что Эврикл знал о намерении Ирода объявить своими преемниками сыновей своих, и это намерение огорчило его. Но разве не он, Эврикл, уверил Ирода, что он не Мессия, посланный на землю Предвечным, чтобы принять из рук Ирода царство? И разве не ошибся Ирод, приняв его за того, скорую встречу с которым обещал ему отошедший в лучший мир ессей Менахем?
От раздумий этих Ирода отвлекло известие о завершении десятилетних работ по строительству на месте бывшего города его молодости Самарии нового города, названного в честь Августа Себастой [403]. Здесь, чтобы не погрешить против исторической правды, я вновь обращусь к документальным источникам – к биографии Ирода, написанной Николаем Дамасским, и свидетельству Иосифа Флавия, который использовал эту биографию в своих «Иудейских древностях»:
«Освящение города пало на двадцать восьмой год правления царя, в сто девяносто вторую олимпиаду. Для ознаменования освящения города был устроен необычайный праздник, к которому были сделаны блестящие приготовления. Царь обещал при этом случае устроить музыкальные и гимнастические состязания, заготовил огромное число гладиаторов и диких зверей, позаботился о конском ристалище и вообще обставил все празднество бóльшим блеском, чем то было принято даже в Риме или в других местах. Эти игры он посвятил Цезарю и распорядился, чтобы они повторялись каждые пять лет. Император, в свою очередь, желая почтить преданность Ирода, послал ему из личных средств все нужное для игр. Равным образом и жена Цезаря, Юлия [404], послала от себя много особо ценных вещей, дабы ни в чем не было недостатка. Стоимость всех этих даров исчислялась в общем до пятисот талантов.
В город на празднества собрались огромные массы народа и целые посольства, которые отправили отдельные общины в знак благодарности за полученные благодеяния. Всех их Ирод принял радушно и гостеприимно и почтил их беспрерывными удовольствиями: днем увеселяли их театральные зрелища, а по ночам их ждали изысканные и дорогие удовольствия, так что щедрость царя вошла в поговорку. Во всех своих предприятиях Ирод всегда старался превзойти то, что было раньше. Говорят даже, что Цезарь и Агриппа неоднократно заявляли, что страна Ирода слишком мала для его великодушия и что он достоин быть царем всей Сирии и Египта.
После этих празднества и игр царь воздвиг новый город на равнине, носящей название Кафарсава, выбрав для того богато орошенную и плодородную местность. Вокруг нового города текла река, а над ним возвышалась замечательная по величине деревьев роща. В честь отца своего, Антипатра, Ирод назвал этот город Антипатридою [405]. Кроме того, он построил выше Иерихона в честь своей матери укрепление, отличавшееся как неприступностью, так и красотой, и назвал его Кипром. В честь своего нежно любимого брата Фасаила он воздвиг великолепный мавзолей, а именно: соорудил башню, не уступавшую по величине своей маяку в Фаросе. Башню эту он назвал Фасаиловой, и она служила как для охраны города, так и для сохранения воспоминаний об умершем брате, в честь которого и была названа. Вместе с тем он основал в честь того же брата также город при входе в северную часть иерихонской долины, и благодаря ему он поднял благосостояние дотоле бесплодных окрестностей города, так как о том позаботилось новое население его. И этот город был назван Фасаилидой.
Было бы затруднительно перечислить здесь все прочие благодеяния, которыми он осыпал города Сирии и Эллады, равно как другие местности, куда ему приходилось заезжать во время своих путешествий. Для общественных и казенных зданий он, видимо, израсходовал действительно крупные денежные средства, равно как доставлял таковые для окончания начатых построек, если первоначально ассигнованные суммы оказывались недостаточными. Самыми крупными и знаменитыми из его сооружений и деяний являются следующие.
Родосцам он на собственные средства отстроил пифийский храм и дал им много талантов серебра на снаряжение флота; жителям Никополя, основанного императором вблизи Акциума, он помог соорудить большинство их общественных зданий; антиохийцам, жителям крупнейшего сирийского центра, он украсил двумя рядами портиков ту широкую улицу, которая пересекает весь город [406], и велел всю занимаемую городом площадь вымостить шлифованными плитами для большего украшения города и удобства жителей; олимпийским играм, по безденежью утратившим свою прежнюю славу, он даровал прежнее их значение и почет тем, что назначил им денежную субсидию и путем жертвоприношений и прочими подарками сделал их вновь популярными. Благодаря своей щедрости он был навеки записан элидцами в число почетных устроителей игр».
5
Слава Ирода достигла такой высоты, что с его именем стали связывать всех иудеев – как жителей Иудеи, так и многочисленные диаспоры, образовавшиеся на территории Римской империи. Это не нравилось многим евреям внутри Иудеи, упорно не желавшим признать Ирода своим соплеменникам, так и представителям других стран, среди которых проживали евреи. На этот раз, однако, Ироду не пришлось искать защиты своих единоверцев в Риме: как только в канцелярию Августа стали поступать первые жалобы евреев на притеснения со стороны коренных жителей стран их постоянного проживания, Август, не поставив даже об этом в известность Ирода, незамедлительно издал эдикт, который гласил:
«Цезарь Август, верховный жрец, облеченный властью народного трибуна, объявляет: ввиду того, что народ иудейский не только в настоящее время, но и прежде, особенно при отце моем, императоре Цезаре, являл себя преданным римскому народу, особливо когда иудейским первосвященником был Гиркан, я и присяжные советчики мои, по решению римского народа, постановляем: чтобы иудеи пользовались правом невозбранно жить по своим законам, как то было при первосвященнике Всевышнего Гиркане; чтобы священные деньги были неприкосновенны, посылались в Иерусалим и вручались там казначеям иерусалимским; чтобы иудеев не привлекали в судебные заседания ни по субботам, ни накануне субботы с девятого часа. Если кто-нибудь будет уличен в краже священных книг или священных денег из молитвенного дома или залы судейского совета, тот будет обвинен в кощунстве, а имущество его поступит в римскую казну. Кто нарушит в чем-либо это постановление, будет жестоко наказан».
Ко времени, когда был обнародован этот эдикт Августа, Ирод, израсходовав огромные суммы денег на строительство новых городов и организацию празднеств и игр как внутри Иудеи, так и за ее пределами, обнаружил, что государственная казна опустела. Обременять народ дополнительными налогами он не хотел; народ, привыкший к тому, что Ирод снижает налоги или вовсе отменяет их чаще, чем повышает, этого не понял бы. Выход из затруднительного положения Ирод обнаружил в эдикте Августа. Прочитав его, он вспомнил, что упомянутый в этом эдикте первосвященник Гиркан, когда ему понадобилась поддержка иностранных властителей и при их содействии первому из иудеев учредить наемное войско, он не остановился перед тем, чтобы вскрыть гробницу Давида и взять оттуда три тысячи талантов серебра. Ирод испытывал нужду в деньгах не для содержания наемного войска, которое он за ненадобностью давно распустил; ему нужны были деньги для государственных нужд. Как ни ненавистна стала ему к старости самая мысль о деньгах, которые, как показала практика, обладают куда как бóльшей властью над людьми, чем власть самого Цезаря, он решился повторить проступок Гиркана.
Нельзя сказать, что решение это далось ему легко. Он ломал себе голову над вопросом, как можно избежать столь кощунственного шага, подумывал даже обратиться к своему тестю первосвященнику Симону, чтобы попросить у него взаймы храмовые пожертвования, поискать другие способы заполнить брешь, образовавшуюся в казне. Но ничего дельного на ум ему не приходило, и тогда он, проведя бессонную ночь в молитвах Предвечному и прося у Него прощения за богопротивный шаг, наутро пригласил к себе самых верных ему людей из числа царедворцев и военных и посвятил их в задуманное предприятие. Ни у кого из приближенных намерение Ирода вскрыть священную могилу возражений не вызвало. Тогда строителям-рабочим было приказано при свете дня огородить священную могилу, где вот уже тысячу лет покоились останки Давида и его сына Соломона, как если бы на могиле этой намечалось провести строительные работы, и уже следующей ночью Ирод с верными ему людьми проник в склеп.
В этой части изложения биографии царя Иудеи Иосиф Флавий впервые отошел от текста Николая Дамасского, которому до тех пор неукоснительно следовал. Сегодня, спустя свыше двух тысяч лет, нелепо разбираться в причинах такого отхода. Лучше послушаем самого Иосифа Флавия, как ему представилось проникновение Ирода в могилу древних израильских царей и почему он, Иосиф Флавий, дал собственную версию этого проникновения, о которой ученый сириец умолчал:
«Однажды ночью он (Ирод. – В. М.) с большими предосторожностями, чтобы никто из граждан не узнал о том, распорядился открыть гробницу и в сопровождении преданнейших друзей своих вошел в нее. Впрочем, денег, подобно Гиркану, он тут не нашел, но зато обрел огромное множество золотых украшений и разных драгоценностей. Все это он взял себе. Желая основательно познакомиться с содержимым склепов, он захотел проникнуть глубже в гробницу, к тому самому месту, где покоились тела Давида и Соломона. Тут, однако, погибли двое из его оруженосцев, как говорят, от пламени, которое вылетело из них, когда они сделали попытку проникнуть внутрь склепа. В полном ужасе Ирод выбежал из склепа и затем распорядился воздвигнуть, в знак умилостивления Предвечного, памятник из белого камня при входе в гробницу. На это он израсходовал огромную сумму денег. Об этом памятнике упоминает также современный Ироду историк Николай [Дамасский], но не говорит, чтобы царь проник в самую гробницу, так как он, Николай, понимал все неприличие подобного деяния. Впрочем, и в других случаях этот писатель поступает подобным же образом. Живя в его царстве и находясь с царем в личных отношениях, он писал лишь в угоду ему и чтобы ему льстить, останавливаясь при этом исключительно на таких фактах, которые могли возвеличить Ирода, оправдывая многие из явных его несправедливостей и даже особенно тщательно скрывая их. Так, например, он старается превознести царя даже в таких его поступках, как казнь Мариамны и умерщвление сыновей ее, и для этого клевещет, обвиняя царицу в отсутствии целомудрия, а юношей в интригах против царя. Вообще, во всей своей истории автор чрезмерно превозносит все справедливые поступки царя и в такой же мере старается извинить все совершенные им беззакония. Впрочем, ему это вполне простительно: он писал не историю, а оказывал лишь услуги царю. Мы же, которые сами происходим из асмонейского [407]царского рода и поэтому сами принадлежим к священническому сословию, не сочли удобным говорить о нем неправду и чистосердечно и сообразно истине излагаем ход событий…»
Здесь, однако, я хотел бы вернуть читателя к той части рассказа Иосифа Флавия, где он живописует «чудо», приключившееся с Иродом, когда тот спустился в священную могилу: «Желая основательно познакомиться с содержимым склепов, он захотел проникнуть глубже в гробницу, к тому самому месту, где покоились тела Давида и Соломона. Тут, однако, погибли двое из его оруженосцев, как говорят, от пламени, которое вылетело из них, когда они сделали попытку проникнуть внутрь склепа. В полном ужасе Ирод выбежал из склепа и затем распорядился воздвигнуть, в знак умилостивления Предвечного, памятник из белого камня при входе в гробницу».
Ирод хотя и был последовательным иудеем, все же он не принадлежал к числу фанатиков этой веры, которого могут привести «в полный ужас» разного рода чудеса. У нас нет оснований не доверять свидетельству Иосифа Флавия о том, что сразу после посещения могилы Ирод распорядился воздвигнуть при входе в нее памятник из белого мрамора, тем более, что факт этот засвидетельствован и Николаем Дамасским. Нет оснований сомневаться и в том, что на сооружение этого памятника Ирод израсходовал «огромную сумму денег», – множество золотых украшений и драгоценностей, извлеченные Иродом из гробницы, вполне могли покрыть все расходы на сооружение памятника. Для меня во всем этом остается неясным один вопрос: чтó в действительности могло до такой степени смутить Ирода в склепе, что побудило его в полном ужасе выбежать оттуда? Единственным разумным ответом на этот вопрос, по-моему, может быть только один: Ирод при свете огня, вспыхнувшем, по-видимому, от неосторожного обращения двух его оруженосцев с факелами (пролили на себя горящее масло или совершили другую какую оплошность), увидел в глубине гробницы, где покоились тела Давида и Соломона, нечто такое, чего не увидели другие сопровождавшие его «преданнейшие друзья»). Что именно увидел Ирод?
Прежде, чем ответить на этот вопрос, вспомним, какие душевные сомнения испытал царь, прежде чем решился вскрыть могилу Давида и столь кощунственным образом пополнить опустевшую государственную казну. Вспомним также и то, что общее состояние его психики в связи с затянувшимися неурядицами в его доме оставляло желать лучшего. Не случайно же он, почувствовав смертельную усталость от этих неурядиц, хотел даже отречься от престола, благо мысль об отречении посетила его в тот момент, когда в его доме появился Эврикл из Лакедемона, которого он принял за обещанного Менахемом Мессию. По возвращении из Италии Ирод обнаружил, что Эврикл исчез столь же неожиданно, как и появился. Это, однако, не означает, что с исчезновением Эврикла Ирод тут же забыл о нем. Скорее, наоборот: именно потому, что Эврикл исчез неожиданно, никого во дворце об этом не предупредив, Ирод постоянно думал о нем. Когда же он спустился в склеп, в воспаленном от всех перечисленных выше причин воображении Ирода, слившихся в какой-то момент воедино, возник образ сидящего на камне Мессии в облике Эврикла – в таком же, как на нем, белоснежном хитоне, с длинными шелковистыми волосами, расчесанными на прямой пробор, такими же шелковистыми бородой и усами и большими печальными глазами, укоризненно глядевшими на него.
Единственно это видение, пригрезившееся Ироду, и могло привести его в состояние «полного ужаса»: Ирод, подобно всем ессеям, хотя сам не принадлежал к этой секте, разделял их уверенность в скором приходе Мессии, страшился этого прихода и, вместе с тем, ожидал его, чтобы передать ему царскую власть над Иудеей.
6
После «безбожного посягательства на гробницу», как охарактеризовал Иосиф Флавий проникновение Ирода в могилу Давида и Соломона, обстановка в его семье вновь обострилась и в короткое время достигла крайнего предела.
Ирод как мог пытался снять напряжение в семье. Несмотря на возраст и ухудшевшееся состояние здоровье (у него стали опухать ноги и появилась одышка), Ирод возобновил прежнее увлечение охотой, стараясь увлечь ею и Александра с Аристовулом. Младший сын, однако, не проявлял к охоте никакого интереса, а старший умудрялся промахиваться с расстояния, с которого промахнуться невозможно. Когда Ирод приходил ему на помощь и подстреливал зверя, Александр спешивался и, ссутулясь, точно бы стыдясь за свое неумение обращаться с луком и стрелами, шел рядом с отцом подобрать добычу.
Дома Ирод стал больше внимания уделять другим детям, оставшимся от Мариамны, особенно их младшей дочери Киприде, незаметно превратившейся в красавицу-подростка с густыми светлыми волосами и огромными синими глазами. Тогда же он подружился с женой Александра Глафирой, которая, как ему казалась, могла благотворно воздействовать на своего мужа. Вообще, в это время Ирод стал больше внимания уделять всем членам своей разросшейся семьи, стремясь для каждого найти доброе слово и проявить заботу. В этом отношении не составил исключения и его младший брат Ферора, которому давно следовало обзавестись собственной семьей, а он все еще продолжал жить по соседству с дворцом Ирода в доме их отца, где полной хозяйкой стала его рабыня-италийка, окружившая себя огромным числом слуг и все свое время уделявшая воспитанию и образованию их общего с Ферором сына. Сын этот, впрочем, редко бывал во дворце, а когда бывал, задирал всех без исключения детей царской крови, доводя их до слез. Ирод и этого своего незаконного племянники старался приветить, назначил ему даже учителей из числа греков и потребовал, чтобы учителя эти обучали строптивого ребенка с тем же тщанием, что и его детей и внуков.
Однако никакие усилия Ирода восстановить в доме мир не возымели должного действия. Скорее наоборот: чем больше Ирод пытался примирить всех, тем глубже становилась трещина, пробежавшая между самыми близкими ему людьми и расколовшая их на два непримиримых лагеря. К досаде Ирода, во внутрисемейный конфликт стали вмешиваться приближенные к царю лица; к этим последним стали примыкать дворцовые слуги и даже рабы. Все они, как сговорившись, уверяли Ирода, что делают это исключительно из соображения государственной пользы и интересов безопасности царя. Ирод чувствовал в себе достаточно сил и энергии, чтобы самостоятельно определять, что во благо Иудее, а что во вред, и точно так же самостоятельно заботиться о собственной безопасности. Поведение приближенных он не без основания считал лицемерным, и решительно ставил их на место. Скидки не делалось никому.
Так, на сторону Александра и Аристовула встал всегда рассудительный, чуждый каких бы то ни было интриг первый министр правительства Птолемей, которому Ирод всецело доверял. Когда он потребовал от министра объяснений по поводу его изменившегося поведения, тот сказал, что не может и дальше спокойно смотреть на то, как сыновья покойной Мариамны, оправданные Августом, продолжают подвергаться в царском доме дискриминации. Ирода возмутило не столько то, что Птолемей проявил вдруг заботу о сиротах, сколько то, что его любимый министр стал заниматься совсем не теми делами, какими ему по долгу службы надлежит заниматься. Он строго отчитал Птолемея и распорядился, чтобы тот отныне выполнял не только его, Ирода, приказы, но и приказы своего старшего сына Антипатра. Птолемея такое распоряжение царя не смутило.
– Я и без того выполняю не только твои приказы, – сказал он, – но и приказы твоих сыновей, поскольку ты по возвращении из Рима назначил себе преемниками по престолу сперва Антипатра, а затем сыновей от Мариамны, Александра и Аристовула. Наследники должны быть в курсе всего, что происходит в государстве, и постепенно приучаться самостоятельно отдавать приказы.
Ирод запамятовал, что, возвратившись с сыновьями из Италии, действительно во всеуслышание объявил в Храме о назначении своими преемниками Антипатра, Александра и Аристовула, и, чтобы скрыть досаду на свою забывчивость, сказал еще:
– Похвально, что ты проявляешь рвение в служении мне и Иудее. А чтобы у тебя оставалось меньше свободного времени, которое ты не знаешь, на что употребить, я требую, чтобы ты впредь, прежде чем принять то или иное государственное решение, обсудил это решение с матерью Антипатра Дорис. Ей тоже пора, наконец, понять, что она существует на этом свете не для того только, чтобы набивать свою ненасытную утробу чем ни попадя, но и для других не менее важных дел.
На Саломию, которая, как заметил Ирод, стала тихо звереть от своего затянувшегося вдовства и отсутствия мужниной ласки, неожиданное возвышение Дорис подействовало самым угнетающим образом. Она почувствовала себя обойденной вниманием брата, который всегда и во всем советовался с нею и посвящал ее во все государственные и личные дела. Не желая в самое ближайшее время оказаться последней в доме, она потребовала от своей дочери Береники, чтобы та подробнейшим образом рассказывала ей обо всем, что говорит ее муж Аристовул, равно как о том, как складываются ее отношения если не со своим деверем Александром, то с его женой Глафирой.
Беренике не понравилось столь бесцеремонное вмешательство матери в ее личную жизнь. Но вот что касается ее отношений с Глафирой, то та к месту и не к месту постоянно напоминала ей, что она царская дочь и не потерпит, чтобы Береника, будучи по своему происхождению простолюдинкой, вела себя в отношениях с нею как с ровней.
Саломию оскорбила надменность Глафиры, и она поспешила к брату жаловаться на невестку, которая кичится своим царским происхождением, не понимая, что она вообще чужая в доме Ирода, поскольку не является ни еврейкой, ни даже родственной евреям идумеянкой. Ирод, который считал, что семейное счастье зависит отнюдь не от сословного и, тем более, национального происхождения мужа или жены, а только и единственно от любви между ними, на этот раз, однако, решил, что виной нескладывающихся отношений между Глафирой и Береникой служит дурной пример Фероры. Младший брат никак не решался положить конец двусмысленным отношениям со своей рабыней, к которой применимы слова благочестивой Сарры, потребовавшей от своего мужа Авраама: «Выгони эту рабыню и сына ее; ибо не наследует сын рабыни сей с сыном моим Исааком» [408]. Здесь союзником Ирода выступил неугомонный Птолемей, который, несмотря на запрет царя, продолжал вмешиваться в его внутрисемейные дела.
– Советую тебе в твоих же интересах покончить любовные отношения со своей рабыней, – сказал он Фероре, – и прекратить оскорбительное для твоего брата поведение. Постыдно в угоду рабыне лишать себя расположения со стороны царя.
– Не забывай, что та, кого ты называешь моей рабыней, является матерью моего сына, – ответил министру Ферора.
– У тебя будет множество законных сыновей, если ты изберешь себе в жены свободную женщину, – сказал Птолемей.
Как-то вечером, когда вся семья собралась на ужин за одним столом, Ирод предложил Фероре взять в жены свою младшую дочь-красавицу Киприду от Мариамны, вступившую в брачный возраст. Поскольку предложение это было сделано в присутствии самой Киприды и ее старших братьев Александра и Аристовула, Ферора не посмел отказаться и попросил назначить ему тридцатидневный срок, чтобы он успел подготовиться к свадьбе.
– Согласна ли ты, Киприда, подождать тридцать дней? – спросил Ирод дочь. Та зарделась от слов отца, которые явились для нее, как и для всех присутствующих за столом, полной неожиданностью, опустила свои огромные, унаследованные от матери синие глаза, и тихо произнесла:
– Согласна.
Довольный таким ответом Ирод поднял кубок с вином и провозгласил тост:
– Предлагаю выпить за здоровье жениха и невесты!
7
На следующий день Ирод в ознаменование помолвки своих брата и дочери решил принести в жертву благодарения огромного трехлетнего быка. В торжественной обстановке слуги, сдерживая могучее животное веревкой, продетой сквозь кольцо в его ноздрях, подвели жертву к алтарю, на котором уже полыхало высокое пламя. Первосвященник и тесть Ирода Симон стал читать молитву. Собравшиеся в Храме многочисленные родственники Ирода и иерусалимцы, которым стало известно о предстоящей через тридцать дней свадьбе брата царя Фероры и юной принцессы Киприды, в радостном предвкушении ожидали, когда Симон, закончив чтение молитвы, возьмет в руки поданный ему нож и перережет огромному быку горло. Кровью жертвы он окропит алтарь, отделит для себя от туши, как того требует традиция, грудь и правое бедро, а остальное мясо съедят в тот же день жертвователь со своими родственниками, друзьями и всем присутствующим в храме народом. Случилось, однако, непредвиденное: то ли от того, что слуги подвели слишком близко к пылающему на алтаре огню, то ли по какой другой причине, но бык неожиданным сильным рывком головы отбросил удерживающих его слуг и поддел на острые рога Симона. Пронзив его, он сбросил первосвященника на мраморные плиты двора и стал топтать его ногами. Случившиеся рядом люди, включая Ферору, бросились спасать Симона. Но все их усилия оттащить на безопасное расстояние взбесившееся животное и привести в чувства пронзенного острыми, как пики, рогами Симона оказались тщетными: он был мертв. Ферора, с перепачканными кровью первосвященника руками и одеждой, растерянно оглядывал себя. Не дождавшись, чем закончится эта внезапно разыгравшаяся трагедия, от покинул Храмовый двор и безвылазно провел все тридцать дней, выговоренных у Ирода для подготовки к свадьбе, в доме отца со своей рабыней-италийкой. Он не пришел даже на похороны Симона, что, впрочем, простилось ему: все понимали, какое потрясение пережил брат царя, когда вместо жертвы благодарения по случаю его помолвки с Кипридой оказалась пролитой кровь первосвященника.
По случаю смерти Симона в стране был объявлен семидневный траур, в течение которого Ирод неотлучно находился рядом со своей убитой горем женой и дочерью первосвященника Мариамной-второй. Он был рядом с нею и по истечении семи дней, когда к нему пришла депутация священников и потребовала назначить им нового первосвященника и главу синедриона.
– Выберите сами из своей среды нового первосвященника, – сказал им Ирод, обнимая голову неутешной жены, у которой уже не осталось слез, чтобы и дальше оплакивать несчастного отца.
Священников такое повеление царя не устроило.
– Каждый из нас достоин того, чтобы стать первосвященником, – заявили они. – Недостойно нашего сана вносить в свою среду зависть, отдавая предпочтение одному из нас.
Ирод оглядел депутацию, толпившуюся перед ним, и взгляд его остановился на самом молодом из них.
– Назови себя, – приказал он.
– Матфий, сын Феофила, – поклонившись, ответил молодой священник. – Народ почитает меня, как и каждого из нас, присутствующих здесь, опытным знатоком законов, данных нам через Моисея Предвечным.
– К какой партии ты принадлежишь – партии саддукеев или фарисеев? – спросил Ирод.
– К партии фарисеев, поскольку одни только фарисеи верой и правдой служат иудеям, являя народу пример благочестия и бескорыстия, – ответил священник.
Такой ответ удовлетворил Ирода.
– Быть тебе отныне первосвященником, – сказал он. – Все согласны с моим выбором?
– Согласны, – нестройно ответили священники, и по их тону и виду Ирод понял, что сделал, с их точки зрения, самый неудачный выбор.
– Чтобы в вашей среде по-прежнему не завелась зависть, а сохранялось одно только благочестие, – сказал он, – я дарую Храму в качестве жертвы повинности золотого орла, который будет напоминать вам о необходимости вечного мира между вами и примирения с Предвечным. Орла этого, изготовленного из чистого золота, я прикажу установить на фронтоне Храма, дабы все, кто идет молиться, уже издали видели его и чувствовали себя очищенными от грехов перед встречей с Господом. – После этого Ирод легким движением головы велел священникам оставить его наедине с женой и покинуть дворец.
По прошествии тридцати дней, отведенных на подготовку к свадьбе, к Ироду пришел Ферора, выглядевший таким же растерянным, как в день гибели Симона. Глядя не на брата, а на свои руки, как если бы на них все еще была кровь первосвященника, он объявил о своем решении расторгнуть помолвку с Кипридой.
– Я никогда не смогу полюбить твою дочь так, как люблю мать моего сына, – сказал он.
– Не забывай, что Киприда не только моя дочь, но и твоя племянница, которую ты обязан любить, – возразил Ирод.
– Я и люблю ее как племянницу, – сказал Ферора. – Но эта любовь не та, какой муж обязан любить жену. Постарайся понять меня.
8
Через несколько дней во дворце вновь объявился Эврикл из Лакедемона. В своем неизменном белом хитоне, источавшем тонкое благоухание мирры, с длинными шелковистыми волосами и большими печальными глазами, он показался Ироду ангелом, посланным ему Самим Господом Богом, когда он больше всего испытывал необходимость поддержки со стороны Предвечного [409].
– Я ждал тебя, – сказал Ирод, заключая Эврикла в объятия. Слезы радости, навернувшиеся на его глаза, упали на хитон спартанца и расплылись на нем влажными пятнами.
– Знаю, – ответил Эврикл.
– Ты так нужен мне! – продолжал Ирод, прижимая его к своей груди, чтобы тот не обнаружил охватившую его слабость.
– Знаю, – повторил Эврикл. – Поэтому я здесь.
– Благодарю тебя. – Постепенно Ироду удалось совладать с собой, и он, отстранив от себя Эврикла, заглянул в его печальные глаза. – Ты, наверное, голоден? Я прикажу накормить тебя.
– Не беспокойся ни о чем. Я хочу спросить тебя, могу ли я, как прежде, пожить у тебя?
– Ты праве жить здесь столько, сколько сочтешь нужным. Мой дом к твоим услугам.
– Дворец, – поправил его Эврикл.
– Дворец, – согласился Ирод. – И дворец, и я. Располагай нами по своему усмотрению. Ты ни в чем не будешь знать отказа.
– Спасибо, – поблагодарил Эврикл.
Но и возвращение спартанца не принесло мира в семью Ирода. Иосиф Флавий пишет в этой связи: «После его безбожного посягательства на гробницу домашние дела Ирода видимо стали ухудшаться – оттого ли, что уже прежде замечались изъяны, которые теперь стали расти от его греховности и наконец привели к неописанным бедствиям, или потому, что царя преследовал злой рок; при этом то обстоятельство, что он в прочих делах был счастлив, могло вызвать предположение, что все эти домашние неурядицы явились следствием его греховности. В придворном кругу был такой разлад, какой бывает в момент междоусобной войны: всюду чувствовалась ненависть, выражавшаяся в чудовищных взаимных наветах».
Здоровье Ирода, и без того пошатнувшееся, становилось все хуже и хуже. Он еще держался в седле с прежней уверенностью и с такой же уверенностью обращался с оружием, но делать это ему становилось все трудней. Наконец наступил день, когда Ирод, до крайней степени истощенный неурядицами в семье, дал волю накопившейся в нем исподволь ярости.
Глава седьмая ЯРОСТЬ
1
Первой жертвой ярости Ирода стал Ферора, которому царь не простил отказ жениться на своей любимице Киприде. Виной тому стали сам Ферора и его с Иродом сестра Саломия.
В один из нечастых дней, когда Ферор заглянул во дворец, чтобы повидаться с родственниками, Саломия под строжайшим секретом поведала ему, что ей не нравятся частые встречи царствующего брата с Глафирой.
– Наш брат вправе поступать так, как считает нужным, на то он и царь, – сказал Ферора.
– Это так, – согласилась Саломия, – но вот что касается Глафиры, то снохе не следует вести себя столь неподобающим образом со своим свекром. Это выходит за рамки приличия. В конце концов Глафира хотя и считает себя царской дочерью, но должна понять, что люди не слепые и всё видят.
– Что видят? – не понял Ферора.
– Всё! – многозначительно повторила Саломия и удалилась к себе.
Ферора, заинтригованный словами сестры, тут же стал расспрашивать прислугу и рабов, что им известно об Ироде и Глафире. Поскольку Ферора доводился хотя и младшим, но родным братом царю, прямо на его расспросы никто не отвечал, но из того немногого, что ему говорили, Ферора сделал для себя вывод, что Ирод воспылал страстью к своей невестке, и страсть эта давно не составляет ни для кого секрета. Ферора тут же поспешил к Александру.
Он чуть ли не со дня казни Мариамны относился к Александру и его брату Аристовулу с жалостью. Зная крутой нрав брата, он с пониманием относился к тому, что осиротевшие братья отнюдь не с обожанием относились к своему отцу, а за годы учебы, проведенные в Риме, и вовсе отдалились от него. Нельзя сказать, что взаимная неприязнь отца и его сыновей радовала Ферору. Скорее наоборот: нелады в семье брата если не в такой степени, как Ирода, но все же огорчали и его. Поэтому он верил всему, что слышал о не прекратившейся и после суда Августа над молодыми людьми распре между отцом и сыновьями: верил тому, что братья, оставаясь наедине, часто рыдают, вспоминая свою мать, верил Антипатру, который, став преемником первой руки по престолу, настороженно относится к своим сопреемникам Александру и Аристовулу исключительно, как он сам говорил, из опасений за жизнь и здоровьев отца, верил Саломии, которая, ссылаясь на слова Береники о никак не складывающихся отношениях между нею и Глафирой, распускала слухи о том, будто после смерти Ирода сыновья покойной Мариамны, едва займут царский престол, тут же обратят всех сыновей, рожденных от других жен отца, в сельских писарей, поскольку-де ни на что дельное они не годны, а любую из женщин, которая хоть раз облачится в одно из убранств их матери, сохранившихся после ограбления дворца сикариями, прикажут завязать в мешки и бросят в темницу, где они забудут, как выглядит солнечный свет.
С такими вот мыслями Ферора вошел к Александру, обнял его и стал утешать:
– Крепись, мой юный друг, не обращай внимания на порочность своей жены и необузданную страсть моего брата. Ты еще найдешь себе другую, более достойную жену, а блудницу Глафиру выставишь на улицу, где ей самое место.
Александр, ничего не понимая, отстранился от Ферора и спросил:
– Что за вздор ты несешь и как смеешь называть мою жену блудницей?
Ферора удивился.
– Как? Разве тебе неизвестно, что Глафира путается с моим братом? Ни для кого не составляет тайны, что они на виду у всех проводят долгие часы вместе и царь нашептывает ей разные нежности.
В тот же вечер, когда многочисленная семья Ирода, включая Ферору, собралась за ужином, помрачневший Александр не притронулся ни к одному блюду.
– Тебе нездоровится? – спросил Ирод.
– С чего ты взял? – грубо ответил Александр. – К твоему неудовольствию я здоров как никогда.
– Тогда почему ты ничего не ешь?
– Я не желаю есть за одним столом с лицемером, даже если этот лицемер мой отец.
Лицо Ирода потемнело. Он отставил от себя недоеденное блюдо, вытер рот и бороду салфеткой, скомкав, отбросил ее и в наступившей тишине негромко, но внятно потребовал:
– Потрудись объяснить, что значат твои слова.
– А вот то и значат: ты нагло попираешь древний закон, запрещающий отцу открывать наготу своей невестки! Сказано: «Наготы невестки твоей не открывай; она жена твоего сына»! [410]Ты же в своей распущенности дошел до того, что плюешь на все законы!
За столом наступила такая тишины, что треск множества горящих в шандалах свечей стал походить на раскаты грома.
– С чьих слов ты бросаешь в лицо твоему отцу такие обвинения? – совсем тихо спросил Ирод.
– Со слов твоего брата, который присутствует здесь! – вскричал Александр, и не в силах более сдерживать оскорбленное самолюбие, разрыдался. Стыдясь слез, он выскочил из-за стола и выбежал из зала. За ним устремилась Глафира.
Ирод перевел тяжелый взгляд на Ферору.
– Это так? – спросил он.
Фирора никак не ожидал, что новость, которую он лишь сегодня узнал, примет столь неожиданный оборот.
– Я сказал Александру только то, что слышал от других, – растерянно произнес он. – Твой дворец переполнен слухами о том, что ты спишь со своей невесткой.
Лицо Ирода перекосилось от злости. Схватив тяжелый серебряный кубок, украшенный крупными рубинами, он бросил его в брата. Ферора едва успел уклониться, и кубок, пролетев рядом с его головой, ударился о стену и со звоном покатился по полу.
– Мерзавец! – закричал Ирод. – Неужели ты дошел до такой степени низости, что стал верить гнусностям, распространяемым обо мне, и передавать эти гнусности моему сыну? Я понимаю, почему ты сделал это. Ты явился к Александру не для того только, чтобы опозорить меня. Ты желаешь моей гибели, заставляя детей моих ковать крамолу против меня. Какой сын удержится от убийства родного отца, когда на него возводятся такие обвинения? Ты не просто распространяешь обо мне вздор; ты вкладываешь в руки моих детей меч, направленный в сердце их родителя! Чего другого, как не смерти моей, добивался ты, вливая в уши Александра яд, который измыслить и вымолвить могла лишь твоя гнусность? Прочь, негодяй! Ты не брат мне больше. Пусть позор твой будет вечно на тебе, а я не только не стану преследовать детей моих, но превзойду самого себя в ласковом к ним отношении в гораздо бóльшей степени, чем заслуживают те, кто готов поверить самым нелепым сплетням!
Ферора стал белым, как мел. Поднявшись из-за стола, он стал робко оправдываться.
– Я сказал Александру лишь то, что не далее, как сегодня днем услышал из уст нашей сестры Саломии. Клянусь тебе в этом памятью наших отца и матери.
Теперь выскочила из-за стола Саломия. Рыдая и рвя на себе волосы, она стала вопить:
– Это гнусная ложь! Неужели ты, Ирод, любимый брат мой, не видишь, что все в доме нашем ненавидят меня и хотят одного: сжить несчастную вдову со свету? – Не удовлетворившись волосами, она стала рвать на себе одежду и бить себя кулаками в грудь. – Вижу, вижу я, что все только и добиваются того, чтобы ты возненавидел меня, – меня, которая во всем нашем доме одна только и предана тебе. За эту-то мою преданность все и хотят моей погибели!
Все четыре жены царя, включая возвысившуюся с некоторых пор Дорис, уже давно невзлюбили Саломию за ее сварливый характер и привычку вмешиваться не в свои дела. Теперь им представилась возможность открыто высказать свою неприязнь к ней. Мариамна-вторая обвинила Саломию в том, что внезапная гибель ее отца от рогов жертвенного быка была подстроена именно ею и никем больше, самаритянка Мальфака и простолюдинка Клеопатра заявили, что уже устали от ее бесконечных советов, как им следует вести себя в постели со своим мужем и ее братом, а Дорис, по своему обыкновению беспрестанно жуя, окинула беснующуюся Саломию презрительным взглядом и коротко обронила, всем своим видом давая понять, что ей жаль тратить слова на свою свойственницу:
– Ну и стерва ты.
Эврикл, сидевший за столом вместе со всеми, молча наблюдал за скандалом, разразившимся между самыми близкими друг другу людьми. Наконец он перевел взгляд на Ирода и стал долго смотреть на него своими выразительными печальными глазами. Ирод натолкнулся на его взгляд, как на стену, и во взгляде этом ему почудилась та же укоризна, какая привиделась ему памятной ночью, когда он проник в склеп Давида.
2
Случившиеся вскоре события на время отвлекли Ирода от тяжелой домашней обстановки. В Сирии начались волнения, вызванные недовольством населения резко подскочившими налогами. Более половины этих налогов, как говорили знающие истинное положение дел местные мытари, отправлялась не в Рим, а присваивалась наместником. Наместник, утверждали они, больше всего на свете любит деньги. «Опять эти треклятые деньги», – подумал Ирод, когда ему стало известно о волнениях, охвативших Сирию.
Август отозвал наместника в Рим, а на его место назначил Ирода, заодно подчинив ему заиорданскую Аравию. «Я знаю только одного человека, который способен восстановить мир в Римских провинциях, – написал он Ироду. – Этот человек ты».
Ирод действительно быстро восстановил в Сирии законность и порядок: для этого ему потребовалось лишь на треть сократить новые налоги, при этом сумма, отправленная им в казну Рима, вдвое превысила сумму, которую представил прежний наместник.
Никаких дополнительных хлопот не вызвала у него и Аравия. Ее новый царь Обод, с которым у Ирода сложились добрые отношения, был по натуре человеком недеятельным и апатичным. Всеми делами в стране заведовал молодой энергичный Силлей. Являясь по должности командующим армией, этот статный красавец все свое время уделял перестройке арабской армии на манер римской.
По случаю назначения Ирода новым наместником Сирии и Аравии, Силлей прибыл в Иерусалим, чтобы засвидетельствовать царю Иудеи свое уважение и готовность верой и правдой служить ему и в его лице всей Римской империи. На обеде, данном Иродом в честь высокого гостя, Силлей познакомился с Саломией, которая по возрасту годилась ему в матери. Тем не менее он сразу влюбился в сестру царя, и во все время обеда не сводил с нее горящих черных глаз. Узнав, что Саломия вдова, он с разрешения Ирода пересел к ней и стал без устали говорить ей любезности. Саломия поначалу смущалась, бросала на брата извиняющийся взгляд, но в конце концов не выдержала напора красивого араба и стала отвечать на его любезности.
Обычный протокольный обед закончился неожиданно: Силлей, обратившись к Ироду, попросил у него руки и сердца его сестры. Саломия смутилась и залилась краской.
У Ирода не было решительно никаких оснований ответить арабу отказом. Скорее наоборот: он чувствовал вину за затянувшееся вдовство Саломии. Если первого своего мужа, калеку и врача Иосифа, казненного Иродом из-за необоснованной ревности к Мариамне, она откровенно ненавидела, хотя и родила от него дочь Беренику, ставшую теперь женой Аристовула, то этого нельзя было сказать о втором ее муже – гиганте-идумеянине Костобаре, от которого у нее росли вторая дочь и сын, и который также был казнен Иродом за предательство. Тем не меня Ирод не дал молодому полководцу прямого ответа, а сказал:
– Надо бы спросить мою сестру, согласна ли она стать твоей женой.
Саломия тотчас, как если бы ее уже спрашивали об этом прежде, сказала:
– Согласна. – И лишь тогда, поняв, что совершила оплошность, потупила взор и поджала губы.
Присутствовавшие за обедом родственники и близкие Ирода рассмеялись: они, как и Ирод, не могли не заметить, что между Саломией и Силлеем сразу установились короткие отношения, и неожиданная разрядка, наступившая вслед за предложением араба и поспешным согласием Саломии стать его женой, развеселила всех.
Через два дня Силлей возвратился на родину. При расставании он долго держал в своих руках руки Саломии и преданно смотрел на нее своими горящими глазами. А еще через три месяца он возвратился в Иерусалим в уверенности, что вернется на этот раз в родную Аравию не один, а в сопровождении жены. Как того требовал обычай и высокое положение в обществе невесты, на помолвку был приглашен новый первосвященник Матфий. Молодой, как и жених Саломии, но, в отличии от него, державшийся надменно, он, узнав, что Силлей принадлежит к иному, чем невеста, вероисповеданию, потребовал:
– Прежде, чем приступить к обряду венчания, тебе, Силлей, необходимо перейти в иудейскую веру. А для этого ты должен прямо сейчас отправиться со мной в Храм, где священники произведут над тобой обряд обрезания.
Статный красавец-араб смутился.
– Я не могу перейти в вашу веру, равно как не требую, чтобы невеста моя перешла в мою веру. Пусть останется все так, как есть: мы полюбили друг друга, а это главное. К тому же если я изменю моей вере и перейду в иудаизм, дома, когда я вернусь туда со своей женой, арабы побьют меня камнями.
– Ничем не могу помочь тебе, – холодно заявил Матфий. – По закону предков я, как первосвященник Иудеи, не могу дать своего согласия на брак иудейки с иноплеменником, который не желает перейти в веру невесты.
Ирод, выслушав молодого наглеца, впервые пожалел о том, что поспособствовал избранию его первосвященником. «Этот святоша еще наломает дров», – подумал он.
Отповедь, данная Матфием, не устроила и Силлея.
– Насколько мне известно, – самолюбиво сказал он, – от Соломона никто не требовал, чтобы все его семьсот жен, происходивших из разных племен и народов, не говоря уже о трехстах наложницах, непременно перешли в иудаизм. Скорее наоборот: с позволения Соломона каждая из этих женщин исповедовала ту веру, в которой родилась.
– Ты не Соломон, – отпарировал Матфий и, поклонившись одному только Ироду, покинул дворец.
Силлей почувствовал себя оплеванным.
– Ты ничего не хочешь мне сказать? – обратился он к Ироду.
Ирод развел руками.
– Я не смею вмешиваться в прерогативу первосвященника.
– Но ты царь! – воскликнул Силлей. – И, как царь, должен понимать, что, породнившись со мной, обретешь в глазах моих соотечественников куда как больший вес и авторитет, чем просто наместник. Моя родина, в сущности, уже теперь находится в зависимости от тебя, а когда мы породнимся, полностью перейдет в твое подчинение.
– Я не смею указывать первосвященнику, как ему следует поступать, – с сожалением повторил Ирод.
Желваки на красивом лице араба напряглись, и без того черные глаза стали совсем темными.
– Ты еще пожалеешь об этом, – сказал Силлей и, круто повернувшись и даже не посмотрев в сторону Саломии, никак не ожидавшей подобной развязки, вышел. В тот же день он покинул Иерусалим.
Взбешенная Саломия, успевшая к этому времени приготовить все необходимое для свадьбы, чувствовала себя оскорбленной не меньше своего несостоявшегося мужа. Чтобы ее труды не пропали даром и свадьба все же состоялась, она потребовала, чтобы брат выдал свою дочь Киприду, отвергнутую Ферором, за своего сына от Костобара. Ирод перевел взгляд со своей сестры на Ферору, и во взгляде этом Ферора прочел: что-то скажешь ты, братец, отвергший мою дочь? Не передумал ли жениться на Киприде, благо никаких расходов нести тебе не придется, как не придется особо заботиться о приготовлениях к свадьбе, – обо всем за тебя уже позаботилась Саломия.
Ферора догадался, о чем думает брат, но сказал другое:
– Я должен попросить, брат, у тебя прощения за то, что невольно стал виновником ухудшений твоих отношений с Александром, возведя на тебя оскорбительные подозрения. Что касается свадьбы Киприды с сыном нашей сестры, то, полагаю, брак этот не будет счастливым по двум причинам. Во-первых, сын Саломии еще слишком мал, чтобы быть мужем, и, во-вторых, есть опасность, что, став твоим зятем, он, повзрослев, станет притеснять Киприду за то, что по приказу ее отца был убит его отец Костобар.
Ирод почувствовал смертельную усталость от тяжести всех перипетий, в один день свалившихся на его плечи.
– Что ты предлагаешь? – спросил он.
Ферора ответил:
– Поскольку Саломия уже сделала все необходимое для свадьбы, выдай Киприду, перед которой я виноват не меньше, чем перед тобой, замуж за моего сына.
– За сына рабыни! – воскликнула Саломия, театрально заломив руки.
От этого жеста сестры Ирода передернуло. Он почувствовал отвращение ко всему произошедшему в какие-нибудь два часа в его доме.
– Будь по-твоему, – сказал он Фероре. – В качестве приданого для моей дочери я дарю ей к свадьбе сто талантов.
3
Этот злополучный день стал переломным во всей дальнейшей судьбе Ирода и его сыновей Александра и Аристовула. Ярость, клокотавшая в нем от не прекращающихся семейных неурядиц, вновь вспыхнула в нем чуть ли не во время свадьбы его дочери и сына Фероры. Кто-то из слуг, напившись вина, шепнул на ухо царю, что его любимые евнухи вступили в тайный сговор с Александром, подкупившим их огромной суммой денег.
«Черт возьми, опять деньги!», – подумал Ирод, приходя в бешенство от услышанного.
Свадьба еще продолжалась, когда он покинул застолье, отправился к себе и потребовал вызвать всю троицу евнухов. В присутствии стражников он допросил их. Никто из евнухов не отрицал своих близких отношений с Александром, более того, признались, что, потворствуя приобретенному им в Риме пороку, состоят с ним в интимной связи, но никаких денег от него не получали и ни в какой тайный сговор не вступали. В это время в кабинет отца вошел Антипатр.
– Не помешаю? – спросил он отца.
– Не помешаешь, – ответил Ирод. – Послушай, что рассказывают мои верные слуги. Оказывается, они сожительствуют с Александром, в чем сами только что признались. Ты знал об этом?
– Знал, – вздохнув, произнес Антипатр, – но не стал говорить тебе об этом, дабы не огорчать тебя.
Ирод нахмурился.
– Что еще тебе известно и о чем ты не говоришь мне, чтобы не огорчать меня? – спросил он.
– Есть многое, отец, что может принести тебе душевные муки, – сказал Антипатр, – но что я держу под неусыпным моим контролем, чтобы отвратить беду.
– Какую именно беду ты имеешь в ввиду? Уж не ту ли, что Александр подкупил этих подлых людишек деньгами и составил с ними заговор против меня? Отвечай!
– Ты говоришь [411], – негромко произнес Антипатр.
– Ладно, на сегодня достаточно, – сказал Ирод. – Этих, – кивнул он на евнухов стражникам, – пока запереть в подвале, завтра продолжим разговор.
Наутро допрос возобновился. Закованные в цепи, проведшие бессонную ночь и потому выглядевшие испуганными евнухи предстали перед Иродом и Антипатром. На этот раз, помимо стражников, в подвале находились палачи.
– Что вы еще хотите рассказать мне? – спросил Ирод евнухов.
– Ничего, – в один голос ответили те. – Мы рассказали все, что знали, и никаких козней против тебя, царь, не чинили.
– Пытайте их, – приказал Ирод палачам. Антипатр дал понять им, что жалеть недавних любимцев царя не следует.
Палачи взялись за дело. В угоду Антипатру они продемонстрировали все свое ремесло, в котором преуспели. Несчастные не понимали, что именно хотят услышать от них царь и его старший сын, и терпеливо сносили страдания. Палачи от плетей и клещей перешли к раскаленному на огне железу. Первым не выдержал спальник. За ним, сплевывая кровь, сдался прислужник за столом, которому палачи сломали клещами зубы. Следом за ними заговорил виночерпий, у которого от раскаленного железа стыло дымиться из-под кожи, лопнувшей от пузырей, мясо. Из их сбивчивого, перемежаемого криками боли, рассказа Ирод узнал следующее. В душе Александра действительно обнаружилось нерасположение и даже ненависть к отцу. Александр убеждал их покинуть ставшего уже слишком старого царя, который, скрывая свой возраст, постоянно красит волосы, от чего не делается моложе. Если же, говорил им Александр, они будут верны ему, то как только он добьется царского престола, который непременно перейдет к нему как к самому старшему из сыновей, в жилах которых течет царская кровь, он возьмет их на службу к себе. Сверх того, поведали евнухи, на сторону Александра уже перешли многие из военачальников и друзья из числа священнослужителей, которым стало в тягость и дальше терпеть над собой царя-инородца. Военачальники и священнослужители эти готовы сделать для него, Александра, все что угодно и подвергнуться каким угодно пыткам, только бы освободиться от тирании чужеземца, у которого на уме лишь одно: как бы угодить своим хозяевам в Риме.
4
Не в силах больше смотреть на изуродованные тела евнухов, Ирод приказал их убить, а тела закопать тут же в подвале. Сам же, вернувшись с Антипатром к себе, вызвал наиболее доверенных лиц и приказал им в качестве соглядатаев следить решительно за всеми во дворце, не делая ни для кого исключения.
К этому же времени относится еще одна перемена, произошедшая в Ироде. Все чаще и чаще возвращаясь мысленно к пророчеству Менахема о скорой встрече с Мессией и необходимости успеть подготовиться к ней, он вспомнил и те слова умирающего ессея, которые прежде проскальзывали мимо его внимания: « Встреча с Ним произойдет внутри тебя». Как понимать эти слова? Не хотел ли сказать перед смертью Менахем, что он, Ирод, и есть Мессия? Если это так, то становятся понятными и все другие слова ессея: «Смотри, Ирод, не обманись. Будут такие, кто станет объявлять себя Машиахом и царем Иудеи. Не слушай таких, гони их прочь, а того лучше – казни».
Перемена, случившаяся в Ироде, – перемена психического, а не какого иного свойства, – не прошла мимо внимания Николая Дамасского [412]. В описании жизнедеятельности царя он сделал соответствующую запись, которую спустя век воспроизвел в переработанном в соответствии с собственный оценкой Ирода и его последних лет жизни Иосиф Флавий:
«Так как он относился с недоверием и ненавистью решительно ко всем и всюду видел угрожающую опасность, то стал питать подозрение относительно ни в чем не повинных людей. В этом он совершенно не знал никаких границ: те, кто, на его взгляд, были при нем слишком долго, казались ему опасными, так как он считал их более способными нанести ему зло; тех же, кто почему-либо не общался с ним, было достаточно только назвать: этого ему было довольно, чтобы загубить их и тем гарантировать себе личную безопасность.
В конце концов его приближенные, потеряв всякую уверенность в своей безопасности, стали доносить друг на друга, торопясь предупредить в этом своих товарищей и думая лишь сами оградить себя; когда случалось, что они достигали своей цели, то, в свою очередь, навлекали на себя подозрения и оказывались сами в глазах царя достойными того же наказания, которое они столь предусмотрительно и преступно уготовили своим товарищам. Таким-то образом поступали все те, кто имел с кем-либо личные счеты, но месть их падала назад на их же собственные головы; каждый случай представлялся им удобным для того, чтобы устроить ловушку противникам; впрочем, они сами попадались таким же способом, каким старались устроить козни другим. Дело в том, что на царя вскоре нападало раскаяние в гибели людей, очевидно виновных, но это тяжелое чувство отнюдь не удерживало его от дальнейших подобных мероприятий, а скорее побуждало его подвергать доносчиков такой же участи.
Таковы были смуты при дворе. Царь объявил уже многим приближенным своим, что впредь не требует более их посещений. Это распоряжение он сделал для того, чтобы иметь бóльшую свободу действий и не стесняться по-прежнему. При этом случае он удалил от себя также двух издавна преданных ему друзей Андромаха и Гемелла, которые оказывали ему многочисленные услуги при дворе и немало поддерживали его во время посольств и разных совещаний, равно как воспитывали сыновей Ирода; они раньше занимали высокое место при дворе. Андромаха царь удалил оттого, что сын его был близок к Александру, Гемелла же потому, что он знал личную преданность старика Александру, которого он воспитал и обучил и с которым не разлучался во все время пребывания его в Риме. Царь охотно бы избавился от них менее деликатным способом, но так как он не мог этого сделать относительно столь выдающихся и недавно еще игравших у него столь крупную роль мужей, то лишил их только внешнего почета и тем предупредил возможность преступных замыслов с их стороны».
5
Удалив от себя приближенных, Ирод остался совершенно один. Исключения делались лишь для Николая Дамасского, продолжавшего работу над книгой о царе, и Эврикла. Последний вообще пользовался полной свободой действий: он единственный мог войти к Ироду в любое удобное для себя время, мог, никого не поставив об этом в известность, неожиданно исчезнуть из дворца на недели и месяцы, как уже сделал это однажды, и также неожиданно появиться вновь. Каждый раз, когда Эврикл возвращался после своих долгих отлучек, Ирод радовался, как ребенок, который нашел вдруг свою любимую игрушку, считавшуюся давно утерянной, и часами слушал его рассказы о том, в каких местах тот успел побывать и что нового для себя увидел и услышал. Ирод ни разу не перебивал спартанца, но и слушал его рассказы рассеянно. Ему доставляло удовольствие просто находиться в обществе своего гостя, вдыхать тонкий аромат, исходящий от его белоснежного хитона, любоваться его длинными шелковистыми волосами и смотреть в не перестававшие выглядеть печальными глаза, даже если рассказы Эврикла не содержали ничего грустного.
Свои обязанности наместника Сирии и Аравии он также выполнял спустя рукава; ему достаточно было того, что подведомственные ему страны надежно контролируются расквартированными там римскими легионами под командованием бывшего консула Сатурнина и Волумпия. Однажды он получил от царя Аравии Обода письмо, в котором тот жаловался на недомогания и бедность, которая не позволяет ему женить своего единственного сына и наследника престола Энея. Ирод тут же распорядился отослать Ободу пятьсот талантов в качестве дара к свадьбе Энея. Благодарный Обод, получив деньги, тут же ответил Ироду длинным письмом, в котором заверял царя Иудеи в своей неизменной преданности и верности, сообщал, что щедрость его от относит на счет врожденной щедрости вообще всех арабов, к коим пусть не прямо, но косвенно относится Ирод, поскольку мать его Кипра сама происходит из рода аравийского царя Ареты, и что в память об их давнем общем предке сын его Эней, вступив в брак, изменит свое имя на Арету. К письму была приложена расписка, в которой Обод, еще раз напомнив Ироду о присущей всем арабам гордости, сообщал, что не смеет принять присланные им пятьсот талантов в качестве дара, а рассматривает их исключительно как ссуду, выделенную царем Иудеи Аравии с целью поправить ее пошатнувшееся финансовое положение. Обод заверял, что вернет Ироду означенную сумму тотчас, как только он ее потребует, а если долг арабов не будет погашен в месячный срок, Ирод вправе присоединить к Иудее в качестве компенсации Аравию любыми средствами, какие сочтет достойными его высокого положения и авторитета, вплоть до объявления войны. Расписка была заверена подписями римских полководцев Сатурнина и Волумпия, а также подписью командующего войсками арабов и несостоявшегося мужа Саломии Силлея.
По натуре своей Ирод совершенно не выносил одиночества, хотя сам же обрек себя на него. Чтобы чем-то занять себя, он, подобно своему деду, стал проводить долгие часы с внуками и внучками, обучая их грамоте. Когда те подросли, пригласил к ним из Греции лучших учителей с намерением, когда те освоят азы всех известных ему наук, завершат свое образование в Риме. С особой нежностью он относился к детям Александра и Аристовула – светловолосые и синеглазые, они напоминали ему не столько своих отцов, доставлявших ему одни лишь огорчения, сколько их красавицу мать, которую он никогда не переставал любить, а с годами, прошедшими со дня ее смерти, любил ее все больше и больше. К внучкам, когда те освоили грамоту и научились бегло читать по-еврейски и по-гречески, он приставил бонн, которые стали обучать их рукоделию и другим необходимым каждой девочке навыкам, а внуков самолично стал обучать плаванию, верховой езде и обращению с оружием. В один из таких дней, когда Ирод, собрав вокруг себя в дворцовом парке сына Александра Александра же и Тиграна и сыновей Аристовула Агриппу, Ирода и младшего Аристовула, и обучал их стрельбе из лука, в Иудею из Каппадокии прибыл Архелай. Узнав из письма дочери Глафиры о наветах, обрушившихся на голову ее мужа, Архелай на правах родственника решил лично уладить ссору, возникшую в доме Ирода. О деталях встречи двух царей нам также известно по дошедшим до нас древним документам. Читаем:
«Озабочиваясь судьбой дочери и мужа ее и сочувствуя Ироду, с которым был дружен и бедственное положение которого знал, каппадокийский царь Архелай прибыл в Иерусалим, потому что не делал себе иллюзий насчет действительности. Застав Ирод в таком состоянии [угнетенности], он счел в данный момент совершенно неуместным ни укорять его, ни указывать на преждевременность некоторых его мер; он понимал, что если начнет хулить его, то только укрепит его в настойчивости; если же поспешит защищать, то вызовет в нем лишь еще больший гнев. Поэтому он начал другую тактику: чтобы поправить столь несчастное положение, прикинулся разгневанным на юного зятя своего и говорил, что Ирод еще достаточно мягок, что не предпринимает ничего поспешно. Вместе с тем он указал на свое желание расторгнуть брак дочери с Александром и не щадить даже дочери, если бы оказалось, что она знала что-либо и не донесла о том.
Когда Ирод сверх всякого ожидания нашел Архелая таковым, особенно же когда увидел, как он сердится за него, царь стал несколько мягче и, полагая, что он, по всей видимости, все-таки был не вполне справедлив в своих предшествующих мероприятиях, понемногу дал охватить себя прежнему отцовскому чувству. Однако теперь он оказался вполне достоин сожаления: когда кто-нибудь стал отвергать возведенные на юношу обвинения как клеветнические, он выходил из себя; если же Архелай поддерживал обвинение, он преисполнялся страшной скорбью, плакал и даже просил его не расторгать брака и не так сердиться на совершенные юношей злодеяния. Когда Архелай нашел, что Ирод смягчился, он стал переносить обвинения на друзей Александра, указывая на то, что молодого и неопытного человека загубили те, и все более навлекать подозрения Ирода на его брата [Ферору]. А так как Ирод был и без того восстановлен против Фероры, то последний, не имея посредника и видя влияние Архелая, сам явился к нему в черной одежде. Видя перед собой в недалеком будущем все признаки неизбежной гибели, он сделал это. Архелай не отказался от заступничества, но вместе с тем указал также на полное свое бессилие скоро убедить царя, находившегося в таком состоянии. Он сказал, что гораздо лучше будет, если Ферора сам отправится просить [у брата] прощения и при этом возьмет всю вину на себя. Таким образом он несколько умерит гнев Ирода, при этом Архелай обещал поддержать его своим присутствием. Убедив Фирору в целесообразности этого, он достиг двух благих результатов: во-первых, юный Александр освобождался от тяготевших над ним клеветнических обвинений и, во-вторых, Ферора примирился с братом. После этого Архелай вернулся в Каппадокию, успев себе, как никто в те времена, снискать благоволение Ирода, который почтил его весьма ценными подарками и, между прочим, торжественно причислил его к наиболее преданным друзьям своим».
6
Проводив Архелая до Антиохии, Ирод на обратном пути неожиданно для себя ввязался в совершенно ненужную ему и потому бессмысленную войну с арабами. Поводом к этой внезапно вспыхнувшей войне послужило следующее обстоятельство. Жители Трахонитской области, которую Август отобрал у Зенодора и присоединил к Иудее, вынуждены были от разбоев перейти к мирному труду. Однако труд этот, вследствие природной скудости тамошней земли, не давал им достаточных средств к существованию. Ирод сколько мог восполнял им эти средства денежными выплатами из государственной казны и продуктами питания, поставляемыми сюда из других областей Иудеи. Между тем, пока Ирод обрек себя на одиночество в Иерусалиме, по Трахонее распространились слухи, будто царь погиб, став жертвой дворцовых интриг, а потому местным жителям более не придется рассчитывать на его прежнюю заботу о них. Трахонцы вспомнили о прежнем своем разбойничьем ремесле, позволявшем им безбедно существовать, и вновь стали баловаться грабежами соседей. Те, естественно, не пожелали добровольно становиться жертвами, и взялись за оружие. С обеих сторон пролилась кровь. Трахонцы придерживались древнего правила кровной месте, и потому с первыми убитыми со своей стороны стали убивать родственников тех евреев, кто подозревался в убийствах. В короткое время вооруженные стычки между соседями переросли в открытую вражду, в которой уже невозможно было разобраться, кто прав, а кто виноват. Потребовалось срочное вмешательство в вспыхнувший конфликт центральной власти. Ирод и сделал это. Он стал одинаково сурово наказывать как трахонцев, так и их соседей евреев. Самые отчаянные трахонцы бежали в Аравию, где были тепло приняты Силлеем, решившим таким образом отомстить Ироду за несостоявшийся брак с его сестрой. Евреи, в свою очередь, попав под горячую руку Ирода, стали опять, как это сплошь и рядом случалось прежде, обвинять его в чужеродном происхождении, которое, собственно, и явилось главной причиной его жестокого обращения с ними. Теперь уже не только трахонцы из-за Иордана, но и местные евреи, проживавшие по соседству с ними, обернули оружие против Ирода. Кровавый конфликт перерос в полномасштабную войну.
Сатурнин и Волумний, командовавшие римскими легионами, не вмешивались в эту войну из опасений навлечь на себя гнев Августа, проводившего политику мира на всей территории империи. Это была одна причина, по которой они сохраняли нейтралитет. Другая причина состояла в том, что Ирод, будучи наместником не только Сирии, но и Аравии и, к тому же, царем Иудеи, обязан был собственными силами положить конец войне, вспыхнувшей между арабами и евреями.
Не щадя втянувшихся в войну евреев, Ирод в отношении бежавших в Аравию трахонцев применил тот же принцип, что и они в отношении евреев: он приказал выявлять и казнить всех родственников скрывшихся за Иорданом разбойников. В отместку разбойники, поддержанные регулярными частями арабской армии, стали совершать рейды в глубь Иудеи, разоряя ее города и села, а схваченных в плен евреев или убивали, или продавали в рабство.
Тогда Ирод перешел через Иордан и вступил со своими войскам на территорию Аравии. Схватившись с арабами, он захватил большое их число в плен. Сатурнин и Волумний потребовали, чтобы Ирод отвел войска. Взбешенный Ирод заявил, что сделает это лишь тогда, когда арабы выдадут ему всех трахонских разбойников, которых они пригрели, и, вдобавок к этому, получит с аравийского царя Обода долг в пятьсот талантов.
О деньгах Ирод вспомнил случайно, когда натолкнулся на противодействие со стороны римских полководцев. Те, в свою очередь, вспомнили, что собственноручно заверили расписку Обода, как вспомнили и то, что еще одним свидетелем принятого на себя Ободом долга стал командующий его армией Силлей. И без того страдавший от многочисленных недугов Обод, когда ему доложили о требовании Ирода возвратить долг, вконец разболелся. Власть в Аравии, учитывая юный возраст его сына Энея, который после вступления в брак переменил свое имя на Арету, целиком перешла в руки Силлея. Допрошенный римскими полководцами Силлей отрицал, что на территории Аравии находится хотя бы один житель Трахонитской области, которых Ирод считает разбойниками, а что касается долга в пятьсот талантов, то он от лица впавшего в кому Обода обязуется вернуть его Ироду через месяц.
Ирод догадывался, что Силлей рассчитывает собрать эти пятьсот талантов с грабежей проживающих во внутренней Иудее евреев. Но поскольку Сатурнин и Волумний выступили гарантами возвращения долга в месячный срок, вынужден был согласиться с обязательством Силлея. Укрепив границу между Иудеей и Аравией, он тем не менее повторил свое требования выдать ему трахонских разбойников, являвшихся его подданными. Силлей проигнорировал требование Ирода. Вскоре после этого умер Обод, и на трон царя Аравии взошел его сын Арет.
Воспользовавшись всем этим, а главное невозможностью продолжать набеги на Иудею, Силлей отправился в Рим жаловаться Августу на самоуправство его наместника. Сатурнин и Волумний, недовольные демаршем арабского полководца, вздумавшего в обход их отправиться в Рим, не стали возражать против того, чтобы Ирод сам позаботился о захвате разбойников, нашедших приют в Аравии. Ирод атаковал крепость, предоставленную беглым трахонцам Силлеем, и с ходу взял ее, сравняв стены крепости с землей. На выручку трахонцам поспешил с большим отрядом арабов некто Накеба, которого Силлей оставил вместо себя. В короткой яростной стычке Ирод разбил отряд арабов. При этом со стороны Ирода пало трое воинов, а со стороны арабов двадцать пять, включая самого Накеба; остальные арабы бежали с поля боя. Ирод покинул пределы Аравии и с захваченными в плен разбойниками вернулся в Трахонею. Здесь он предал пленных суду и всех их казнил. Не надеясь больше на евреев, которые считали его инородцем, он приказал переселить в Трахонитскую область три тысячи идумеян, которых вооружил, наделил землей и снабдил всем необходимым для занятий сельским трудом. Идумеянам надлежало отныне держать в повиновении разбойников и приобщать их к земледелию и овцеводству. Тем же арабам, которые живут на границе с Трахонитской областью и желают поддерживать с нею добрососедские отношения, он разрешил за умеренную плату пользоваться пастбищами Иудеи.
Последним шагом в этой внезапно вспыхнувшей и последней в жизни Ирода войне стало донесение, которое он отправил Сатурнину и Волумнию. В своем донесении царь Иудеи и наместник Рима в Сирии и Аравии информировал полководцев, что война закончена, Трахонитская область умиротворена и он ни в чем не преступил данных ему в отношении Аравии полномочий. Римские полководцы удовлетворились донесением Ирода и отправили Августу вестников со своим письмом, содержавшим изложение существа конфликта, возникшего между Иудеей и Аравией; к своему письму они приложили донесение Ирода.
Однако то, что Ирод посчитал концом нелепой войны, стало для него причиной серьезной размолвки с Августом. Это было не лучшее время не только для него, но и для императора. Неожиданно скоропостижно скончался его верный друг и сподвижник Агриппа, оставив после себя сыновей Гая Цезаря и Луция Цезаря, которые сами вскоре умерли, и дочь Агриппину. Их мать и дочь императора Юлия, и без того не отличавшаяся целомудрием, пустилась во все тяжкие, покрыв имя Августа несмываемым позором. Ее не образумило даже то, что Август, лишившись любимого зятя, поспешил развести своего пасынка Тиберия с женой Випсанией и женить на своей непутевой дочери. В это-то время к нему и прибыл аравийский военачальник Силлей. Добившись аудиенции у императора, он пал перед ним на колени и сообщил, что война, развязанной против него Иродом, вконец опустошила Аравию, а арабская армия разгромлена.
– Две тысячи пятьсот лучших моих воинов во главе с храбрым Накебом пали в сражении с превосходящими силами иудеев, – со слезами на глазах жаловался Силлией, – а вместе с ними умерщвлены и ограблены все их родственники. Ирод воспользовался тем, что царь Аравии Обод скончался. Сын его, без высочайшего одобрения Рима возложивший на себя корону, в силу своей молодости и неопытности оказался не способен вести войну с тем, кого почитает как наместника Рима и друга своего покойного отца. Все это вместе взятое и позволило Ироду нанести смертельный удар в самое сердце одной из твоих верных, живущих одной лишь мечтой о вечном мире и благоденствии провинций. – Закончил свою речь Силлей горестными словами: – Отныне не стало не только Аравии, но и ядра ее рати.
Август пришел в негодование. Присутствующих при этой сцене вестников римских полководцев в Азии Сатурнина и Волумния, доставивших ему письмо и донесение Ирода, он спросил, действительно ли Ирод развязал войну против Аравии:
– Видишь ли, Цезарь, дело в том, что… – начали было они, но Август не дал им договорить:
– Я не желаю входить в рассуждения о том, что именно послужило причиной войны. Отвечайте прямо, кто развязал войну: Ирод или не он?
– Ирод, – ответили вестники.
Август тут же распустил собрание и написал Ироду резкое письмо, в котором сообщил, что если до сих пор он относился к нему как к другу, то отныне видит в нем исключительно подданного, к которому не может и дальше относиться с доверием.
Возвратившийся в Иерусалим Ирод был озадачен этим письмом. Подобного нельзя было сказать об арабах, которым Силлей также отправил письмо с описанием своей встречи с Августом и реакции императора на поведение Ирода. Историки свидетельствуют: «Арабы воспрянули духом, не стали вовсе выдавать разбойников, искавших у них убежища, и не заплатили денег; напротив, они теперь совершенно свободно овладели пастбищами, которые им Ирод предоставил за плату, и говорили, что вследствие гнева императора царь иудейский смещен. Этим же моментом воспользовались трахонцы, восстали против идумейских гарнизонов и стали разбойничать вместе с арабами, которые разоряли страну иудейскую, преследуя здесь не только цели наживы, но особо свирепствуя в видах гнусного мщения».
Ирод, в семье которого дела шли все хуже и хуже, окончательно пал духом. Николай Дамасский, видя состояние царя, вызвался лично отправиться за море и открыть глаза Августа на действительные причины, вынудившие Ирода начать войну с Аравией, равно как изобличить ложь Силлея.
– Поступай как знаешь, – сказал Ирод и отправился к себе, ничего в эти минуты так не желая, как забыться сном или, того лучше, умереть.
7
Ирод заболел. К прежним его болячкам – ставшим все чаще распухать ногам – прибавились новые: теперь у него стал пухнуть живот, на груди и плечах появился зуд, и когда он расчесывал особенно мучающие его места, на их месте стали образовываться язвы. Врачи не могли понять причины столь странной болезни царя, и порекомендовали ему завести молодых наложниц, которым будет предписано голыми ложиться к нему в постель [413]. Ирод отверг предложение завести наложниц, и в короткое время женился пять раз кряду, что не возбранялось законом. После иерусалимянки Клеопатры он взял в жены гречанку Палладу, которая родила ему сына Фасаила; две следующие жены царя – дочь его брата Ферора и дочь сестры Саломии – остались бездетными; девятая жена Федра родила ему дочь Роксану и, наконец, десятая, известная по имени Эльпида, родила Ироду дочь, названную в честь его сестры Саломией.
Поздние браки Ирода на какое-то время улучшили состояние его здоровья, но не сделали здоровей обстановку в доме. Эта обстановка стала вовсе катастрофической после вмешательства в семейные дела Эврикла, которого Ирод в глубине души продолжал считать Мессией, ниспосланным ему по предсказанию Менахема Предвечным. Эврикл своим вмешательством надеялся улучшить общую атмосферу, царившую в последние годы в царском дворце. Особенно сдружился он со старшим сыном Ирода Антипатром, который после провозглашения его основным преемником отца, стал чувствовать себя новым царем Иудеи, вызывая тем самым открытую неприязнь со стороны нового первосвященника Матфия.
– Инородец не может быть признан царем Иудеи! – открыто говорил он в Храме, и слова первосвященника быстро разносились по стране, находя понимание среди евреев.
Подружился Эврикл, впрочем, не с одним только Антипатром, но и с Александром и Аристовулом, вокруг которых завязалась основная интрига. Александр жаловался Эвриклу, что отец неизвестно по какой причине считает, что он, его сын от покойной Мариамны, в силу своего происхождения претендует на престол и потому ненавидит и боится его.
– Во время нечастых совместных прогулок по дворцовому парку мне приходится сутулиться, чтобы не казаться выше отца ростом, – говорил он Эвриклу, – а на охоте промахиваться в дичь, поскольку отец не терпит, когда кто-то стреляет не хуже него.
Эврикл передал содержание этого разговора Антипатру, и вскоре по дворцу пополз слух, будто Александр, сговорившись со своим братом Аристовулом, решил во время очередной охоты застрелить отца, после чего бежать в Рим, где добиться от Августа утверждения его на царском престоле.
Вскоре после этого было перехвачено письмо Александра, адресованное Аристовулу, находившемуся в то время в отъезде. Александр прямым текстом упрекал отца в лицемерии. «На словах наш отец всячески подчеркивает свое презрение к деньгам, – писал он, – а на деле подчинил Антипатру область, которая дает ему ежегодный доход в двести талантов, тогда как нам, его соправителям, не дал ничего. Чем Антипатр лучше нас? Тем, что по отцу нашему он идумеянин, а по матери, в отличие от нашей бедной матушки, вообще неизвестно кто? Отца нашего за его чужеродное происхождение уже ненавидит вся Иудея. Он хочет, чтобы теперь его возненавидел весь мир, где проживает хотя бы один еврей».
Письмо это показали Ироду. Он внимательно прочитал его и распорядился вызывать в подвал на допросы под пыткой одного за другим всех, кто так или иначе был связан с братьями, чтобы доискаться правды.
Один из слуг Александра, не выдержав мучений, сказал, будто ему со слов Александра известно, что тот поручил своим друзьям в Риме, сохранявшим ему верность со времени учебы в мировой столице, добиться у Августа скорейшего приглашения его, Александра, в Италию, где он сообщит императору подробности о коварном плане, составленном его отцом совместно с парфянским царем Митридатом. Митридат-де давно грезит об освобождении своей страны от римского владычества, отец подговорил его объединить свои армии и пойти совместно на Рим, где убить Августа. На тот случай, якобы говорил Александр, если отец решится на такое злодеяние, он, Александр, заготовил яд, с помощью которого умертвит отца, и яд этот до поры до времени держит в тайне от всех в Аскалоне [414].
При всей вздорности подобного обвинения, Ирод поверил навету на сына. В Аскалон был спешно направлен поисковый отряд, который перерыл весь город, не оставив без внимания ни единой пяди, но яда так и не нашел. Александру стало известно о пытках его друзей, равно как об обыске, учиненном по приказу отца специальным поисковым отрядом в Аскалоне, и тогда он, потеряв всякое терпение и способность мыслить, составил за собственной подписью письмо в четырех экземплярах, которое разослал в разные концы Иудеи. Расчет его был хотя и безрассуден, но прост: письма эти в самом скором времени должны вернуться в Иерусалим и лечь на рабочий стол отца. Уж тогда-то он убедится, что его сын доведен до отчаяния возводимой на него клеветой и желает пристыдить отца за его легковерие, переходящее в фобию.
Так оно и случилось: все четыре письма были перехвачены в Иерусалиме и представлены царю. Ирод внимательно ознакомился с ними. Он не очень удивился, узнав из них, что его любимый сын, первенец Мариамны, сам решил признаться в коварных замыслах уничтожить родного отца. Зачем царю, слывущему вроде бы трезвым политиком, писал Александр, прибегать к бесконечным пыткам невинных людей и дознаниям, когда и без того очевидно, что он, Александр, действительно составил заговор против него, и в заговор этот вовлек не только всех своих друзей, но и брата Ирода Ферору и его сестру Саломию, которая сама пришла к нему как-то ночью и добровольно согласилась принять участие в умерщвлении царя. «Все заговорщики, – говорилось далее в письме, – единодушно пришли к общему выводу, а именно: как можно скорей избавиться от царя и восстановить во всей Иудее и соседних с нею странах прочный мир и безопасность». В приписке к письму Александр как бы между прочим сообщал о причастности к заговору ближайших сотрудников и министров Ирода во главе с Птолемеем.
Несмотря на очевидную нелепость содержавшихся в письме Александра «самопризнаний», Ирод отнесся к нему серьезно. Бесчеловечные пытки с последующими казнями десятков людей становились все более привычными в повседневной дворцовой жизни. Исторические хроники свидетельствуют: «Пока одни томились в оковах, другие шли на смерть, а третьи с ужасом думали о подобной же предстоявшей им самим судьбе, во дворце на месте прежнего веселья воцарились уединение и грусть. Невыносимой показалась Ироду вся жизнь его, он был сильно расстроен; великим наказанием ему было никому больше не верить и от всех чего-то ожидать. Нередко его расстроенному воображению чудилось: сын его восстает против него с обнаженным мечом в руках». При таком состоянии, длившемся долгие дни и ночи, психическое расстройство царя юдостигло крайних пределов.
Первым не выдержал Эврикл, осознавший, что в катастрофе, обрушившейся на семью Ирода, есть большая доля его вины. Он, как это разрешалось ему одному, без предварительного разрешения отправился к царю. Ирода он застал в крайне возбужденном состоянии. Глаза его горели диким огнем, из-под распахнутой на груди туники виднелись гниющие язвы, ноги, ставшие похожими на слоновьи, были сложены крест-накрест, в руках он держал обнаженный меч.
Печальные глаза Эврикла повлажнели от навернувшихся слез. Ему стало невыносимо жаль сразу постаревшего больного царя. Ирод при виде Эврикла не изменил позы, терпеливо ожидая, что тот ему скажет. Спартанец обмакнул белым, как его хитон, платком навернувшиеся на глаза слезы и глухо, не узнавая своего голоса, произнес:
– Я пришел к тебе, великий царь, попросить разрешения покинуть твой дворец.
– Раньше ты делал это, не спрашивая моего согласия, – сказал Ирод, и голос его почудился Эвриклу скрипучим, как звук несмазанного колеса перегруженной телеги.
– На этот раз я решил навсегда покинуть Иудею и больше сюда не вернусь, – сказал Эврикл.
– Жаль, – отозвался Ирод тем же скрипучим голосом. – Мы о многом с тобой не успели поговорить, а еще большее я так и не узнал от тебя.
– Ты знаешь больше, чем способен осилить человеческий разум, – сказал Эврикл. – Мне нечего сообщить тебе. Позволь мне покинуть тобой.
Правая рука Ирода продолжал держать рукоять меча, левой он пошарил вокруг себя, что-то нашел, попытался было достать, но у него не хватило сил.
– Подойди, Эврикл, помоги мне.
Эврикл подошел к постели, на которой сидел Ирод, и с трудом вытащил из нее большой кожаный мешок.
– Здесь пятнадцать талантов золота, возьми их себе, – сказал Ирод. – Извини, но больше у меня нет.
Эврикл не посмел ослушаться и взял подаренные ему царем деньги. Позже Ироду донесут, что из Иерусалима Эврикл направился в Каппадокию, где его любезно принял царь Архелай. Получив и от Архелая двадцать талантов золота, Эврикл вернулся на родину, где его тут же схватили за совершенные много лет назад мошенничества. Спартанца судили, конфисковали в пользу государственной казны все деньги, которые он привез из скитаний по свету, и, лишив его гражданства, выслали из Лакедемона.
– Я принял за Мессию того, кто оказался обыкновенным жуликом, – равнодушно произнес Ирод, выслушав рассказ о злоключениях спартанца в белом, как облако, хитоне и большими печальными глазами. – Вот что значит не послушаться предостережений пророка.
– О каком пророке царь изволит говорить? – спросили Ирода.
– Неважно о каком, – ответил тот. – Что слышно от Николая Дамасского, который давно не подает о себе вестей из Рима?
– Как раз сегодня пришло от него письмо, – было ему ответом. – И не только от Николая Дамасского, но и от Цезаря.
8
Письмо ученого сирийца начиналось с извинений за долгое молчание. «Молчание это, впрочем, – говорилось далее в письме, – было вызвано весьма важными и, надеюсь, приятными для тебя обстоятельствами». Из дальнейшего рассказа сирийца выяснилось следующее.
Прибыв ко двору, Николай Дамасский узнал, что внутри посольства Силлея произошел раскол: часть арабов была недовольна тем, что их военачальник решил сыграть на недовольстве Августа самочинным вступлением на царский престол молодого Ареты, не получив на то одобрения Рима, и сам вынашивает планы стать царем Аравии. В этой обстановке самым разумным было не доказывать невиновность Ирод и даже не разоблачать намерение Силлея получить из рук Августа царскую корону, – то и другое нуждалось в веских документальных подтверждениях, которых у Николая Дамасского не было, – а для начала просто уличить Силлея в грубой лжи. Потому-то он, Николай, и начал свое выступление перед Августом не с общих рассуждений о том, что считать войной, а что является решительным восстановлением мира и законности, а с намеренного обмана Силлея, сообщившего Августу, будто Ирод умертвил множество арабов. Август тут же перебил Николая Дамасского.
– А разве это не так? – спросил он. – Разве Ирод не убил две с половиной тысячи лучших воинов Силлея, разве не умертвил множество мирных арабов и не ограбил их, разве, наконец, не увел в Иудею бесчисленное число пленных?
– Ничего из перечисленного тобой, Цезарь, – сказал Николай, – на самом деле не имело места. И я легко докажу это. – С этими словами он предъявил Августу расписку покойного Обода о полученных им от Ирода пятистах талантах и условиях выплаты долга, заверенную собственноручными подписями Сатурнина, Волумния и самого Силлея.
Август прочитал расписку и помрачнел. Стали белыми, как снег, присутствующие здесь же Силлей и его поредевшая из-за внутренних раздоров свита: им были хорошо известны условия, добровольно принятые на себя арабской стороной в случае невыплаты долга. Николай Дамасский кивнул в сторону Силлея и его свиты и продолжал [415]:
– Такова-то была война, каковой представили ее тебе эти артисты, таков был весь поход. Какая же это война, разрешение на которую дали твои собственные военачальники, которую допускал договор, причем поруганию подверглось имя не только прочих богов, но и твое собственное, Цезарь? Теперь же мне следует поговорить также относительно пленных. Бежавшие от гнева Ирода первые сорок трахонских разбойников, а потом и больше, сделали своим убежищем Аравию. Их принял к себе Силлей и стал кормить их назло всем прочим обитателям страны. Им он роздал земли, и с ними он сам делил добычу от грабежей их. Он клятвенно обещал выдать этих людей Ироду в день возвращения своего долга, но и теперь еще нельзя указать ни на кого, кто был бы уведен царем из Аравии, кроме именно этих разбойников, притом даже не всех, а тех лишь, которые не нашли возможности скрыться. И вот, так как вся история о пленниках является ложным и злобным измышлением, то ты, Цезарь, узнáешь, какое огромное здание лжи воздвиг Силлей для того только, чтобы вызвать гнев твой. Я утверждаю, что когда на нас напала арабская рать и лишь после того, как на стороне Ирода пал один или двое, а Ирод слабо отбивался, явился на поле битвы арабский военачальник Накеб, потерявший при этом случае около двадцати пяти воинов. Число их Силлей умножил на сто и заявил, что пало две тысячи пятьсот человек…
Разгневанный Август спросил Силлея, так сколько же человек пало со стороны арабов – двадцать пять или две тысячи пятьсот? Вконец оробевший Силлей ответил, что точное число павших ему не известно, но очевидно теперь, что его ввели в заблуждение. Усилием воли Август подавил в себе неприязнь, вспыхнувшую к Силлею, и поставил ему в вину не только ложь, но и то, что оговорил его преданного друга. После этого Силлей был отправлен на родину с строгим наказом выполнить все обязательства, принятыми перед Иродом, а Август в присутствии Николая Дамасского написал новое письмо царю Иудеи.
Письмо это оказалось совсем коротким, состоявшим всего из нескольких строк, и бессвязным, что было не свойственно Августу. Начиналось оно с примирительных слов и пожеланий не сердиться на него, что неприлично в отношениях между друзьями. Затем император мягко выговорил своему наместнику за то, что тот позволил Арету провозгласить себя царем Аравии, не потрудившись получить одобрение императора или его, Ирода, как наместника Рима. В наказание за это своеволие он, Август, решил включить Аравию в состав Иудеи и подчинить ее прямой власти Ирода уже не как наместника, а царя. Впрочем, писал Август далее, учитывая возраст его друга и болезни, обрушившиеся на него, равно как отношения нетерпимости, сложившиеся в его доме между ним и его сыновьями Александром и Аристовулом, он, Август, оставляет все как есть и, более того, заботясь о здоровье своего друга освобождает Ирода от тяжких обязанностей наместника Сирии и Аравии. «Новым наместником этих провинций, – закончил Август свое письмо, – я назначаю молодого энергичного полководца Публия Квинктилия Вара, который успел проявить себя с лучшей стороны в укреплении могущества Рима в Европе, с которым, я надеюсь, у тебя сложатся самые добрые отношения».
Казалось, что письмо это написали два разных человека. На самом деле, как сообщит Ироду позже Николай Дамасский, первую половину письма Август написал сразу по окончании следствия, проведенного по делу Силлея, а вторую дописал после того, как он, Николай Дамасский, рассказал ему о тяжелой обстановке, сложившейся в доме Ирода. Август был удивлен, что отношения между Иродом и его сыновьями не только не улучшились после суда, проведенного им в Аквилее, но еще более обострились, и произнес: «Неудобно предоставлять новую область старику, который не в ладах с собственными детьми», – и дописал письмо совсем не так, как намеревался вначале.
Впрочем, Ирод не испытал ни малейшего чувства обиды на Августа. Он вообще не испытал никаких чувств, прочитав письма ученого сирийца и императора. Зуд, который с некоторых пор стал мучить его, стал особенно нестерпимым, и он вызвал врачей, чтобы те помогли перенести ему телесные страдания.
Глава восьмая РАЗВЯЗКА
1
Ночью Ироду приснился Менахем. Он спросил ессея:
– Где обещанный тобою Машиах? Или ты обманул меня?
– Он придет, – сказал Менахем. – Он уже находится по пути к тебе, чтобы принять из рук твоих царскую корону.
– А что мне делать в ожидании Машиаха, когда мои сыновья уже примеряют эту корону на себя? – спросил Ирод.
– Убей их всех, как Авраам вознамерился убить Исаака, чтобы доказать свою нерассуждающую веру в Предвечного, – ответил Менахем.
– Убить? – устрашился Ирод.
– Принеси их в жертву за все твои прегрешения перед Господом Богом и Сыном Его, – жестко произнес Менахем и исчез.
Ирод проснулся. Была глубокая ночь. За окнами вспыхивали голубые сполохи молний и раздавались отдаленные раскаты грома. Внезапно за дверью спальни раздался шум: топот десятков подкованных калиг, отрывистые воинские команды, пронзительный женский крик. Ирод узнал голос Саломии. Высокий раб-эфиоп, новый постельничий Ирода, прибавил огня и вопросительно посмотрел на царя. Тот движением головы приказал ему выяснить, что случилось. Постельничий открыл резную дверь с лилиями, и тотчас в спальню вбежала Саломия, которую с трудом удерживали два дюжих телохранителя. Ирод, сев на постели, жестом велел телохранителям освободить сестру, и та, заливаясь слезами, кинулась брату на шею.
– Ты жив, Господи, благодарю Тебя, ты жив! – говорила Саломия, прижимая голову Ирода к своей груди. – Ты жив и ничто тебе не угрожает!
Ирод расцепил руки сестры, отодвинул ее от себя и спросил:
– Что случилось?
– Мне приснился ужасный сон, – отвечала Саломия, оттирая ладонями слезы. – Будто ты лежишь в своей постели зарезанный, а на подоконниках, на фоне вспыхивающих молний, стоят две тени, которые собираются бежать.
– Что за тени?
– Я не разобрала. Оба убийцы были в черном. А ты в это время лежишь, обливаясь кровью, и смотришь на меня с укоризной за то, что я не спасла тебя.
– Успокойся, сестра. Всему виной обстановка, сложившаяся в нашем доме. А тут еще эта приближающаяся гроза. Иди к себе.
– Я не сумею уснуть.
– Постарайся. – Ирод приказал телохранителям проводить Саломию, дверь за ними закрылась, раб-эфиоп погасил огонь в бронзовых шандалах, оставив гореть лишь один, и лег на пороге, натянув на себя плащ.
Ирод откинулся на подушки. Сон пропал. Чесались не только плечи и грудь, но и все тело. Ирод смотрел на высокие сводчатые окна, которые продолжали озаряться сполохами молний. В какую-то минуту ему почудилось, что на подоконниках возникли таинственные фигуры в черном. При очередной вспышке молнии Ирод явственно разглядел в их руках кинжалы. Это не испугало его, так что он даже не изменил позы. Ирод пристально всматривался в темноту, силясь разглядеть своих незваных гостей. Наконец он узнал одного из них: это был его старший сын Антипатр. Ирод произнес: «Привидится же такое!» – и, отвернувшись от окон, закрыл глаза, погрузившись в забытье.
2
К утру гроза, так и не разразившись над Иерусалимом, ушла на восток, и на прояснившимся небе засверкало солнце. Ирод, склонившись над серебряным тазом, умывался водой из серебряного же кувшина, которую лил ему на ладони раб-эфиоп. Первым, кого царь увидел в это утро, был Антипатр. В новых одеждах, сверкавших так же, как утреннее солнце, он приветствовал отца и спросил:
– Ты еще не передумал сделать меня своим главным преемником?
Ирод, вытираясь поданным ему льняным полотенцем, ответил вопросом на вопрос:
– Почему я должен был передумать?
– Ну, мало ли, – чуть смутившись, сказал Антипатр. – На тебя в последнее время свалилось столько невзгод, что не каждый на твоем месте выдержал бы эти испытания.
– Ты пришел ко мне затем, чтобы сообщить эту банальность?
– Нет, отец, я пришел просить у тебя разрешения отправиться в Рим. Когда я стану царем, у меня не останется времени на путешествия.
«Когда ты, отец, умрешь», – мысленно поправил сына Ирод, а вслух сказал:
– Поезжай.
– Заодно я доставлю Цезарю твое завещание, в котором ты назначаешь меня своим главным преемником, а Александра и Аристовула сопреемниками. Ведь ты уже составил такое завещание?
– Составил.
– Вот его-то я и вручу Цезарю. Однако, отец, для поездки в Рим мне понадобятся деньги. Много денег.
– Возьми, сколько тебе нужно.
– Птолемей уверяет, что все твои деньги давно кончились, а те, которые имеются в хранилище, принадлежат не тебе, а государственной казне.
– Значит, тебе придется ограничиться теми деньгами, которые ты получаешь со своей области. Кстати, жители этой области жалуются, что ты наложил на них непомерно высокие налоги.
– Они всегда всем недовольны. Между тем мне не известно ни одного случая смерти от голода хотя бы одного из них. Что ты посоветуешь, отец?
– Относительно подвластных тебе жителей, которые еще не умерли от голодной смерти?
– Относительно денег, которые мне нужны для поездки в Рим.
– У меня имеются кое-какие сбережения с прежних времен, о которых не знает Птолемей…
– Сколько? – перебил отца Антипатр.
– А сколько тебе нужно?
– Пятьсот талантов! – выпалил Антипатр и сам устыдился названной суммы. – Впрочем, если у тебя нет таких денег, я бы мог ограничиться и меньшей суммой. Скажем, в триста талантов.
Ирод обратился к рабу-эфиопу:
– Выдай ему все, что у меня есть.
Обрадованный Антипатр обнял отца и выбежал из спальни.
Ироду почему-то вспомнилась фигура сына, привидевшаяся ему минувшей ночью на подоконнике, в темном одеянии и с кинжалом в руке.
3
С отъездом Антипатра в Рим обстановка в доме Ирода стала невыносимой. Вдобавок ко всем напастям на Трахонитскую область снова стал наведываться неугомонный Силлией, пользовавшийся, как и прежде, поддержкой местных разбойников. Три тысячи идумеян, переселенные туда Иродом, уже не справлялись с набегами арабов и преступлениями местных разбойников: им или вовсе следовало отказаться от землепашества и овцеводства и заниматься исключительно отражением набегов арабов и усмирением трахонитских разбойников, лишив таким образом свои семьи средств к существованию, или просить у Ирода дополнительных сил. Они так и поступили: запросили у царя хорошо подготовленных профессиональных воинов, которых обязались взять на свое содержание. Ирод по-прежнему не доверял евреям, живущим в Иудее, из-за их отношения к нему как к чужеземцу, и потому обратился за содействием к вавилонскому иудею Замарису, славящемуся своей храбростью. Замарис откликнулся на зов Ирода и переехал со своими сыновьями и сильным отрядом вавилонских воинов из числа иудеев в Трахонею, основав здесь город Бафир. Историк напишет о нем: «Этот человек стал действительно оплотом как туземцам, так и иудеям, являвшимся из Вавилона в Иерусалим для жертвоприношений, и ограждал их от разбоя трахонцев. Поэтому многие, которым были дороги иудейские установления, со всех сторон стекались к нему. Таким образом эта страна быстро заселилась, тем более что при полной безопасности она была еще свободна от налогов».
Но если государственные дела Ирод разрешал с присущей ему легкостью, то в делах своей семьи он совершенно запутался и чувствовал себя беспомощным, как птенец, выпавший из гнезда. К нему все чаще и чаще стал являться ночами ессей Менахем и говорил: «Убей всех своих сыновей, как Авраам вознамерился убить своего единородного сына Исаака, чтобы доказать Предвечному свою нерассуждающую веру. Принеси их в жертву за все твои прегрешения перед Господом Богом нашим и Сыном Его, который вот-вот явится к тебе в белых, как облако, одеждах, и примет из рук твоих царственный венец».
Главная интрига завязалась, как и прежде, вокруг сыновей Ирода от покойной Мариамны Александра и Аристовула. Дабы не домысливать то, что уже давно было известно современникам Ирода, я снова обращусь к свидетельствам историков, которые, в свою очередь, опирались на документальные записи Николая Дамасского – очевидца происходившей на его глазах трагедии:
«Так как клевета против юношей росла и все как будто видели особую, так сказать, заслугу в том, что могли сообщить относительно их что-либо тяжкое, донесение о чем могло казаться преследующим лишь благо царя, то случилось нечто весьма серьезное в жизни молодых людей. У Ирода было два телохранителя, Юкунд и Тиранн, особо ценимые им за силу и рост. Царь рассердился на них и удалил их от себя; и вот они стали сопровождать Александра, который ценил их за их гимнастическую ловкость, давал им кое-какие деньги и вообще делал им разные подарки. Царю немедленно они показались подозрительными, и он велел подвергнуть их пытке. Сперва они долго крепились, но затем сознались, что Александр убеждал их умертвить Ирода, если он во время охоты за дикими зверями очутится вблизи их. Тогда-де возможно будет сказать, что царь свалился с лошади и упал на их копья, как это раз с ним действительно и случилось. Вместе с тем они показали, что в конюшне у них зарыто золото, и обвинили начальника охоты в том, что он дал им копья из царского арсенала, равно как по приказанию Александра снабдил оружием также и слуг последнего.
После них был схвачен также комендант крепости Александреума и подвергнут пытке. Его обвинили в том, что он хотел принять в эту крепость царственных юношей и выдать хранившуюся там царскую казну. Однако он не признался в этом, но явившийся Иуда, сын его, подтвердил правильность обвинения и представил, видимо, писанное рукой Александра письмо следующего содержания: “Если мы, с Божьей помощью, совершим все то, что имеем в виду, то мы прибудем к вам. Поэтому, сообразно обещанию, приготовьте все к нашему приему в крепости”. После получения этого письма Ирод уже не сомневался в существовании заговора сыновей против него. Александр, однако, уверял, что писец Диофант подделал его почерк и вся эта записка является коварством Антипатра, [поспешившего отправиться в Рим с целью показать отцу своему свою якобы непричастность к этому делу]. Диофант слыл знатоком своего дела и впоследствии умер, изобличенный в таком же точно поступке.
Всех тех, кто подвергся пытке, царь представил в Иерихоне толпе народной, дабы добиться обвинения сыновей своих. Чернь побила их собственноручно камнями. Когда же толпа приготовилась подобным же образом умертвить и Александра, царь удержал ее от этого и выслал для ее успокоения ее Птолемея и Ферору. Юношей заключили под стражу и учредили за ними тщательный надзор; к ним более не допускали никого, все их поступки замечались; одним словом, они очутились в ужасном положении бесчестных преступников. Один из арестантов, именно Аристовул, был доведен до такого отчаяния, что заставил даже свою тещу и тетку Саломию пожалеть о постигших его бедствиях и возненавидеть виновника их. “Разве, – говорил он, – и тебе не угрожает опасность гибели, потому что о тебе клевещут, будто ты, в надежде на брак с Силлеем, сообщаешь ему все здесь происходящее?” Впрочем, та немедленно поспешила сообщить об этих речах брату. Последний тогда более уже не мог сдержать себя, приказал заковать их в оковы и разлучить, а также велел им самим написать императору, какое зло они причинили отцу своему. Так им было велено, но они написали, что вовсе не злоумышляли против отца своего и не принимали никаких мер относительно его; что они, правда, задумали бежать, да и то по необходимости, потому что вечные подозрения делали им жизнь невыносимой.
Около этого времени из Каппадокии от Архелая прибыл посол, некий Мела, который принадлежал к числу сановников царя. Ирод, желая ему доказать нерасположение к нему Архелая, велел позвать Александра, который и явился, как был, в кандалах, и вновь стал расспрашивать его, куда и как братья решили бежать. Александр сказал, что к Архелаю, потому что последний обещал доставить их в Рим. Впрочем, говорил он, они не имели в виду ничего неуместного или гнусного относительно отца и нет ни слова правды в том, в чем обвиняют их бессовестные противники. Им бы хотелось, в видах более точного расследования, чтобы Тиранн и его товарищи еще оставались в живых, но и их загубили скорее, причем Антипатр подослал в народ своих собственных клевретов.
При этих словах царь приказал отвести Мелу и Александра вместе к дочери Архелая Глафире и спросить у нее, не знает ли она чего-либо относительно злого умысла против Ирода. Лишь только они явились и Глафира увидала Александра в оковах, как стала биться головой об стену и вне себя громко и жалостно рыдать. У молодого человека также выступили на глазах слезы, и всем присутствующим зрелище это было крайне тягостно, так что они долго не были в состоянии сделать или говорить то, ради чего явились. Несколько позже Птолемей, которому было поручено привести Александра, обратился к нему с просьбой сказать, знала ли его жена что-либо из его планов, и тогда Александр воскликнул: “Да разве она этого не знала, она, которую я люблю больше жизни своей и которая является матерью детей моих?” На это Глафира с рыданиями отвечала, что она не знала ни о чем дурном, если же она тем сможет способствовать спасению мужа, то она готова лгать на себя и рассказать все что угодно…»
Дальше – больше. Ирод написал Августу письмо с просьбой во второй раз вызвать на суд своих сыновей. Август, сам испытывавший проблемы со своей дочерью Юлией, ответил, что Ирод, как отец, вправе решить судьбу своих сыновей самостоятельно, для чего предложил царю отправиться в Берит, куда он пошлет в качестве судьи своего военачальника Сатурнина с его легатами, в качестве прокуратора Волумния, а Ироду, в свою очередь, предложил пригласить для объективного рассмотрения дела своих друзей и родственников, включая Саломию и Ферору. Историк продолжает:
«Когда в Берит прибыли римские наместники и все вызванные царем из различных городов, Ирод поместил сыновей своих, не желая представлять их судьям, в сидонской деревушке Платане, вблизи города, чтобы всегда иметь возможность их в случае их вызова в суд. Сам он лично предстал перед полуторастами судьями и начал свое обвинение, которое казалось не слишком тяжким, поскольку его принуждали к тому печальные обстоятельства, но которое было совершенно неуместно в устах отца относительно детей своих. Он был крайне раздражен и выходил из себя, доказывая виновность юношей; при этом он выказал явные признаки своего гнева и необузданной дикости [416], не давая судьям возможности лично проверить доказательства виновности, но повторяя свое недостойное отца обвинение детей, сам читая их письма, в которых, впрочем, вовсе не упоминалось ни о заговоре, ни о каком-либо другом преступном замысле, но где только говорилось об их планах бегства и встречались некоторые крупные резкости по его адресу, вызывавшиеся его собственной враждебностью к детям. На таких местах царь возвышал голос и говорил, что тут лишнее доказательство очевидного существования заговора, причем клялся, что охотнее лишился бы жизни, чем выслушивать такие речи. В заключение он сказал, что как по природе, так и в силу предоставленной ему императором власти он имел бы право решить данный вопрос по собственному усмотрению, и привел древнее постановление, в силу которого, если родители человека выступали против него с обвинениями и возлагали руки свои на голову сына, последний обязательно подвергался побитию камнями со стороны всех присутствующих при этом [417]. Несмотря на то, что он, царь, властен делать в своей стране и в своем царстве все что угодно, он все-таки готов выслушать приговор судей. Последние, говорил он, здесь не столько в качестве судей, долженствующих вынести приговор по очевидному преступлению детей, которые его чуть не погубили, сколько в качестве свидетелей, имеющих возможность понять гнев его, так как никто, даже иноземец, не отнесется безучастно к столь коварному замыслу.
После этой речи царя судьи, даже не пригласив юношей в заседание для возражения на обвинения, решили, что невозможно смягчить гнев Ирода или побудить его к примирению, и поэтому согласились с ним. Первым высказал свое мнение Сатурнин. Бывший консул и человек с весом, выражаясь сдержанно, как то подобало его высокому положению, он сказал, что Ирод может судить сыновей своих, но не считает его вправе умерщвлять их. Он-де говорит как отец, также имеющий сыновей, и оставался бы при своем мнении даже при более тяжелых условиях, если бы дети его причинили ему даже более крупное горе. За ним высказались совершенно в таком же точно смысле и сыновья Сатурнина; их было трое, и они сопровождали отца своего в качестве легатов. Волумний, напротив, настаивал на смертной казни людей, совершивших такое преступление относительно отца своего. То же самое по очереди говорило и большинство судей, так что казалось, что теперь уже ничто не спасет юношей от смерти.
Вдруг Ирод увез юношей в Тир. Сюда прибыл к нему из Рима Николай Дамасский. Рассказав ему предварительно обо всем, происшедшим в Берите, царь стал расспрашивать его, какого мнения держатся его римские друзья насчет сыновей его. Тот ответил, что друзья считают их намерение преступным, но советовал при этом заключить их только в тюрьму и стеречь их там. “Если ты, впрочем, – сказал он, – все-таки решишь казнить их, то сделай это погодя, чтобы не навлечь на себя обвинения, будто ты действовал по внушению гнева, а не рассудка. Если же ты, напротив, думаешь помиловать их, то опусти их, чтобы не вызывать на себя еще большей и окончательно непоправимой беды. Таково мнение и большинства твоих римских друзей”. Он умолк, а царь погрузился в глубокое раздумье и затем приказал Николаю ехать вместе с ним.
Когда Ирод приехал в Кесарию, все население тотчас стало говорить только о его сыновьях, и вся столица была в волнении, какой исход примет дело. Страх обуял всех при мысли, что старая неурядица приведет теперь к крайне тягостному концу, и хотя все сочувствовали страданиям узников, без риска нельзя было ничего говорить и даже слушать других. Все скрывали в душе свое соболезнование и заметно переносили страшнейшие страдания. Впрочем, нашелся некий ветеран по имени Тирон, сын которого, будучи сверстником Александра, находился в дружественных отношениях с последним. Все то, о чем думали другие и о чем они молчали, он свободно высказывал, причем неоднократно и без стеснения говорил народу, что истина погибла, что справедливость в людях исчезла, что ложь и порочность овладели ими и что дела находятся в таком неприглядном свете, что преступники не видят даже всего ужаса человеческих страданий. Все это он говорил свободно, подвергаясь при этом значительной опасности. Правильность его взглядов трогала всех, так как он столь смело и мужественно выступил с ними в такую минуту. Поэтому все, кто слышал его речи, относились к нему с уважением и с удивлением взирали на его бесстрашие, в то время как сами считали более безопасным хранить молчание. Перспектива самим пострадать заставляла всех разделять его взгляды.
Тирон затем явился совершенно свободно к самому царю и потребовал, чтобы ему позволили переговорить с ним один на один. Когда ему была дана эта возможность, он сказал: “Не будучи, о царь, в состоянии удерживаться долее в таком бедственном положении, я решился рискнуть своей личной безопасностью и позволить себе эту вольность, которая, однако, необходима в твоих же собственных интересах и принесет тебе пользу, если ты только как следует отнесешься к ней. Куда девался твой рассудок, очевидно тебя покинувший? Почему тебя покинули друзья и близкие тебе люди? Я не в состоянии признать в приближенных твоих искренне преданных тебе друзей, которые спокойно взирают на такое злодеяние, совершаемое в некогда столь счастливой стране. Разве ты сам не хочешь понять, что делается? Неужели ты собираешься умертвить двух юношей, которых родила тебе твоя царственная супруга, юношей, наделенных всякими преимуществами, и на старости лет отдашься в распоряжение сына, который плохо оправдал возлагаемые на него надежды, или в распоряжение родных, которых ты сам уже столько раз приговаривал к смерти? Разве ты не можешь понять, что молчащая чернь все-таки видит совершаемое преступление и преисполняется ненависти к этому бедствию, и что солдаты, особенно же их начальники, питают сострадание к несчастным и вместе с тем ненависть к виновникам этого?” Сначала царь выслушивал все это довольно безучастно; но он, естественно, рассвирепел, когда Тирон прямо коснулся его слабого места и упомянул о неверности его приближенных. В свою очередь Тирон, по необразованности не применяясь к обстоятельствам, постепенно расходился все более и более и говорил с солдатской развязностью. Тогда Ирод сильно возмутился и принял слова его скорее за поношение, чем за полезный совет. Когда же царь услышал о неудовольствии солдат и о возбуждении их предводителей, то приказал схватить и посадить в тюрьму всех тех, кого поименовал Тирон, равно как его самого.
Этим случаем ловко воспользовался некий Трифон, царский брадобрей. Явившись к царю, он заявил, будто Тирон неоднократно уговаривал его зарезать Ирода бритвой во время исполнения его служебных обязанностей. При этом будто бы старик указывал ему на то, что таким путем Трифон добьется высокого положения у Александра и получит от него крупные подарки. После этого царь велел схватить Трифона и подвергнуть пыткам Тирона, его сына и брадобрея. Тирон оставался непреклонен, но сын его, видя, как измучен отец, и не имея никакой надежды на спасение, наоборот, предвидя для себя еще большие мучения вследствие бедственного положения старика, обещал поведать царю всю правду, лишь бы только такой ценой избавить от пытки и истязаний самого себя и отца своего. Когда царь честным словом обещал ему это, он объявил, что решено было, чтобы Тирон лично расправился с Иродом, так как, оставаясь с ним наедине, такого рода замысел мог быть легко приведен в исполнение; в таком случае по совершении этого намерения он мог, наверное, рассчитывать на благодарность и признательность со стороны Александра. Этими словами юноша действительно избавил отца своего от пытки; остается лишь неизвестным, сказал ли он сущую правду или выдумал все это, чтобы избавить себя и родителя своего от тяжкого положения.
Если Ирод раньше хоть несколько задумывался и в тайниках души стыдился казнить сыновей своих, то теперь он устранил все, что могло бы его подвигнуть на более гуманное решение, и спешил поскорее привести свое намерение в исполнение. Сперва он вывел на площадь 300 обвиненных начальников, Тирона с сыном и обвинявшего их брадобрея. Всех их он осудил, а чернь закидала их насмерть всем, что попадало ей под руку. Александр и Аристовул были доставлены в Себасту и казнены там, по повелению отца, через повешение. Трупы их ночью были похоронены в Александреуме, где уже покоились их дядя со стороны матери и весьма многие из предков».
4
Ирод не присутствовал при казни сыновей. Он даже не поехал в Себасту, а сразу же возвратился в Иерусалим. Болезнь его прогрессировала. К душевным мукам прибавились муки телесные. Все тело его покрылось язвами и источало зловоние, от которого Ирод страдал не меньше, чем от душевной боли. Сон, и без того поверхностный в последние месяцы, исчез вовсе, а когда измученный Ирод забывался ненадолго, к нему являлся не ессей Менахем, обманувший его обещанием скорой встречи с Мессией, а безумный старик-галилеянин, сторонник Антигона, забравшийся со своей семьей высоко в горы в одну из пещер. Как и много лет назад, старик этот кричал с недосягаемой высоты:
– Эй, Ирод, ты слышишь меня?
И, как много лет назад, Ирод задирал голову и отвечал старику, сложивши рупором ладони:
– Я слышу тебя. Говори, если тебе есть что сказать, хотя я предпочел бы, чтобы ты спустился вниз, где нам не придется надрывать горло.
– Тебе не придется надрывать горло, – кричал старик, – говорить буду я, а ты слушай и хорошенько запоминай все, что я тебе скажу. Меня зовут Давид. Тебе знакомо это имя? Так звали царя, возлюбленного Господом. Я не царь, я простой пахарь, о котором в одной из притчей Соломоновых сказано: «Богатство от суетности истощается, а собирающий трудами умножает его». Здесь со мной находятся моя жена и семеро моих сыновей. Все они, как и эти малодушные, которых ты купил обещаниями сохранить им жизнь и одариваешь теперь деньгами, тоже хотят спуститься к тебе.
Ирод покрывался холодным потом, зная, что последует за этими словами, и потому в отчаянии кричал старику, втайне надеясь, что на этот раз все случится не так, как случилось тогда:
– Ну так пусть спускаются, они получат то же, что и другие, которых ты называешь малодушными!
Но ничто не изменялось в видениях Ирода, и то, что случилось однажды, повторялось снова и снова.
– Не перебивай меня, я еще не все сказал, – кричал старик. – Есть ценность, которая превыше и твоих денег, и самой жизни. Эта ценность – свобода. Со времени исхода из Египта для евреев не было ничего дороже, чем свобода. Заметь: я говорю о евреях, а не о твоем паскудном племени идумеян, которые не то что свободу, но и право первородства готовы отдать за миску чечевичной похлебки. Ты, Ирод, раб от рождения и рабом останешься навсегда. Евреи никогда не признают твоей власти над собой, будь ты не римлянами, а самим Господом Богом помазан на царство. Сколь бы ни был почитаемый мною Антигон жесток, искалечивший своего дядю-первосвященника, но он еврей и уже одним этим достойней тебя, поскольку из вас двоих именно он и по праву рождения, и по праву принадлежности к роду Маккавеев принадлежит к избранному Богом народу. А ты, как я уже сказал, раб, обязанный подчиняться нам, евреям, а не властвовать нами…
Ирод зажимал уши, чтобы не слышать в очередной раз то, что произнес однажды старик, и кричал ему с узкой горной тропы, где не разъехаться двум телегам:
– Глупец! Ты можешь умничать сколько твоей душе угодно, но при чем здесь твои жена и дети, которые хотят спуститься к нам? Отпусти их, не делай их заложниками своего сумасбродства.
– Тебе придется помочь им предстать перед тобой, – говорил старик и, обернувшись, вывел за руку на площадку бледного молодого человека. – Получи старшего моего сына, – кричал он, подводя его к краю площадки, ударом ножа поражал сына в спину и сбрасывал в пропасть.
Ирод, понимая, что вся эта ужасная сцена грезится ему, тем не менее не мог совладать с собой и кричал что есть мочи, пугая раба-эфиопа и ночную стражу, таившуюся за высокой двустворчатой дверью с вырезанными на ней лилиями:
– Остановись! Не обагряй руки свои кровью невинных детей своих!
– Тебе, инородцу и простолюдину, никогда не понять, почему свободолюбивые евреи предпочитают смерть рабству! – отвечал старик, выводя на площадку второго своего сына.
Ирод заклинал старика всем святым, что только еще теплится в его душе, не безумствовать, бесчисленное множество раз повторял, что никто не покушается на его свободу, что он волен жить и поступать так, как ему заблагорассудится, но старик упрямо говорил, что Ироду, рабу от рождения, никогда не понять величия души и самого ничтожного из евреев, продолжая закалывать одного за другим всех своих сыновей. Сбросив в пропасть последнего, седьмого сына, которому не было еще пяти лет, он выводил на площадку свою жену, еще не старую, оцепеневшую от ужаса женщину. Заколов и жену и сбросив ее в пропасть, он кричал, и крик его многократным эхом отзывался в воспаленном сознании Ирода, рассыпался на отдельные слова-гвозди, которые впивались в мозг и сердце царя:
– Ирод, ты еще слышишь меня? Перед светлыми душами моих любимых сыновей и жены я говорю тебе: будь ты проклят!
Проклят, проклят, проклят!! – звучало в голове и сердце Ирода.
Пережив очередной такой кошмар, Ироду с наступлением утра хотелось отправиться в горы Галилеи, отыскать там пещеру, в которой скрывался старик со своей семьей, взобраться в нее по веревочной лестнице, а очутившись на узкой площадке, вонзить себе в живот нож и, согнувшись от боли, рухнуть в бездонную пропасть.
5
На этом испытания, выпавшие на долю Ирода, не кончились. Оставшись один, без семьи и друзей, он с еще большим рвением стал заниматься внуками и внучками. Обладая феноменальной памятью и обширными знаниями, Ирод вкладывал их в детей Александра и Аристовула, радуясь, что те легко усваивают все, чему учит их дед. Ирод не замечал или не хотел замечать, что происходило в это время во дворце. До него доходили обрывочные слухи о том, что всеми женщинами в доме командует уже состарившаяся, невероятно погрузневшая Дорис. Под ее влияние подпали даже некоторые мужчины, и прежде всего младший брат Ирода. Наконец женившийся на достойных женщинах, став отцом нескольких дочерей, Ферора продолжал любить свою рабыню-италийку, не давая ей, впрочем, вольной, чтобы та не вздумала сбежать от него. По требованию малограмотной Дорис Ферора состоял в активной переписке с ее сыном Антипатром, загостившимся в Риме. Он подробнейшим образом информировал его обо всем, что происходило в доме (дела в Иерусалиме и стране Антипатра не интересовали) и получал от него краткие инструкции, как ему вести себя и что кому говорить. Не без влияния Антипатра во дворце появились фарисеи. Поселившись здесь, они стали живой связью между Дорис и Антипатром, с одной стороны, и первосвященником Матфием, с другой. Последний вообще обрел огромное влияние не только на евреев в стране, но и евреев, проживающих в диаспорах. Авторитет Матфия возрос настолько, что он стал вмешиваться в дела управления Иудеей, уверяя всех, что поступает так по настоянию Антипатра, которому Ирод всецело доверяет.
Это не нравилось первому министру Птолемею, который оказался под двойным прессом: он должен был слушаться указаний как Антипатра, находящегося в Риме, так и персвосвященника Матфия, по требованию которого заседания правительства все чаще стали проходить в синедрионе. Сверх того, Птолемей должен был согласовывать свои решения и с Дорис, которая решительно ничего не понимала в государственных делах, но которой также хотелось подчеркнуть свою лояльность Матфию, который нравился ей как мужчина.
Птолемей понимал, что в случае смерти Ирода фактическим царем Иудеи станет не Антипатр, не обладавший опытом и знаниями отца, а Матфий – этот в сущности недалекий и тщеславный человек, кичащийся точным соблюдением всех предписаний закона и уже по одному поэтому пользующийся особым благоволением Предвечного. Матфий не упускал ни одного случая, чтобы подчеркнуть свое превосходство над первым министром. Для этого он даже переиначил поговорку: вместо «что дозволено Юпитеру, то не дозволено быку», он стал к месту и не к месту говорить: «что дозволено еврею, то не дозволено греку», тем самым напоминая всем, что хотя Птолемей и принадлежит к иудейской вере, но, как природный грек, он стоит неизмеримо ниже еврея.
Сложившаяся ситуация не устраивала не только Птолемея, но и Саломию. Сестринское сердце ее, любившее своего постаревшего больного брата, подсказывало ей, что все перемены, происходящие во дворце и за его пределами, имеют лишь одну цель: устранение от власти Ирода, а вместе с Иродом превращение и ее, Саломии, в частное лицо, которое имеет те же права и обязанности, что все остальные граждане Иудеи. За долгие годы жизни рядом с Иродом она привыкла к тому, что с нею считаются, как с сестрой царя, и не хотела возвращаться к жизни простолюдинки, стоящей к тому же, как идумеянка, на социальной лестнице ниже любого еврея. Сговорившись с Птолемеем, она уговорила Ирода подписать указ, из которого явствовало, что в ознаменование примирения царя Иудеи с Августом и установления отношений вечного мира и взаимопомощи между Иудеей и Римом, подписанного еще Маккавеями, все евреи клятвенно подтверждают свою верность Цезарю. По всей Иудее прошли торжественные церемонии приведения к присяге евреев. Отказались принести присягу одни лишь фарисеи во главе с первосвященником Матфием. Таких отказников набралось по всей стране шесть тысяч человек. На всех на них был наложен штраф. Штраф этот внесла в государственную казну одна из жен Фероры. В благодарность за эту акцию молодой женщины Матфий провел в Храме специальную службу. При стечении многотысячной толпы верующих Матфий объявил, что ему, как первосвященнику, которому даровано предвидение будущего, Предвечный открыл: царская власть уже в самое близкое время будет отнята у Ирода и его потомства и перейдет к жене Фероры и их детям.
Такое предвидение, однако, никоим образом не удовлетворило Антипатра, и он разразился двумя письмами, направленными в Иерусалим. Первое письмо, адресованное Фероре, было исполнено гнева как на самого дядю и его жену, способной потягаться своим умом разве что с курицей, так и на Матфия, который вынашивает какие-то свои, известные лишь ему планы. Второе письмо, направленное отцу, было наполнено нежностью и заботой любящего сына о своем больном отце. «Да хранит тебя Господь Бог и да продлит Он годы твоей жизни, – говорилось в этом письме. – До меня доходят слухи, что ты совершенно отошел от дел и занимаешься воспитанием одних лишь бедных сирот и моих горячо любимых племянников. Не нахожу себе места от мысли, что такой образ жизни, добровольно избранный тобою, может послужить почвой для составления заговора против тебя».
Ирод ничего из этого письма не понял и показал его сестре. Саломия, прочитав письмо, лишь пожала плечами и сказала: «Я не удивлюсь, если узнаю, что многие придворные, окружающие нас, уже подкуплены».
– Кто именно подкуплен? – нахмурившись, спросил царь.
– Да хотя бы тем же Багоем, который стал прислуживать тебе за столом, – ответила Саломия.
Евнух Багоя, недавно появившийся во дворце, сразу же не понравился Саломии тем, что сблизился с поселившимися здесь фарисеями, бывшими глазами и ушами Матфия в доме Ирода. Саломия слышала, как однажды вечером фарисеи, окружив Багою, говорили ему, что тот еще наречется именем отца и благодетеля нового царя Иудеи, которого они назначат из своей среды, а со временем и сам станет царем, поскольку к нему вернется способность вступить в брак и родить собственных детей. Вместе и порознь фарисеи напомнили евнуху пророчество, данное Предвечным через раба своего Исаию, который сам многое претерпел за веру и не отрекся от нее даже тогда, когда его по приказу нечестивого царя Манассии, поставившего в храме Господа истуканов Ваала и Астарты, перепилили пополам: «И да не говорит евнух: “вот я сухое дерево”. Ибо Господь так говорит об евнухах: которые хранят Мои субботы, и избирают угодное Мне, и крепко держатся завета Моего, тем дам Я в доме Моем и в стенах Моих место и имя лучшее, нежели сыновьям и дочерям; дам им вечное имя, которое не истребится» [418].
Ирод приказал казнить всех, на кого указала ему Саломия, включая нового своего виночерпия Богаю и всех фарисеев, нашедших приют во дворце. После этого велел Матфию собрать синедрион, на который вызвал своего брата и его молодую жену. На суд священников, состоявших не из одних только фарисеев, но и саддукеев, находившихся в оппозиции к первосвященнику, он представил жену брата, которая виновна в том, что помогла увернуться фарисеям от наложенного на них штрафа. Потребовав наказания женщины в виде развода ее с Ферором, Ирод обратился к брату:
– Итак, Ферора, если ты, не разделяя моих объяснений, сам по личной инициативе расстанешься с этой женщиной, которая только подает повод к распрям между нами, и если теперь же решишь отпустить ее, то таким образом ты останешься мне братом и ничто не нарушит наших родственных с тобой отношений.
Ферора сгоряча чуть было не ответил Ироду, что он никогда не вмешивался и не собирается вмешиваться в личную жизнь царя, а вот он, Ирод, почему-то считает себя вправе это делать, решая за него, с кем из женщин ему жить и кого выбирать в жены. Однако он вовремя удержался, решив, что синедрион, где кипели свои страсти, далекие от него и его женщин, не лучшее место для выяснения отношений, сложившихся между ним и царем, и как можно вежливей сказал:
– Я не считаю возможным ни отречься от своих родственных чувств к тебе, царь, ни отказаться от моей жены, которую люблю. Я охотнее умру, чем отпущу ее от себя.
– В таком случае, – сказал Ирод, – я предоставляю тебе право избрать себе любые области Иудеи, которые ты выберешь по собственному усмотрению, назначаю тебя их тетрархом и требую, чтобы ты удалился из Иерусалима.
Вернувшись с заседания синедриона, Ирод потребовал, что до тех пор, пока Ферора будет еще находиться во дворце, никто из его родственников не смел общаться ни с ним, ни с его простодушной женой, не отдающей себе отчета в последствиях своих поступков. Молодая жена Фероры, почувствовав себя оскорбленной, в тот же день уехала в Рим. До Ирода стали доходить слухи, что его родственники по наущению Дорис не только не перестали общаться с Феророй, но устраивают по ночам даже пирушки, а жена брата, оказавшись в мировой столице, спуталась с Антипатром и живет с ним, как с мужем.
Ирод в исполнение своего слова, данного в синедрионе, действительно назначил Фероре тетрархию и потребовал, чтобы тот немедленно удалился туда. Оставшийся без молодой жены, отвергнутый братом, Ферора, собираясь в дорогу, заявил Ироду:
– Клянусь тебе, брат, в том, что не вернусь в Иерусалим прежде, чем узнаю о твоей смерти.
На том они и расстались. Болезнь Ирода после отъезда Фероры обострилась. Все лекарства и процедуры, назначаемые царю врачами, не помогали. Ирод решил, что умирает, и написал Фероре письмо с просьбой приехать в Иерусалим, чтобы он мог успеть передать ему последние распоряжения относительно его тетрархии. Ферора ответил отказом. Раздраженный упрямством брата Ирод стал поправляться, а никогда ни на что не жаловавшийся Ферора опасно заболел. Узнав об этом, Ирод спешно выехал к брату. Там он застал и возвратившуюся из Рима его жену. Ферора был тронут благородством, проявленным в отношении к нему Иродом, и долго молча держал его руку в своих руках, не находя нужных слов для благодарности. Так он и умер, держась за руку брата и улыбаясь ему сквозь слезы.
Ирод приказал перевезти тело Фероры в Иерусалим, назначил семидневный траур и в скорбно-торжественной обстановке предал его земле. Молодая жена его, неотлучно находившаяся рядом с мужем все дни его скоротечной болезни, сопровождала тело его к месту погребения. Антипатр на похороны не приехал, ограничившись письмом, в котором выразил свою скорбь по поводу горячо любимого дяди и друга и соболезнование всем родным и близким.
По окончании траура к Ироду явились двое вольноотпущенников покойного брата и попросили царя не оставлять смерти Фероры без расследования.
– Вы подозреваете, что мой брат умер насильственной смертью? – спросил их Ирод.
– Наш хозяин никогда не болел и ни на что не жаловался, – ответили вольноотпущенники. – Его отравили.
– Кто?
– Его молодая жена.
– Но ведь она вернулась из Рима, лишь когда узнала о внезапной болезни мужа?
– Нет, царь, когда она вернулась, наш хозяин ни на что не жаловался. Он заболел после того, как поужинал со своей женой, и после этого уже не поднялся с постели.
6
Новость, услышанная от вольноотпущенников, огорошила Ирода. Он потребовал, чтобы они рассказали все, что им было известно. Из того, что они поведали царю, вырисовалась мрачная картина. Будто бы молодая жена брата, вернувшись из Рима, уговорила мужа отведать блюдо, которое придает мужчине особую силу в постели. Это блюдо она назвала «любовным зельем». На самом же деле, уверяли вольноотпущенники, в любовное зелье был подсыпан яд, который жена Фероры, спутавшись в Риме с Антипатром, заказала изготовить неким женщинам-арабкам, состоявшим на службе у Силлея. Узнав, что яд изготовлен и доставлен в Иудею, жена Фероры спешно покинула Рим и вернулась домой. В тот же день Ферора заболел и больше уже не поднялся с постели.
Ирод назначил следствие. Были арестованы и допрошены все женщины, находившиеся в ближайшем окружении молодой жены Фероры. Пытки, примененные к ним, ничего не дали. Ирод приказал пытать женщин огнем. Тогда одна из рабынь вскричала:
– Да пошлет Предвечный муки, которые испытываю я, матери Антипатра!
Ирода это насторожило. Каким образом к делу о смерти брата оказалась причастна его жена Дорис? Из последующих допросов рабыни он узнал о тайных пирушках во дворце женщин во главе с Дорис, в которых принимали участие Ферора и его молодая жена, о письмах, которые посылал из Рима Антипатр матери и дяде, о том, что не последнюю роль во всех этих делах играли фарисеи, прижившиеся во дворце, и о связи этих фарисеев с первосвященником Матфием. Круг арестованных расширился. На допросах они показали, что Антипатр давно возненавидел своего отца, что в своих письмах он постоянно жалуется матери на то, что Ирод все еще жив и что когда он умрет естественной смертью и Антипатр станет, наконец, царем, зачем ему эта власть, если к тому времени он и сам станет стариком. «Даже в старости своей я не почувствую себя царем, – писал Антипатр, – поскольку отец уже сегодня готовит мне замену в лице детей этих гнусных выродков (так он назвал казненных Александра и Аристовула), который кичились своим происхождением от Хасмонеев, и дети их окажутся не лучше, чем их отцы». Далее он писал, что отец разъяренный зверь, подобный Кроносу, пожирающему своих детей, и что он, Антипатр, опасаясь разделить участь Александра и Аристовула, настоял на своей поездке в Рим, где он чувствует себя в относительной безопасности.
Узнав все это, Ирод приказал арестовать самаритянина по имени Антипатр, который заведовал делами его старшего сына и потому не взял его с собой в Рим. Здесь я вновь вынужден обратиться к свидетельству историка:
«Между прочим, этот самарянин сообщил под пыткой, что Антипатр приготовил яд и вручил его Фероре с советом всыпать его отцу во время его, Антипатра, отсутствия, чтобы тем менее навлечь подозрение именно на него. Этот яд привез из Египта Антифил, один из друзей Антипатра; затем яд этот был послан Фероре через Фейдиона, дядю Антипатра со стороны матери; таким-то образом яд попал в руки жены Фероры, которой последний передал его на сохранение. При допросе со стороны царя та созналась во всем и, побежав якобы для того, чтобы принести яд, бросилась с крыши дома; однако она не убилась насмерть, потому что упала на ноги. Приведя ее затем в чувство, царь обещал ей и ее родным полную безопасность, если только она скажет всю правду, тогда как пригрозил ей ужаснейшими мучениями, если она вздумает скрыть что-либо. Тогда она клятвенно обещала рассказать все по правде и действительно, по мнению многих, рассказала эту правду следующим образом: “Яд был привезен из Египта Антифилом, которому дал его брат – врач. Затем этот яд доставил нам Фейдион, и я спрятала его, получив его от Фероры, которому вручил его для тебя Антипатр; когда же Ферора заболел и ты, прибыв к нему, отнесся к нему столь ласково, он увидел твое к нему расположение и переменил свое первоначальное намерение. Призвав меня, он сказал: “Жена, Антипатр соблазнил меня и подговорил меня к умерщвлению своего отца, моего брата, задумав адское дело и дав мне яд для совершения его. Теперь же, когда брат мой ясно доказал неизменность своих прежних чувств ко мне, а я сам собираюсь покончить все свои счеты с жизнью, я не желаю осквернять памяти своих предков, соглашаяся на братоубийство. Принеси поэтому яд и сожги его на моих глазах”».
Во всем, что постепенно становилось известно Ироду, его больше всего заинтересовала роль своего старшего сына в интригах, завязавшихся вокруг Александра и Аристовула и в конце концов восстановивших Ирода против них до такой степени, что он приказал их казнить. Ответить на эти вопросы мог только сам Антипатр, для чего его нужно было выманить всеми правдами и неправдами из Рима. Очень кстати пришлось очередное письмо Антипатра, адресованное отцу. В этом письме Антипатр сообщал, что со всеми делами, которые он планировал выполнить в Риме, покончено и он наконец может вернуться в Иерусалим, чтобы прижать к своему сердцу любимого отца. Ирод не мешкая ответил ему, чтобы Антипатр поторопился, поскольку здоровье его в последнее время сильно сдало и он боится не дождаться его.
Антипатр в сопровождении многочисленных друзей своих, находившихся с ним в Риме, вскоре пристал к берегу Кесарии, откуда направился в Иерусалим. В это время Ирод совещался со своим преемником на посту наместника Сирии и Аравии Квинктилием Варом, прибывшим в Иерусалим двумя днями ранее. Ничего не подозревающий Антипатр, облаченный в порфиру, соскочил с колесницы и вошел во дворец. Привратники впустили его, но закрыли двери перед сопровождающими его друзьями. Удивленный таким приемом, Антипатр прежде, чем войти к отцу, поспешил к матери. От нее он узнал, что Ирод затеял следствие в связи со скоропостижной смертью Фероры, и в следствии этом фигурируют не в лучшем свете она, Дорис, и ее единственный сын. Антипатр, почувствовав холодок внизу живота, отправился к отцу. Ирод, не позволив сыну приблизиться к нему, встретил его словами:
– Готовься, Антипатр, к суду над тобой.
Антипатр не стал спрашивать, в чем его обвиняют, а только спросил:
– Надеюсь, мне будет предоставлена возможность защититься?
– Разумеется, – ответил за Ирода молодой наместник. – Тебе будет предоставлено все, что гарантировано законом.
7
Подробности суда, состоявшегося над Антипатром, как и то, что случилось сразу по его окончании, нам известны. Вот эти подробности:
«На следующий день Вар и Ирод собрались на заседание, куда были призваны также приверженцы обеих партий, родственники царя и его сестра Саломия, равно как все те, которые могли бы дать какие бы то ни было показания, те, которые подверглись пыткам, и схваченные незадолго до его приезда рабы матери Антипатра. Последние представили также письмо, содержание которого главным образом сводилось к тому, чтобы Антипатр не возвращался, так как царь осведомлен обо всем, и что единственным теперь для него заступником является император, где он может рассчитывать не попасться в руки отцу. Антипатр бросился перед отцом на колени и стал умолять его не произносить приговора, не расследовав дела, но выслушать его, потому что он имеет возможность оправдаться. Однако Ирод распорядился отвести Антипатра в середину зала и затем стал громко жаловаться на то, что у него такие дети, от которых он уже столько страдал раньше, теперь ему на старости лет пришлось убедиться в столь ужасной гнусности Антипатра; при этом Ирод упомянул и о том, как он постоянно заботился о воспитании и образовании своих детей, не жалея для этого ничего и всегда предоставляя для удовлетворения всех их желаний крупные денежные суммы. За это, говорил он, воздаянием теперь служит то, что они коварно старались загубить его жизнь и преступно домогаются царства, во всяком случае, раньше, чем это дозволяется законом, желанием отца и чувством справедливости. Он удивляется Антипатру и тому, в расчете на что тот решился на столь отчаянный шаг. Ведь он документально уже назначен его преемником на престоле и при жизни царя ни в чем не уступал ему, ни во внешнем блеске, ни в фактическом могуществе; ведь Ирод предоставил ему ежегодную ренту в пятьдесят талантов и дал ему на дорогу в Рим триста талантов. Вместе с тем он напомнил ему, что он теперь вполне уподобился своим братьям, если они действительно виновны в том, в чем он их осуждал; что если же они не виновны, то он напрасно взвалил на них вину и обвинил в тяжком преступлении столь близких родственников. Ведь все то, что постановил относительно их он сам, он постановил исключительно на основании донесений и сообщений его, Антипатра. Теперь братья считаются вполне оправданными, так как он сам навлек на себя подозрение в покушении на отцеубийство.
При этих словах Ирод разразился слезами и не был в состоянии говорить дальше. По просьбе царя заступить его место Николай Дамасский (это благодаря ему нам стало известно все то, с чем знакомится сейчас читатель. – В. М.) стал приводить все доводы за и против Антипатра. Антипатр обратился с защитительной речью к отцу своему и стал указывать на множество примеров своей ему преданности, равно как на те почести, которых он за это удостоился и которые не имели бы места, если бы он не доказал ему своей полнейшей верности. “Везде, – говорил он, – где представляется необходимость в особой заботливости, я прилагал все старания, чтобы предусмотреть всё; если требовалось личное вмешательство, я все брал лично на себя”. Поэтому, продолжал он, нисколько не основательно предполагать, что он, который столько раз ограждал отца своего от гнусных интриг, теперь сам является злоумышленником и заменяет явно засвидетельствованную ему преданность гнусностью такого намерения. Ведь он уже давно провозглашен преемником отца своего, и никто не оспаривал у него в будущем тех почестей, которые воздаются ему уже теперь; нисколько не вероятно, чтобы человек, невозбранно и заслуженно владеющий половиной чего-либо, стал с риском для себя домогаться целого, причем остается вполне невыясненным, насколько ему удастся достигнуть своей цели. Неужели он предпринял бы нечто такое, он, который был свидетелем казни своих братьев, он, который выступил доносчиком и обвинителем, когда дело могло оставаться скрытым, и исполнителем самого приговора, когда гнусное их намерение относительно отца выяснилось целиком. Все эти поступки его служат поэтому доказательством того, насколько благожелательно он, Антипатр, всегда поступал относительно отца своего. Касательно его поступков в Риме он ссылается на свидетельство императора, которого столь же трудно обмануть, как самого Господа Бога. Все это могут подтвердить письма императора, причем нехорошо, что больше веры, чем им, приписывается тем, которые клеветой стараются посеять смуту; большинство этих лиц воспользовалось для проявления своей враждебности досугом, явившимся у них вследствие его отъезда, и они ничего не смогли бы сделать, если бы он не уехал. После этого Антипатр стал проклинать пытки, говоря, что они приводят лишь ко лжи, потому что по самой природе вещей пытаемые говорят в своих мучениях все, что угодно палачам; впрочем, он сам предложил подвергнуть его пытке.
После этого в судилище произошло движение. Все очень жалели Антипатра, который обливался слезами и жестоко царапал себе лицо; даже во врагах его явилось чувство жалости, и видно было, что и Ирод поколеблен, хотя не желал показать это. Тем временем, однако, Николай стал дальше и подробнее развивать мысль, высказанную вначале царем, привел доказательства виновности обвиняемого на основании признаний под пыткой и сообщений прочих свидетелей, особенно же он остановился на явном мягкосердечии царя, который не щадил никогда ничего для воспитания и образования своих сыновей и теперь попадает из одного тяжелого положения в другое. Правда, говорил он, его не столько изумляет дерзость тех братьев, потому что они были слишком юны и подпали влиянию гнусных людей, советовавших им попрать все законы природы и поспешить овладеть могуществом раньше, чем следовало. Но зато его, естественно, крайне поражает гнусность Антипатра, который не только остался безучастен к величайшим благодеяниям, оказанным ему отцом, подобно самым ядовитым змеям, хотя и в последних замечается стремление не жалить своих благодетелей, но и в своей жестокости не принял во внимание ужасную судьбу, постигшую его братьев, сам вел следствие над ними и сам настаивал на приведении в исполнение приговора над изобличенными:
“Мы, однако, не укоряем теперь тебя в том, что ты не сдержал своего гнева на них, но мы поражены тем, что ты поспешил уподобиться им по преступности. Мы убеждаемся, что все твои начинания в этом смысле вовсе не были направлены к тому, чтобы оградить отца, но преследовали лишь гибель братьев, дабы своей ненавистью к ним ты мог более уверить всех в своей сыновней преданности и тем получить возможность вернее погубить его самого. Все это ты подтвердил своими поступками.
Ты умертвил своих братьев, доказав их виновность, но не выдал их единомышленников. Этим ты всем доказал, что ты накануне обвинения вошел с ними в сделку, направленную против твоего отца, желая один воспользоваться плодами отцеубийства и из обоих преступлений извлечь удовольствие, вполне достойное твоего характера. Впрочем, явно перед всеми ты выступил в роли преследователя своих братьев, за что тебя все, как и следовало ожидать, превозносили высоко. Если же это было не так, то ты являешься еще большим негодяем, так как ты втайне ковал козни против отца своего, не схватив братьев как злоумышленников против него, – сам ты не задумался перед таким же преступлением, – но ненавидя их как преемников власти, на которую они имели больше прав, чем ты. Кроме того, ты желал после братьев умертвить также и отца своего, чтобы не рискнуть быть изобличенным в ложном обвинении их. Ту смерть, которую ты теперь сам заслужил, ты уготовил несчастному отцу своему, задумав не обыкновенное отцеубийство, но такое, какого до сих пор не знала история.
Ты злоумыслил не только как сын против отца, но поднял руку на своего друга и благодетеля, которому ты помогал в государственных делах и преемником которого ты был объявлен, причем тебе не было возбранено теперь уже пользоваться всеми благами власти; напротив, желания отца твоего и его письменное постановление гарантировали тебе исполнение всех твоих надежд. Между тем ты не имел в этом деле в виду расположение Ирода, но решил все по своему личному усмотрению и своей гнусности, желая отнять у отца, который во всем слепо доверял тебе, его часть, причем, однако, ты на словах выставлял себя его спасителем. На самом же деле ты искал случая умертвить его и не только довольствовался при этом своей личной испорченностью, но втянул в интриги также и мать свою, посеял смуту в семье относительно своих братьев и даже осмелился назвать отца своего разъяренным зверем. Этим ты выказал злобу, которая сильнее злобы всякой змеи. Ведь ты напустил своего яду в души ближайших родных и благодетелей своих. Ты втянул в свое дело телохранителей и впутал в свои интриги против старца мужчин и женщин, как будто тебе не было довольно удовлетвориться чувством своей личной ненависти. И теперь, после того, как ради тебя подверглись пыткам свободнорожденные и рабы, и после того, как мужчины и женщины сознались в существовании заговора, ты явился сюда и спешишь не только отрицать истину, утверждая, что ты вовсе не задумывал умерщвление отца своего, но и восстаешь против принятого относительно тебя решения, против добропорядочности Вара и против всякой справедливости! И вот ты настолько уверен в своем собственном бесстыдстве, что выражаешь сам готовность подвергнуться пытке, чтобы все преданные отцу твоему оказались лжецами, а твоим заявлениям под пыткой была придана вера. Конечно, ты, Вар, не станешь ограждать царя против дерзких поползновений его родных, ты не умертвишь того гнусного животного, которое притворяется преданным отцу своему для того лишь, чтобы добиться гибели своих братьев и затем поскорее овладеть самолично престолом, причем оно выказывает всю свою смертельную ненависть к нему (так в тексте, дошедшем до нас. – В. М.). Ведь ты знаешь, что отцеубийство является одинаковым преступлением как против природы, так и против всех жизненных условий, причем исполнение его нисколько не отличается от самого замышления его. Тот, кто за это не наказывает, сам совершает преступление против природы”.
К этому оратор присоединил еще целый ряд обвинений против матери Антипатра, указал на то, сколь много она по женскому легкомыслию болтала, упомянул о ее заговорах и жертвоприношениях, предпринятых с целью повлиять на царя, рассказал, как разнузданно и цинично держал себя Антипатр с женами Фероры, и остановился на данных, добытых пыткой и свидетельскими показаниями. Он заранее заготовил много различных пунктов обвинения и ловко пользовался в этих видах также случайно раскрывшимися теперь фактами. Все те люди, которые раньше, боясь мщения Антипатра в случае его оправдания, умалчивали о многом, теперь открыто выдали его врагам и не скрывали более своей к нему ненависти, потому что видели, насколько он подавлен всеми обвинениями и насколько изменяет ему его обычное счастье. Все это ускорило обвинительный над ним приговор, и притом не столько в силу нерасположения к нему обвинителей, сколько вследствие чудовищной его дерзости, вследствие его ненависти к отцу и братьям, так как он преисполнил дом своей смутой и убийствами и всегда относился ко всем либо с ненавистью, либо дружелюбно не по заслугам, но по степени возможной пользы, которую могли ему впоследствии оказать. Большинство этих людей уже давно ясно видело все это, именно те из них, которые обладали критическим чутьем и могли нелицеприятно судить о фактах; но прежде они не решались громко объявлять о том, теперь же, когда им нечего было бояться, они выложили решительно все, что знали. И вот тогда-то посыпались всевозможные разоблачения, причем их нельзя было оспаривать ни ссылкой на то, будто большинство своими показаниями заискивает у Ирода, ни тем, что они умалчивают о чем-либо в видах личной безопасности. Все это люди высказывали потому, что действительно считали поведение Антипатра гнусным и побуждались к тому не ограждением безопасности Ирода, но были убеждены в необходимости наказания Антипатра. Многие выступали со своими разоблачениями даже без приглашения, так что Антипатр, несмотря на свое уменье отрицать все и не краснеть, не имел возможности раскрыть рот для возражения. Когда Николай закончил обвинительную речь свою, Вар предложил Антипатру приступить к опровержению обвинений, если у него имеются доказательства невиновности. При этом Вар указал как на свое желание, так и, как ему известно, на желание отца его, чтобы Антипатр вышел из суда оправданным. Тогда Антипатр, вместо того чтобы предъявить непреложные доказательства своей невиновности в заговоре против отца, бросился наземь и стал взывать к Господу Богу и ко всем, прося их засвидетельствовать его невиновность. Таков уж прием всех непорядочных людей: когда они задумывают какую-либо гнусность, то забывают совершенно о Боге и приступают к своему делу по личному усмотрению; когда же их накрывают и они подвергаются опасности поплатиться за свои деяния, они всегда прибегают к Предвечному, прося его засвидетельствовать их невиновность. Так было и с Антипатром. Сперва он решился на все, как будто бы Бога не существовало вовсе; когда же ему был отрезан всякий путь к самооправданию и не на что было опереться, чтобы опровергнуть возведенные обвинения, он положился на милость Божью, прося Его свидетельствовать за него и явить чудо для его спасения. При этом он не переставал выставлять перед отцом на вид все свои заслуги.
После того как Вар несколько раз обращался к Антипатру, но не добился от него ничего, кроме взывания к Всевышнему, он, видя неуспешность своей попытки, приказал принести яд, чтобы убедиться в его действительности. Когда яд был принесен, то, по требованию Вара, его должен был выпить осужденный на казнь преступник. Он немедленно пал мертвым. После этого Вар поднялся и распустил собрание. На следующий день он поехал в Антиохию, где, как в столице Сирии, чаще всего и пребывал.
Ирод распорядился немедленно заключить сына в оковы. Впрочем, никто не узнал, в каких отношениях были Вар и Ирод и что сказал последнему Вар перед своим отъездом. Однако большинству казалось, что все, предпринятое впоследствии Иродом относительно Антипатра, было сделано им с одобрения Вара.
Посадив Антипатра в темницу, царь послал донесение об этом деле императору в Рим и поручил лицам, везшим это письмо, устно сообщить Цезарю о гнусности Антипатра. В эти же дни было перехвачено также и письмо Антифила к Антипатру (первый находился тогда в Египте), и когда царь распечатал его, то прочитал следующее: “С опасностью для своей собственной жизни я посылаю тебе письмо Акмеи. Тебе известно, что, если это узнают, я подвергнусь опасности с двух сторон. Желаю тебе, впрочем, успеха в своем деле”.
Таково было содержание письма. Царь же стал искать второго письма, которого нигде нельзя было найти. Раб Антифила, доставивший это послание, говорил, что не получал другого. Царь был в большом смущении. Тогда кто-то из приближенных Ирода увидал сшитую на хитоне раба складку (на нем было два платья) и подумал, не спрятано ли письмо внутри этой складки. Так оно и оказалось. Письмо было захвачено и оказалось следующего содержания: “Акмея – Антипатру. Я написала для твоего отца такое письмо, какое ты пожелал, и послала копию с него моей госпоже [419]якобы от имени Саломии; когда Ирод прочитает это письмо, он, наверное, накажет Саломию как злоумышляющую против его жизни”. Письмо это было якобы адресовано Саломией на имя госпожи Акмеи и было по заказу Антипатра составлено от имени Саломии, причем Акмея сама сочинила его по указаниям Антипатра. Содержание его было следующее: “Акмея – царю Ироду. Задавшись целью сообщать тебе решительно обо всех направленных против тебя начинаниях и найдя письмо Саломии к моей госпоже, я с личной для себя опасностью, но имея в виду твою пользу, сняла с него копию и послала тебе ее. Это письмо Саломия писала еще тогда, когда собиралась выйти замуж за Силлея. Разорви письмо, чтобы моя жизнь не подверглась опасности”. Это было написано также Антипатру, дабы он знал, что по его желанию Акмея известила Ирода, будто Саломия прилагает все усилия к тому, чтобы злоумышлять против царя, и что Акмея послала ему копию с подложного письма Саломии к ее госпоже. Акмея была еврейка, находившаяся в услужении у императрицы Юлии [420]. Все это она сделала в угоду Антипатру, потому что была подкуплена им ценой крупной суммы денег для того, чтобы способствовать ему в его начинаниях, направленных против отца и тетки.
Ирод рассвирепел от неслыханной гнусности Антипатра и решил было немедленно казнить его как виновника такого преступления и злоумышленника, направившего все свои силы не только против него и его сестры, но и как человека, введшего смуту в семью Цезаря. К этому побуждала его также Саломия, которая била себя в грудь и предлагала казнить ее, если бы обнаружилось, что это обвинение правильно. Ирод послал за сыном и подверг его допросу, причем предложил ему без страха говорить все, что он может привести в свое оправдание. Когда же Антипатр молчал, царь просил его, так как все равно он по всем пунктам изобличен, по крайней мере, не скрывать от него имен своих сообщников по преступлению.
Антипатр взвалил всю вину на Антифила, но больше не выдал никого. В гневе Ирод решил отправить сына к императору в Рим, чтобы он там дал ответ в своих страшных замыслах. Но затем он побоялся, как бы Антипатру не удалось при помощи друзей избегнуть угрожающей ему опасности, и потому по-прежнему велел держать его в темнице в оковах, сам же послал новых послов с письменным обвинением против сына, сообщил, в какой мере Акмея являлась соучастницей в преступлениях Антипатра, и приложил к этому копии писем».
К подробному рассказу Николая Дамасского, целиком приведенному в «Иудейских древностях» Иосифа Флавия и благодаря ему дошедшему до нас, нам остается добавить два факта. Факт первый: узнав о косвенной причастности к заговору Матфия, Ирод настоял на том, чтобы синедрион лишил его сана первосвященника; новым первосвященником был избран саддукей Иоадзар, придерживающийся, в отличие от других саддукеев, умеренных взглядов на букву и дух Законов. Факт второй: Август, получив доказательства вины фаворитки своей жены, приказал казнить Акмею.
8
Последние дни великого царя были ужасны.
Огонь, сжигавший внутренности, перемежался с холодом, и тогда Ирода трясла лихорадка. Кожа покрылась струпьями и нестерпимо чесалась. Чтобы унять зуд, он вонзал в тело ногти и рвал его кусками вместе с мясом. Геморроидальные шишки полопались и истекали кровью, вызывая непреходящее жжение в анальном отверстии. Ноги отекли и стали похожи на слоновьи. Живот вздулся, как у человека, страдающего водянкой. Ироду казалось, что он вот-вот лопнет. Из-за вздутого живота ему не видно было причинное место, но он знал: там образовалась гниющая язва, и в язве этой копошатся черви. Ко всем напастям, обрушившимся на царя, тело его источало зловоние, которое не могли перебить никакие мази и притирания, выписанные из далекой Индии. Зловоние это причиняло ему дополнительные страдания.
Из-за болезни Ирод приказал перенести себя в парадный зал. Здесь обыкновенно проходили приемы иностранных послов, устраивались совещания с министрами и членами многочисленной царской семьи и давались торжественные обеды. Зал этот в прежние времена поражал воображение каждого, кто ступал под его высокие своды, сочетанием величественной роскоши с особым чувством меры и вкуса, которые были присущи Ироду. Ныне место трона заняла кровать из слоновой кости, инкрустированной золотом и драгоценными камнями. Эта единственная перемена в интерьере придала залу интимный вид, который побуждал собеседников Ирода становиться откровенными и признаваться в вещах, в которых в иной обстановке они не признались бы и под самой страшной пыткой.
В эти тяжелые для великого царя дни, когда к физическим страданиям прибавились душевные муки, вызванные новым раскрывшимся заговором в его доме, в столице случился бунт. Бунт возглавили законоучителя из числа фарисеев – Матфий, сын Маргалофа, и Иуда, сын Сарифея. С хорошо подвешенными языками, готовые разглагольствовать сутки напролет, эти люди собирали вокруг себя толпы праздношатающейся молодежи, не знающей, как убить время. Вместе и порознь фарисеи втемяшивали в неокрепшие умы подростков мысль о том, будто престарелый Ирод находится при смерти или уже умер. Предвечный, говорили они, конечно, воздаст царю за все его злодеяния, но этого мало: Предвечный ожидает от живых, что они восстановят Его славу и уничтожат все нововведения Ирода уже сегодня.
Возбужденная речами фарисеев молодежь жаждала действий и спрашивала, с чего им следует начать. Матфий и Иуда указали на огромного золотого орла, установленного Иродом над главным фронтоном Храма в качестве своего жертвенного дара. В интересах благочестия, заявил Матфий, а Иуда его поддержал, этого орла следует сорвать и уничтожить. Искра пала на хорошо подготовленный костер, и молодые оболтусы, прихватив веревки и топоры, кинулись к Храму, где в это время находилось множество людей. На виду у всех они вскарабкались на кровлю Храма, оттуда, обвязавшись веревками, спустились к орлу, отодрали его от фронтона и сбросили вниз, а их товарищи с остервенением принялись рубить его на куски. Тут же нашлись охочие до легкой поживы люди, которые, рискуя остаться без рук, выхватывали из-под топоров куски драгоценного металла и, сунув их за пазуху, растворялись в толпе. Благоразумные иудеи пытались урезонить молодежь и призывали ее не совершать проступков, за которые можно поплатиться жизнью. Однако вошедшие в раж Матфий и Иуда подстрекали молодых продолжать свое дело, заявляя, что доблесть, проявленная во имя восстановления обычаев предков, не страшится смерти, поскольку обеспечивает славу и почет не только тем, кто не цепляется за жизнь ради ее сомнительных удовольствий, но и их родным и близким и в конечном счете всему народу.
Ирод, узнав о беспорядках, возникших на Храмовой площади, послал туда дежурного офицера во главе караульного отряда. Однако вид вооруженных людей лишь распалил молодежь. Вооружившись, в свою очередь, камнями и палками, молодые люди бросились на стражей порядка. Те, прикрывшись щитами, ринулись в толпу, умело рассекли ее на мелкие группы, не способные к сопротивлению, и, захватив около сорока подростков вместе с Матфием и Иудой, вернулись во дворец.
Ирод, не поднимаясь со своего ложа, спросил офицера:
– Они ли дерзнули сокрушить то, что я пожертвовал Храму?
Вместо офицера Ироду ответил самый бойкий из подростков, которому на вид никак нельзя было дать больше тринадцати лет – возраст, когда еврейские мальчики только-только обретают право стать членами иудейской общины:
– Мы! И гордимся тем, что сокрушили твоего идола!
– Кто внушил им сделать это? – обратился Ирод с новым вопросом к офицеру, но вместо него снова ответил бойкий подросток:
– Завет отцов!
Ответ этот вызвал одобрение его товарищей, а кое-кто даже рассмеялся. Тогда Ирод обратился к офицеру с третьим вопросом:
– Почему они так веселы, хотя знают, что за их дерзкий проступок им грозит смерть?
И в третий раз Ироду ответил все тот же подросток:
– Потому что после смерти нас ожидает счастье быть прославленными!
Ирод перевел тяжелый взгляд с офицера на Матфия и Иуду, стоящих за спинами подростков.
– Из того, что вы молчите, – сказал он, – я заключаю, что вы не причастны к преступлению, совершенному этими детьми. Это так? – обратился он почему-то к одному только Матфию.
Тот не ответил ему, опустив глаза долу. Тогда Иуда, раздвинув подростков, выступил вперед.
– То, что мы задумали исполнить, – начал он, – мы исполнили так, как подобает настоящим мужчинам, но не детям. Мы желали очистить святилище Предвечного, и желание наше подкреплено нашей верностью законам.
Теперь Иуду поддержал и Матфий. Встав с ним рядом, он произнес:
– Законы, завещанные нам Моисеем, мы ставим выше, чем все твои жертвы вместе взятые. Сказано: «Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли». Мы с радостью примем любое наказание, которому ты нас подвергнешь, потому что знаем: наказание это мы понесем не за преступные деяния, а за любовь к благочестию, которое ты, царь, предал забвению.
Судорога свела руки Ирода, покоившиеся на огромном животе. Велев арестовать Иуду и Матфия вместе с подростками, он приказал отнести себя к Храму, где к тому времени собралась огромная толпа зевак. Гудевшая толпа при виде царских носилок притихла, и на Храмовой площади установилась такая тишина, что стук оброненного кем-то медного кувшина показался оглушительным громом.
Рабы установили носилки на возвышении, откуда просматривалась вся запруженная народом площадь. Ирод оглядел несметную толпу и начал говорить. Из-за боли и зуда, которые раздирали его тело, слова его больше походили на стон, чем на внятную речь. Полулежа на носилках, Ирод напомнил народу, что Храм, равного которому не найти в целом мире, возник не сам по себе, а построен им, царем Иудеи, на его собственные средства. Во все время строительства, продолжал Ирод, дожди ни разу не шли днями, а только ночами, чтобы работы не прерывались ни на час. Когда же работы были закончены, Храм омыл обильный дождь, вслед за которым воссияла раскинувшаяся от края и до края неба радуга, которая красноречивей любых слов засвидетельствовала: сам Предвечный соблаговолил принять дар Ирода и освятил его. Понизив и без того тихий голос, Ирод напомнил народу также о том, что Предвечный не отверг ни одного из его последующих приношений, которые не только украсили Храм, но и, как надеялся Ирод, прославили бы его имя после смерти. Произнеся эти слова, Ирод вдруг сорвался на крик:
– По какому праву жалкая кучка молодых бездельников, науськанная двумя негодяями, не постеснялась средь бела дня оскорбить меня?
Ирод закашлялся, и обескровленное его лицо исказила гримаса боли. Площадь в страхе замерла. Ирод, совладав с кашлем, продолжал уже тише:
– Вы своим молчаливым попустительством хотели ускорить мою смерть, которая и без того притаилась за моими плечами. Вижу, вижу, как вы ненавидите меня! Но если внимательней присмотреться к истинным причинам вашего бунта, то окажется, что вы оскорбили не меня, – вы совершили святотатство, за которое заслуживаете самой лютой казни!
Площадь разом загудела и запричитала. Народ наперебой стал молить Ирода наказать одних лишь подстрекателей и участников бунта, схваченных стражниками, а остальных простить. Кто-то вытолкнул из толпы молодого мужчину, из-за пазухи которого выпала отрубленная золотая голова орла. Народ потребовал казнить и этого вора. В ожидании приговора вся площадь опустилась на колени и смиренно склонила головы, готовая принять любую кару, которую определит ей царь.
Ирод обвел тяжелым взглядом присмиревшую толпу, затем посмотрел на небо, как бы испрашивая у него совета, как ему поступить, и лишь после этого негромко, но внятно произнес:
– Будь по-вашему. Ложных законоучителей Матфия и Иуду сжечь живьем как богохульников, молодых бунтовщиков, схваченных на месте преступления, обезглавить, вора четвертовать. Остальных прощаю и разрешаю вернуться в свои дома.
Возвратившись во дворец, Ирод, как это всегда случалось с ним после вынесения смертных приговоров, почувствовал прилив сил и жажду жизни. Вызвав сестру Саломию – единственное существо в доме, которому он продолжал всецело доверять, – Ирод велел ей собираться в дорогу.
– Едем в Каллирою, – сказал он.
Всегда сдержаная Саломия, умеющая скрывать чувства под маской полной покорности тому, что прикажет ей брат, на этот раз улыбнулась: Каллироя, расположенная на восточном берегу Мертвого моря, во все времена года славилась у состоятельных иудеев и знати из ближних и дальних стран своими целебными источниками и минеральными водами. Если брат пожелал отправиться на этот модный курорт, который не только возвращает здоровье, но и дает отдых душе множеством развлечений, значит, есть еще надежда на исцеление.
Но и поездка на курорт не принесла облегчения Ироду. Более того: погрузившись в ванну, наполненную целебной жидкостью, он вдруг лишился сознания и чуть было не утонул. Врачи успели вытащить его из ванны, а слуги подняли крик. Очнувшись, Ирод не сразу понял причины суматохи, поднятой вокруг него, а когда догадался, решил вернуться в столицу. По дороге домой Ироду стало совсем плохо. Врачи, опасаясь за его жизнь, решили сделать остановку в Иерихоне. Здесь Ироду немного полегчало, и он приказал выдать каждому солдату, сопровождавшему его, по пятидесяти драхм, а офицерам и ближайшим слугам втрое больше. Затем вызвал первого министра и хранителя государственной печати Птолемея и распорядился созвать в Иерихон всех самых влиятельных иудеев со всех концов страны. «Не должно остаться ни одного, наделенного хотя бы самой малой властью, – добавил он, – кто осмелился бы ослушаться моего приказа». Когда первый министр вышел, царь послал за Саломией и сказал ей:
– Дни мои сочтены, сестра. Скоро я умру. Но смерть не страшит меня – рано или поздно все мы предстанем перед Предвечным. Меня огорчает другое: то, что я умру не оплаканным народом, как это приличествует царю…
– Что ты такое говоришь, брат! – возразила Саломия. – Народ любит тебя, и если ты умрешь, народ станет скорбеть о тебе так, как ни о ком другом!
Ирод поморщился.
– Помолчи, сестра, дай мне договорить то, что я имею сказать одной только тебе. Слушай же: если ты действительно хочешь облегчить мои страдания, выполни мою последнюю волю. Не сегодня – завтра сюда съедутся самые знатные иудеи. Собери всех их на ипподроме и окружи войсками. Когда меня не станет, прикажи солдатам расстрелять всех их из луков, а тех, в ком еще будет теплиться жизнь, добейте мечами. Этим ты окажешь мне двойную услугу: во-первых, в точности выполнишь мою волю, и, во-вторых, не позволишь никому превратить мою смерть в праздник. По всей Иудее прольется такое море слез, каким не оплакивалась смерть еще ни одного царя на свете. Обещай, сестра, что ты сделаешь все так, как я сказал.
Саломия молчала, опустив глаза и поджав узкие губы.
– Я жду ответа! – повысил голос Ирод.
Саломия вздрогнула и, не смея поднять глаза на брата, едва слышно произнесла:
– Обещаю.
– Обещаешь сделать все так, как я приказал!
– Обещаю сделать все так, как ты приказал.
Ирод представил себе поле ипподрома, заполненное телами его врагов, представил, какими воплями и стенаниями огласится Иудея, когда узнает о смерти такого огромного числа самых знатных своих сынов, и жесткие черты его лица размягчились, а губы тронула улыбка.
– Это будет последняя и не самая трудная услуга, которую я, сестра, прошу тебя в точности исполнить.
По возвращении в Иерусалим у Ирода поднялся жар и наступило беспамятство. Врачи, посовещавшись, решили пустить ему кровь. После кровопускания к Ироду вернулось сознание и появился даже аппетит. Он попросил яблоко и нож, чтобы очистить его от кожуры. Неизвестно, что померещилось случившемуся рядом с Иродом племяннику, но он вдруг бросился к дяде и вырвал из его рук нож. Поднялся такой крик, точно бы Ирод вознамерился свести счеты с жизнью с помощью фруктового ножа. Крик этот достиг подвала, где томился закованный в цепи старший сын Ирода. Недавний наследник престола, он стал упрашивать стражников освободить его от оков и дать возможность бежать, суля за это каждому золотые горы. Бдительный начальник караула приказал страже зорче следить за арестантом, а сам поднялся в царские покои и доложил о случившемся. Ирод, несмотря на свое состояние, пришел в ярость и приказал телохранителям немедленно спуститься в подвал и заколоть сына копьями. Когда его приказ был выполнен, Ирод распорядился отвезти тело сына в Гирканион и похоронить там без всяких почестей. После этого он потребовал перо и бумагу и составил новое завещание.
А вечером того же дня к нему прибыли волхвы из Персии, Месопотамии и Аравии. Пав ниц, они спросили:
– Где родившийся царь Иудеи? Ибо мы видели его звезду на востоке и пришли поклониться ему.
И вопрос волхвов, и их пышные цветастые одежды, придававшие им вид скорее шутов, чем мудрецов, которым ведомы самые сокровенные тайны астрологии, – позабавили Ирода. «Занятно, – подумал он, – все словно бы сговорились дать Иудее нового царя, еще не предав земле меня, единственного ее законного властителя».
– Где родившийся царь Иудеи? – переспросил он. – И вы не поленились отправиться в столь дальнюю поездку с единственной целью поклониться ему?
– Истинно так, – ответил самый старший по возрасту из волхвов. – И принесли царственному младенцу, как завещал нам пророк наш Заратуштра, дары: золото, ладан и смирну.
Ирод хотел было высмеять ничтожность даров, которые волхвы собирались вручить новоявленному царю Иудеи, но почувствовал вдруг смертельную усталость и безразличие ко всему происходящему. Слабым движением руки он отпустил волхвов, сказав им на прощанье:
– Следуйте за своей звездой, а когда найдете царя, известите меня, чтобы и я мог пойти поклониться ему.
Через пять дней после убийства сына, написания нового завещания и визита волхвов Ирод скончался. Перед смертью он, хрипя от удушья, проклял всех евреев, ненавидевших его, всех врагов своих и все будущие поколения людей, которым выпадет жить и радоваться жизни, тогда как он будет лишен этой возможности.
Со времени, когда Ирод достиг высшей власти, минуло тридцать четыре года, а со времени назначения его римским сенатом царем Иудеи – тридцать семь лет. Случилось это в самом конце 3757 года от сотворения мира. До начала новой эры, когда стало сбываться проклятие Ирода, оставалось три года. Проклятие Ирода постепенно охватывало все большее и большее число людей, пока, наконец, к наступлению III тысячелетия не поразило все человечество во всех концах света, не оставив ему ни малейших шансов на спасение.
Вместо послесловия
В чем суть проклятия Ирода?
В немногих словах оно состоит в следующем.
Человечество к началу III тысячелетия признало наконец Единого Бога, Который правит миром. Имя это Всесильного и Всемогущего Бога – Деньги. Именно Деньгам, а не чему и не кому иному, люди стали приносить неисчислимые кровавые жертвы, памятуя о том, что в крови растворена Жизнь, а понятия Жизнь и Деньги стали синонимами.
Извечная борьба Добра со Злом была подменена борьбой Гуманности с Прибылью. Победа в этой борьбе осталась за Прибылью, покончившей с Гуманностью как с пустопорожней болтовней, согревавшей сердца лучшим представителям рода человеческого на протяжение тысячелетий.
Пышным цветом расцвел национализм, понимаемый не как многообразие народов, обогащающих друг друга своими достижениями во всех областях цивилизации и культуры, а как особые преимущества тех, кто проявил себя самыми истовыми почитателей новоявленного Бога и кого Самый этот Бог признал избранным Своим народом.
Из всего многообразия построенного Иродом в Иудее и за ее пределами, долженствующее украсить жизнь людей – его современников и последующие поколения, – сохранилась лишь часть фундамента, на который опиралась западная сторона величественного Храма, возведенного им в Иерусалиме две тысячи лет назад.
У фундамента этого есть название. В нем-то и отражена главная суть проклятия, которому предал Великий царь Иудеи род человеческий.
Называется это вещное доказательство проклятия коротко:
СТЕНА ПЛАЧА.
Примечания
1
Шошбеним– на еврейских свадьбах т. н. брачный друг, на обязанности которого лежала защита интересов жениха и невесты.
(обратно)2
Во времена Ирода Великого в Иерусалиме, как и в Иудее в целом и на всем Ближнем Востоке, были распространены арамейский язык, практически полностью вытеснивший из обиходного разговора др. – евр. яз., греческий яз. (т. н. койнэ, или «общий язык», возникший в ходе образования державы Александра Македонского, куда вошла и Иудея) и народная латынь («вульгарная латынь»), распадавшаяся на множество диалектов.
(обратно)3
Келесирия– южная часть Сирии, в буквальном переводе с греч. означавшая «выдолбленная Сирия» из-за плодородной долины протяженностью 120 км, разделившей ливанские горы на два хребта: восточный, названный арабами Джебель-эль-Шерки (т. е. «Ливан к востоку») с вершиной Гермон (в Библии – Ермон, что означает «святой», «недоступный»), и западный, сегодня собственно Ливан, богатый кедрами и кипарисами. После смерти Александра Македонского его огромную державу разделили между собой т. н. диадохи ( последователи– так называли себя полководцы Александра Македонского). В результате Египет оказался под властью греко-македонской династии Птолемеев, а Сирия и Вавилония под властью Селевкидов. Из-за обладания Келесирией между Птолемеями и Селевкидами не раз вспыхивали войны . Самария– центральная часть Палестины, расположенная между Галилеей и Иудеей. Основная масса населения Самарии произошла от слияния др. – израильских племен с выходцами из Двуречья. Между евреями, исповедовавшими иудаизм, и язычниками-самаритянами длительное время сохранялись враждебные отношения.
(обратно)4
Дневник, начатый в 45 г. до н. э., Ирод вел до 37 г. до н. э. и затем, неоконченный, передал сирийцу Николаю Дамасскому – историку и своему официальному биографу, жившему при его дворе. Впоследствии дневник Ирода был утрачен и известен нам сегодня лишь по фрагментам, использованным в трудах того же Николая Дамасского, Иосифа Флавия и других историков древности. По этим фрагментам мы и воспроизводим события, описанные в дневнике Ирода.
(обратно)5
Николай Дамасский, желая обосновать законность воцарения Ирода над Иудеей, пишет, что предки его были из числа первых вернувшихся из вавилонского плена евреев. Между тем никто из рода Ирода никогда ни в каком плену не был – ни в Египте, ни в Вавилоне. На эту неточность биографа Ирода указал уже Иосиф Флавий в своем фундаментальном труде «Иудейские древности». Едом, или красный, прозвище прародителя идумеян Исава, данное ему из-за красноватого цвета чечевичной похлебки. Прозвище Едом распространилось позже на страну, которую заселили наследники Исава, и народ, произошедший от него.
(обратно)6
Идумеянепроисходили от Исава, сына Исаака. Жена Исаака, Ревекка, родила ему сыновей-близнецов – Исава и Иакова, причем первым родился Исав. Обманным путем Иаков купил у Исава право первородства за тарелку чечевичной похлебки («И сварил Иаков кушанье; а Исав пришел с поля усталый. И сказал Исав Иакову: дай мне поесть красного, красного этого; ибо я устал. От сего дано ему прозвище: Едом. Но Иаков сказал: продай мне теперь же твое первородство. Исав сказал: вот, я умираю; чтó мне в этом первородстве? Иаков сказал: поклянись мне теперь же. Он поклялся ему, и продал первородство свое Иакову. И дал Иаков Исаву хлеба и кушанья из чечевицы: и он ел, и пил, и встал, и пошел; и пренебрег Исав первородство». Быт. 25:29–34). Когда обман раскрылся, братья стали смертельными врагами, и эти враждебные отношения распространились на два народа, произошедшие от них, – на идумеян, наследников Исава, и на евреев, наследников Иакова. Вражда эта нашла множественные подтверждения в Библии. «Когда Давид был в Идумее, и военачальник Иоав (внучатый племянник Давида. – В. М.) пришел для погребения убитых, и избил весь мужеский пол в Идумее; ибо шесть месяцев прожил там Иоав и все израильтяне, доколе не истребили всего мужеского пола в Идумее» (3 Цар., 11:15–16). Восьмой царь иудейский Амасия, правивший с 798 по 782 гг. до н. э., «поразил десять тысяч идумеян» и завладел их столицей (см. 4 Цар., 14:7). В книге пророка Авдия читаем: «И дом Иакова будет огнем, и дом Иосифа – пламенем, а дом Исавов – соломою: зажгут его и истребят его, и никого не останется из дома Исава, ибо Господь сказал это» (см. Авд., 1:18). Постоянные вооруженные стычки между идумеянами и евреями нередко выливались в жестокие войны. Во II в. до н. э. идумеяне были окончательно покорены евреями, переняли у них обрезание и Пятикнижие Моисея (полностью в иудаизм они так и не перешли) и находились в зависимости от евреев вплоть до разрушения Иерусалима римлянами в 70 г. н. э.
(обратно)7
Антипатр– полководец при Филиппе II и его сыне Александре Македонском. Подавил восстание спартанцев, а после смерти Александра Македонского – восстание греков. После кончины Антипатра в 319 г. до н. э. начался процесс распада державы Александра Македонского и возникновения государств диадохов.
(обратно)8
Сипил– гора на побережье Эгейского моря, расположенная к югу от Магнесии и к востоку от Смирны (ныне гор. Измир в Турции). Известна наскальным рельефом, изображавшим Великую мать Кибелу (см. ниже).
(обратно)9
Ныне это предместье Тель-Авива, где расположены международный аэропорт имени Бен Гуриона и авиационный завод.
(обратно)10
Маккавейв переводе на русск. яз. означает «молот» (по другой версии – аббревиатура, составленная из слов «Ми камоха ба-элим Ашем» – «Кто среди высших сил подобен Тебе, Бог»). Прозвище это позже перешло на всех братьев Иуды, а время с 167 по 63 гг. до н. э. в истории Иудеи получило название Маккавейский период.
(обратно)11
Второй храм, построенный на месте храма Соломона в 516 г. до н. э. князем Зоровавелем (в вавилонском плену он был известен под именем Шешбацар, что означало великий, почетный). Храм этот представлял собой бледное подражание храму Соломона (его-то осквернил Антиох Епифан). Третий храм, о котором мы расскажем ниже и который украшал Иерусалим в дни служения Иисуса Христа, было суждено возвести Ироду, и храм этот превзошел своими масштабами и роскошью храм Соломона.
(обратно)12
Хаслев– третий месяц еврейского гражданского календаря; 24 число месяца хаслев соответствует 25 декабря григорианского календаря.
(обратно)13
Птолемей VIII– младший брат Птолемея VI, потерпевшего поражение от Антиоха IV Епифана. До вступления на престол, когда Египтом правили вначале его брат, а затем племянник Птолемей VII, сын Птолемея VI и его сестры Клеопатры II, Птолемей VIII носил имя Эвергет. Вдова Птолемея VI Клеопатра II некоторое время царствовала вместе с сыном, затем вышла замуж за своего брата и деверя Эвергета и приказала убить царствующего сына, которому едва исполнилось 18 лет. Эвергет принял имя Птолемея VIII и, не удовлетворившись тем, что его женой стала Клеопатра II, женился еще и на ее дочери и своей племяннице Клеопатре III. От брака Птолемея VIII с юной племянницей произошли все последующие Птолемеи и Клеопатры – вплоть до последней царствующей четы Клеопатры VII и ее младшего брата Птолемея XIV. Сибарит и жизнелюб, искатель бесконечных наслаждений как в пище, так и в обществе женщин, Птолемей VIII прибавил к своему титулу имя Великолепный, хотя народ прозвал его Фисконом, что в пер. с греч. означает «Пузан». Единственное, в чем нуждался этот вконец обленившийся, оплывший жиром человек, это деньги, чтобы и впредь не отказывать себе ни в каких удовольствиях.
(обратно)14
Исида– египетское божество материнства и судьбы; Осирис– брат и муж Исиды, умерщвленный богом пустыни, оазисов и чужих стран Сетом. В мифах об этих божествах Исиде удалось оживить Осириса и зачать от него бога неба и солнца Гора. Популярность Исиды и Осириса в древнем мире был так велика, что вера в их божественность распространилась далеко за пределы Египта.
(обратно)15
Горв религии египтян идентифицировался с фараоном – богом-царем. Празднества в его честь, на которые съезжались многочисленные зарубежные гости, проходили особенно торжественно и пышно.
(обратно)16
Талант– самая крупная единица массы и денежно-счетная единица древности, равная 26,2 кг.
(обратно)17
Антиохия– одна из столиц древней Сирии, с 64 г. до н. э. резиденция сирийских наместников.
(обратно)18
Сепфорис– главный город Галилеи, располагавшийся неподалеку от Вифлеема Галилейского (оба города, как и большинство других 404 городов этой провинции, впоследствии исчезли). Остается спорным вопрос о происхождении названия этого города. По одной версии, так он был назван в честь отца моавитского царя Валака Сепфора (см. Чис. 22:4), по другой – в честь жены Моисея Сепфоры, за которую его упрекали брат Аарон и сестра Мариамь, поскольку она была эфиопкой (см. Чис. 12:1).
(обратно)19
Магн– в пер. с лат. означает «Великий».
(обратно)20
Собственное имя Цезарьуже в конце I в. до н. э. и во все последующие времена стало нарицательным и вошло с небольшими фонетическими изменениями во многие языки, обозначая высшее должностное лицо государства: кесарь, кайзер, царь.
(обратно)21
Луций Сергий Катилина– обедневший римский патриций, составивший заговор с целью свержения республиканского строя и установления собственной единоличной власти. Привлек на свою сторону неимущие слои городского плебса, молодежь, а также воинов-ветеранов и аристократов, имевших большие долги. Заговор был раскрыт, Катилина бежал из Рима и погиб в одном из сражений.
(обратно)22
Перед смертью, случившейся в Вавилоне, Александр Македонский приказал доставить свой труп в Александрию, где завещал себя похоронить с раскрытыми ладонями, чтобы каждый, кто увидит его, мог лично удостовериться: он не присвоил себе при жизни ни единого обола – самой мелкой медной монеты весом 1 гр.
(обратно)23
Луций Корнелий Сулла– римский полководец и государственный деятель, выразитель интересов оптиматов (см. ниже). Отстраненный от должности верховного командующего, он развязал гражданскую войну, вступив с верными ему войсками в Рим. Одержав победу над противниками, Сулла казнил около 10 тысяч из них, а имущество их конфисковал в свою и своих сторонников пользу. Репрессии Суллы вызвали негодование римлян, которые с оружием в руках выступили против него. У Коллинских ворот Рима Сулла одержал новую победу над противниками, казнил еще 6 тысяч из них, а себя объявил диктатором с неограниченными полномочиями. В «Сравнительных жизнеописаниях» Плутарха читаем о Сулле: «Было постановлено, что он не несет никакой ответственности за все происшедшее, а на будущее получает полную власть карать смертью, лишать имущества, выводить колонии, основывать и разрушать города, отбирать царства и жаловать их кому вздумается».
(обратно)24
Гай Марий– выходец из небогатой латинской семьи, полководец и политический деятель. Под впечатлением от поражений, нанесенных римлянам германскими племенами, провел военную реформу, завершив переход от ополчения к профессиональному войску. В гражданской войне, положившей начало кризису республиканского строя и открывшей путь к установлению единоличной власти, выступил противником Суллы. Сравнивая конечные цели, которые ставили перед собой оба этих полководца, Плутарх пишет: «Тут уж и самому недогадливому из римлян стало ясно, что произошла смена тиранов, а не падение тирании».
(обратно)25
Популяры– в пер. с лат. «народные мужи». Самая массовая политическая партия в эпоху Римской республики. Популяры выступали против сената в пользу народного собрания, отмену крупного землевладения, восстановление права крестьян на наделы земли, которую они обрабатывали, а также отмену долговой кабалы. Среди других требований популяров были ограничение размеров денежного богатства, сосредоточенного в одних руках, и запрет ростовщичества.
(обратно)26
Оптиматы– лат. «лучшие». Партия римской аристократии, стремившаяся к сохранению привилегий высших слоев общества и частной собственности. Римское право, оказавшее решающее влияние на юридическую мысль всех последующих веков, в т. ч. нового времени, объявило частную собственность священной и неприкосновенной. Парадокс истории, однако, состоит в том, что любая частная собственность, сколь бы священной и неприкосновенной она ни объявлялась, на поверку оказывалась эфемерной, не выдерживая проверки на прочность во времени и пространстве.
(обратно)27
Вифиния– государство на южном берегу Черного моря, ныне территория Турции.
(обратно)28
Марк Лициний Красс– сторонник Суллы, богатейший человек Древнего Рима, составивший огромное состояние в ходе сулланских проскрипций. Победитель восстания рабов под руководством Спартака.
(обратно)29
Гней Помпей– полководец и государственный деятель, крупный землевладелец, выражавший интересы аристократических кругов. Сторонник республиканской формы правления. Именно Помпей покорил в 63 г. до н. э. Иерусалим и объявил Палестину провинцией Рима.
(обратно)30
Марк Порций Катон– сенатор, яростный поборник оптиматов и сохранения аристократической республики. Голосовал за казнь всех участников заговора Катилины. В пору возвышения Цезаря видел в нем главного врага существующего строя.
(обратно)31
Луций Лициний Лукулл– приближенный Суллы, ведавший его казной. Назначенный главнокомандующим войсками в Малой Азии, был уличен в многочисленных финансовых махинациях и ростовщичестве, вызвавших мятежи легионеров и недовольство откупщиков налогов. Смещенный с должности, вернулся в Рим в качестве частного лица и стал вести демонстративно праздный образ жизни. Его богатейшая библиотека греческих книг, виллы с саунами, коллекция произведений искусства и вишневые сады (Лукулл первый в Европе стал культивировать вишневые деревья, привезенные им из Азии) вызывали всеобщую зависть. В историю он вошел своими пышными пирами, откуда и пошло выражение «лукуллов пир».
(обратно)32
Боспорское царство– древнее государство в Северном Причерноморье со столицей Пантикапей (ныне гор. Керчь в Крыму).
(обратно)33
Самуил– жил в XI в. до н. э. Обладая пророческим даром, исполнял обязанности одновременно судьи и священника. Состарившись, назначил судьями своих сыновей, отличавшихся жестокостью и корыстолюбием. Заурядная, в общем, ситуация, возникающая во всех случаях семейственности и кумовства вне зависимости от государственного устройства. Самуилу, однако, не пришло в голову лишить своих отпрысков звания судей, как не оправдавших его доверия; народу же во все времена представлялось, что лишь кардинальная смена существующего строя способна исключить подобные ситуации впредь. Заблуждение это, как учит история, никогда не заканчивается искоренением жестокости и корыстолюбия, а принимает еще более наглые формы вымогательства и взяточничества, вырождаясь в конечном счете в коррупцию, главной жертвой которой становится народ, оказываясь в полной зависимости от произвола и рваческих инстинктов властей.
(обратно)34
1 Цар. 8:7.
(обратно)35
Петра, она же Села, т. е. «Скала» – древняя столица Идумеи, основанная в III тысячелетии до н. э. Известна сохранившимися до наших дней дворцами, храмами, театром и гробницами, высеченными в скалах. По преданию, в Петре был похоронен брат Моисея первосвященник Аарон. В борьбе с диадохами – полководцами Александра Македонского, разделившими его огромную державу между собой, – в III в. до н. э. Петра была завоевана арабским племенем набатеев и превращена в свою столицу. Ныне входит в состав Иордании и представляет собой не имеющий аналогов в мире музей под открытым небом.
(обратно)36
Победу над Спартаком одержал Красс, уничтоживший свыше двенадцати тысяч рабов. Однако около пяти тысяч рабов оказались в руках Помпея. Казнив их, Помпей доложил сенату: «Красс разбил гладиаторов в открытом бою, а я, Помпей, вырвал войну с корнем».
(обратно)37
Акра, или Нижний город, – центральная часть Иерусалима, отделенная от храмовой площади глубоким рвом. В I в. до н. э. Иерусалим делился на три части: Верхний город, занимавший всю его юго-восточную часть с горой Сион в центре, Новый город, начинавшийся от храмовой горы Мориа, и Нижний город, или Акру, где находился царский дворец.
(обратно)38
Тир– древний финикийский приморский город, расположенный на двух островах в Средиземном море, соединенных с материком плотиной, возведенной по приказу Александра Македонского. Считался важнейшим торговым и ремесленным центром, соперничавшим с Александрией в красильном деле и производстве стекла. Входил в состав Сирии, завоеванной Помпеем. Ныне ливанский гор. Сур.
(обратно)39
Триумф– высшая форма торжества, устраиваемая по решению сената в ознаменование выдающихся побед полководцев над врагами. Триумфальное шествие, проходившее при многочисленном стечении народа, начиналось на Марсовом поле и, пройдя через весь город к Форуму, заканчивалось у Капитолия. Шествие возглавляли сенаторы, за ними несли военные трофеи, и только потом следовал сам триуфатор в тоге пурпурного цвета, расшитой золотом, со скипетром из слоновой кости в руке и лавровым венком на голове. Триуфатор стоял на богато украшенной колеснице, впряженной в четверку коней белой масти. За триуфатором в боевом порядке шли его воины, замыкали шествие знатные пленные. Заканчивалось торжество религиозными обрядами и угощением воинов и народа. В честь триумфаторов в Риме и других городах империи устанавливались временные или постоянные триумфальные арки.
(обратно)40
Квестор– низшая должность в сенате, на которую назначались люди, ведавшие городской казной. В описываемое время казной Рима ведали двадцать квесторов, что обеспечивало гласность и взаимный контроль друг за другом при распределении финансовых средств для различных нужд города. В императорскую эпоху значение квесторов упало вместе с уменьшением роли сената, и управление финансами полностью сосредоточилось в руках императора.
(обратно)41
Марк Тулий Цицерон– знаменитый оратор, политический деятель и писатель. Сторонник и выразитель интересов оптиматов и восстановления республиканских порядков в том объеме, в каком они существовали до Суллы.
(обратно)42
Клеопатра– в пер. с греч. означает «славная по отцу»; взойдя на престол, получила имя Клеопатра VII Филопатра («любимица отца»).
(обратно)43
Птолемей XII– из-за сложной обстановки в Египте был вынужден бежать в Рим, где жил в доме Помпея в качестве гостя. Уступая нажиму Суллы, завещал Египет после своей смерти римлянам. По ходатайству Цезаря вернулся в 55 г. до н. э. в Египет, жестоко отомстил своим недругам и всю оставшуюся жизнь посвятил музыке, аккомпанируя хорам на флейте, за что получил прозвище Авлет («Флейта»).
(обратно)44
Пергам– город-крепость в Малой Азии неподалеку от легендарной Трои, столица римской провинции Азия. Известен многими дворцами и культовыми сооружениями, в частности, грандиозным алтарем, посвященным Зевсу и Афине (ныне этот алтарь занимает центральное место в берлинском Пергамон-музее). В настоящее время гор. Бергама в Турции.
(обратно)45
Александрийская библиотека– крупнейшее культурное учреждение древности, основанное в III в. до н. э. одним из полководцев Александра Македонского, первым царем Египта эллинистической династии Птолемеем I Сотером («Спасителем»). Для пополнения фондов этой библиотеки приобретались все пергаментные и папирусные свитки, какие только существовали в мире, а те свитки, которые нельзя было приобрести, переписывались и переводились на греч. яз. Так, в частности, по заказу Александрийской библиотеки был переведен с др. – евр. яз. на греч. Ветхий завет (т. н. септуагинта, или перевод 70-и толковников, приехавших из Иерусалима в Александрию на рубеже II–I вв. до н. э.; перевод этот предназначался для иудеев, живших в диаспоре и утративших яз. своих предков, а с возникновением христианства стал основой для перевода Ветхого завета на другие языки мира). Ко времени пожара, устроенного Цезарем, фонды Александрийской библиотеки насчитывали свыше 700 тыс. единиц хранения.
(обратно)46
Маяк– здесь имеется в виду 110-метровый Александрийский маяк, воздвигнутый на о. Фарос вблизи Александрии. Построенный в 299–279 гг. до н. э., этот маяк относился к одному из семи чудес света и оставался действующим свыше тысячи лет. Разрушился во время землетрясения 1326 г.
(обратно)47
Совместное правление Египтом Клеопатры и Птолемея XIV продолжалось менее трех лет; в 44 г. до н. э., когда из Рима пришло известие об убийстве Цезаря, Клеопатра приказала отравить Птолемея XIV.
(обратно)48
Фарнак II– сын Митридата VI Понтийского. В 64 г. до н. э. Помпей назначил его царем Боспорского государства; во время войны Цезаря с Помпеем попытался отвоевать Понтийское царство, захватил Вифинию и Армению, но был разбит Цезарем в быстротечном сражении при городе Зеле.
(обратно)49
В Библии читаем повеление Бога народу Своему: «В городах сих народов, которых Господь, Бог твой, дает тебе во владение, не оставляй в живых ни одной души; но предай их заклятию: Хеттеев, и Аморреев, и Хананеев, и Ферезеев, и Евеев, и Иевусеев, как повелел тебе Господь, Бог твой, дабы они не научили вас делать такие же мерзости, какие они делали для богов своих, и дабы вы не грешили пред Господом, Богом вашим», Вт. 20:16–18. Повеление это вызвало крайнюю жестокость в отношении к поверженному противнику. Даже такой любимец Бога, как псалмопевец и победитель Голиафа Давид, не чурался жестокости: «И собрал Давид весь народ, и пошел к Равве (главный город аммонитян, ныне столица Иордании Амман. – В. М.), и воевал против нее, и взял ее. И взял Давид венец царя их с головы его, – а в нем было золота талант и драгоценный камень, – и возложил его Давид на свою голову, и добычи из города вынес очень много. А народ, бывший в нем, он вывел, и положил их под пилы, под железные молотилки, под железные топоры, и бросил их в обжигательные печи. Так он поступил со всеми городами Аммонитскими. И возвратился после того Давид и весь народ в Иерусалим», 2 Цар. 12:29–31. Подобная жестокость ужаснула Самого Господа Бога, почему Он и запретил Давиду возведение храма в Иерусалиме, несмотря на огромную подготовительную работу, проделанную им, передоверив это дело сыну Давида от Вирсавии Соломону: «И приказал Давид собрать пришельцев, находившихся в земле Израильской, и поставил каменотесов, чтобы обтесывать камни для построения дома Божия. И множество железа для гвоздей к дверям ворот и для связей заготовил Давид, и множество меди без весу, и кедровых дерев без счету, потому что Сидоняне и Тиряне доставили Давиду множество кедровых дерев. И сказал Давид: Соломон, сын мой, молод и малосилен, а дом, который следует выстроить для Господа, должен быть весьма величествен, на славу и украшение пред всеми землями: итак буду я заготовлять для него. И заготовил Давид до смерти своей много. И призвал Соломона, сына своего, и завещал ему построить дом Господу, Богу Израилеву. И сказал Давид Соломону: сын мой! у меня было на сердце построить дом во имя Господа, Бога моего; но было ко мне слово Господне, и сказано: ”ты пролил много крови и вел большие войны; ты не должен строить дóма имени Моему, потому что пролил много крови на землю пред лицем Моим. Вот, у тебя родится сын: он будет человек мирный; Я дам ему покой от всех врагов его кругом: посему имя ему будет Соломон (мирный, богатый миром. – В. М.). И мир и покой дам Израилю во дни его. Он построит дом имени Моему, и он будет Мне сыном, а Я ему отцем, и утвержу престол царства его на век”. И ныне, сын мой! да будет Господь с тобою, чтобы ты был благоуспешен и построил дом Господу, Богу твоему, как Он говорил о тебе». 1 Пар. 22:2-11.
(обратно)50
Делос– остров и одноименный город в Эгейском море, совр. Дилос.
(обратно)51
Галикарнас– город на юго-западном побережье Малой Азии, совр. Бодрум. Известен одним из «семи чудес света» – Мавзолеем, сооруженным в IV в. до н. э. Мавзолей служил усыпальницей царя Мавсола (отсюда название этого сооружения) и его супруги Артемизии (рельефный фриз Мавзолея, представляющий огромную художественную ценность, хранится ныне в Британском музее). Галикарнас известен также тем, что здесь родился Геродот, прозванный «отцом истории».
(обратно)52
Фалес Милетский– родоначальник античной философии и астрономии. Жил на рубеже VII–VI вв. до н. э. Все многообразие явлений и вещей сводил к одной первосущности – воде, а мир считал одушевленным и полным божеств. Первым рассчитал расстояние солнечного и лунного кругового пути и разделил год на 365 дней. Предсказал солнечное затмение 28 мая 585 г. до н. э.
(обратно)53
Марк Антоний– римский полководец и политический деятель. Происходя из плебейского рода, разделял взгляды популяров и встал на сторону Цезаря в его борьбе с Помпеем и сенатской аристократией. В описываемое нами время был избран консулом.
(обратно)54
Апамея– город, основанный в III в. до н. э. полководцем Александра Македонского Селевком I Никатором (Победителем), и названный в честь его жены, персидской принцессы Апамеи. В настоящее время представляет собой мало изученные руины, расположенные между городами Хама и Алеппо в Сирии неподалеку от границы с Ливаном. По тому, что удалось выявить археологам (раскопки Апамеи продолжаются), город представлял собой крупный научный, культурный и военный центр с населением не менее 400 тыс. жителей. Здесь найден мозаичный портрет древнегреческого философа Сократа, обнаружены остатки древнеримского Храма Судьбы, следы казарм. По немногочисленным источникам, дошедшим до нас, известно, что в Апамее во времена Селевка была размещена армия, на вооружении которой, помимо многочисленной конницы, состояло до 500 боевых слонов. В наши дни археологи расчистили одну из 16-и улиц Апамеи длиной 1800 м и шириной 37 м; мостовая этой прямой, как стрела, улицы, отделенная от пешеходной зоны колоннадой, составляет 20 м и до сих пор хранит следы колесниц.
(обратно)55
В «Иудейских древностях» Иосиф Флавий пишет об этой стороне жизни Ирода, о которой он сам рассказал в своем дневнике: «Можно обойти молчанием растление им девушек и опозорение женщин. Так как эти злодеяния совершались им в пьяном виде и без свидетелей, то потерпевшие лучше молчали, как будто бы ничего и не было, чем разносили об этом молву».
(обратно)56
В описываемое нами время женщины рожали вне дома – в пещере или в поле под деревом. Сам процесс родов считался нечистым, который никто не должен был видеть, равно как родившая женщина оставалась нечистой в течение одной (если родила сына) и двух недель (если родила дочь); при этом женщина, родившая сына, продолжала считаться нечистой в течение тридцати трех дней, а женщина, родившая дочь, в течение шестидесяти шести дней. По истечении этих сроков роженице разрешалось придти к воротам храма и, не переступая его порога, передать священнику годовалого ягненка для принесения жертвы всесожжения и молодого голубя или горлицу в жертву за грех (неимущим роженицам дозволялось ограничиться пожертвованием двух горлиц или двух молодых голубей – одного во всесожжение, а другого в искупление греха). Лишь выполнившая все эти условия женщина считалась очищенной (см. Лев. 12:2–7).
(обратно)57
Аморритяне– племя ханаанского происхождения, восходящее к сыну Ноя Хаму, проклятого отцом за грех (см. об этом подробнее Быт. 9:20–25).
(обратно)58
Древняя форма клятвы, возникшая вначале, предположительно, у египтян, жрецы которых первыми ввели обряд обрезания, как свидетельство покорности Всевышней Силе, производящей все живое. Позже эта форма клятвы «именем Всевышней Силы» была заимствована евреями и другими народами Востока. В случаях, когда клянущиеся занимали разное социальное положение, от них не требовалось непременно касаться члена друг друга, достаточно было положить руку на внутреннюю сторону ляжки (бедра, или, что то же самое, стегна), о чем можно прочитать в Библии: «И сказал Авраам рабу своему, старшему в доме его, управляющему всем, что у него было: положи руку твою под стегно мое, и клянись мне Господом Богом неба и Богом земли, что ты не возьмешь сыну моему жены из дочерей Хананеев, среди которых я живу… И положил раб руку свою под стегно Авраама, господина своего, и клялся ему в сем» (см. Быт. 24:2–3, 9).
(обратно)59
Клеопатра Селена, т. е. Лунная, доводилась бабкой последней египетской царице Клеопатре VII.
(обратно)60
Т. е. на Самарию, Галилею и Перею.
(обратно)61
Драхма– мера стоимости и веса, равная 6 гр. золота.
(обратно)62
В данном случае речь идет о боковой ветви царствовавшей в Египте династии Птолемеев.
(обратно)63
Гиркан– первоначально прозвище, впоследствии собственное имя, восходящее к древнеперсидскому «varcan», что означает «волк». Гирканаминазывалось одно из древних персидских племен, населявшее гористую местность на юге Каспийского моря (сегодня это Эльбурс, а в описываемое нами время Гиркания; название сохранилось за реликтовым лесом третичного периода – Гирканский заповедник – на юге Азербайджана). В то время, когда в Передней (Западной) Азии и во всем средиземноморском регионе преобладал языческий культ богини любви и плодородия Астарты (в ассиро-вавилонской мифологии Иштар) и ее вечно юного супруга и бога войны Ваала (Мардука), поклонение которым сопровождалось принесением человеческих жертв, гирканы выработали собственный культ Митры (перс. «договор») – божества верности, управлявшего миром по законам Ахумаразды – верховного бога света, который в конце времен сразится с богом тьмы и победит его, после чего призовет всех людей на свой великий суд для очищения их душ. В ходе реформ Заратустры (первая треть I тыс. до н. э.), Митра потерял свое место рядом с Ахумараздой, но по мере смешения культур и религий разных народов (в т. ч. культуры и религии евреев, десять колен которых, несмотря на разрешение Кира II, так и не вернулось после Вавилонского плена на родину), а в еще большей степени благодаря образованию многонациональной державы Александра Македонского, в состав которой вошла и Иудея, к Митре вернулось его прежнее значение бога верности, с которым люди заключили «договор», подобный «договору» между Предвечным и «избранным народом» – евреями. В Риме Митра почитался как бог солнца, охранявший закон, истину и требовавший от людей аскетической скромности и соблюдения строгих моральных принципов. С возникновением христианства и вовлечением в новую веру все более широких слоев населения Римской империи, официальный Рим противопоставил Митру Христу (каменное изваяние Митры император Элагабал, сириец по происхождению, в 218 г. н. э. доставил в Рим, император Аврелиан в 274 г. узаконил культ Митры, а в 307 г. Митра был торжественно объявлен «Sol invictus», или «Солнцем непобедимым»). Днем рождения Митры считалось 25 декабря (христиане, борясь с митраистами, объявили эту дату днем рождения Христа), с Митрой связывалась вера в причащение и вознесение на небо. Жрецы культа Митры сулили всем верующим в него воскресение и бессмертие души. (Культ Митры оказался настолько живуч, что его именем стал называться головной убор высшего православного духовенства, надеваемый по особо торжественным случаям.) Можно предположить, что на Иоанна, сына Симона Маккавея, культ Митры также произвел определенное впечатление, за что он и получил прозвище Гиркан, как последователь вероучения жителей Гиркании, которых не коснулась вера в Астарту и Ваала. Остается добавить, что влияние жителей этой небольшой по занимаемой территории страны на окружающих их ближних и дальних народов было столь велико, что в описываемое нами время нынешнее Каспийское море называлось Гирканским.
(обратно)64
Субботний год, евр. «шабатон» – каждый седьмой год, объявлявшийся праздничным. В этот год запрещалось возделывать поля, выращивать и собирать урожай. Все, что созревало само собой, включая виноград, сливы и др. плоды, становилось достоянием рабов и свободных чужеземцев, бедных иудеев и животных. В этот год также запрещалось взимать с должников долги, почему субботний год назывался еще и годом прощения. Основной смысл празднования субботнего года состоял в том, чтобы иудеи, дав отдых земле, рабам и животным, посвятили себя раздумьям о высшем предназначении человека в жизни, которое состоит не в накоплении материальных благ, а в заботе о собственной душе в Предвечном, перед Предвечным и в наслаждении даруемой Им благодати. В Библии читаем: «Шесть лет засевай землю твою и собирай произведения ее; а в седьмый оставляй ее в покое, чтобы питались убогие из твоего народа, а остатками после них питались звери полевые. Так же поступай с виноградником твоим и с маслиною твоею» (Исх. 23:10–11). И еще одно важное наставление Предвечного: «Если скажете: “что же нам есть в седьмый год, когда мы не будем ни сеять, ни собирать произведений наших?” Я пошлю благословение Мое на вас в шестый год, и он принесет произведений на три года. И будете сеять в восьмый год, но есть будете произведения старые до девятого года; доколе не поспеют произведения его, будете есть старое» (Лев. 25:20–22).
(обратно)65
Галлы– жрецы и служители культа Кибелы и Аттиса; верховный жрец этого культа назывался архигаллом.
(обратно)66
Кибела– верховная богиня фригийского происхождения, Magna mater, или Великая мать, как называли ее римляне, богиня плодородия и материнской силы. Ее спутником и возлюбленным был юный Аттис (в букв. пер. с фриг. – ласкательное название «отца» всего сущего, «папочка»). В припадке ревности Кибела наслала на Аттиса безумие, и тот оскопил себя. Празднества в честь Кибелы и Аттиса проводились в Риме с 15 по 27 марта, были приурочены к началу посевной кампании и сопровождались неистовыми оргиями, в ходе которых жрецы Кибелы – галлы оскопляли себя.
(обратно)67
Каменный фаллос огромных размеров был культовым символом Кибелы. Точно такой же символ – огромный фаллос, вытесанный из черного гранита, – был доставлен в Рим, чтобы отвратить поражение во 2-й Пунической войне (218–201 гг. до н. э.) Предание гласит, что судно с камнем село на мель в устье Тибра, и лишь вмешательство девственницы помогло доставить его в город.
(обратно)68
Тавроболий (греч. и лат. taurobolium– «жертвоприношение быка») – религиозный обряд, зародившийся в М. Азии и во II в. до н. э. проникший в Египет, оттуда в Рим и далее – вплоть до Атлантического океана. Сопровождал мистерии в честь Кибелы и Аттиса (а отчасти и Митры, когда его культ проник на Запад). Представлял собой древний обряд крещения кровью, позже всюду замененный крещением водой. Считалось, что человек, омытый кровью, очищается от всех грехов и рождается для новой жизни.
(обратно)69
См. Вт. 23:1: «У кого раздавлены ятра или отрезан детородный член, тот не может войти в общество Господне».
(обратно)70
Фарисеи, или «отделившиеся» – религиозно-политическая партия, представлявшая интересы широких слоев населения. Иосиф Флавий пишет о них: «Фарисеи живут скудно, воздерживаются от вкусной пищи и следуют велению разума: что разум предписывает им, как добро, то они и делают, и верят, что им следует серьезно стремиться исполнять предписания разума. Они оказывают почтение старцам, и что бы те не утверждали, – фарисеи не противоречат им. Думая, что все совершается по ранее намеченным планам, они все же не отрицают свободы выбора со стороны человека. По их мнению, Бог ставит события в такой порядок, чтобы исполнилось то, что Он хочет, и в то же время воля человека свободна в выборе между добродетелью и пороком. Они также верят, что души бессмертны и заслужат в преисподней награду или наказание, смотря по тому, как люди жили в этой жизни – добродетельно или порочно; последние будут содержаться в вечной темнице, первые же получат силу пробудиться и жить снова. Такое учение привлекло к ним широкие массы, и во всем, что относилось к богослужению, молитве и жертвоприношениям, люди стали поступать по их указаниям; и города давали хорошие отзывы об их добродетельных поступках и словах». Фарисеи верили в существование души и воскресение из мертвых. Поиски все новых и новых сторонников своего учения привели к тому, что фарисеи много ездили не только по Иудее, но и другим странам, обращая в иудаизм приверженцев (прозелитов) из числа язычников.
Саддукеи, или «праведные» (получили свое название от имени первосвященника времен царя Давида Садока) – партия, отстаивавшая интересы иудейской аристократии. Готовы были к сотрудничеству с любой правящей властью, будь то власть иудеев, египтян, сирийцев или римлян. В противоположность фарисеям, саддукеи отвергали предание старцев, придерживались только закона Моисеева и превыше всего ставили свободу воли человека. Иосиф Флавий пишет: «Саддукеи совершенно отрицают судьбу и утверждают, что Бог не имеет никакого влияния на человеческие деяния, ни на злые, ни на добрые. Выбор между добром и злом предоставлен вполне свободной воле человека, и каждый по своему собственному усмотрению переходит на ту или другую сторону. Точно так же они отрицают бессмертие души и всякое загробное воздаяние». Сравнивая обе эти секты, Иосиф Флавий заключает: «Фарисеи сильно преданы друг другу и, действуя соединенными силами, стремятся к общему благу. Отношения же саддукеев между собой суровые и грубые; и даже со своими единомышленниками они обращаются, как с чужими».
Ессеи, или «благочестивые» – рассматривались ортодоксальными иудеями как еретическая секта, основанная священниками Иерусалимского храма, отколовшимися от иудаизма. Жизнь общины ессеев протекала в ожидании скорого прихода Мессии и отличалась строгим соблюдением буквы закона и личной чистоты помыслов и дел. Образ жизни ессеев, их презрение к богатству и отказ от частной собственности в значительной степени подготовили почву для возникновения христианства.
(обратно)71
Праздник Кущей– один из трех, наряду с Пасхой и Пятидесятницей – великих праздников иудеев. Отмечался в октябре в течение восьми дней, когда выращенный урожай был собран и обработан, и отличался особым весельем. Люди при этом покидали свои дома и все дни праздника жили в кущах, или шалашах, как это было в течение сорокалетнего странствия по пустыне.
(обратно)72
Душа– по вероучению иудеев, в крови растворена душа, а над душами властен один лишь Предвечный. «Душа всякого тела есть кровь его, она душа его; потому Я сказал сынам Израилевым: не ешьте крови ни из какого тела, потому что душа всякого тела есть кровь его; всякий, кто будет есть ее, истребится» (Лев. 17:14). В пролитой при жертвоприношениях крови происходит очищении душ жертвователей: «Душа тела в крови, и Я назначил ее вам для жертвенника, чтобы очищать души ваши, ибо кровь сия душу очищает» (Лев. 17:11).
(обратно)73
Относительно браков между невестками и деверями в Библии содержится прямое предписание: «Если братья живут вместе, и один из них умрет, не имея у себя сына, то жена умершего не должна выходить на сторону за человека чужого, но деверь ее должен войти к ней и взять ее себе в жену, и жить с нею» (Вт. 25:5). При этом первенец, родившийся в новом браке вдовы, считался сыном не ее нового мужа, а мужа умершего, «чтобы имя его не изгладилось в Израиле» ( там же, 25:6). Если по каким-либо причинам брат умершего брата не желал вступить в брак со своей невесткой (при этом не имело значение, женат ли он или холост), то «тогда невестка его пусть пойдет к нему в глазах старейшин, и снимет сапог его с ноги его, и плюнет в лице его, и скажет: “так поступают с человеком, который не созидает дома брату своему”» ( там же, 25:9).
(обратно)74
Гекатонмахи– метафорическое название солдат, каждый из которых способен одолеть сотню противников.
(обратно)75
Птолемаида– город в Галилее, расположенный на берегу Средиземного моря, нынешний гор. Акко. Известен древней крепостью и современным сталепрокатным заводом.
(обратно)76
Книжники– наиболее образованная часть еврейского населения, известная под названием соферим, что в буквальном переводе означает «писцы». Книжники появились незадолго до освобождения из Вавилонского плена, и первым среди них стал священник Ездра, который назван в Библии «совершенным учителем закона Бога» (см. Ездр. 7:12; сам Ездра называет себя «книжник, сведущий в законе Моисеевом», см. там же, 7:6; отсюда еще одно название книжников – законники). Несмотря на содержащееся в Библии указание Моисея неукоснительно исполнять законы в том виде, в каком они изложены им («Не прибавляйте к тому, чтó я заповедую вам, и не убавляйте от того; соблюдайте заповеди Господа, Бога вашего, которые я вам заповедую», Втор. 4:2), книжники стали объяснятьзаконы, что, в свою очередь, повлекло за собой добавления к прежним заповедям. Общее число добавлений достигло к началу Маккавейского периода 613-и (248 повелений – по числу частей человеческого тела, и 365 запрещений – по числу дней в году). Эти повеления и запрещения записывались в особую книгу, получившую название мишна(т. е. «повторение»), затем к мишне была добавлена вторая книга – гемара(т. е. «завершение»), и обе эти книги, соединенные в один большой сборник, получили название Талмуд(«Учение»). Вместе с Торой (Пятикнижием Моисея) Талмуд стал Библией иудаизма, о которой в мишне сказано: «Моисей принял устно закон на Синае и передал его Иисусу Навину, Иисус же – старейшинам, старейшины – пророкам, пророки – мужам Большой синагоги». Книжники собирали вокруг себя учеников, толкуя закон в духе правды(см. Неем. 9:33), благодаря чему привлекли на свою сторону огромные массы простолюдинов. К середине I в. до н. э., когда разочарование евреев в освободительной миссии Маккавеев достигло максимума, книжники разделились на два течения, или школы, одну из которых возглавил раввин (от др. – евр. рабби, что означает «мой учитель») Шаммай, а другую Гиллель (к школе последнего принадлежал знаменитый законник Гамалиил, у которого учился не менее знаменитый апостол Павел).
(обратно)77
Из подобных притч, передаваемых в описываемое нами время изустно, к III в. н. э. сложилась книга «Агада» («Сказание»). На формирование «Агады» в том виде, в каком она известна нам, повлияли не только традиции иудаизма, но и др. – иран. собрание священных книг первой половины I тыс. до н. э. «Авеста», древнегреческая и римская философия и культура, а на рубеже I в. до н. э. – I в. н. э. учение ессеев и раннее христианство. В этом отношении «Агаду» следует рассматривать не как своеобразное дополнение к Ветхому Завету, расцветившее библейские сюжеты назидательными или занимательными подробностями, а в качестве письменного памятника, имеющего общечеловеческое значение.
(обратно)78
Искаженная библейская цитата: «И детей ее не помилую, потому что они дети блуда» (Ос. 2:4).
(обратно)79
Этот факт отмечен всеми историками древности. Так, Гай Светоний Транквилл (ок. 70 – ок. 140 гг. н. э.) писал: «Среди безмерной всеобщей скорби множество иноземцев то тут, то там оплакивали убитого каждый на свой лад, особенно иудеи, которые и потом еще много ночей собирались на пепелище».
(обратно)80
Гай Кассий Лонгин– еще будучи квестором, спас от окончательного разгрома парфянами римские войска, предводимые погибшим Крассом. Происходя из древнеримского плебейского рода, был активным сторонником оптиматов и защитником республиканского строя.
(обратно)81
И в то далекое время, и сегодня находятся сомневающиеся, что истинным организатором заговора, направленного на убийство Цезаря, был Цицерон. Дело в том, что имя этого прославленного оратора и политика уже при его жизни стало нарицательным и воспринималось как синоним слова «Свобода». Цицерон действительно выступал за сохранение республиканского строя в Риме, но, в отличие от оптиматов, которых поддерживал, отличался своим бескорыстием – он никогда не брал гонораров с тех, кого защищал, и отклонял любые подарки, которые ему подносили. Его концепция республиканского строя базировалась на идее естественного права древнегреческого историка Полибия; вслед за ним Цицерон считал наилучшей формой государственного правления смешаннуюформу, которая соединяет в себе демократию, аристократию и монархию (в государственном устройстве Римской республики он находил все эти три составляющие, которые нуждались в улучшении – отсюда его учение о нравственности и гражданских обязанностях, но никак не в сломе, – и отстаиваемая им формула государственного устройства: народное собрание, сенат, консулат).
(обратно)82
Публий Клавдий Пульхр– представитель патрицианского рода Клавдиев, противник Цицерона, примкнул к плебеям Рима и, став их неформальным лидером, изменил свое имя на просторечную форму – Клодий. Открыто презирая какие бы то ни было моральные принципы, за что его и порицал Цицерон, Клодий являл собой образчик золотой молодежи, которой позволено всё, и был дружен с такими же молодыми повесами, как сам – Курионом, тем же Антонием, Фульвией, на которой позже женился, и др. Одна из самых скандальных историй, в которой оказался замешан Клодий, была его интимная связь с женой Цезаря Помпеей, обожавшей слушать его фривольные объяснения о сути и назначении любви. Однажды, когда римлянки отмечали праздник богини Диады, жены Фавна, на котором присутствие мужчин категорически запрещалось, Клодий, переодевшись женщиной, проник в дом Цезаря, но был разоблачен. Цезарь тотчас развелся с Помпеей, однако дело получило огласку, и состоялся суд, на который Цезарь был вызван в качестве свидетеля. На вопрос, что он может заявить по существу обвинения, выдвинутого против Клодия, Цезарь ответил, что ничего о деле Клодия не знает и потому ничего сказать не может. Тогда его спросили: «Но почему же тогда ты развелся со своей женой?» «Потому, – ответил Цезарь, – что на мою жену не должна падать даже тень подозрения». Суд Клодия оправдал, но не потому, что счел его невиновным в бесчестье, а потому, что большинство записок для вынесения вердикта было подано с неразборчивой записью, – судьи попросту побоялись возможного бунта золотой молодежи, за спинами которых стояли их могущественные отцы. Став впоследствии народным трибуном (плебеи провозгласили его своим вождем), Клодий при содействии Цезаря провел законопроекты, ограничивающие полномочия сената. Позднее, рассорившийся с другим народным трибуном – Милоном, – Клодий был убит.
(обратно)83
Претекста– подростковая тога.
(обратно)84
Стола– женская верхняя одежда.
(обратно)85
Шесть миллионов сестерциев– сумма, эквивалентная 250 талантам.
(обратно)86
Усыновление– в отличие от династического наследования престола, когда власть от отца переходит к сыну или другому ближайшему родственнику, Цезарь первым ввел практику выборапреемника через усыновление. В дальнейшем это новшество было поддержано сенатом, считавшим, что только «лучший из лучших» должен наследовать трон вне зависимости от того, связан ли преемник с предшественником узами кровного родства или усыновлен им.
(обратно)87
Марк Эмилий Лепид(ок. 90–12 гг. до н. э.), приверженец Цезаря, инициатор предоставления ему диктаторских полномочий. После убийства Цезаря примкнул к Антонию, позже вошел в состав второго триумвирата и по разделу сфер влияния между Антонием, Октавием и им получил в управление африканские провинции. После установления единоличной власти Октавия не играл никакой роли в политической жизни.
(обратно)88
Великий понтифик– глава высшей жреческой коллегии, которая занимала центральное место в римском государственном культе. Великий понтифик и его коллегия надзирали за деятельностью всех священнослужителей Древнего Рима, ведали составлением календарей, определяли правила проведения обрядов, жертвоприношений и погребального культа, обеспечивали соглашение с богами при закладке храмов, толковали различные природные явления и знамения и пр. Управляя всеми сторонами религиозной жизни страны (аналогичное управление Иудеей при Ироде было возложено на первосвященника и возглавляемый им синедрион), высшая жреческая коллегия в лице Великого понтифика оказывала влияние на политику. Сегодня понтификомименуется Папа Римский, полный титул которого звучит так: епископ Рима, наместник Иисуса Христа, преемник князя апостолов, верховный понтифик Вселенской церкви, патриарх Запада, примас Италии, архиепископ и митрополит Римской провинции, монарх государства-города Ватикан, раб рабов божьих.
(обратно)89
Магистр– в пер. с лат. «глава», «начальник», «учитель»; название руководящих должностей в армии, государственном аппарате и сакральных коллегиях. В наше время вторая академическая степень, присваиваемая в ряде стран выпускникам высших учебных заведений.
(обратно)90
Подробности личной встречи Октавия и Цицерона сразу же стали широко известны в тогдашнем мире, включая Иудею, и отражены во многих работах древних авторов. Наиболее полно они изложены в «Сравнительных жизнеописаниях» Плутарха: «Цицерон охотно согласился заключить дружбу с молодым Цезарем. Кажется, еще при жизни Помпея и Цезаря, ему привиделось во сне, будто некто позвал на Капитолий сенаторских сыновей, так как Юпитер должен был объявить одного из них властителем Рима; поспешно сбежавшиеся граждане стояли вокруг храма, а мальчики, храня молчание, сидели в окаймленных пурпуром тогах. Внезапно открылись двери, и мальчики, вставая поодиночке, торжественно проходили вокруг бога. Озирая каждого, бог отсылал их назад, и они уходили огорченные. Но когда приблизился молодой Цезарь, он простер руку и изрек: “Римляне, наступит конец вашим междоусобиям, когда этот станет властителем”. Таково было сновидение Цицерона, причем наружность мальчика ясно запечатлелась и сохранилась в его памяти, но самого мальчика он во сне не опознал. На следующий же день, в то время как Цицерон спускался к Марсову полю, а мальчики возвращались оттуда с гимнастических упражнений, первым попался ему на глаза именно тот, кто ему приснился. Пораженный этим, Цицерон спросил, кто его родители. Оказалось, это был сын Октавия, человека не очень знатного, и Аттии, племянницы Цезаря, вследствие чего Цезарь, не имевший собственных детей, и оставил ему по завещанию свое имущество и дом. С этих пор, говорят, Цицерон при встречах с мальчиком оказывал ему большое внимание, а тот дружелюбно принимал его расположение».
(обратно)91
Мутина– совр. Модена, расположенная неподалеку от Болоньи. Древний этрусский город, известный тем, что здесь Спартак одержал победу над римской армией.
(обратно)92
Проскрипционный список– особое обнародованное объявление, на основании которого лица, попавшие в него, объявлялись вне закона. Всякий, кто убивал или выдавал этих людей, получал награду, имущество внесенных в проскрипционный список людей подлежало конфискации и распродаже на аукционах, а рабы становились свободными.
(обратно)93
Иудеям не запрещалось многоженство. Известно, например, что у Иакова было две жены – родные сестры Лия и Рахиль – и их служанки Валла и Зелфа, являвшиеся в то же время его наложницами; эти четыре женщины родили ему 12 сыновей, от которых и произошло 12 колен израилевых. Несколько жен и наложниц было и у царя Давида, а у Соломона, славившегося своей мудростью и богатством, насчитывалось 700 жен и 300 наложниц. Лишь в 1018 г. н. э. раввин Гершом запретил иудеям, живущим в Европе, многоженство и ввел моногамию. Это правило, однако, не распространялось на иудеев, живших в мусульманских странах.
(обратно)94
Самария, расположенная между Галилеей на севере и собственно Иудеей на юге, издавна служила «яблоком раздора» между евреями и коренным местным населением. Самаритяне не могли и не хотели смириться с тем, что земля их поделена между двумя израильскими коленами – Ефремовым и Манассииным. Будучи язычниками, они постепенно переходили в иудаизм, но при этом утверждали, что тот список книг Моисея, которым они располагают, вернее списка, который чтут евреи. У самаритян был свой храм на горе Гаризим; когда в 129 г. до н. э. Маккавеи разрушили этот храм, самаритяне объявили святой самую гору. В гор. Самарии до сих пор можно увидеть множество колонн – печальных свидетелей минувшего величия; специалисты считают, что колонны эти – остатки великолепного храма, построенного Иродом Великим во славу Августа.
(обратно)95
Синагога– греч. «собрание», в более широком значении – дом, где собираются иудеи (евр. гейт а-кнессет). Первые синагоги возникли во время вавилонского плена, когда иудеи, не имея возможности отправлять религиозные обряды в иерусалимском храме, стали собираться в одном определенном месте, где изучали Священное Писание и молились. Синагоги возникали всюду, где насчитывалось не менее десяти иудеев-мужчин (т. н. батланим, или «свободные люди», считавшие своим долгом хранить верность вере предков). Каждая синагога представляла собой самостоятельную общину и в то же время поддерживала активную связь с другими синагогами, зачастую не только отдаленными одна от другой на значительные расстояния, но и находившиеся в разных странах.
(обратно)96
Аминь– евр. «амен», слово, означающее «правда, верно, истинно».
(обратно)97
Прозелит– язычник, перешедший в иудейскую веру. Различались два рода прозелитов – «прозелиты врат» и «прозелиты праведности». Первые обязаны были соблюдать субботу и т. н. новые заповеди («День седьмый – суббота Господу Богу; не делай в оный день никакого дела ни ты, ни сын твой, ни твоя дочь, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришлец, который в жилищах твоих», см. Исх. 20:10). Вторые полностью переходили в иудаизм, подвергая себя обрезанию и исполняя весь закон, что давало им право есть пасхального агнца и пользоваться другими преимуществами избранного народа («Если же поселится у тебя пришлец и захочет совершить Пасху Господню, то обрежь у него всех мужеского пола, и тогда пусть он приступит к совершению ее, и будет как природный житель земли», см. Исх. 12:48).
(обратно)98
По закону, еврей, женившийся на рабыне еврейке и затем женившийся на другой женщине, не вправе был лишать первую жену супружеского ложа. Ответственность за соблюдение этого закона возлагалась на отца мужа. Читаем: «Если же другую возьмет за него (т. е. за сына. – В. М.), то она (первая жена. – В. М.) не должна лишаться пищи, одежды и супружеского сожития» (см. Исх. 21:10).
(обратно)99
Праздник седмиц– евр. шавоут. Другие названия этого праздника – праздник жатвы, или день первых плодов. Отмечался через семь недель после начала жатвы, откуда и произошло название этого праздника, или в пятидесятый день после приношения в храм первого снопа. В ходе празднования совершалось особое жертвоприношение, состоящее из одного козла в жертву за грех, двух тельцов, одного овна и семи однолетних агнцев в жертву всесожжения. Весь народ должен был праздновать этот день как субботу и веселиться за общей трапезой со своими детьми и слугами, вдовами, неимущими единоверцами и левитами, вознося Предвечному хвалу и принося Ему в дар два кислых хлеба из пшеничной муки нового урожая и мирную жертву, состоящую из двух однолетних агнцев. У христиан этот праздник известен под названием Пятидесятницы (от греч. «пентекосте»).
(обратно)100
Лаодикея– город на р. Лик, основанный Антиохом II и названный так в честь своей сестры Лаодики. Представлял собой крупный торговый центр и считался одним из богатейших городов Малой Азии.
(обратно)101
Талион– от лат. talio, «возмездие»; в римском праве принцип уголовной ответственности, когда выбор меры наказания точно соответствует причиненному вреду. Проистекает из распространенного в древности правила, ставшего для иудеев нормой закона: «Кто убьет какого-либо человека, тот предан будет смерти… Кто сделает повреждение на теле ближнего своего, тому должно сделать то же, что он сделал. Перелом за перелом, око за око, зуб за зуб: как он сделал повреждение на теле человека, так и ему должно сделать» (Лев. 24:17, 19–20).
(обратно)102
Обычай, возложенный на шошбенимов, избираемых, как правило, из числа ближайших родственников, предъявлять гостям на свадьбе простыню молодоженов со следами лишившейся после первой брачной ночи девственности невесты, возник в глубокой древности. Целью этого обычая было не столько доказательство целомудрия невесты, которое она сохранила до свадьбы, сколько избежать возможных недоразумений, могущих возникнуть в ситуациях, описанных во Второзаконии: «Если кто возьмет жену, и войдет к ней, и возненавидит ее, и будет возводить на нее порочные дела, и пустит о ней худую молву, и скажет: “я взял сию жену, и вошел к ней, и не нашел у нее девства”; то отец отроковицы и мать ее пусть возьмут и вынесут признаки девства отроковицы к старейшинам города, к воротам; и отец отроковицы скажет старейшинам: дочь мою я отдал в жену сему человеку, и ныне он возненавидел ее, и вот, он возводит на нее порочные дела, говоря: “я не нашел у дочери твоей девства”; но вот признаки девства дочери моей. И расстелют одежду пред старейшинами города. Тогда старейшины того города пусть возьмут мужа, и накажут его, и наложат на него сто сиклей серебра пени (сумма, равная 1/30 части таланта. – В. М.), и отдадут отцу отроковицы за то, что он пустил худую молву о девице Израильской; она же пусть останется его женою, и он не может развестись с нею во всю жизнь свою. Если же сказанное будет истинно, и не найдется девства у отроковицы, то отроковицу пусть приведут к дверям дома отца ее, и жители города ее побьют ее камнями до смерти; ибо она сделала срамное дело среди Израиля, блудодействовав в доме отца своего; и так истреби зло из среды себя» (Втор. 22:13–21).
(обратно)103
Тиран; здесь – правитель, деятельность которого направлена на защиту интересов широких слоев населения. Как форма государственной власти, тирания существовала в городах с высокоразвитой экономикой и способствовала развитию ремесел и торговли, а также архитектуры, изобразительного искусства, театра и поэзии. В отличие от диктатуры, опирающейся на элиту общества, тирания выступала против аристократии как праздного класса. Негативную оценку получила с развитием демократии, отрицавшей основополагающий принцип тирании – единовластие.
(обратно)104
Филиппы– город в Македонии, основанный отцом Александра Македонского Филиппом II и названный его именем.
(обратно)105
Ефес– город на западном берегу Малой Азии, основанный в XII в. до н. э. греками-ионийцами. Один из главных торговых и культовых центров древности. Раскопки показали, что в этом городе в пору его расцвета находилось множество рынков, складов, гимнасий и термов, а также монетный двор. Театр и библиотека позволяют судить о величине и всестороннем влиянии этого города на жизнь античного мира. Особую славу Ефесу принес монументальный храм богини плодородия, девственной чистоты и покровительницы рожениц Артемиды, колоссальная статуя которой была изображена с множеством сосцов (копия статуи Артемиды Ефесской хранится ныне в Ватикане). В 356 г. до н. э. храм был сожжен Геростратом и вскоре восстановлен в еще более величественном виде, благодаря чему причислен к семи чудесам света.
(обратно)106
Императорот лат. imperator – «повелитель». Почетный титул полководца в республиканском Риме; впоследствии титул главы Древнего Рима, а с возникновением в Европе крупных монархий – титул королей и царей.
(обратно)107
Дафна– курорт в предместье Антиохии, служивший резиденцией сирийских царей. Свое название (греч. Daphneозначает «Лавр»; так звали нимфу, дочь речного бога Пенея, которая, уклоняясь от преследований влюбившегося в нее Аполлона, превратилась в лавровое дерево) это предместье получило из-за росшей здесь лавровой рощи, славившейся своей красотой.
(обратно)108
Тога– мужская верхняя одежда этрусского происхождения. Представляла собой отрез из шерсти длиной 5 м и шириной 2 м. Одна кромка этого отреза была прямой, а другая закругленной. Тогу носили только в мирное время, почему она считалась синонимом мира. Существовало несколько видов тог: toga pura – чистая, без пурпурной каймы, для недолжностных лиц и молодежи; toga virilis – одноцветная тога, которую носили юноши с 16 лет; toga praetexta – для должностных лиц, жрецов и свободнорожденных людей; toga pulla – темная траурная тога и, наконец, toga picta – пурпурная, расшитая золотыми пальмами тога для полководцев-триумфаторов, позднее императоров.
(обратно)109
Дионис– сын фиванского царя Семелы и Зевса, который выносил его в бедре после смерти матери. Греческий бог виноградарства и виноделия фракийско-фригийского происхождения, известный также под именем Вакха(лат. Бахус). Культ Диониса в древности был широко распространен и нашел сторонников вплоть до Индии. В честь Диониса ежегодно в марте м-це, накануне весеннего сева, праздновались т. н. дионисии, в ходе которых менады, больше известные под названием вакханки, прославляли его в оргиастическом культе (в Греции эти празднества носили смягченные формы, в Египте и на Востоке – более откровенные). Апогеем празднеств становились фаллические шествия. Из дионисий в конце VI в. до н. э. вначале в Афинах, а затем во всей Греции возник театр, основу которого составили культовые обряды в честь Диониса. Поначалу из-за слишком откровенного показа этих обрядов замужним женщинам запрещалось посещать театр; позже, с появлением трагедий и комедий, ничего общего не имевших с фаллическими представлениями, запрет этот был снят.
(обратно)110
Эдип– легендарный фиванский царь, который по неведению убил своего отца Лая и женился на собственной матери Иокасте. Узнав правду, Эдип выколол себе глаза, а Иокаста повесилась. Комплекс Эдипа стал одним из центральных в психоанализе австрийского врача Зигмунда Фрейда, согласно которому сыновья в раннем детстве испытывают бессознательное половое влечение к своим матерям. В противоположность комплексу Эдипа случаи, когда дочери испытывают такое же бессознательное половое влечение к своим отцам, получили в психоанализе название комплекс Электры – мифической дочери царя Микен Агамемнона и Клитемнестры (узнав, что мать убила Агамемнона с тем, чтобы выйти замуж за Эгисфа, с которым сошлась во время пребывания Агамемнона под Троей, Электра помогла своему брату Оресту убить мать и ее любовника). По-видимому, эти легенды и мифы имели под собой в древности, когда нормы морали и нравственности еще не сформировались, некоторую реальную основу. К числу примеров, подтверждающих эту версию, можно отнести описанный в Библии случай, когда дочери праведного Лота, желая продлить свой род, напоили отца вином и вошли к нему, после чего старшая дочь родила от Лота сына Моава, от которого пошел род моавитян, а младшая сына Бен-Аммина, от которого пошел род аммонитян (см. Быт. 19:30–38).
(обратно)111
Перусия– совр. Перуджа, адм. центр Умбрии в Центральной Италии. Древний этрусский город, который Октавий сжег в ходе подавления мятежа Луция Антония, а позже отстроил заново, назвав его своим именем – Август.
(обратно)112
Сатрап– перс. «хранитель царства». Так назывался наместник, следивший на территориях, вверенных его управлению, за спокойствием и порядком, взимал налоги, вершил суд и набирал войско. В руках сатрапов была сосредоточена вся полнота гражданской и военной власти, которой они часто злоупотребляли в корыстных интересах.
(обратно)113
Кармил– горный хребет и одноименная гора в Галилее, воспетая за свою красоту Соломоном в Песне Песен. На вершине этой горы растут сосны и дубы, ниже оливковые и лавровые деревья. С Кармила стекает множество прозрачных потоков, питающих влагой плодородную Изреельскую долину. Крупнейший из этих потоков носит название Источник Илии, а самую гору арабы называют Мар-Элиас, или Святой Илия. В юго-западной части Изреельской долины находится возвышенность Мегиддон; именно здесь, при Армагеддоне (араб. хар-Мегидда, т. е. гора Мегидда), произойдет, согласно Откровению (см. 16:16), последнее сражение между воинством Христа и воинством антихриста.
(обратно)114
Экдиппон – приморский город в Галилее, располагавшийся между Тиром и Птолемаидой.
(обратно)115
По закону, никто из имевших какой-либо телесный недостаток не допускался к исполнению священнических обязанностей. Читаем в Библии: «И сказал Господь Моисею, говоря: скажи Аарону: никто из семени твоего во все роды их, у которого на теле будет недостаток, не должен приступать, чтобы приносить хлеб Богу своему. Никто, у кого на теле есть недостаток, не должен приступать, ни слепый, ни хромый, ни уродливый, ни такой, у которого переломлена нога или переломлена рука, ни горбатый, ни с сухим членом, ни с бельмом на глазу, ни коростовый, ни паршивый, ни с поврежденными ятрами. Ни один человек из семени Аарона священника, у которого на теле есть недостаток, не должен приступать, чтобы приносить жертвы Господу; недостаток на нем, поэтому не должен он приступать, чтобы приносить хлеб Богу своему» (Лев. 21:16–21).
(обратно)116
Соленое море, как оно названо в Быт. 14:3, или Восточное море, как оно называется в Иез. 47:16, – самое крупное водное пространство Палестины протяженностью 11 км с севера на юг и 3 км с запада на восток. Расположенное на 410 м ниже уровня мирового океана, оно отличается такой высокой степенью засоленности, что в нем не выживает ни одна рыба, сносимая сюда рекой Иордан. Удушливой зной, царящий здесь и часто достигающий 40º С в тени, привел к тому, что берега Соленого моря, окруженного белыми известковыми скалами, стали практически необитаемыми. По временам со дна моря отрываются и поднимаются на поверхность большие куски асфальта, почему греки и римляне называли это море Асфальтовым озером. В южной части Соленого моря расположена долина Сиддим, где, предположительно, находились уничтоженные огнем города Содом и Гоморра. Там же можно увидеть соляной столп, в который, согласно Библии, превратилась жена Лота, оглянувшаяся, несмотря на предупреждение Бога, чтобы увидеть ниспосланный с неба серный дождь и огонь (см. Быт. 19:25–26). В память об этом событии арабы до сих пор называют Соленое море Бахр Лут, или Море Лота; его нынешнее общепринятое название – Мертвое море, известное своими целебными свойствами.
(обратно)117
Пелузий– стратегически важный пограничный город к востоку от дельты Нила, господствовавший над военными и торговыми путями из Египта в Азию. Особое значение приобрел в ходе борьбы Селевкидов и Птолемеев за господство в Палестине. Долгое время был главным египетским таможенным пунктом, подходы к которому контролировались переселившимися сюда при Александре Яннае евреями.
(обратно)118
Косметическая смесь, придуманная Клеопатрой. Сохранилась легенда, согласно которой Клеопатра, не отличавшаяся внешней красотой, благодаря именно этим ваннам из козьего молока, смешанного с медом и настоенного на лепестках роз, добивалась удивительной свежести и аромата кожи, возбуждающе действовавших на мужчин, в т. ч. Гая Юлия Цезаря и Марка Антония. В пору пребывания Клеопатры в Риме в качестве гостьи и любовницы Цезаря, рецепт этот позаимствовали и стали использовать в качестве косметического средства многие знатные римлянки. Известно, например, что подобным средством пользовалась столетие спустя и Поппея Сабина, пленившая многих мужчин и дважды побывавшая замужем прежде, чем в нее влюбился и сделал своей женой император Нерон. Не терпящая сравнений с другими женщинами, она внесла в рецепт Клеопатры некоторые изменения, позволившие историку написать о ней: «Сама золотоволосая Поппея поддерживала красоту с помощью ванн из молока ослиц и мазей собственного приготовления». Впрочем, мази эти состояли из тех же меда и розового масла, которые использовала Клеопатра, а молоко коз она заменила молоком ослиц потому, что этих животных было легче перегонять с места на место в ходе ее частых продолжительных путешествий по Италии и Греции.
(обратно)119
Тиберий– будущий император Тиберий Клавдий Нерон, усыновленный Октавием после того, как он добился развода его матери Ливии Друзиллы с мужем и сам женился на ней. При Тиберии, как это явствует из Евангелия, был распят Иисус Христос.
(обратно)120
Ахайя– область на севере о-ва Пелопоннес, Греция.
(обратно)121
Брундизий– порт на юге Италии на берегу Адриатического моря, откуда отправлялись корабли в Грецию. Совр. гор. Бриндизи, центр одноименной провинции, входящей в состав области Апулия.
(обратно)122
Родос– в букв. пер. с греч. означает «остров роз». Помимо роскошных роз, культивируемых здесь, отличался богатой растительностью – цитрусовыми, виноградниками, оливковыми рощами. Уже в глубокой древности прославился своими поэтами, музыкантами, философами (напр., тиран Клеобул, живший в VI в. до н. э., был причислен к Семи мудрецам; до сих пор в ходу один из множества его афоризмов: «Лучше всего – это знать меру»). При входе в гавань гор. Родос высилась гигантская бронзовая статуя в честь бога солнца Гелиоса, покровителя острова, высотой 37 м, считавшаяся одним из семи чудес света (т. н. Колосс Родосский, обрушившийся при землетрясении в 227 г. до н. э.). Особой славой пользовалась родосская школа скульпторов (мраморная скульптурная группа «Лаокоон» работы Агесандра, Афинодора и Полидора, хранящаяся ныне в Ватиканском музее).
(обратно)123
Триера– корабль, на котором гребцы располагались на трех палубах. Во время спокойного плавания триера шла под прямым парусом, крепившимся на откидной мачте. В отличие от других судов древности, триеры отличалась маневренности и быстротой.
(обратно)124
Аппиева дорога– первая римская мощенная дорога протяженностью около 500 км. Ее первая часть, начинаясь от Капенских ворот Рима и до Капуи, была проложена в 312 г. до н. э. по чертежам основателя юриспруденции Аппием Клавдием Слепым и составляла 220 км; остальные 280 км от Капуи до Брундизии были проложены в 224 г. до н. э. При строительстве Аппиевой дороги были впервые применены технологии, которые считались передовыми в течение двух последующих тысячелетий: на предварительно выровненный грунт накладывался опорный слой, затем делалась поперечная отмостка, на который ложилась крупная отсыпка, поверх нее мелкая отсыпка и все это покрывалось обработанным камнем. Вдоль Аппиевой дороги были построены почтовые станции, постоялые дворы, сторожевые заставы, поставлены столбы с обозначением пройденных миль, возведены мосты, виадуки, а там, где неровности рельефа не позволяли спрямить дорогу, пробивались туннели. Византийский историк Прокопий, живший в VI в. н. э., назвал эту дорогу «царицей всех дорог». «Она была достаточно широка для того, чтобы на ней могли разъехаться два экипажа, – писал он, – и выложена камнем, который употреблялся для мельничных жерновов и не добывался в стране. Гладко отесанные камни были так хорошо пригнаны друг к другу без всякого металла или цемента, что казалось, будто они срослись. И, несмотря на непрерывное движение по ней экипажей и животных в течение многих столетий, мостовая нигде не имела трещин или каких-либо опасных мест, даже политура нигде не потеряла блеска». Во многом благодаря именно таким дорогам, как Аппиева, которыми римляне покрыли всю Европу, Малую Азию с Ближним Востоком и Северную Африку, Рим превратился в процветающую мировую державу. Странствующий греческий оратор Аристид (II в. н. э.) писал: «Земля сняла с себя прежнюю боевую одежду и появляется теперь в праздничном наряде. Теперь эллины и варвары могут путешествовать повсюду за пределами своей страны и везти с собой свое имущество, как будто переходя из одной родины в другую; теперь не страшны ни киликийские проходы, ни узкие песчаные дороги через Аравию в Египет, ни непроходимые горные цепи, ни безбрежные потоки, ни неизвестные варварские племена: для безопасности достаточно быть римлянином или, лучше сказать, вашим подданным. Вы сделали действительностью гомеровские слова “земля обща для всех”. Вы измерили всю землю, через реки повсюду перебросили мосты, прорубили в горах проезжие дороги, пустыни заполнили народами и все облагородили порядком и повиновением. Теперь не надо более описания мира, не надо перечислять обычаи и законы отдельных народностей; вы стали проводниками для всех во всем мире, раскрыли все ворота и дали каждому свободу видеть все своими глазами. Вы дали всем общие законы, уничтожили прежние – на словах интересные, на деле невыносимые – установления и, сочетав между собой народы, сделали весь мир подобным одной семье». Закончил этот панегирик Аристид молитвой по имя того, «чтобы этот город и это государство вечно процветали и не умирали, пока железо не поплывет по морю и деревья не перестанут цвести весной». Даже такой непримиримый критик римских порядков, как поборник христианства Тертуллиан (рубеж II–III вв. н. э.), и тот признавал, что благодаря дорогам, которыми римляне умостили всю подвластную им землю, мир стал богаче и лучше приспособлен к нуждам людей: «Мир теперь лучше культивирован и богаче обставлен, чем прежде. Теперь все доступно, все знакомо, все полно движения. На месте опасных раньше пустынь появились приветливые поля, нивы вытеснили леса, стада – диких животных, пески засеяны, скалы пробиты, болота осушены; теперь столько городов, сколько не было прежде хижин. Острова не коснеют больше от неплодородия, подводные скалы не страшны, повсюду земледелие, населенность, государственный порядок, жизнь».
Аппиева дорога, по которой Ирод отправился из Брундизия в Рим, сохранилась до наших дней почти вся. И это не единственная дорога, напоминающая нам о Древнем мире. Рим, превратившийся в мировую державу, во многом обязан своим дорогам, проложенным по Европе, Малой Азии и Египту. Недавно итальянские археологи совместили снимки Европы, сделанные со спутников, с древними картами и обнаружили: современные автомагистрали, густой сетью покрывшие континент, практически полностью совпадают с сетью дорог, сооруженных в древности по описанным выше технологиям. Поистине: все дороги ведут в Рим. По крайней мере, велив описываемое нами время.
(обратно)125
Гесиод– первый исторически достоверно установленный греческий поэт, живший в VIII в. до н. э. Родился в Малой Азии и с детских лет занимался пастушеством, помогая семье вести хозяйство. Обманутый братом Персом, завладевшим отцовским наследством, стал странствующим рапсодом, исполняя на празднествах, пирах и состязаниях поэтов стихи собственного сочинения. На творчестве Гесиода сказалось влияние восточных (преимущественно хеттских) мифов, адаптированных к условиям современной ему греческой культуры и религии.
(обратно)126
Копты– др. – евр. gibtith, араб. kibt., что означает «египтянин». Коренное население Египта до завоевания его Александром Македонским и расселения здесь арабов. Своеобразные искусство, культура и религия коптов оказали заметное влияние на весь древний мир средиземноморского бассейна, включая Иудею. Известно, что копты первые приняли и стали распространять христианство, как первыми учредили монашество, нашедшее позже распространение во всем христианском мире.
(обратно)127
Термы– греч. слово, означающее «горячие бани». В самое Греции термов было немного и строились они в основном для поддержания личной гигиены. В Риме термы получили массовое распространение и стали одними из самых посещаемых мест. В отличие от Греции, в Риме были особенно популярны общественные термы, на строительство и содержание которых отпускались громадные средства из государственной казны. Самыми респектабельными считались термы, способные поспорить по архитектуре, внутреннему убранству и количеству использованного мрамора и драгоценных металлов с дворцами. Но какими бы ни были по отделке термы, роскошные или скромные, предназначенные рабов, все они обязательно должны были иметь одинаковую по инженерному решению отопительную систему, устроенную под полом, и состоять из шести самостоятельных, соединенных общими переходами, отделений: зала для занятий спортом ( palaestra), раздевалки ( apodyterium), горячей бани ( caldarium), теплой бани ( tepidarium), холодной бани ( frigidarium) и бассейна ( natatio). Добавлю, что все термы, какими бы роскошными они ни были (в т. ч. термы Каракаллы, больше походившие на императорский дворец, чем на баню), содержались за государственный счет и в них допускались все желающие, включая простолюдинов.
(обратно)128
Религиозно-мистический обряд отсечения крайней плоти мужского полового члена, распространенный у семитских народов, считался у римлян и греков бессмысленной порчей тела. Со временем многие восточные народы, приобщаясь к греко-римской культуре, перестали обрезывать своих сыновей. Исключение в описываемое нами время представляли одни иудеи, хотя именно они составляли основную массу переселенцев вначале в сопредельных с Иудеей, а затем и в более отдаленных странах, образовав там свои устойчивые общины (диаспоры). Подсчитано, что к концу I в. до н. э. – началу I в. н. э., из 60 млн. чел., проживавших в Римской империи, доля евреев составляла 10 процентов. Они-то и становились предметом насмешек коренного населения, которое из-за приверженности иудеев к обрезанию относили их к числу «примитивных народов», что стало толчком к возникновению антисемитизма (сам термин антисемитизмвозник в конце XIX в.). Первые документально подтвержденные факты еврейских погромов относятся к V в. до н. э., а первыми авторами, описывавшими евреев в враждебных тонах, стали египетский жрец и историк Манефон (III в. до н. э.), сирийский философ, историк, географ и астроном Посидоний из Апамеи (II–I вв. до н. э.), родосский ритор Аполлоний Молон, александрийцы Лисимах и Херемон, грамматик Апион, сочинение которого «Египетские древности» стало предметом анализа и критики со стороны Иосифа Флавия в работе «О древности иудейского народа (Против Апиона)».
(обратно)129
Заведование канцелярией просьб и жалоб, считавшейся в Древнем Риме одной из маловажных, поручалось, как правило, вольноотпущенникам – рабам, получавшим свободу специальным актом об освобождении. Формально свободные, вольноотпущенники по-прежнему оставались пораженными в гражданских правах, которые имели свободнорожденные. В то же время при известных обстоятельствах вольноотпущенникам поручались высокие должности в государстве, благодаря которым они посредством взяток и подношений становились богатейшими людьми. Так, напр., вольноотпущенник императора Клавдия Нарцисс, бывший у него советником по делам прошений, обладал 400 млн сестерциев – самым крупным состоянием в древности, которое вообще известно (поэт-сатирик Ювенал считал его богатство равным состояниям Креза и персидского царя Дария I вместе взятым), а другой вольноотпущенник Паллант, советник по денежным делам, – 300 млн. сестерциев. Когда Клавдий пожаловался на истощение государственной казны, в Риме говорили, что если бы оба его вольноотпущенника «приняли его в товарищество, он имел бы избыток». Философ и писатель Сенека, сам обладавший огромным состоянием, писал заведующему при Нероне канцелярией просьб и жалоб вольноотпущеннику Полибию, когда у того умерла жена: «Ничто не должно позволить тебе предаться твоему горю. На тебя обращены взоры всех. Ничто заурядное, ничто низкое не приличествует тебе: от тебя мир желает и ожидает только великого. Ты должен столько людей выслушать, столько тысяч просьб пересмотреть. Чтобы предложить уму величайшего владыки такую большую массу вещей, стекающих с целого света, ты должен ободрить твой собственный дух. Ты не имеешь права плакать, потому что ты должен выслушать столько плачущих. Чтобы осушить слезы столь многих, которые находятся в опасности и желают снискать милосердие всемилостивейшего императора, ты должен прежде всего осушить свои собственные». Письмо это показывает, каким огромным уважением и влиянием в римском обществе пользовались недавние рабы, презираемые рядовыми гражданами Рима за свое низкое происхождение. Тогда-то и возникли первые байки об отсутствии ума у богатых выскочек, которые с удовольствием распространяли и слушали простолюдины. Приведу одну из таких баек. Некий богатый вольноотпущенник устроил пир и пригласил на него весь интеллектуальный цвет Рима. Желая посрамить одного из философов незнанием простых житейских вещей, он спросил его, почему из черных и белых бобов получается одинаково желтый соус. Философ ответил на вопрос вольноотпущенника вопросом: «Почему от черных и белых ремней на теле остаются одинаково красные рубцы?»
(обратно)130
Сервиева стена– древняя крепостная стена, возведенная вокруг Рима предпоследним римским царем Сервием Туллием в VI в. до н. э.
(обратно)131
Базилика– в пер. с греч. «царский дом». Представляла собой прямоугольное в плане здание, разделенное внутри рядами колонн на несколько помещений (нефов). В Древнем Риме базилики использовалась как судебные и торговые здание, в христианские времена превращены в культовые сооружения. Архитектура базилик стала основным типом сооружения христианских храмов. Упомянутая в нашем рассказе Порциева базилика, построенная в 184 г. до н. э., считается самым древним каменным сооружением на территории Рима.
(обратно)132
Фламиниев цирк– цирк, построенный в III в. до н. э. народным трибуном Гаем Фламинием для столь любимых римлянами боев гладиаторов (имя Фламиния носит также дорога, соединившая Рим с гор. Ариминым (совр. порт Римини на востоке Италии, соединенный с Адриатическим морем каналом).
(обратно)133
Капитолий– в широком значении один из семи холмов, на которых построен Рим, в более узком – одна из двух вершин Капитолия. Уже в глубокой древности стал политическим и культовым центром города. При Тарквинии Древнем было начато, а при Тарквинии Гордом закончено строительство храма трех богов – Юпитера, Юноны и Минервы; к этому храму восходили римские полководцы во время триумфальных шествий. На Капитолии находился государственный архив, в 269 г. до н. э. построен храм Юноны Советчицы, при котором устроен монетный двор. Все эти постройки, равно как дворцы знати, строительство которых в седловине между двумя вершинами холма стало интенсивно вестись уже с 30-х гг. до н. э., не раз горели. По примеру Рима Капитолиями стали называться возвышенные места в других городах Италии и Западной Европы – колониях римской империи. В честь римского Капитолия названы здание конгресса в Вашингтоне (США) и его копия в Гаване (Куба).
(обратно)134
Инсулы– в букв. пер. с лат. «остров». Так назывались многоквартирые доходные дома, управляемые рабами, комнаты в которых сдавались внаем беднякам (т. н. инсуляриям). Цены на аренду помещений в инсулах были чрезвычайно высоки. Тем не менее домовладельцы, стремясь извлечь из своих инсул максимум прибыли, надстраивали над верхними этажами новые этажи с комнатами-клетушками, что приводило к частым обвалам домов и пожарам. Ювенал писал: «Тонкие стены нагроможденных одна на другую квартир, не могущие в достаточной мере защитить ни от жары, ни от холода, состояли из дерева или заштукатуренной драницы; особенно охотно употребляли так называемую сетчатку, соответствующую вследствие своей красивой внешности целям спекулянтов, которые главным образом и гонялись за внешностью». И все же Рим, как магнитом, притягивал к себе авантюристов со всех концов земли, почему уже Цицерон назвал Рим «общиной, образовавшейся из слияния множества народов». По свидетельству классика римской эпиграммы Марка Марциала (I в. н. э.), Рим представлял собой самое благодатное поприще обманщикам всякого рода. «Честный человек, – писал он, – совершенно не мог там рассчитывать на обеспеченное существование; еще менее мог надеяться на удачу тот, кто не умел быть ни сводником, ни кутилой, ни обвинителем, ни доносчиком, кто не умел соблазнить жену друга или получать плату за любовь от старых женщин, кто не умел шарлатанить у императорского дворца или наниматься в качестве клакера у музыкальных виртуозов».
(обратно)135
Остия– крупная торговая гавань в устье Тибра, основанная в конце IV в. до н. э. Раскопки, проведенные здесь, обнаружили древний город с жилыми домами, среди которых многоэтажные доходные инсулы, термы, рынки и храмы.
(обратно)136
Упомянутый выше Аристид в своем похвальном слове Риму говорил: «К вам приходит из всех стран со всех морей все, что производят времена года, все поясы, реки и озера, труд греков и варваров. Так что желающий осмотреть все это должен либо объездить целый свет, либо пожить в этом городе, так как все, что производится и изготовляется у всех народов, здесь имеется в изобилии во всякое время». И продолжал: «Здесь можно видеть такое количество товаров Индии и счастливой Аравии, что можно подумать, что впредь деревья там навсегда обнажены, и те народы будут принуждены явиться сюда, чтобы потребовать то, в чем они нуждаются, из своих же собственных произведений. Вавилонские одежды и драгоценности из глубины варварской Азии доходят сюда легче и в гораздо большем количестве, чем если бы их пришлось доставлять с одного из островов архипелага в Афины. Одним словом, сюда свозится все то, что доставляют торговля и мореплавание, что добывает земледелие, что извлекает на свет горное дело, что производят все существующие искусства, все, что рождается и производится на земле».
Во многом благодаря такому положению вещей римляне презирали всякий труд; все их помыслы были направлены на добывание денег, что хорошо видно из слов Ювенала: «В Риме ничего нельзя было иметь даром», и Марциала: «За добродетель, равно как за порок, Рим платил самую высокую цену».
(обратно)137
Гераклиды– легендарные потомки Геракла (лат. Геркулес), которые по окончании Троянской войны возвратились в Пелопоннес, где основали первые греческие государства. Согласно этой легенде, свое родовое имя Антонииполучили от имени сына Геракла Антеона. На самом деле предки Марка Антония были плебеями, и лишь прадед его, тоже Марк, благодаря своим дарованиям, первым выбился из простонародной среды и добился сенаторского звания, а дед даже стал консулом – одним из двух высших должностных лиц в Римской республике (в римском летосчислении годы определялись не от основания Рима, а обозначались именами консулов).
(обратно)138
Друзья– в описываемую нами эпоху это слово несло не то содержание, какое мы обыкновенно вкладываем в него сегодня. Латинское понятие amicitia(«дружба») включало в себя, прежде всего, внутриполитические фракционные образования, а также внешнеполитические союзы. Из числа друзей формировался своеобразный замкнутый коллегиальный орган, который внутри себя обсуждал и принимал решения по самым актуальным вопросам внутренней и внешней политики и затем выносил их на утверждение сената. Роль друзей была столь велика, что биограф римских императоров Марий Максим имел все основания сказать о них: «Для государства безопасней и лучше, если будет дурной император, нежели друзья императора; один дурной может быть обуздан многими хорошими; против многих дурных один хороший не может сделать ничего». В Средние века место друзей заняли фавориты, в новейшее время – люди, демонстрирующие сильным мира сего свою личную преданность и извлекающие из этой демонстрации максимум выгод для себя.
(обратно)139
Последним царем Иудеи был Метафания, сын Иосии от Хамутали, дочери пророка Иеремии. Вавилонский царь Навуходоносор, завоевав Иерусалим в 599 г. до н. э., назначил его царем Иудеи под именем Седекия. Об этом Седекии читаем в Библии: «О худых смоквах, которых и есть нельзя по негодности их, так говорит Господь: таким Я сделаю Седекию, царя Иудейского, и князей его и прочих Иерусалимлян, остающихся в земле сей и живущих в земле Египетской; и отдам их на озлобление и на злострадание во всех царствах земных, в поругание, в притчу, в посмеяние и проклятие во всех местах, куда Я изгоню их. И пошлю на них меч, голод и моровую язву, доколе не истреблю их с земли, которую Я дал им и отцам их» (Иер. 24:8-10). При повторном завоевание Иерусалима в 588 г. до н. э. Навуходоносор приказал убить детей Седекии на его глазах, затем ослепил его и, заковав в цепи, отправил в Вавилон, где тот вскоре скончался.
(обратно)140
Октавий, будущий император Август, получил, как и Ирод, классическое греческое образование; он все еще учился в Аполлонии (совр. Поджан на терр. Албании), когда был убит Цезарь и он, вопреки просьбам матери, прервав учебу, возвратился в Рим. Раскопки, проведенные на месте бывш. Аполлонии итальянскими и советско-албанскими археологами в 50-х гг. ХХ в., обнаружили здесь термы, храм и театр античных времен.
(обратно)141
Мелех– в пер. с евр. означает «царь». Представляется не лишенной любопытства литературоведческая гипотеза, согласно которой Михаил Шолохов не случайно дал герою «Тихого Дона» фамилию Мелехов, желая подчеркнуть тем самым его значимость в борьбе, развернувшейся на Юге России в годы революции и гражданской войны, и особую роль казачества с его укладом жизни и верностью традициям, которую ему предстоит сыграть в будущем.
(обратно)142
Пс. 61:10
(обратно)143
Там же, 61:12–13.
(обратно)144
Фортуна– римская богиня счастья, удачи и судьбы, соответствующая греческой богине Тихэ. Изображалась со сложенными крыльями за спиной, кормовым веслом в правой руке и рогом изобилия, наполненным плодами и увенчанным цветами, в левой.
(обратно)145
Когорта– лат. cohors, что означает «вереница», «свита», «содружество собранных вместе людей». Так в республиканском Риме называлось пехотное соединение численностью 500 человек, составленное из неримлян ( auxilia). Когорты делились на центурии (от лат. centuria– «сотня»), подчинявшиеся центурионам (офицерское звание, соответствующее нынешнему званию капитан). Реформа армии, проведенная Гаем Марием и затем продолженная Октавием и Антонием, привела к тому, что к концу I в. до н. э. – I в. н. э. римская армия приобрела новый вид. Ее основное подразделение составил легион (от лат. legero– «выбирать», «собирать»), в который входили только римляне. Численность легиона достигала 6 тыс. человек пехоты и 700 всадников, которые делились вначале на манипулы (от лат. manipulus– «горсть») численностью 30 человек, а затем когорты. Каждый легион имел свой парк метательных орудий и осадной техники, а также оружейные мастерские (к концу правления Августа римская армия насчитывала 25 легионов). Отдельные воинские подразделения римской армии составляли вспомогательные войска и кавалерия, в задачу которых входило обеспечение безопасности флангов легионов (отсюда название кавалерийских отрядов ала, что означает «крыло»). Численность вспомогательных войск не регламентировалась и колебалась в зависимости от складывающей боевой обстановки (так, напр., численность каждой алы могла составлять и 500, и 1000 всадников). По типу римской армии построил впоследствии свою армию и Ирод, с тем, однако, отличием, что наемники у него входили не только в вспомогательные, но и основные подразделения.
(обратно)146
Из нескольких городов древности, которые Птолемеи переименовали в свою честь или основали сами, наиболее известны две Птолемаиды: Птолемаида в Верхнем Египте, которая была задумана и отстроена как антипод Фивам в Центральной Греции, и Птолемаида Галилейская, носившая в древности и сегодня название Акко. Город, как и вся прилегающая к нему земля, был известен задолго до прихода в Святую землю евреев. Земли эти были заселены потомками внука Ноя Хама хананеями, или, как называли их греки, финикийцами (название Финикия впервые упоминается в Новом завете, написанном на греч. яз.; в Ветхом завете всюду, где речь заходит об этой стране и ее народе, употребляются названия Ханаан, Земля ханаанская, хананеи и производные от них; оба эти названия – семит. Ханаан и греч. Финикия – означают «пурпуровая страна»). Из Библии нам известно, что народ Ханаана-Финикии был осужден Богом на истребление за грех, совершенный младшим сыном Ноя Хамом (см. Быт. 9:18–25). Евреи, заселив Финикию, не истребили, однако, ее народ полностью: «Они были оставлены, чтобы искушать ими Израильтян и узнать, повинуются ли они заповедям Господним, которые Он заповедал отцам их чрез Моисея» (Суд. 3:4). В языке, на котором говорили древние евреи и финикийцы, было много общего. Но в то время, когда евреи еще пребывали в Египте, финикийцы прославились множеством славных дел. Этот народ стал первым, который отважился на дальние морские походы, основав города-колонии (достаточно в этой связи упомянуть Карфаген на севере Африки, Фарсис (нынеш. Тарсис) на юге Испании и др.), изобрел стекло, освоил ткачество (изготовление пурпуровых тканей), стал первым, после придумавших китайцами денег, чеканить монету и выплавлять из руды металл. Однако самое замечательное изобретение финикийцев, которое оказало решающее влияние на все дальнейшее развитие цивилизации, было изобретение в далеком XIII в. до н. э. алфавита (до появления алфавита люди пользовались иероглифами и клинописью, на американском континенте – узелковым письмом). Принципы построения алфавита, придуманные финикийцами, переняли у них евреи, за ними греки и римляне, придав буквам собственные начертания. Основными видами деятельности финикийцев были земледелие, мореплавание и торговля. Соломон нанимал финикийцев в качестве мастеров и рабочих при строительстве первого Храма, с их же помощью строил и снаряжал свои торговые суда. Воинами финикийцы были посредственными, чем и объясняется их постоянная зависимость от соседних народов: евреев, ассирийцев, вавилонян, персов, македонян, греков, а с 63 г. до н. э., после побед, одержанных Помпеем Магном в восточных походах, римлян. Завися от более сильных соседей, финикийцы долго сохраняли свою национальную самобытность и легко шли на политическое и экономическое сотрудничество со всеми, кто обещал им эту самобытность обеспечить.
(обратно)147
Братья Птолемеи– родственники зятя Симона, брата Иуды Маккавея. Старший из двух братьев станет полководцем в армии Ирода, а младший первым министром в его правительстве и хранителем печати.
(обратно)148
Зилоты– в пер. с греч. «ревнители» (евр. канан’и, что также означает «ревнители»). Таково название иудеев, которые выступали как против власти иноземцев, так и против единоверцев, которые, по их мнению, недостаточно последовательно исполняли законы Моисея. Их лозунгом был: «Никакой власти, кроме власти Закона, и никакого царя, кроме Бога». Зилотом был один из апостолов Христа. Читаем: «Когда же настал день, призвал [Иисус] учеников Своих и избрал из них двенадцать, которых и наименовал Апостолами: Симона, которого и назвал Петром, и Андрея, брата его, Иакова и Иоанна, Филиппа и Варфоломея, Матфея и Фому, Иакова Алфеева и Симона, прозываемого Зилотом, Иуду Иаковлева и Иуду Искариота, который потом сделался предателем» (Лук. 6:13–16; вариант с евр. наименованием зилота – кананитсодержится в Евангелие от Матфея: «Двенадцати же Апостолов имена суть сии: первый Симон, называемый Петром, и Андрей, брат его, Иаков Зеведеев и Иоанн, брат его, Филипп и Варфоломей, Фома и Матфей мытарь, Иаков Алфеев и Леввей, прозванный Фаддеев, Симон Кананит и Иуда Искариот, который и предал Его», см. Мат. 10:2–3). С особой жестокостью поступали зилоты с иудеями-еретиками, или, как они называются в научной литературе, иудеохристианами (христианство, напомню, в своем изначальном виде возникло в недрах иудаизма как ересь и предназначалось исключительно для иудеев. Это прямо вытекает из указания Христа, пославшего Своих апостолов в народ проповедовать Свое учение: Он «заповедал им, говоря: на путь к язычникам не ходите и в город Самарянский не входите; а идите наипаче к погибшим овцам дома Израилева», см. Мат. 10:5–6). Иудеохристиане стали первыми, кто поверил в реальность прихода на землю Мессии, чтобы спасти мир, как поверили они и в то, что Христос взял на себя все грехи людей, приняв мученическую смерть на кресте, затем воскрес и вознесся на небо к Своему Отцу. Против этих-то иудеохристиан и ополчились в первую очередь зилоты, хотя «еретики» продолжали верить во всемогущество Бога иудеев, регулярно посещали синагоги и отправляли все предписанные законом обряды, в т. ч. празднование субботы и обрезание. Зилотом, вне всякого сомнения, был Савл – будущий апостол Павел, 14 посланий которого вошли в канон Нового завета. Вот его собственное признание: «И я думал, что мне должно много действовать против имени Иисуса Назорея; это я и делал в Иерусалиме: получив власть от первосвященников, я многих святых заключал в темницы и, когда убивали их, я подавал на то голос; и по всем синагогам я многократно мучил их и принуждал хулить Иисуса и, в чрезмерной против них ярости, преследовал даже и в чужих городах» (Деян. 26:9-11). Уверов в Христа, он изменил свое евр. имя Савл на греко-рим. Павел, что означает «маленький» (писатель II в. н. э. Онисифор, познакомившийся с Павлом незадолго до его казни в Риме, следующим образом обрисовал его внешность: «Человек довольно невысокого роста, лысый, с кривыми ногами, сходящимися бровями и большим красным и несколько кривым носом»). Тогда-то Савл-Павел из союзника зилотов превратился в их злейшего врага, подлежащего физическому уничтожению: «Некоторые Иудеи сделали умысел и заклялись не есть и не пить, доколе не убьют Павла; было же более сорока сделавших такое заклятие; они, пришедши к первосвященникам и старейшинам, сказали: мы клятвою заклялись не есть ничего, пока не убьем Павла» (Деян. 23:12–14). Из среды зилотов вышли т. н. сикарии (от лат. sica– «кинжал») – наиболее воинственно и националистически настроенные иудеи, никогда не расстававшиеся с оружием. К сикариям принадлежал, можно предположить, апостол Петр. Вопреки учению Христа – «любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас» (Мат. 5:44), – Петр, когда пришли арестовать Христа, выхватил меч «и ударил первосвященнического раба и отсек ему правое ухо» (Иоанн. 18:10). Вероятно, он набросился бы и на других воинов и служителей первосвященника, если бы его не удержал Христос: «Вложи меч в ножны; неужели Мне не пить чаши, которую дал Мне Отец?» (Иоанн. 18:11). Именно сикарии, разделявшие лозунг зилотов «никакого царя, кроме Бога», стали инициаторами свержения Ирода не только как царя, но и как нееврея, что стало причиной многих социальных потрясений в Иудее, о чем у нас пойдет ниже речь.
(обратно)149
Иоппия– древнее название гор. Яффа, упоминаемого в Библии: «И встал Иона, чтобы бежать в Фарсис от лица Господня, и пришел в Иоппию и нашел корабль, отправлявшийся в Фарсис, отдал плату за провоз и вошел в него…» (Ион. 1:3). Иоппия была единственной гаванью Иудеи на берегу Средиземного моря, остатки которой сохранились поныне. Во времена становления христианства апостол Петр воскресил в этом городе девушку по имени Тавифа (в пер. с евр. Серна), о чем «сделалось известным по всей Иоппии» (Деян. 9:42), и Петру пришлось задержаться в городе, поселившись в доме некоего кожевника Симона (Деян. 9:43; дом этот, или то, что называют домом Симона, до сих пор показывают туристам). Иоппия-Яффа славилась своими садами, окружавшими город; в начале ХХ в. на землях, где располагались Яффа и соседняя с ней Лидда, был заложен гор. Тель-Авив, который быстро разросся, в результате чего Яффа, как и Лидда, превратились в его пригороды.
(обратно)150
«Черепаха»– составная часть военного искусства, когда сквозь проломы в крепостных стенах в город устремляются атакующие воины, устроив над своими головами, впереди и по бокам сплошную защиту из щитов.
(обратно)151
В «Иудейской войне» Иосифа Флавия читаем: «После взятия Иоппии он (Ирод. – В.М.) поспешил к Масаде для освобождения своего семейства. Добрая память о его отце, его личная слава, признательность за оказанные ими обоими благодеяния – все это привлекло к нему местных жителей, но бóльшая часть людей присоединилась к нему вследствие сложившегося у них убеждения в том, что престол достанется Ироду; таким образом вокруг него образовалось отборное войско. Антигон хотя и преследовал его, устраивая засады в удобных местах, но вреда не причинил ему никакого, или самый незначительный. Как только Ирод освободил своих людей из Масады, что ему удалось очень легко… он двинулся к Иерусалиму. Войско Силона и многие из жителей города из страха перед его силами примкнули к нему». В этом фрагменте сомнения в достоверности вызывают два момента. Во-первых, Силону со своими когортами незачем было ни страшиться Ирода, ни примыкать к нему, поскольку Вентидий и Антоний приказалиему помогать союзнику Рима (двумя неделями ранее именно Ирод вызволил его из беды, а не наоборот). Во-вторых, жители Иерусалима, как мы увидим это далее, отнюдь не спешили присоединиться к Ироду и его смешанному войску, в рядах которого были не одни только евреи; если и не все иерусалимцы признали в Антигоне царя, как он того добивался, то в подавляющей своей части они признали в нем первосвященника, без которого набожные иудеи не могли помыслить и дня своего существования, пусть даже первосвященником его назначил Пакор.
(обратно)152
Авва– слово вавилонского происхождения, означающее «отец». Употреблялось чаще всего детьми в значении «папочка». Исконно евр. слово ав, также означающее «отец», имело более расширенный смысл и относилось не только к родному отцу, но и к предкам, старейшинам, учителям, советникам, правителям и т. д.
(обратно)153
Ирод сдержит данное себе слово. У того же Иосифа Флавия читаем: «…Царь Ирод потратил много труда, чтобы привести ее (крепость. – В.М.) в благоустроенный вид. Всю вершину на семи стадиях он обвел стеной, построенной из белого камня и имевшей двенадцать локтей высоты и восемь локтей ширины; на ней были возведены тридцать семь башен, каждая из которых достигала пятидесяти локтей высоты; с этих башен можно было проходить в жилые дома, пристроенные к внутренней стороне стены по всей ее длине… У западного входа под стеной, окружавшей вершину, он воздвиг дворец с фасадом, обращенным на север, с чрезвычайно высокими и крепкими стенами и четырьмя башнями на углах, шестидесяти локтей высоты каждая. Внутренняя отделка комнат, галерей и бань была разнообразна и великолепна; каменные колонны были все цельные; стены и полы в комнатах были выложены мозаикой. Во всех жилых помещениях наверху, во дворце и перед стеной он приказал вырубить в скалах много больших цистерн, устроив их таким образом, чтобы они могли давать такой же обильный запас воды, какой могут доставлять источники».
(обратно)154
Онагр– шумерское слово, заимствованное греками и римлянами и означавшее «дикий осел». Шумеры стали первыми, кто еще в III тысячелетии приручил это животное, и одомашненный осел стал с тех пор широко использоваться на Востоке для верховой езды и как тягловое животное, потеснив верблюда. Римляне считали ослов животным бедняков и использовали их исключительно для выведения более сильных и выносливых мулов, скрещивая самца онагра с кобылой, и лошаков, скрещивая ослиц с жеребцами. «Онаграми» за простоту устройства и высокую эффективность при штурме крепостей были названы метательные орудия, позволявшие стрелять камнями весом до 10 кг на расстояние 300 и более м.
(обратно)155
Демагог– в буквальном переводе с греч. означает «вождь народа». Так назывались в Афинах неимущие и не занимавшие никаких государственных должностей политические деятели, которые, опираясь лишь на свои ораторские способности, действовали в интересах народа. В пору утраты Грецией самостоятельности и падения демократии, понятие «демагог» обрело негативное значение. Провокатор– любой свободнорожденный гражданин Рима, имевший право на провокацию, т. е. публичную апелляцию к народу с тем, чтобы оспорить справедливость вынесенного в отношении него консулом или претором приговора. Правом на провокацию нередко пользовались лица, которые благодаря своему красноречию доказывали народу свою невиновность и тем самым находившие в его лице своих защитников. Называя Ирода «демагогом» и «провокатором», Антигон обращает внимание Силона на то, что безродный Ирод является сторонником греческих, а не римских законов, и предлагая кандидатуру Аристовула в качестве царя Иудеи действует исключительно в своих корыстных интересах.
(обратно)156
Свинья– по представлениям иудеев нечистое животное, запрещенное к употреблению в пищу. На этот счет в Библии содержится прямое указание: «Всякий скот, у которого копыта раздвоены и на обоих копытах глубокий разрез, и который скот жует жвачку, тот ешьте. Только сих не ешьте:.. свиньи, потому что копыта у ней раздвоены, но не жует жвачки: нечиста она для вас; не ешьте мяса их, и к трупам их не прикасайтесь» (Втор. 14:6–8). Объяснение этому запрету, по-видимому, следует искать в давней истории. Предки евреев были пастушескими племенами, населявшими пустынные земли; в поисках пастбищ им приходилось совершать со своими стадами дальние переходы, а свиньи не приспособлены к таким переходам. Между тем оседлые племена, жившие по соседству с евреями, разводили свиней. С возникновением и распространением среди евреев иудаизма эти племена стали считаться языческими, отверженными Богом, от которых следует держаться подальше, чтобы не навлечь на себя гнев Всевышнего: «Те, которые освящают и очищают себя в рощах, один за другим, едят свиное мясо и мерзость и мышей, – все погибнут, говорит Господь» (Ис. 66:17). Перейдя к оседлому образу жизни, евреи, возведя свою самобытность в культ самопоклонения и самопочитания, стали особенно ревниво и демонстративно подчеркивать свою непохожесть на другие народы не только в принципиальных вопросах веры, но и в мелочах. Так, свинья стала считаться настолько грязным животным, что только в нее и может вселиться бес, от чего заведомо защищены овцы, тельцы и другие травоядные животные. Отголоски этой подчеркнутой отстраненности от соседей-язычников и всего их образа жизни можно найти в рассказе о двух бесноватых из Гергесинской страны, располагавшейся в Галилее на западном берегу Генисаретского озера (в евангелиях от Марка и Луки страна эта называется Гадаринской и речь в них идет не о двух, а об одном бесноватом, см. Мар. 5:1-13 и Лук. 8:26–33). О двух бесноватых повествует евангелист Матфей: «И когда Он (Иисус Христос. – В.М.) прибыл на другой берег в страну Гергесинскую, Его встретили два бесноватые, вышедшие из гробов, весьма свирепые, так что никто не смел проходить тем путем. И вот, они закричали: чтó Тебе до нас, Иисус, Сын Божий? пришел Ты сюда прежде времени мучить нас. Вдали же от них паслось большое стадо свиней. И бесы просили Его: если выгонишь нас, то пошли нас в стадо свиней. И Он сказал им: идите. И они вышедши пошли в стадо свиное. И вот, все стадо свиней бросилось с крутизны в море и погибло в воде» (Мат. 8:28–32).
(обратно)157
Миндаль– евр. шакед, что значит «бодрствующий». Одно из самых распространенных в Иудее и во всей Западной Азии растений. Начинает цвести раньше всех других деревьев, когда на ветвях его еще не распустились листья. Известны случаи, когда миндаль зацветал уже в конце января, а в марте давал первые плоды. Миндальные орехи почитались как одно из самых лакомых и дорогих угощений. Иаков, отправляя своих сыновей в Египет к проданному в рабство брату их Иосифу, наказывает: «Возьмите с собою плодов земли сей, и отнесите в дар тому человеку (Иосифу. – В.М.) несколько бальзама и несколько меду, стираксы (т. е. ароматической смолы, собираемой из надрезов, сделанных на коре тропического растения стиракса, или бензоя, и употребляемой сегодня в парфюмерии и медицине. – В.М.) и ладану, фисташков и миндальных орехов» (Быт. 43:11). Миндаль олицетворял для евреев старость (из-за белизны цветов) и мудрость. Из миндального дерева был сделан жезл Аарона, который, в отличие от жезлов начальников всех других израильских колен, в течение одной ночи «расцвел, пустил почки, дал цвет и принес миндали» (Чис. 17:8). Жезл Аарона, как особо почитаемая святыня, хранился в ковчеге завета (евр. название этого ковчега арон, что созвучно имени Аарон, избранного Богом в священники, и что переводится на русск. яз. просто как «ящик»).
(обратно)158
Лев. 26:31–33.
(обратно)159
Гиллель– вавилонский еврей, жил во второй половине I в. до н. э. – начале I в. н. э. Основатель одной из самых известных религиозных школ древности, оказавшей заметное влияние на возникновение в недрах иудаизма христианства как религии не одних только евреев, но всех людей вне зависимости от их национальной принадлежности. Первым из раввинов отказался от платы, взимаемой с учеников за обучение в его школе. Занятия проводил чаще всего во дворе своего дома, реже – в синагогах. С установлением мира в Иудее во времена Ирода Великого переехал из Вавилона в Иерусалим. Зарабатывал себе на жизнь рубкой и продажей леса. Гиллелю принадлежат многие мудрые высказывания, вошедшие в золотой фонд мировой мысли: «Не суди твоего ближнего, пока ты не в его положении», «Не говори: я обращусь к Богу, когда у меня будет свободное время; может быть, этого свободного времени у тебя никогда не будет», «Повсюду, где нет человека, будь ты человеком». Сохранилась легенда, согласно которой однажды к другому знаменитому раввину древности Шаммаю пришел язычник и пообещал стать прозелитом, если тот научит его всему закону, встав на одну ногу (т. е. бегло, изложив самую суть закона, не вдаваясь в детали). Шаммай рассердился и выгнал язычника вон. Тогда тот отправился к Гиллелю с той же просьбой. Гиллель любезно принял язычника, встал на одну ногу и сказал: «Не делай ближнему твоему того, чего не желаешь себе. Это весь закон, все остальное только объяснение. Иди и исполняй». Гиллель прожил долгую жизнь и умер ок. 10 г. н. э. в возрасте 120 лет.
(обратно)160
Гиппократ– греческий врач V–IV вв. до н. э., прародителем которого считался бог-целитель Асклепий. Считал, что болезни ниспосланы на людей не богами, а обусловлены влиянием окружающей среды и климатическими особенностями той или иной местности (работа «О воздухе, воде и местности»). Разработал учение, согласно которому здоровье человека покоится на правильном сочетании четырех телесных соков – крови, мокроты, желтой и черной желчи (работа «О природе человека»). Видел свою задачу в том, чтобы лечить больного естественными целебными средствами, обеспечивая выздоровление мобилизацией всех сил организма, и соблюдением диеты. В случаях необратимых мышечных и костных болезней применял хирургическое вмешательство. Разработал этику поведения врача в отношениях с пациентами («не навреди»), которая нашла отражение в т. н. клятве Гиппократа.
(обратно)161
Платон(V–IV вв. до н. э.) – один из выдающихся греческих мыслителей, основоположник философии объективного идеализма. Потрясенный судом и казнью своего учителя Сократа, приложил все усилия к тому, чтобы продолжить его дело о нравственном совершенствовании человека и его взаимоотношениях с государством. Учение Платона об идеальном государстве прямо вытекает из учения Сократа о нравственности. Чтобы исключить из общества корыстолюбие и алчность, Платон первым предложил ликвидировать частную собственность. В одном из вариантов идеального государства допускал возможность обобществления жен, а заботу о воспитании детей вне зависимости от их социального происхождения возложить на государство и лишь по достижении ими совершеннолетия и раскрывшихся в них способностях и наклонностях определить их место в общественной жизни. Попытался реализовать свои идеи на практике в Сицилии в гор. Сиракузы, но безуспешно. Разочаровавшись в стремлении людей добровольно стать добродетельными и достичь нравственного совершенства, к концу жизни предложил новую модель идеального государства. В работе «Законы», предвосхитившей возникновение римского права, развил идею построения государства на полицейско-казарменном принципе насильственного принуждения людей стать «счастливыми».
(обратно)162
Сократ (V–IV вв. до н. э.) – выдающийся греческий философ, сын камнереза и повивальной бабки. Участник Пелопонесских войн, которые свыше двадцати лет велись между демократическими Афинами и олигархической Спартой. Спарта при помощи Персии добилась превосходства над Афинами и нанесла грекам поражение в морском сражении при Эгоспотамах на побережье Дарданелл. После этого поражения Греция оказалась политически раздробленной, подпав вначале под власть персов, а после побед, одержанных Александром Македонским над Персией, под власть Македонии. Сократ оказался единственным, кто выступил против смертных приговоров, вынесенных греческим военачальникам за поражение от Спарты. С этого времени началась его деятельность как философа, заложившего основы этики, вылившейся при Аристотеле в самостоятельную философскую дисциплину. Сократ не оставил после себя письменных трудов. Проводя большую часть времени на площадях и в палестрах аристократов, куда его приглашали (в частности, будущий государственный деятель и полководец Алкивиад был воспитанником Сократа), он вступал в беседы с любым, кто желал с ним поговорить. Первым дал определение таким понятиям, как благо, мудрость, справедливость. Переосмыслил древнее изречение «Познай самого себя», высеченное на колонне при входе в храм Аполлона в Дельфах, как призыв к человеку познать свою нравственную сущность и осуществить ее в конкретных делах для достижения высшего счастья («Познай, кто ты есть, и стань им» и «Добродетель есть знание»). В книге Диогена Лаэртия (первая половина III в. н. э.) «Жизни и мнения прославленных философов вместе с сокращенным сводом воззрений каждой фелософской школы» – единственной биографической истории древнегреческой философии, дошедшей до нас, – содержится множество высказываний, приписываемых Сократу. Среди них такие: «Часто он говаривал, глядя на множество рыночных товаров: сколько же есть вещей, без которых можно жить!»; «Он говорил, что есть одно только благо – знание, и одно только зло – невежество. Богатство и знатность не приносят никакого достоинства»; «Он говорил, что хорошее начало не мелочь, хотя и начинается с мелочи; что он знает только то, что ничего не знает». Исходя из постулата, что человек, знающий, что такое добро, не станет поступать дурно, Сократ заявлял, что власть в государстве должны принадлежать нравственным и справедливым людям. Образ Сократа, нарисованный Платоном и другими философами древности, вошел в сознание последующих поколений как высочайший пример кристально честного и независимого мыслителя, ставящего превыше всего искание истины. Отсюда становится понятной популярность Сократа и др. греческих философов в древнем мире. Иудея в этом отношении не составляла исключения (особенно вопросами философии интересовались евреи, проживавшие в диаспорах). Влияние греческих философов на дальнейшее развитие философии неоспоримо. В частности, оно сказалось и на работах иудейско-эллинистического философа Филона Александрийского (последняя четверть I в. до н. э. – середина I в. н. э.), разработавшего учение о логосе не просто как слове(что и означает в букв. пер. с греч. яз. термин «логос»), а образе Бога, своего рода по средникемежду трансцендентной сущностью Бога и сотворенном Им мире. Для христиан таким логосом стал Иисус Христос – воплощенное и вочеловеченное Слово жизни, – Который принес людям Откровение и Сам стал этим Откровением.
(обратно)163
Манефон– египетский жрец и историк, живший в III в. до н. э. в царствование Птолемея Филадельфа. Писал на греческом яз. Автор «Истории Египта», охватившей период с ХХХ в. до н. э. до 342 г. до н. э., когда Александр Македонский, завоевав Египет, объявил себя преемником фараонов, и началась эллинизация страны. Работа Манефона состояла из трех книг, из которых вторая охватывала период с 2171 по 1660 гг. до н. э. – время раскола Египта на мелкие, враждовавшие между собой княжества и установления власти над страной кочующих семитских племен, известных под именем гиксосов, что означает «цари-пастухи» (по-егип. шасу– «бедуины», «грабители»). Сама «История Египта» не сохранилась и известна нам по отрывкам, которые приводят в своих работах Иосиф Флавий, Евсевий и Георгий Синкелл. Иосиф Флавий, как и Манефон, отождествлял гиксосов с евреями. Вероятно, это все-таки были не евреи, которые как народ в XXII в. до н. э. еще не существовали, а, скорее всего, финикийцы. Во всяком случае, вопрос о том, к какому конкретно семитскому племени принадлежали гиксосы, остается открытым. Известно, например, что уже Авраам, живший на рубеже XXI–XX вв. и считающийся праотцом арабов, евреев и множества других народов, праматерями которых были, соответственно, Агарь, Сарра и Хеттура, назван в Библии евреем (см. Быт. 14:13). Между тем самоназвание евреев ивримозначает «пришельцы», «выходцы из другой страны», под которой, следуя историческим фактам, нужно понимать Месопотамию, заселенную еще в эпоху неолита шумерами и позже завоеванную семитскими племенами халдеями, основавшими Вавилонское царство. Именно там, в гор. Ур, расположенном на западном берегу р. Евфрат неподалеку от Персидского залива, и родился Авраам, где жил до 70-летнего возраста, из Ура переселился в Харран, расположенный в северо-западной части Месопотамии, а из Харрана начались его странствия по Ханаану и Египту, где он разбогател, и вернулся со своими стадами в Ханаан. Если строго следовать букве Библии, то Авраам стал первым, кто уверовал в Единого Бога, став, т. о., основателем иудаизма. Однако говорить о возникновении евреев как этноса в то время еще не приходилось: это случится значительно позже, когда его внук Иосиф будет продан братьями в рабство в Египет, где удостоится титула Цафнаф-панеах, что означает «Спаситель мира», женится на дочери главного жреца Патифара, примет своих братьев, даст им в управление самую плодородную землю Гесем в северо-восточной части страны между Пелузийским рукавом Нила и Синайской пустыней, и уже от них, этих 12-и наследников Иакова, в Египте же произойдет еврейский народ, так что истинной исторической родиной евреев следует считать не Палестину, а Египет. Ко времени исхода евреев из Египта, датируемого приблизительно 1450 г. до н. э. (американский хронолог Библии Э. У. Фолстих из университета Спенсера, штат Айова, рассчитал точную дату исхода – 3 апреля 1462 г. до н. э.), численность евреев достигнет 600 тысяч человек. Сопоставление двух дат – изгнание гиксосов из Египта в 1660 г. до н. э. и исход евреев из страны в интервале между 1462–1450 гг. до н. э. не дает нам оснований считать, что гиксосы и евреи один и тот же народ. Если же предположить, что правы и Манефон, и Иосиф Флавий, отождествляющие гиксосов с евреями, то, по-видимому, сыновья Иакова продали Иосифа в рабство в Египет при правлении там гиксосов, а гиксосы, не видя никакой разности между собой и Иосифом, сделали его фактическим правителем Египта. Мы знаем, что одного из царей-пастухов, правивших Египтом в то самое время, когда там оказался Иосиф, звали Апофисом. Обнаружив в Иосифе соплеменника и человека от природы явно одаренного, Апофис сделал его своей правой рукой, надев ему на шею золотую цепь и наделив царскими полномочиями (Быт. 41:45). Эта предположение представляется более реалистичным, чем библейский рассказ о том, что Апофис возвысил Иосифа потому, что тот растолковал ему значение его сна о семи коровах тучных и семи коровах тощих (Быт. 41:17–32). Версия, предлагаемая мною, снимает противоречие между Манефоном, изображающим евреев как гикосов-шасу, суть «бандитов», и Иосифом Флавием, рисующим евреев как «пленников» египтян (известно, что у евреев были рабы не только из числа иноземцев, но и соплеменники; разница в положении рабов-иноземцев и рабов-евреев состояла в том, что, по закону Моисея, первые становились полной собственностью своих господ и переходили, как все прочее имущество, по наследству для «вечного владения», см. Лев. 25:44–46, а вторые могли быть выкуплены родственниками или, если родственники были неимущими, после шестилетнего пребывания в рабстве снова становились свободными без выкупа, см. Втор. 21:2). Вот что сказано по этому поводу у Иосифа Флавия в работе «Против Апиона»: «В другой книге своей «Египетской истории» Манефон замечает, что “этот же народ так называемых пастухов в их священных книгах называется пленниками”. И это совершенно верно, потому что у наших отдаленных предков пастушество составляло обычное занятие и они, ведя жизнь номадов (от греч nomads– «кочевники». В. М.), по справедливости называются пастухами. Пленниками они также не без основания называются египтянами, так как наш предок Иосиф сам заявил египетскому царю, что он пленник, и впоследствии, с согласия царя, вызвал в Египет своих братьев». То обстоятельство, что позднейшие авторы назвали Манефона «первым антисемитом», в данном случае не имеет к существу его работы «История Египта» ни малейшего отношения. Представляется справедливым комментарий историка еврейского народа Я. И. Израильсона, сделанный к работе Манефона: «Им, очевидно, руководило оскорбленное национальное самолюбие, которое не могло примириться с мыслью, что могущественный некогда Египет должен был выпустить находившихся под его властью евреев на свободу, испытав при этом немало унижений» (см. в этой связи т. н. казни египетские, описанные в кн. Исход, главы 7-12).
(обратно)164
Иер. 7:18.
(обратно)165
Запрет употреблять в пищу козленка, сваренного в молоке его матери, трижды упоминаемый в Библии (см. Исх. 23:19, там же, 34:26, Втор. 14:21), прямо проистекает из древнего языческого обряда, участники которого изображали верховного бога Эла и оплодотворяемую им богиню любви и плодородия Астарту.
(обратно)166
Этот варварский обычай долго сохранялся в среде древних семитских народов, в т. ч. евреев. Медный полый истукан с собачьей головой и протянутыми человеческими руками, прозванный Молохом, раскалялся дровами изнутри докрасна и на его руки бросали детей, крик которых заглушали звуки громкой музыки. Несмотря на запрет, содержащийся в Библии: «Из детей твоих не отдавай на служение Молоху, и не бесчести имени Бога твоего» (Лев. 18:21), – обычай этот сохранялся и во времена Соломона: «Тогда построил Соломон капище Хамосу, мерзости Маовитской, на горе, которая пред Иерусалимом, и Молоху, мерзости Амонитской» (3 Цар. 11:7). Последующие цари иудейские также проводили «сына своего и дочери своей через огонь Молоху» (4 Цар. 23:10). Отголоски этого обычая слышны в повелении Господа Аврааму принести в жертву всесожжения своего сына Исаака, дабы удостовериться в не рассуждающей силе его веры (Быт. 22:1-13), равно как в требовании, явно несущем на себе отпечаток язычества: «Не медли приносить Мне начатки от гумна твоего и от точила твоего; отдавай Мне первенцев из сынов твоих» (Исх. 22:29). Следы язычества можно обнаружить и в следующих словах, приписываемых Господу Богу: «Три раза в году весь мужеский пол должен являться пред лице Господа, Бога твоего, на место, которое изберет Он: в праздник опресноков, в праздник седмиц и в праздник кущей; и никто не должен являться пред лице Господа с пустыми руками» (Втор. 16:16). Естественное чувство благодарности религиозного человека за милость, проявленную к нему Богом, возникшее еще в языческие времена, в пору становления иудаизма превратилось в тяжкую повинность, которая вылилась в конце концов в горький плач неимущего, которому остается разве что дать привередливому Предвечному единственное дорогое, что у него еще остается, – собственного ребенка, как этого и требовал от него некогда Молох: «С чем предстать мне пред Господом, преклониться пред Богом небесным? Предстать ли пред Ним со всесожжениями, с тельцами однолетними? Но можно ли угодить Господу тысячами овнов или неисчетными потоками елея? Разве дам Ему первенца моего за преступление мое и плод чрева моего – за грех души моей?» (Мих. 6:6–7).
(обратно)167
Суббота– евр. шабат, что означает «покой» (отсюда русск. шабаш, т. е. «ничегонеделанье»). Деление месяцев на недели, а недели на шесть рабочих и один, седьмой, праздничный день, заимствован евреями у вавилонян еще в языческие времена. Греки делили месяцы на декады (от греч. deka– «десять»), римляне на календы, ноны и иды (соответственно от лат. calendae– «первый день месяца», nonae– «девятый», idus– «середина»). Да и сами месяцы до реформы календаря Цезарем в 47 г. до н. э. не имели названий и определенного числа закрепленных за каждым месяцем дней (напр., вольноотпущенник Цезаря Лицин, галл по происхождению, получив в управление в качестве наместника свою родину, разделил год на 14 месяцев ради увеличения податей, которые взимались ежемесячно). Современная семидневная неделя, при которой отсчет дней не зависит от начала года и месяцев, восходит к иудейской традиции, причем на Западе, как и в древней Иудее, первым днем недели считается воскресенье, а у нас понедельник. Читаем в Библии: «И совершил Бог к седьмому дню дела Свои, которые Он делал, и почил в день седьмый от всех дел Своих, которые делал. И благословил Бог седьмый день, и освятил его, ибо в оный почил от всех дел Своих, которые Бог творил и созидал» (Быт. 2:2–3).
(обратно)168
Здесь имеется в виду рассказ, приведенный в Библии: «Когда сыны Израилевы были в пустыне, нашли человека, собиравшего дрова в день субботы. И привели его нашедшие его собирающим дрова к Моисею и Аарону и ко всему обществу. И посадили его под стражу, потому что не было еще определено, чтó должно с ним сделать. И сказал Господь Моисею: должен умереть человек сей; пусть побьет его камнями все общество вне стана. И вывело его все общество вон из стана, и побили его камнями, и он умер, как повелел Господь Моисею» (Чис. 15:32–36).
(обратно)169
Попытки построить идеальное государство предпринимались в древности и другими философами, сторонниками сократовских идей о нравственности. Так, в частности, основатель стоической школы Зенон(IV–III вв. до н. э.) описал идеальное государство, в котором равны все – рабы и господа, греки и варвары, мужчины и женщины. Работы древнегреческих и римских философов были, несомненно, хорошо известны в Иудее, испытавшей на себе значительное влияние Древней Греции и Рима, и сыграли определенную роль в формировании в недрах иудаизма христианства.
(обратно)170
Иосиф– евр. Йосефозначает «он собирает и он добавляет».
(обратно)171
Эм– евр. «мать». Закон ставил мать в правах над детьми в равное положение с отцом и требовал от иудеев одинаково почтительного к ним отношения и почитания, что нашло отражение в десяти заповедях: «Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе» (Исх. 20:12). Правило это приравнивалось к заповеди о неукоснительном соблюдении субботы: «Бойтесь каждый матери своей и отца своего, и субботы Мои храните» (Лев. 19:3). Нарушитель закона подлежал проклятию: «Проклят злословящий отца своего или матерь свою» (Втор. 27:16). В символическом значении слово эм(«матерь») употреблялось в отношение Иерусалима как столицы государства («Ты хочешь уничтожить город, и притом мать городов в Израиле: для чего тебе разрушать наследие Господне?», см. 2 Цар. 20:19), а предшествующее поколение – мать по отношению к потомкам, которые обязаны чтить ее, чтобы не лишиться всего, что дано им в наследство: «В большом стыде будет мать ваша, покраснеет родившая вас; вот, будущность тех народов – пустыня, сухая земля и степь» (Иер. 50:12).
(обратно)172
Нисан– первый месяц еврейского религиозного календаря (седьмой месяц гражданского календаря), соответствующий марту-апрелю григорианского календаря (другое его название – месяц авива, что означает «колосья»). Особо почитаемый у иудеев месяц, с которым связано следующее наставление Предвечного: «И когда введет тебя Господь в землю Ханаанскую, как Он клялся тебе и отцам твоим, и даст ее тебе: отделяй Господу все, разверзающее ложесна (т. е. «матку», «материнское чрево»; слово, заимствованное из греч. lochos– «постель», «супружеское ложе», «любовное наслаждение». – В. М.); и все первородное из скота, какой у тебя будет, мужеского пола, – Господу. А всякого из ослов, разверзающего, заменяй агнцем; а если не заменишь, выкупи его; и каждого первенца человеческого из сынов твоих выкупай. И когда после спросит тебя сын твой, говоря: ”чтó это?”, то скажи ему: “рукою крепкою вывел нас Господь из Египта, из дома рабства. Ибо, когда фараон упорствовал отпустить нас, Господь умертвил всех первенцев в земле Египетской, от первенца человеческого до первенца из скота: посему я приношу в жертву Господу все, разверзающее ложесна, мужеского пола, а всякого первенца из сынов моих выкупаю. И да будет это знáком на руке твоей и вместо повязки над глазами твоими; ибо рукою крепкою Господь вывел нас из Египта”» (Исх. 13:11–16).
(обратно)173
Пасха– евр. Песах, производное от глагола пасах, что означает «перепрыгнуть». Евреям заповедано было отмечать этот праздник прыжком. Откуда взялся этот обычай? Рабби Менахем Мендл Шнеерсон пишет: «Евреи жили в Египте поколениями. И так “прижились” к этому месту и даже к собственному рабству, что многие просто-напросто не хотели выходить на свободу. Надо вспомнить о том, что в те времена Египет был не просто великой державой в экономическом отношении, но и являлся средоточием культуры Древнего мира. А еще – центром моральной распущенности, потому и назвала Тора это государство эрват аарец, срамным местом земли. Отсюда евреи должны были уйти на свободу – в пустыню, к подножию горы Синай, к дарованию Торы. Причем, перемена должна была произойти не в ходе многолетней эволюции, а в считанные дни. Превратиться из сытого раба в представителя Избранного народа, начать верить в единого Б-га и перестать воровать и убивать – это ли не Песах, это ли не прыжок через бездну?!» В иудейской традиции празднование Песаха связано с приведением жизни каждого еврея в соответствии с Божественным планом и ожиданием прихода Мошиаха (Мессии). М. М. Шнеерсон завершает свое поучение о Песахе словами: «Да будет воля Всевышнего на то, чтобы удостоились мы подлинного освобождения с приходом Мошиаха! Освобождения тела и освобождения еврейского духа!» В раннем христианстве, возникшем в недрах иудаизма, два этих начала – стремление к освобождению от «сытого рабства» и ожидание прихода Мессии – соединились в одном образе казненного (умерщвление греховной плоти) и воскресшего (духовно непорочного и потому бессмертного) Иисуса Христа. Этим, однако, отделение христианства от иудаизма не ограничилось: уже в первые века н. э. произошло очищение новой веры от национальной заскорузлости («освобождение еврейского духа») и национальной самоидентификации как Богоизбранного народа («превратиться из сыто-го раба в представителя Избранного народа»). В этом очищении интернационального христианства от еврейского национализма, на котором зиждется иудаизм, и состоит принципиальная разница между двумя родственными религиями. Потому-то в христианском богословии Пасха и называется «праздником праздников и торжеством из торжеств», который объединяет всех людей вне зависимости от их расовой и национальной принадлежности.
Есть еще одно не лишенное интереса объяснение происхождения праздника «прыжка». В глубокой древности основным занятием семитских племен, в том числе тех, от которых позже произошли евреи, было скотоводство. Стремясь задобрить духов природы и получить от них поддержку в хозяйственных заботах и нуждах, люди приносили им жертву из первого приплода скота. В природе не существует определенной даты, когда животные дают приплод, – это связано со многими привходящими обстоятельствами, в том числе климатическими особенностями той или иной местности, в которой оказывались со своими стадами кочевники. Отсюда «кочующая» дата празднования Пасхи, выпадающей каждый год на новые числа. Первый Вселенский собор, состоявшийся в 325 г. в гор. Никея в Вифинии (северо-западная область Малой Азии, расположенная между Мраморным и Черным морями) установил дату празднования Пасхи в первое воскресенье, «следующее за полнолунием, совпадающим с весенним равноденствием или бывающим после него», но ни в коем случае не допуская ее совпадения с иудейской Пасхой (дата православной Пасхи определяется по юлианскому календарю, католическая по григорианскому). Из иудейской Пасхи христиане унаследовали традицию выпечки куличей, восходящую к иудейской традиции выпекать на Пасху пресные лепешки – мацу, но категорически отказалась от принесения каких-либо кровавых жертв, и прежде всего ягнят – первенцев в стаде (для христиан агнец Божий – суть Иисус Христос, и заклание агнца в Пасху для христианина неслыханное кощунство, сопоставимое разве что с повторным убийством Христа). В иудейской же Пасхе ягненок рассматривается как главное жертвенное животное, который так и называется – «пасхальный агнец» (см. 2. Пар. 35:11: «И закололи пасхального агнца»). Существовал детально прописанный ритуал подготовки и проведения Пасхи, относящийся к периоду, когда евреи не вышли еще из Египта: «И сказал Господь Моисею и Аарону в земле Египетской, говоря: месяц сей да будет у вас началом месяцев; первым да будет он у вас между месяцами года. Скажите всему обществу Израильтян: в десятый день сего месяца пусть возьмут себе каждый одного агнца по семействам, по агнцу на семейство. А если семейство так мало, что не съест агнца, то пусть возьмет с соседом своим, ближайшим к дому своему, по числу душ: по той мере, сколько каждый съест, расчислитесь на агнца. Агнец у вас должен быть без порока, мужеского пола, однолетний; возьмите его от овец или коз. И пусть хранится он у вас до четырнадцатого дня сего месяца: тогда пусть заколет его все собрание общества Израильского вечером. И пусть возьмут от крови его и помажут на обоих косяках и на перекладине дверей в домах, где будут есть его. Пусть съедят мясо его в сию самую ночь, испеченное на огне; с пресным хлебом и с горькими травами пусть съедят его. Не ешьте от него недопеченного, или сваренного в воде, но ешьте испеченное на огне, голову с ногами и внутренностями. Не оставляйте от него до утра; но оставшееся от него до утра сожгите на огне. Ешьте же его так: пусть будут чресла ваши препоясаны, обувь ваша на ногах ваших и посохи ваши в руках ваших, и ешьте его с поспешностию; это Пасха Господня» (Исх. 12:1-11). Существовал даже устав Пасхи, в котором указывалась, кто вправе есть пасхального агнца, а кто нет (не допускался за пасхальный стол никто из необрезанных): «И сказал Господь Моисею и Аарону: вот устав Пасхи: никакой иноплеменник не должен есть ее. Поселенец и наемник не должен есть ее. В одном доме должно есть ее, не выносите мяса вон из дома, и костей ее не сокрушайте. Все общество Израиля должно совершать ее. Если же поселится у тебя пришлец, и захочет совершить Пасху Господню, то обрежь у него всех мужеского пола, и тогда пусть он приступит к совершению ее, и будет как природный житель земли; а никакой необрезанный не должен есть ее» (Исх. 12:43–48).
Ко всему сказанному о Пасхе остается добавить: жертвоприношение допускалось только в Египте в ходе подготовки к исходу, в скинии в течение 40-летнего странствия евреев по пустыни, а после завершения строительства Соломоном первого Храма в Иерусалиме – исключительно в этом Храме священниками во внутреннем дворе на специальном жертвеннике. Во всех других местах пребывания евреев, включая синагоги как в Иудее, так и в диаспорах, жертвоприношения не производились.
(обратно)174
Чис. 6:24–27
(обратно)175
1 Цар. 2:5.
(обратно)176
Имя Давид означает возлюбленный.
(обратно)177
Пр. 13:11.
(обратно)178
Лев. 26:12.
(обратно)179
Вт. 2:25.
(обратно)180
«Я говорю: слово царское храни, и это ради клятвы пред Богом. Не спеши уходить от лица его, и не упорствуй в худом деле; потому что он, чтó захочет, все может сделать. Где слово царя, там власть; и кто скажет ему: “что ты делаешь”?» (Еккл. 8:2–4).
(обратно)181
Ис. 3:12.
(обратно)182
Вино часто упоминается в Библии как один из лучших даров Предвечного наряду с другими дарами, данными иудеям в обмен за соблюдение ими заповедей Его и законов (так, напр., читаем: «Итак соблюдай заповеди и постановления и законы, которые сегодня заповедую тебе исполнять. И если вы будете слушать законы сии, и хранить и исполнять их, то Господь, Бог твой, будет хранить завет и милость к тебе, как Он клялся отцам твоим. И возлюбит тебя, и благословит тебя, и размножит тебя, и благословит плод чрева твоего и плод земли твоей, и хлеб твой, и вино твое, и елей твой, рождаемое от крупного скота твоего и от стада овец твоих, на той земле, которую Он клялся отцам твоим дать тебе. Благословен ты будешь больше всех народов; не будет ни бесплодного, ни бесплодной ни у тебя, ни в скоте твоем. И отдалит от тебя Господь всякую немощь, и никаких лютых болезней Египетских, которые ты знаешь, не наведет на тебя, но наведет их на всех, ненавидящих тебя. И истребишь все народы, которые Господь, Бог твой, дает тебе; да не пощадит их глаз твой; и не служи богам их: ибо это сеть для тебя», см. Втор. 7:11–16). Вино для древних иудеев представляло напиток, который употребляли даже дети (Иеремия рассказывает о своей скорби, когда гнев Господний, обрушившийся на Иерусалим за прегрешения народа, вылился в голод, лишив даже детей привычных им хлеба и вина: «Истощились от слез глаза мои, волнуется во мне внутренность моя, изливается на землю печень моя от гибели дщери народа моего, когда дети и грудные младенцы умирают от голода среди городских улиц. Матерям своим говорят они: “где хлеб и вино?” умирая, подобно раненым, на улицах городских, изливая души свои в лоно матерей своих», см. Плач Иер. 2:11–12). Иногда вино уподоблялось крови – единственной крови, которую иудеям разрешалось употреблять в пищу (на Тайной вечере Христос предложил апостолам отведать хлеба в качестве Своей плоти и выпить вина, как Свою кровь). В то же время чрезмерное употребление вина и более крепких напитков, вроде сикера (евр. шекар– разновидность самогона, изготавливавшегося из фиников и ячменя), осуждалось («Горе тем, которые с раннего утра ищут сикеры и до позднего вечера разгорячают себя вином», см. Ис. 5:11). Поэтому вино пили только разбавленным. Известно, что древние греки и римляне разбавляли вино водой в пропорции 1:3 или 2:5. По-видимому, те же пропорции соблюдались и в Иудее. В то же время были целые сообщества, которые вовсе не употребляли вина ни в каком виде (напр., ессеи).
(обратно)183
Запрет на служение двум господам, cуществовавший при Ироде, в пору становления христианства обрел силу закона, не допускавшего одновременного служения Богу и богатству ( маммоне), под которой чаще всего подразумевались деньги: «Никакой слуга не может служить двум господам: ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить; или одному станет усердствовать, а о другом не радеть. Не можете служить Богу и маммоне» (Лук. 16:13).
(обратно)184
Самосат(ныне Самсат на правом берегу Евфрата) – столица древнего княжества Коммагена, находившегося в северо-восточной части Сирии. Сохранившаяся до наших дней великолепная гробница князя Антиоха I (69–38 гг. до н. э.) свидетельствует о том, что и после включения Коммагены в состав Сирии, превращенную в крупнейшую восточную провинцию Рима, традиции древнегреческой архитектуры и искусства продолжали оставаться здесь доминирующими.
(обратно)185
Эммаус– деревня, известная нам по Новому завету как селение Еммаус, расположенное в 60-и стадиях (10 км) к северо-западу от Иерусалима. Здесь произошла встреча воскресшего Христа с двумя Своими не названными по именам учениками, которые не узнали Его и с которыми Он преломил хлеб (см. Лук. 24:13–31). В Эммаусе паломники, направлявшиеся в Иерусалимский Храм по дороге из Яффы, делали последнюю остановку. Предполагают, что Эммаус – это нынешняя деревня Кубебе с церковью, построенной на месте, где Христос остановился на ночлег со Своими учениками.
(обратно)186
По закону, вся добыча, захваченная на войне, делилась поровну между всеми участниками сражений, включая солдат, находившихся в обозе (см. в этой связи Ис. 9:3, Псал. 67:13 и 118:162, 1 Цар. 30:21 и дал.). Что касается Моисея и законов, установленных им в части ведения войны, то представление о них дает нам следующий рассказ, относящийся ко времени, когда его брат Аарон скончался и место первосвященника занял Елеазар: «И сказал Моисей народу, говоря: вооружите из себя людей на войну, чтоб они пошли против Мадианитян (арабское племя, ведущее начало от четвертого сына Авраама Мадиана, рожденного Хеттурой; из различных мест Библии видно, что это языческое племя было богато скотом, верблюдами и различными драгоценностями. – В. М.), совершить мщение Господне над Мадианитянами; по тысяче из колена, от всех колен Израилевых пошлите на войну. И выделено из тысяч Израилевых, по тысяче из колена, двенадцать тысяч вооруженных на войну. И послал их Моисей на войну, по тысяче из колена, их и Финееса, сына Елеазара, священника, на войну, и в руке его священные сосуды и трубы для тревоги. И пошли войною на Мадиама, как повелел Господь Моисею, и убили всех мужеского пола… А жен Мадиамских и детей их сыны Израилевы взяли в плен, и весь скот их, и все стада их и все имения их взяли в добычу, и все города их во владениях их и все селения их сожгли огнем. И взяли все захваченное и всю добычу, от человека до скота, и доставили пленных и добычу и захваченное к Моисею и к Елеазару священнику и к обществу сынов Израилевых, к стану, на равнины Моавитские, что у Иордана, против Иерихона. И вышли Моисей и Елеазар священник и все князья общества на встречу им из стана. И прогневался Моисей на военачальников, тысяченачальников и стоначальников, пришедших с войны, и сказал им Моисей: для чего вы оставили в живых всех женщин? Вот они, по совету Валаамову (он же Ваал– одно из главных божеств языческого мира, олицетворявший созидающие и разрушительные силы природы. – В. М.), были для сынов Израилевых поводом к отступлению от Господа в угождение Фегору (истукан, изображавший Ваала. – В. М.); за что и поражение было в обществе Господнем. Итак убейте всех детей мужеского пола, и всех женщин, познавших мужа на мужеском ложе, убейте; а всех детей женского пола, которые не познали мужеского ложа, оставьте в живых для себя… И сказал Елеазар священник воинам, ходившим на войну: вот постановление закона, который заповедал Господь Моисею: золото, серебро, медь, железо, олово и свинец, и все, чтó проходит через огонь, проведите через огонь, чтоб оно очистилось, а кроме того и очистительною водою должно очистить; все же, что не проходит через огонь, проведите через воду. И одежды ваши вымойте в седьмый день, и очиститесь, и после того входите в стан. И сказал Господь Моисею, говоря: сочти добычу плена, от человека до скота, ты и Елеазар священник и начальники племен общества. И раздели добычу пополам между воевавшими, ходившими на войну, и между всем обществом» (Чис. 31:3-27).
(обратно)187
Рим с самого возвышения благосклонно относился к Иудее, уважая стремление ее народа к свободе и не вмешиваясь в дела религии (Рим вообще терпимо относился ко всем религиям того времени, а многое из этих религий черпал сам, прежде всего из религии древних греков, давая их богам новые имена. Этим объясняется, почему Рим не только не запрещал представителям народов, проживавшим на его территории, а поощрял строительство в Риме храмов, синагог и др. культовых сооружений). Такое лояльное отношение к традициям, культурам и религиям других народов прямо отвечало главному принципу внешней политики древнего Рима: «dividi et impera» – «разделяй и властвуй». Нетерпимое, а часто враждебное отношение евреев, почитавших себя единственным избранным Богом народом, к соседним народам, исповедовавшим иную религию, было на руку римлянам: то, что они считали для себя необходимым на Ближнем Востоке, можно было осуществить не своим военным вмешательством, а силами евреев. Отсюда опора римлян на наиболее авторитетных евреев как внутри Иудеи, так и в местах массового их расселения, на которых можно было всецело положиться. Когда наследники Матаффии обнаружили явную заинтересованность в отделении Иудеи от Рима и стали бороться между собой за царскую корону, римляне назначили наместником Иудеи отца Ирода Антипатра, своего союзника, и в дальнейшем уже не вмешивались во внутреннюю политику, проводимую им. Так же они поступили и с Иродом, назначив его царем Иудеи, хотя не могли не понимать, что он является для евреев чужаком и они никогда не смирятся с тем, что ими правит выходец из презираемого ими народа. Они и после смерти Ирода продолжали ту же политику, освободив Иудею от прямого управления ею из Рима (в отличие, напр., от Египта и Сирии, которыми от имени императоров управляли наместники), назначая туда менее значимых по предоставленным им полномочиям прокураторов, в основную обязанность которых входил сбор податей и поддержание общественного порядка (напомню: девятым прокуратором Иудеи во времена правления Клавдия был назначен александрийский еврей Тиверий Александр – далеко не худший из тринадцати других прокураторов, которых знала Иудея со времени введения в этой стране прокураторства в 6 г. н. э. после антиримского восстания, поднятого Иудой Галилеяниным, и отмененного в 67 г. с началом Иудейской войны, по окончании которой Иудея лишилась всякой самостоятельности). История показывает: до тех пор, пока евреи не кичились своим преимуществом перед всеми остальными народа-ми, как Богоизбранная нация, к ним относились как к равным, предоставляя земли для заселения и уважительно относясь к их традициям и религии, с которыми они не желали расстаться и что воспринималось окружающими как их законное право; более того, из числа евреев произошли многие видные государственные, политические и военные деятели древности, и это не вызывало отторжения со стороны коренных народов стран их расселения (достаточно назвать в этой связи имена Иосифа, ставшего фактическим правителем Египта, Даниила, входившего в ближайшее окружение вавилонского царя Навуходоносора, назначенного одним из трех сатрапов над 120 губерниями и чуть было не подчинившего себе всю страну, полководцев в армии Клеопатры и командующих римскими легионами, участвовавшими в покорении Европы, Азии и Африки и т. д.; напомню также читателям, что еврейкой по матери была Поппея Сабина, третьим мужем которой стал император Нерон). Гонения на евреев начинались там и тогда, где и когда они самоизолировались, в то же время претендуя на ведущие роли во всех областях государственной, общественной и культурной жизни в странах своего проживания, и запрещали своим единоверцам смешанные браки, дабы «не испортить» чистоту «еврейской крови». Невероятно, на факт: и сегодня, спустя две тысячи лет, все еще культивируются подобные взгляды на еврейскую исключительность. Так, в газете «Еврейское слово» от 22–28 февраля за 2006 г., выходящей в Москве, опубликована статья жителя Израиля Аркадия Красильщикова «В круге третьем», основной пафос которой сводится к призыву «сохранить еврейское первородство». Автор, заявив, что верит «в цикличность истории еврейского народа», призывает евреев отказаться от ассимиляции, через которую прошли практически все народы мира, благодаря чему человечество существует по сей день, и называет попытки навязать эту ассимиляцию евреям основной причиной трагедий, пережитых народом за свою трехтысячелетнюю историю. Его возмутили слова не названного им профессора Израильского университета, который считает, что отказ древних евреев от усвоения уроков античности обеднил их и превратил в изгоев в современном мире. «Так евреями была упущена возможность слиться с мировой цивилизацией, приняв всю глубину, универсальность и всеобщность эллинской культуры», – сказал в одной из своих лекций этот не названный в статье профессор. А. Красильщиков противопоставляет этой концепции собственный взгляд на историю евреев, согласно которой (цитирую) «Две ужасные катастрофы за спиной жестоковыйного народа. Первая уничтожила половину потомков Иакова, остальных заставила покинуть свою землю. Вторая закончилась ужасом Холокоста и возможностью для гонимого народа начать очередной виток своей истории». Сегодня, по мнению автора, народ Израиля «находится в третьем круге». Поскольку мы в этой книге касаемся вопросов истории, небезынтересно послушать, как А. Красильщиков интерпретирует эту историю (продолжу цитирование). «Первая катастрофа напрямую связана с попыткой ассимиляции в эллинскую культуру, когда копиисту этой культуры – Древнему Риму – уже не оставалось ничего другого, кроме геноцида, полного уничтожения непокорного народа. Второй круг начат немецким Просвещением и продолжен лихорадочной попыткой ассимиляции: принятия и растворения в ценностях христианской культуры Европы. Закончилась эта очередная попытка “быть как все” душегубками Аушвица». Третий круг, по автору, состоит в попытках навязать евреям, которые не желают «быть как все», новую ассимиляцию, исходящую из определенных кругов как в самом Израиле, так и в Европе, где все еще значительны по численности еврейские диаспоры: «Армия местных социалистов активно продолжает политику Осло – политику, прежде всего рассчитанную на ту же ассимиляцию, отказ от принципов, по которым тысячелетия развивалась жизнь “избранного народа”». Так к чему же в итоге призывает автор «Еврейского слова»? К переселению евреев в некое мировое гетто, где никто не станет мешать им жить так, как хочется? Нет, как раз к жизни в гетто он не призывает. В таком случае к чему? Не поверите, читатель, но А. Красильщиков призывает своих единоверцев к борьбе с мировым злом, в которое погрузилось человечество. Мысль о том, что весь мир во зле лежит, не нова: это ощущали все древние народы и религии, ощущал это и Ирод, как это увидит читатель из дальнейшего повествования, об этом же прямо сказано в послании апостола Иоанна Богослова: «Мы знаем, что мы от Бога и что весь мир лежит во зле» (1 Иоанн, 5:19). Нужно бороться с эти злом? Нужно. Но, полагаю, совсем не теми средствами и не для осуществления тех целей, которые обозначил в своей статье автор «В круге третьем» (привожу последнюю цитату из его работы): «Один “прогрессивный” израильский поэт из ассимилянтов писал: “Я хочу умереть в своей постели”. Эти слова мне не раз повторяли наши социалисты. Сколько, мол, мы будем воевать и сражаться, пора пребывать в холе и неге, жить как все. Не получится. Противостояние злу – борьба вечная. Мало того – это долг еврейского народа перед Всевышним. Потомки Авраама обречены на эту борьбу. Евреи занимают те позиции, на которые они были поставлены четыре тысячи лет назад. Можно эвакуировать Синай, бежать из Ливана, ликвидировать свое присутствие в Газе, но потерю этих позиций можно приравнять к новому Холокосту. Риск дальнейшей ассимиляции смерти подобен».
В завершение этой сноски сошлюсь на книгу «Жизнь двенадцати цезарей» Гая Светония, для которого, по-видимому, не были секретом взгляды, подобные взглядам нашего современника А. Красильщикова, и который дает собственное объяснение причинам начала Иудейской войны: «На Востоке распространено было давнее и твердое убеждение, что судьбой назначено в эту пору выходцам из Иудеи завладеть миром. События показали, что относилось это к римскому императору; но иудеи, приняв предсказание на свой счет, возмутились, убили наместника, обратили в бегство даже консульского легата, явившегося из Сирии с подкреплениями, и отбили у него орла. Чтобы подавить восстание, требовалось большое войско и сильный полководец, которому можно было бы доверить такое дело без опасения; и Веспасиан оказался избран как человек испытанного усердия и нимало не опасный по скромности своего рода и имени».
(обратно)188
Родословная Хасмонеев:
Маттафия Хасмоней
______________
|
Иуда Маккавей _ Иоанн Гиркан
_______________
|
Аристовул Антигон _ Александр Яннай
| |
Александра ( жена) _ Александра ( жена)
____________
|
Гиркан 2 _ Аристовул
________________
| |
Александра ( дочь) _ Антигон
________________
Мариамна _ Аристовул
|
Ирод
_________
|
Александр _ Аристовул
(обратно)189
Щедрость Антония к друзьям и воинам стала уже в те давние времена притчей во языцех. Плутарх писал, что благодаря именно этой своей щедрости Антоний достиг вершин власти. Тот же Плутарх приводит следующий пример его расточительности. Однажды Антоний приказал своему управляющему выдать кому-то из друзей, оказавших ему мелкую услугу, двести пятьдесят тысяч драхм – сумму, которую римляне называли decies. Управляющий, желая наглядно показать Антонию громадность этой суммы, разложил ее по всему полу залы. Антоний, проходя через залу, поинтересовался, что это за деньги. Управляющий ответил, что это деньги, которые Антоний велел вручить своему другу. Антоний, оглядев пол, сплошь усыпанный золотом, сказал: «Вот как? А я думал, что decies гораздо больше. Это малость. Прибавь еще столько же».
(обратно)190
Мириаду древних греков означал число 10.000. Сто двадцать мириад, т. о., составляли сумму, равную 1.200.000 талантам.
(обратно)191
Жертва– евр. корван, в буквальном переводе означает «предназначенное в дар». По мнению иудеев, человек, приносящий дар Богу, тем самым примиряется с Ним и получает от Него прощение за совершенные прегрешения. Поэтому в дар Богу предназначалось лишь самое лучшее, самое дорогое, не содержащее в себе никаких дефектов или изъянов и уж тем более не то, что не представляло для дарителя особой ценности или было куплено за деньги, не потребовав от него ни особого труда, ни прилежания (напр., рыба, плоды диких растений, которые произрастают сами собой, попавшаяся в силки дичь и т. п.). С возникновением язычества считалось, что богам особенно приятны кровавые жертвы, почему в среде язычников и были распространены человеческие жертвоприношения. Бог евреев, испытав силу веры в Него Авраама, запретил приносить Ему в жертву людей. Однако убеждение, что Богу приятны кровавые жертвоприношения, отразилось и в иудаизме. Первым доказательством устойчивости этого убеждения служит рассказ о землепашце Каине и скотоводе Авеле: первый принес в дар Богу плоды земли, второй – от стад своих. «И призрел Господь на Авеля и на дар его; а на Каина и на дар его не призрел» (Быт. 4:4–5). Огорчившийся Каин убил Авеля, после чего услышал довольно наивный вопрос от Бога, Который, будучи вездесущ (Иов. 28:24) и всеведущ (1 Цар. 2:3), должен был бы заранее знать, какой трагедией обернется для братьев Его капризность, выразившаяся в призрели не призрел.
(обратно)192
Децимации– наказание, введенное в практику ведения войн римлянами, когда проявленная кем-нибудь трусость или невыполнение приказа тем или иным соединением каралось публичной казнью каждого десятого воина.
(обратно)193
Магдала– евр. название небольшого города, который греки называли Магаданом. Христианам этот город известен как родина Марии Магдалины, или, иначе, Марии из Магдалы. Ныне на месте Магдалы находится деревушка Медждель с древними развалинами.
(обратно)194
Геннисаретское озеро– озеро, известное древним евреям, вступившим на территорию Ханаана при Иисусе Навине, под названием Киннереф(см. Чис. 34:11). Во времена Маккавеев было переименовано в Геннесарпо названию равнины, расположенной в его северо-западной части. Известно также под название Галилейское море, а с I в. н. э. и до наших дней Тивериадское озеро, названное так в честь императора Тиберия. На берегу этого озера произошла встреча Христа со Своими первыми апостолами, о которых читаем в Библии: «Проходя же близ моря Галилейского, Он увидел двух братьев, Симона, называемого Петром, и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы; и говорит им: идите за Мною, и Я сделаю вас ловцами человеков» (Мат. 4:18–19). А вот что пишет об этом озере путешественник XIX в.: «Это не море в настоящем смысле слова, а пресноводное озеро и притом незначительных размеров. Длина его около 20-и км и наибольшая ширина – 10 км. В геологическом отношении озеро замечательно тем, что лежит на 225 м ниже уровня моря; его наибольшая глубина равна приблизительно 50 м. Берега весною покрываются пышной зеленью и цветами, чарующими взор. Путешествие вдоль берега, заросшего мальвами и олеандрами, высокими, как деревья, осыпанными душистыми цветами, не скоро забывается. От быстро наступающей жары растительность скоро блекнет. Горы вокруг озера не особенно высоки, что придает ландшафту мирный характер, особенно если сопоставить его с дикими крутыми берегами Мертвого моря. Низкое и защищенное горами местоположение не препятствует однако сильным волнениям, вызываемым дующими между гор ветрами. В Геннисаретском озере наблюдается течении Иордана, протекающего с горы Гермона в Мертвое море. Огромные базальтовые скалы, теплые источники и частые землетрясения свидетельствуют о подземной вулканической деятельности. Вода мутновата и богата рыбой, как и во времена апостолов. Многолюдные города на берегу озера исчезли и не видно множества рыболовных лодок, как в прежние времена. Вода годна для питья, хотя несколько солоновата на вкус. Для охлаждения ее наливают на ночь в кувшины».
(обратно)195
Плач Иер. 3:64–66; здесь имеется в виду пророчество неизбежных бед, которые обрушатся на иудеев, если те и дальше будут следовать путями гордыни и слушаться лжепророков. Последний царь Иудеи Седекия, вместо того, чтобы прислушаться к предостережениям Иеремии, бросил его в темницу. И случилось то, что пророчествовал Иеремия, освобожденный из темницы Навуходоносором и отказавшийся от его предложения переехать в Вавилон: «Умерщвляемые мечем счастливее умерщвляемых голодом, потому что сии истаивают, поражаемые недостатком плодов полевых. Руки мягкосердечных женщин варили детей своих, чтоб они были для них пищею во время гибели дщери народа моего. Совершил Господь гнев Свой, излил ярость гнева Своего и зажег на Сионе огонь, который пожрал основание его. Не верили цари земли и все живущие во вселенной, чтобы враг и неприятель вошел во врата Иерусалима. Все это – за грехи лжепророков его, за беззакония священников его, которые среди него проливали кровь праведников…» (Плач Иер. 4:9-13).
(обратно)196
Анака, что означает «стонущий», – род ящерицы, распространенной в библейские времена в Палестине. Расселялись вдоль дорог и издавали громкие жалобные звуки, из-за чего считались предвестниками беды. Их белое мясо, напоминающее куриное, употребляли в пищу бедуины. У иудеев анака, наряду с другими пресмыкающимися и мелкими грызунами, считались нечистыми, мясо которых не только запрещалось в пищу, но и самое прикосновение к ним требовало последующего очищения: «Вот что нечисто для вас из животных, пресмыкающихся по земле: крот, мышь, ящерица с ее породою, анака, хамелеон, летаа, хомет и тиншемет. Сии нечисты для вас из всех пресмыкающихся: всякий, кто прикоснется к ним мертвым, нечист будет до вечера; и все, что упадет которое-нибудь из них мертвое, всякий деревянный сосуд, или одежда, или кожа, или мешок, и всякая вещь, которая употребляется на дело, будут нечисты: в воду должно положить их, и нечисты будут до вечера, потом будут чисты» (Лев. 11:29–32).
(обратно)197
В псалме Давида, известном как «песнь восхождения», читаем: «Как хорошо и как приятно жить братьям вместе! Это – как драгоценный елей, стекающий на бороду, бороду Ааронову, стекающий на края одежды его; как роса Ермонская, сходящая на горы Сионские. Ибо там заповедал Господь благословение и жизнь на веки» (Псал. 132).
(обратно)198
Тебеф– четвертый месяц еврейского гражданского календаря и десятый религиозного, соответствующий декабрю-январю григорианского календаря.
(обратно)199
Шиват– следующий за тебефом месяц, отмечаемый иудеями как месяц «нового года для деревьев»; соответствует январю-февралю григорианского календаря.
(обратно)200
Сражение это вошло в историю Иудеи и стало одной из причин укоренившейся в евреях ненависти к Ироду и возникновению о нем мифа как о едва ли не самом сумасбродном и жестоком правителе, какого только знала мировая история. Между тем жестокость, проявленная Иродом к евреям (не станем забывать, что разгром войска Паппа, состоявшего из одних иудеев, был осуществлен главным образом силами иноземцев), стала ответом на жестокость, проявленной евреями в отношении Ирода и его семьи. Чтобы не облачаться в мантию судьи в этом вопросе, окрашенном явно в националистические тона со стороны евреев, прощавших Хасмонеям самые дикие и необузданные выходки на том только основании, что Хасмонеи были евреями, и отторгавших любые деяния Ирода, в том числе те, которые явно были направлены на процветание Иудеи и укрепление ее авторитета в древнем мире, на том основании, что Ирод не был евреем, предлагаю читателем составить собственное мнение об этом историческом сражении на основании описания, сделанного Иосифом Флавием в «Иудейской войне». Цитирую: «Ирод торопился к бою; люди Паппы также шли ему бодро навстречу, не страшась ни численного превосходства врага, ни его жажды сражения. Но ряды неприятелей недолго держались в том сражении. Ирод в пылу гнева за убийство брата, ставя свою жизнь на карту, как будто он должен был здесь наказать виновников этого убийства, быстро опрокинул врагов, бросился затем на остальных, которые еще не уступали поля битвы, всех обратил в бегство и погнался вслед за ними. Кровь лилась потоками: задние ряды преследуемых, будучи местами оттеснены назад передовыми, попадали прямо в руки Ирода и падали бесчисленными массами. Он вместе с неприятелем втиснулся в деревню, где все дома были битком набиты тяжеловооруженными воинами, да и крыши наверху были заняты защитниками. Едва только были преодолены стоявшие извне, как он стал ломать дома, дабы вынудить находившихся внутри к выходу. Так они целыми группами были похоронены живыми под крышами. Спасшиеся из-под развалин падали под мечами солдат, и груды трупов до того росли, что загромождали собой дорогу победителям. Такую огромную потерю не мог перенести неприятель; если бы ему даже удалось собраться и вновь сомкнуться в ряды, то один вид павших обратил бы его опять в беспорядочное бегство».
(обратно)201
Ирод сдержит свое обещание и никогда больше не станет вступать в поединки с кем бы то ни было. Справедливости ради, однако, следует сказать, что поединки с участием первых должностных лиц государств не были в древности редкостью. Известно, напр., что император Калигула прошел обучение в школе гладиаторов и выступал на арене с боевым оружием (телохранителями у него служили исключительно одни только гладиаторы). Юношей участвовал в гладиаторских боях и будущий покоритель Иудеи император Тит. Большим поклонником гладиаторских боев был император Коммод. Его современник, историк и сенатор Дион Кассий писал, что Коммод до достижения им 31-летнего возраста, когда на него было совершено покушение, провел 1000 боев и особенно гордился тем, что одинаково мастерски бился как правой рукой, так и левой. Не приходится говорить о том, что, глядя на императоров, практически все представители высших слоев римского общества одобрительно относились к стремлению своих сыновей пройти обучение в гладиаторских школах и принять участие в настоящих боях на аренах цирков. По свидетельству Плиния Младшего, обучение в гладиаторских школах и последующее участие в боях рассматривалось элитой римского общества как наилучшее средство боевой подготовки молодежи, не знающей страха ни перед ранами, ни перед самой смертью.
(обратно)202
Мархесван– второй месяц гражданского и восьмой религиозного еврейского календаря, соответствующий октябрю-ноябрю григорианского календаря.
(обратно)203
Киликия– область на юго-восточном побережье Малой Азии. Уже в глубокой древности была заселена греками, в VI в. до н. э. завоевана персами, а в 333 г. до н. э., после победы Александра Македонского в битве при Иссе (ныне залив Искендерон в Турции) над войсками Дария III, превращена в плацдарм для завоевания Сирии и Египта. После распада державы Александра Македонского долгое время служила пристанищем для пиратов, господствовавших в Средиземном море, пока Помпей не покончил с ними и не превратил Киликию в римскую провинцию.
(обратно)204
Арарат– ассирийское название высочайшей вершины Армении, находящейся ныне на территории Турции. По названию этой вершины ассирийцы дали название жителям этой горной страны и самой стране – урарты, Урарту (в Библии известны под названиями земля Араратская и царство Араратское; см. 4 Цар. 19:37, Иер. 51:27). Сами жители этой страны называли себя хайями, что созвучно самоназванию современных армян – хай. Между тем современные армяне произошли от смешения семитских племен хайев с проникшими сюда в IX–VIII вв. до н. э. из Европы индоевропейскими племенами армян (слово др. – перс. происхождения, заимствованное греками; в Древней Руси армян называли раменами). После поражения Тиграна II от Помпея Магна в 66 г. до н. э. образовались две Армении – к западу от Евфрата Малая и к востоку – Великая, ставшая буфером между Парфией и Римом. Армения издревле поддерживала культурные и экономические отношения практически со всеми странами Востока, включая Иудею, а также Грецией и Римом. Отсюда становится понятным, почему именно Армения стала первой в мире страной, в которой христианство уже около 300 г. было провозглашено государственной религией – прежде, чем римский император Константин I Великий своим Миланским эдиктом 313 г. уравнял христианство в правах с другими религиями.
(обратно)205
Адар– последний, двенадцатый месяц еврейского религиозного и шестой гражданского календаря, соответствующий февралю-марту григорианского календаря. В високосный год к месяцу адар добавлялся месяц адар батраах.
(обратно)206
См. Пс. 47:3, Пс. 121.
(обратно)207
Неем. 11:1, 18. О Неемии нам известно, что он служил виночерпием у персидского царя Артаксеркса I Длиннорукого. Узнав от своего брата и других евреев о бедственном положении Иерусалима, он упросил царя разрешить ему поехать в Иерусалим, чтобы отстроить город. Царь такое разрешение ему дал, назначив Неемию областеначальником Иудеи (евр. паках, перс. тиршафа, что означает «строгий господин»). В течение двенадцати лет – с 445 по 433 гг. до н. э. – Неемии удалось восстановить разрушенный город и возвести вокруг него крепостную стену, а также провести совместно с Ездрой, прозванным «вторым Моисеем», ряд социальных реформ, направленных на снижение злоупотреблений властью со стороны священнослужителей, общее повышение уровня образованности народа, упорядочение законов о браке и т. д.
(обратно)208
Десять заповедей Моисея– древнейшие нравственные установления, выработанные человечеством за всю предшествующую историю его существования и впервые сформулированные евреями в виде законов, обязательных для исполнения каждым. Заповеди эти в наиболее концентрированном виде изложены в книге Исход и направлены против идолослужения и сотворения кумиров, против злоупотребления именем Господа и необходимости соблюдения субботы, предписывают людям почтительное отношение к родителям, запрещают убийства, блуд, воровство и лжесвидетельство, направлены против похотей (см. Исх. 20:3-17). На основе этих нравственных заповедей были выработаны и изложены в Библии гражданские законы. Законы эти касались таких сторон общественной жизни, как отношение к власти и правил ведения судопроизводства, устанавливали виды преступлений, влекущие за собой применение смертной казни, предписывали правила ведения войны, оговаривали условия заключения браков и рассматривали причины, позволяющие мужу и жене развестись, касались вопросов преступлений, направленных против общественной нравственности (сюда входили противоестественные половые связи и кровосмешение), и наказаний за эти преступления, регламентировали формы и сроки оплаты труда наемных работников и служащих, определяли нормы предоставления займа и залога, процентных ставок, говорили о нетерпимом отношении к взяткам и подкупу, краже людей, наказаниях за воровство и т. д. (изложены повсеместно в книгах Исход, Левит, Числа и Второзаконие).
(обратно)209
Что в этих обвинениях имеет под собой основания, а что не имеет, мы увидим в заключительной части нашей книги. Сейчас же небезынтересно сказать вот о чем. Евреи, или правильнее будет сказать иудеи, часто называют себя народом Книги, имея в виду Тору, или Пятикнижие, которое они изучают как откровение Бога. С тем же основанием можно назвать народами Книгиисламистов, если под Книгой понимать один лишь Коран. Все дело, однако, в том, что замкнутость на одной пусть Великой Книге, Книге Книг, ведет к самоизоляции, а самоизоляция приводит к отчуждению от других народов, которые не считают Тору или Коран единственным и исчерпывающим откровением Бога, к которому нечего прибавить и от которого нечего убавить. Идеологические разногласия (а религия – это прежде всего идеология) чреваты самыми трагичными последствиями, – история, в том числе современная, знает тому бесчисленное множество примеров. В случае неприязненного отношения древних народов к евреям также легко обнаруживаются идеологические корни. Это не означает, что в религиях, исповедуемых одними народами и игнорируемых другими народами, больше минусов, чем плюсов, поскольку положения этих религий разделяются не всеми. У Сенеки были все основания сказать о евреях, начало разгрому которых положил его воспитанник Нерон: «Victi victoribus leges dederunt» («Побежденные дали законы победителям»). Но вот возведение одной религии в абсолютный закон в ущерб всем остальным религиям приводит к такому печальному явлению, какое известно под названием ксенофобия. Это хорошо видно на примере возникновения в древности антисемитизма вначале в среде египтян, а за ними греков и римлян (хотя последние, как мы помним, относились более чем терпимо к иудаизму и даже специальными эдиктами обязывали подчиненные им народы не препятствовать иудеям, живущим среди них, отправлять свои религиозные обряды). Упоминавшийся выше Я. И. Израильсон писал: «Небезынтересно будет вкратце проследить начало и постепенный рост враждебного отношения греков к евреям, перешедшего от них к римлянам… Первое, более близкое знакомство греков с евреями началось, как известно, при Александре Великом, покорившем всю Иудею и переселившем значительную часть евреев в Египет. Как Александр, так и первые Птолемеи и Селевкиды относились очень дружелюбно к своим еврейским подданным и ни о каком предубеждении и ни о каких предрассудках против них в то время ничего не было слышно. Они стали проявляться только впоследствии, когда чистый и благородный дух эллинизма все более вырождался и развращался пристававшими к нему чужими элементами. Первыми творцами столь часто встречающихся в позднейшей греческой и римской литературе басен о евреях, их происхождении, прошлом и культе были не греки, но эллинизированные египтяне, и главной мастерской, где фабриковались все эти сказки и выдумки, был египетский город Александрия. Этот город, достигший в короткое время необыкновенно высокого развития и сделавшийся скоро, благодаря многочисленности населения, торговому значению, богатству и сосредоточившимся в нем умственным силам, главной метрополией греческого мира, вмещал в себе также множество евреев, переселившихся туда отчасти по принуждению, отчасти добровольно. Благодаря покровительству, оказанному им Птолемеями, высоко ценившими их преданность престолу и отечеству и часто пользовавшимися их услугами, благодаря своему благосостоянию, которое они создавали собственной энергией и честным трудом, евреи скоро приобрели в Александрии влиятельное и выдающееся положение, которое не могло не вызывать зависти природных египтян, претендовавших на первенство и считавших себя оттесненными чужим народом».
Автор этого фрагмента еврей и говорит о евреях как народе исключительно лояльном к властям, которым служат, редкостной энергии и трудолюбия, благодаря чему добились благосостояния, и выдающихся способностей, позволившим занять «влиятельное и выдающееся положение» в государстве. Однако эта очевидная идеализация евреев как народа без тени недостатков не мешает тому же автору подметить глубокую отчужденность евреев от тех же греков, когда речь заходит о религиозных разногласиях, хотя Израильсон и здесь излишне идеализирует иудаизм чуть ли не как самую совершенную религию из всех других религий. Продолжу цитирование: «Такова уже природа ненависти, – раз она возбуждена, то она уже не останавливается на своем пути и не знает предела, но все более развивается и ищет себе все новой пищи, стараясь открывать в предмете, против которого она направлена, все новые стороны, к которым она могла бы придираться, и истолковывая все в нем, даже самое невинное, во враждебном смысле. И чем сильнее она въедается, тем она становится ожесточеннее и тем больше она нарождает предрассудков, которые, раз появившись на свет, уж не так легко могут быть искореняемы, в особенности если они поддерживаются в слепо верующей и не способной к критическому анализу толпе авторитетным словом литературы. Еще хуже бывает, если предмет ненависти отличается известными, резко бросающимися в глаза, особенностями, которые не разделяются другими, если он своим мировоззрением, религиозными взглядами, нравственными понятиями – одним словом, всем тем, что составляет существеннейшую и характернейшую черту человека, выдается из всей окружающей его массы и образует строго определенную индивидуальность. Но таковыми именно были евреи в древнем мире. Их религия составляла прямую противоположность всем, без исключения, культам тогдашнего времени, их нравственный кодекс, которым регулировался их образ жизни, во многих отношениях расходился с господствовавшей моралью. Им не могли простить, что они не поклоняются божествам других народов, что они не признают никакого другого культа и отвергают всякую другую форму богопочитания. Отуманенные языческим духом, греки и позже римляне не были в состоянии возвыситься до понимания религии евреев и их чисто духовного культа и поэтому видели в них людей безбожных, презирающих богов, лишенных всякого религиозного чувства. Обвинение в безбожии и презрении богов было самое тяжелое, которое возводилось на евреев, и чаще всего повторяется во враждебной евреям литературе. Оно и служило главным поводом столкновений, которые в отдельных городах, как в Александрии, Антиохии и Кесарее, происходили между евреями и их языческими согражданами. Религиозная особенность, естественно, обусловливала собою также некоторую социальную обособленность. Евреи, хотя принимали самое деятельное участие в политической и коммунальной жизни, занимали, как, например, в Египте, важные должности, отличались в качестве полководцев и вообще не отставали от общих интересов и не чуждались господствующей культуры, но в частной жизни, по крайней мере насколько она определялась религией или не согласовывалась с их нравственными понятиями, они соблюдали некоторый сепаратизм. Они не разделяли трапезы греков, не участвовали в их празднествах, не присоединялись к их неумеренным оргиям, не присутствовали на шумных вакханалиях, не посещали палестры, не увлекались страстью к гимнастическим играм и вообще держали себя вдали от тех явлений греческой жизни, которые не соответствовали их более серьезному направлению духа. Отсюда возникло новое обвинение, не менее тяжелое и роковое, чем первое, обвинение в нелюдимости, в устранении себя от сообщества с другими, в замкнутости и, наконец, также в недостатке гуманности и в человеконенавистничестве. Эти два обвинения, которые впоследствии даже возводились язычниками на христиан и которые, конечно, лишены всякого фактического основания и могли возникнуть лишь на почве полного незнакомства с сущностью еврейской религии и совершенного непонимания ее возвышенного содержания и идеального духа, служили главной подкладкой враждебного отношения к евреям древнего мира».
(обратно)210
Иерусалим был основан древними жителями Палестины хананеями и назывался вначале Салим. После завоевания Палестины Иисусом Навином и раздела ее земли между двенадцатью коленами Израилевыми, часть коренных жителей была уничтожена, часть бежала с родины (историк VI в. н. э. Прокопий из Кесарии, Палестина, приводит надпись на финикийском яз., обнаруженную в его время неподалеку от гор. Тингис в Мавритании, Зап. Африка: «Мы те, которые убежали от разбойника Иисуса, сына Навина»), а часть осталась на родине. К числу тех, кто остался на родной земле, был и иевусянин (иевусеи – одно из хананейских племен) Орна, имевший гумно на горе Мориа в Иерусалиме. После того, как Давид впал в грех любостяжания, прельстившись красотой Вирсавии и послав на верную смерть ее мужа Урию, Бог наслал на евреев моровую язву. Пророк Гад, когда Давид исповедался перед ним в своем грехе, посоветовал царю взойти на гору Мориа, поставить там жертвенник и принести Богу искупительную жертву. Давид, послушавшись совета Гада, взошел на гору, где Орна со своими сыновьями молотил пшеницу, и рассказал ему обо всем случившемся с ним и с его народом. Растроганный Орна не только уступил даром Давиду свое гумно под жертвенник, но и предложил ему бесплатно повозки для доставки на гору дров и волов для жертвоприношения. Давид, однако, отказался принести в жертву полученное даром и выкупил у Орны волов за 50 сиклей серебра и землю за 600 сиклей золота, после чего принес жертву всесожжения и мирную жертву, и моровая язва прекратилась. Впоследствии Давид не раз приносил здесь жертвы Богу, а его сын от Вирсавии Соломон воздвиг на этом месте Храм (рассказы обо всем об этом можно найти в 2 Цар. 24; 1 Пар. 21; 2 Пар. 3:1).
(обратно)211
Котзе– главное языческое божество идумеян, которому они продолжали поклоняться и после обращения в иудаизм. Аналог верховного ассиро-вавилонского бога Ваала (у хананеев и финикийцев известного под именем Бааль, у моавитян Фегор и т. д.), олицетворявшего мужскую оплодотворяющую силу природы. Поклонение Котзе сопровождалось оргиями и человеческими жертвоприношениями. Популярность Ваала-Бааля-Котзе-Фегора и проч. в древности была столь велика, что служение ему была возведено царем Израиля Ахавом (875–853 гг. до н. э.) и царями Иудеи Ахазом (735–727 гг. до н. э.) и Манассией (699–643 гг. до н. э.) в ранг государственной религии. От стола царицы Иезавели, жены Ахава, пережившей мужа на 14 лет, питались 450 вааловых пророков. От реформаторов иудаизма потребовалось немало терпения и долгой разъяснительной работы, прежде чем с этим культом было покончено, а само божество переименовано вначале в Веельзевува, т. е. «бога мух», а затем в Веельзевула, т. е. «бога навоза».
(обратно)212
Золотые ворота сохранились поныне и пользуются у евреев недоброй репутацией. После смерти Ирода они были заложены камнем, и с тех пор ими никто не пользуется.
(обратно)213
Стратонова башня(в пер. с греч. «Сторожевая башня») – цитадель, связанная подземным переходом с дворцом Маккавеев, построенная для защиты Храма от внешней угрозы. Такое же название носила и крепость на берегу Средиземного моря на границе между Самарией и Галилеей. На месте разрушенной Стратоновой башни в Иерусалиме Ирод построит новую цитадель, названную им в честь Марка Антония Антониевой башней, а на месте снесенной крепости на берегу Средиземного моря – роскошный город Кесарию, названный так в честь Октавия, принявшего титул Цезаря (Кесаря) и новое имя – Август (в пер. с лат. «Возвеличенный»).
(обратно)214
Антигона– дочь царя Эдипа и его матери и жены Иокасты. Сравнение Соссия сдавшегося в плен Антигона с мифологической героиней нельзя признать корректным. Антигона была вовсе не трусливой женщиной, а мужественной героиней, которая черпала свою духовную силу из собственной физической слабости, которой претило любое физическое насилие. Когда Эдип, узнав правду об Иокасте и убийстве своего отца, ослепил себя, она последовала за отцом в добровольное изгнание в Колон и оставалась с ним до самой его смерти. Два ее брата – Полиник и Этеокл – вели между собой борьбу за правление Фивами и оба пали в единоборстве. Антигона, несмотря на запрет своего дяди, царя Креонта, погребла тело Полиника, за что была заживо замурована в каменную пещеру, где покончила жизнь самоубийством.
(обратно)215
«Исторические комментарии»– обширная работа Страбона, состоявшая из 47-и книг. До нас дошли лишь немногочисленные фрагменты, в том числе процитированные слова.
(обратно)216
Рубин– драгоценный камень, особо почитаемый на Востоке, в т. ч. в древнем Израиле, не только за красоту, но и за свойства, которые ему приписывались. В Библии мы находим описание одежд, которые Господь повелел сделать первосвященнику Аарону и украсить двенадцатью драгоценными камнями – «по числу сынов Израилевых, по именам их; на каждом, как на печати, должно быть вырезано по одному имени из числа двенадцати колен» (Исх. 28:21). Нам неизвестно, какой именно из каждых двенадцати драгоценных камней был закреплен за каждым коленом, но известны их названия и порядок, в котором они были нашиты на наперснике первосвященника.
(обратно)217
Лето– дочь титанов Коя и Фебы, славившаяся своей красотой, перед которой не смог устоять Зевс. Гонимая ревнивой Герой, Лето нашла приют на острове Делос. Здесь, под пальмой, она родила зачатых от Зевса близнецов – Аполлона, юного бога солнечного света, покровителя искусств, и Артемиду – целомудренную богиню охоты и живой природы, покровительницу супружества и деторождения (с Артемидой отождествлялась римская богиня женственности и плодородия Диана).
(обратно)218
Педерастиякак эротически-сексуальная связь между мужчинами была широко распространена в Древнем мире, в т. ч. в Израиле. В ряде случаев педерастия санкционировалась государством (как, напр., в Спарте), в Греции и в Риме культивировалась как реликт аристократических традиций, возникших в глубокой древности. Педерастия нашла отражение в мифах, повествующих об эротических чувствах богов к своим смертным возлюбленным (напр., в мифе о любви Зевса к своему кравчему Ганимеду, прислуживавшему ему за трапезой, Аполлона к спартанцу Гиакинфу, случайно убитому им во время спортивных состязаний диском и из крови которого по желанию Аполлона вырос гиацинт, и др.). Педерастия, равно как сексуальные связи с животными и проч. половые извращения, осуждалась иудаизмом. Так, читаем в Библии: «Не ложись с мужчиною, как с женщиною, это мерзость. И ни с каким скотом не ложись, чтоб излить семя и оскверниться от него; и женщина не должна становиться перед скотом для совокупления с ним. Это гнусно» (Лев. 18:22–23). Тем не менее случаи противоестественных половых связей не были исключением ни в Израиле, ни позже в Иудее: «И делал Иуда неугодное пред очами Господа, и раздражали Его более всего того, что сделали отцы их своими грехами, какими они грешили. И устроили они у себя высоты, и статуи, и капища на всяком холме и под всяким тенистым деревом. И блудники были также в этой земле, и делали все мерзости тех народов, которых Господь прогнал от лица сынов Израилевых» (3 Цар. 14:22–24). Отсюда суровость наказания за подобные преступления: «Если кто ляжет с мужчиною, как с женщиною, то оба они сделали мерзость; да будут преданы смерти, кровь их на них. Если кто возьмет себе жену и мать ее: это беззаконие; на огне должно сжечь его и их, чтобы не было беззакония между вами. Кто смесится со скотиною, того предать смерти, и скотину убейте. Если женщина пойдет к какой-нибудь скотине, чтобы совокупиться с нею, то убей женщину и скотину; да будут они преданы смерти, кровь их на них» (Лев. 20:13–16).
(обратно)219
Речь Ирода дается в том виде, в каком ее записал в своем дневнике сам Ирод и в каком она цитируется в работах древних историков и биографов царя.
(обратно)220
В «Иудейских древностях» Иосиф Флавий пишет, что свой дневник, который он называет мемуарами и на который опирался в своей работе, Ирод продолжал вести и далее – по крайней мере до 30 г. до н. э.
(обратно)221
Филадельфия– в букв. пер. с греч. «братская любовь». В древности существовало несколько городов под таким названием, основанных Александром Македонским и его диадохами. Известно по меньшей мере три таких города: Филадельфия египетская в Файюмском оазисе, Филадельфия лидийская (там уже в I в. возникла одна из первых христианских общин, упомянутая в Отк. 1:11) и Филадельфия аравийская.
(обратно)222
Арабские скакуны– порода лошадей, выведенная в глубокой древности в Аравии, откуда и произошло их название ( Аравияв пер. на русск. означает «страна арабов», суть – Арабия). Лошади этой породы высоко ценились в Древнем мире. Арабским скакуном был конь Калигулы по кличке Быстроногий. О нем рассказывает Светоний в книге «О жизни цезарей», полностью дошедшей до нас (в русском переводе эта книга известна под названием «Жизнь двенадцати цезарей»: «Своего коня Быстроногого [Калигула] так оберегал от всякого беспокойства, что всякий раз накануне скачек посылал солдат наводить тишину по соседству; он не только сделал ему конюшню из мрамора и ясли из слоновой кости, не только дал пурпурные покрывала и жемчужные ожерелья, но даже отвел ему дворец с прислугой и утварью, куда от его имени приглашал и охотно принимал гостей; говорят, он даже собирался сделать его консулом».
(обратно)223
Согласно библейскому преданию, праматерь евреев Сарра долгое время не могла забеременеть от своего мужа и брата Авраама (Авраам скажет о ней царю филистимлян Авимелеху, плененному красотой Сарры и чуть было не совокупившимся с ней, от чего удержал его Господь: «Да она и подлинно сестра мне; она дочь отца моего, только не дочь матери моей; и сделалась моею женою», см. Быт. 29:12). Ей было уже далеко за 70 лет, когда она уговорила свою служанку – египтянку Агарь (евр. Хагар, что означает «чужеземка») стать наложницей Авраама, от которого та родила сына Измаила (евр. Ишмаэль, т. е. «Бог слышит»). Так от смешения египтянки Агарь и еврея Авраама произошли арабы. Спустя 14 лет, когда Сарре исполнилось 90 лет, она наконец забеременела от 100-летнего Авраама и родила сына Исаака (евр. Ицхак– «он засмеется»). Когда Исаак подрос, Сарре, переменившей прежнее имя Сара, что означает «сварливая», на Сарра, т. е. «княгиня», показалось, что Измаил насмехается над ее сыном и настояла, чтобы Авраам изгнал Агарь вместе с ее сыном в пустыню. С этого времени и началось противостояние двух родственных народов – евреев и арабов, – продолжающееся поныне. После смерти Сарры, последовавшей на 127 году жизни, 137-летний Авраам женился еще раз. Вторая жена Хеттура родила ему шестерых сыновей (см. Быт. 25:1–2), от которых произошли новые племена и народы. Со всеми ними евреи жили во вражде, как, впрочем, и эти племена и народы относились враждебно к евреям. Авраам же, который прежде именовался Аврам (русифцированное Абрам, что означает «великий отец»), получил имя Авраам (т. е. «отец многих») и почитается всеми иудеями, христианами и мусульманами, а арабы называют его Эль халиль– «Другом Божьим». Умер Авраам 175 лет от роду «в старости доброй, престарелый и насыщенный жизнию» (Быт. 25:7–8).
(обратно)224
Диван– в пер. с перс. «канцелярия», «присутственное место». Поначалу эти высшие органы управления во всех странах Востока, включая Иудею, представляли собой налогово-финансовые ведомства, затем были преобразованы в советы при монархах и, наконец, превратились в правительства в современном значении этого слова, модели которых заимствовали у восточных царей европейские монархи при создании собственных государств. В заслугу Ироду следует поставить тот факт, что он изначально отказался от идеи включения в состав правительство священников, разделив т. о. высшую власть в стране на светскую и духовную, ограничив первую рассмотрением и решением исключительно административных и военных вопросов. Такого четкого разделения властей не было в ту пору ни в какой другой стране, включая Рим, императоры которой были наделены не только всей полнотой гражданской и военной власти (лат. imperiumозначает «полнота власти», «полномочия»), но и властью религиозной (в титулатуру римских императоров входило также звание понтифик, т. е. верховный священнослужитель, да и сами римские правители после смерти объявлялись божественными, чего не было и не могло быть по определению у евреев, признававших над собой власть одного лишь Бога).
(обратно)225
Песн. п. 7:2–4.
(обратно)226
Там же, 8:6.
(обратно)227
Менандр(IV–III вв. до н. э.) – древнегреческий комедиограф, автор свыше 100 пьес (единственная пьеса, сохранившаяся до наших дней в полном виде на папирусном свитке, – комедия «Угрюмец»), мастер остроумных сюжетов, почерпнутых из жизни простых людей, в т. ч. рабов. Оказал заметное влияние на древнеримских драматургов, прежде всего Плавта и Теренция, заимствовавших у него многие сюжеты.
(обратно)228
Слова эти процитировал в послании к коринфянам апостол Павел, осуждая тех, кто видит единственный смысл своего существования в возможности вволю «есть и пить, ибо завтра умрем». Таким апостол Павел говорит: «Отрезвитесь, как должно, и не грешите; ибо к стыду вашем скажу, некоторые из вас не знают Бога» (см. 1 Кор. 15:33, 15:32, 15:34).
(обратно)229
Кутонет– нижняя узкая рубашка до колен, надеваемая на голое тело; разновидность греческого хитона или римской туники. В русск. переводе Библии всюду называется хитоном, без которого человек не смел появиться на людях.
(обратно)230
В Библии читаем повеление евреям, сделанное Богом через Моисея: «Объяви сынам Израилевым и скажи им, чтоб они делали себе кисти на краях одежд своих в роды их, и в кисти, которые на краях, вставляли нити из голубой шерсти. И будут они в кистях у вас для того, чтобы вы, смотря на них, вспоминали все заповеди Господни, и исполняли их, и не ходили вслед сердца вашего и очей ваших, которые влекут вас к блудодейству, чтобы вы помнили и исполняли все заповеди Мои, и были святы пред Богом вашим» (Чис. 15: 38–40; аналогичное предписание мы находим во Втор. 22:12: «Сделай себе кисточки на четырех углах покрывала твоего, которым ты покрываешься»).
(обратно)231
Ко времени вступления в царствование над Иудеей Ирода в одном только Иерусалиме насчитывалось до четырехсот синагог, объединявших иудеев различного толка.
(обратно)232
Одна из обязательных молитв, читаемых в синагогах, звучала так: «Даруй мир, блаженство, благословение и сострадание нам и всему Твоему народу Израилю. Отец, благослови нас всех светом Твоего лица, ибо в свете лица Твоего Ты дал нам, Господи, Боже наш, закон жизни, любви, праведности, благословения, милосердия и мира. Благоволи благословить Твой народ, Израиля, во все времена и в каждое мгновение миром. Благословен Господь, благословляющий Свой народ Израиля миром». Присутствующие на синагогальном богослужении выслушивали эту молитву стоя и по ее завершении хором произносили: «Аминь».
(обратно)233
См. Мал. 1:2–5. Книга Малахии, написанная не позднее 400 г. до н. э., завершает Ветхий Завет и свидетельствует о том, что к этому времени отношения евреев с другими племенами и народами, проживавшими на территории Палестины, достигли крайней степени напряженности. Национальный изоляционизм, проявившийся у евреев на ранних этапах становления как народа, принял к этому времени гипертрофированные формы, при которых любые контакты между иудеями и неиудеями рассматривались как попытки последних отвратить евреев от Бога и ввергнуть их в идолослужение, результатом чего станет война на полное уничтожение как тех, кто пытается втравить евреев в идолослужение, так и самих евреев – отступников от иудаизма. Собственно, вся последняя глава последней книги Ветхого Завета есть не что иное, как угроза физического истребления всех «неверных» и обещание спасения тем евреям, которые сохранят верность законам и уставам Господним. Цитирую: «Ибо вот, придет день, пылающий как печь; тогда все надменные и поступающие нечестиво будут как солома, и попалит их грядущий день, говорит Господь Саваоф, так что не оставит у них ни корня, ни ветвей. А для вас, благоговеющие пред именем Моим, взойдет Солнце правды и исцеление в лучах Его, и вы выйдете и взыграете, как тельцы упитанные; и будете попирать нечестивых, ибо они будут прахом под стопами ног ваших в тот день, который Я соделаю, говорит Господь Саваоф. Помните закон Моисея, раба Моего, который Я заповедал ему на Хориве для всего Израиля, равно как правила и уставы. Вот, Я пошлю к вам Илию пророка пред наступлением дня Господня, великого и страшного. И он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы Я пришед не поразил земли проклятием» (Мал. 4:1–6).
«Проклятием» – вот последнее слово, которым завершается последняя книга Ветхого Завета.
(обратно)234
Правосудие в Иудее ко времени вступления в царствование Ирода было то же, что и столетиями ранее, а именно: оно отправлялось от имени Бога и освящалось именем Бога. Самый суд евреи рассматривали как дело Бога и потому, сталкиваясь с несправедливостью, «просили суда у Бога». Судопроизводство у евреев было несложным и отправлялось отцами семейства и, далее по возрастающей, от старейшин и глав колен до царей (самым известным царем и, одновременно, судьей древности был Соломон, в юрисдикцию которого входило решение как внутригосударственных и внешнеполитических правовых вопросов, так и определение, какая из двух женщин, претендующих на одного ребенка, на самом деле является его матерью). С образованием судов низшей инстанции суть правосудия не изменилась – оно по-прежнему отправлялось именем Бога и приговоры выносились от имени Бога. Иудея знала три вида наказания за совершение преступлений: смертную казнь, бичевание и денежные штрафы. Никакого уголовного кодекса в Иудее не существовало: таким уголовным кодексом для евреев являлись закон, уставы и наставления Господа, и виды наказания определялись этими же законами, уставом и наставлениями.
В отличие от Иудеи и других стран древности, римское право во времена Ирода представляло собой развитую систему правовых отношений, нанизанных, как на вертел, не на божественную волю, а на право частной собственности начиная от рабов, которые не считались субъектами права и рассматривались как товар, подлежащий, как любой другой товар, купле-продаже, и кончая правом собственности на землю, которая по законам Иудеи принадлежала одному лишь создавшему ее Богу. Именно в римском праве были впервые всесторонне разработаны и установлены способы приобретения и прекращения прав собственности, предусмотрены различные формы защиты вещных прав и т. д. Важнейшее место в римском праве занимали обязательственное право и прежде всего система договоров и обязательств, охватывавшая самые разнообразные хозяйственные и торговые отношения. В римском праве сложились такие правовые понятия, как юридическое лицо, правоспособность, давность, наследственные отношения, дарение, гражданство и т. д. Нарушение именно этих, а не каких иных прав, определяло государственные и уголовные преступления и виды наказания за них, вплоть до вынесения смертных приговоров или вынуждения обвиненных в этих преступлениях к самоубийству.
(обратно)235
См. Исх. 24:1–2.
(обратно)236
Синедрион(в пер. с греч. «совет», евр. санхедрин) – возник при Ироде, получившим классическое греческое образование, по-видимому, по образцу дельфийской Амфиктионии (от греч. amphiktiones– «живущий в другом полушарии») – первого известного нам синедриона, объединившего различные греческие племена, жившие по соседству со святилищем общего высшего божества и заключившие между собой союз для его защиты (спорные вопросы, возникавшие между этими племенами, улаживались третейским судом). Самым значительным греческим синедрионом был синедрион эллинов, созданный в Коринфе в 337 г. до н. э. для объединения всех греческих государств, присоединившихся к Македонии и просуществовавшем до 324 г. до н. э. Иерусалимский синедрион, по Талмуду и свидетельству Иосифа Дамасского, являлся продолжением совета семидесяти, избранного Моисеем. По другим источникам, синедрион в Иудее возник при Маккавеях, заключивших с Римом первый союзнический договор. Иосиф Флавий, однако, утверждает, что первый Иерусалимский синедрион был создан при Ироде. Есть все основания доверять в вопросе учреждения Иерусалимского синедриона автору «Иудейских древностей» по ряду причин. Во-первых, до Ирода нам ничего не известно о деятельности этого органа в Иудее. Функции суда, по тому же Талмуду, выполнялись на местах 23-я избранными судьями в городах, насчитывавших свыше 120 тысяч жителей, и 7 или 3-я судьями и надзирателями в более мелких населенных пунктах. Кроме этих судов в стране существовали советы старейшин из числа местных жителей, на обязанности которых лежал надзор за исполнением закона и наказания виновных. Общим для всех этих инстанций было то, что обвинительный приговор выносился лишь в тех случаях, когда обвинение подтверждалось двумя ни в чем не расходящимися между собой свидетелями; в случаях расхождений в их показаниях обвиняемый мог оправдаться принесением клятвы в своей невиновности. В отношении же тех, кого суд признавал виновными, приговор приводился в исполнение немедленно (тюрем в современном понимании этого слова во времена Ирода в Иудее не было) и потому обжалования вынесенных приговоров Иудея не знала. Во-вторых, поскольку термин «синедрион» греческого происхождения, этот высший судебный и религиозный орган в Иудее не мог возникнуть ранее 332/331 гг., когда страну завоевал Александр Македонский. Он, однако, не стал ничего в нем менять или вводить новое, ограничившись назначением первосвященника Иаддуя и, по сути дела, предоставив Иудее автономию. Эту автономию признавали за Иудеей и пришедшие на смену Александру Македонскому Птолемеи и Селевкиды, довольствовавшиеся взиманием с Иудеи ежегодной дани и предпочитавшие не вмешиваться в ее внутренние дела. Первосвященниками со времени Иаддуя и до прихода к власти Маккавеев были: Ония I, Симон Праведный, Елиазар, Манассия, Ония II, Симон II, Ония III, Иисус (Иасон) и, наконец, Менелай, – но ни с одним из них история не связывает факт учреждения синедриона. В-третьих, в пользу того, что синедрион возник именно при Ироде говорит то обстоятельство, что при этом царе, которому Рим всецело доверял, рассматривая его как своего политического и военного союзника на Ближнем Востоке, Иудее была предоставлена самая полная автономия, а учреждение синедриона римляне могли рассматривать как своеобразный сенат. Однако если даже предположить, что синедрион возник задолго до Ирода, непреложным остается тот факт, что при Ироде он подвергся глубокой реформе и стал тем высшим религиозным органом, который нам известен по Новому завету и с решениями которого не могли не считаться римские прокураторы.
Власть синедриона распространялась не только на Иудею, но и диаспору. Со времени Ирода мы уже не слышим в адрес священников обвинений, подобных тем, о которых говорится в заключительной книге Ветхого завета: «Сын чтит отца и раб – господина своего; если Я – отец, то где благоговение предо Мною? говорит Господь Саваоф вам, священники, бесславящие имя Мое. Вы говорите: “чем мы бесславим имя Твое?” Вы принóсите на жертвенник Мой нечистый хлеб, а говорите: “чем мы бесславим Тебя?” – тем, что говорите: “трапеза Господня не стóит уважения”. И когда приносите в жертву слепое, не худо ли это? Поднеси это твоему князю! Будет ли он доволен тобою и благосклонно ли примет тебя? говорит Господь Саваоф. Итак, молитесь Богу, чтобы помиловал нас; а когда такое исходит из рук ваших, то может ли Он милостиво принимать вас? говорит Господь Саваоф. Лучше кто-нибудь из вас запер бы двери, чтобы напрасно не держали огня на жертвеннике Моем. Нет Моего благоволения к вам, говорит Господь Саваоф, и приношение из рук ваших неблагоугодно Мне. Ибо от востока солнца до запада велико имя Мое между народами, и на всяком месте будут приносить фимиам имени Моему, чистую жертву; велико будет имя Мое между народами, говорит Господь Саваоф. А вы хулите его тем, что говорите: “трапеза Господня не стóит уважения, и доход от нее – пища ничтожная”. Притом говорите: “вот сколько труда!” и пренебрегаете ею, говорит Господь Саваоф, и приносите украденное, хромое и больное, и такого же свойства приносите хлебный дар: могу ли с благоволением принимать это из рук ваших? говорит Господь» (Мал. 1:6-13). При Ироде, проведшем глубокие социально-политические преобразования в стране, с воровством и коррупцией в среде священников было покончено, за что те еще больше невзлюбили его, а день смерти Ирода восприняли как праздник, ниспосланный на них свыше. (Именно после смерти Ирода в священнической среде стали процветать кумовство и семейственность, а должность первосвященников при слабовольных преемниках Ирода была узурпирована кланом Анны-Кайафы. Этот клан стал верховодить всеми делами, происходившими в Иудее, не стесняясь обворовывать даже рядовых священников, всецело подчиненных их власти. Иосиф Флавий пишет: «Первосвященниками овладело такое бесстыдство и нахальство, что они посылали своих наглых слуг на гумна, чтобы получать десятины, принадлежавшие по праву священникам, поэтому в те дни священники, которые когда-то питались от десятин, умирали голодной смертью». Разумеется, все это дела-лось от имени народа во благо Господа Бога. Иисус Христос был в числе тех немногих, кто выразил реши-тельный протест против порядков, заведенных кланом Анны-Кайафы, когда вышвырнул из Храма торговцев и разгромил киоски менял, которые в народе называли «шатрами Анны». Подобной дерзости первосвященники не могли простить молодому человеку, к проповедям Которого прислушивались многие, и обвинили его в богохульстве и стремлении занять место Бога, за что, собственно, и приговорили Христа к смерти, убедив народ в нелепейшей мысли: «Лучше, чтобы один человек умер за людей, нежели чтобы весь народ погиб», см. Иоан. 11:50).
Но вернемся к теме учрежденного Иродом синедриона. Организационно этот институт власти подчинялся первосвященнику и состоял из 71-го члена, разделяясь на три группы, или, говоря современным языком, фракции. Первую группу составляли высшие священнослужители, которых называли «начальниками», руководители 24-х еженедельных чред, а также храмовые надзиратели и казначеи; во вторую группу входили старейшины, или «главы народа»; третья группа состояла из т. н. книжников. Священники происходили из колена левитов, которым при разделе Ханаана не была предоставлена собственная территория и потому они жили за счет десятой части всех видов доходов, посвящаемых каждым иудеем Богу. Старейшины представляли собой потомков древних правящих семей, которые возглавляли различные колена, при заселении Ханаана вели учет налогов, осуществляли административную власть на местах и в силу этих привилегий были самыми состоятельными людьми в стране, которых Иосиф Флавий называет «видными гражданами» и «руководителями». Наконец, включение в состав синедриона книжников объясняется их глубоким знанием Писания и потому самых компетентных экспертов в области гражданского и уголовного права.
Учредив синедрион, Ирод лишил суды низшей инстанции права выносить смертные приговоры, делегировав это право синедриону. С 30 г. н. э. за синедрионом это право сохранялось лишь номинально; приводить смертные приговоры в исполнение допускалось лишь с разрешения римской администрации. С падением Иерусалима в 70 г. и разрушением Храма, на территории которого происходили заседания синедриона в специальной «палате, высеченной из камня», был распущен и сам синедрион.
(обратно)237
Аскалон, современный Ашкелон– древний портовый финикийский город, расположенный в 20 км к северу от Газы. Славился храмом богини любви Деркето и священным озером, рыбу из которого нельзя было есть. Во времена крестовых походов был разрушен. В 1830 г. на месте развалин появилась арабская деревня, которая к началу ХХ в. выросла в город. В 1948 г. в ходе арабо-израильской войны евреи заняли Ашкелон и стали активно заселять его. Раскопки, произведенные в Ашкелоне, выявили площадь с руинами древней крепости и остатки гавани времен античности.
(обратно)238
Талес– верхняя одежда первосвященника.
(обратно)239
Подробное описание первосвященнических одежд, которые Господь повелел Моисею сделать для своего брата Аарона, содержится в книге Исход, 28:4-43. Впоследствии одежды эти, сшитые для Аарона, были похищены Навуходоносором вместе с ковчегом завета и храмовыми священными сосудами и утрачены (в описи золотых и серебряных сосудов Храма, которые персидский царь Кир вернул евреям после освобождения их в 536 г. до н. э. из вавилонского плена, ничего не говорится ни о ковчеге, ни о первосвященнических одеждах). Ирод приказал сшить эти одежды для Арстовула в точном соответствии с предписаниями Бога. После падения Иерусалима в 70 г. н. э. и разрушения храма эти последние первосвященнические одежды были окончательно утрачены и восстановлены лишь в наши дни, в конце 2005 года. В газете «Еврейское слово» № 50 за 28 декабря 2005 г. – 10 января 2006 г. была опубликована заметка «Евреи готовы к открытию Третьего Храма», в которой говорится: «После большой и кропотливой работы институтом Храма были воссозданы одежды Первосвященника – талес небесно-голубого цвета. Ученые полагают, что его можно будет использовать по особо торжественным случаям в Третьем Храме. Синяя накидка, или “меиль талес”, как она именуется в Торе, расшита понизу 72-я золотыми колокольчиками, чередующимися с 72-я гранатами, вытканными синей, фиолетовой и алой шерстью. Три года совместными усилиями ученых и квалифицированных мастеров реализовывался этот проект. Талес станет еще одним атрибутом-реликвией возрождаемого Храма, наряду с уже изготовленными эфодом и хошеном, украшенными 12-ю драгоценными камнями – по числу колен Израилевых. Талес соткала Ехудит Авраам, используя “двустороннюю” технику Навахо. “Это – первая одежда, которую соткали точно по образцу талеса двухтысячелетней давности”, – сказал раввин Хаим Ричман из института Храма в интервью агентству “Аруц Шева”».
(обратно)240
Иофор– священнослужитель из арабского племени мадианитян, на дочери которого Сепфоре был женат Моисей. Советы по судопроизводству, которые дал Иофор Моисею (Исх. 18:14–24), легли в основу создания уникального в мировой истории более чем 400-летнего государства Судей, когда «не было царя у Израиля; каждый делал то, что ему казалось справедливым» (Суд. 21:25), датируемого со времени Исхода евреев из Египта в 1450 г. до н. э. и до провозглашения первого израильского царя Саула в 1035 г. до н. э.
(обратно)241
Пс. 116.
(обратно)242
Силоамский источник– пруд у юго-восточной части крепостной стены Иерусалима, где находились царские сады. Длиной 16 м, шириной 5 м и глубиной 1 м, пруд этот сохранился до сих пор. Вода в пруд поступала через тоннель, известный под названием Девичий источник, пробитый в скальном грунте при Езекии. В 1880 г. в тоннеле была обнаружена стершаяся от времени и местами утраченная надпись на древнееврейском языке: «Пробитие, и ход пробития, когда еще… тогда голос одного кричал другому, ибо был сиддах [трещина? разлом?] в скале направо, и в день пробития каменщики долбили один против другого [т. е. шли навстречу друг другу?], долото против долота, и воды потекли от истока пруда на протяжении 1200 локтей; высота скалы была 100 локтей над головою каменщиков».
(обратно)243
Меценат Гай Цильний– римский всадник, выходец из знатного этрусского рода. Не занимал государственных должностей, но благодаря своему огромному богатству оказывал влияние на политику, всегда выступая на стороне Октавия. Сыграл важную роль при заключении договоров своего патрона с Марком Антонием в Брундизии и Таренте, впоследствии замещал в Риме Октавия, получившего в 27 г. до н. э. имя Августа, во время его поездки на Восток, покровительствовал поэтам, художникам, артистам и поддерживал их материально. Имя Мецената стало нарицательным, обозначая лиц, покровительствующих писателям и художникам.
(обратно)244
Ливия Друзилла была женой политического противника Цезаря Тиберия Клавдия Нерона и вынуждена была бежать с мужем из Рима после убийства Цезаря. Расчетливая и красивая, привыкшая вращаться в высших кругах аристократии, она не хотела закончить свои дни в изгнании и, добившись прощения своему мужу, возвратилась в Рим. Здесь она сделала все от нее зависящее, чтобы снова войти в свет, и соблазнила Октавия. Общих детей у Октавия и Ливии не было. Из этого факта можно сделать вывод, что Ливия, подбирая Октавию женщин для сексуальных утех, действительно ставила перед собой политические цели, поскольку выведывала через этих женщин, в большинстве своем ее ближайших подруг и фавориток, замыслы противников и рассказывала о них мужу. Таким образом она одним выстрелом убивала сразу двух зайцев: с одной стороны, не позволяла никому из женщин повторить ее опыт вхождения во власть, а с другой – на случай, если Октавий влюбится в одну из ее подруг и фавориток, «разбавляла» их молоденькими девушками, которых, по свидетельству Светония, «отовсюду добывала сама».
(обратно)245
Обвинение Ирода в гибели Аристовула получило широкое распространение уже в то делакое от нас время. А поскольку царь в первые минуты после смерти юноши сам был в шоке и не нашелся что возразить Александре, его молчание было расценено как признание в заранее продуманном и осуществленном по его приказу преступлении. Ни тогда, ни позже Ирод не стал отводить от себя эти обвинения в силу их очевидной абсурдности: Аристовул не только не претендовал на трон, но, скорее, укреплял позиции Ирода как царя Иудеи, поскольку, став первосвященником и главой синедриона, снял с Ирода всякую ответственность за соблюдение народом законов и вынесение приговоров, в том числе смертных. Тем не менее как современники Ирода, так и последующие историки приписали гибель Аристовула коварству Ирода и выстроили даже целую концепцию в обоснование возведенной на него напраслины, не выдерживающей, впрочем, критики. Так, Иосиф Флавий спустя почти полтора столетия после трагедии, случившейся в Иерихоне, писал: «Когда вскоре наступил праздник Кущей, празднующийся у нас с большой пышностью, он (Ирод. – В. М.) весело провел эти дни, предаваясь вместе со всем остальным народом удовольствиям. Впрочем, по этому поводу чувство зависти вскоре побудило его привести в исполнение задуманное намерение. Дело в том, что когда юный Аристовул, достигший тогда семнадцатилетнего возраста, в полном первосвященническом облачении приступил к алтарю, чтобы принести жертву и совершить все по установленному ритуалу, и при этом обнаружилась его необыкновенная красота и статность, явный признак его родовитого происхождения, собравшуюся толпу народную охватил нескрываемый экстаз, и все вспомнили о деяниях, совершенных его дедом Аристовулом (младшим братом Гиркана, объявившим себя царем, о чем у нас шла речь в первой части книги. – В. М.). Побежденная этим чувством толпа сейчас же обнаружила свое настроение, стала громко и бурно выражать свой восторг кликами и пожеланиями всякого благополучия, так что тут обнаружился весь восторг народа, притом в более высокой степени выражалась благодарность за прежде полученные благодеяния, чем то было позволено в присутствии настоящего царя. Вследствие всего этого Ирод решился привести в исполнение свой замысел относительно юноши. Когда однажды, по миновении праздника, Ирод обедал в Иерихоне, куда Александра пригласила его вместе с сыном, царь весело шутил с юношей, а затем увлек его в отдаленное место и здесь стал предаваться в его обществе различным играм и юношеским забавам. Но так как здесь стало слишком жарко, то они скоро утомились и вышли освежиться к тем большим прудам, которые находились на дворе и несколько освежали полуденный зной. Они сперва глядели, как купались служители и приближенные, а затем и Аристовул, по совету Ирода, полез в воду. Тут приятели, которым Ирод заранее отдал соответствующее распоряжение, стали как бы в шутку погружать Аристовула в воду и не раньше отпустили его, пока он не потонул. Таким образом погиб Аристовул, которому было всего только восемнадцать лет».
(обратно)246
Песн. II. 2:13.
(обратно)247
Под позорной казньюво время Ирода понималось распятие на кресте. Введенное впервые в Карфагене, оно по окончании Пунических войн (после 146 г. до н. э.) было заимствовано римлянами и применялось к рабам и неримлянам. Граждане Рима приговаривались к распятию лишь в случаях перехода на сторону врага во время войн. Распятие как вид смертной казни, предполагавший долгую мучительную смерть, был запрещен эдиктом Константина в 314 г. н. э.
(обратно)248
Песн. П. 6:8–9.
(обратно)249
Читателя, привыкшего к тому, что в условиях, напр., Москвы – не самого отсталого в организации почтового дела города, в котором корреспонденция доставляется адресату в лучшем случае на 10–12-й день после отправки, – может удивить столь часто упоминаемый в нашей книге обмен письмами государственного, частного и конфиденциального характера и быстрота их доставки по месту назначения. Однако ничего удивительного в этом нет. Слово почта(от лат. posta) означает «место стоянки для смены лошадей» (русск. аналог – ямы, откуда «ямщик», позже «станции»). Первые почтовые станции возникли в Древней Персии как государственные учреждения и до сих пор остаются таковыми в большинстве государств. Именно персидские цари стали устраивать на дорогах на расстоянии 20–40 км одна от другой станции для смены лошадей и ночного отдыха. У персов организацию почтового дела заимствовали греки, а у греков римляне. В Египте после прихода к власти династии Птолемеев на станциях велись записи о времени поступления и отправки корреспонденции. Август учредил cursus pudlicus– государственную почту, которая, с учетом первоклассных римских дорог и налаженного морского сообщения, сделала доставку корреспонденции адресатам сопоставимой по скорости с нашими днями. Существовало три виды оказания почтовых услуг: пешая, конная и курьерская. Дневная норма для пеших переходов составляла 30 км, конной – 75 км, курьерской – 200 км. Для доставки частной корреспонденции морем использовались грузовые суда, по суше – дилижансы, осуществлявшие также пассажирские перевозки. Жители поселений, где находились почтовые станции, обязаны были заботиться о почтовых служащих, обеспечивая их питанием и ночлегом, заботиться о лошадях и содержать в порядке приписанный к их поселению участок дороги, за что государство выплачивало им жалование из казны.
(обратно)250
Песн. П. 4:16.
(обратно)251
Там же, 5:1.
(обратно)252
Акций– город и мыс на северо-западе Греции на берегу Амбракского залива (ныне гор. Арта и Артрийский залив). Славился древним храмом Аполлона, которого Октавий почитал как своего бога-покровителя. После поражения Антония 2 сентября 31 г. до н. э., Октавий приказал расширить и украсить этот храм, а в окрестностях Акция провести спортивные состязания в ознаменование своей победы и в честь Аполлона.
(обратно)253
Марк Випсаний Агриппа– друг и сподвижник Октавия, ставший благодаря своим способностям видным полководцем и государственным деятелем Римской империи. Родился в Далмации в крестьянской семье. Гонимый нуждой, оказался в Греции, где познакомился и подружился со своим ровесником Октавием. После убийства Цезаря перебрался вместе с Октавием в Рим. В ходе гражданской войны между Антонием и Октавием сыграл решающую роль в победе при Перусии, затем участвовал в ряде европейских походов. В частности, вытеснил с правого берега Рейна на левый германское племя убиев и основал там римскую колонию, названную его именем – Агриппинова колония (Colonia Agrippinensias, совр. гор. Кёльн). Пользовался огромным влиянием на Октавия и во многом благодаря ему Октавий стал императором, получив имя Август(«возвеличенный»). Забегая вперед, скажем: Агриппа на собственные средства построил множество общественных зданий и сооружений в Риме (в частности, Пантеон и водопровод), провел геодезическую съемку территории всей Римской империи, получил известность как литератор. Был женат на дочери Октавии от первого брака Марцелле, но в 21 г. до н. э. Август развел его со своей племянницей и женил на собственной дочери Юлии, овдовевшей после ранней смерти Марцелла Клавдия. Три сына Агриппы и Юлии – Гай Цезарь, Луций Цезарь и родившийся после смерти отца Агриппа Постум – умерли рано; дочь Агриппы и Юлии, Агриппина Старшая, родившаяся за два года до смерти отца, стала женой племянника будущего императора Тиберия – Германика, от которого родила девятерых детей, в их числе Калигулу – императора в 37–41 гг. н. э., и Агриппину Младшую, мать императора Нерона. Ирод, как мы увидим из дальнейшего повествования, подружился с Агриппой и назвал в его честь своего внука от Аристовула (второго сына Мариамны), который вошел в историю под именем Агриппа I; его сын (и, т. о., правнук Ирода и Мариамны), также названный Агриппой (28–92 гг.), известный нам по книге Деяния святых апостолов, стал последним царем Иудеи и с его смертью оборвалась династия Ирода Великого.
(обратно)254
Шеол– евр. слово, которому соответствует греч. гадес, что часто не совсем верно переводится как «ад», «преисподняя», «царство мертвых». Саддукеи не верили в загробную жизнь. В этом отношении шеолскорее можно перевести как «пустота», соответствующая русск. проклятию «чтоб тебе пусто было» (не смерть, не мучения, не другая какая кара, а именно пусто). По учению саддукеев, в шеоле, или в «пустоте», наступающей после смерти человека (суть – в могиле), «нет ни работы, ни размышления, ни знания, ни мудрости» (Еккл. 9:10). Подобно греческим гедонистам (от греч. hedone– «веселье», «наслаждение», «удовольствие»), саддукеи считали, что человек рожден для максимально полного наслаждения жизнью, и именно стремление к вечному празднику является мотивом и целью поступков людей. Поэтому-то саддукеи поддерживали сильную царскую власть, ограждающую их от зависти черни, которой не дано в полной мере насладиться всеми радостями, которая предоставляет человеку жизнь. Удивительно, но факт: в Новом завете деятельность саддукеев обходится практически молчанием (не считать же, в самом деле, изгнание Христом торгашей-саддукеев из храма осуждением их образа жизни, или считать развенчанием их философии столкновения Христа с саддукеями, когда те обратились к Нему с вопросом: «Учитель! Моисей сказал: “если кто умрет, не имея детей, то брат его пусть возьмет на себя жену его и восстановит семя брату своему”. Было у нас семь братьев: первый женившись умер и, не имя детей, оставил жену брату своему; подобно и второй, и третий, даже до седьмого; после же всех умерла и жена. Итак, в воскресении, которого из семи будет она женою? ибо все имели ее»; и ответ Христа на этот не лишенный остроумия вопрос: «Заблуждаетесь, не зная Писаний, ни силы Божией; ибо в воскресении ни женятся, ни выходят замуж, но пребывают, как Ангелы Божии на небесах», см. Мат. 22:24–30; добавление же, сделанное к этому ответу Христом, и вовсе смазывает суть веры в воздаяние в загробном мире за дела, совершенные при жизни, ни в смысле награды, ни в смысле наказания: «Бог не есть Бог мертвых, но живых», см. т а м ж е, 22:32).
(обратно)255
Геенна– греч. форма евр. гехена, или гехинномв значении «ад», «преисподняя», «царство мертвых». Встречается только в Новом Завете, что свидетельствует о появлении этого понятия не ранее конца IV – начала III вв. до н. э. (работа над Ветхим Заветом была завершена не позднее V в. до н. э., когда Ездра со своими учениками соединил все его книги в единое целое). Слово «геенна» произведено, предположительно, от названия Енномовой долины – некогда плодородной местности, начинающейся к западу от Иерусалима, далее сворачивающей на юг, пересекая дорогу на Яффу, затем приближающейся к Сиону и на востоке сливающейся с Кедронской долиной. По преданию, здесь евреи-идолопоклонники сжигали своих детей, принося жертву Молоху, откуда произошло другое название этой долины – Тофет(т. е. «гарь»). Читаем: «Сыновья Иуды делают злое пред очами Моими, говорит Господь; поставили мерзости свои в доме, над которым наречено имя Мое, чтоб осквернить его; и устроили высоты Тофета в долине сыновей Енномовых, чтоб сожигать сыновей своих и дочерей своих в огне, чего Я не повелевал, и что Мне на сердце не приходило. За то вот, приходят дни, говорит Господь, когда не будут более называть место сие Тофетом и долиною сыновей Енномовых, но долиною убийства, и в Тофете будут хоронить по недостатку места. И будут трупы народа сего пищею птицам небесным и зверям земным, и некому будет отгонять их. И прекращу в городах Иудеи и на улицах Иерусалима голос торжества и голос веселия, голос жениха и голос невесты; потому что земля эта будет пустынею» (Иер. 7:30–34). Впоследствии эта местность была превращена в городскую свалку, где сжигался мусор, а сама долина получила название «долина Ге-Хинном», или «огненная Ге-Хинном», превратившись в символ вечной муки грешников, и в таком качестве употребляется в Новом Завете.
(обратно)256
Версию о том, что Гиркан был казнен по приговору синедриона, мы находим у Иосифа Флавия, который сослался при этом на свидетельство самого Ирода: «Все это мы описываем, как рассказано в мемуарах самого царя Ирода». Существовали и другие версии казни Гиркана, не дошедшие до нас. Но они были доступны Иосифу Флавию, и вот как они выглядят в его изложении: «У других писателей имеются, впрочем, на этот счет разногласия, а именно: будто Ирод велел казнить Гиркана не за это дело (сговор с Малхом. – В. М.), но основываясь на всегдашних интригах последнего против него. По этим источникам выходит, будто Ирод задал во время пира ничего не подозревавшему Гиркану вопрос, не получал ли он каких-либо писем от Малха; когда Гиркан сказал, что в письме Малх послал ему только привет, то Ирод будто бы спросил, не получил ли при этом Гиркан чего-либо в подарок от арабского правителя. Когда же старик ответил, что принял от араба лишь четырех верховых коней, Ирод в этом усмотрел подкуп и измену и велел казнить старика. В виде же доказательства того, что Гиркан совершенно невинно умер таким образом, писатели приводят не только мягкость его характера, в силу которой он даже в юности не выказывал ни смелости, ни предприимчивости, почему он в то время, как сам имел в руках своих царскую власть, лично вовсе не пользовался ею, но предоставил ее почти целиком Антипатру (отцу Ирода. – В. М.) из расположения к последнему. В данное же время ему шел уже восемьдесят второй год; он знал, что Ирод вполне упрочил за собой власть свою; при этом он ведь также приехал из-за Евфрата, где покинул глубоко чтившее его население, чтобы совершенно отдаться во власть Ирода. Ввиду всего этого совершенно неправдоподобно, будто Гиркан домогался чего-либо или принимал участие в заговоре; всему этому препятствовал весь склад его характера, и потому все это произошло вследствие подозрительности одного только Ирода».
Последнее замечание историка подтверждает нашу версию о том, что Ирод изначально вовсе не стремился стать царем Иудеи (вспомним: отправившись в Рим для встречи с Антонием, он предлагал утвердить на царском троне своего шурина Аристовула, в то время еще подростка и позже так нелепо утонувшего в пруду, что также было приписано коварству Ирода), однако раз став царем и утвердившись на троне в ходе изнурительной трехлетней войны с Антигоном и преодоления неприязни к нему как чужеземцу евреев, он вошел во вкус власти и если был готов отказаться от нее, то не в результате дворцовых интриг, а лишь по решению Рима, который утвердил его в этой должности и который один только вправе был эту должность у него отобрать. Читатель вскоре легко в этом убедится, когда познакомится с диалогом, состоявшимся между Иродом и Октавием в ходе их личной встречи на острове Родос.
(обратно)257
Итурея– область на крайнем северо-востоке Палестины. Названа так по имени десятого сына Измаила Иетуры (см. Быт. 25:15). Итурейцы находились во враждебных отношениях с евреями и называются в Библии народом диким и склонным к грабежам. Ирод, чуждый национальной ограниченности, широко привлекал к сотрудничеству представителей разных народов, проживавших на территории Иудеи, в т. ч. итурейцев. По завещанию, составленному перед смертью Иродом, Итурея была отдана его сыну Филиппу, который построил здесь город Кесария Филиппова. Этот город упоминается в Новом Завете: «Пришед же в страны Кесарии Филипповой, Иисус спрашивал учеников Своих: за кого люди почитают Меня, Сына Человеческого? Они сказали: одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию, а иные за Иеремию или за одного из пророков» (Мат. 16:13–14). Известно также, что в этом городе Тит отпраздновал разрушение Иерусалима пиром и кровавым зрелищем, во время которого пленные евреи бросались на съедение диким зверям.
(обратно)258
Слухи эти распространялись не без ведома Октавия с целью дезинформации Антония. На эти-то слухи и опирался Плутарх при описании войны между двумя триумвирами, по-своему истолковав всё последующее поведение Антония: «Канидий привозит Антонию известие о бедственном положении его войска при Акциуме (здесь имеется в виду войско, оставшееся на суше во время морского сражения двух неприятельских флотов. – В. М.). В это же время Антоний узнает, что Ирод, царь иудейский, перешел на сторону Цезаря с несколькими легионами и когортами, что таким же образом поступили и все другие азиатские властители и что у него не остается ни одного внешнего союзника. И эти вести не смущают Антония; по-видимому, он даже радуется разрушению всех своих надежд, чтобы ни о чем более не заботиться, покидает свое морское убежище, возвращается во дворец Клеопатры и вновь увлекает город в празднества, роскошь и разврат. Он и царица уничтожают общество Неподражаемой Жизни и основывают другое общество – Умирающих Вместе, не уступающее первому ни в роскоши и великолепии, ни в изнеженности. Друзья их вступают в это общество, чтобы умереть вместе с ними, и оно проводит день за днем в пиршествах».
(обратно)259
Светоний приводит следующий пример властного воздействия внешности Октавия на окружающих: «Лицо его было спокойным и ясным, говорил ли он или молчал: один из галльских вождей даже признавался среди своих, что именно это поколебало его и остановило, когда он собирался при переходе через Альпы, приблизившись под предлогом разговора, столкнуть Августа в пропасть».
(обратно)260
О непритязательности вкусов Октавия свидетельствует тот же Светоний: «Что касается пищи – я и этого не хочу пропустить, – то ел он очень мало и неприхотливо. Любил грубый хлеб, мелкую рыбешку, влажный сыр, отжатый вручную, зеленые фиги второго сбора; закусывал им и в предобеденные часы, когда и где угодно, если только чувствовал голод. Вот его собственные слова из письма: “В одноколке мы подкрепились хлебом и финиками”. И еще: ”Возвращаясь из царской курии, я в носилках съел ломоть хлеба и несколько ягод толстокожего винограда”. И опять: ”Никакой иудей не справлял субботний пост с таким усердием, милый Тиберий, как я постился нынче: только в бане, через час после захода солнца, пожевал я кусок-другой перед тем, как растираться”. Из-за такой беззаботности он не раз обедал один, до прихода или после ухода гостей, а за общим столом ни к чему не притрагивался».
(обратно)261
Трахонитская область– обширная территория, расположенная к северо-востоку от Геннисаретского озера, и занимавшая пространство от Дамаска на севере до Аврана на юге. Представляла собой скалистую местность с множеством подземных пещер, в которых обитали ее жители вместе со своими стадами. Городов они не строили, как, впрочем, не занимались и никаким другим трудом, кроме скотоводства. Не чурались они и набегов на своих соседей, из-за чего за ними закрепилась репутация разбойников.
(обратно)262
Авранитида– суть Авран, земля, примыкающая к югу Трахонитской области, и уже в древности привлекавшая внимание ближневосточных правителей благодаря своим плодородным долинам и тучным пастбищам. Через Авран проходила караванная дорога на Мекку. Авранитида известна многочисленными развалинами времен античности, многие из которых еще ждут своих исследователей.
(обратно)263
Ливия– греческое название всей Африки за исключением Египта и Эфиопии. Название это употреблялось наряду с лат. Африка, названной так римлянами после поражения Карфагена в 146 г. до н. э. по имени одного из местных племен афров. Страна эта была хорошо известна древним евреям: еще в середине Х в. до н. э. они совместно с финикийцами предприняли морскую экспедицию в легендарную страну Пунт, как называлась некогда территория современного Сомали. Можно предположить, что африканкой (суть – ливийкой) была воспетая Соломоном негритянка Суламита (сама она, обращаясь к светлокожим жительницам Иерусалима, говорит так: «Дщери Иерусалимские! черна я, но красива, как шатры Кидарские, как завесы Соломоновы», см. Песн. П., 1:4). Ливийцы, или ливияне (евр. лувим), упоминаются в Библии как союзники Египта и Эфиопии. Так, читаем: «На пятом году царствования Ровоама (сына Соломона и аммонитянки Наамы, на 41-м году жизни занявшего после смерти отца царский престол и, по сути дела, положившего начало разделению наследия Соломона на два царства – северное Израильское и южное Иудейское. – В. М.), Сусаким, царь Египетский (по историческим источникам – фараон Шешенк I, первый правитель Египта 22-й, или бубастской, династии, оказавший покровительство Иеровоаму и по его совету начавший войну с Ровоамом. – В. М.), пошел на Иерусалим, – потому что они отступили от Господа, – с тысячью и двумястами колесниц и с шестьюдесятью тысячами всадников; и не было числа народу, который пришел с ним из Египта, Ливиянам, Сукхитам (жители гор. Сухе, расположенного на западном побережье Аравийского залива, упоминаемого Плинием Старшим. – В. М.) и Ефиоплянам» (2 Пар. 12:2–3). С тех давних пор контакты между евреями и ливийцами практически не прекращались, а во времена массового расселения евреев по миру немалое их число осело в Ливии. Верные традиции, эти ливийские евреи наряду с евреями из других диаспор, утратившими свой язык, приезжали на праздники в Иерусалим, приводя с собой своих друзей из числа местных жителей стран нового их обитания, о чем можно прочитать в Деян. 2:5-12.
(обратно)264
Это место никогда не было глухим и безлюдным; скорее наоборот, оно было, пожалуй, излишне оживленным, поскольку через него проходили главные торговые и военные пути, соединявшие Азию с Африкой. Можно предположить, что Клеопатра, выпрашивая у Октавия этот небольшой участок земли для поселения там с Антонием, намеревалась взять под свой контроль всю древнюю международную торговлю. В XIX в. именно здесь был прорыт Суэцкий канал, сыгравший неоценимую роль в оживлении морских связей между Европой и Азией.
(обратно)265
Еккл. 3:1–8.
(обратно)266
Для сравнения: ежегодный доход одного из богатейших людей древности – царя Соломона составлял 666 талантов золота. Эта сумма складывалась из торговых операции (450 талантов), подарков, которые везли ему со всех концов земли (одна только царица Савская поднесла Соломону подарки на сумму 120 талантов), остальную сумму составляли налоги, собираемые с населения. О том, каким тяжелым бременем ложились на население эти налоги, можно судить по словам, с которыми обратился Иеровоам, возглавивший после смерти царя народное шествие к его сыну Ровоаму: «Отец твой наложил на нас тяжкое иго, ты же облегчи нам жестокую работу отца твоего и тяжкое иго, которое он наложил на нас, и тогда мы будем служить тебе» (3 Цар. 12:4). Надменный ответ Ровоама – «Отец мой наложил на вас тяжкое иго, а я увеличу иго ваше; отец мой наказывал вас бичами, а я буду наказывать вас скорпионами» (там же, 12:14) – вызвал народное возмущение и привел к вторжению в Иерусалим иноземных войск во главе с египетским фараоном Шешенком I и развалу Израильское царство.
(обратно)267
Дары данайцев– в эпосе Гомера данайцами, или ахейцами, назывались греки, осадившие Трою. Отчаявшись взять город штурмом, они прибегли к хитрости, предложив троянцам дар в виде огромного деревянного коня, внутри которого были спрятаны вооруженные греческие воины. Жрец Лаокоон тщетно призывал сограждан не принимать этот дар. За это два змея обвились вокруг него и двух его сыновей и задушили их. Троянцы восприняли смерть жреца и его сыновей как божественное знамение и ввели в город коня, уготовив тем самым себе гибель. Смерть Лаокоона и его сыновей послужила сюжетом для знаменитой мраморной группы, изваянной родосскими скульпторами Агесандром, Афинодором и Полидором, с которой была сделана римская копия (найдена в 1506 г. и хранится ныне в Ватиканском музее).
(обратно)268
Забегая вперед, скажем, что десятью годами позже, когда Октавий – тогда уже император Август – снова посетит восточные провинции, он назначит Ирода наместником всей Сирии, предоставив ему чрезвычайные полномочия по управлению этим обширным краем. Отныне никто из местных царей не имел права предпринять что-либо по собственному усмотрению, не получив предварительно на то одобрения Ирода. Ирод же, обладая от природы недюжинными дипломатическими способностями, сделает всех их своими друзьями и назовет их именами своих внуков (так, в частности, получит непривычное для еврейского слуха армянское имя Тигран его внук от Александра, сына Мариамны).
(обратно)269
Щиты пехотинцев, как правило, покрывались слоем металла (в т. ч. драгоценного), который накануне боя тщательно очищался от пыли и грязи и покрывался чехлами. Во время боя чехлы снимались с тем, чтобы солнце, отражавшееся в них, ослепляло противника.
(обратно)270
Софисты(от греч. sophistai– «учитель мудрости») – духовно-воспитательное и философское течение, возникшее в V в. до н. э. в Греции и позже распространившееся по всему древнему миру. Активная общественная жизнь, развитие демократии и правосознания, нашедшего отражение в многочисленных судебных процессах, потребовали глубоких общих и специальных знаний. Получить эти знания можно было у софистов за деньги. Одной из важнейших характеристик софистики являлась тесная связь между теоретическим знанием и практической жизнью, а также переориентация философского исследования с природы на человека, общество, на правовые отношения, этику и теорию познания. Если природа следует неизменным законам, учили софисты, то установления, принимаемые человеком и обществом, подвержены изменениям, и потому об одном и том же явлении можно судить двояко, причем с взаимоисключающих позиций. «Сомневайся во всем» – вот главный принцип софистики. Крупнейшие представители школы софистики того времени, такие, как Фаворин, Элий Аристид, упоминаемый Плутархом Филострат и др., оказали сильное влияние на все сферы общественной жизни древнего мира, в т. ч. на религию. Влияние софистики испытали на себе и книжники, обучавшие евреев иудаизму. Не без влияния софистики в недрах иудаизма, часто рассматриваемого как религия народа, тяготеющего к неизменным истинам, подобным неизменным законам, властвующим в природе, возникли зачатки нового учения – христианства, поставившего во главу угла человека во всем многообразии проявления его сущности, не поддающейся воздействию раз и навсегда данных установлений, а делающего сознательный выбор в пользу добра и справедливости.
(обратно)271
Октавия– здесь имеется в виду сестра триумвира и жена Антония.
(обратно)272
Стратонова башня– цитадель, связывавшая подземным переходом Храм с дворцом Маккавеев, о чем говорилось выше, была полностью снесена и на ее месте возведена Антониева башня, или просто Антоний, как прозвали ее в народе. Новая цитадель представляла собой мощное оборонительное сооружение, которое, по замыслу Ирода, должно было свидетельствовать о несокрушимой силе и надежности его друга. Эта башня стала самым высоким сооружением в Иерусалиме и производила несколько мрачное впечатление, что было сразу же отмечено как современниками Ирода, так и позднейшими писателями (вот как, напр., описывает в романе «Мастер и Маргарита» Михаил Булгаков Иерусалим времен Понтия Пилата: «Тьма, пришедшая со Средиземного моря, накрыла ненавидимый прокуратором город. Исчезли висячие мосты, соединяющие храм со страшной Антониевой башней, опустилась с неба бездна и залила крылатых богов над гипподродромом, Хасмонейский дворец с бойницами, базары, караван-сараи, переулки, пруды…»). Но таково, увы, было изначальное намерение Ирода – придать памятнику другу именно мрачный, наводящий страх на своих недругов характер. Намерение это было в полной мере осуществлено.
(обратно)273
Блудницы, равно как блудники, осуждались законом: «Не должно быть блудницы из дочерей Израилевых, и не должно быть блудника из сынов Израилевых. Не вноси платы блудницы и цены пса в дом Господа, Бога твоего, ни по какому обету; ибо то и другое есть мерзость пред Господом, Богом твоим» (Вт. 23:17–18). Тем не менее проституция с древнейших времен существовала в еврейской среде. В хрестоматийном примере суда Соломона над двумя женщинами, не сумевшими поделить между собой ребенка, речь идет о двух проститутках, у одной из которых сын умер, а у другой остался жив (см. 3 Цар. 3:16–27). С воцарением Ровоама, сына Соломона, и распространением язычества с его обрядами, в т. ч. кровавыми, блудницы и блудники проникли даже в Храм. Читаем: «И делал Иуда неугодное пред очами Господа, и раздражали его более всего то, что сделали отцы их своими грехами, какими они грешили. И устроили они у себя высоты, и статуи, и капища на высоком холме и под всяким тенистым деревом. И блудники были также в этой земле, и делали все мерзости тех народов, которых Господь прогнал от лица сынов Израилевых» (3 Цар. 14:22–24). Впрочем, сами блудницы и блудники называли себя кадешаи кадеш, что означает «посвященная» и «посвящен». Они ткали одежды для Астарты, участвовали в храмовых службах, а нередко и жили при Храме (до сих пор не прекращаются споры о том, действительно ли огромное число комнат, опоясывавших Храм Соломона, предназначались для хранения храмовой утвари, или это были помещения, в которых жили профессиональные проститутки). Со временем продажная любовь в Иудее достигла таких размеров, что пришлось открывать дома терпимости («блудилищные дома»), а когда и их стало не хватать, проститутки вышли на улицы. Часами они сидели, закрыв лица покрывалами, и терпеливо дожидались клиентов (см. в этой связи Быт. 38:1-30, где описана история четвертого сына Иакова от Лии Иуды и его невестки Фамари, которую он поочередно выдал замуж за своих сыновей Ира и Онана, оставшихся при своей жизни бездетными, а поскольку младший сын Шела был еще слишком мал, Фамарь облачилась блудницей, сошлась со своим свекром и родила ему близнецов – Фареса и Зару). При Ироде, как и в Риме, на проституцию стали смотреть снисходительно и разрешали заниматься этим ремеслом тем, кто внес в казну соответствующий налог. (Фарес назван в родословной Иисуса Христа, см. Мат. 1:3).
(обратно)274
Прежнее прошло– это диалектическое убеждение, что все в мире находится в постоянном движении и никогда не возвращается к изначальному положению вещей, восходит к учению Гераклита (VI–V вв. до н. э.), который выступал против традиционных народных верований в вечность и неизменность богов. Первооснову мира Гераклит видел в постоянном движении, изменениях, воплотившихся в формуле panta rhei– «все течет». В иудаизме эта формула воплотилась в соломоново «все суета сует», а у ессеев в убеждение, что земные блага, как и собственность, преходящи и потому не заслуживают того, чтобы стремиться к обладанию ими. Эта же формула получила в раннем христианстве новое наполнение, истолковывающее земные страсти и страдания как юдоль, которая непременно пройдет, и наступят времена, свободные от всего прежнего: «И услышал я громкий голос с неба, говорящий: се, скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними; они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их; и отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет; ибо прежнее прошло» (Отк. 21:3–4).
(обратно)275
Эн-Геди– в пер. с евр. «Козий источник». Узкая долина, шириной в несколько сот метров на юго-западе Мертвого моря, расположенная между Иудейскими горами на западе, горами Моаф на востоке, пещер Вади-Кумран на юге и скалой Масада на севере, где сохранились руины крепости Ирода. Представляет собой уникальный по живописности и богатству животного и растительного мира уголок природы площадью всего 14 квадратных километров, где по инициативе правительства Израиля в 1972 г. был создан заповедник Эн-Геди. Славится эта территория тем, что летняя среднегодовая температура здесь не поднимается выше 35 градусов Цельсия, а зимняя не опускается ниже плюса 20, что позволяет людям загорать круглый год, не опасаясь ожогов из-за слабого ультрафиолетового излучения. Изобилует каскадом водопадов, которые питают четыре источника – Аргут, Давид, Эн-Шулам и собственно Эн-Геди. Согласно древней легенде, именно здесь прятался от царя Саула юный пастух Давид. Жива также легенда о том, что Марк Антоний подарил этот участок земли Клеопатре с тем, чтобы она могла пользоваться косметикой, изготавливаемой из произрастающих здесь бальзамовых деревьев. Здесь во времена Ирода поселились ессеи; в пещерах Кумрана в 1947 году пастух-бедуин случайно обнаружил кувшины со свитками, датируемыми 130 г. до н. э. – 30 г. н. э. Особо примечателен т. н. медный свиток, состоящий из трех медных пластин. Текст на этом свитке представляет собой опись множества кладов с указанием мест их захоронения (напомню читателем, что ессеи были абсолютно равнодушны к богатству). Суммарный вес слитков и изделий из золота и серебра, зарытых ессеями, составлял, если верить тексту медного свитка, 200 тонн! Но главное богатство Эн-Геди – это горные козлы, даманы, похожие на сурков, и леопарды. Впрочем, любители природы найдут здесь и множество пернатых и пресмыкающихся (в т. ч. ядовитая эфа и палестинская гадюка, за которыми охотятся ястребиные орлы), и буйную растительность – дерево унаби с множеством колючек (уверяют, что из его ветвей был сплетен венец, надетый на голову Христа перед казнью), заросли папируса, олеандры, те же бальзамовые деревья, из которых до сих пор получают сырье для изготовления мазей, кремов и др. косметики.
(обратно)276
Иосиф Флавий пишет, что это была чума. Однако по тому, что мор обрушился на Иудею внезапно и столь же внезапно прекратился, маловероятно, что это была чума. Вообще же следует заметить, что евреи считали все болезни, насылаемые на людей, карой Господней за совершенные ими грехи. Происходило это, по-видимому, оттого, что в целом евреи, благодаря климату и непритязательному образу жизни, отличались крепким здоровьем, позволявшим им до глубокой старости сохранять физические и духовные силы. Чаще всего они болели теми болезнями, какими болеют люди и сегодня: расстройством желудка, различными кожными заболеваниями, а также болезнями глаз, что объясняется ярким солнцем и частыми пыльными бурями. Описываются в Библии и разного рода психические заболевания, что в общем-то не редкость у людей фанатично верующих и сверяющих каждый свой шаг с предписаниями закона. Случаи серьезных хронических или заразных заболеваний были довольно редки, хотя в Библии упоминаются такие болезни, как проказа, причем евреи различали два вида проказы – черную, которую они называли «египетской проказой», и белую, или анестетическую. Черная проказа начиналась с появления на лице и теле небольших красных пятен величиной с булавочную головку, которые быстро разрастались и достигали размера грецкого ореха. Пятна эти превращались в гнойные нарывы, источавшие зловонный запах, разъедали мясо до костей, появлялся жар, затем человек испытывал общее утомление, заканчивавшееся смертью. (Запрет касаться мертвого тела, даже если это тело близкого человека, проистекал, можно предположить, из-за угрозы заразиться.) Белая проказа поражала чаще всего пальцы рук и ног, реже лицо. И в этом случае появлялись гнойные волдыри, которые приводили к тому, что пораженные участки тела отваливались кусками. В отличие от черной проказы, всегда заканчивавшейся смертью больного, белая проказа порой проходила сама собой, оставляя на теле рубцы. Полагают, что случай белой проказы описан в Библии: «Если на ком язва проказы, то должно привести его к священнику. Священник осмотрит, и если опухоль на коже бела, и волос изменился в белый, и на опухоли живое мясо, то это застарелая проказа на коже тела его; и священник объявит его нечистым и заключит его; ибо он нечист. Если же проказа расцветет на коже, и покроет проказа всю кожу больного от головы до ног, сколько могут видеть глаза священника, и увидит священник, что проказа покрыла все тело его, то он объявит больного чистым; потому что все превратилось в белое; он чист» (Лев. 13:9-13).
(обратно)277
Плакальщицы– профессиональные исполнительницы ритуального погребального плача, впервые появившиеся на Востоке. О том, насколько эта профессия была распространена на Востоке и, в частности, в Иудее, можно судить по следующим словам Библии: «Так говорит Господь Саваоф: подумайте, и позовите плакальщиц, чтоб они пришли; пошлите за искусницами в этом деле, чтоб они пришли. Пусть они поспешат и поднимут плач о нас, чтоб из глаз наших лились слезы, и с ресниц наших текла вода» (Иер. 9:17–18). С возникновением державы Александра Македонского профессиональные плакальщицы появляются в Греции, а затем и в Риме.
(обратно)278
Иер. 9:20–22.
(обратно)279
Самария– следует отличать Самарию как страну, расположенную между Иудеей на юге и Галилеей на севере, от города Самария. Изначально Самарией (от др. – инд. aсmarasи др. – перс. asmara– «каменный») называлась гора в центральной части Палестины, принадлежавшей некоему Семиру(евр. Шемер), продавшему ее царю Израиля Амврию, правившему с 929 по 918 гг. до н. э. Читаем: «И купил Амврий гору Семерон за два таланта серебра, и застроил гору, и назвал построенный им город Самариею, по имени Семира, владельца горы» (3 Цар. 16:24). Название города распространилось на всю землю, населенную самаритянами.
В описываемое нами время Ирод находился в городеСамария, который он позже отстроил заново и назвал его Себастой(от греч. sebaste– «славный»).
(обратно)280
Пост(евр. цом) – религиозный обряд, установленный в память принятия Моисеем из рук Предвечного скрижалей с десятью заповедями: «И при Хориве вы раздражили Господа, и прогневался на вас Господь, так что хотел истребить вас, когда я взошел на гору, чтобы принять скрижали каменные, скрижали завета, который поставил Господь с вами, и пробыл на горе сорок дней и сорок ночей, хлеба не ел, и воды не пил, и дал мне Господь две скрижали каменные, написанные перстом Божиим; а на них все слова, которые изрек вам Господь на горé из среды огня в день собрания» (Втор. 9:8-10). Пост устанавливался в день очищения, приходящийся на начало осенних ветров, во времена общественных бедствий или когда люди готовились к какому-нибудь важному делу. Постящиеся одевались во вретища из грубой ткани, посыпали голову пеплом и воздерживались от пищи в течение определенного времени, прося у Бога милости и помощи. В Новом Завете нет заповеди о посте, но известно, что и Христос, и Его апостолы постились: «Тогда Иисус возведен был Духом в пустыню, для искушения от диавола, и, постившись сорок дней и сорок ночей, напоследок взалкал» (Мат. 4:1–2).
(обратно)281
Батланимы– суть «свободные люди». Не менее 10 батланимов обязаны были присутствовать на всех синагогальных службах для того, чтобы собрание могло считаться открытым. Это были или состоятельные граждане, не обремененные постоянной работой и имевшие в синагогах свои места (в Александрийской синагоге, напр., стулья таких граждан были сделаны из золота), или нанимаемые за плату члены общины.
(обратно)282
Разводное письмо– письменное уведомление о намерении расторгнуть брачные узы. Брак у евреев, несмотря на полигамию, считался делом святым, т. к. в нем осуществлялась идея Предвечного снова соединить некогда разъединенные части человеческого тела в единое целое: «И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену, и привел ее к человеку. И сказал человек: вот, это кость от костей моих и плоть от плоти моей; она будет называться женою, ибо взята от мужа» (Быт. 2:22–23). Хорошая жена – дар Божий: «Кто нашел добрую жену, тот нашел благо и получил благодать от Господа» (Прит. 18:22). Развод был обязателен лишь в одном случае: если хозяин женил своего раба-еврея, то по истечении предусмотренного законом семилетнего срока, когда раб получал свободу, он должен был оставить свою жену и детей хозяину: «Если купишь раба Еврея, пусть он работает шесть лет; а в седьмой год пусть выйдет на волю даром. Если он пришел один, пусть один и выйдет. А если он женатый, пусть выйдет и жена его. Если же господин его дал ему жену, и она родила ему сынов или дочерей, то жена и дети ее пусть останутся у господина ее, а он выйдет один» (Исх. 21:2–4). Но даже в этом случае закон позволял еврею избежать развода; правда, в этом случае он становился рабом своего хозяина навсегда: «Но если раб скажет: “люблю господина моего, жену мою и детей моих; не пойду на волю”, то пусть господин его приведет его пред богов (в данном случае под богамипонимаются судьи. – В. М.), и поставит его к двери или косяку, и проколет ему господин его ухо шилом, и он останется рабом его вечно» (Исх. 21:5–6). Развод запрещался в двух случаях. Случай первый: если муж после заключения брака обвинил жену в досупружеской неверности, а расследование установило, что это не так, он должен был уплатить тестю 100 сиклей серебром штрафа, оставить жену у себя и никогда с нею не разводиться: «Если кто возьмет жену, и войдет к ней, и возненавидит ее, и будет возводить на нее порочные дела, и пустит о ней худую молву, и скажет: “я взял сию жену, и вошел к ней, и не нашел у нее девства”: то отец откровицы и мать ее пусть возьмут и вынесут признаки девства откровицы к старейшинам города, к воротам; и отец откровицы скажет старейшинам: дочь мою я отдал в жену сему человеку, и ныне он возненавидел ее, и вот, он возводит на нее порочные дела, говоря: “я не нашел у дочери твоей девства”; но вот признаки девства дочери моей. И расстелют одежду пред старейшинами города. Тогда старейшины того города пусть возьмут мужа и накажут его, и наложат на него сто сиклей серебра пени, и отдадут отцу откровицы за то, что он пустил худую молву о девице Израильской; она же пусть останется его женою, и он не может развестись с нею во всю жизнь свою» (Втор. 22:13–19; в случаях, если обвинение мужа своей жены в досупружеской неверности оказывалось обоснованным, жена подлежала казни: «Если же сказанное будет истинно, и не найдется девства у откровицы, то откровицу пусть приведут к дверям дома отца ее, и жители города побьют ее камнями до смерти; ибо она сделала срамное дело среди Израиля, блудодействовав в доме отца своего; и так истреби зло из среды себя», см. там же, 22:20–21). Случай второй: если мужчина обесчестил не обрученную девицу, он должен был заплатить ее отцу 50 сиклей серебра, взять ее в жены и никогда не разводиться с нею: «Если кто-нибудь встретится с девицею необрученною, и схватит ее и ляжет с нею, и застанут их: то лежавший с нею должен дать отцу откровницы пятьдесят сиклей серебра, а она пусть будет его женою, потому что он опорочил ее; во всю жизнь свою он не может развестись с нею» (Втор. 22:28–29). Во времена Ирода отношение евреев к разводу стало более простым. Так, если Шаммай и его сторонники, следуя букве закона, допускали развод только в случае безнравственного поведения жены, то Гиллель и его ученики считали достаточно веской причиной для написания разводного письма, если жена пережарит или, напротив, не дожарит пищу для мужа. Однако во всех случаях инициатива написания разводного письма принадлежала мужу и никогда жене.
(обратно)283
Николай Дамасский(I в. до н. э. – I в. н.э) – ученый грек из Сирии, жил в Риме, впоследствии переселился в Иерусалим и жил при дворе Ирода. Последователь Аристотеля в философии, получил известность как автор риторико-драматической «Истории» в 144 книгах, первые книги которой посвящены истории и мифологии стран Востока с древнейших времен, последние – событиям VII–IV вв. стран Средиземноморья. Создал панегирик Августу («Жизнь Цезаря») и подробную биографию Ирода Великого, в которой широко использовал его дневник. От гигантского труда Николая Дамасского сохранились лишь фрагменты, главным образом в виде развернутых цитат в работах других историков древности (в частности, Иосифа Флавия).
(обратно)284
Провинция Рима– так назывались внеиталийские владения Рима, управляемые наместниками. Наряду с Италией, население провинций обязано было платить налоги в пользу Рима. В 27 г. до н. э., после провозглашения Октавия императором Августом, все римские провинции были разделены на сенатские и императорские. Во главе сенатских провинций стояли проконсулы с годовым сроком управления, после чего отзывались в Рим, а на их место назначались новые проконсулы. Императорские провинции, где размещались римские вооруженные силы (легионы), стали управляться легатами Августа консульского ранга и подчинялись непосредственно императору. Забегая вперед, скажем: когда Август назначил наместником Сирии Ирода, это одновременно означало возведение его в ранг консула – высшее, после императора, должностное лицо Рима. Внешними признаками консульской власти были тога с пурпурной каймой и особое кресло из слоновой кости, которое никто, кроме консула, не имел права занимать. Консулов всюду сопровождали двенадцать ликторов с фасциями (так назывались связанные кожаными ремнями пучки прутьев с воткнутыми в них топориками – символ высшей должностной и карающей власти; от слова фасция, между прочим, произведен термин «фашизм»).
(обратно)285
Пальмира– в пер. с арамейского «пальмовый город». Крупный центр караванной торговли и ремесел на северо-востоке Сирии, совр. гор. Тодмор. Сохранились великолепные сооружения римских времен, соединившие в себе европейские и восточные элементы. В числе этих сооружений до наших дней дошли развалины храма Ваала, т. н. «улица колонн», состоявшая некогда из 375 колонн высотой 17 м (сохранились полностью 150 колонн), триумфальная арка, агора, театр, украшенные настенной росписью склепы, многочисленные скульптурные памятники.
(обратно)286
Клиентела– форма социально-общественных и межгосударственных взаимосвязей, при которых клиент освобождался от каких бы то ни было налогов, а в случае нужды сам мог рассчитывать на денежную и иную материальную поддержку патрона. Клиентела представляла собой аналог греческого понятия автономия(от греч. avtoи nomos– «сам» и «закон», т. е. «самоуправление»). Территория государства-клиента считалась целостной и неприкосновенной, ей предоставлялось право определения формы правления, заключение договоров и союзов, отправление правосудия и т. п.; государство, получившее статус клиента, не могло действовать против государства-патрона.
(обратно)287
Орк– римский бог подземного царства, владыка мертвых, губительное, похищающее жизнь божество. Соответствовал греческому богу Аиду.
(обратно)288
В описании башни Антония мы использовали рассказ археолога-доминиканца Пере Винцента, исследовавшего в конце XIX в. остатки крепости. И сделали это вот почему. Дело в том, что до сих пор остается спорным вопрос о месте допроса Христа Понтием Пилатом. Одни исследователи утверждают, что это был двор при дворце Ирода Великого, который он построил позже башни Антония, другие – что допрос Христа проходил внутри башни Антония, третьи (их меньшинство) – доказывают, что Понтий Пилат допрашивал Христа в башне Давида, входившей в ансамбль дворца Ирода. Швед Эрик Нюстрем, автор «Библейского словаря», увидевшего свет в 1868 г., пишет по этому поводу: «Где была расположена претория Пилата? Одни предполагают, что в крепости Антония, к северо-западу от храма, близ Виа Долороза, сейчас же за Стефановыми воротами. По мнению других, Пилат во время пребывания в Иерусалиме (его постоянной резиденцией была Кесария) помещался в роскошном дворце Ирода, в северо-западной части верхнего города; этот дворец, по описанию Иосифа Флавия, был роскошно отделан и украшен; он имел множество дворов, зал и проч. Некоторые полагают, что теперешняя т. наз. башня Давида является остатком украшения этого царского дворца. Это единственная башня, которую Тит оставил неповрежденной при разрушении Иерусалима». Я, однако, склонен разделить точку зрения доминиканца Пере Винцента, который, описав крепость Антония и определив ее размеры – протяженность 150 м с востока на запад, 80 м с юга на север и внутренний двор площадью 2500 кв. м, – продолжил: «Нависая над глубокими водоемами, вымощенный массивными отшлифованными камнями, окруженный высокими аркадами, этот внутренний двор был поистине сердцем крепости, жизнью которой он управлял. Пилат установил свое судейское место на этом внутреннем дворе, который по этому случаю был преображен в преторию, а вообще-то он назывался по преимуществу Мостовая. Где еще можно было бы найти более броское место, более впечатляющую и подобающую обстановку для вынесения Пилатом смертного приговора Иисусу, в результате которого Он отправился в Свой скорбный путь на Голгофу?» (Голгофа, о месте нахождения которой также ведутся споры, находилась не вне, а внутри Иерусалима. Иной точки зрения придерживался упомянутый выше Эрик Нюстрем. Он пишет: «Место, где был распят Господь Иисус, находилось близ Иерусалима [“место, где был распят Иисус, было недалеко от города”, см. Иоан. 19:20. – В. М.], вне стен города [“Так как тела животных, которых кровь, для очищения греха, вносится первосвященником во святилище, сжигается вне стана, – то и Иисус, дабы освятить людей Кровию Своею, пострадал вне врат”, см. Евр. 13:11–12. – В. М.]. К нему примыкал сад с новой могилой, в которой тело Иисуса покоилось до воскресения [“На том месте, где Он распят, был сад, и в саду гроб новый, в котором еще никто не был положен: там положили Иисуса ради пятницы Иудейской, потому что гроб был близко”, см. Иоан. 19:41–42. – В. М.]. Название Голгофа, т. е. верхняя часть черепа, происходит от арамейского гулгулта, еврейского гулголети м.б. намекает на внешний вид местности: круглый холм. Но под этим названием нельзя подразумевать лобного места, т. е. обычного места казни с разбросанными черепами, что для евреев было мерзостью, да и едва ли какое-либо высокопоставленное лицо согласилось бы в таком неприятном месте иметь сад с могилой. Действительное местоположение Голгофы – предмет споров. Предание гласит, что оно находилось внутри одной из часовен церкви Св. Гроба Господня, расположенной к северу от Сиона, внутри старого города. Церковь эта была построена царицей Еленой [матерью Константина Великого. – В. М.] в 335 г. по Р. Хр. Однако трудно предположить, чтобы это место находилось вне городских стен во время Христа. Если к этому прибавить, что внутри храма показываются многие другие достопримечательности, как-то: камень (скала), который расселся во время смерти Христа; каменный столб, у которого бичевали Христа; большой камень, на котором Он сидел в терновом венце; большой камень, на котором обвили пеленами Его тело, и могилу, в которой Он покоился до воскресения, – то особенно чувствуется правда слов, написанных по-гречески на мраморной доске над входом в святую могилу: “Что вы ищете живого среди мертвых? Его нет здесь: Он воскрес”.)
(обратно)289
Здесь мы вплотную подошли к рассмотрению темы, впервые разработанной в иудаизме – теме страдания, и затем переосмысленной и углубленной в христианской этике как тема со-страдания. У нас есть все основания полагать, что Ироду в полной мере выпало испить горькую чашу страданияи вплотную приблизиться к состраданию, хотя в силу объективных причин ему и не удалось на собственном опыте постичь, что это такое. Собственно, Ирод стал тем человеком, в котором муки страдания, вступившие в противоречие с его царскими обязанностями, ускорили возникновение в недрах иудаизма зачатков христианства. Поскольку наш дальнейший рассказ будет посвящен главным образом Ироду-человеку, в силу сложившихся к концу I в. до н. э. обстоятельств поставленного властвовать народом, который относился к нему как чужеземцу и врагу традиционного иудаизма (чего на самом деле не было и не могло быть по той простой причине, что по вероисповеданию Ирод был и до конца своих дней оставался иудеем, с той, правда, существенной оговоркой, что иудеем он был не ортодоксальным, а творческим, ищущим), имеет смысл здесь кратко остановиться на сути понимания страдания и сострадания, чтобы читателям стало более понятно дальнейшее повествование и нам не пришлось вновь и вновь возвращаться к разъяснению деталей этих базовых составляющих христианской этики.
Прежде всего: страданиекак претерпевание боли, горя, печали, страха, тоски, тревоги и т. п. было неведомо античному мировоззрению. Все известные нам философы древности истолковывали страдание как рок, насылаемый по прихоти богов как на отдельного человека, так и на целые народы, а стоики рассматривали страдание как порочную страсть, подлежащую преодолению (точно такого же взгляда на природу страдания придерживался и Николай Дамасский, полагавший страдание пороком, который человек способен вытравить из себя одним усилием воли). Иное значение обретает страдание в иудаизме. Здесь страдание рассматривается не как прихоть Бога, а кара, насылаемая Им на человека за ослушание Его повелений (вспомним историю изгнания из рая Адама и Евы за то, что те, вопреки предостережению Бога, отведали плода от древа познания). В Новом Завете страдание обретает новое качество: искупительная жертва Христа придает страданию значение залога будущего спасения человека, а самое страдание перерастает в сострадание к страдающему на кресте Богу, из которого проистекает заповедь любви к ближнему. Отношение к страданию и состраданию в различные века было различным. Так, средневековая христианская мистика рассматривала страдание как знак любви Бога к человеку: страдаешь – значит любим Господом (в России такими «любимцами» часто становились юродивые). С точки зрения Канта страдание имеет ограниченную моральную ценность: как долг человечности его следует культивировать, но само по себе страдание несвободно, пассивно, слепо, неразумно, а потому неморально. Шопенгауэр объявлял страдание основанием морали, видя в нем непосредственное проникновение в чужое «Я», и обнаруживает в слиянии страдания и сострадания тождественность всего сущего. У Шпенглера страдание выступает как критерий и содержание подлинной духовности: в этом смысле он говорит о тоске и страхе, живущих в душе каждого ребенка и истинного художника. Кьеркегор высоко ставил страдание и критиковал простестантизм за то, что тот отменил средневековый аскетизм и тем самым «облегчил жизнь» людям. Ницше ценил страдание как средство к достижению величия души, но крайне негативно относился к состраданию, из-за чего отказал христианству в праве на существование. «Христианство нуждаетсяв болезни, – писал он в «Антихристианине», – примерно так, как греки нуждались в преизбытке здоровья». И пояснял свою мысль: «Христианство называют религией сострадания. Сострадание противоположно аффектам тонуса, повышающим энергию жизненного чувства, – оно воздействует угнетающе. Сострадая, слабеешь. Сострадание во много крат увеличивает потери в силе, сострадания и без того дорого обходятся». И далее: «В целом сострадание парализует закон развития – закон селекции. Оно поддерживает жизнь в том, что созрело для гибели, оно борется с жизнью в пользу обездоленных и осужденных ею, а множество всевозможных уродств, в каких длит оно жизнь, придает мрачную двусмысленность самой жизни».
(обратно)290
Лугальзагеси(XXIV в. до н. э.) – царь Шумера, политическими средствами объединил мелкие государства в бассейне Двуречья (будущей Месопотамии, территория нынешнего Ирака) с целью поддержания в порядке оросительную систему и увеличения сбора урожая.
(обратно)291
«Законник Билаламы»– один из первых в истории сводов законодательных актов, составленный в XX в. до н. э.
(обратно)292
Хаммурапи(XVIII в. до н. э.) – царь Вавилонии, составитель гражданских законов, состоящих из 282 параграфов, отличавшихся не только юридической точностью, но и литературными достоинствами.
(обратно)293
Дракон(VII в. до н. э.) – афинянин, вошедший в историю как автор правовых норм, отличавшихся особой жестокостью. Так, за кражу зерна, овощей и т. д. Дракон требовал предавать воров смертной казни. В то же время кодификация законов, проведенная при его непосредственным участии, ограничила произвол судебных приговоров.
(обратно)294
Аристотель действительно считал, что фаллос, игравший важную роль в культе греческой богини земледелия и плодородия Деметры, бога скотоводства Гермеса и, особенно, бога виноградарства и виноделия Диониса с его фаллическими шествиями, песнопениями и танцами, – стал первопричиной возникновения театра. После завоевания Иудеи Александром Македонским многие работы Аристотеля стали известны евреям и вызвали категорическое неприятие его взглядов. (Исключение составило отношение к древнегреческой философии в среде евреев, расселившихся в диаспорах. Так, в частности, иудейско-эллинистический философ Филон Александрийский, живший в Александрии, пытался соединить иудейскую религию с философией Аристотеля и даже разработал аллегорический метод толкования Торы. Это позволило ему сделать выводу, что хотя Бог и не доступен разумению человека, но вот Логос, как вечная божественная сила, явленная в мировом разуме, выступает «сыном Божьим» и в этом своем качестве является посредником между Богом и людьми. Учение о Логосе Филона Александрийского было воспринято первыми иудео-христианами, использовано апостолом Иоанном в его Евангелии [ «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог», см. Иоан. 1:1], а самое понятие Логос-Слово окончательно в работах деятелей раннего христианства, известных как «отцы церкви», идентифицировалось с Христом).
(обратно)295
Праздник труб(евр. Рош-а-шаиа) – праздник, приходящийся на первый день седьмого иудейского религиозного месяца тишри. Праздник был приурочен к возвращению евреев из вавилонского плена и отмечался дудением в самые громкие трубы и обильным жертвоприношением. В Праздник труб, как и в субботу, запрещались какие бы то ни было работы, народ собирался на площадях и в торжественной обстановке слушал чтение закона Моисея, как это была введено священником Ездрой в 458 г. до н. э.: «Когда наступил седьмый месяц, и сыны Израилевы жили по городам своим, тогда собрался весь народ, как один человек, на площадь, которая пред Водяными воротами, и сказали книжнику Ездре, чтоб он принес книгу закона Моисеева, который заповедал Господь Израилю. И принес священник Ездра закон пред собрание мужчин и женщин, и всех, которые могли понимать, в первый день седьмого месяца; и читал из него на площади, которая пред Водяными воротами, от рассвета до полудня, пред мужчинами и женщинами и всеми, которые могли понимать; и уши всего народа были приклонены к книге закона» (Неем. 8:1–3). Поскольку в Празднике труб принимали участие не только иудеи, но и «все, которые могли понимать», первый день седьмого месяца стал с тех пор отмечаться в Иудее как первый день Нового гражданского года.
(обратно)296
Аристофан(V–IV вв3 до н. э.) – крупнейший древнегреческой комедиограф, автор свыше сорока пьес (до наших дней сохранилось 11 его произведений). Выступал как сторонник государственного порядка времен расцвета афинской демократии и выразитель чаяний крестьянства. Комедия «Плутос», написанная за два года до смерти драматурга и названная так по имени бога богатства (в пер. с греч. плутосозначает «богатство»), требует справедливого распределения материальных благ. Такие произведения Аристофана, как «Осы», в которых высмеивается страсть афинян к сутяжничеству, «Птицы», где повествуется о птичьем государстве-утопии, «Лисистрата», рассказывающая о выступлении женщин двух противоборствующих сторон с целью принудить своих мужей заключить мир, а также пьеса «Лягушки», пользовавшаяся особым успехом у публики не только в древности, но и в новейшие времена, вошли в золотой фонд мировой драматургии.
(обратно)297
Клеопатровы галлы– здесь имеются в виду кельтские племена, населявшие территорию современной южной Франции и северной Италии. Гай Юлий Цезарь называл Галлией обширную территорию, границами которой на юге были Пиренеи, на западе Атлантический океан и на севере р. Рейн, хотя отнюдь не все жители этой земли были кельтами. Завоеванные Цезарем, галлы романизировались, утратив свой язык (исключение составили баски). Уже в середине I в. до н. э. галльские ораторы с успехом выступали в Риме. Цезарь подарил Клеопатре в качестве телохранителей 400 галлов, которых позже Октавий переподарил Ироду.
(обратно)298
1 Цар. 2:10.
(обратно)299
Мессия– евр. Машиах, т. е. «Помазанник», греч. Христос.
(обратно)300
Искаженное Иер. 50:32.
(обратно)301
Демокрит(V–IV вв. до н. э.) – древнегреческий философ-атомист и ученый-энциклопедист, автор свыше 70-и работ, обнимающих все области знания того времени (большинство сочинений Демокрита утрачено и дошло до нас в виде цитат, использованных другими авторами). Считал, что человек – отражение космоса («человек – это малый мир») и, подобно космосу, состоит из атомов. Отрицал бессмертие души: когда тело умирает, атомы души покидают его, рассеиваясь в пространстве. Целью жизни Демокрит объявлял хорошее расположение духа, когда человек не подвержен действию страстей и страха, а наивысшей добродетелью – безмятежную мудрость. Боги, по Демокриту, это особые соединения атомов, которые нелегко разрушаются, но все же не вечны; они могут благотворно воздействовать на человека, а могут зловредно, могут подавать ему те или иные знаки, а могут не подавать. Наилучшей формой государственного устройства считал демократический полис.
(обратно)302
Аристотель(IV в. до н. э.) – древнегреческий философ и, подобно Демокриту, ученый-энциклопедист, учитель Александра Македонского. Сохранились некоторые лекции Аристотеля и многие его труды, касающиеся почти всех проблем развития природы и общества. Считал, что форма приоритетна по отношению к материи и абсолютизирована в божественном «неподвижном перводвигателе» как кульминационном пункте Вселенной. Форма эта расчленяется на пары: тело – душа, муж – жена, господин – раб и т. д. Человек, по Аристотелю, живое существо, наделенное духом и разумом («разумной душой»). Цель жизни – счастье, достигаемое в деятельности души по осуществлению своей арете(греч. – «добродетель»), которая делится на этические (практические) и дианоэтические (интеллектуальные) составляющие. Этическое арете – «середина между двумя пороками»: мужество – между отчаянностью и трусостью, самообладание – между распущенностью и бесчувственной тупостью, кротость – между гневливостью и невозмутимостью. Сущность дианоэтической добродетели – в правильной деятельности теоретического разума, цель которой состоит в отыскании истины ради самой истины и установления норм поведения. В качестве образцового государственного устройства выдвинул идею политии– смешение олигархии и демократии, в которой поляризация бедных и богатых снимается преобладанием зажиточных средних слоев.
(обратно)303
Притча, приведенная ессеем Менахемом, процитирована по книге «Агада. Сказания, притчи, изречения талмуда и мидрашей».
(обратно)304
Последователь Аристотеля, Николай Дамасский считал, что занятие любыми ремеслами, равно как земледелием и торговлей, удел рабов, тогда как назначение свободного гражданина состоит в созерцательной деятельности, которая есть не что иное, как внечувственное познание идей. Созерцание, по мнению древних философов, происходит на уровне интуиции(от лат. intueor– «пристально смотрю»), а затем, обнаружив прямо и непосредственно в познанных идеях истину, люди свободных профессий обосновывают ее интеллектуально с помощью логических доказательств. Вопросы созерцания и интуиции до сих пор остаются центральными в теории познания.
(обратно)305
Один из сложных вопросов в иудаизме, приведший к расколу внутри него во II–I вв. до н. э. и не нашедший разрешения в раннем христианстве. Впрочем, вопрос о воздаянии людям по их поступкам и делам оставался неразрешенным и в позднем христианстве, расколовшемся на католицизм, православие и протестантизм (не считая многочисленных сект, возникших внутри каждого из этих направлений), и до сих пор остается неразрешенным. Так, в послании Иакова читаем: «…делами вера достигла совершенства» и «…человек оправдывается делами, а не верою только» (см. Иак. 2:22 и 2:24). Между тем в послании Павла к галатам находим нечто прямо противоположное: «…человек оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса Христа…» (см. Гал. 2:16).
(обратно)306
Вот как описывал эти разрушенные в ходе Иудейской войны башни и царский дворец Иосиф Флавий: «Высота этих башен, как ни была она значительна сама по себе, казалась еще большей благодаря их местоположению; ибо древняя стена, на которой они стояли, сама же была построена на высоком холме и, подобно вершине горы, подымалась на вышину тридцати локтей, а потому башни, находившиеся на ней, выигрывали в вышине. Поразительна была также величина камней, употребленных для башен, ибо последние были построены не из простых камней или обломков скал, которые люди могли бы нести, а из обтесанных белых мраморных глыб, из которых каждая измерялась двадцатью локтями длины, десятью локтями ширины и пятью – толщины; и так тщательно они были соединены между собой, что каждая башня казалась выросшей из земли одной скалистой массой, из которой уже впоследствии рука мастера вырезала формы и углы – так незаметны были швы сооружения. К этим стоявшим на севере башням примыкал изнутри превосходивший всякое описание царский дворец, в котором великолепие и убранство были доведены до высшего совершенства. Он был окружен обводной стеной в тридцать локтей высоты, носившей на одинаковых расстояниях богато украшенные башни, и помещал в себе громадные столовые с ложами для сотен гостей; неисчислима была разновидность употребленных в этом здании камней, ибо самые редкие породы были доставлены сюда массами из всех стран; достойны удивления потолки комнат по длине балок и великолепию убранства. В нем находилось несметное число разнообразной формы покоев, и все они были вполне обставлены; бóльшая часть комнатной утвари была из серебра и золота. Много было перекрещивавшихся между собой кругообразных галерей, украшенных разнообразными колоннами, открытые их места утопали в зелени. Здесь виднелись разнородные парки с прорезывавшими их длинными аллеями для гулянья, а вблизи их глубокие водовместилища и местами цистерны, изобиловавшие художественными изделиями из меди, через которые протекала воды. Кругом этих искусственных источников находились многочисленные башенки для прирученных диких голубей. Однако нет возможности описать по достоинству этот дворец; мучительно только воспоминание об опустошении, произведенном здесь разбойничьей рукой; ибо не римляне сожгли все это, а внутренние враги сделали это в начале восстания: в замке Антония впервые вспыхнул огонь, затем он охватил дворец и уничтожил также верхние постройки башен».
(обратно)307
Стадия, известная под названием греко-римская, составляла во времена Ирода 176,6 м; т. о. стена, окружившая Себасту, имела протяженность 3,5 км.
(обратно)308
192-я олимпиадасоответствует 26 г. до н. э.
(обратно)309
Имеется в виду Храм Зоровавеля, строительство которого была начато в 536 г. до н. э. и завершено в 516 г. до н. э.
(обратно)310
«Павел, взяв тех мужей и очистившись с ними, в следующий день вошел в храм и объявил окончание дней очищения, когда должно быть принесено за каждого из них приношение. Когда же семь дней оканчивались, тогда Асийские Иудеи, увидевши его в храме, возмутили весь народ и наложили на него руки, крича: мужи Израильские, помогите! этот человек всех повсюду учит против народа и закона и места сего; притом и Еллинов ввел в храм и осквернил святое место сие. Ибо пред тем они видели с ним в городе Трофима Ефесянина и думали, что Павел его ввел в храм» (Деян. 21:26–29).
(обратно)311
Неточн. 3 Цар. 8:27.
(обратно)312
3 Цар. 8:29.
(обратно)313
Ис. 7:14 (в пер. с евр. имя Еммануил– вариант Иммануил– означает «с нами Бог»).
(обратно)314
Там же, 7:15.
(обратно)315
Там же, 7:18–22.
(обратно)316
Ис. 42:1–4.
(обратно)317
Неточн. Пр. 27:24.
(обратно)318
Мих. 7:5–6.
(обратно)319
3 Цар. 19:9-12.
(обратно)320
Князья– здесь священники, судьи, книжники, любые начальствующие лица.
(обратно)321
Плач Иер. 4:1-10.
(обратно)322
Ис. 58:7–8.
(обратно)323
Исх. 16:2–4. Одно из самых знаменитых мест в Библии, где повествуется о взбунтовавшемся народе, оказавшимся перед угрозой голодной смерти. Здесь, по сути дела, поставлена одна из вечных проблем: взаимоотношения Бога и человека, говоря шире – взаимоотношения власти и народа. Отсюда становится понятным, почему именно эти стихи Библии привлекали и продолжают привлекать внимание различных исследователей, которые дают свое толкование примирения между Богом и человеком, между властью и народом. Мне, однако, представляется, что наиболее полное толкование этих стихов Библии дал основоположник неофрейдизма, психолог и социолог Эрих Фромм в книге «Иметь или быть?»: «Иудеи тосковали по египетским “котлам с мясом”, по постоянному жилищу, по скудной, но хотя бы гарантированной пище, по зримым идолам. Их страшила неизвестность и бедность жизни в пустыне… Бог – на протяжении всей истории освобождения – откликается на моральную нестойкость людей. Он обещает накормить их: утром – “хлебом” (имеется в виду манна небесная. – В. М.), вечером – перепелками (мясом. – В. М.). И добавляет к этому два важных повеления: каждый должен собрать себе пищу по потребностям: “И сделали так сыны Израилевы, и собрали, кто много, кто мало. И меряли гомором (мера сыпучих тел, равная 4 кг. – В. М.), и у того, кто собрал много, не было лишнего, и у того, кто мало, не было недостатка. Каждый собрал, сколько ему съесть”. (Исх. 16:17–18)». И далее – ключевой момент в толковании известных стихов Фрейдом: «Здесь впервые сформулирован принцип, который стал широко известным благодаря Марксу: каждому – по его потребностям. Право быть сытым устанавливалось без каких-либо ограничений. Бог выступает здесь в роли кормящей матери, питающей детей своих. И детям ее не нужно ничего достигать, чтобы иметь право быть накормленными».
(обратно)324
Кор, или хомер, самая крупна меры сыпучих тел, равная 400 кг.
(обратно)325
Здесь имеет смысл перечислить жен Ирода и его потомство:
1. Дорис– сын Антипатр
2. Мариамна I, внучка Гиркана II и дочь Александры – сыновья Александри Аристовул(всего Мариамна родила Ироду пятерых детей: еще одного сына, умершего в младенческом возрасте, и двух дочерей – Салампсиои Киприду)
3. Мариамна II, дочь первосвященника Симона – сын Иродпо прозвищу Боэт
4. Мальфакаиз Самарии – сыновья Архелай, Ироди Антипас, дочь Олимпиада
5. Клеопатраиз Иерусалима – сыновья Филиппи Ирод
6. Паллада– сын Фасаил
7. Дочь брата Фасаила– бездетна
8. Дочь сестры Саломии– бездетна
9. Федра– дочь Роксана
10. Эльпида– дочь Саломия
(обратно)326
Сервиева стена– древняя крепостная стена, возведенная вокруг Рима предпоследним римским царем Сервием Туллием в VI в. до н. э.
(обратно)327
Любимец Августа и его кружка Овидий (I в. до н. э. – I в. н. э.) пошел дальше своего патрона и называл Рим «золотым, владеющим сокровищами всего мира».
(обратно)328
Клавдия– дочь Фульвии и падчерица Антония. Отпущенная Октавием из-за ссоры с несостоявшейся тещей, Клавдия вскоре вышла замуж и родила дочь, которую назвала своим именем. Эта Клавдия, внучка Фульвии, стала третьей женой Тиберия (после Агриппины, дочери Марка Агриппы и племянницы Августа Марцеллы, и Юлии, дочери Августа и Скрибонии). До того, как стать женой императора, Клавдия родила вне брака дочь Клавдию Прокулу, называвшую себя внучкой Августа. Клавдия Прокула – утонченная особа, получившая прекрасное образование – вышла замуж за Понтия Пилата, и благодаря ее протекции Пилат был назначен прокуратором Иудеи. Вопреки установившей традиции, запрещавшей женам находиться рядом с мужьями во время их служебных командировок, Клавдия Прокула отправилась в Иудею вместе с Понтием Пилатом и стала свидетельницей ареста Христа и суда над Ним в Иерусалиме. Потому-то, когда мы читаем в Евангелие: «Между тем, как сидел он (Понтий Пилат. – В. М.) на судейском месте, жена его послала ему сказать: не делай ничего Праведнику Тому, потому что я ныне во сне много пострадала за Него» (Мат. 27:19), – нужно иметь в виду, что речь идет если не о внучке Августа в буквальном значении этого слова, то, во всяком случае, падчерице Тиберия Клавдии Прокуле.
(обратно)329
Акмев пер. с сирийского означает «умная».
(обратно)330
Антония Младшая– дочь Марка Антония и сестры будущего императора Августа Октавии. Была женой младшего сына Ливии и пасынка Августа Друза Старшего, которому родила полководца Германика и будущего императора Клавдия. Друз Старший также стал одним из выдающихся полководцев древности, но, в отличие от своего старшего брата Тиберия, ставшего императором, оказался менее удачлив в жизни: в 29-летнем возрасте в результате несчастного случая он погиб, оставив вдовой 27-летнюю Антонию, которая, как и ее мать, так и не вышла больше замуж, хотя о ее красоте ходили легенды. В этой связи упомяну один факт. Великий Гете, путешествуя по Италии и увидев ее скульптурный портрет в Риме, назвал Антонию своей «первой любовью». Когда же по заказу классика немецкой поэзии была изготовлена копия скульптурного портрета Антонии Младшей, он воскликнул: «И вот она моя! Никакие слова не смогут передать это чувство. Она как песни Гомера». После смерти Ливии в 29 г. н. э. Тиберий сделал Антонию преемницей своей матери на посту жрицы Августа. Внук Антонии и преемник Тиберия на посту императора Калигула, сын Германика и Агриппины Старшей (дочери Марка Агриппы от Юлии), всячески унижал свою бабку и, по некоторым сведениям, вынудил ее покончить жизнь самоубийством, приняв яд.
(обратно)331
По свидетельству многих историков, Август любил сказки, и даже в старости, мучимый бессонницей, часто просил, чтобы ему читали вслух или рассказывали сказки.
(обратно)332
Обе сказки эти, рассказанные сыновьями Ирода, возникли в глубокой древности и изучались детьми в школах. Позже они были переработаны и вошли в упоминавшуюся выше книгу «Агада. Сказания, притчи, изречения талмуда и мидрашей».
(обратно)333
Обычай «праздношатающейся деятельности» настолько укоренился в римлянах, что и столетие спустя греческий врач Гален, практиковавший в школе гладиаторов в Пергаме, а затем перебравшийся в Рим, писал: «Ранним утром все делают визиты, затем большая толпа отправляется на форум, где происходят судебные разбирательства, еще бóльшая – к возницам и пантомимам; многие проводят время в любви, игре в кости, в термах, за попойками и другими физическими наслаждениями. Вечером все опять собираются на пиры, где развлекаются не музыкой и серьезными разговорами, а беспутным разгулом, зачастую продолжающимся до утра».
(обратно)334
Плиний Старший(I в. н. э.) – римский историк и писатель, командующий флотом в Мизене, погиб в ходе спасательных работ во время извержения Везувия.
(обратно)335
Бои гладиаторов были излюбленным зрелищем в Древнем Риме и его провинциях, привлекая к себе внимание людей всех сословий и возрастов. О завораживающей силе этого кровавого зрелища писали многие авторы, в их числе Аврелий Августин (IV–V вв. н. э.), прозванный Блаженным Августином. В работе «Исповедь» он рассказал о некоем Алипии, «честном и скромном юноше», с которым после его первого знакомства с гладиаторским боем произошла удивительная метаморфоза. Читаем: «Не оставляя мирских упований, он раньше меня уехал в Рим изучать право, и тут захватила его невероятная страсть к гладиаторским боям. Это тем более удивительно, что подобные зрелища всегда были ему ненавистны. Однажды он случайно встретился со своими соучениками, идущими в театр поглазеть на эти бои, и, несмотря на его явное нежелание и даже сопротивление, они увлекли его с собою. “Вы можете затащить мое тело, – говорил им Алипий, – но не сможете заставить душу смотреть и радоваться этому зрелищу. И присутствуя, я могу отсутствовать, и тем победить и его, и вас”. Но они продолжали настаивать, возможно, желая испытать его. И вот, рассевшись по местам, где кто сумел, они стали наблюдать кипевшие вокруг свирепые страсти. Алипий, как и обещал, сидел с закрытыми глазами; о, если бы он еще заткнул и уши! В один из моментов, когда народ на трибунах издал особенно неистовый вопль, он не удержался и взглянул. И тут душа его была поражена раною еще более страшной, чем тело несчастного гладиатора. Он упал еще несчастливее, чем тот, чье падение вызвало этот крик, заставивший его открыть глаза. Едва он увидел пролитую кровь, какая-то непонятная свирепость охватила его; он глядел, не отводя глаз, неистовствовал, забыв обо всем, пьянея кровавым восторгом. Он был уже не тем разумным юношей, но – человеком толпы; он смотрел и кричал, он заразился безумным восторгом, впоследствии гнавшим его обратно в театр. Теперь уже его не нужно было упрашивать; он сам влек за собою других».
Приведенное свидетельство одного из крупнейших теологов и церковных деятелей, главного представителя западной патристики и родоначальника христианской философии истории, интересно тем, что объясняет, почему людей так увлекают кровавые зрелища, почему распятие того же Иисуса собрало толпы любопытствующих, в их числе женщин, почему публичное сожжение инквизиторами «ведьм» в Средние века неизменно привлекало огромные массы народа, собиравшегося на казни как на театрализованные представления, наконец, почему в наши дни пользуются популярностью всевозможные триллеры с их потоками крови, «бои без правил» и проч.
(обратно)336
Светоний, описывая жизнь Августа, ссылается на Асклепиада Мендетского, у которого в «Рассуждениях о богах» сказано: «Атия (мать Августа. – В. М.) однажды в полночь пришла для торжественного богослужения в храм Аполлона и осталась там спать в своих носилках, между тем как остальные матроны разошлись по домам; и тут к ней внезапно скользнул змей, побыл с нею и скоро уполз, а она, проснувшись, совершила очищение, как после соития с мужем. С этих пор на теле у нее появилось пятно в виде змеи, от которого она никак не могла избавиться, и поэтому больше никогда не ходила в общие бани; а девять месяцев спустя родился Август и был по этой причине признан сыном Аполлона. Эта же Атия незадолго до его рождения видела сон, будто ее внутренности возносятся ввысь, застилая и землю и небо; а ее мужу Октавию приснилось, будто из чрева Атии исходит сияние солнца».
(обратно)337
В книге «Общая история европейской культуры» читаем: «Август принимал, как он сам хвалился, многочисленные посольства от народов, не имевших раньше никакого общения с Римом. Между ними были послы от кимвров и харидов Ютландии, семнонов, живших к востоку от Эльбы, от племен южно-русских степей вплоть до восточного берега Дона, послы из Мидии и Парфии, от черкесских и грузинских князей, от предводителей Британии и Феццана и многие посольства из Индии; одно из них, как рассказывали в Риме, было в пути четыре года».
(обратно)338
В упомянутой книге «Общая история европейской культуры» читаем: «Август увеличил состояние восьмидесяти сенаторов до 1.200.000 сестерциев (денежный ценз сенаторов в эпоху Августа составлял 1.000.000 сестерциев. – В. М.); один, все долги которого он уплатил, внеся 4 миллиона, написал ему после этого: “А мне ты разве ничего не дашь?”» Пример, наглядно доказывающий продажную ненасытность власть имущих.
(обратно)339
См. Чис. 18:20–21.
(обратно)340
Август ввел в практику обучения своих детей и внуков вместе с детьми и внуками союзнических царей. Первыми такими учениками, которые стали обучаться вместе с его дочерью Юлией и пасынком Друзом, стали сыновья Ирода Александр и Аристовул, с которыми он приехал в Рим. Совместное обучение детей римских императоров с детьми союзнических царей сохранилась и в последующие времена. Так, внук Ирода Агриппы, сын Аристовула, был воспитан вместе с сыном Тиберия Друзом, а сын Агриппы, тоже Агриппа, ставший последним царем Иудеи, считался лучшим другом своего одноклассника и будущего императора Калигулы.
(обратно)341
Чтобы исключить случаи подкупа избирателей, Август ввел правило, по которому все избиратели, независимо от того, какого кандидата они поддерживают и за кого собираются голосовать, получали одинаковое денежное вознаграждение.
(обратно)342
Грекам были неведомы календы; месяцы они делили на декады.
(обратно)343
Модий– римская мера сыпучих тел, равная 8,47 кг.
(обратно)344
Старцы– лат. senex– и означает «сенат».
(обратно)345
Торговцы, к которым относились все лавочники и ремесленники, считались в Риме наиболее консервативным классом и главной опорой государства. Любое нарушение установленных для них свобод частного предпринимательства, тем более революции и гражданские войны, угрожали их благополучию. Уже во времена Суллы и Цезаря власть делала основную ставку на этих людей, равно как на всех владельцев частной собственности, видя в ней главную опору устойчивости своего существования, и всячески оберегая их от любых форс-мажорных обстоятельств, вплоть до стихийных бедствий – наводнений или пожаров. Цицерон писал: «Бóльшая часть владельцев харчевен, вернее, весь этот класс в высшей степени любит покой. Источники их доходов, их труд и заработок основываются на оживленности сношений и поддерживаются общим спокойствием. Закрытие уменьшает их заработок, не говоря уже о тех случаях, когда они становятся добычей пламени». До поры до времени власть закрывала глаза на случаи злоупотребления торговцами предоставленных им законом свободами и использовали эти свободы в целях легкого и быстрого обогащения. Октавий стал первым, кто стеснил свободы торговцев в интересах свободы всех.
(обратно)346
Сальвидиен Руф– бывший солдат, которого Октавий приблизил к себе и доверил ему командование сухопутной армией (флотом командовал другой сподвижник Октавия – Агриппа, также незнатного происхождения). Ценя полководческие таланты Руфа, Октавий намеревался добиться его избрания консулом. В ходе борьбы за власть с Антонием Руф изменил Октавию и, полагая, что сила на стороне Антония, обратился к нему с письмами, в которых выражал готовность поддержать его. Антоний, демонстрируя добрую волю, переслал письма Руфа Октавию. Тот, узнав о предательстве своего сподвижника и друга, зачитал письма Руфа в сенате и объявил его врагом народа. По римскому законодательству каждый, кто объявлялся врагом народа, подлежал казни, а все его движимое и недвижимое имущество конфисковывалось. Руф, узнав о приговоре, вынесенном ему Октавием, покончил жизнь самоубийством.
(обратно)347
Елул– шестой месяц еврейского религиозного и двенадцатый месяц гражданского календаря; соответствует августу-сентябрю григорианского календаря.
(обратно)348
См. Пс. 103:15. В Библии вино часто упоминается как один из лучших даров Творца, Который Он дает народу за послушание и исполнение им законов: «И возлюбит тебя, и благословит тебя, и размножит тебя, и благословит плод чрева твоего и плод земли твоей, и хлеб твой, и вино твое, и елей твой, раждаемое от крупного скота твоего и от стада овец твоих, на той земле, которую Он клялся отцам твоим дать тебе» (Вт. 7:13). Впрочем, в Библии это же вино нередко изображается и как напиток, приносящий в случаях злоупотребления им несчастье всем без исключения людям, вплоть до священников и пророков: «И эти шатаются от вина и сбиваются с пути от сикеры; священник и пророк спотыкаются от крепких напитков; побеждены вином, обезумели от сикеры, в видении ошибаются, в суждении спотыкаются» (Ис. 28:7).
(обратно)349
Ос. 4:11.
(обратно)350
Масти– благоухающие мази, использовавшиеся при помазании и в лечебных целях. Составление мастей требовало особого искусства и тонкости, почему при их изготовлении использовался труд главным образом женщин (точно такое же искусство и тонкость требовались при изготовлении ядов, почему в этом деле непревзойденными мастерицами также были женщины).
(обратно)351
1 Цар. 8:11–18.
(обратно)352
Ходить пред нами– т. е. идти впереди народа, вести его за собой туда, куда сочтет нужным.
(обратно)353
1 Цар. 8:19–20.
(обратно)354
Космос– в пер. с греч. «порядок», «украшение» (откуда косметика– «украшение»). Понятие, возникшее в греческой мифологии и затем перешедшее в учение Анаксимандра из Милета (VII–VI вв. до н. э.) и других философов. Космос в представлении древних олицетворял собой мировой порядок, мировое целое, которое, в отличие от хаоса(в пер. с греч. «зиять» – изначальное бесформенное и беспорядочное состояние неизмеримого пространства, которое существовало до возникновения вещного мира), не только упорядочено, но и прекрасно в силу царящей в нем гармонии.
(обратно)355
Втор. 1:16.
(обратно)356
Суд. 17:6.
(обратно)357
Вт. 23:19–20. Здесь необходимо сказать следующее. Евреи были плохими купцами: торговлей в древности занимались по преимуществу египтяне, финикийцы, позже сирийцы, греки и др. соседние с ними народы. Вместе с тем евреи рано поняли, что в цепочке товар – деньги – товар, составляющей основу товарно-денежных отношений, деньги точно так же могут выступать в роли товара, на котором можно неплохо заработать. Потому-то евреи стали первыми ростовщиками, а затем и банкирами, благо закон, запрещая им наживаться на своих единоверцах, прямо предписывал отдавать деньги в рост иноземцам.
(обратно)358
Митилена– главный город острова Лесбос. Когда его жители в V в. до н. э. предприняли попытку выйти из состава Афинского морского союза, заключенного между греческими городами с целью войны против Персии, афиняне захватили Митилену и казнили тысячу участников вспыхнувшего там мятежа. Благодаря творчеству поэтов-лириков Сапфо (VII в. до н. э.) и Алкея (ок. VII в. до н. э.), Митилена (совр. Митилини) заняла одно из ведущих мест среди городов Древней Греции и до сих пор привлекает внимание туристов со всего мира.
(обратно)359
Ав– пятый месяц еврейского религиозного и одиннадцатый месяц гражданского календаря, соответствующий июлю-августу григорианского календаря.
(обратно)360
Сизиф– основатель и царь Коринфа, отец Одиссея. Соревнуясь в искусстве кражи с великим обманщиком Автоликом, сыном Гермеса и отцом матери Одиссея Антиклеи, победил его (Автолик похитил стада Сизифа, но тот предварительно выжег на копытах животных свой знак и без труда обнаружил пропажу). Сизиф хитростью заковал в цепи бога смерти Танатоса и добился того, что его выпустили из подземного царства на землю. За все свои мошенничества был наказан в преисподней: он должен был постоянно вкатывать на гору тяжелый камень, который, достигнув вершины, скатывался вниз, и камень приходилось вкатывать на гору вновь и вновь. Отсюда выражение сизифов труд– тяжелая, лишенная разумного основания работа.
Тантал– сын Зевса, царь горы Сипила близ Смирны в Малой Азии. Посещал пиры богов, похищал со стола нектар и амброзию, разглашал людям тайные решения богов. Желая узнать, всеведущи ли боги, убил своего сына Пелопса – владыку Пелопонесса и основателя соревнований колесниц на Олимпийских играх. Боги наказали Тантала: он стоял в подземном царстве в воде, но не мог утолить жажду, так как вода отступала, когда Тантал собирался напиться; над ним висели ветки с плодами, но голод мучил его, поскольку ветки отодвигались, когда он протягивал к ним руку. На всем его роде (внуке Атрее, царе Микен Агамемноне, его дочери Ифигении и сыне Оресте) отразилось проклятие богов. Отсюда выражение танталовы муки.
Иксион– царь многочисленного племени гигантов лапифов, обитавшего в Северной Фессалии. Зевс наделил его бессмертием и допустил к трапезам богов. Напившись вина, Иксион опьянел и попытался соблазнить сестру и супругу Зевса Геру. Зевс создал призрак Геры, названный им Нефелой(в пер. с греч. это имя означает «облако»), от союза с которой у Иксиона родился полуконь-получеловек Кентавр. Уже от этого первенца Иксиона и Нефелы произошли все последующие кентавры, отличавшиеся склонностью к вину и женолюбием. В наказание за нечестие Иксион был привязан в Тартаре к вечно вращающемуся огненному колесу.
Титий– сын Зевса. Пытался силой овладеть богиней Лето, за что был убит стрелами ее детей Аполлона и Артемиды. Один из мучеников подземного царства: два коршуна беспрерывно клевали его печень.
(обратно)361
Эон– термин древнегреческой философии, означающий, как и хронос, «время». Разница между двумя этими понятиями состоит в том, что если под эоном понимается целостная самозамкнутая вечность, то хронос означает движение от прошлого к будущему. По Платону, творец мира Демиург создает эонодновременно с космосом; хроносже существует в чувственном восприятии людей и характеризуется календарной датой. Народы Древнего Востока вели отсчет времени от тех или иных событий (окончания войны, освящения храма, даты восшествия на престол того или иного царя, почему именно цари воспринимались древними вначале как выразители вечности, а затем как боги, наделенные бессмертием). Впоследствии календарными датами становились произвольно выбранные события: у древних евреев сотворение мира в 3761 году до н. э., у греков – 776 год до н. э., в котором был составлен первый список победителей Олимпийских игр, у римлян – 750 год до н. э., как год основания Рима. В наши дни наиболее широкое распространение получил отсчет времени от Рождества Христова, а все события, которые произошли до этой даты, мы относим ко времени «до нашей эры». Первыми, кто обратил внимание на несовершенство определения календарных дат, стали древние персы, которые и ввели понятие «вечности» как «всецелую и совокупную сущность бытия», под которой понимался Бог, сотворивший младенца-Эона (рождение младенца-Эона в птолемеевской Александрии отмечалось 5–6 января). Греки пошли дальше персов в понимании эона-вечности и стали подразумевать под ним «пребывание в одном», о котором нельзя сказать оно «было» или «будет», а только «есть». То и другое соединилось в представлении первых христиан, отошедших от иудаизма, в образе Иисуса Христа в виде извечно существующего понятия, логоса, слова. Не приходится сомневаться, что наиболее образованные иудеи, к которым принадлежал и Ирод, к концу I века до н. э. – I веке н. э. осознали ограниченность представлений иудаизма о мире и месте человека в нем, и ввели греческое понимание эонав учение о Христе (см. в этой связи апокрифическое Евангелие от Иоанна, в котором эон представляет собой сферу, в которой Христос явлен одновременно и как собственно Христос, и как Его Отец, и как Мать).
(обратно)362
Гносис, или гностицизм– в пер. с греч. «знание», «познающий». Философское течение поздней античности, возникшее на Ближнем Востоке (в Сирии и Самарии) во второй половине I века до н. э. и превратившееся в I веке н. э. в религию, ставшей позже главным соперником христианства. Обнаруженные в 1945–1946 годах в небольшом городе Наг-Хаммади в Верхнем Египте собрание из 13 кодексов, написанных на папирусе, содержали 53 писания на коптском языке, в их числе Евангелие Истины, Евангелие от Филиппа, Евангелие от Фомы, три версии Тайного учения Иоанна, Откровение Адама, Истинное учение и др. работы. В своей совокупности они позволили нам лучше понять сущность гностицизма как религии, соединившей в себе иудаистское понимание бытия с греческими и персидскими идеями. Мир и человека гносис рассматривал как две противоборствующие силы (в изданном в 2006 г. на русском языке Евангелие от Иуды идея противоборствующих начал в Иисусе – вечной духовной и в то же время бренной телесной оболочке – находит свое законченное выражение). Согласно гносису, мир и человек рассматриваются как космос, который представляет собой творение и область господства Демиурга. Соответственно дух и душа считались созданиями Бога-света, Который вступит в борьбу с силами тьмы и в конце концов победит их. Гностики учили, что спасение человека состоит в осознании им, что его душа, его «Я» – часть божественной световой материи, которая стремится к освобождению от тленной оболочки и возвратиться в потусторонний мир света (в Евангелие от Ирода – превратится в «светоносное облако»), где она зародилась. Социальная направленность гносиса характеризуются, с одной стороны, как духовный аристократизм, доступный лишь избранным, а с другой – как утопия, провозглашающая братство, равенство и единство людей (соч. Епифания «О справедливости»). Стремясь к преодолению этого противоречия, некогда «единая» для всех людей религия распалась на части, где соседствуют буддизм (самая древняя религия), иудаизм, христианство и ислам (которые в свою очередь разделились на множество направлений, сект и верований; согласно Докладу госдепартамента США «О свободе вероисповеданий в мире», опубликованному в 2005 г., в одной только России насчитывается 21.664 официально зарегистрированных религиозных организации, принадлежащих к 260 вероисповеданиям и толкам).
(обратно)363
Маммона– в пер. с арам. «богатство». Под маммоной следует понимать как материальное богатство, так и деньги. Первыми, кто отказался от денег, как посреднике в общении между людьми, стали ессеи. Еще дальше в этом отношении пошли первые христиане. В Новом завете можно найти множество указаний на то, что каждый желающий вступить в братство христиан должен отказаться от лично принадлежащей ему собственности, а вырученные от продажи этой собственности деньги внести на общие нужды. Так, в Деяниях апостолов читаем: «Не было между ними никого нуждающегося; ибо все, которые владели землями или домами, продавая их, приносили цену проданного и полагали к ногам Апостолов; и каждому давалось, в чем кто имел нужду. Так Иосия, прозванный от Апостолов Варнавою, – что значит “сын утешения”, – левит, родом Киприянин, у которого была своя земля, продав ее, принес деньги и положил к ногам Апостолов» (см. Деян. 4:34–37; на эпизоде этом, описанном в Новом завете, явственно чувствуется влияние законов, установленных для членов своего братства ессеями). О разлагающем влиянии на человека культа богатства свидетельствует и золотой телец, которого по требованию евреев изготовил брат Моисея первосвященник Аарон.
(обратно)364
Академия Платона– просветительное учреждение, созданное Платоном в 388 г. до н. э. неподалеку от Афин в местечке Академа, откуда и получило свое название. Сам Платон рассматривал свое детище как возрождение Пифагорейской школы, возникшей в VI в. до н. э. и представлявшей собой религиозно-этический и философский союз. Члены Пифагорейской школы называли себя братьями, хотя слушателями ее были и женщины. Все они проводили аристократическую политику и исповедовали теорию спасения, нашедшую наиболее полное выражение в Новом завете. В быту пифагорейцы отличались строгими обычаями, вели аскетический образ жизни и провозглашали общность имущества. Лозунгом пифагорейцев был: «У друзей все общее». С победой демократии значение Пифагорейской школы стало постепенно ослабевать, а пифагорейцы преследоваться. Возрожденная Платоном под названием академияшкола эта имела правовой статус культового союза и располагалась в гимнасии и прилегающих к ней садах. Учителя и ученики проживали совместно, учебные занятия и диспуты проводились по строго определенному расписанию. Академия Платона, придерживаясь философии своего основателя, в то же время сочетала его идеи с пифагорейскими элементами. В частности, большое внимание уделялось числу, как выражению единства и множества, а того и другого – как первопричину возникновения мира. Члены академии заучивали наизусть акусмы(«символы») – так назывались бездоказательные максимы космологического, эсхатологического и этического характера («Что самое мудрое? – Число», «Что есть острова блаженных? – Солнце и Луна», «Землетрясение – сходка мертвецов» и т. д.). Максимы эти включали также множество ритуальных запретов и табу, которые не могли не привлечь внимания образованных иудеев, в их числе Шаммая и Гиллеля, создавших собственные школы, подобные академии Платона. Все эти разновидности академий прошли долгий путь развития (от подмены понятия идеяпонятием число, от культивирования веры в чудеса и пророчества до признания единобожия, от диалектического метода познания действительности к признанию принципиальной невозможности постичь эту действительность – «Раз нет критерия достоверности, то всякое суждение о действительности недостоверно», – от надежды на спасение человека в потустороннем мире до признания всеохватным принцип случайности, объясняющий все многообразие поведения людей, что привело к возникновению атеизма). В 529 г. н. э. император Юстиниан упразднил последнюю из академий. В 1459 г., в пору расцвета эпохи Возрождения, во Флоренции была учреждена новая академия. С тех пор академиямистали называться объединения ученых и различные научные или учебные заведения.
(обратно)365
Исх. 22:7.
(обратно)366
Исх. 22:2.
(обратно)367
Исх. 22:3.
(обратно)368
Исх. 21:2.
(обратно)369
Исх. 21:24–25.
(обратно)370
Ис. 5:20.
(обратно)371
Пантеон– в пер. с греч. «храм всем богам». Гигантское купольное сооружение в Риме, возведенное Агриппой в 27 г. до н. э., о чем свидетельствует соответствующая надпись на камне. В 110 г. н. э. здание это было уничтожено ударом молнии и в 115–120 гг. восстановлено при императоре Адриане. Сохранившийся до наших дней, Пантеон представляет собой единственное уцелевшее сооружение Древнего Рима высотой 43 м. К центральному зданию цилиндрической формы, расчлененному нишами, где стояли статуи богов, ведут портики с двускатной крышей. С VII в. находится во владении Папы Римского и служит христианской церковью, известной под названием Санта Мария Ротонда. Место захоронения многих выдающихся деятелей прошлого, в т. ч. Рафаэля. В подражание Пантеону Агриппы построена классицистическая церковь св. Женевьевы, покровительницы Парижа, которая в 1791 г., в ходе Великой Французской революции 1789–1799 гг., была переименована во Французский Пантеон, известный также под названием Храм почета. Сооружены подобные храмы и в других городах Европы, в частности, в Потсдаме.
(обратно)372
Иония– область на западном побережье Малой Азии, издревле населенная ионянами – одной из греческих племенных групп, наиболее однородной в территориальном, языковом и культурном отношении. Располагалась на о-вах Хиос и Самос. Прославилась древнегреческими философами VI–IV вв. до н. э. (Фалес, Анаксимандр, Гераклит Эфесский), первыми высказавшими идею о единстве всего сущего, созданием особой формы архитектурных колонн (т. н. ионический ордер) и музыкальным ладом от ноты допервой октавы до ноты довторой октавы (т. н. ионийский лад, или натуральный мажор).
(обратно)373
Вт. 23:7–8.
(обратно)374
Напомню читателям: аммонитяне и моавитяне – наследники праведного Лота, произошедшие от его совокупления со своими дочерьми.
(обратно)375
Валаам, сын Веорова из Пеформа Месопотамского– прорицатель, которого моавитский царь Валак призвал проклясть евреев. Валаам же посоветовал моавитянам и мадионитянам вовлечь евреев в блуд и служение языческому богу созидания и разрушения Ваалу.
(обратно)376
Вт. 23:3–6.
(обратно)377
Руф. 1:16.
(обратно)378
Гекатомба(от греч. hekaton– «сто») – жертвоприношение, состоящее из сотни быков; в переносном значении – любое большое жертвоприношение.
(обратно)379
По Закону, жертвоприношение (евр. корван, что означает «предназначенное в дар») рассматривалось как примирение человека с Предвечным. Никто из иудеев не смел появляться перед лицом Господа «с пустыми руками» (Исх. 23:15). Жертвы были бескровными (хлеб, вино, елей) и кровавыми. К кровавым относились животные из мелкого и крупного скота, а также птица. Мелкий скот должен был быть не моложе восьми дней, крупный – не старше трех лет. Закон четко устанавливал, каких животных иудеям и чужеземцам разрешается приносить в жертву Господу, а каких запрещено: «Жертва должна быть без порока, чтоб быть угодной Богу; никакого порока не должно быть на ней. Животного слепого, или поврежденного, или уродливого, или больного, или коростового, или паршивого, таких не приносите Господу; и в жертву не давайте их на жертвенник Господень… Животного, у которого ятра раздавлены, разбиты, оторваны или вырезаны, не приносите Господу, и в земле вашей не делайте сего. И из рук иноземцев не приносите всех таковых животных в дар Богу вашему; потому что на них повреждение, порок на них; не приобретут они вам благоволения» (Лев. 22:21–25). Кровавые жертвоприношения относились к особенно угодным Богу, поскольку кровь считалась носительницей жизни и потому именно ее следовало приносить Ему в дар. Животное, предназначенное в жертву, приводилось в храм, жертвующий возлагал руку на его голову, после чего животное закалывали, и кровью его, собранной священником в особый сосуд, кропился жертвенник. Есть основания полагать, что Ирод стал первым, кто усомнился в целесообразности кровавых жертвоприношений. Во всяком случае, после гекатомбы, совершенной Предвечному Агриппой, свидетелем чего стал Ирод, нам неизвестны случаи обильных кровавых жертвоприношений, в которых бы он участвовал. Христиане, отколовшиеся от иудаизма, вовсе отказались от любых жертвоприношений – как бескровных, так и, тем более, кровавых. В раннем христианстве считалось, что молитва, милостыня, деятельная любовь к ближнему сами по себе являются даром Господу, а смерть Иисуса Христа на кресте стала рассматриваться как последняя кровавая жертва, принесенная в оправдание человека перед Предвечным.
(обратно)380
Янус Квирин– мифический древнейший италийский царь, принявший у себя свергнутого бога земледельцев и урожая Сатурна. Изображаемый двуликим, Янус считался божеством дверей и ворот, входов и выходов, был обращен одновременно в прошлое и будущее. По его имени, как бога любого начала, был назван месяц январь, ему были посвящены начальный день каждого месяца и начало дня. При обращении к богам имя Януса называлось первым, а голова его чеканилась на самой мелкой римской монете – ассе. Ворота его храма в Риме закрывались только в мирное время – до Августа дважды, при Августе три раза.
(обратно)381
Фламиниева дорога– дорога, названная по имени построившего ее в 220 г. до н. э. цензора Гая Фламиния (именем этого государственного деятеля, выступавшего против сената и добившегося принятия закона о наделении землей плебеев, назван также цирк, построенный в Риме). Проходила через Умбрию на Севере до современного Римини (во времена Римской империи – Аримин).
(обратно)382
Секстилий(от лат. sexs– «шесть») – шестой календарный месяц, отсчет которого в древности (включая еврейский религиозный календарь) велся с марта. С тех пор секстилий носит название август.
(обратно)383
Луперкалии(от лат. lupus– «волк») – праздник очищения и плодородия, праздновавшийся 15 февраля в честь древнеиталийского бога Фавна, покровителя скотоводства и земледелия. Жрецы-луперки облачались в козлиные шкуры и обегали Палатинский холм; мужчины и женщины, участвовавшие в празднестве, предавались оргиям, символизировавшим зачатие будущего урожая (имя Фавна из-за его склонности к сладострастию уже в древности стало нарицательным).
(обратно)384
Праздник перепутий, или компиталии(от лат. compitum– «перекресток») – праздник, учрежденный в честь ларов– древних божеств, охранявших домашний очаг и семью, а также хозяев дома во время полевых работ и путешествий. Изображения ларов (позже из этих божеств выделились гении– сверхъестественные существа, олицетворявшие мужскую силу, затем защитники семьи, дома, общины, города и, наконец, государства; женщинам покровительствовала Юнона, соответствовавшая греч. Гере, – хранительница брака, призывавшаяся при родах) наряжались в праздничные наряды и украшались цветами.
(обратно)385
Эргастулы(лат. ergastulumот греч. ergasterion– «рабочее место», мастерская, где работали рабы) – в Древнем Риме подземные сооружения, в которых закованные в цепи провинившиеся рабы выполняли особенно тяжелые работы.
(обратно)386
Корнелиев закон– назван по имени Луция Корнелия Галбы из Испании, одного из сподвижников Цезаря, позже Августа. После гибели Цезаря был первым из некоренных римлян избран консулом. Принадлежал к числу людей, разработавших правовую методику, оказавшую влияние на всю последующую западную юриспруденцию, опиравшуюся на защиту частной собственности и право императоров на неограниченную власть, создав таким образом, по словам Энгельса, «самое гнусное государственное право, которое когда-либо существовало».
(обратно)387
Конкубинат– сожительство мужчины с женщинами без заключения брака. В Риме признавался условно законным лишь у воинов, а также в случаях невозможности брака, например, сенаторов с вольноотпущенницами, гетерами, актрисами и т. д.
(обратно)388
Каппадокия– область в Малой Азии между реками Галис, впадающей в Черное море, и Евфратом. Славилась богатыми месторождениями алебастра, хрусталя и соли, которые шли на экспорт.
(обратно)389
Описанию этого мифического события посвящена вся 2-я глава Евангелия от Матфея.
(обратно)390
II. Песн. 4:11.
(обратно)391
Христос, от греч. Christus– «Помазанник»; то же, что евр. Машиах и др. – евр. Мессия. Иисус Христосв буквальном переводе с греч. означает «Иисус Помазанник».
(обратно)392
Лакедемон– плодородная область на Юго-Востоке Пелопонесса, центральная часть Спарты. В древности чаще называлась не Спартой, а Лаконикой.
(обратно)393
Здесь имеется в виду золотой трон Аполлона, созданного мастером Батиклом в 500 г. до н. э. Уже в древности трон этот разбирался на части, которые знатные спартанцы дарили в качестве священных реликвий царям во время своих путешествий по странам Востока. До наших дней дошли остатки этого трона.
(обратно)394
Ис. 7:16.
(обратно)395
Мих. 7:6.
(обратно)396
Мат. 10:34–36.
(обратно)397
Мат. 11:28–30.
(обратно)398
После смерти Ирода и введения в Иудее внешней формы правления, дворец в Кесарии стал резиденцией назначаемых Римом прокураторов, что в пер. с лат. означает «управляющий». Прокураторамив римском частном праве назывались лица с ограниченными, четко обозначенными законом возможностями: представители истца или ответчика в суде, управляющие имуществом в богатом доме, собиратели налогов в небольших провинциях. На этих последних лежала дополнительная ответственность за соблюдение порядка на подведомственных им территориях без права вмешательства в их внутреннюю жизнь; от имени императора они могли также подтверждать (или не подтверждать) судебные приговоры, выносимые в Иудее синедрионом. По большим праздникам, намечавшимся в столице, прокураторы на время переезжали из Кесарии в Иерусалим, где резиденцией им служил столичный дворец Ирода.
(обратно)399
Этот факт биографии Ирода зафиксирован и Иосифом Флавием. В его «Иудейских древностях» читаем: «Дело в том, что, несмотря на дарованные ему Господом Богом и превосходившие всякие ожидания внешние успехи, он в домашней жизни был невыразимо несчастен, и рознь эта доходила до таких пределов, что никто себе этого даже не мог представить; вместе с тем он не знал, не отдать ли ему все внешние свои успехи за устранение зол в домашней среде и не лучше ли будет избавиться от такого обилия домашних неурядиц отречением от высокого царственного положения».
(обратно)400
Аквилея– римский город в восточной области Венетии (нынешняя Венеция), превращенной по решению Августа в десятый регион Италии. Представлял собой торговый центр на путях в Северную и Восточную Европу. Современная Аквилея – это небольшой курортный город на берегу Венецианского залива Адриатического моря.
(обратно)401
Привожу эту речь в том виде, в каком ее записал Николай Дамасский и позже процитировал Иосиф Флавий.
(обратно)402
Ек. 1:4.
(обратно)403
Себаста– бывш. Самария, переименованная Иродом и населенная преимущественно самаритянами. Ныне Себастия (араб. Sebastije) – местность к Западу от Иордана на границе между Галилеей и Иудеей.
(обратно)404
Юлия– принятое во времена Августа наименование императрицы, подобно тому, как самого Августа часто именовали Цезарем; на самом деле речь здесь идет о жене Августа Ливии Друзилле.
(обратно)405
Антипатрида– город на дороге между Иерусалимом и Кесарией, в 20-и км к северо-востоку от Яффы. Упоминается в Новом завете: «Воины, по данному им приказанию, взявши Павла, повели его ночью в Антипатриду» (Отк. 23:31). Позже, как практически все города и крепости, построенные Иродом, Антипатрида была разрушена. Ныне здесь находится Саба, названная так по прежнему названию всей местности Кафарсава, как ее называет Иосиф Флавий, или, правильнее, Кфар Саба.
(обратно)406
Эта постройка Ирода, по-видимому, должна была превзойти по красоте улицы с колоннадами в Апамее, где он впервые познакомился с Антонием.
(обратно)407
Асмонейского,или хасмонейского(допускается двоякое написание) рода. Иосиф Флавий (настоящее его имя Иосиф бар Маттафия, 37 – 100 гг. н. э.) происходил из священнического рода Маттафия – священника из Модина близ Лидды, о котором у нас шла речь в первой части книги. Благодаря третьему сыну Маттафии Иуде, прозванного Маккавеем, род Маттафии больше известен как Маккавеи. Что касается Иосифа бар Маттафии, то в качестве полководца он участвовал в Иудейской войне 66–70 гг., в 67 г. был взят в плен Веспасианом, предсаказал ему, что тот станет императором, а когда это случилось, в 70 г. Веспасиан освободил его из плена, предоставил римское гражданство и дал свое родовое имя Флавий.
(обратно)408
Быт. 21:10. В данном случае речь идет о рабыне-египтянке Агари, которая четырнадцатью годами ранее Сарры родила Аврааму сына Измаила, от которого произошел арабский народ. Авраам послушался Сарры и, снабдив Агарь хлебом и водой, отослал ее в пустыню, где та заблудилась (см. рассказ об этом в Бат. 21:11–21). Здесь, по-видимому, следует искать корни неприязненных отношений, сложившихся между родственными по происхождению народами – арабами и евреями.
(обратно)409
Ангел, евр. малáх, греч. ангелос, – и означает «вестник» или «посланник».
(обратно)410
Лев. 18:15.
(обратно)411
Ты говоришь, или ты сказал– в лат., греч. и арам. языках идиоматический оборот-утверждение, означающий согласие спрашиваемого с обращенным к нему вопросом. Часто встречается в Новом Завете. Напр.: «Иисус стал перед правителем (Понтием Пилатом. – В. М.). И спросил Его правитель: Ты Царь Иудейский? Иисус сказал ему: ты говоришь» (Мат. 27:11).
(обратно)412
Во мнении, что состарившийся Ирод поверил в свое мессианское предназначение, сходятся практически все историки, писавшие о нем. Разделяет это мнение и автор настоящей книги с той, однако, оговоркой, что, во-первых, решительно все люди как в прошлом, так и сегодня, достигнув пика власти, начинают верить в свою избранность, свое, если угодно, мессианство, и чем сильнее в них эта вера, тем больше они начинают опасаться за свою жизнь; во-вторых, в случае с Иродом его вера в свое мессианское предназначение явилась следствием психического расстройства, развившегося в нем к концу жизни в силу крайне нездоровой обстановки, сложившейся в его семье.
(обратно)413
Не стóит удивляться такому необычному способу лечения, предложенному Ироду его врачами. Люди издревле верили в целебные свойства юного женского тела. Известно, например, что в постель к состарившемуся царю Давиду подкладывали юных девушек; точно так же поступали с достигшим преклонных лет Гёте. Нередко девушки беременели от стариков. Так случилось с шестнадцатилетней матерью Конфуция, которая родила своего великого сына от семидесятилетнего старца; Авраам, похоронив свою 127-летнюю жену Сарру и женив сына Исаака, сам женился на юной Хеттуре, которая родила ему шестерых сыновей, и прожил после второй свой женитьбы еще 38 лет, умерев в возрасте 175 лет.
(обратно)414
Аскалон– ныне Ашкелон, одна из пяти древних филистимлянских столиц, расположенная в 20-и км к северу от Газы и упоминаемая в Библии: «От Сихора, что пред Египтом, до пределов Екрона к северу, считаются Ханаанскими пять владельцев Филистимских: Газский (суть Газа. – В. М.), Азотский (Азот, совр. Ашдот, крупный промышленный город и второй по величине и грузообороту, после Тель-Авива, порт на берегу Средиземного моря. – В. М.), Аскалонский (Аскалон), Гефский, Екронский и Аввейский» (И. Нав. 13:3). Город известен руинами храма сирийской богини любви Деркето и священным озером, рыбу из которого строжайше запрещалось есть. Во времена крестовых походов Аскалон был важным пунктом при наступлении рыцарей на Иерусалим. От бывших крепостных стен остались одни развалины. В ходе арабо-израильской войны 1948 г. город был полностью разрушен, с 1949 г. стал заново отстраиваться и заселяться евреями. На территории древнего города археологи раскопали площадь античного периода, остатки гавани и фрагменты укреплений периода крестовых походов.
(обратно)415
Текст выступления Николая Дамасского перед Августом приводится по его письму Ироду.
(обратно)416
Здесь, по-видимому, уместней говорить о психическом нездоровье царя, которое к концу его жизни стало явным для всех.
(обратно)417
В Ветхом Завете не содержится прямого указания на право родителей, выступающих с обвинениями против детей своих, предавать их смертной казни. Есть другое указание, а именно: «Если будет уговаривать тебя тайно брат твой, сын матери твоей, или сын твой, или дочь твоя, или жена твоя на лоне твоем, или друг твой, который для тебя, как душа твоя, говоря: “пойдем и будем служить богам иным, которых не знал ты и отцы твои”, богам тех народов, которые вокруг тебя, близких к тебе или отдаленных от тебя, от одного края земли до другого: то не соглашайся с ним и не слушай его; и да не пощадит его глаз твой, не жалей его и не прикрывай его; но убей его; твоя рука прежде всех должна быть на нем, чтоб убить его, а потом руки всего народа. Побей его камнями до смерти; ибо он покушался отвратить тебя от Господа, Бога твоего, который вывел тебя из земли Египетской, из дома рабства» (Вт. 13:6-10). Ирод уже в силу своего происхождения, воспитания и образования не был фанатиком, слепо следующим всем предписаниям, какими обязаны руководствоваться правоверные иудеи буквально на каждом шагу своей жизни. Он, скорее, принадлежал к тем слоям образованных иудеев, которые прекрасно знали современные им религии, философию и культуру, ценили их сильные и жизнеспособные стороны и старались перенести их на собственную национальную и религиозную почву. Неудивительно, что именно такие люди, как Ирод, стали предтечами зарождения в недрах иудаизма христианства. В минуты же крайнего нервного возбуждения (а Ирод пребывал в таком состоянии все последние годы своей жизни) он мог – и это вполне объяснимо – сослаться в доказательство своей правоты на одно из древних установлений, как это случилось в ходе суда над его сыновьями в Берите.
(обратно)418
Ис. 56:3–4.
(обратно)419
Имеется в виду Ливия, жена Августа.
(обратно)420
Императрица Юлия– правильней Ливия, или императрица Августа.
(обратно)
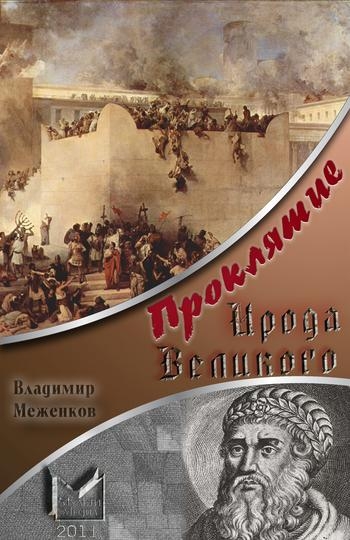

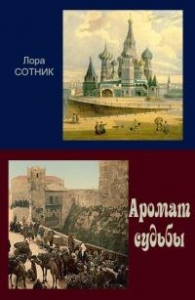

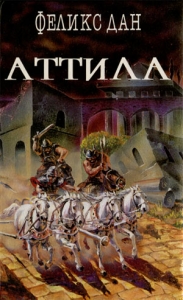



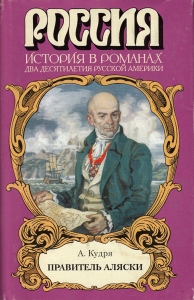

Комментарии к книге «Проклятие Ирода Великого», Владимир Павлович Меженков
Всего 0 комментариев