Ослепительный нож
Книга первая. «Отводная клятва» ПРЕДЫСТОРИЯ
Его рождению сопутствовало чудо.
В лето от сотворения мира 6923-е, а от Рождества Христова в 1415-м году в десятый день марта в Преображенском монастыре у кельи великокняжеского духовника вместо входной молитвы «Господи Исусе Христе Сыне Божий, помилуй нас», на что монах должен был ответить «Аминь», Некто, по выражению летописца, «ударил в дверь» и повелел неведомым голосом:
- Ступай во дворец. Нареки имя новорождённому венценосцу Василиус!
Великая княгиня Софья Витовтовна была на сносях. За двадцать четыре года замужества она родила четырёх дочерей и одного сына, такого хиленького, что вскорости его Бог прибрал. Не стало наследника великому князю Владимирскому. Вернее сказать, Московскому, потому что столица княжества давно уже из Владимира переместилась в Москву. Здесь не без основания волновались: не останется ли великий князь бессыновним, как его тесть, литовский самовластец Витовт[1]? Девятимесячные пересуды о тягости сорокалетней Софьи всегда заканчивались робкой надеждой: родится сын! И вот урочное время пришло, а предродовые муки затягивались. Княгиня изнемогла вконец: роды не наступали. Испуганный государь посылывал в Предтеченский монастырь, что за Москвою-рекой под бором, к святому старцу с просьбой умолить Силы Небесные «отверзнути ложесна». Старец посулил здоровье роженице, появленье наследника. Стало быть, сбылось: пришёл посланный из дворца. Однако странный какой-то посланный: не молится, а стучит, не объявляется, а приказывает… Духовник сам открыл дверь. За ней - никого. И шагов не слышно, будто не приходил никто. Дрогнув сердцем, припустился монах кривыми, немощёными кремлёвскими улочками, утопая в снежно-грязевом месиве, к великокняжескому дворцу. В приотворенных воротах он нос к носу столкнулся с посланным. Знал его девий лик, тонкий голос. И хотя неведомый зов за келейной дверью был не тонок, а густ, монах всё-таки спросил:
- Ты у меня был только что?
Отрок сделал большие глаза:
- Только что иду…
Затейливый деревянный дворец в предрассветный час бодрствовал. Именно этой ночью, а по расчётам духовника именно тогда, когда его вызвал Некто, великая княгиня разрешилась младенцем мужеска пола. Сильно же было изумление отца с матерью, едва духовник рассказал о чуде. Он слышал не посланного из дворца, а посланца Неба!
- Ангел с нами! - воскликнул великий князь.
Из высоких правителевых хором до последней нижайшей избёнки облетели столицу и княжество лучезарные слова: «Ангел с нами!»
Отец новорождённого Василий Дмитриевич был, как обычно, наименован родителем, Дмитрием Ивановичем, героем Донским. Сын же его стал Василиусом по повелению свыше. Василиус, Василевс, Басилевс! Сиречь вождь великий, а возможно, и царь…
Не было царей на русской земле от веку. Золотоордынский хан наименовался царём. Да ослабела сила насильников. Отчего же не стать на Москве своему царю? И ещё того, иноплеменного, побороть!..
Нареченный Небом Василиус рос, окружённый задаточной всенародной любовью. С ним росли и мечты о великом правлении при великом правителе. «Да избавитися нам от всякия скорби, гнева и нужды…» - возглашал протодьякон в соборе «у Пречистой». Осуществление этой просьбы из Великой ектеньи связывалось теперь с именем подрастающего Василиуса. Ему - Бог в помощь! А наивящие мечтатели про себя прибавляли: «Да избавитися нам от окаянного ига татарского»…
Десять лет спустя в двадцать седьмой день февраля москвичи со слезами проводили в лучший мир усопшего великого князя и обратили блистающие надеждой взоры к его наследнику. Рослый отрок вид имел царственный: лоб высок, очи глубоки, нос орлий, лик удлинён по-иконописному. Фотий, митрополит всея Руси, послал своих бояр по уделам, дабы князья подколенные поздравили с вокняжением своего нового, совсем ещё юного, властелина.
Вот тут-то и выявилась явная преждевременность всенародных благих надежд. Старейший из великокняжеских дядьёв Юрий Дмитриевич, князь звенигородский, дмитровский, галицкий, рузский, встретил митрополичьего боярина Иоакинфа Слебятева не поздравлениями, а угрозами. Он вспомнил прадедовское право: не сын наследует освободившийся стол, а следующий по старшинству брат, то есть в данном случае сам Юрий Дмитриевич. Давно великие князья владимирские порушили святоотеческий закон, отсюда все беды. Пора бы восстановить забытое. И ревностный поборник старины спешно отъехал в Галич собирать войско…
По-волчьи откликнулся на вокняжение своего внука Василиуса и алчный старик Витовт. Телом карло, а духом джинн, этот император литовский и до того всю Южную Русь под себя умял. Воспользовался слабостью московских подданников Орды после пирровой Куликовской победы и нашествия Тахтомышева. Взял Ржев с Великими Луками. Границы Москвы с Литвой прошли по городам Можайску, Боровску, Калуге, Алексину. Воистый сын Кейстута, соперник самого Эдигея на поле брани, гроза татар, не боялся зятя московского, а десятилетнего внука не испугается и подавно. Сговорив на ратную помощь Улу-Махмета, царя ордынского, подкрепившись богемцами и волохами, бросился он к Опочке открыть дорогу на Псков. Москва обмерла, как птица, ожидая удара по своему западному крылу…
В конце концов и сама природа не поприветствовала юного венценосца. Страшную язву привезли из ливонского Дерпта купцы. Этот вид повального мора не был на Руси новостью. Являлась язва и за десять, и за двадцать лет до того. Распухала железа, начинался, как говорили, «харк кровью», возникали дрожь, огнь в суставах. Вначале прикорчит руки и ноги, шею скривит, зубами человек скрегчет, кости хрястают, суставы, по выражению летописца, «трескотаху». Больной кричит, вопит. Бывает, и мысль изменится, и ум отнимется. Умирали через день, полтора, два. Иные на третий-четвёртый день выздоравливали. У теперешней язвы совсем иной признак: прыщ! Если прыщ синий, больной на третий день умирает. Красный же прыщ выгнивает, и наступает выздоровление. Однако ливонская язва весьма скупо баловала красным прыщом. В Новгороде Великом - восемьдесят тысяч мертвецов за полгода. На улицах исчезли прохожие. Вымирали приходы, пустели храмы. Век человеческий сократился, как после Ноева потопа. Люди стали тщедушные, слабые. Некому скот пасти, некому жито жать. Оков ржи - от полутора до шести рублей, коврига - полтина. Зобницу овса редко купишь. Ели мертвечину, коней, собак, кошек, кротов, а кое-где и людей. Запасливые псковитяне запретили вывоз хлеба, выгнали всех пришельцев. С жёнами и детьми неприкаянные мёрли по обратной дороге. Путь на Торжок, Тверь, Москву устилался трупами. В городах переполнялись скудельницы. Хоронящих клали следом в те же могилы. Дошла язва до Твери. Тамошний великий князь Иван Михайлович умер. За ним последовал сын Александр. Внук Юрий княжил месяц. Второй внук, брат Юрия, Борис Александрович устоял от язвы, остался великим князем Тверским. А язва пришла в Москву. Один за другим умерли три сына героя Куликова поля Владимира Храброго - Андрей, Ярослав, Василий. Некому княжить, не над кем княжить! Зловещее обилие трупов понуждало людей переходить в один миг от светлых надежд на княжение Василиуса к мрачным мыслям о конце света. «Сбывается слово Евангельское, - ахали просвещённые, - ведь сам Спаситель сказал: в последние дни будут страшные знамения с небес, и голод, и мор, и войны… И вот встают друг на друга - там татары, там турки, там фряги… Поднимаются рати. Правоверный князь на брата или на дядю куёт копьё. И стрелы пускает ближний в ближнего… Грядёт последнее время!»
И вдруг, как внезапное облегчение при тяжёлой болезни, пришли перемены к лучшему.
Во-первых, буря, поднятая старейшим дядей Юрием Дмитричем, утихла. Тогдашний молитвенник земли русской грек Фотий, митрополит, выехал в Галич к непокорному князю. Упреждённый о приезде владыки Юрий, кующий копьё на племянника, подготовил встречу. Весь земляной вал, окружающий город, был усыпан с московской Стороны «воинами», согнанными из дальних и ближних волостей.
- Взгляни, сколько у меня людей, святый отче! - встретил князь митрополита за городом.
- Смерды не воины, сермяги не латы, - сурово промолвил Фотий. А прибыв во дворец, добавил ещё суровее: - Сын, князь Юрий! Не видывал я никогда столько народу в овечьей шерсти.
Галицкое боярство по-своему объяснило суровость Фотия. Остряки говорили: владыка узрел в сермяжных крестьянах намёк на то, что сам он «пастырь овец».
Как бы там ни было, уговора между митрополитом и удельным князем не вышло. Фотий уехал тут же, не благословив ни города, ни людей. И тут же в Галиче возник мор. Князь спешил нагнать Фотия. В селе Пасынкове за озером он выдавил покаянную слезу, умолял высокопреосвященного воротиться. Благословение прекратило мор. Дядя с племянником заключили мир.
Во-вторых, угомонился хапайло Витовт. Озверевшие опочане так его отпугнули, что завоеватель побежал от Опочки к Вороначу и, настигнутый бурей, долго причитал, держась за шатёрный столб: «Господи, помилуй!»
В-третьих, опустошительная ливонская язва молитвами многочисленных тогдашних подвижников, будущих наших святых, отступила. Земля очистилась.
Последовали долгие шесть лет тишины, убеждая народ в счастливой звезде Василиуса. Внук Донского, отмеченный Небом, превращался из отрока в юношу, созревал для славных деяний.
Внезапный гонец из Вильны, то ли на радость, то ли на горе, спозаранку примчался на запалённой лошади. Великий князь литовский восьмидесятилетний Витовт скончался! Этот терзатель владений зятя и внука уже не откусит новых кусков Руси. Трон бессыновнего занял племянник, Свидригайло Ольгердович, в своё время привеченный Суздальской землёй[2] как изгнанник. Казалось бы, радость. Однако мёртв дед Василиуса, алчный и всё же по-родственному радевший о внуке. Теперь во главе Литвы побратим и свояк Юрия Дмитриевича, стало быть, враг Василиуса. Не к горю ли перемена?
Вот уж пришла и складная грамота от дяди к племяннику. Юрий разорвал мир. Хотя не куёт копья. Он выбрал обходной путь к братнему престолу. Двухвековое татарское иго долго было примечательно тем, что великие князья на Руси не по своим законам садились на освободившийся стол. Их сажал царь ордынский. Вот дядя и предложил племяннику по прежнему обычаю съездить за ярлыком в Орду. Пусть Улу-Махмет разрешит их спор о Владимирском великом княжении.
В Успеньев день августа-густоеда, в Спожинки, едва отзвонили обедню колокола у Пречистой, собралось на Великом лугу за рекой боярство московское проводить своего князя в тяжкий Комаринский путь из Москвы в Орду. Знатное пиршество было задано на скатертях-самобранках. И всё-таки не сменило оно мрачных лиц на весёлые. Слёзы мешали Василиусу сосредоточить прощальный взор на блистающих главах Симонова монастыря. Тщетно боярин Иван Дмитриевич Всеволожский пытался его утешить: мол, никто ещё из князей московских не погибал в Орде, а отец Василия даже пользовался ордынскими честью и ласками. Юноша вжал подбородок в грудь.
- Не отеческой волей, волей царя Махмета решится моя судьба, - жаловался он. - Нелепо с православного престола падать к ногам неверного царя. - И прибавил тихо: - Ты - вся моя надежда, боярин!
Окружавшие тоже смотрели на Всеволожского, однако по-разному. Одни считали, что скрытный и изворотливый мастер тонких дел посольских Иван Дмитрич, едущий с Василиусом в Орду, выхлопочет ему ярлык. Другие перешёптывались, сблизив седины: в Орде у дядюшки Юрия есть друг Тегиня, первый любимец царский, он всё решит, а эти политики да дипломатики только людей и себя дурачат…
Тем временем миг прощанья настал. Кони поданы. Ногайский аргамак Василиуса прядает ушами. Широкая низенькая старуха, поводя мослами под рытым бархатом, приблизилась, обхватила сыновний стая, подняла искривлённый лик:
- Не сдавайся!
Иван Дмитрич, выставив волевой подбородок, склонился к ней:
- Небось, государыня-матушка, воротимся на щите!
Оставив сына, мать живо обратилась к боярину;
- Потрудись! Сверх сил потрудись… Уговор наш свят!
Именитые всадники поскакали. Всеволож с Василиусом бок о бок. Орлиным крылом накинул боярин плащ на плечи Своего властелина. Всё скрылось за пылевой завесой на пути к улусу Булата, баскака московского, где племянника должен ожидать дядя для совместной поездки в ордынскую столицу Сарай.
Софья Витовтовна, как мать-сирота, тяжело оперлась на руку ближней девушки. Та, блестя повенцом, повела старуху к карете. Она тоже не сводила взора с дороги.
Сановники разъезжались по теремам. Лишь Василий Ярославич, князь боровский, внук героя куликовского Владимира Храброго, не поспешал покинуть Великий луг. Он во все глаза продолжал исподволь созерцать юную спутницу великой княгини. Не красотой отличалась она от вельможных сверстниц, а хрупкостью и особым выражением лица, которое хотелось читать, как книгу.
Дружеская рука легла на плечо молодого князя.
- Засиделся ты, брат, у себя в Боровске. Отвыкай теперь на Офимушку очи пялить.
Это был князь можайский Иван Андреевич, любимый двоюродный братец Василиуса, а боровскому Ярославичу добрый приятель. Все за одним столом учились у навычного в языках и науках боярина Всеволожа, и все любовались единственным существом женска пола на этих занятиях, дочкой Ивана Дмитрича.
- Не пойму тебя, Ваня, - отвечал Ярославич на остережение друга.
- Не поймёшь, оттого что не ведаешь, - усмехнулся Иван Андреич. - Слышал слова: «Уговор наш свят»? А состоит этот уговор в том, что при благом решении спора в Орде Василиус женится на Евфимии Всеволоже. Так что отводи взоры. Жди, как рассудит Улу-Махмет…
ИСТОРИЧЕСКИЕ ЛИЦА:
ВАСИЛИЙ II ВАСИЛЬЕВИЧ (Тёмный) - великий князь московский и владимирский, внук Дмитрия Донского. Род. в 1415 г. Ум. в 1462 г.
СОФЬЯ ВИТОВТОВНА - мать Василия II. Дочь Витовта, великого князя литовского.
ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ - сын Василия Тёмного, будущий Иоанн III.
ИВАН ДМИТРИЕВИЧ ВСЕВОЛОЖСКИЙ - московский боярин, дипломат.
ВСЕВОЛОЖА - боярышня, дочь Ивана Дмитриевича Всеволожского, нареченная невеста Василия II.
ЮРИЙ ДМИТРИЕВИЧ - князь звенигородский, дмитровский, галицкий, рузский. Сын Дмитрия Донского. Дядя Василия II.
АНАСТАСИЯ ЮРЬЕВНА - жена Юрия Дмитриевича, дочь Юрия Святославича смоленского, двоюродная сестра Софьи Витовтовны.
ВАСИЛИЙ ЮРЬЕВИЧ КОСОЙ - старший сын Юрия Дмитриевича.
ДМИТРИЙ ЮРЬЕВИЧ ШЕМЯКА - средний сын Юрия Дмитриевича.
СОФЬЯ ДМИТРИЕВНА - княжна заозёрская, жена Дмитрия Юрьевича Шемяки.
ДМИТРИЙ ЮРЬЕВИЧ КРАСНЫЙ - младший сын Юрия Дмитриевича.
Ближние люди Юрия Дмитриевича и его сыновей;
МОРОЗОВ СЕМЁН ФЁДОРОВИЧ, боярин.
НИКИТА КОНСТАНТИНОВИЧ, боярин Шемяки.
ПЁТР КОНСТАНТИНОВИЧ, брат Никиты, наместник великого князя в Ростове, затем боярин Шемяки.
ВАТАЗИН, тиун Шемяки.
ВЕПРЕВ ВАСИЛИЙ БОРИСОВИЧ, воевода Шемяки.
КОТОВ ИВАН, боярин Шемяки.
ДУБЕНСКОЙ ФЁДОР, дьяк Юрия Дмитриевича и Шемяки.
ГАЛИЦКИЙ ФЁДОР ВАСИЛЬЕВИЧ, наместник Шемяки в Москве.
ДЕМЕНТЕЙ, дьякон, приближенный Дмитрия Красного.
ДИОНИСИЙ ФОМИН, боярин Дмитрия Красного.
ИВАН АНДРЕЕВИЧ - князь можайский, внук Дмитрия Донского, двоюродный брат Василия II.
Ближние люди Ивана можайского:
АНДРЕЙ ДМИТРИЕВИЧ МАМОН, боярин.
МАМОНОВА - боярыня, его жена.
ВАСИЛИЙ ШИГА, наместник в Москве,
ЕЛИЗАР ВАСИЛЬЕВ, боярин.
СЕМЁН РЖЕВСКИЙ, воевода.
ЯРОПКА, воевода.
ФЁДОР КУЛУДАР, дьяк.
ЩЕРБИНА, дьяк.
МАРЬЯ ЯРОСЛАВНА - внучка донского героя Владимира Андреевича Храброго, великая княгиня, жена Василия II.
ВАСИЛИЙ ЯРОСЛАВИЧ - князь боровский, брат Марьи Ярославны.
ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ - князь, литовский изгнанник, сын Василия Ярославича.
Ближние люди Василия Ярославича боровского:
ПАРФЁН БРЕНКО
ЛУКА ПОДЕИВАЕВ
ВОЛОДЯ ДАВЫДОВ
ЮРИЙ ПАТРИКЕЕВИЧ НАРИМАНТОВ - князь, выходец т Литвы, один из первых бояр при Василии II и его отце, зять Василия I.
ИВАН ЮРЬЕВИЧ ПАТРИКЕЕВ - сын Юрт Патрикеевича, боярин.
МАРИЯ ВАСИЛЬЕВНА - княгиня, сестра Василия II, жена Юрия Патрикеевича.
АНДРЕЙ ФЁДОРОВИЧ ГОЛТЯЕВ - боярин из знаменитой фамилии Кобылиных-Кошкиных, внук Фёдора Кошки, главного советника при отце Василия II.
МАРЬЯ ГОЛТЯЕВА - мать Андрея Фёдоровича, жена боярина Фёдора Фёдоровича Кошкина-Голтяева, бабка великой княгини Марьи Ярославны и Василия боровского.
РЯПОЛОВСКИЕ ИВАН, СЕМЁН, ДМИТРИЙ и АНДРЕЙ ЛОБАН ИВАНОВИЧИ - князья рюриковичи, потомки Всеволода III Большое Гнездо,
ОБОЛЕНСКИЕ ВАСИЛИЙ, СЕМЁН, ГЛЕБ - князья, потомки св. Михаила Черниговского.
ПЛЕЩЕЕВЫ, двоюродные братья, МИХАИЛ БОРИСОВИЧ АНДРЕЙ ФЁДОРОВИЧ, - правнуки Александра Плещеева, младшего брата св. митрополита Алексия,
КОНСТАНТИН ДМИТРИЕВИЧ - князь, младший сын Донского, дядя Василия II .
УЛЬЯНА МИХАЙЛОВНА - княгиня, жена Василия Владимировича перемышльского, сына Владимира Храброго.
Святители и подвижники:
ФОТИЙ, митрополит московский и всея Руси (1410-1431).
ИСИДОР, митрополит московский и всея Руси (1437-1443).
ИОНА, епископ рязанский, с 1449 по 1461 гг. митрополит московский и всея Руси.
ЕВФИМИЙ, архиепископ новгородский.
ЗИНОВИЙ, игумен Троице-Сергиева монастыря.
ГРИГОРИЙ ПЕЛШЕМСКИЙ, вологодский чудотворец. Ум. в 1442 г.
МАКАРИЙ, Унженский и Желтоводский чудотворец. Ум. в 1504 г.
ПАФНУТИЙ, игумен Боровского Пафнутиева монастыря. Ум. в 1479 г.
МИХАИЛ КЛОПСКИЙ, юродивый, новгородский чудотворец. Ум. в 1453 г.
ТРИФОН, игумен Кирилло-Белозёрского монастыря.
МАРТИНИАН, игумен Ферапонтова монастыря. Ум. в 1481 г.
КОРНИЛИЙ, слуга великой княгини Марьи Ярославны, впоследствии пустынник, основатель и игумен Комельского монастыря на Вологодчине.
СИМЕОН, священник суздальский, бывший на Флорентийском соборе и пострадавший за православие.
МАКСИМ, святой Христа ради юродивый московский.
КУТУЗОВ ВАСИЛИЙ ФЁДОРОВИЧ-боярин, потомок слуги Александра Невского.
ФЁДОР БЕДА и его сын ВАСИЛИЙ - дьяки Василия Тёмного.
ХОВРИН ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВИЧ - казначей Василия Тёмного.
БУНКО - дворянин из Рязани.
КОЛУДАРОВ, РЕЖСКИЙ - дворяне.
РОСТОПЧА - истопник великой княгини Марьи Ярославны.
ВАСИЛИЙ КОЖА - воин, сторонник Василия Тёмного, отец св. Макария, основателя и игумена Калязинского монастыря.
Воеводы Василия II Тёмного:
ДРАНИЦА ЮРИЙ (Юшка), литовский выходец, второй воевода в Нижнем Новгороде.
ЛУЖА ФЁДОР АНДРЕЕВИЧ
ТОВАРКОВ ФЁДОР
РУСАЛКА
РУНО
УЛУ-МАХМЕТ - хан Большой Орды, затем царь казанский.
МАМУТЕК, ЯГУБ, КАСИМ - сыновья Улу-Махмета.
ЧАРТОРЫЙСКИЙ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ - князь псковский.
ВСЕВОЛОЖСКИЙ РАФ (Фёдор) - касимовский дворянин в царствование Алексея Михайловича (XVII в. ).
ВСЕВОЛОЖСКАЯ ЕВФИМИЯ - дочь Рафа, несостоявшаяся невеста царя Алексея Михайловича.
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.
Шляхтянка-разбойница. Бесчестье. Жилище ведьм. Выбор царской невесты. Обидящая свеча.
1
- Острожне?.. Острожне!.. Стуй!..
Евфимия придержала неподкованную Каурку, оборотилась на вёртком седле, с коего можно поражать стрелами во все стороны, опустила плётку, повисшую на мизинце, замерла в ожидании крикливой наставницы. До чего же шляхтянка отменно держится на едва объезженном жеребце!
- Язда конна бардзо добже! - по-атамански отчеканила среброкудрая дива. Огромные лазоревые глаза горели, яркие губы, округлясь, вытягивались в боевую трубу…
- Спасибо на добром слове, Бонедя, - ответила ученица на похвалу за своё наездничество.
- Пани Бо-нэ-дия! - вскинула подбородок полячка.
- Сколько же тебе лет, пани Бонэдия? - чуть прищурилась Всеволожа.
- Мам двадзесьця ляг, - объявила наставница с таким видом, будто ей вдвое больше.
- В двадцать лет всё успела! - уважительно вымолвила боярышня. - И замужем побывать…
- Была замэнжна, - подтвердила Бонедя.
- И из шляхтянки в разбойницу превратиться, - пытливо наблюдая за ней, продолжила ученица.
Отец перед отъездом в Орду рассказывал о распущенности краковской шляхты. Храбрость, бесстрашие сменились там попойками и бахвальством. Щегольство мужское достигло женских высот: шелка, бархат, сидение перед зеркалом, расчёсывание длинных волос, затейливое завивание их… Немудрено, что нелепое жёнство мужчин привело к омужанию женщин. Появились щеголяющие грубонравьем разбойницы, грабившие по большим дорогам. Среди них были и шляхтянки. Евфимия слышала, как посол краковский, пировавший у отца, говорил, что литовский князь Ягайло Ольгердович, женившись на королеве Ядвиге, потворствовал знати латинской, боясь потерять польскую корону, а паны обратили дарованную свободу во зло.
Иван Дмитрич против обычая не отсылал дочь на женскую половину при частых иноземных гостях. Она совершенствовала познания в языках латинском, немецком, греческом. Уезжая в Орду, он поручил Евфимию присмотру верных друзей. Ведь в доме остались одинокие женщины: помимо Евфимии - её старшая сестра, вдова князя Андрея Серпуховского, Анисья с дочкой Устиной, которую «тётка», будучи на год старше, стыдилась именовать племянницей. Вот и поселились с ними Супруги Мамоны: боярин Андрей Дмитриевич, ведающий в Москве дела своего князя Ивана Можайского, и Акилина Гавриловна. Он - книгочей, числолюб и мечтатель - опекунством не очень-то докучал. Зато Мамонше явилась блажь научить подопечную скакать на коне и владеть оружием. Вот и подыскала наставницу. И идут в примосковном сельце Зарыдалье, отчине Всеволожских, тайные занятия с беглянкой из Кракова пани Бонедей, что дерётся, как Соловей-разбойник.
При упоминании о её прошлом полячка подняла взор горе и спросила как бы про себя:
- Цо она мви?
- Не понимаешь, что говорю? - усмехнулась Евфимия.
Бывшая разбойница с отчаянной гордостью заявила по-русски:
- Понято. То я мстила. За своего Дашко. Ямонт его убивал. - Она схватила себя за нос, за уши, ткнула в глаз. - Всё отрезал. Я зробыла лучництвфо. То не можно для пан-жён, тильки для пануф-мужей, - Она сняла из-за спины лук, наложила стрелу, прицелилась в толстый дуплястый дуб шагах в ста пятидесяти. - Во-он Ямонт - моя тарча, по-российски «цель». Стерегла пшэт полуднем, и вечбрэм, и в ноцы. Два, чши, чтэры тыгбдне, по-российски «седмицы». Увага! Вон он! - Она спустила стрелу, вонзившуюся в грудь дуба. - Я убила Ямонта…
- Сюда бежала от мести его друзей? - предположила Евфимия. Перед ней была совсем другая Бонедя.
- То так, то так, - кивнула полячка, бросилась к дубу и на скаку метнула в него ножом. Нож вырос подле стрелы второй былинкой от единого корня.
Бонедя протянула лук ученице:
- Прошэ!
Евфимия долго целилась… Стрела миновала дуб.
- То бардзо зле! - укорила учительница. - Похылись нецо до пшоду, - наклонила она Евфимию немного вперёд. - Выжей! Нижей! - передвигала её руки то вверх, то вниз. - Поцёнгноньць! - натянула её руками тетиву. - Хуп!
Стрела вонзилась бок о бок со стрелою Бонеди.
- Дзенкуе, добже, - похвалила она.
Серебристый день на лесной полянке позолотился, солнце никло к вершинам сосен. Подруги-поединщицы спешились и принялись за мечи.
- Чы можэ ми мани то показаць? - сделала Бонедя несколько выпадов.
Боярышня повторяла на совесть и не обрадовала её.
- Прошэн её одвруциць! - сердилась опытная бойчиха.
- Что значит «одвруциць»? - в свою очередь хмурилась боярышня, уже преизрядно устав.
- Цо значы слово? - переспросила Бонедя. - Повернуть себя! По-вер-нуть! Как клетка пёрсева? - с силой развернула она грудь Евфимии. - БжуХ туда! - убрала ударом кулака живот. - Локець! - выправила локоть. - Пёнта здесь! - установила пятку. - Рэнку, рэнку дай! - схватила за руку.
Охочая до книг Евфимия вспомнила, как поступал на уроках словесности ленивый до ученья Василиус. Назевавшись, он спрашивал её батюшку, обучавшего и самого будущего великого князя, и его двоюродных братцев, и свою дочь: «А который час?» Иван Дмитриевич говорил со вздохом: «Что ж, поди порезвись, а мы ещё почитаем». Все оставались, лишь Васька Косой, старший сын Юрия Дмитрича, нынешнего супротивника Василиуса в Орде, вопрошал без стыда и совести: «А мне можно с ним?»
Евфимия опустила меч и спросила:
- Который час?
- Ктура годзина? - Бонедя сделала на земле росчисть, воткнула срезанную тростинку, провела круг, изобразила по краям цифирь, глянула, на какую цифру указывает тень от тростинки. - Дэвьяць годзйн.
- Девять? - ужаснулась Евфимия, сообразив, что в одиннадцатом часу[3] у Пречистой будут служить вечерню. Ей давно уж пора в Москву сопровождать великую княгиню в собор. Надо переодеться, чтобы в село вернуться. Боже избави попасться обеим на чьи-либо глаза в белых тугих срачицах, заправленных в чёрные шаровары. А ещё и в селе московскую сряду надеть. И дома предстоит переодевание для особых выходов.
Она направилась к потаённой рубленой келье, где прятался их боевой снаряд.
- Як же?- развела руками Бонедя. - А жут ощепэм? А жут куля?
- Завтра, - пообещала Евфимия. - И метать копьё, и бросать ядро…
- Ютро? Заутра? - Бонедя стреножила коней, отпустила в табун.
Обе появились в Зарыдалье в сарафанах. А спустя малое время запряжённая четвериком колымага мчала их к Москве.
Бонедя сошла на Варварке у приютившего её дома купца Тюгрюмова, где недавно с иконы Богоматери пошло миро. О том много судачили и в Кремле, и в застенье. Считали - к худу.
Евфимия обратила внимание, что у Фроловских ворот Кремля перед иконой Спасителя какой-то посадский то и дело припадал ниц. Значит, проходя, не снял шапки. Теперь пятьдесят земных поклонов клади, иначе накажут суровее.
От ворот к Троицкому подворью колымага пошла ровнее. Въехала на единственную мощёную улицу в Кремле длиною всего-то в сто сажен. Суконная и Гостиная сотни поскупились на мостовую, ну и купцы!
С Никольской мимо дворов Морозова, Оболенских, Сабурова карета направилась к Великокняжеской площади. Вот и церковь Николы Льняного поблизости от родного дома. Этот деревянный, с детства знакомый храм по-особому привлекал Евфимию. Хранимый в нём образ чудотворца давно почитаем невестами. Они знали историю обедневшего дотла богача с тремя дочерьми на выданье. Пришедший в отчаянье человек - грех думать! - вознамерился торговать своими девицами-бесприданницами. Святой Никола явился ему в ночи и оставил калиту с золотом. Явление оказалось сном, а калита явью. Родитель выдал дочерей замуж. С тех пор старенький храм Николы Льняного полон невестами. Даже нищие на его паперти только женска пола. «Мне ли приспело время пред чудотворной иконой пасть?» - тяжело вздохнула Евфимия. И отвернулась: колымага затряслась мимо житниц, длинных амбаров Софьи Витовтовны, предоставленных под городские запасы. По слухам, под этими житницами скрываются тюрьмы, каменные мешки глубиною до трёх сажен.
Что-то затучились прежде безоблачные отношения будущих свекрови с невесткой. Год, как судятся в далёкой Орде юный великий князь с дядей Юрием. Вестоноши доносят, что скоро суду конец. Каков же он будет, этот конец? Евфимия про то и ведать не ведает.
Редкие весточки от отца пусты, будто из Зарыдалья пишет, а не из ханской столицы Сарая. Боярышня их наизусть запомнила, пытаясь хоть что-нибудь угадать между строк. Отцова осторожность понятна: епистолию могут перехватить. И всё же, хоть бы крупица! Нет, сплошная обыденность: «А ты бы ко мне и вперёд о своём здоровье описывала, как там тебя Бог милует, без вести бы меня не держала». Евфимия долго думала, что ответить. Вспомнила про веред на шее. Через три месяца, когда от вереда и отметины не осталось, получила строгий наказ: «Ты бы теперь ко мне описала, что такое у тебя на шее явилось, и каким образом явилось, и как давно, и как теперь? Да поговори с княгинями и боярынями, не было ли у них того же. Если было, то отчего бывает? С роду или от иного чего? Обо всём бы об этом их выспросила да ко мне отписала подлинно, чтобы мне всё знать. Да и вперёд чего ждать. И как ныне тебя Бог милует?» Евфимия же только на милость Божию и надеялась. Чем ближе приезд Василиуса, тем великая княгиня мрачнее. Что ни беседа меж ними, то спор. Последняя из сопротивоборных бесед произошла накануне. Софья с чего-то вспомнила поход своего покойного батюшки под Опочку шесть лет назад. Опочане сделали загодя тонкий мост перед воротами, укрепили его верёвками, а под ними набили во рву острые колья. Литовцы, видя ворота отворенными, бросились на мост. Верёвки были обрезаны. Враги умирали на кольях в муках. Те же, что проскочили в ворота, попались в плен. С них, возведённых на стены, на глазах у Витовта и его воев сдирали кожу, отрезанные уды пихали во рты. Кейстутов сын и сам был жесток, а такого не выдержал, побежал от Опочки. Вот Витовтовна и обозвала русских варварами. Евфимия, позабыв зарок не вступать с государыней-матерью в споры, возразила, как ей казалось, спокойно: «Осаждённые зверствами остановили завоевателя. Не спаси они таким образом Пскова и Новгорода, зверств было бы куда больше». Софья отвела стальной взор: «Зеленомудрость твоя претит!» И так - срыв за срывом. Скорей бы Василиус с батюшкой ворочались на щите. Все молитвы об этом.
На всходном крыльце о двух лестницах боярышню поджидала сенная девушка.
- Наконец-то! Акилина Гавриловна в твоей ложне сама не своя.
- Успокойся, Полагья. Не опоздаю.
Дородная боярыня Мамонова высилась у Евфимьина одра с напряжённым ликом.
- Заставляешь тревожиться.
Подопечная приложилась к горячей щеке строгой, но доброй женщины. Не зная матери, ушедшей из жизни при её родах, Евфимия за год успела накрепко привязаться к этой боярыне и видела в ней не докучливую наставницу, а старшую, умудрённую пережитым подругу.
Пока Полагья надевала на боярышню серебряный повенец и изузоренный, подобный шёлку, летник из шерсти белых коз, Акилина Гавриловна увлечённо расспрашивала:
- Бонедя тобой довольна? Как воинские ухватки? С какой по какую прошли?
- От кеды до кеды? - передразнила полячку Евфимия. И снисходительно улыбнулась боярыне, знавшей о приёмах единоборства лишь понаслышке. Однако объяснила по-деловому: - Езда на коне - отлично. Стрельба из лука - из рук вон плохо. Шэрмерка, как называет Бонедя бой на мечах, - ещё хуже, нежели стрельба.
Боярыня огорчённо вздохнула.
- Ты с помощью батюшки, дорогая Офимушка, многим мужским наукам навычна. Хоть сейчас на посольское дело ставь. Однако же чужда главной мужской науке - воинской.
- Не терзай меня, Акилина Гавриловна, - взмолилась боярышня, - Сообрази простую вещь: русская великая княгиня не воительница, а теремная затворница. Нет понадобья скорой супруге Василиуса стрелять и мечом махать. На что мне эта наука-мука?
Мамонша подняла палец.
- Судьба-скрытница потом объяснит на что. - И ещё более загадочно добавила на прощанье: - Ворочайся от Пречистой благополучно. Есть весьма важный разговор.
2
В Успенском соборе оканчивалось повечерие. У столпа близ северных дверей на возвышении-рундуке Евфимия стояла подле кресла великой княгини-матери, обитого красным сукном и атласом по хлопчатой бумаге с шёлковым золотым галуном. Самая ближняя девушка государыни привыкла быть по правую руку Софьи Витовтовны, будущей своей свекрови, характером тяжелёхонькой, да уж какую присудил Бог. Со своей высоты боярышня видела степенных, вящих людей, силу и думу великокняжескую. На правой, мужской, стороне впереди всех - единственный безбородый боярин, зато мощные усы - белым коромыслом, хоть ведра на них цепляй. Это Юрий Патрикеевич Наримантов, литовский выходец, ещё при отце Василиуса «заехавший» многих бояр, доискиваясь первого места. При мысли о первом месте Евфимия глянула влево на коленопреклонённую женщину в платье из ипского сукна, что привозят из фландрского города Эйперн - центра знаменитых сукон и бархата. Это сестра Василиуса Мария, выданная за Юрия Патрикеевича, вмиг сделавшая его «свойственным» боярином, введённым в государеву семью. Вспомнилось из рассказов отца, как честолюбивый вельможа Фёдор Сабур однажды сел выше Хованского. Тот злобно молвил: «Ты попробуй, посядь Юрия Патрикеича». А Фёдор ему в ответ: «У него Бог в кике, а у тебя Бога в кике нет». То есть у того счастье в кичке, головном уборе жены.
С литовского выходца Евфимия перевела взор на двух молодых князей, с коими батюшка учил её за одним столом, - Ивана Можайского и Василия Боровского. Молчун Василий, всегда красневший в её присутствии, бывало, очей с неё не сводил, когда будущий великий князь со своими двоюродными братьями и учитель их Иван Дмитрич не могли этого заметить. Вот и сейчас он нет-нет взглядывал на Евфимию. Пришлось отвернуться к женской половине. У левого клироса она сразу же углядела бабушку с внучкой. Старуха Марья Голтяева, попавшая в жены человеку знатнейшей фамилии Кобылиных-Кошкиных, имела единственного сына Андрея, однако бездетного. Потому всю любовь сосредоточила на детях покойной дочери, выданной за Ярослава Боровского. Мор вырвал из жизни князя с княгиней, и сиротки княжич с княжной, то есть Василий с Марией, выросли под бабушкиным крылом. Голтяиха оттёрла от внуков другую бабушку, литвинку Елену Ольгердовну, жену Владимира Храброго, героя донского, скорбную уединенницу после смерти мужа. Теперь, глядя на двух Марий, юную и старую, можно было предположить, что внучка занимает в бабкином сердце более места, нежели внук. Ишь, как усердно то ли молятся, то ли шепчутся головка к головке! И если молодой князь Василий не отлипает очами от Всеволожи, то сестра его со своей опекуншей тоже исподволь мечут в неё только вовсе иные взоры, да ещё и перешёптываются таимно. Евфимия тяжело вздохнула и отвела глаза к матери Ивана Можайского Аграфене Александровне, дочке Витовтова воеводы, сговорённой ещё Дмитрием Донским за сына Андрея. Овдовев после мора, княгиня удачно выдала младшую Настю за нынешнего великого князя Тверского Бориса и живёт сейчас со старшим Иваном, который, говорят, в матушке ну просто души не чает.
Внезапно Евфимия встретила взгляд чёрных злых очей. Он был брошен не на неё, а на ту, что около, на самое государыню-мать. Злые очи сверкнули на миг. Однако какой страшный миг! Евфимия не ожидала встретить здесь эту женщину. Зачем пришла в гущу бояр московских жена крамольного Юрия Дмитриевича, оспаривающего у племянника великокняжеский стол? Зачем покинула свой Звенигород? Тщится разведать, не прибыл ли по Комаринскому пути из Орды вестоноша с приговором Улу-Махмета? Или уже разведала и торжество своё принесла к Пречистой? Стоит презрительная Анастасия, окружённая всеобщим нелюбьем, посреди пустоты, созданной вкруг неё сторонниками Софьи и её сына. Знает гордячка: наденет посол ордынский золотую шапку на главу Юрия, и все эти раззолочённые матроны вместе с мужьями разъедутся по глухим уделам вслед за своим Василиусом.
Хладом окатил этот вражий взор нынешнюю правительницу, Витовтову дочь, Анастасиину двоюродную сестру. Когда-то тётка последней, Анна, княжна смоленская, выданная за Витовта, спасла супруга, ожидавшего смерти в лапах врагов. Добившись свидания с ним в темнице, она переодела в мужнино платье служанку свою Елену, а заточенника вывела в Елениной сряде. Девушка умерла под пытками. Витовт поздорову воротился в свой замок. Не случись этого, не восседала бы ныне Софья Витовтовна у Пречистой на возвышенном месте государыни-матери. Её бы на свете не было. Смоленский князь, брат спасительницы Витовта, выдал дочку Анастасию в Северную Русь за второго по старшинству сына великокняжеского. Соблюдался бы здесь прадедовский закон о престолонаследии, когда не сын наследует отцу, а брат брату, Анастасия бы возвышалась сейчас на месте Софьи. Вот такая игра судьбы!
То ли под взглядом своей врагини, то ли по какой прихоти государыня-мать резко поднялась. Что случилось? Повечерие кончилось, всенощная не начиналась, дьячок посреди собора читал длинное Шестопсалмие - самое время отдохнуть. Однако государыня встала, и Евфимия поддержала её, как водится.
- Потребно ли чего, матушка Софья Витовтовна?
Никакого ответа. Кажется, чья-то старушечья спина в чёрной понке, будто по условному знаку, тихо метнулась к шептуньям Марье Голтяевой и внучке её Марье Ярославне. И вот взошла на рундук Ярославна и глядит на Евфимию с вызовом. А боярышне Всеволоже всё это невдогад. Великая княгиня, передёрнув мослами под рытым бархатом, произнесла тихо и в то же время достаточно слышно:
- Сойди. Пусть станет она.
Евфимия, не теряя стройности стана, сошла с помоста. На её место стала луноликая толстушка Ярославна и взяла государыню под руку.
Все, отвлёкшись от молитв, крестных знамений и поклонов, дружно обратили взоры к случившемуся. Дочь ближнего боярина Всеволожа, нареченная великокняжеская невеста, стояла внизу, приспустив очи, лик её пылал. Черно-белые плитки пола близ неё очищались от разноцветного скопища сафьяновых сапожек… Пустота, как вокруг Анастасии Звенигородской!
А служба продолжалась. Евфимия впервые заметила, насколько тесен и ветх главный храм Москвы. Сто с лишком лет не касались его каменные мастера. Кое- где своды подпёрты брёвнами. Некому в шаткое время радеть об общей святыне, всяк занят собой. Вот и Евфимия, отвлёкшись от богослужения, терзалась: за что бесчестье? Так всеприлюдно, так напоказ! В чём допустила просторожу? Чем вызвала опалу? Навсегда или на сегодня? Ежели на сегодня - перетерпеть, скрепя сердце. Завтра покаяться в чём невесть, заглушить обиду. Ежели навсегда… Вся надежда на жениха. Вернётся Василиус на щите, урезонит мать, он теперь семнадцати летний. Разлучаясь, впервые поцеловал в уста, прошептал: «Красота ненаглядная!» Волоокий, орлоносый Василиус! Быть за ним - её жребий. Проводив, грустно сидела перед зеркалом: кудри золотовидны, да не длинны, очи лазоревы, да невелики, живы - вот уж воистину! Нос, хвала Богу, прям. Рот не слишком-то сочен, вот бы как у Бонеди! Прошлась - стан хорош, росту чуть-чуть прибавить… В чём же ненаглядная красота? И ещё стыд накопился за год разлуки: нет тоски по Василиусу! Нет тоски, нет любви. То есть как же нет? Есть, но сестринская. Вместе выросли. За букварём сидели, как сестра с братцем. Покойный государь глянул и улыбнулся: «Жених с невестой!» Софья Витовтовна таких шуток никогда не говаривала…
Служба у Пречистой подходила к концу.
С неба на землю поверг Евфимию прежде простой, теперь же неразрешимый вопрос: как домой добраться? Прибыла в государыниной карете (свою на Софьином дворе отпустила), а отбудет… Не пешей же! Не допустит будущая свекровь окончательного бесчестья своей невестки. Вот сейчас отошлёт Ярославну-толстушку к бабушке, подаст знак Евфимии следовать за собой… Ан нет. Приложилась, как всегда, первая ко кресту, пошла об руку с луноликой Марьюшкой к выходу, на Евфимию не взглянула. Как потерянная стояла боярышня Всеволожа среди пустеющего собора. В богатом летнике шерсти белых коз пешей идти по пыльным кремлёвским улицам - поношение, да и только! В безвыходности надобно сыскать ход. Сыскивала, что бы ни приключалось в жизни. А тут кровь к голове прихлынула: нет решения! Подошла ко кресту в числе самых крайних, кажется, следом за старухой, женой дьяка Фёдора Беды, и пошла, словно зачарованная, из храма. Там, за высокими тяжкими дверями, - позор: боярышня Всеволожа пешая со всенощной шествует! Называется, великокняжеская невеста! Хоть бы кто место в карете предложил. Сколько ни ждала - никого! Расступились, как сверзли в тартарары. Исчезла для них, и всё тут.
Брат Ярославны-кубышки, внук Голтяихи, князь Василий Боровский всегда был приязнен и добр к Евфимии. Нынче всю службу зарился на неё и после, как вниз вошла, тоже метал взоры, а не приблизился, не предложил руки. Бледнел и - ни шагу к ней… Отчаявшись ждать, Евфимия тихо пошла к дверям.
Кто взял под руку? Обернулась. Анастасия Юрьевна, двоюродная сестра и врагиня Витовтовны. Боже, как постарела! Намаялась за год мужнина суда. Давно Евфимия её близко не лицезрела.
- Окажи честь, боярышня, воспользуйся моей колымагой.
Смешно называть так двухместную раззолочённую карету с большими слюдяными окнами, как фонарь. Обычно ездила она шестерней, на запятках двое рынд в голубых епанчах, из-под голубизны - казакины с серебряными снурками, а на головах высокие картузы с перьями и блестящими бляхами на лицевой стороне. Перед лошадьми - скороходы с булавами в руках, в щегольских башмаках, даже несмотря на слякоть. Ну, царица едет, никаких сомнений!
Евфимия улыбнулась:
- Благодарствую на приглашении, княгиня Анастасия Юрьевна!
Времени на раздумье отпущено не было. Те, что ещё оставались в храме, во все глаза смотрели на них. Кто примет руку Анастасии Юрьевны, тот не враг ли Софье Витовтовне? Нынче же будет сказано во дворце, что впавшая в опалу строптивица уехала с княгиней Звенигородской.
На паперти окружили пречистенские соборные нищие. Боярышня и княгиня достали по два алтына ссыпными голыми деньгами, загодя припасёнными ради милостыни.
Подали глас преизмечтанные и преухищрённые часы с луною на башне великокняжеского дворца. Искусственный человек самозвонно, самодвижно и страннолепно пробил своим молоточком последний, четырнадцатый час дневного времени. Слушая дивный звон, Евфимия всякий раз вспоминала Лазаря Сербина, монаха горы Афонской, сотворившего такое чудо в начале века. Этому часомерью верили все. Чудо не могло солгать. И то сказать, часы стоили тридцать фунтов серебра!
Евфимия с тоской глянула на пресловутую карету-фонарь. До дому несколько раз шагнуть, а пришлось пойти на явную крайность. Анастасия повела её, как родную. Расфуфыренный охраныш распахнул дверцу.
Начинало смеркаться.
- Не вздыхай, милочка, - первой подала голос Анастасия Юрьевна. - Софьины тюрьмы страшны, да не про тебя.
Опять они проезжали житницы, под коими прячутся каменные мешки для великокняжеских супостатов.
- С чего, матушка-княгиня, молвила ты о тюрьмах? - удивилась Евфимия.
- От такой прегнуснодейной особы, что тебя у Пречистой с рундука согнала, можно ожидать всего, - зло заметила Юрьевна. - Не ведал Юрий Димитрич, мой благоверный супруг, какую злокозненную волчицу повезёт на Москву, когда во Пскове Софью встречал как великокняжескую невесту. - Судя по дрожанию голоса, княгиня распалялась от слова к слову. - Не грех и чёртову правду молвить, - взяла она Евфимию за руку, - выдалась наша нынешняя правительница не в матушку, мою тётку, а в свою бабку Бириту, что Витовтова отца Кейстутия околдовала где-то в неметчине, и тот женился на ней. Бирита-то была ведьма! Оттого и Витовт Кейстутьевич вышел этаким ведьмаком. Подступая к Смоленску, младенцев на жердях стремглав вешал…
- Как это стремглав? - перебила, ужаснувшись, Евфимия.
- Головою вниз, вот как. А взрослых давил меж брёвнами. Сколько бед причинил земле русской - память не выдержит. А зло родит только зло и род от роду приумножает…
Слушая княгинины филиппики в посыл Софье, боярышня Всеволожа невольно вспомнила рассказы отца, как дед Анастасии Святослав Смоленский в походе на Литву младенцев сажал на колья, взрослым выжигал глаза, тьмы пленников продавал татарам. А отец её Юрий запятнал себя таким злодеянием, от коего даже в сей суровый век люди дрогнули. Его, изгнанного Витовтом, не оставил единственный друг Симеон Мстиславич, князь Вяземский. Вместе делили бедствие. Сластолюбивый Юрий воспылал страстью к супруге князя прекрасной Иулиании. Но ни соблазн, ни коварство не помогли ему осквернить ложе добродетельной женщины. Тогда на пиру в своём доме Юрий убил несчастного Симеона. Мыслил воспользоваться ужасом Иулиании. Она не сробела. Метила насильнику ножом в горло, попала в руку. И любострастие уступило гневу. Догнав жертву во дворе, Юрий изрубил её в куски и велел бросить в реку. После, оставив жену с детьми, гонимый презрением Каин скитался в степях рязанских и той же осенью скончал жизнь. А ежели зло порождает зло, то к добру ли села Евфимия в карету княгини Звенигородской? И тут-то она опомнилась: с какой стати на их пути были житницы? Карета устремилась не к Чудовой площади, а, сделав крюк по Кремлю, - к Боровицким воротам. Вот уже и застенье. Колеса протарахтели по брёвнам моста над Неглинной. Кони мчат по Воздвиженке мимо купеческих теремов к Можайской дороге.
- Ты куда меня везёшь, матушка?
Княгиня не отпускала её руки.
- Забираю тебя от греха подальше. Уважая твоего батюшку, супротивника нашего в Орде, хочу сберечь его дочь от дворцовых козней. Лопоухие Мамоны не сберегут. Не обинуясь скажу: что у Пречистой внезапь случилось, вовсе и не внезапь. Есть мои пролагатаи в ближнем Софьином кругу. Донесли о её чёрном замысле извести тебя до приезда сына. Самовластица отводной клятвой подвигла твоего батюшку споспешествовать неправому делу.
- Какой такой отводной? - исподволь попыталась боярышня высвободить руку.
- Знаешь, как клянётся неверный? - ещё крепче сжала её пальцы Анастасия. - Говорит: «Лопни глаза!» А про себя добавляет: «Бараньи». Говорит: «Чтоб дня не прожить!» А про себя добавляет: «Собаке». Говорит: «Отсохни рукав!» А всем слышится «рука». Так- то!
- Однако до сего дня я от великой княгини ничего не видела, кроме чести, - попыталась боярышня защитить свою госпожу, соображая, что руку-то она вырвет, да из кареты не вырвется: кони несутся вскачь, двое охранышей движутся по бокам скок в скок.
- Люди таинственны, - между тем наставительно говорила Анастасия. - Овогда от них честь, а овогда от тех же бесчестье.
- Вороти меня домой, матушка-княгиня! - взмолилась как можно жалобнее Евфимия.
- Экое ты дитя! - Юрьевна обняла её другой рукой, не отпуская в то же время пальцев боярышни. - Не пугайся. Нынче же и Мамоны, и сестрица твоя узнают, где ты находишься. Софья же не достанет тебя в моём доме, как в крепости. Не обольщайся, что станешь женой Василия, ежели он победит в Орде. Мать его ныне правительница. И как бы грехорождённый Васька ни подрастал, она правления не уступит. Витовтовы руки цепкие! Ей надобна поводливая невестка. Ну, вроде Машки, Голтяихиной внуки, глупышки. А ты вся в батюшку: учена, умна. Некнижной литвинке из захолустной Вильны с тобой тягаться не по нутру.
- Отпусти, княгиня, - затравленно глядела боярышня в темнеющее окно, где ещё угадывался охраныш на белом коньке татарском. Ох, прыть у этого скакуна! Ордынская низкорослая порода коней в быстроте не уступает высокорослой арабской, - Не перекраивай, Анастасия Юрьевна, моей жизни по своей воле, - продолжала просить Евфимия.
- Сиди, - потребовала княгиня, - Мною задуманное к твоему же благу. Тебе невдомёк, так отец поймёт. Спасибо скажет мне Иван Дмитрия. Не гляди в окно, как на волю. Меня, старуху, осилишь, вырвешься, а голову расшибёшь.
Евфимия присмирела и круто переменила речь:
- Открой мне, Анастасия Юрьевна, отчего Василиуса называешь грехорождённым?
- Какой он Василиус? - возмутилась княгиня, - Васька, и вся недолга. Духовник покойного великого князя выдумал молвку о странном чуде, наверняка той же Софьей подсказанную. А грехорождённый у неё сын… - Анастасия замялась, - Отчего, отчего… Негоже юнице такое слышать, да не зря говорят: Витовтовна прижила сына, будучи на гостинах у отца в Вильне. Даже имя виновника кое у кого на устах: Доброгостий Смотульский, воевода Витовтов. - Тут Юрьевна наклонилась к самому уху Евфимии: - Покойный великий князь Василий Дмитрия догадывался и молчал. А сына не возлюбил. Подумывал отказать великое княжение по старине, то есть брату. Может, так и было поступлено. Завещание, сказывают, состряпано после государевой смерти.
Евфимия предпочла не ответить на эти страшные речи. Некоторое время слышался лишь грохот колёс. Окна стали совсем темны, ничего уж не разглядишь. И лица княгинина не видать. Только цепкость рук её чувствуется и от платья душистой колонской водицей пахнет.
- Что бы там ни случилось, - вновь заговорила Анастасия, - всё равно быть Юрию Дмитричу на великокняжеском столе. А отец твой станет инокняженцем: от Софьина выродка перейдёт служить истинному государю, попомни!
Евфимию не повергло в страх, а скорее в смех нелепое такое пророчество. Во тьме Юрьевна не видала её улыбки.
- А я? - прозвенел любопытствующий девичий голосок, - Что предскажешь мне?
- Ты, - торжественно оповестила княгиня, - ты непременно станешь женой Василия. Не Софьиного, моего. Первенец мой по тебе давно с ума сходит.
Не трудно было сообразить: речь идёт о старшем сыне Юрия Дмитрича Василии Косом, забияке и баламуте, что сбегал от ученья вслед за Василиусом. Евфимия не знала, как отозваться на нежданное-негаданное открытие. Теперь возможность оказаться в Звенигороде стала выглядеть ещё более мрачной. Слава Богу, карета резко сбавила ход и внезапно остановилась.
Миг тишины… И за дверцами почти тут же всполохнулось движение. В окне справа замелькали огни.
- Что стряслось? Пошто стоим? - ворчала Анастасия, не нарушая своего покойного положения.
Дверца приотворилась. Просунулась встрёпанная голова. Лица впотьмах не разобрать.
- Государыня-матушка! Постоялый двор Есентия Лубки…
- Окстись, Олисей, - грозно откликнулась княгиня, - На што мне постоялый двор? Чай, дом близок.
- Не слишком-то близок, матушка. А коням отдых надобен.
- Так поменяй коней.
- А Есентий не повелел тебе коней менять. Таков ему приказ.
- Чей приказ? - рассердилась вконец княгиня.
- Московский. Через здешнего князя.
Анастасия шумно перевела дух.
- Какого князя? Разве мы не в своём уделе?
- Мы на земле Михаила Андреевича Верейского.
- Известный потаковник власть придержащим, - пробормотала княгиня. Разумеется, это врагиня Софья изобрела ей дорожные неприятности. Уязвлённая, продолжала ворчать: - Будто нельзя до своего постоялого двора доплестись…
У Олисея был тонкий слух, он ответил на бормотанье:
- Кони запалились донельзя. Остудить бы да покормить чуток.
Анастасия, кряхтя, выбралась из кареты. Евфимия - следом. Обеих тут же окружила женская челядь, ехавшая за ними. Челядинки сняли с кареты жестяные фонари решетом, погасшие в пути, а теперь засвеченные и тускло мерцающие. Слуги подошли с факелами из пеньковых витней. Они и давали подлинный свет.
- Улька, бери боярышню под руку, да покрепче, - распоряжалась княгиня. - Марьша, веди меня… Синька, Фенька, бегите вперёд, собирайте вечерять.
На широком крыльце гостью встретил хозяин Есентий Лубка, в три погибели согнулся, едва не в землю пал.
- Извиняй, княгиня Анастасия, не ждал. Конской смены не изготовил.
- Полно врать, - отрезала Юрьевна сквозь зубы и прошла в дом.
За едой она была мрачна и неразговорчива. Спать улеглись наверху, в просторной боковуше на двоих. Не раздевались ради краткого отдыха. Устроились на медвежьих шкурах поверх постелей. Челядинки обосновались за дверью.
Уморилась за дорогу старая княгиня. Едва Ульяна, накрепко оберегавшая похищенную Всеволожу, вышла, загасив светец, Юрьевна пробормотала в полусне:
- Лгут вестоноши. Вот пришлёт сам Юрий Дмитрич с известием Даниила Чешка или Якова Жесткова, тогда поверю…
И захрапела.
Евфимия соображала, не смыкая глаз: когда вышла из кареты, путь на Москву был одесную от неё, путь на Звенигород ошуюю. Значит, выйдет из ворот, наоборот всё будет, Москва - слева.
Медленно затих весь постоялый двор. Сколько времени прошло? Должно быть, много. Первые петухи пропели, не заснуть бы до вторых… Вот вторые перекликнулись. Евфимия тихонько поднялась. Направление к двери запомнила… Ах, половица скрипнула!
- Голуба, ты куда? - сонно вопросила княгиня.
- Понадобье в задец, - отозвалась Евфимия.
- Посудина ночная в углу слева, - более явственно произнесла Юрьевна.
Боярышня объяснила:
- Не приучена к ночной посуде. Схожу в задец…
- Вели Ульяне проводить. Пусть вздует жестяной светильник.
Евфимия взялась за ручку двери.
- Непременно.
В проходе у стены на поставце чуть брезжил слюдяной фонарь. Служанки спали на лавках. Ульяна нежилась в царстве Морфея всех шумнее. Дорогу к выходу Евфимия приметила заблаговременно. С крыльца сошла к конюшне, длинному строению с такой же длинной коновязью перед ним. Здесь хрупали овсом в висячих торбах нерассёдланные верховые лошади. Хотя и мал был месяц-молодик, а ярок. Евфимия прошла подклет, где помещались Олисей с его людьми. Оттуда шибанул овчинный дух с примесью винного и мерный храп. «Хотели отдохнуть чуток, да сон своё берет», - подумала боярышня. Хлопот немалых стоило найти того татарского конька, на коем удалой охраныш так легко скакал обочь кареты. Вот он, весь ушёл в еду. Евфимия умело отвязала торбу, взнуздала своего избранника, однако не могла освободить повода от коновязи. Не велик был узелок, да накрепко затянут. Воистину молвится: дурак узел завяжет, умный не развяжет. Этот не бабий, не глухой, не растяжной, а вязаный с захлестом. Бонедя говорила о таком, да не успела объяснить его загадку. Ученица всё же справилась и улыбнулась, вспомнив похвалу полячки: «бардзо добже»…
Тихонько повела коня к воротам. Низкорослый, легко вскакивать в седло…
Привратник дрых, устроившись калачиком на ложе из соломы. Тяжёл запор воротный! От вереи до вереи - берёзовая слега, не выдернешь! Боярышня тянула на себя до помутненья в голове, до боли в животе. «Кишки наружу вылезут, а слеге хоть бы хны!» - отчаялась беглянка, исходя слезами. И вдруг пошло, пошло… Ещё, ещё!.. Упала слега. Поскорее отворить воротину… И снова тяжесть не в измогу.
До чего же громко заскрипела подлая воротина! Ночной страж сел на своём ложе. Зачарованно уставил очи на изуфренный, подобный шёлку, летник шерсти белых коз. Увидел привидение!..
Уросливый конь сопротивлялся заворачивать к Москве. Ему подай родной Звенигород. Ах, плётки нет! А стремена - в бока? И полетела волчья сыть стрелой, пронзая гущу тьмы… Некстати месяц-молодик пропал. Под тучу завалился. А без него дегтярны ночи августа. Днём люди буду греть серпы на огневой работе и отмываться в холодной речке. Теперь же спят не чутче того стража, что увидел привидение. Проклятый перебудил оревом весь постоялый двор.
Беглянка, осадив летучего конька, остановилась. Услышала: погоня! Рванулась, как от язвы…
Деревня… Петухи… Конечно, третьи. Восток залился молоком пред утренней зарей.
Евфимия пугливо оглянулась. Преследователь близко. Всего один. Спутники, должно быть, поотстали. Конёк ордынский предательски убавил бег. Ни стремена в бока, ни кулачок девичий по окаянной шее не понужали мерзкое животное. Преследователь - ещё ближе…
О, хвала Небу! В рассвете забелели луковки церквей московских. А застава? Воздвиженка до первого дневного часа - на запоре. Как назваться юной всаднице в неподобающей одежде, чем объяснить ночное путешествие?
Преследователь - ближе некуда! Она лицо его узнала в рассветной синеве. Это Дмитрок, владелец выкраденного ею скакуна. Приметила парнишку, когда при свете факелов входили на постоялый двор. Теперь он яростно взмахнул ремённой плетью:
- Отдай коня, паскуда!
Охраныши у спущенной рогатки ждут, вытаращив зенки, вскинув бердыши…
Изо всей девичьей силы вонзились стремена в коня. Лицо прильнуло к холке: «Ну, прыгни, милая скотинка!»…
Уф!.. Рогатка позади.
Наездница приоглянулась. Дмитрок не одолел «пшешкоды», как Бонедя называла препятствие перед конём. Бедняге предстоит суровый разговор с охранышами и своей княгиней. Евфимии же впору приосадить летучего ордынца, перевести на шаг.
Процокали копыта по брёвнам над Неглинной. Как постарел, обветшал Кремль времён Донского! Стены кирпичные чуть ли не сплошь чинены деревом. И заборола деревянные. Будто государь Дмитрий Иванович крепость строил не из камня. Вот и белый под шатровой кровлей четырёхгранник Боровицких врат, как все кремлёвские врата, увенчанный небольшой башенкой и главкой. На башне с колоколом русские несложные железные часы весом в шестьдесят пудов.
Бум!.. Это часовник отбил молотком первый час дневного времени. Евфимия слышала, платят ему немного: четыре рубля и две гривны в год. Хватит на мясо, соль, несколько аршин сукна.
Она ударила в ворота висячим билом. В смотровом окне проглянул опушённый усиками молодецкий лик. Ох, предстоят тонкие переговоры, как батюшке перед лицом Улу-Махмета! Сейчас начнётся… Вдруг воротина без промедленья отворилась.
- Боярышня Евфимия? - с великим удивленьем назвал её плечистый воин в бахтерце и островерхой шапке.
- Как меня знаешь? Кто ты?
- Старшой охранник Боровицких врат, рязанский дворянин Бунко, именем Карион. Тебя же видел не однажды. Рядом с государыней.
И объясняться не пришлось. Она проследовала молча, чуть склонив голову. Вот кремлёвские усадьбы с теремами в глубине дворов, кривые улицы с заулками и тупиками. Беглянка дома! У родных башенных ворот, кладенных из ожиганного кирпича на зависть всем соседям. Этот Бунко Небом посланный!
3
В предбаннике царствовал житный квасной и дубовый веничный дух. Четыре наготелые дивы отдыхали на лавках, ожидая, когда устоится пар. Полагья только что плеснула квасом на калильную печь с булыжником. Самая юная нагишка из четырёх напевала беспечно:
- Блошка банюшку топила, вошка парилася, с полка ударилася!
- Негоже поешь, Устина, - заметила мать певуньи, княгиня Анисия. - Пристойнее петь: «баня парит, баня правит»…
Полагья приотворила дверь в мыльню. Дохнуло жаром.
- Готово, государыни мои.
Акилина Гавриловна поднялась.
- А ну, гологрудые, голобёдрые, гологузые, на полок!
Евфимия, задохнувшись сухим чистым жаром, наблюдала, как хлещутся голухи дубовыми вениками на полке с приступками и подголовками.
- Полезай, сестрица, побанимся! - приглашала Анисья. - Душа прохладу любит, а плоть пар.
Первой спустилась с полка Акилина Гавриловна.
- Полагья, повехоть спину… А ты что ж, Офимушка, не полезаешь париться? - Попыталась она лечь животом на лавку и тут же переместилась на пол. - Уф, стара стала, дохнуть страшно.
- Чтой-то вдруг стара? - малинила вехоткой её спину Полагья. - Кругла, пухла, бела, румяна - кровь с молоком!
- Не полезу на полок. Не в измогу нынче, после пережитого, - решила вслух Евфимия и, наполнив шайку, тоже села на пол. Здесь дышалось легче.
- Время тишины вчера минуло, - завела речь Акилина Гавриловна. - Наступило время тряски. То, что ты перенесла, - ещё цветы! Полагья от Меланьи, Софьиной постельницы, такое вызнала! У меня мурашки по спине забегали. Перескажи, Полагья, - повелела боярыня.
Сенная девушка напухлила губы.
- Совестно!
- Перескажи, - настаивала Акилина. - Устя с матерью хлещутся на полке, не слышат.
Полагья, отложив вехотку, поведала, глядя в пол:
- Государыня-мать, литвинка бесстыжая, тебя, Евфимьюшка, голубонька наша, назвала супарнем.
- Что такое есть супарень? - растерялась Евфимия.
- Ну, мужлатка, - не поднимала очей Полагья, - бородуля. Так обополых зовут, полужён-полумужей. Есть у Софьи Витовтовны в Зарыдалье лазутник или лазутка. Известно ей, как ты и Бонедя в мужской сряде воительствуете. Говорит: боярышню Всеволожу неприлично иметь в невестках. Возомнила, дескать, себя Иоанной Дарковой, героиней франкской. А посольские сказывали, будто бы Иоанну эту невдавне сожгли, как ведьму.
- Ой! - уронила мочало в воду Евфимия. - Орлеанскую деву - на костёр? Со мной батюшка прошлым летом часто о ней вёл речи. Не могли франки святую сжечь.
- Агляне её пленили, - вмешалась Акилина Гавриловна. - Слышала я от старшего дьяка Фёдора Беды. Они и сожгли после неправого суда. Да не о ней сейчас наши мысли - о тебе! Софьею ты отлучена от её особы. Это не к добру. Яснее говоря, к худу.
- Навек ли отлучена? - сомневалась Евфимия, - Нынче же объяснюсь, улажусь…
- Меланьица втайне сказывала, - перебила Полагья. - Не желает лицезреть тебя Софья, и всё тут. А страшней того: старицу Мастридию она, возвратясь с вечерни, вызвала к себе. Не с тобой ли связана их встреча?
- Вот она, опасность! - вскочила с пола Акилина Гавриловна. - Окати меня дождевницей, Полагья!
- Кто такая старица Мастридия? - по-детски приоткрыла рот Евфимия.
- Стыдно приближенной Софьиной не знать, - пошла из мыльни боярыня, - Мастридия у правящей старухи потайная зелейница. Измысливает яды. На всех наводит страх.
- Я страшных тайн по нежеланию не доискивалась, - поднялась с полу Евфимия.
- А надо бы, надо бы, - ушла в предбанник Акилина Гавриловна.
И подопечная последовала за нею. Полагья оставалась помогать Анисье с Устей.
Боярыня Мамонова с боярышнею Всеволожей, испив квасу, долго отдыхали, лёжа наголо на тёплых лавках.
- Главнейшего ведь я ещё не вымолвила, - тихо начала боярыня. - Когда ты прискакала спозаранку на чужом коне и рассказала о бесчестье у Пречистой и о коварстве Юрьевны, я Полагью тотчас настропалила в Софьины хоромы. Что произошло с тобой у всенощной и с кем ты после отъезжала - об этом мне ещё до полночи было ведомо. Мы с Андреем Дмитричем бодрствовали всю ночь. Сгадывали, как быть. Весь замысел Анастасии, матери Косого Васьки, уже лежал передо мной, словно на ладони. Не прискачи ты поутру, я бы сама помчалась в Звенигород. И Софье донесено о твоём отъезде с её врагиней. Вот Полагья у Меланьицы и вызнала наисвежайшие новости. Вчера постельница подслушала таимный разговор Витовтовны со старицей Мастридией. Великая княгиня ей сказала: «Мышь надо извести». А старица в ответ: «Не изводи постылого, приберёт Бог милого». А Софья: «Приготовь дуры. Я подыщу изводчицу». Докумекай-ка! Кто эта мышь? Не ты ли?
Евфимия откликнулась не сразу.
- Ты ведалица, Акилина свет Гавриловна. Все тайны - на твоей ладони. Без тебя пропасть, как шаг ступить. Однако же сдаётся мне: нет, я не мышь.
- И точно что не мышь, - принялась за одеванье, не дождясь Полагьи, Акилина, - Мы с Андреем Дмитричем решили: укроем тебя в Нивнах, нашей вотчине можайской. Там не сыщут, не уподобишься беспомощному изведёнышу. А невдолге батюшка вернётся, привезём в сохранности.
- Невдолге? - не поверила Евфимия.
Акилина подала ей потирало, тёплое, душистое, и глаженую сряду.
- Ночью из Сарая ямским гоном[4] пришла весть: Василиус в Орде одержал верх. Боярин Всеволож с великим князем возвращаются с победой. А Юрий Дмитрия - под щитом.
- О том я догадалась по оброненным Анастасией Юрьевной словам. Коль это так, где же причина мне укрываться? - поднялась с ложа своего Евфимия. - Мой жених вот-вот наденет золотую шапку. Я - великая княгиня! Мне ли бежать?
Боярыня Мамонова мотнула головой:
- Сейчас ты Софьина врагиня. Чем разрешится твоё дело, надобно ещё гадать. Имей терпение. Пока не изведут, мудрее известись самой, то есть исчезнуть. У Софьи времени в обрез. Она спешит избавиться от неугодной, не опоздать. Мы повечер с Андреем Дмитричем свезём тебя тихонько в Нивны. Помылись - потрапезуем. Потом соснёшь перед дорогой.
- Страшна Можайская дорога в темноте, - припомнила Евфимия.
Из мыльни выскочила Устя. За ней с поддержкою Полагьи вышла распаренная красная Анисья.
- Все дороги ополночь страшны, - завершила разговор боярыня.
Три госпожи с прислужницей прошли из бани на хозяйский верх. По случаю среды трапеза была постная: грибы, капуста квашеная, борщевая ботвинья, паровые стерляди. Боярина Мамона за столом не оказалось. Он не дождался моющихся, откушал в одиночестве и занимался в боковуше постоянным своим делом, а каким, неведомо. Евфимия, поев, со всеми помолившись, обратилась к Усте:
- Полежи со мной в одрине. После жуткой ночи не засну одна.
Племянница обрадовалась, так любила подружку-тётку. В маленькой истобке на обширном ложе улеглись рядком. За тесовой стенкой шуршала коробьями спорая Полагья, собирая госпожу в дорогу.
- Не побоитесь оставаться без мужеской защиты? - спросила Устю отъезжающая.
- Акилина к нам пришлёт Бонедю, - сообщила та, - Эта твоя наставница богатыря заткнёт за пояс.
Евфимия через рубашку впитывала жар Устиного тела. Ей стало так покойно от домашнего тепла племянницы, что никуда не захотелось ехать. Сон смежил вежды.
- Матушка сказала, - зашептала Устя, - в монастырь уйдёт, когда я выйду замуж. А ведь я скоро могу выйти, ежели избранник мой станет присылаться-свататься. Боюсь без матушки остаться… Знаешь, кто мне люб? Сказать? Ну, попроси…
Евфимия сквозь дрёму попросила:
- Скажи, пожалуй…
Устя зашептала ещё тише:
- Я без ума от старшенького Юрьича. От Васеньки. Повседенно повечер гадаю: «Суженый-ряженый, приди ко мне ужинать!» Запрошлою субботу у Пречистой очи проглядела, ищучи его. Чего не едет на Москву?
Евфимия расширила глаза и резко села.
- О ком ты? О Василии Косом?
Устина потянула её за руку.
- Ложись. Я тебя очень удивила? Не называй его Косым. Мне не по нраву. Он смелый, аки древний витязь.
- Юница ты ещё, Устина, - погладила племянницу Евфимия. И, беспокойно слушая её девчачий лепет, не смогла заснуть, пока боярыня Мамонова не постучала в дверь и не велела собираться.
4
Нивны село немалое. Курные избы чернели в заболотье. Дорога на Можайск пересекала речку. А по сю сторону моста, на взгорке, высился Мамонов терем. Окна, двери, стены испещрены цветною травлей, узорчатой резьбой. Двор показался так огромен, будто в нём можно поместить несколько тысяч человек. По краям - избы, клети дворовой челяди, обок с ними - сараи, хлевы. А на задворках - бесконечный сад с доспелыми яблоками, ягодными кустами, обилием лужаек, ещё месяц назад, должно быть, удивлявших разноцветьем, а теперь сплошь зелёных, заботливо выкошенных. Гостья бродила по этому саду, не ведая, чем заняться. Сразу же по приезде в Нивны она оказалась в хоромах вдвоём с Андреем Дмитричем. Акилина же Гавриловна уехала, по его словам, в Можайск. Странно, не предупредила. С хозяином беседы коротки. Встречи - больше за столом, где трапезы прямо-таки луколловы. Прежде всего - свиные окорока, тетерева со студенью, гусиные потроха. Вторая перемена - жаркие: то баранина, то индюк, то рябчик. Всё приготавливалось на вертеле, подавалось с различными взварами. А после жарких - горячие щи или супы, то куриные, то из лосиных губ и ушей. На сладкое - заедки: леденцы, орехи, сушёные ягоды, варёные сахара с плодовыми приправками. В постные дни вместо сахаров - пряники в виде зверей. Питье - брусничная вода и морс малиновый.
- Ешь, ешь, голубушка, - упрашивал хозяин.
В столовую палату он приходил в кафтане из червчатого киндяка, подбитого мехом бурой лисицы, с нашивкою для застёгивания, тканною в кружки из серебра с шёлком, а воротник - из золотого атласа по червчатой земле. Евфимия знала от Акилины Гавриловны, что кафтан этот, кроме меха, обошёлся в два рубля десять алтын с деньгами. Расчётливая жена не пожалела средств, предавшись страсти одеть любимого супруга побогаче. Она доверительно показывала Всеволоже иной, выходной, кафтан боярина, пошитый из турецкого атласа. По червчатой земле - золотое листьё с белыми и лазоревыми шёлковыми цветами. У каждой запоны шёлковая с серебром завязка с золотой кистью. Цена такого кафтана несусветно велика: тридцать четыре рубля двадцать два алтына, не считая запои, подаренных ещё покойным князем Можайским, тёзкой Мамона, Андреем Дмитричем, на день ангела. Жаль, что в таком наряде Евфимии не привелось видеть боярина. Редко он выходил в люди, углублённый в свои занятия. А выглядел бы высокий худой Мамон в дорогом кафтане весьма внушительно.
- Невесело тебе, милушка? - спросил он в конце седмицы, задумчиво уплетая тыквенную кашу со сливками. - В беседах с Полагьей душу не отведёшь. По нраву ли тебе здешнее наше угостье?
- И угощение и удобства мне по нраву, - поспешила успокоить Евфимия, - Что ж до одиночества, мне поразмыслить есть о чём. Пытаюсь угадать, как поведёт себя Юрий Дмитрич под щитом. Положит ли всему дерть, то есть забвение, гнев сменит на безгневие, станет под знамёнами Василиуса или в одержании, во власти чувств и обстоятельств, сызнова начнёт юрить, приветит переветчиков…
Мамон вздохнул.
- Тебе бы с батюшкой Иваном Дмитричем соборовать о государственных делах. Скоро приспеет время. Я же покажу лишь свои выдумки. Сходим в мой покой.
Он привёл гостью в боковушу, где и Акилина редко появлялась. На столе вкруг глиняной чернильницы среди гусиных перьев - пергаментные и бумажные листы, покрытые цифирью. А на стене на тонкой перевязи - длинная труба под чёрным лаком. Она сразу привлекла внимание боярышни.
- Что это?
- Зрительная трубка, - не без гордости сказал Мамон.
- Можно ли взглянуть?
Он подал, предложил:
- Дай, оттулю оконце…
Она нацелила снаряд в открытое окно и увидала за рекой в подвязье женщину в волоснике с грибным лукошком.
- К слову сказать, я гляжу в трубу не днём, а ночью, - пояснил Мамон, - чтобы узреть не суету земли, а тайные планиты в небе. Слышала о них?
- Батюшка назвал мне семь планит, - опустила Евфимия снаряд. - Солнце, Луна, Ермил, Арис, Афродит, Крон, Зевс. Однако не все зримы. Разве лишь Луна, наша соседка. И ещё батюшка однажды показал Зевса. Красный! А рано утром - Афродит. Она сияет… Что, Андрей Дмитрич, в твоей трубе способствует большому зрению?
- Стекла, - сказал Мамон. - Увеличительные.
- Где купил такой снаряд?
- Сам изготовил.
- А увеличительные стекла?
- Песок кремнистый сплавил с поташом, со щёлочью. Сам шлифовал. Два лета мучился.
Евфимия почтительно качнула головой.
- Эта цифирь о том же? - указала на листы.
- Нет, это я ищу защиту от злых молний.
- Молнии тебя пугают? - удивилась смелая боярышня.
- Если молния исходит только от столкновенья облаков, то не вредит, - с терпеньем пояснил Мамон. - Проходит мимо, угасает. Если же при столкновенье облаков к ним снизойдёт небесный свет огненный, точнее, пламевидный, и соединится с молниею, то последняя, спускаясь вниз, к земле, сжигает всё, к чему ни приразится. Однако ты устала, - спохватился он. - Пройдись по саду…
- Это что за навострённые тычинки или лучинки? - углядела гостья поставец возле стола и на нём малые палочки, измазанные с краю чем-то жёлтым.
- Это спицы самогарные для возжигания огня, - сказал Мамон. - Ещё не знаю, как назвать. То ли хромовые стрелы, то ли копья кремнёвые.
- А как ты ими пользуешься?
Андрей Дмитрич стал немногословен.
- Пока никак. Ещё не докумекал кое-что.
- А чем ты их намазал? - дотошно любопытствовала Всеволожа.
- Фосфором, - сказал Мамон. - Несложным самосветным веществом, крайне горючим.
Евфимия, скосившись на хозяина, почувствовала, что пора уйти.
- Не стану долее мешать твоим занятиям, любезный Андрей Дмитрич. Пройдусь по саду.
- Пройдись, милуша, прогуляйся, - вздохнул изобретатель облегчённо. - Возьми с собой Полагью непременно.
Евфимия ушла. Прежде чем спуститься в сад, прошлась по дому. Дом был невелик. По выражению Полагьи: «вверху четыре переделы и в исподни пять переделов», то есть палат отдельных, не считая мелких боковуш. В исподни, в нижней части дома, Полагья настолько сладко вкушала дневной сон в своей одрине, что госпожа, не помешав, ушла гулять одна.
День был хорош, когда б не паутина, развешанная меж дерев и липшая к лицу. Стирая её походя, Евфимия всё шла и шла, пока не поняла, что не в саду находится, а в диком, неухоженном лесу. Должно быть, ветхих ограждений не приметила, или порушились они да сгнили. Евфимия остановилась, дожёвывая яблоко. И тут к ней вышла та самая селянка в волоснике с грибным лукошком, которую видала через зрительный снаряд. С тех пор грибница успела бродом речку пересечь. Мост далеко.
Она была юницей, не женой. Не походила на селянку: и взор не прост, и руки не натружены. Увидав боярышню, дева попыталась разыграть испуг. Лукошко выронила, а оно… пустое. Вот так грибница!
- Ах, барышня, не ходи дале, там нехорошо! - расширила она глаза.
Евфимия изрядно удивилась:
- Отчего в лесу нехорошо?
- Все Нивны знают: там - жилище ведьм! - понизила лукавый голосок грибница.
Евфимия переняла игру.
- Ой, страсти!.. А ты здешняя?
Девица неумело попыталась затупиться, прикрыть лицо рукой, как делают селянки.
- Вестимо, здешняя. А чья же я?
- Так укажи мне путь к жилищу ведьм, - поймала её на слове Евфимия. - Нивнянским жителям он ведом, ежели такое говорят.
- Ах, что ты ба-арышня! - Она произносила нараспев «боярышня», и получалось «барышня». - Никто туда не ходит. Я знать-то знаю, да не пойду.
- Тебя как звать? - Евфимия решила завязать знакомство.
- Фотиния. А просто - Тинка.
Боярышня, назвавшись, попросила:
- Так ты мне объясни, Фотинья, как пройти к жилищу ведьм. Не бойся, не зову туда. Однако же я очень любопытна.
Фотиния, приблизив загорелый, не по-сельски нежный лик, таимно зашептала:
- Пойти отсюда, из подлесья, в лес, от этой вот берёзы да насередь двух вязов - к трём дубкам. У дуба голенастого отвислый сук укажет стежку к речке Блудке. Там от ветлы от виноватой сквозь иву - в дром. Продравшись - на поляну с рассохой-клёном. А вкруг него опять-таки стоят рассохи, рогатками не вверх, а вниз. А на рассохах-то - кули. А у кулей - по два хватка. А на кулях-то - по балде. Это есть ведьмы!
Тинка, прихватив лукошко ближе к боку, позвала:
- Пойдём-ка, провожу тебя домой. Сама я чрез Мамонову усадьбу - в Нивны.
- Ты иди, - откликнулась Евфимия. - Хочу найти чуть-чуть боровичков в подлесье. Нет, в лес не углублюсь.
- Смотри!
Фотиния, шурша кустами, удалилась. Гостья московская сочла её хозяйской челядинкой, охотницей до шуток. Однако же решила прогуляться далее и заодно проверить молвку глумотворщицы. Дождавшись полной тишины, она пошла.
Вот от берёзы в ста шагах - два вяза. Меж ними чуть заметный след привёл невдолге к трём дубкам. Евфимия, увлёкшись, улыбнулась: выдумщице отлично ведом лес! Который из дубков поголенастее? Вот этот. И отвислый сук указывает стежку. От шага к шагу ощутимей сырой дух. Вот и лесная речка, словно озерко, вся в зелени. Евфимия увидела, что вышла лишь к одному из завитков петляющей по лесу Блудки. А вот и виловатая ветла, за ней - ивняк. Через него попала в густую чащу, названную Тинкой дромом. Ох, не порвать бы платье в этом дроме!
Вот и поляна с развилистым рассохой-клёном. И… о чудо! Вкруг него двенадцать ликовнйц с распущенными волосами водят хоровод, заядло припевая:
Не учила меня мать ни ткать, ни прясть,
а учила меня мать шемелой играть…
И вдруг как припустились взапуски на корточках, уже не припевая, а крича:
Метлой-шемелой со двора долой!
Не успела боярышня приглядеться к происходящему, как простоволосые ликовницы, словно лесные орлицы, распузырив долгополые безрукавые белые приволоки, бросились на неё, намереваясь повалить на стоптанную траву. И тут же первая вскрикнула от боли, вторая взвизгнула, третья, отлетев, покатилась игральным мячом… Ох как кстати пришлись уроки пани Бонеди!
- Кыш! - прозвучал знакомый голос. - Довольно!
Нападавшие враз расступились, и напуганная, но не потерявшая духа искательница жилища ведьм увидела перед собой недавнюю свою знакомку грибницу Фотинию, как по волшебству оказавшуюся прежде неё на заповедной поляне.
- Отложи, Евфимия Ивановна, заслуженный нами гнев. Ведьмы сразились с тобой играючи. Однако же искус выдержан. Учёность твоя доказана.
- Какая учёность? - всё ещё задыхалась от недавней борьбы Евфимия, - Как знаете меня? Отчего ты здесь, а не в Нивнах?
- Я нашла стежку кратче, - улыбнулась Фотинья. - Я им сестрица. И как же нам чужих тайн не знать? Мы - ведуньи. Занимаемся ведовством под началом знатнейшей ведалицы аммы Гневы.
- Какой ещё такой аммы? - не могла унять зла Евфимия.
- Духовной матери нашей, аммы, - объяснила одна из ведьм.
Лесные жительницы приближались к ней с протянутыми руками.
- Пойдём-ка, драчунья, с нами…
Боярышня спрятала руки за спину.
- Драчуньи - вы! Я же - самозащитница.
Фотинья на правах знакомки заявила:
- Уж ежели набралась храбрости узреть въяви жилище ведьм, так слушайся.
Вернулись к Блудке, перешли похолодавшую речонку вброд, долго петляли по лесу лишь ведьмам ведомым путём.
- Куда ведёте? - Евфимия пыталась упереться.
- К амме Гневе. Куда ж ещё? - тянула за руку Фотинья.
- Ой! - Боярышня невольно отскакнула. - Змея!
Почти у самых ног чернела будто ветка-падалица и резко поднялась одним концом.
- Гадюка, - обошла её ближайшая из ведьм. - Не бойся. От неё целит трава-горичка. Тоё ж горички натолки да привяжи к тому местечку, где гадина укусит.
Миновали дуб, убитый молнией, задравший корневища вверх. За ним проглянула поляна, поменьше той, где занимались ликованием. А посреди поляны желтел свежими брёвнами орешек-теремок под пластяною кровлей. Уютный дух берёзовый витал по-над поляной и усластил ноздри.
- Амма Гнева зелено действует! - почтительно отметила одна из ведьм.
И все позвали в голос:
- Амма, выйди!
В чёрном проёме отворенной двери возникла женщина, простоволосая, в такой же долгополой белой приволоке, как у молодых сестёр. Боярышня, завидев, отшатнулась, не поверила глазам.
Перед ней была не кто иная, как Акилина свет Гавриловна, боярыня Мамонша… Вот так амма Гнева!
5
- Ты… здесь? - воскликнула хозяйка кельи и сверкнула взором на недавних ликовниц, - Кто её привёл?
Фотинья подошла, сбросила приволоку, оставшись в краткополой льняной срачице, стала на колена, опустив главу, уронив волосы долу. Словно на закланье предала себя.
- Винюсь…
Дебелейшая из сестриц и, видно, старшая летами выступила следом:
- Мы все винимся, амма Гнева. Уж так хотелось поиграть с названой твоей дщерью! Тинка предложила, никто не супротивничал. Порушили наказ по нашему зелёному дрию.
Молчание отяготило всю поляну. Нечаянная гостья не могла ещё в себя прийти. Обиду выражал взор аммы Гневы, устремлённый на двенадцать дев. Потом она сказала ломким голосом:
- Офимушка, свидетель Бог, я не хотела этого.
- Чего? - Евфимия не понимала.
Расстроенная женщина сошла с крыльца, приблизилась.
- Теперь я пред тобой совсем иная. Ох, ведал бы Иван Димитрич, не доверил бы тебя лесной колдунье!
- Ты… - Евфимия невольно отступила. - Ты… колдунья?.. Акилинушка!
- Тех, кто занимается, чем мы, в народе так зовут, - грустно сказала амма Гнева.
- А чем вы занимаетесь? - Боярышня уже догадывалась, да захотела вызнать больше.
Хозяйка сказочной избы всех пригласила:
- Взойдемте. Моё питье, наверно, уж доспело. Надобно взглянуть… А ты, - склонилась к Тинке, - с тобой мы после поаркаемся.
- Зачем аркаться? - поднялась ослушница. - Назначь мне наказанье по достою. Я приму.
В натопленной избушке теплынь размаривала. На горячих угольях парил горшок. Все за столом не разместились, расселись, кто на лавках, кто на сундуках, а кто и на полатях, свесив голые ступни.
- Налей нам взвару, Агафоклия, - попросила амма Гнева ту, старшую, что заступилась за Фотинью. - Уж сделано, так сделано. Теперь задача: перевернуть худое на добро.
Взвар был и душист, и горек. Евфимия невольно сморщилась.
- Пей, - поощрила амма Гнева, - Напиток сей не усладит, зато добавит сил.
Девицы присмирели. Ждали, о чём гостья спросит, что хозяйка скажет.
- За худо не сочти наше уединённое сестричество, - нарушила молчание боярыня-колдунья, - Кто бы осудил, а мы-то знаем: при конце света на статьнем необинном судилище нас Бог не осудит. Хотя бежим мирской суеты не в монастыре, а в лесной трущобе, не ради молитв, а для тайной науки. Знания наши на пользу миру. Вот возьми Гориславу. Она поборает боль…
Льнокудрая смуглянка извлекла из очага красный уголь, подержала его в длинных тонких пальцах и опустила назад с улыбкой.
- А Богумила сквозь стенку видит. - Амма вынула из связки пару лучин, взлезла на полати, пригласила: - Офима, полезай ко мне, - Положила лучинку поперёк другой. - Богумила, как драночки лежат?
Самая невзрачная из сестёр, похожая на девку-чернавку, напряглась, подумала, ответила:
- Крестом сложены.
- А теперь? - спросила Гнева, сложив лучинки одну подле другой.
Богумила молвила:
- Рядком.
- А сейчас? - не уставала пытать Гнева.
- Уголком на попа поставлены, - прозвенел голос Богумилы.
Гнева спустилась вниз.
- Твой черёд, Полактия, - она взглянула на самую молчаливую деву с восковым невыразительным лицом.
Полактия уставилась на Евфимию. И долгое время все сидели не шелохнувшись.
- Офимушка, подай скляницу с поставца, - попросила амма.
Боярышня вознамерилась резво вскочить, дёрнулась и осталась на месте. Не повиновались ни ноги, ни руки. Чудно было чувствовать себя скованной. Разомкнула уста, а голоса своего не услышала. Полактия отвела взор. Евфимия со слабостью поднялась, медленно протянула хозяйке снадобицу с толчёной травкой.
- Более не хочу, - жалобно попросила она.
- Сестрички, не пора ли дать покой гостье? - полуспросила, полуприказала хозяйка.
- А Генефа у нас завзятая лицеведка, - объявила Горислава, тряхнув льняными кудряшками.
- Будет, будет, - поторопила амма свою девичью ватагу. - Всего в одночасье не представишь.
- Что значит лицеведка? - полюбопытствовала боярышня.
- По лицу нрав человека определяет, - уже несмело объяснила Горислава, - Узнаёт свойства души и сердца.
- Скажи на милость! Как же это можно определить? - обратилась Евфимия к той, на которую посмотрели все.
Русоволосая красавица, чью безупречную внешность портил лишь тонкий розовый след от шрама через весь лоб, понурилась и сказала тихо:
- По выражению, по очертанию… Затрудняюсь пояснить точно. Ощущения словам не подвластны.
боярышня.
Генефа нехотя подняла глаза и пристально всмотрелась в гостью. Все ждали. Лишь амма Гнева сделала нетерпеливое движение.
- Мужественна… Упряма, - стала ронять Генефа слово за словом, - Своемудра и своенравна… Верна…
- Довольно, - остановила боярыня Мамонова, - Ты лучше нрав чей-либо из вас назови, ну вот хоть бы Фотиньин.
Генефа перевела очи на Фотинью.
- Почему я? - возмутилась Тинка.
Её возмущение прозвучало втуне. Все терпеливо ждали.
- Предательница, - робко обронила ведалица, как бы испугавшись своего приговора.
- Это ли мне кара за ослушание, амма Гнева? - с вызовом спросила Тинка, присовокупив; - Обидеться запрещено?
- С чего ты заключила, что Фотиния способна на предательство? - спросила ведалицу боярышня.
- С чего? - к себе же обратилась с удивлением Генефа, - Ну, разве вот… или, сказать вернее вид у неё птичий.
Изба, как щебетом, наполнилась девичьим общим смехом.
Фотинья резко вышла.
- Пойдемте-ка к себе, сестрички, - поднялась Полактия.
За нею встали Горислава с Богумилой и другие. Осталась только Агафоклия, самая старшая.
- Куда они пошли? - спросила гостья.
- В свой терем, - объяснила амма Гнева. - У них такая же изба поодаль. Сами строили, сами обихаживали.
- А пищу где берете?
- Сестрицы зеляньицу кушают. Мясное, рыбное здесь не в заводе, - стала рассказывать боярыня. Сама она за трапезой у Всеволожей никогда скоромного не ела, даже рыбу в пост не потребляла. Евфимия сочла свою наставницу великой постницей. Теперь узнала истину… Хозяйка же продолжила: - Всю зелень добываем сами. Овощи выращиваем, грибы и ягоды в лесу сбираем, заготавливаем. Живём в доволе.
- А как же… - Евфимия смутилась. - Как же вы тут одиночествуете? Сестрицы-то на выданье…
- Э, маточка! - дебелейшая Агафоклия откликнулась добрейшим басом. - Мы все тут засидухи. О мужьях не помышляем. Ни белил на ликах, ни колтков в ушах. Плотским радостям не радуемся.
- Ну чем не монастырь? - с улыбкой поддержала амма Гнева, - Я среди них - единственное существо мирское. Однако же нечасто здесь бываю. Без меня всем правит Агафоклия.
- И управляешься с такими озорницами? - не уставала удивляться гостья, обернувшись к Агафоклии, - Как их приводишь в ум?
- А я их всяческими образы, - пробасила истая девчища, - овогда ласканием, а овогда и мук грозением умы их колеблю.
- И все, как на подбор, кудесницы? - спросила гостья амму Гневу.
- Нет, - отвечала та. - Помимо Богумилы, Гориславы, Генефы и Полактии, коих ты испытывала, Калиса может нечувствительно все немощи из тела извлекать руками. Власта читает мысли. А Милана, Платонида и Раина учатся ещё. Задатков много, мало внутреннего делания.
Евфимия полюбопытствовала:
- Что есть внутреннее делание?
Амма Гнева призадумалась.
- Коротко не скажешь. Чудо, заключённое в душе, по первой прихоти не явится. Его надо призвать. Сегодня ты увидела ликующих сестёр. А в иной час пришла бы в изумление: рассядутся далеко порознь, молчат сычами, уставясь в точку. Окаменели, да и только.
- А в Фотинии заключено какое чудо? - спросила гостья.
Амма Гнева отмахнулась. Агафоклия ответила:
- Фотинья выявляет своё чудо, да никак ещё не выявит. Зато дерётся яростнее рыси. Сильнейшая из учениц Бонеди!
- Бонедя… здесь? - Евфимия вскочила с сундука.
Боярыня-пестунья обняла её успокоительно.
- Была здесь прежде. Наша прозорливица Янина ввела её в сестричество. Родители их знались в Кракове. Бонэдия своих лишилась в детстве. Янина со своими рано оказалась на чужбине. Вот девоньки в Москве и встретились. Лихая пани выучила лесных жительниц самозащите. Безмужним сёстрам мужеская доблесть впору. А когда книги отреченные подтвердили мои страхи за твою судьбу, я вызвала Бонедю в Зарыдалье.
- Какие книги отреченные? - не поняла Евфимия.
- Ну, запрещённые митрополитом и князьями, - вздохнула амма Гнева, - те, что в сундуке лежат, с которого ты поднялась.
Она откинула окованную бронзой крышку, и поражённая боярышня узрела позеленевшие застёжки переплётов, бурый пергамент свитков.
- Дозволь одним глазком взглянуть?
- Гляди двумя, - присела с ней у сундука хозяйка.
- «Тайная тайных», - шёпотом прочла Евфимия.
- Это Аристотелевы мысли, - пояснила амма Гнева. - Ими греческий мудрец воспитывал героя Македонского. Иные называют его труд Аристотелевыми вратами.
- «Добропрохладный ветроград», - прочла Евфимия.
- Лечебник травный для лекарок, - отложила книгу амма Гнева.
Боярышня тихонько развернула древний свиток и прочитала непонятный заголовок по складам:
- «Раф-ли»…
Амма свернула свиток.
- Тут разом не постигнешь. Гадание по чёрточкам и точкам.
- А, - извлекла большую книгу гостья, - это мне знакомо понаслышке: «Шестокрыл».
- Да, здесь гадание по звёздам, - перебрала хозяйка жёлтые листы. - Мой Андрей Дмитрич увлекается.
- А вот страшное названье: «Трепетник», - вопросительно уставилась на амму Всеволожа.
Гнева убрала книгу.
- Это я гадаю по дрожанью мышц, по зуду в разных частях тела, по ушному звону…
- А «Лопаточники» что такое?
Книга была тут же отнята, сундук закрыт.
- Негоже непосвящённой проникать в такие дебри, - заключила разговор боярыня-колдунья.
- В чём тайна этой книги? - не сдавалась цепкая Евфимия.
- В лопатках убитого скота, - кратко пояснила Гнева, - Волхвование такое.
Евфимия сообразила, что, допустив её до отреченных книг, Мамонша спохватилась и теперь сердилась на себя. Пришла пора переменить беседу.
- Напрасно, Акилинушка, боишься за мою судьбу, - промолвила боярышня. - Не превозмогут козни злой Витовтовны сердечных чувств Василиуса. Он посулил взять меня в жены. Велел ждать.
Тут Агафоклия, не умудрённая книжной премудрости, а потому сидевшая в сторонке, как бы отсутствуя, вдруг подала голос:
- Посулённого ждут год, а суженого до веку.
Евфимия, забывшая о ней, смутилась.
- Не веришь моим страхам? - покачала головой боярыня. - Лучше без веры в худшее готовиться к нему, чем после кусать локти.
- Пусть в будущее глянет, - пробасила Агафоклия. - Узнает настоящее.
Амма Гнева резко повела рукой.
- Не надо, Фёкла. Не хочу её успенью подвергать.
- Как можно глянуть в будущее? - Евфимия не скрыла тоненькой усмешки, - Опять гаданье на воде, на зёрнах?
- Нет, речь не о гадании, - чуть слышно пробубнила Агафоклия и завершила вовсе непонятно: - Паломничество душ…
- Оставь в покое её душу! - вышла из себя хозяйка кельи.
Евфимия, расширив очи, попросила:
- Объясни, пожалуй, Акилинушка: в чём соль вашего спора?
- Соль в том, Офимья, - объяснила амма Гнева, - что жизнь людская - смена повторений.
- Я не пойму, - потупилась боярышня.
- Всё повторяется на нашем бренном свете, - продолжила хозяйка, - как день и ночь, как лето и зима… Вот ты отцом в истории навычна, так вспомни, как вели себя великокняжеские дети. У сыновей Владимира Святого - усобица. У Ярославовых - опять же подирушка. У Невского героя Александра сыновья передрались, порушив все его заветы…
- Тут спору нет. - Евфимия вздохнула. - Однако что из сего следует?
- Порассуждаем далее, - подняла палец амма Гнева. - Опять же из истории: Михаил Черниговский пал первой жертвой царей монгольских, а почти через сто лет в Орде же гибнет его племянник праправнучатый, тоже Михаил, хотя Тверской. Или иное: Андрей, сын Невского, оспаривает власть у брата старшего Димитрия. А спустя полтора века опять-таки праправнучатый его племянник, твой Василиус, в таком же споре с дядей Юрием.
- Мало ли что совпадает, - повела плечом Евфимия.
- Не знаю про князей, - вмешалась Агафоклия, - А у Генефы нашей прапрабабка уводом выскочила замуж за одерноватого[5] холопа. По мужу стала полною бессрочною рабынею удельного князька. Отец дуравку еле выкупил, семейство пустил по миру. Так что ж ты скажешь! Мать Генефы почти век спустя выскочила за ушкуйника, и оба были проданы в приморской Кафе на работорговом рынке. Генефа родилась от сарацина - глаза косят. Оторве удалось бежать на Русь. В пути чуть не погибла. Отметина на лбу до сей поры. Так вот она и мыслит, что душа прабабки вселилась в мать. Родители той и другой скончали от переживаний жизнь до срока. И я готова предложить тебе, Офимья, коли не испугаешься, отправиться так-этак лет на сто, на двести в будущее. В кого душа твоя вселится, с тем то же самое произойдёт, что нынче ждёт тебя.
- Какие вздоры! - поднялась Евфимия, - Не верю, будто Михаил Тверской имел душу Черниговского, а мой Василиус душу Андрея Александровича. Пустые измышления! И времени сменить нельзя. Какое нам судьбой отпущено, лишь в том просуществуем.
- Учёный мой боярин говорит обратное, - промолвила Мамонша. - Он одержим предерзостной мечтой попасть в иную жизнь не токмо что душою, даже телом.
Евфимия взглянула на пестунью с явным недоверием.
- Не станет Андрей Дмитрич на химеры мысли тратить. Сама видала, он сотворяет вещи весьма полезные: зрительный снаряд и громовые стрелы для возжигания огня…
- Всё это у него - побочное, - сказала Акилина. - Главнейшее, чем одержим, - найти проходы заповедные из нынешнего в будущее. Ведь время, по его словам, - и тонкая, и сложная материя. Не бой часов, не смена тьмы и света, не звенья цепи, а, скорей всего, пирог слоёный. Вот Андрей Дмитрич и ушёл в расчёты: ищет в пространстве нити, через которые…
- Ах, это всё причуды, - отмахнулась Агафоклия. Как было видно, тут-то она с гостьей заодно. - Ничто нас не соединяет с иным миром, кроме смерти. И тело остаётся здесь. Мамон боярин - попросту чудак. Офимья же твоя - трусиха. Я в первый раз в паломничество душу отправляла, тоже трусила. Ведь это, хоть и временная, всё же смерть!
- Нет, я не трушу, - возразила гостья, - Просто я не верю.
- Давайте-ка вечерять, - пригласила амма Гнева. - Феклуша, доставай посуду.
Тут уж боярышня не уступила:
- Пусть Агафоклия подвергнет меня чуду.
Хозяйка воспротивилась всем видом. Совсельница её предупредила возражения:
- Ручаюсь, подопечная твоя останется цела и невредима.
- Знаю, знаю, - проворчала Акилина. - А всё же потрясение…
- Я не пугаюсь потрясений, - перебила Всеволожа. - Пусть хоть сама смерть…
- Не кликай саму смерть, - предупредила Агафоклия. - Придя, она должна уйти, её сердить не надо.
После недолгих препирательств амма Гнева разрешила опыт. Евфимию переодели в белую приволоку, платье всех сестёр, и уложили на широкой лавке. Агафоклия склонилась к ней.
- Не трепещи душою, девонька. Рождаемся для смерти, умираем же для жизни. Дыши ровнее, расслабь члены. Заснёшь ты ненадолго. Почувствуешь себя во сне, как наяву. Узнаешь всё и возвратишься. Спи спокойно!
От последних слов дохнуло холодом. Однако страх исчез. Усыпляемая ловила быстрый шёпот Агафоклии, почти не понимая смысла:
- Ходит сон по сенюшкам, дрёма по новым. Сон, что лучше отца с матушкой, сон, что смерти брат. Смертушка-смерёдушка, не наглая, что от внезапности, не немощная, что от хвори, не несчастная, что от случая, не насильственная, что от зла, смешивайся со сном! Хам пшеницу сеет, Сим молитву деет, Афет власть имеет, Смерть же всем владеет. На неё - на солнце - во все глаза не глянешь… Кому сон, кому явь, кому сон, кому быль… Пронеси, Бог, сон мороком! Смерть, Смерть на носу!.. Свищи, душа, через нос!
Это были последние слова Агафоклии, донёсшиеся до Евфимии уже издали. А совсем рядом прозвучал дикий от страха крик аммы Гневы:
- Она желтеет!.. Ты её умертвила, ведьма!..
Более боярышня Всеволожа ничего здешнего не слышала.
6
Их везли на смотрины в большой карете. Двести красивейших девушек из боярских и дворянских семей собрали в Коломенском, чтобы избрать достойнейшую в невесты молодому царю. Из двухсот выбрали и посадили в карету шесть.
Вот и земляной вал с большим рвом, деревянная башня с воротами… Затем вторая, каменная стена… Промелькнули крестцовые улицы, перерезанные там и сям переулками… Третья стена из камня и кирпича… Опять же крестцовые - Варварка, Никольская…
За глубоким рвом с водой - зубчатая крепость со стрельчатыми башнями и бойницами. В воротах несколько железных дверей, а посредине решетчатая железная. Решётка сама поднимается силой скрытой машины.
Евфимия впервые в Кремле. Да и на Москве давно не бывала. Раф, или Фёдор, Всеволожский взрастил дочь в далёком своём имении, в тишине и довольстве. Странно было увидеть, что многие городские дома безлюдны на вид, а улицы почти пусты. Слышала: только что пережита сильная моровая язва, объявшая государство Московское.
Заночевали в Вознесенском монастыре. Игуменья посетила отведённые им покои, осведомилась, довольны ли услужением и монастырскою трапезой.
Государь Алексей Михайлович, на днях возвратясь из похода, молился у Троицы, ночевал в своём загородном дворце в селе Тайнинском. С утра ожидался его торжественный въезд в столицу.
С отцом Евфимия повидалась накоротке перед выездом из Коломенского.
- Воспрянь духом, дочка, - наставлял Раф. - Из вас шести соперница у тебя одна, я разузнал доподлинно.
- Милославская Марья, - упавшим голосом произнесла Евфимия.
Раф склонил голову.
- Она… Государев любимец боярин Морозов Борис Иванович метит за себя Анну, сестрицу Марьину, вот и радеет о будущей свояченице в надежде породниться с царём.
Не добавила Евфимии твёрдости встреча с родителем. Замерев сердцем, стояла она на крыльце Вознесенского монастыря, наблюдая царский въезд в Кремль.
С утра гремели колокола. Говорят, первыми вышли встречать торжественное шествие купцы и ремесленники с подарками: иконами, сороками соболей, золотыми чашами. Впереди шло знамя. Обочь его - два барабана с боем. Затем - войско в три ровных ряда под цветными знамёнами. Под белым - все ратники белые, под синим - синие, далее шли под красным, зелёным, розовым… Знамёна огромные, с позолотой. На одном - Успение Владычицы с двух сторон, на другом - Нерукотворный Спас, на третьем - Георгий Победоносец, на четвёртом - Михаил Архангел, на пятом - Херувим с пламенным копьём, на шестом - Двуглавый Орел… Подле знамён - рынды с секирами. Народ стоял по бокам от земляного вала до дворца. Колокольный звон сотрясал землю. Царские лошади числом до двух дюжин везли карету в золоте и каменьях, их вели под уздцы. Затем - кареты бояр со стеклянными дверцами, украшенные серебром. Перед царём стрельцы с мётлами выметали путь.
И вот он, государь, в одеянии из алого бархата, обложенном по подолу, воротнику и обшлагам золотом и каменьями. Голова не покрыта. Пеший. Впереди и позади - иконы с хоругвями. И - только хоровое пение. Никаких музык. Даже барабаны смолкли. У Вознесенского монастыря Алексей Михайлович три земных поклона положил перед надвратной иконой. Игуменья подала ему большой чёрный хлеб - две монахини несли. Государь поцеловал его и пошёл в Успенский собор. Шесть избранниц в невесты были удостоены отстоять обедню в присутствии царя.
Приложившись ко кресту, государь удалился во дворец отдохнуть с дороги. Важнейшая из дворцовых мамок объявила невестам, что смотрины имеют быть повечер в Золотой палате.
Перед тем как предстать царю кравчий Семён Лукьянович Стрешнев распорядился поднести каждой из шести красавиц по фиалу вина, чтобы щёки порозовели и вольней текла речь. К Евфимии он особливо подошёл и совсем по-отцовски утешил:
- Воспрянь духом, девица.
В Золотой палате при стечении бояр и боярынь их расставили посредине, чуть особняком друг от друга.
Государь вошёл, и Евфимия могла вдоволь разглядеть его вблизи. Телом полон. Лоб низок. Лик бел. Подбородок обрамлен пушком. Волос тёмно-рус. Щёки пухлые. А лицо кроткое. И глаза очень мягкие. Что он говорил гордой смольнокудрой, напоминавшей греческую царевну Марье Милославской? Евфимия не услышала.
Вот царь подошёл к ней.
- Дочь Рафа, или Фёдора, Всеволожского, - небрежно молвил дядька и любимец царский Борис Иванович Морозов.
- Здрава будь, Евфимия Феодоровна, - ласково приветствовал Алексей Михайлович.
- И ты здрав будь, государь, - склонила она чело, покрытое невесомой фатой, украшенное живыми цветами.
- Напоминает Марию Хлопову, - слышно молвил на ухо царю Морозов.
Грудь Евфимии стеснило: знала от отца о судьбе Хлоповой, несчастной невесты покойного государя Михаила Фёдоровича, испрокуженной завистниками дворцовыми.
Кроткий взор царя сверкнул в сторону любимца.
- Замолчи, страдник. Где ты мог лицезреть Марью Хлопову?
Алексей Михайлович резко вышел из палаты. Прошёл шёпот меж бояр с боярынями. Марья Милославская спокойно ожидала царского решения.
Появился кравчий Стрешнев. Он внёс на блюде богато вышитый платок. На нём - кольцо. Тишина при этом воцарилась бездыханная. Всем было ведомо: царский посыл - знак выбора. Великий государь на первых же смотринах избрал себе невесту. Без лишних промедлений он желает зреть её своей царицей.
Милославская невольно вытянула шею.
Стрешнев прошёл мимо.
Он остановился перед Евфимиею Всеволожскою. Ей выпала судьба принять чуть задрожавшими перстами золотое блюдо - царский выбор.
На её чело тут же возложили вожделенный венец избранницы и повели из Золотой палаты под бурный говор радостных и недовольных.
- Куда…
- Куда ведут?
- Готовить к обручению!
Она внимала этим шепотливым восклицаньям, как во сне.
Потом стояла перед зеркалом, красивая, величественная. Лучистые ресницы, брови бархатные, очи глубокие, червонным шёлком - кудри, что вьются с радости, секутся от печали. Их прибирали и укладывали мамки.
- Ну, кудри кудрями, а дело делом, - подошла важнейшая из них и поднесла поддёвку безрукавую для стягиванья стана со шнуровкой на китовом усе. - Затягивайте постарательнее…
Мамки начали стараться. Евфимия металась, как в тисках.
- Ещё! Ещё! - приказывала старшая. - А ты потерпи, матушка, - дарила она сладкою улыбкою невесту- стройнее станешь, жениху ещё сильней поглянешься.
- Нет, нет… так не дойду…
- Ещё стяните чуть. Я надавлю, - велела твёрдокаменная мамка. - Вот теперь иди, родная…
- Куда ведёте?
- В палату Грановитую… Невесте с женихом колечки обручальные наденут при молитвах и благословении…
- Обручённая, что подаренная, - заглядывала ей в лицо искуснейшая из придворных одевальниц.
Её ввели.
Сам юный венценосец протягивал к ней руки, улыбаясь. Протягивал ли? Улыбался ли? Или стоял и ждал торжественно, как подобает? Жених уже не вьяве воспринимался ею. Он чудился. Она впадала в сон. И голова сама собой вдруг запрокинулась. И тело завалилось на чьи-то руки, крепкие, как подлокотники. И сон во сне исчез…
Исчезло всё на время, коего не ощутить и не измерить никому.
Очнулась в чужом доме. У одра сидел отец. По белым, как бумага, щекам в усы и бороду вползали слёзы.
- О, дочь моя!
- Они сдавили мне бока, - сказала она шёпотом. - Я задохнулась.
- Морозов объявил, что у тебя падучая, - поведал Раф. - Распущен слух, что ты испорчена и к царской радости не прочна. Семён Лукьяныч Стрешнев якобы за волшебство от должности отставлен, тут же сослан в Вологду. И нас ждёт ссылка.
- За что? - собравшись с силами, воскликнула Евфимия. - Поди, скажи: всё это - мамка… Я запомнила её суровый лик.
Раф только тяжело вздохнул:
- И слушать некому. Невестой царской стала Марья Милославская. Морозов одолел. Государевой радости в женитьбе учинил помешку. Хотя пожалован был честью и приближеньем больше всех. Поставил это ни во что. Себя лишь богатил. При царской милости, кроме себя, не видел никого. Да что уже теперь? Всё кончено.
- Где мы? - спросила слабым голосом недавняя невеста государева.
- Мы в подмосковной боярина Туленина Евстрата. Ему Морозов поручил нас под надзор, пока не увезут…
- Куда?
И тут из сводчатой двери просунулась седая борода:
- Раф!.. Фёдор!.. Простись с дочкой. Выдь.
- Зачем, Евстрат? - поднялся Всеволожский.
- Тут… за тобой… два пристава, - свистящим шёпотом вещала борода. - Верхнее дело государево сегодня на тебя заведено. Зачем допрежь клятвенно обманул, будто дочь здорова? Зачем нанёс поруху делу царскому?
- Я… клятвенно… обманул? - бормотал Всеволожский, неведомой силой влекомый в дверную пасть.
- Отец! - пронзил происходящее крик Евфимии. И сызнова она лишилась чувств.
…Очнулась, тормошимая старухой, по виду знахаркой. Та долго пришёптывала несуразицу, потом произнесла басом:
- Что, обручилась с горем?
- Горе лютое со мною обручилося, - ответила отвергнутая.
Старуха напрягла лик, как бы преобразясь.
- Не узнаёшь, Офимия Всеволожа? Порушенная невеста дрогнула:
- Агафоклия?
- Не всё ещё мы там с тобою довершили, - прошамкала старуха и, уложив деву поудобнее, тихонько попеняла: - Не верила в паломничество душ!..
Потом Евфимия услышала знакомый шёпот:
- Ходит сон по сенюшкам, дрёма по новым. Сон, что лучше отца с матушкой, сон, что Смерти брат…
7
- Приложи к губам зерцало, - заставляла амма Гнева.
- Зачем зерцало? - возражала Агафоклия. - Запястье щупаю. Жизнь есть!
Евфимия с трудом пошевелила веками.
- Ну что, сестрица, ожила ли? - спросила Агафоклия.
- Нет, плохо оживается, - едва откликнулась боярышня.
- Уф, груз с души! - припала к подопечной амма Гнева. - Не чаяла услышать голос твой, Офимьюшка.
Дебелая девчища, окончив ведовство, упала задом на сундук.
- Увяла силушка. Ни стать, ни сесть…
Отпаивали пробуждённую усердно каким-то чёрным взваром. Немощь быстро уходила. Часу не прошло, Евфимия сидела за столом.
- Поведай, что узрела, - устало попросила Агафоклия.
- Тебя узрела, - улыбнулась возвращённая из будущего. - Два века спустя ты такая же ведунья, только старуха. С твоей тамошней помогой я сюда вернулась, пробудилась…
Девчища выпрямилась и сосредоточилась очами на остылом пепле очага. На её большом невыразительном лице трудно было что-либо прочесть.
- Пробуждала я тебя не там, а здесь, - промолвила она и обратилась к амме Гневе: - Дозволь пойти к сестрицам. Спать хочу.
Хозяйка глянула в окно.
- День, считай, кончился. Спаси тебя Бог, Фёклия. Ступай.
Когда ведунья, аммы Гневы правая рука, ушла, боярыня присела рядышком с Евфимией.
- Теперь, мой светик, расскажи подробно, что с тобою было.
- Сон сладостно-горький. Жила в нём, как взабыль… Неясно помню. Двести лет прошло! - Боярышня откинулась на лавке, закатив очи, напряглась. - Язва моровая, как у нас внедавне… А Москва совсем иная. У нас ров от Кучкова поля до Москвы-реки глубиною в человека, шириной в сажень, там ров круг всей Москвы, и глубже, шире… Ворота с большими башнями. Три пояса стен: из дерева, из камня, опять из камня… Кремль - ух какая крепость! Башни белыми точёными столпами вонзаются в небесный свод. Улицы в Кремле все выпрямлены, вымощены… Батюшкина дома не нашла. Великокняжеская площадь именуется Ивановской. Там колокольня высоченная, от Воробьёвых гор видна. Зовут - Иван Великий! А в соборе у Пречистой своды не подпёрты брёвнами, как в наше время. Всё обновлено. Храм больше и величественнее. А дворец - каменное чудо. Во дворце на троне не великий князь, а царь!
- Царь, как в Орде? - удивилась амма Гнева.
- Орда давно ушла в небытие, - продолжила рассказчица. - На памяти у московитов избавление от ига ляховицкого.
- Поди ж ты! - покачала головою амма Гнева. - Кто же на Москве царём?
Евфимия, волнуясь, глубоко вздохнула.
- Романов… Алексей Михайлович. Потомок наших Кошкиных.
- Как? - Акилина Гавриловна вскочила с лавки. - Кобылиных-Кошкиных? Марьи Голтяихи?
- Из того же роду, - опустила очи Всеволожа.
- Ишь ты! - воскликнула Мамонша.
- Из двух сотен лучших дев меня избрали государевой невестой, - поведала Евфимия. - Сам царь избрал!
Боярыня глядела на неё, как на пришлицу с того света.
- Ты видела царя?
- Как вот тебя. Воочию.
- Каков он?
- Невысок. Немного тучен, - стала вспоминать Евфимия. - Взором и лицом приятен. В безрукавом зипуне белой тафты. А шапка… Нет, не золотая. Бархатная, цветом шафранная, окол соболий, двоеморхая. А в шапку вшита запона алмазная. Мой тамошний родитель Раф Всеволожский сказывал: на ней камней алмазных пятьдесят четыре!
- Твой тамошний отец не Иван Дмитрич? - расширила глаза Мамонша.
- Вовсе не похожий на него. И не боярин. Дворянин, - растерянно произнесла боярышня. - Стань я царицей, стал бы он боярином.
- А ты царицею не стала, - подсказала амма Гнева.
- Испрокужена была придворными злецами и сослана за Камень, видать, в землю Югорскую, - понурилась Евфимия. Потом пытливо исподлобья взглянула на хозяйку кельи. - О моей тамошней беде как тебе ведомо?
- Я твой лазоревый источень приносила Агафоклии, - призналась амма Гнева. - По этой опояске она проникла в твою дальнюю судьбу. Только увидела тебя совсем иную.
- Я там была с собой несхожей, - подтвердила Всеволожа, - выше, краше…
Опекунша с опекаемой примолкли в размышлениях. Потом взволнованная гостья вслух подумала:
- Обо мне ведунья рассказала, а о царе - ни слова…
Ответ был прост:
- Князья, цари для Фёклы не важнее пчелиных маток для орлицы. Попросту она о них не мыслит.
Евфимия полюбопытствовала:
- А для себя-то что она увидела в грядущем? Амма Гнева, помрачнев, произнесла чуть слышно:
- Смерть в огне.
- А для тебя, мой свет? - набралась смелости Евфимия. - Твоей души в паломничество не посылывала?
Боярыня лишь покачала головой.
- И ничего тебе не предрекла?
- Клещами красными не вытянешь, - совсем уж прошептала амма Гнева и встрепенулась: - Смеркается. Пора дровец внести да затопить очаг. Ты тут побудь. Я мигом.
Однако же Евфимия не утерпела, покинула избушку вслед за хозяйкой и поражённая застыла на пороге.
Её оглушил звук, тягучий, нутряной, скребущий уши. Он шёл как будто с серой пелены небес, хотя на самом деле - сквозь большие чёрные деревья. Подобный звук она слыхала в Зарыдалье. Это был рёв быка.
- Ах, Акилинушка, вернись! - испуганно звала боярышня. - Неподалёку бык заблудший. Не закатал бы!
Амма Гнева принесла беремя дров.
- Голубонька, ну что ты всполохнулась? Это вовсе и не бык. Бугай! Птица такая вида цапли. Большая выпь. Головка с кулачок, а голос бычий. Взойди в избу.
У аммы Гневы при входе полено из беремени упало на пол.
- Ой! - вскрикнула она. - Ты испугалась рёва бугая, а я - нечаянного гостя.
Очаг приятно запылал. Избушка осветилась без светца. Хозяйка стала собирать на стол.
- Теперь-то поняла, Офимьюшка, что мои страхи за тебя отнюдь не ложны?
Боярышня любовно обняла свою пестунью.
- Не допускай до сердца, матушка, такие страхи. Агафоклия, нет спору, чародейка. Однако же она способна увидать не явь, а только сон. В том сновидении, куда я погрузилась её чарами, всё было, словно наяву. А пораскинь умом - ведь это же мои мечты! Жду возвращения Василиуса, боюсь злых умыслов Витовтовны. И снятся преувеличения: великий князь становится царём, монгольское ярмо вдруг оборачивается ляховицким, да ещё скинутым, я повергаюсь жертвою дворцовых козней, из-за меня родитель взят за приставы, семья обречена изгнанию… Замечу, мне и прежде доводилось удивляться: во сне увидишь так, а въяве всё наоборот. Поэтому освободись от страхов, Акилина свет Гавриловна.
Тут келья погрузилась в темноту.
- Очаг погас, - вздохнула амма Гнева. - Сиди… Отыщу трут, сызнова вздую огонь…
- К чему бы это? - прозвучал во тьме вопрос Евфимии.
- Что? - Амма Гнева чиркнула кремнёвыми каменьями.
- К чему бы вдруг очаг погас? Хозяйка раздувала пламя, потом сказала:
- К нечаянному гостю…
В дверь вскоре заскреблись.
- Кто там? - Боярыня сняла засов и радостно воскликнула: - Янина! - Однако тут же увидала, что гостья не одна. И сурово обратилась к её спутнице: - Как ты осмелилась покинуть боярский дом, Бонедя?
- Пани Бонэдия! - поправила, входя, полячка и сразу бросилась к Евфимии: - Оццец!.. Оццец!..
Не зная подходящих русских слов, шляхтянка перешла на польские. А её спутница, тоже полячка видом, но в сравнении с Бонедей не красавица, перевела слова подруги:
- Вчера отец твой с государем прибыл на Москву. Василиуса царь ордынский поставил на великое княжение. Иван Дмитрич ждёт тебя домой немедля.
8
Отец с дочерью сидели рядком в палате для уединённых письменных занятий и не могли наглядеться друг на друга.
- Взросла стала! - улыбался Иван Дмитрич в пышные усы, поглаживая бритый подбородок. - В пору под венец идти. А венец уж близок.
- А у тебя седины прибавилось, - дотрагивалась Евфимия тонкими пальцами до густых белых кудрей отца.
- Ещё бы не прибавиться! - Боярин вздохнул, вспоминая тяжёлую ордынскую прю. - Знаешь ли, что Настасья Юрьевна по приезде мужа в одночасье скончалась?
- Господь с тобою! - Евфимия прижала руку к груди, как бы переживая сызнова недавние злоключения в обществе Анастасии Звенигородской.
- Не посылывал князь Юрий вестонош, мыслил из собственных уст потонку сообщить супруге о своём поражении. А напрасно. Властолюбивое сердце княгини неожиданности не перенесло…
- Расскажи, батюшка, о столице ордынской, - поспешила переменить речь Евфимия.
- О, Сарай не Москва! - охотно заговорил боярин. - Богач город! Здравствует на берегу Ахтубы в двух днях пути от Астрахани, почти в ста древних вёрстах от Царицына. Мечети каменные. И два превеликих здания. В одном плачные залы, обитые серебром. Туда не пускают. Там прежние ханы покоятся. Нельзя видеть. В другом - царь живёт. Глубокие рвы вокруг выкладены кирпичом. Стены из белых плит с муравлеными украшениями. Есть дома островерхие, как в германских землях.
- Тяжек был твой труд, батюшка, в этом городе? - представила дочь.
- Воистину тяжек, - согласился боярин. - На нашу удачу мурза Тегиня увёз своего друга Юрия Дмитрича зимовать в Тавриду. Вот тут мне и удалось вложить нужные внушения в умы царёвых вельмож.
- Ты им открыл глаза, - нетерпеливо перебила Евфимия, - ежели Тегиня единолично сумеет убедить хана дать Юрию Дмитричу сан великокняжеский, этот мурза получит особенное значение не токмо что на Руси, а и в Литовском княжестве, где властвует Юрьев свойственник Свидригайло.
- Верно! - восхищённо взглянул на дочь Всеволож.
- А ежели так случится, - продолжила боярышня, - то царь ордынский окажет небывалую честь вельможе столь сильному и все остальные станут его рабами.
- О! - воскликнул боярин. - Где ты весь этот год была? Не рядом ли со мной, умница? - и он заключил, потирая руки: - Сии слова, словно стрелы, уязвили сердца вельмож. Особливо же Мин-Булата, баскака московского, и князя Айдара, царёва зятя. Он до того довёл царя нападками на мурзу, что легковерный Улу-Махмет обещал казнить его смертью, коль скоро, вернувшись с нашим мятежным князем, Ширин-Тегиня за него заступится.
- Тот, конечно, узнал заранее свою участь? - догадалась Евфимия. - Кто-то же непременно ему донёс.
- Брат Тегини, постельник царя, Усеин открыл ему мысли Улу-Махмета, - подтвердил Иван Дмитрия. - Мурза - ах, да руками мах! Но, сведав обстановку, помалкивал. И вот скрестились мечи языков, началась брань словесная. Сам царь председательствовал в судилище. Василиус, твой жених, отстаивал своё право новым уставом государей московских, по коему сын после отца, а не брат после брата наследует великокняжеский стол.
- А дядя его отверг сей устав, - вставила Евфимия, - сослался на летописи, а главное, на завещание Дмитрия Ивановича, героя Донского.
- Откуда тебе сие завещание ведомо? - поднял брови Всеволож.
- Анастасия Юрьевна - Царствие ей Небесное! - пересказывала в пути, - и Евфимия подробно поведала, как попала в плен к покойной княгине Звенигородской. Заодно пришлось сообщить о размолвке с Софьей Витовтовной. Однако же о жилище ведьм не обмолвилась ни полсловом.
Боярин долго молчал, напрягши морщины у переносья.
- Непредсказуемы выходки государыни-матери, - наконец сказал он. - Да ведь не отводную клятву она давала, а целовала крест. Мне ли не верить ей? Что ж до Васьки Косого - не по достою разговор. А Настасья-покойница слишком недалеко ушла от старухи Софьи. Ну, дела прошлые, тому всему дерть, забвение. - Помолчав ещё время малое, он продолжил: - Завещание героя Донского не стало решающей костью в игре его сына Юрия.
- Там сказано, - напомнила дочь Всеволожа, - что в случае смерти великого князя-преемника наследует ему старший из братьев.
- Настасья забыла добавить, - усмехнулся боярин, - это только в том случае, если великий князь не оставит наследника. А у сына Донского прямой наследник Василиус. И имени Юрия в завещании нет. Там вот какие слова о бездетном преемнике: «А отнимет Бог сына моего старейшего Василия, а кто будет под тем сын мой, ино тому сыну моему стол Василиев, великое княжение». Зачитав завещание, я сказал Улу-Махмету: «Царь верховный! Молю, да позволишь мне, смиренному холопу, говорить за моего юного князя. Юрий ищет великого княжения по древним правам российским…»
- Дозволь довершить твою речь? - резво вскочила боярышня Всеволожа и, узрев благосклонность в лице отца, произнесла торжественным голосом: - Юрий ищет по древним правам, а Василиус - по твоей царской милости. Русское княжество - твой улус, отдашь его кому хочешь. Один требует, другой молит. Что значат мёртвые грамоты против твоей воли? За шесть лет не свергнул ты с престола Василиуса, стало быть, признаёшь его государем законным…
Иван Дмитрич тоже встал и накрепко прижал к груди свою дочь.
- Прозорливость твоя и разум достойны великой княгини. Представь, однако ж, как было не в из могу держать мне такую речь. В унижении видел подвиг!
- Многое тебе там не в измогу было, - посочувствовала Евфимия. - Как только вытерпел, как прожил этот год!
- Церберово житье, - согласился боярин. - Походя поешь, стоя выспишься. Слава Создателю, всё позади. Вчера на Москве у Пречистой посланник хана Улан-царевич посадил Василиуса на великокняжеский стол, надел на него золотую шапку. Теперь Москва, не Владимир- столица княжества, а храм Успенья- его святыня.
- Каково-то отрешённому Юрию? - невольно посочувствовала Евфимия.
Боярин отвёл глаза.
- Юрий Дмитрич похоронил супругу и отъехал в пожалованный ему город Дмитров. Объявился в Орде у Улу-Махмета соперник Кичи-Махмет. Тегиня, используя смуту, уговорил царя оттягать этот городок у Василиуса. Вот вся помощь Юрию от мурзы. А тут ещё из Литвы плохие для него вести.
- Что с Литвой? - спросила Евфимия. - Совсем я отстала без тебя, батюшка.
- Дошло до сарайского дворца, что Жидимонт Кейстутьевич, брат Витовтов, - пояснил боярин, - свергнул Свидригайлу Ольгердовича, Юрьева свояка. Место пьяницы заступил тиран-златолюбец. Тегиня при конце нашего суда только и повторял, любя свергнутого: «Яман! Яман!» Друг же его Юрий отозвался тем же словом по-русски: «Плохо!»
Евфимия отошла к растворенной оконнице, высунулась по пояс, глотнула воздуха из боярского сада и освежённая воротилась к отцу.
- Мы победили, батюшка. Отчего сердцу тошно?
- Не тошно должно быть, а празднично, - ещё раз обнял Иван Дмитрич любимую младшую дочь. - Готовься к большим делам, будущая моя государыня!
9
В погожий день летоначатца-сентября в подмосковной вотчине Марьи Голтяевой затевался пир в честь Василиуса. Съезжались бояре ближние и окольные. Софья же Витовтовна загодя объявила: перед застольем будет наречена невеста её сыну и произойдёт обручение. Боярин Всеволож брови поднял: почему его дочери обручаться с великим князем не в Кремле, а в подмосковной усадьбе Голтяихи? Однако к прихотям государыни-матери не привыкать стать. Надо набраться выдержки.
Гостевой поезд медленно выползал из Боровицких врат, у коих с западной стороны церкви Рождества Иоанна Предтечи на взгорке против Житного двора стоял дом Витовтовны. Тем временем из Фроловских врат выехала одна карета с четырьмя всадниками обочь. Всадники - родственники, почти ровесники, выросшие вместе, выученные за одним столом: сам великий князь, его двоюродные братья Иван Андреевич Можайский, Василий и Дмитрий Юрьевичи. Не было с ними Василия Ярославича, внезапно отъехавшего к себе в Боровск. В карете же сидели сестра его Марья Ярославна, внучка Голтяихи, а также Софья Дмитриевна, дочь князя Заозёрского, а среди двух княжон - боярышня Евфимия, соученица князей-братьев, ожидаемая государева невеста.
- Не поизомни мой летник, душенька, - предупреждала толстушка Марья, трясясь в карете. - Тут так тесно!
Длинные серьги её то и дело били по щекам Евфимии, лезло в глаза блеском ожерелье в виде воротника в четыре пальца, звенело на груди монисто из бус и запон.
Заозёрская княжна Софья, на Москве гостья не частая, сидела молча, расправив верхнюю сорочку, красную из лёгкой полосатой ткани, поверх белой, нижней, вышитой шёлком, золотом и жемчугом. Нарядная сорочка с рукавами, неимоверно длинными, до четырёх аршин, собранными на руках множеством складок. Бесспорно, платье Софьино искуснее, нежели летник Ярославны, зато на голове её повязка, унизанная звёздочками, скромнее венца на Марье, сплетённого из золотых, коралловых, жемчужных прядей.
- Не заражу ли тебя, душечка? - Княжна Марья тщетно пыталась отъединиться от боярышни, то и дело подносила к пуговичному носу ширинку, роскошно вышитую.
Евфимия, держа себя в руках, изо всех сил сжимала пальцами уложенную на коленях шляпу мужского образца, белую, круглую, с широкими полями, перевязанную по тулье лентами и снуром с жемчугом, каменьями и кистями.
Карета, запряжённая четвериком, катилась ходко. Казалось, только что отъехали от Марьина двора, что против Палат Дьячих, рядом с храмом Афанасия и Кирилла. А вот уж и в застенье выехали, миновали торговые ряды. И оглянуться не успели две княжны с боярышней, как оказались на Кучковом поле у Владимирской дороги.
- Чей это храм? - спросила Софья, указывая на шатровый верх с крестом за каменной стеной.
- Ну, храм и храм… Апчхи!- прикрыла Марья Ярославна рот ширинкой.
- Храм Богоматери с монастырём, - ответила Евфимия. - Воздвигнут покойным государем, отцом Василиуса, в честь отступления Тимур-Аксака, завоевателя Вселенной.
- Я не слыхала о таком завоевателе, - призналась Софья.
- Я тоже… ап… апчхи! - поддержала её Марья. Карета вдруг остановилась.
Дмитрий Юрьич по прозванию Шемяка открыл дверцу.
- Не пожалуете ли выйти, сёстроньки? - пригласил он, хотя сестрой его можно было бы назвать разве Ярославну, да и то четвероюродной.
Софья Заозёрская птичкою из клетки была вынута из кареты Дмитрием. Василиус подал царственную руку Ярославне. Евфимия поспешила сойти сама, ибо ей в помощь подскочил брат Дмитрия Василий Юрьевич по прозвищу Косой. Недовольный, что рука его, поданная Всеволоже, повисла в воздухе, Косой с вызовом взглянул на Ярославну, что оказалась рядом.
- Ну и бела ты, Марья! Не белишься ли?
- Так что же, что белюсь? - с неменьшим вызовом ответила толстушка. - Глянь-ка на Евфимию, - перевела внучка Голтяихи взор на Всеволожу, как бы отводя от себя Васькины насмешки. - Не желает ни белиться, ни румяниться. Осрамить нас вздумала: я-де солнце, а вы оставайтесь тусклыми свечками при солнечном сиянии. А ведь без белил и образов не пишут.
Всеволожа при внезапном нападении ещё не собралась с ответом, как Василий Юрьевич её опередил:
- Если составом, коим иконы пишутся, твою рожу вымазать, так всем это, пожалуй, и не понравится.
- Не пристало в радостный день аркаться, - заметил князь Иван Андреевич Можайский, обрывая спор.
Да, собственно, и спора не было - озорное мелкое покалывание, к чему с детских игр привыкли сам Иван, и Юрьевичи, и Василиус. Единственная, кто мог принять взаправду словесную их подирушку, - Софья Заозёрская, росшая не с ними, а в своём уделе. Занятая вниманием Дмитрия Шемяки, она не повернула головы. Евфимия же думала о венценосном женихе: отчего помог сойти не ей, а Марье? Да ведь оттого, что Марья-то была у самой дверцы.
Василиус глядел на лес, на уходящую в него тропинку, на речку в травных берегах, которую мостом пересекли… И вдруг воскликнул:
- Дома!
- Не веришь от столь долгой близости к ордынскому царю? - сочувствовал Иван Андреевич.
- Ох, близ царя - близ смерти! - мрачно произнёс Василиус.
Шемяка подошёл к ним, оторвавшись от своей княжны.
- Мужайся, брат! Теперь всё будет хорошо. Мы с Васькой замирим с тобой отца на весь остатний век.
Косой игриво в свой черёд кивнул Василиусу:
- Мир до гроба! Прошлому же - дерть и погреб! Ярославна обратилась к Софье и Евфимии:
- Айда пускать венки! Предскажут, кому в девках вековать, кому с мужьями нежиться… Эй, герои-женихи! - окликнула толстушка князей-братьев. - Помогите насбирать цветов…
- Поздние цветочки - позднее гадание, - откликнулся Косой.
Прибрежный луг не густо был покрыт поникнувшими лютиками и ромашками, хотя цвели они всё лето.
Иван Можайский, оба Юрьича склонились за цветами. Первым преподнёс букет своей княжне Шемяка. Софья с Марьей быстренько сплели венки. Евфимия же медлила, задерживая всех.
- Мало ходишь по цветы, всё с книжками да с книжками, - съязвила Марья. - Ну, что у тебя тут? На полвенка не будет!
Она ушла за дальней стайкой лютиков.
- Ты нынче что читаешь, Евушка? - назвал Василиус её, как в детстве, по-своему. Спросил же, показалось, виновато. Сам-то не охоч до книг. Она смеялась прежде, что будущий великий князь познавал мир по фряжским привозным листам, то бишь разглядывал картинки, травленные на меди или стали и оттиснутые на бумаге.
Батюшка привёз мне «Повесть о храбрости Александра, царя Македонского», - ответила Евфимия. - Сотворил книгу Ариан, ученик Епиктита философа.
Василиус смущённо мял в руках круглую шапочку, ту, что ордынцы носят на бритых головах.
В летнем праздничном охабне со стоячим воротником молодой великий князь смотрелся величаво.
- Изомнёшь свою тафью, - глянула Евфимия на шапочку, вышитую шёлком, золотом, украшенную жемчугом.
- Ах, надоел мне этот колпачок татарский, - проворчал Василиус. - В Орде носил, чтобы понравиться, надел сегодня по привычке.
- Неправда, что тафью татары выдумали, - заметила Евфимия. - Её завоеватель Александр носил за многожды веков до них.
Василиус надел тафью и улыбнулся.
- Давно мы не видались, Евушка.
Боярышня ответно улыбнулась, только сдержаннее.
- Прошло время разлуки, - тихо молвила она. - Сегодня - день особенный!
Василиус, на удивленье, промолчал. Хотя чему же удивляться? Подходили Софья и Шемяка. Дмитрий Юрьич поднял полу шёлковой сорочки до колен, расшитой по воротнику и рукавам золотом. К сорочке пристегнут на петельках стоячий воротник из бархата и жемчуга. В приподнятом подоле - куча ромашек, хотя у Софьи уже сплетен венок. А следом за влюблёнными приспела Марья Ярославна с венком для Всеволожи.
- На, неумеха!
Все поспешили к берегу.
- Я помогал Марье собирать цветы для твоего венка, - похвастался Косой, пройдя мимо Евфимии.
- Как называют эту речку? - спросила Софья.
- Черторья или Чертолья, - сказал Шемяка.
Бросили венки. Евфимия увидела, как два венка княжон поплыли борзо по течению, а вот её венок застыл на месте, закружился… Не хочет плыть.
- Попал в водоворот, - с сочувствием к боярышне сказал Иван Можайский.
- Истинно чёртова речушка, - проворчал Косой. Василиус уже резко отошёл к мосту, где отдыхали, лёжа на траве, великокняжеские люди: каретный кучер и охрана. Неловкое молчание на берегу не нарушалось, пока он не вернулся.
- Я отослал людей большой дорогой, - сообщил великий князь. - А мы тропинкой прямиком пройдём Марьину рощу. Подышим лесом. Тут недалече.
- Дело доброе, - обрадовался Дмитрий Юрьич, увлекая Софью на тропу.
Евфимия спросила названого жениха:
- Ты сам тут прежде хаживал?
- Не хаживал, - сказал Василиус. - Определил на глаз.
- И я не хаживала, - встряла Ярославна. - Страшно тут.
- Какой страх с четырьмя витязями? - ободрил Иван Можайский.
Евфимии хотелось углубиться в лес с Василиусом, как Шемяка углубился с Софьей, да не пришлось, шли кучно.
- Ты, Андреич, на себя бы венок кинул, - подмигнул Косой Ивану. - Скоро ль женишься? Или мать воли не даёт?
Сиротка Ярославна тоненько хихикнула. Меж ними с отрочества завелось подтрунивать над князь-Иваном, материным послушателем.
- Выбор матушки - мой выбор, - не смущаясь, подтвердил Иван.
- Аграфена Александровна не ошибётся, - поддержал его Василиус.
Кончилась тропа. Путь шествующим преградила речка. Поуже прежней и помельче, а не перепрыгнешь.
- Вот так фунт изюму! - остановился князь Иван.
- Назад идти… Людей с конями и каретой я отослал. А по большой дороге - крюк изрядный. Не поспеем, - растерянно сказал Василиус.
- Как называют эту речку? - опять спросила Софья.
- Чертблья! - покатился со смеху Косой. - Та же речонка, только кругаля дала. Я тут мальчишкой раков лавливал.
- Так что ж ты давеча молчал? - негодовал Василиус.
Все были в замешательстве. Евфимия, забыв про свой дурной венок, развеселилась, наблюдая спутников.
- Какой же страх с четырьмя витязями? - напомнила она слова Можайского. - Ужель вам трёх девиц не перенесть через ручей?
- Воистину! - обрадованно подхватила Марья и бросилась к Василиусу, ни к кому иному.
Великий князь, приняв нелёгонькую ношу на руки, побрёл повыше щиколотки в охлаждённой осенью воде, не пожалев жёлтых сапог сафьяновых на высоких каблуках с загнутыми острыми носами…
- Мне стыдно, - отступила Софья от Шемяки.
- Чего там! - усмехнулся Дмитрий Юрьич. - Через жизнь нести, через ручей перенесу.
Косой с готовностью приблизился к Евфимии. Она, спеша, скинула чёботы зелёного сафьяна, сдёрнула косматые чулки и, подхватив юбки, перешла Чертолью.
Хотелось поравняться с непонятным в этот странный день Василиусом, объясниться, отмести тяжёлые предчувствия… Он шёл об руку с Марьей, набелённой, нарумяненной так неискусно: ресницы насурмила чёрной, брови же коричневою краской…
- Любуешься толстухой-судроглазкой? - пошёл рядом Косой.
- Что такое судроглазка? - спросила Всеволожа.
- Ну, судроглазничает, умильно строит Ваське глазки, - пояснил Юрьич.
Вот и конец Марьиной роще. Вот и усадьба Марьи Голтяихи. Здесь, как в обильном граде, - всё потребное для человечьих нужд, от храма Божьего до бани: избы, клети для дворовых, погреба, конюшни, хлевы. Хоромы - в зелени дерев. Кровля презатейливо украшена, как головной убор боярыни. Окна смотрят в мир, как очи у красавицы искусницы, что без сурьмы и краски нипочём не обойдётся. Воротный верх - в виде тройной шатровой башни. И сонм карет перед воротами, и длинный ряд коней у коновязи. Садовой дресвяной дорожкой опоздавшие прошли к двойному красному крыльцу.
- Они пожаловали! - прозвучал в глубине дома голос наблюдательного дворского.
Столовая палата была полна. Столы ещё пусты. Пирники в дверях наизготове. От сидящих за столами - сверканье украшений, перстней, колтков, цепочек, враных и золотых.
Великая княгиня с хозяйкой - во главе стола. Платье на государыне-матери богатое: шёлковое, обложенное золотым позументом. На шее дорогущее ожерелье с каменьями. На руках парчовые зарукавья, на пальцах золотые перстни. В ушах серьги с самоцветами. На голове венец златожемчужный.
- Ждать заставляешь, государь! - попеняла она сыну. И объявила велегласно: - Прошу в крестовую палату на великокняжеское обручение!
- Кто… кто невеста? - прошёл шёпот по палате.
Великая княгиня поднялась. Провозгласила, будто это был наиважнейший возглас в её жизни:
- Невеста государева - княжна Мария Ярославна, внука Владимира Андреича, героя куликовского!
Боярство ахнуло, однако сдержанно, чтоб празднику не повредить.
Иван Дмитрич Всеволож поднялся, посмотрел на защищённого им венценосца.
- Государь!
Василиус, как бы случайно, отвернулся, заговорил с матерью.
- Ты приведись в порядок. Подождём в крестовой, - донеслись её слова.
Евфимия покинула палату. По переходам, наводнённым челядью, не зная дома, прошла правильно и оказалась на крыльце. Немного постояв, спустилась в сад. Села на первую скамью, чтоб батюшка, сойдя с крыльца, увидел сразу. Прикрыла веки и представила свой сон. Никто её не испрокуживал в сей жизни, за что ж отвергнута? Хотя на сердце горя не было. Вот разве лишь обида…
Кто-то присел рядком. Нет, не отец. Глянула искоса: скуластое лицо Васьки Косого.
- Наплюй, Офима, на Васильку и на литовку-злицу, - вымолвил он скрипучим голосом. - Поди за меня замуж, счастлив буду. Не пойдёшь, стану несчастлив.
Боярышня молчала. Он, некоторое время переждав, продолжил:
- Матушка покойная рассказывала о твоём побеге… Я всё ж решился… Сегодня такой день!
Евфимия прищурила глаза и усмехнулась.
- Плохой нынче для меня день, Васёныш! - назвала она Косого, как называла в детстве. - Однако вот что тебе скажу… Только не держи зла, как прежде не держал, чего б ни говорила. Конечно, за любовь прими поклон. Да и запомни: когда наступит день стократ страшнее нынешнего, я и тогда не соглашусь идти с тобою под венец. Не по какой иной причине, как по одной-единственной: не люб ты мне, как муж. Люблю, как старого приятеля. И коль останешься таким, любить не перестану. Не встретился покуда человек, кому бы сердце отдала по своей воле. По батюшкиной согласилась стать женой Василиуса. С теперешнего дня и батюшку не стану слушать.
- Выйдешь из отцовой воли? - спросил Косой. Евфимия кивнула и низко опустила голову.
- Я ждал сурового ответа, - встал Василий Юрьич. - Не заподозри, будто осмелел от твоего несчастья. Просто должен был сказать: пусть я тебе не люб, да ты мне люба. Таковой останешься до гроба. А бесчестье, претерпенное тобою нынче, - не несчастье. Верь моим словам.
10
В крестовой начиналось обручение, а Всеволожи отъезжали от ворот Марьи Голтяевой. Евфимия всматривалась в золотой поток деревьев за слюдяным оконцем. Казалось, карета, словно лодка, шла против течения. Иван Дмитрич сидел сгорбившись, стеная от душевной раны. Из уст его рвались тяжёлые слова:
- Облихован… Возненавижен…
Потом стали складываться горькие речи:
- Ох, какое оправдание примет допустивший это? Будет ему воздаянием преисподний ад, прелютый огнь, немилосердные муки… А как льстил в Орде пред царским судилищем! - встрепенулся боярин. - Какие давал клятвы! - Он вновь поник. - О лесть, зла есть! До обличения сладка, обличена же зла есть!.. Теперь хоть весь исклянись, не поверю! У них где клятва, тут и преступление… Неверница правды! - вымолвил он уже о Софье… - Объясниться не пожелала, к келейной беседе не допустила, как и её сынок. Дочь Всеволожа, видишь ли, венценосцу не ровня. Шалишь! Моя Евфимия с Марькой, Голтяихиной внукой, поровень. Моя Устя тоже внучка Владимира Храброго. Мой дед Александр Всеволодович - смоленский князь. Мой отец с дядею - тоже куликовские герои. В дядином полку сражался чудный инок Пересвет, благословлённый преподобным Сергием. Отец мой был великокняжеский наместник в Нижнем Новгороде, воевода. Сын великого князя Тверского, не погребав, взял в жены дочь мою. Другую дочь взял сын Храброго…
- Батюшка! - взмолилась Евфимия. - Отложи гнев. Призови безгневие.
Иван Дмитрич поглядел на дочь, как безумный.
- Ты ли говоришь о безгневии? - Он помолчал, как бы через силу что-то соображая, потом обрушился на Евфимию: - Нашла с кем знаться! Видел эту казотку краковскую! Анисья её за тобой посылала в Нивны. Что ты с нею без меня весь год делала? То-то Витовтовна вне себя. Срам произнесть: в портах скакала на коне, билась на мечах, забыв женский образ. Проклятая Акилина Мамонова, заводчица всяких бед! Она сбивала с понталыку. Иначе не было бы повода у каверзной литвинки входить с тобой в немирье, нарушать данную мне клятву.
Евфимия молчала, припоминая рассуждения покойной Анастасии Юрьевны об отводной клятве. Боярин тоже замолчал. Потом дрожащей рукой сжал дочерину руку.
- Прости, ради Христа. В одержании я, во власти дурных чувств.
- Не казнись, - вымолвила боярышня. - Оставь всё, как есть. Ни в чём, кроме моего обручения, тебе не отказано. Смирись в прежнем чине. Сломи обиду.
Всеволож резко рассмеялся.
- Не велик чин - обойдёныш!
Карета отпрыгала на ухабах, пошла ровнее, тише. Ехали по Великой улице.
- Единомышленник сатанин! - проскрежетал Иван Дмитрич с прежней злобой. - Враг проклятый!.. Ненадобный шпынь!.. Злой, пронырливый злодей!.. На оном веке рассудит нас с тобою Бог, опричь того мне нечем от тебя оборониться… Нет, позволь, как нечем? Ты откинул от дела омерзелого холопа. Я же отдаю тебе моё крестное целование. Как восклицали древние латиняне: «Катилина, доколе будешь испытывать наше терпение?» Слушай меня, Евфимия, - обратился боярин к дочери. - Нынче же соберёмся всем домом и - в Галич, к Юрию Дмитричу!
- Батюшка, Бог с тобою! - испугалась боярышня.
- Мыслишь, батька спятил с ума? - осклабился Всеволож. - Нет, я в своём уме. Отдаюсь на милость врага. Хочет - казнит, хочет - сделает другом. Лучше воистину принять злому животу моему конец и навеки свободну быть, нежели поступать противно правде.
- Станешь инокняженцем? - испугалась Евфимия. - Это же перевет, измена!
Она невольно вспомнила пророчество Анастасии Юрьевны и содрогнулась: сбудутся ли слова мёртвой до конца? «Ты непременно будешь женой Василия. Не Софьиного, моего…»
- Это не перевет, - успокаивал тем временем отец. - Это законная для боярина перемена князя. Перейду от Василиуса к его сопернику. И да погибнет неблагодарный!
- Не разжигай пламени, любезнейший отец мой! - взмолилась дочь. - Не поступай опрометчиво.
- Моё решение несовратно, - заявил Иван Дмитрич. - Нынче же соберёмся. По пути заедем в Тверь. Анисия свидится со вдовой сестрой. Я же великого князя Бориса Александровича призову в союзники. Месть будет ужасной. Пусть ждёт вероломный измётных грамот.
- Подумай о государстве, батюшка, - пылко возразила Евфимия. - Вспомни о давно минувших усобицах, что привели к татарщине.
- Под державой клятвопреступника государству не быть счастливу, - с неменьшим пылом произнёс Иван Дмитрич.
Карета остановилась.
- Мы дома? - обрадовалась боярышня.
- Нет, - сказал Иван Дмитрич. - Я заблаговременно приказал стать у Ховринского двора, возле церкви Воздвиженья. Взойдём вместе. Хочу поставить свечу.
- Хочешь испросить Божьего благословения на отчаянный свой поступок? - спросила дочь, выходя следом за отцом из кареты.
Иван Дмитрич промолчал.
- Я останусь на Москве, в нашем доме, - заявила она решительно и прибавила, дабы смягчить невиданное ослушание: - Приложу старания сберечь дом.
- Ты выйдешь за Василия. Не Васильевича, а Юрьевича, - нежданно объявил отец.
- За Косого? - задохнулась Всеволожа.
Боярин, подав милостыню, задержался в храмовом притворе и угрюмо молвил дочери:
- Не за Косого, а за Василья Юрьича. Моё решенье несовратно!
Взяв в ящике свечу, он медленно прошествовал на середину храма, стал пред аналоем, приложился к праздничной иконе и…
Евфимия увидела: отец ставит свечку комлем вверх - и ужаснулась. Это же обидящая свеча! От Акилины Гавриловны узнала: обидящая свеча ставится от обиженного на погибель обидевшему. До чего безрассуден гнев отца! Ей представился Василиус в гробу. Потом - Витовтовна в гробу. А на великокняжеском столе… Ведь Юрий Дмитрич уже стар. А кто за ним? Василий Юрьевич Косой, согласно старшинству? О, Боже!
Слава Создателю, она запомнила молитву от обидящей свечи. Следом за отцом к иконе приложилась, осенилась крестным знамением и, когда он отошёл, мысленно обратилась к Богу:
- На зло молящему несть услышания! - Повторила трижды: - На зло молящему несть услышания! На зло молящему несть услышания!..
ЧАСТЬ ВТОРАЯ.
Золотой источень с чёрными концами. Первое падение с трона. Убийство в Набережных сенях. Пчелы - за маткою. Беззенотный. Похищенница.
1
Суета с ног на голову опрокинула двор и дом боярина Всеволожа. Решил Иван Дмитрич, «нынче же сберемся», и не отступил. Конюший Увар ладил четверню под карету и верховых под хозяина с обережью. Дворский Елентей носился как угорелый, с красного верху да в чёрный низ, рыскал по медушам, погребницам, чуланам, готовил в дорогу и снедь, и рухлядь. У кухарей - дым коромыслом. У горничных девок - увязка коробьев. Лишь воротник Изот спокойно стоял у башенных, кладенных из ожиганного кирпича ворот, а глаза - настороже, чтоб никто чужой носа не просунул в калитку. И ещё спокойно отдыхала у себя в одрине младшая дочь боярина Евфимия. Хотя у неё мысль тоже настороже: вот войдёт отец!
Он вошёл, вскинул седые брови, повёл взором.
- Не готова?
Евфимия оторвалась от книги, встала с лавки, развела руками.
- Не готовлюсь. Всеволожский погрозил пальцем.
- Применить ли силу? Или своей волей образумишься?
Евфимия взяла руки отца, сжала его пальцы.
- Батюшка любезный! Ну присядь со мною на дорожку. Ну давай ещё раз пособоруем. Без ложных чувств, разумно, как в лучшие, приятнейшие наши дни.
Боярин с дочерью уселся нехотя.
- Обо всём переговорено. Твоё упрямство вылечится временем.
Евфимия обняла отца, уткнулась в благовонные его седины. Речь её потекла ровно, будто бы она урок отцовский отвечала. Выученный назубок.
- Месть, батюшка, тобой задуманная, против тебя же обернётся. Ты будешь поражён.
- Чем поражён? - не понял Всеволожский.
- Не чем, а кем, - поправила Евфимия. - И не Василиусом, он ещё не в силе. И не Витовтовной, в ней много зла и мало толку. Ты будешь поражён Москвой, её боярством. Сам посуди, снесут ли Патрикеевы - князь Юрий, сын его Иван и Ряполовские - Семён, Дмитрий, Лобан Андрей, и Палецкие-Пестрые, и Оболенские, и Кошкины с Сорокоумовыми, Плещеевыми, Акинфовыми и прочими, и прочими, чтобы их первые места заняли бояре Юрия Дмитрича, тот же Глеб Семёнович, Данило Чешко, Яков Жестков, Семён Морозов? А к ним ещё Шемяка приведёт своих, Косой своих…
- Московским время потесниться, - поник главою Иван Дмитрич.
- Не потеснятся, - возразила дочь. - Сражаться будут, аки львы. А с ними и купечество, и весь посадский люд, не терпящий сторонних пришлецов.
- Смирятся, - заключил боярин. - С князем Юрием придут не только галичане, а и вятчане, и костромичи, и тверичи, и угличане.
- Брат ца брата? - в ужасе воскликнула Евфимия.
- Не надобно таких высокопарных слов, - встал Всеволожский. - Не превращай простого в сложное. Клятвопреступник будет свержен. А боярство здешнее, погрязшее в придворной лести и круговой поруке, мне не преграда. При моём бесчестии никто из них не проронил ни слова.
- Стало быть, твоя обида выше покоя государства? - произнося эти слова, Евфимия хваталась за последнюю соломинку.
- Сейчас не время суемудрию, - насупился боярин. - Время делу. Верь в наш успех и следуй за отцом…
- …и стань женой Васёныша Косого, - попробовала дочь изобразить отцовский голос.
Иван Дмитрич улыбнулся.
- Кощунья! - Взяв дочь за плечи, поднял с лавки. - Хватит скоморошествовать. Сбирайся вборзе. Жена Василия Юрьича, считай, невдолге - великая княгиня. Так-то!
Дочь внезапно посуровела.
- Нет, я не еду, батюшка.
- Ты едешь! - крикнул Иван Дмитрич. - Велю связать, силком втолкнуть в карету… Пола-агья! - раскатился его бас по всему дому. Сенная девушка вбежала, будто стояла за дверьми. - Сбирай боярышню немедля… Анисья! - раздался новый зов. Пришла вдовая княгиня. - Следи, чтобы упрямица, не мешкая, была готова.
Оставшись наедине с сестрой, Евфимия спросила:
- Тоже хочешь ехать? Анисья опустила голову.
- Батюшка сказал, первым нашим постояньем будет Тверь. Сестрицу там увижу, инокиню Феодосию.
У нас обеих язва отняла мужей. Её судьба - моя судьба. Вот выдам замуж Устю… Устя! - позвала княгиня.
Племянница Евфимии вбежала, горя щеками.
- Матушка, я собралась.
- Помоги тётке, - распорядилась мать. - Полагая, - глухо зазвучал её голос уже в соседней боковуше, - не будь копушей.
- Спешу! - живо откликнулась Полагья.
- Увижу в Галиче своего света Васеньку, - делилась Устя с тёткой радостью.
Евфимия вздохнула: бедная племяшка, не ведала, что дед замыслил выдать за Василья Юрьича не внучку, а меньшую дочь.
- Будь другом, милая юница, - обратилась она к Усте. - Принеси-ка из чулана, из моего большого сундука, ту сряду, в коей я с Бонедей занималась. И ещё понку чёрную в дорогу.
- Зачем же чёрную? А для чего тебе штаны с рубахой? - удивлялась Устя.
- Беги, беги, - подтолкнула её в спину тётка.
Одна в одрине Евфимия всплакнула и тут же вытерла лицо. Приняв от Усти принесённое, переоделась, заявила, что желает пройтись по саду напоследок.
- Почему же напоследок? - удивилась Устя. - Мы сюда вернёмся.
Евфимия поцеловала её в лоб.
- Зачем целуешь, как прощаешься? - ещё раз удивилась Устя.
Боярышня, не отвечая, выскользнула из одрины.
Сумеречно было в огороде, или, как его чаще стали называть, в саду. Так больше нравилось Ивану Дмитричу. Здесь не росло ни чесноку, ни луку. Лужайка с превысокими качелями, далее яблони и сливы, ягодный кустарник. Боярышня спешила в дальний угол к высокому заплоту, давя палые яблоки.
Вот и ограда. С этой стороны - балясины, взобраться можно, с той же стороны придётся прыгать. А высоко!
Сумерки, как и сама Евфимия, торопятся. Спешат скорее превратиться в ночь. Беглянка сумела ловко перебросить понку через тын, собрав её в комок. Вот взобралась. И осторожно, чтоб не пораниться зубцами острых палей, повисла на руках. Затем зажмурилась, разжала пальцы… Упала мягко, навзничь, в пыль. Однако не ушиблась. Встряхнула понку, накинула… Должно быть, вид, как у монашенки, сбирающей на храм.
Узкий кривой проход между двумя высокими заплотами. Куда идти? Пошла заулками, да переулками, да тупиками. Остановилась, остоялась на площади Заруба. Отсюда крутой спуск к Москве-реке, подпёртый сваями и срубами с наносной почвой. Пониже кучились боярские дворы и среди них - Ивана Ряполовского. Туда не надо. Прошла Ордынский двор, где притаились доносчики-татары, наблюдатели за здешними событиями. Совсем уже впотьмах возвысились пред нею Фроловские ворота. При них подворье Кирилло-Белозерского монастыря. Налево - Афанасьев монастырь, палаты богатого купчины Таракана. Напротив них у караульни с фонарём о чём-то бранно спорят бердышники - ночные сторожа. Евфимия к ним подошла, собравшись с духом.
- Тебе чего, милаха?
- Мне нужен Карион Бунко, рязанский дворянин.
- Хо-хо! Бунко! Ты кто такая?
- Он знает кто.
- Сходи-ка, Данилей, покличь старшого. Осей, не открывай её лица. Карион спуску не даст, коли она его другиня.
Пришёл начальник стражи с фонарём. Бердышники учтиво отступили. Боярышня убрала со лба понку.
- Евфимия Ивановна? О, Господи! - воскликнул Карион Бунко негромко, однако крайне удивлённо. - Что стряслось, боярышня? В каком ты виде!
- Странные у нас с тобою встречи, Карион, - тихо молвила Евфимия. - Странные, зато удачные. Не требуй объяснений. Не время. Будь настолько добр, помоги попасть к дому купца Тюгрюмова, что на Варварке.
- На что купец Тюгрюмов в такую поздноту? - не понимал Бунко.
Евфимия от дальних взглядов стражей снова затупилась понкой.
- Проводи, коль можешь, не расспрашивая.
- Изволь, боярышня. Да не пешком же! Карет у меня нет. Верхом ты не поскачешь.
Евфимия поторопила:
- Дорог каждый миг. Не помнишь, как меня, навершную, встречал у Боровицких врат?
- Осей, выведи пару верховых! - велел Бунко.
И вот они уже в застенье. Остались позади торговые ряды. При свете месяца блеснула в стороне Москва-река из-под моста. Перед глухим щитом чужих ворот остановились.
- Здесь живёт купец Тюгрюмов, - спешился Бунко и спутнице помог сойти на землю. - Я не пытаю ни о чём, боярышня, лишь беспокоюсь: что с тобой стряслось?
- Пришлось покинуть отчий дом при крайних обстоятельствах, - коротко ответила Евфимия.
На стук била сторож за воротами откликнулся и вызвал постоялицу Бонедю.
- Благодарю тебя, любезный Карион, - дотронулась беглянка до руки Бунко. - Моя знакомка уже идёт, даст мне приют.
- Что ещё могу для тебя сделать, Евфимия Ивановна? - спросил кремлёвский страж.
- Не затруднит, так сообщи воротнику Изоту, что я в надёжном месте. Пусть батюшка не беспокоится.
- Ты тоже будь покойна. Передам.
И ускакал надёжный провожатый с поводным конём.
- Една? В ноци? - отворила тяжкую калитку Бонедя.
- Одна. Ночью, - нетерпеливо повторила Евфимия. - Впусти же поскорее.
- Прошэ, - гостеприимно протянула руки полячка. - Чекай, буду замыкаць джви.
- Замыкай дверь. Дрожу!
- В моим покую ест загоронцо, - пообещала Бонедя.
- Хорошо, что в твоей боковуше жарко, - пошла за ней боярышня. - Какой мрачный дом!
- Будынэк тэн походзи з убеглэго веку, - сообщила Бонедя.
- Подумаешь, в прошлом веке построен! Наш дом воздвигнут в позапрошлом, - поддержала разговор беглянка. - Куда идти?
- На фпрост, - указала Бонедя прямо.
Фонарь её светил тускло. Ступени лестницы отчаянно ныли под самыми лёгкими шагами. Наконец хозяйка отворила дверь, за которой мерцал сальный светец.
- Покуй з двома лушками, - похвалилась Бонедя своей одриною о двух ложах. Второе, видимо, предназначалось для возможных гостей. - Чы не ест пани глодна?
- Я не голодна, - опустилась боярышня на гостевое ложе за отсутствием лавки.
- Пероги с сэрэм? - угощала Бонедя.
- Не хочу вареников с творогом. Хочу пить.
- Шклянка воды? - подала Бонедя питьё. - Вода зимна.
- Ничего, что холодная, - залпом осушила кружку боярышня. - Спаси тебя Бог, дорогая пани Бонэдия.
- Прошэ бардзо нема за цо, - удовлетворённо отвечала хозяйка. И полюбопытствовала: - Яка беда зробылась?
Евфимия кратко объяснила свой побег.
- Бардзо зле, - отозвалась Бонедя.
- Знаю, - тяжело вздохнула беглянка. - Однако разреши прилечь. Сил моих больше нет!
Тут шляхтянка доказала, что научилась не только понимать, даже говорить по-русски:
- Заутра приведу амму Гневу, - пообещала она.
- Вот ещё ! - смутилась Евфимия. - Ни в коем разе. Сама скажу, когда сочту нужным.
Бонедя стала возражать что-то не совсем понятное. Под её мягкую чужую речь Евфимия перенеслась в царство сна.
Во сне предстал Карион Бунко, подал от батюшки епистолию. Евфимия трепетно развернула листок пергамента, которым отец не пользовался, предпочитая бумагу, и прочла с ужасом всего-то два крупных слова: «Будь проклята!»
2
Полагья внесла шестисвечный шандал среди бела дня, такого едва-едва белого, что без лишнего света не прочитаешь ни строки. «Помилуй, Господи, сущих в недостаточстве и озлобленных нищетою», - читала Евфимия «Поучения» Феодосия Печерского двухсотлетней давности. Устремив взор горе, она вернулась из прошлого в лето нынешнее, принёсшее ей недостаточство радостей, нищету надежд: расстройство помолвки, разрыв с отцом - незримые раны сердца… Одна радость: боярышня - в отчем доме, пустом людьми и полном воспоминаниями.
Акилина Гавриловна не однажды рассказывала, как изумлённый боярин в несчастный день бегства дочери отложил отъезд, разослал людей по Кремлю и застенью для скорых поисков, да сыщешь ли иголку в стогу? Переданное Изотом сообщение Кариона Бунко успокоило Ивана Дмитрича. Похерив недавний гнев на Акилину Гавриловну, он посетил её с доверительным разговором. Нечем ей было утешить боярина. Пообещала найти свою бывшую подопечную, возвратить домой. С тем старик и покинул Москву. Просто пообещать, сложно выполнить. Изот не мог назвать человека, сообщившего о надёжном убежище молодой госпожи. Возможность укрытия у Бонеди по своей простоте, как часто случается, не пришла на ум. Шляхтянка же, заядлая заговорщица, одолела женскую слабость, сберегла тайну своей затворницы. По чистой случайности амма Гнева сама заглянула к этой лесной «сестре». И вот вам - извольте! Бурный закипел разговор… Полячка напрочь забыла русскую речь. Размолвка между умудрённой жизнью боярыней, шляхтянкой-разбойницей и юной беглянкой всё-таки рассосалась. «Винюсь, Акилинушка свет Гавриловна! - утирала мокрые очи Евфимия. - Однако открой же, ради Христа, какими словами батюшка говорил с тобой. Он проклял меня?» Амма Гнева возложила материнскую длань на её чело: «Успокойся… Сей доблестный муж сотрясался не проклятиями, а рыданиями». Евфимия тем же вечером перебралась в отчий дом, и Полагья омыла её руки слезами…
Дни становились холоднее и холоднее. Зима остудила полузаброшенные хоромы. Отапливались лишь поварня и боярышнина одрина с зелёной образчатой печью, обогревавшей также соседнюю боковушу, где обитала Полагья.
Видеться было не с кем. Лишь изредка наведывались Бонедя или Акилина Гавриловна. В Рождественский сочельник Евфимия выехала к Пречистой отстоять всенощную. Скорбно показалось в ветхом соборе со сводами, подпёртыми брёвнами. Иным видела она этот храм во сне, в пору призрачного царя Алексея Михайловича. Ещё скорбнее почувствовала себя сегодняшняя Евфимия Всеволожская, как бы заняв место покойной Анастасии Юрьевны Звенигородской, врагини бояр Василиуса. Сам он стоял на великокняжеском месте, не глядя по сторонам. Витовтовна истуканшей возвышалась на своём рундуке об руку с пухленькой Ярославной. Вокруг Евфимии была пустота. Боярышня стойко дождалась конца службы, в свой черёд целовала крест, однако же с того дня, как отлучённая, не посещала Пречистой, молилась в домашней крестовой.
От батюшки вестей не было. И не у кого спросить о нём. Послала конюшего Увара с устными речами к отцу. Добрался ли он до Галича? Ни слуху ни духу. В догон ему отправила воротника Изота. Те же последствия. Акилина Гавриловна на сетования боярышни разводила руками. Беспросветными казались зимние короткие дни и долгие вечера. Книга с поучениями Феодосия Печерского перелистывалась всё медленнее. Мысли улетали то в Галич, где при князе Юрии Дмитриче жил инокняженец-отец, то в Кострому, где, по слухам, обитали Косой, Шемяка и младший брат их Дмитрий Красный. Его боярыня Всеволожа совсем не знала. Он рос в Звенигороде, под материнским крылом, вдали от московской жизни. С чего приходил на ум?.. Мысли-то были разные, порою случайные, а чувство лежало на сердце одно-единственное: ожидание… упорное ожидание чего-то… чего-то, скорее всего, тяжёлого.
Повечер прибежала Полагья в крайней тревоге.
- Гости, госпожа! Кареть у ворот. Конная обережь большая. Послала встретить.
- Кто? - поднялась Евфимия.
- Сказывают, княжна Софья Заозёрская с кем-то… мужеска пола. Не ведаю.
- Вели истопить в столовой палате и подать трапезу. Принеси одеться.
Ох, быстра Полагья, не девка - огонь! Пока гости поднялись наверх, поленья в печи пылали вовсю. Одетая влепоту боярышня вышла, поясно кланяясь. Софья же Дмитриевна без обиняков кинулась ей на шею. Добрые отношения завязались у них со дня встречи в Марьиной роще. Позади княжны улыбался молодцеватый Шемяка.
- Рада лицезреть тебя, ясынька!.. Ах, худа стала!
Ах, бледна! Или свет дурной? Или Божьему дню из терема глаз не кажешь?
- Ты-то какими судьбами, Дмитрий Юрьич? - обратилась Всеволожа к Шемяке.
- Я при Софьюшке, как охраныш, - продолжал улыбаться князь. - Вот приехали с братом на свадьбу к Василию. Сами обручились невдавне. Я с Софьюшкой, Вася мой с твоей племяшкой Устиньей.
- Теперь никуда от него не денусь, - влюблённо глядела на жениха княжна Заозёрская.
- Устя обручена с Васёнышем? - удивилась несведущая Евфимия столь приятной для неё новости.
- Ещё как обручена! - щёлкнул пальцами Шемяка. - Резвой ланью скакнула в великокняжеский золотой источень, кругом разложенный на полу, и как закричит звонким голосом: «Захочу - вскочу!» Всё пошло по дедовскому обычаю.
- Почему источень великокняжеский? - не понимала Евфимия. Она сразу догадалась, что речь идёт о золотом поясе, который ей показывала сестрица Анисья.
- Ещё на великом князе, отце Василиуса, я видел такой источень, - ответил Шемяка на её вопрос.
- Я тоже, маленькой была, видела, - припомнила Софья. - Только Устин источень куда богаче.
- Спору нет, - согласился Шемяка. - Васька отплясывал в нём, аки народившийся месяц…
Внесли яства. Гости и хозяйка сели за стол.
- Следом за государевой ещё две свадьбы сыграем. Наших! - потирал ладони Дмитрий Юрьич. - А скоро ль твой праздник, Фишечка?
Княжна Заозёрская глянула с укоризной на забывшегося жениха. Обоим было известно о разрушенной помолвке Евфимии.
- С детства прошу тебя, Дмитрий: не называй меня Фишкой, - сухо произнесла боярышня.
- Ну… ну, ты же называешь, как в детстве, моего брата Васёнышем, - смутился Шемяка. - А я произнёс не Фишка - Фи-и-шечка!
- Поговоримте о деле, - прервала княжна Заозёрская вздорный спор. - Я прибыла к тебе, боярышня Всеволожа, с послугой, - придала она звонкому голосу торжественность. - Марья Ярославна, великокняжеская невеста, передаёт через меня приглашение: хочет видеть тебя на свадьбе.
- Меня? - крайне удивилась Евфимия.
- И не только невеста, - продолжала княжна. - Будущая свекровь её, великая княгиня Софья Витовтовна, просила передать, что забыла прежнюю несогласицу и желает, чтоб ты была близ неё за свадебным пиршественным столом.
Евфимия тут же проникла в тайные мысли хитро-мудрой литвинки: порушенная невеста прибавит свадьбе побольше света своим присутствием. Гости уверятся: прежняя помолвка расторглась по згадце, то есть по обоюдному соглашению. Значит, ни о каком нарушении клятвы великой княгиней вкупе с Василиусом речи не может быть. Побег Всеволожа к Юрию Дмитричу обернётся не естественным возмущеньем, а каверзой. Евфимия обратила взоры к Шемяке.
- Ты уясняешь, что скрывает Литовтовна за переданным мне приглашением?
- Как ты произнесла? Литовтовна? - подпрыгнул от восхищения Дмитрий Юрьич.
- Оговорилась, - махнула рукой боярышня.
- Нет, это не без великого смысла - Литовтовна! - продолжил он смаковать.
- Ты постигаешь, насколько изменятся таимные речи на Москве обо мне, о моём отце? - настаивала Евфимия.
- Ох, смири гордость, заткни уши и закрой очи, - вздохнул Шемяка. - Мы, трое братьев, замирили отца с Василиусом. Твой батюшка не преуспел в своём замысле их рассорить. Не поддержали его ни Борис Тверской, ни дядя наш, Константин Дмитрич. Всем усобица, как нож к горлу. Так что не искушай судьбу. Внучка Голтяихи и Литовтовна, как ты выразилась, дают тебе благой повод примирить боярина Всеволожа с великим князем и его матерью.
- Великая княгиня о-очень довольна, что ты осталась, не уехала с батюшкой, - вставила княжна Заозёрская.
Проводив гостей, Евфимия в глубокой задумчивости сидела за пустым столом, потягивая из кружки горячий вишнёвый взвар. Присутствие постороннего заставило её поднять голову. Уж не сон ли это? Боярышня увидела перед собой их дворского Елентея, покинувшего со своим господином Москву почти полгода назад. Не очень-то привечала она этого мрачного человека русско-татарской крови, сына полонянницы и ордынца. Что таится за его вкрадчивым полушёпотом, никогда не поймёшь. Теперь же она порывисто обняла старого слугу, повеявшего на неё отцовской близостью.
- Рад видеть… Жива, здорова… Сердцу покойно, очам приятно… - бормотал Елентей.
- Отчего ж полгода - ни весточки? Разве можно? - теребила она пропахшего конским потом уставшего, как с того света пришельца.
- Это от тебя ни полвести, милая госпожа. Иван Дмитрич в неиспокое. Где Микита Головня, где Сысой Бурчак, где Маркел Чукса из его обережи? Одного за другим трёх посылал к тебе. Безответно!
- Окстись! Никого из них не было, - испуганно отшатнулась боярышня. - А Увар, а Изот, коих я к вам посылывала?
Дворский уставился на неё, раскрыв рот, потом сел без спросу и долго молчал, расправляя вислые усы по сторонам голого подбородка, поглаживая бритую голову.
- Шишей по лесным дорогам уйма, - промолвил он. - Увар с Изотом к нам не были. Да не могла же достаться всем пятерым одна и та же напасть!
- Как ты-то сюда пробрался? - трепетно спросила Евфимия.
- Стало быть, Бог помог, - поднялся и осенил себя крестным знамением Елентей.
Порешили, что ночь и завтрашний день он проспится и отдохнёт. Повечер перелезет через садовый тын в известном беглянке месте, там будет ждать осёдланный конь. И выпорхнет всадник из кремлёвской крепости не Боровицкими напрямую, а окольно, Водяными воротами.
- Хозяин наказывал привезти тебя, - тёр лоб дворский. - Теперь вижу, небезопасно.
- Небезопасно и не полезно, - уточнила боярышня. - Не ко времени мне покидать Москву. Пошлю с тобой батюшке епистолию. Сбереги как зеницу ока.
Пожелав приятного сна Елентею, она позвала Полагаю и велела с утра привезти Акилину Гавриловну.
Сама же удалилась к себе в одрину и тотчас села за письмо.
Зачин получился легче: дочь каялась в ослушании и строптивости. От сердца слова шли свободнее, нежели от ума. Затем она написала: «Любезный батюшка! Молитвами твоими я жива и здорова. Стужа ещё зелная стоит, и сего числа снег был, и ветры наипаче северные». После долгих раздумий боярышня Всеволожа перешла к трудной сути: «Вернись, батюшка, на Москву. Не попусти гордыне властвовать ни в слове твоём, ни в чувстве. Заказан судьбою путь властоненавистцу. Ибо всякая власть от Бога и Богу ответ даёт». Евфимия вновь подпёрла ладонью высокий лоб, ища и не находя верных слов. «Помоги властодержцу, - заскрипела она пером, - властодержавствовать тихо и безмятежно. Ныне многие мнят себя великими и властвовать хотят, за сие друг друга убивают. Кормчая же Книга наставляет: «Да извержется властолюбец, мучитель бо есть!» Не допусти на Руси шатости, батюшка. Помысли о Новгороде Великом. Сам сказывал: разойдётся новгородская власть, разойдётся и город. Оставайся мудрым огляднем, помятуя слова Флавия, римлянина: «Аще кто приме властительское имя и паки без нужды отступит, то не добромыслен есть». Каждый ли нынешний властоборец достаточно добромыслен?»…
Чёрное оконце сделалось синим, когда писальница запечатала епистолию купорным сургучом.
Проходила через столовую палату в задец и увидела у отверзтой печи греющую руки Мамоншу.
- Акилинушка!
- Птичка ранняя, - добавила о себе боярыня. - Пробуждения твоего жду, Офимьюшка.
На зов явилась Полагья, принесла умыться, распорядилась об утренней трапезе. Бывшая подопечная рассказала пестунье о вчерашних гостях, о прибывшем Елентее. Мамонша пообещала прислать коня и в условное время держать с тыльной стороны сада.
- Давно я подозреваю весьма пристальный догляд за твоими воротами, - тяжело вздохнула боярыня. - Не удумала ли Витовтовна обвинить тебя в сговоре с инокняженцем-отцом, в лазутничестве против своего сына. Подозрительно исчезают люди боярина, везущие от тебя вести или наказы от него. Не Софьиных ли рук дело? Пошлёшь послание с дворским, будь начеку. Хотя и примем меры, всё может статься. Княжна Заозёрская с Юрьичем рассудили верно: Ярославна с Витовтовной дают тебе повод примирить отца с власть предержащими. Я же от себя добавлю: все мы, якобы степенные люди, у властодержцев в холопстве. Ежели ты осталась на Москве, стало быть, остаёшься холопкой Витовтовны. Её волю надобно исполнять. Готовься к дворцовой каше…
3
В восьмой день февраля в Столовой избе с большой трапезной и поварней, что рядом с великокняжескими хоромами, затеялся брачный пир, или каша, как его называли.
Евфимия присутствовала на этом пиру не на месте невесты, а среди званых гостей. Не её прятали на девичнике, накрывая фатами, чтобы жених распознал и выкупил. Не её при выходе из церкви после венчания осыпали хлебом и хмелем. Не её родственник приставлен к невесте, как страж с кнутом, чтобы заявить жениху: «Смотрины даром, а за косу выкуп!» Нет, эти слова говорит Василий Ярославич Боровский, брат Марьи Ярославны. И не Евфимия, а опять же Марья послала митрополиту свадебные дары: убрусец, ширинку и каравай.
Столы источали вытные запахи. Виночерпии разливали напитки из беременных и полубеременных бочек: вина - ренское, романею, горячее, меды - вишнёвый, малиновый, черничный, красный, белый, светлый, лёгкий, пиво - мартовское, приварное…
- Не обращай на себя взоры, ясынька. Хоть пригубь, - уговаривала Софья Заозёрская, придвигая полный фиал.
Евфимия утопала взором в вине и видела на дне фиала Витовтовну. Не ту весёлую, что восседала поблизости от неё по левую руку невесты и, клокоча смехом, беседовала с подсевшим к ней ростовским наместником Петром Константиновичем…
Ох эти проворные Константиновичи, потомки косожского князя Редеди, коего ещё четыреста лет назад в единоборстве одолел Мстислав Тмутараканский! Ивана с Никитой Евфимия знала мало, слышала, что живут на Чудовской улице. О Петре же батюшка сказывал: ловко он ухитрился занять в Ростове место отца, Константина Иваныча Добринского. О чём-то сейчас нашёптывает великой княгине…
На дне фиала мысленно видела Евфимия надменную Софью Витовтовну, что встречала её в пиршественной палате и милостиво изволила посадить поблизости от себя. «Разум возобладал в тебе, ежели остаёшься с нами, - вымолвила она при этом и добавила: - Всякая власть от Бога и Богу ответ даёт. Надобно помогать властодержцу властодержавствовать тихо и безмятежно». Обомлела Евфимия при таких словах. «Откуда тебе известны, государыня-матушка, строки из моего послания к батюшке?» Литвинка прищурилась: «Стало быть, всё-таки с ним ссылаешься?» Евфимия наклонила голову: «Пытаюсь вернуть отца ради мира и общих благ». Витовтовна вскинула подбородок: «Мир при отступничестве тяжёл. Однако жаль, твоя епистолия не дошла. Ваш человек опознан на Владимирской дороге убитым. В лесах шалят! Не сетуй на мою любознательность, послание вскрыли прежде». Евфимия спрятала гнев за подавляемыми слезами. «Поспособствуй, государыня-матушка, прикажи… тело нашего дворского Елентея… доставить в дом… по достою придать земле». Великая княгиня легко кивнула и отошла.
Не постигает в шумном застолье княжна Заозёрская мрачного состояния Всеволожи. А место ли и время кому-либо доверяться? Да и что выскажешь, кроме неосновательных подозрений? Шестеро верных слуг лишились жизней ради того, чтобы басилевс расставил тенёта против их господ. А тенёта пустые! Боярышня, отдавая должное мудрости батюшки, скромно радовалась собственной мудрости при составлении письма, вручённого дворскому.
- Глянь, ясынька, - дёрнула её за рукав Заозёрская, - старший Юрьич на тебя зенки пялит! Хорош твоей племяннице женишок! Спереди - блажен муж, а сзади векую шаташася.
- Ну его, - небрежно отозвалась Евфимия. Давно её донимало назойливое вниманье Косого с мужской половины стола.
- А источень-то золотой на нём! - возбуждалась от выпитого княжна. - Чуть задницу от бархатного полавошника подымет, так и сияет над столом, что утренняя зарница.
- Или вечерняя, - кратко вставила Всеволожа, тщетно вслушиваясь в басовитое жужжание Петра Константиновича на ухо Софье Витовтовне. Гусельники, пискатели и гудцы заполняли уши буйными звуками. До поры их музикия звучала как бы впустую, мешаясь с говором хмельного застолья. Когда же выпорхнули на середину палаты резвые скоморохи и закружилась пляска, говор приутих, головы приобернулись, и степенное общество улицезрело отчаянного Косого. Врезавшись в скопище скоморохов, он сразу же показал такой пляс, что сами искусные кощунники отступили. Ишь, отчубучивает! Золотой источень, стянувший стан молодого князя, так и горит огненной кометой, пролетающей по палате.
Изумлённый жених перестал обхапливать толстушку невесту, счастливую благозаконным браком. Алалыканье гостей совсем смолкло. Только писк, и пипелование гудцов, и дробный топот Косого…
Таимные речи великой княгини с ростовским наместником стали достигать уха боярышни Всеволожи. Она с трудом, однако же разбирала деревянный голос Витовтовны:
- Супруг мой покойный так в завещании написал: «А благословляю сына своего князя Василия… даю ему… пояс золотой с каменьем, что ми дал отец мой, да другой пояс мой на чепех с каменьем, да третий пояс ему ж на синем ремни»…
Гудцы смолкли. Пляска оборвалась. Василий Юрьич, весь красный, слушал поздравления. Его окружили. Евфимия ясней ясного разбирала беседу Витовтовны с Константиновичем.
- Я же и говорю, - увлёкшись, жужжал ростовский наместник, - пояс тот «на чепех с каменьем» суздальский князь Дмитрий Константинович дал свёкру твоему Дмитрию Ивановичу, будущему герою Донскому, за дочерью своей Евдокиею, будущей твоей свекровью. Последний же тысяцкий Вельяминов подменил пояс на великокняжеской свадьбе источнем меньшей цены, а настоящий дал сыну своему Николаю, за которым была другая дочь суздальского князя, Марья.
- Это ты уже сказывал, - нетерпеливо перебила Витовтовна. - Далее что с поясом, далее…
- Далее Николай Вельяминов отдал его в приданое за дочерью, вышедшей за боярина Всеволожского.
Евфимия, глядя в сторону, ощутила на себе быстрый колючий взгляд великой княгини-матери.
- Вон куда ниточка ведёт, вон куда! - прошипела литвинка.
Она ещё что-то говорила, да княжна Заозёрская помешала расслышать.
- Любопытно мне, ясынька, кто будет обогревать Марьюшке свадебную постель, чтобы жених выкупил?
Евфимия знала: одной из родственниц невесты надлежит выполнить этот древний обряд.
- Бабушка Ярославны, Марья Голтяева, стара слишком, - продолжала княжна. - Бабка же по отцу, Елена Ольгердовна, - ох тоща! Постель старыми костьми не согреешь. Уж не знаю, как им и быть…
Всеволожа не отвечала, слушала дальнейшие пояснения Петра Константиновича:
- Иван же Дмитрич, нынешний инокняженец, отдал пояс за своей дочерью князю Андрею, сыну Владимира Храброго…
- За Анисьей, вдовой теперешней? - уточнила Витовтовна. - Далее!
Константинович заговорил тише. Евфимия навострила слух.
- Дошло до меня окольно, что, отъехав к Юрию Дмитричу, Всеволож обручил свою внуку, дочь покойного князя Андрея Владимировича, за Юрьева сына Ваську Косого. Вот пояс и оказался у него. Васька же явился в золотом источне на свадьбу к тому, кто должен по отчему завещанию носить оный пояс, не подменный, а настоящий.
- Мой сын должен его носить! Мой сын и никто иной! - проскрежетала Витовтовна.
Вот она поднялась, обошла столы, вступила в середину палаты, где молодцевал Василий Косой, при виде её удивлённо вскинувший бровь: неужто сама государыня-матушка изволит хвалить его за отменную пляску?
А Витовтовна хвать за пояс:
- Верни ворованное!
- Никак ты подшучиваешь надо мною? - опешил Василий Юрьич.
- Шутил бы с тобою шут! - отвечала Витовтовна, расстёгивая на нём источень. Напоказ всем она вскинула пояс над головой: - Это собственность моего семейства, незаконно тобой носимая!
- Матушка! - вскочил, побелев, Василиус.
- Брат! - обратился Косой к Шемяке. - Мы оскорблены!
- Зашутилась шутка бедовая! - подошёл Шемяка к Косому. - Уходим, брат!
- Два братца одним поясом опоясаны, - донёсся через стол до Евфимии голос Андрея Голтяева, внука знаменитого великокняжеского советника Фёдора Кошки, бездетного сына Марьи Голтяихи.
Княжна Заозёрская глядела на происходящее неверящими глазами, потом выпростала ноги из-под стола, смяв полавочник.
- Старая иродица рехнулась, - отозвалась она о поступке великой княгини-матери и устремилась за женихом.
Косой остановился в дверях, нацелил указующий перст на Витовтову дщерь и вовсеуслышание объявил жениху-венценосцу:
- Попомни: она виновница! Витовтовна презрительно рассмеялась:
- Грозцы грозят, а жильцы живут!
По внезапном уходе Юрьевичей в пиршественной палате возник беспорядочный калабалык. Шумели кто во что горазд. Иные истиха норовили уйти. Большинство выказывало приверженность великой княгине и её сыну.
Близко от Всеволожи стоял старый воевода Илья Иванович Лыков. Склонившись к соседу, он смешал свою белую бороду с белой же бородой боярина Ивана Никитича. Их таимная речь тем не менее достигла слуха Евфимии.
- А золотой-то источень, - шумно шептал воевода Лыков, - не с чёрными ли концами?
- С чёрными? - хихикнул Иван Никитич. - Я почёл было государынину выходку глумом, ан обманулся.
- Глумился волк с жеребцом и зубы в горсти унёс, - погрозил воевода пальцем неведомо кому.
Евфимия одиночествовала в толпе. Уйти одной можно, карета ждёт, да влепоту ли покажется её самоличный уход бешеным очам великой княгини-матери?
- Евфимия Ивановна, дозволь проводить. Здесь уже пир не в пир.
Боярышня обернулась. Подле неё князь Боровский, Василий Ярославич, брат Марьи-разлучницы. Он подошёл к ней не в пример тому случаю у Пречистой, когда Витовтовна согнала её с рундука. Заворожёнными очами глядел он на неё с детства, теперь же опустил очи долу. Возмужав, стал именовать по имени-отчеству.
- Благодарствую на предложении, - улыбнулась ему Евфимия. - Почту за честь покинуть с тобою пир.
Князь пошёл перед нею, высвобождая путь.
- Отчего на обручении своей сестры не присутствовал? - затеяла разговор Евфимия, выходя на крыльцо.
Её спутник резко остановился под ярким факелом.
- Мыслил - то твоё обручение, - трудно вымолвил он. - Марья с бабкой до последу скрывали. Что теперь? Дело прошлое. Кинулся в омут головой. Скороверто сочетался браком с дочкой ближнего своего боярина. Сестре было обручение, мне - венчание…
Он ещё ниже опустил очи, даже отвернулся чуть от боярышни.
Она бережно тронула его руку.
- Пойдём, Василий… Ярославич. Каждому - свой путь в жизни.
Сопутствуемая братом невесты, боярышня Всеволожа по достою покинула великолепную свадьбу, злым умыслом и неосторожностью поистине превращённую в кашу.
4
Двадцать пятого марта в праздник Благовещения у Пречистой Евфимия отстояла службу, как все. После присутствия на великокняжеском свадебном пиру княгини с боярынями не сторонились её. В наиглавнейшем храме в числе лучших людей боярышня Всеволожа нашла подобающее ей место.
Полагья объявила с утра, что в Благовещение весна зиму поборола, медведь из берлоги встал. Каким выдался этот праздник, такова будет и Святая.
Однако не только эти, с детства ведомые, известия принесла в ясный мартовский день Полагья. Накануне она отай виделась с Меланьицей, постельницей Софьи Витовтовны. Узнала: прошлой ночью из Галича примчался известный великокняж человек Василий Кутузов, потомок слуги Александра Невского. Весть принёс, коей давно боялись, с самой свадебной каши, да понадеялись, не грянет гроза. И вот рухнули надежды! Кутузов донёс: Косой с Шемякой спроворили, чего не смог Всеволожский. Князь Юрий Дмитрич сызнова поднят против племянника. Правда, Борис Тверской и Константин Дмитрич, брат Юрия, не примкнули к делу. А и без них вятчане, костромичи составили с галичанами превеликую силу. Эта сила уже в Переславле во главе с самим князем Юрием, его сыновьями и мятежным боярином Всеволожским, многоопытным их советчиком.
После этих-то новостей Евфимия решилась идти к Пречистой. Нет, не без долгих раздумий, холодно, как отец в спокойном глубокомыслии, рассудив, что у неё не отнимут праздника. И ничуть не ошиблась. Те, кто по положению с нею верстался, на поклоны отвечали поклонами. Те же, кто выше, - доброжелательными кивками. Глянула выспрь: сама великая княгиня-мать благозрит на неё со своего рундука.
После службы остановил её светлоликий юноша, сущий ангел, от коего исходили чистота и смирение.
- Боярышня Всеволожа, великая княгиня-мать просительно и неотложно приглашает пожаловать в её терем, в палату крестовую.
- Кто ты? - глянула она в отрешённые, словно иноческие очи.
- Корнилий, слуга великой княгини Марьи Ярославны.
- Не знала возле неё таких слуг, - наморщила лоб боярышня.
- Я здесь новик, - был ответ. - Мой батюшка ростовчанин Феодор с недавнего живёт на Москве. Мой дядюшка Лукиан…
- Ах, ты племянник Марьина дьяка, дитя боярское, - перебила Евфимия и, как бы не желая быстро расстаться, спросила с лёгкой улыбкой: - Больше ничего мне не скажешь?
Корнилий не по-земному то ли произнёс, то ли мысленно в неё вложил:
- Поезжай, не бойся.
- Не под дворянской бы шапкою тебе жить, а под клобуком, - невольно вырвалось у Евфимии.
- И тебе, сиротинка круглая, - услышала она странный ответ.
Вскинула голову, нет Корнилия.
«Отчего круглая?» - задумывалась она, едучи в дом Витовтовны. Не мог слуга Марьи не знать о её отце. Очевидно, оговорился.
В крестовой Софьиной, куда её провели, боярышня склонилась пред ликом Спасителя: «Господи, к тебе пребегох…»
- Не попомни моего зла, - услышала она знакомый старушечий голос за спиной. - Лелею надежду по-христиански упросить: за обиду отплати угождением. Съезди к батюшке в Переславль, упроси боярина Иоанна вернуться, исходатайствуй прощение для меня и для сына. Сама-то простила ли? - заглянула старуха в глаза боярышни.
Не находя слов, Евфимия низко склонилась перед ней.
- Помолимся о благополучии твоего пути, о даровании общего мира, - предложила литвинка и первая пала ниц.
Боярышня опустилась рядом в земном поклоне: «Господи, сумею ли я, достанет ли сил?»…
- Получишь крепкую обережь, - деловито зазвучал голос княгини уже над нею. - В лесах шалят!
Последние, прежде слышанные от Витовтовны слова напомнили о судьбе дворского Елентея.
- Матушка-государыня, - поднялась боярышня с колен. - Тело нашего человека, коего нашли убитым в лесу с моим посланием батюшке… Ты обещала… доставят… предать земле.
Витовтовна долго не отвечала.
- Запамятовала, - наконец вымолвила она. И посуровела: - Мысли сейчас не те. Размётные грамоты Юрием уже присланы. Вот возвратишься поздорову…
Евфимия сухо отозвалась:
- В обережи мне нет понадобья.
- Карета без обережи - дверь без замка! - удивилась Софья.
- Верхом поеду, - сообщила Евфимия.
- Одна? - прищурилась старуха.
- Вдвоём, - смутилась Евфимия.
- Дозволь Ефрема Картача, нашего храбреца, нарядить с тобой, - попросила Витовтовна. - Шишишка краковская, что Иоанну Даркову из тебя творила, - неважный страж. Картач же воин отменный!
«И доводчик отменный», - подумала Всеволожа, однако спорить не стала.
5
Вбежав к Бонеде, Евфимия наткнулась на грозный крик:
- Прошэ пукаць!
- Недосуг пукать! - рассердилась боярышня. - Смотри-ка, вошла без стука! Слушай, что скажу…
Выслушав, полячка спросила:
- Кеды пани хцэ выехаць?
- Нынешней ночью, - отвечала Евфимия.
- Бардзо добже, - кивнула Бонедя.
На лице же шляхтянки было написано: «бардзо зле». Это не насторожило Евфимию, занятую своими мыслями.
В карете Полагья зашепталась с полячкой.
- О чём вы там? - прислушалась Всеволожа.
- Половины не разумею, - проворчала сенная девушка. - Однако же ехать ей с тобою никак нельзя.
- Нельзя? - не понимала Евфимия.
- Нельзя, - поникла Полагья. - Она в поре.
- В какой поре? - переспросила боярышня. И испугалась: - Уж не брюхата ли?
- Ой, грех с вами один! - хихикнула Полагья. - Рубашечное у неё. Плотное.
- Фух! - выдохнула боярышня. - Напугала без разума…
Тонкую женскую беседу прервал грубый гул толпы. Нарастая, он разразился за рядами торговой площади у Фроловских врат.
На высоком деревянном помосте, где с недавних пор за особо большие вины прилюдно били кнутом, возвышались двое. То один, то другой, витийствуя, размахивали руками. Толпа отвечала враждебным криком.
Сидевший на облучке Ядрейко, нанятый Всеволожей вместо погибшего конюшего Увара, вынужден был остановить карету, затёртую людьми.
- Кто эти щепетно изнаряженные витии? - полюбопытствовала Евфимия.
- Замоскворецкие дворяне Колу даров и Режский, - присмотрелась Полагья.
- Ты как их знаешь? - удивилась боярышня.
- К батюшке твоему заходили перед его отбытием из Москвы.
Сенная девушка, проворно приоткрыв дверцу, выскочила в толпу. Евфимия не успела ухватить подол её платья. А через минуту-другую совсем поблизости раздались угрозы:
- Кареть изменника Всеволожа!.. Круши её!..
Чей-то посох ударил в дверцу. И хотя крепкое дерево устояло, половина боярского герба, прибитого к дверце, напрочь отскочила, отколотая. Герб состоял из двух птиц, орла и орлицы, различаемых тем, что орёл побольше, а орлица поменьше. Второй удар мог бы и саму дверцу разнести. И худо пришлось бы боярышне и её подруге, судя по озверелым лицам вокруг кареты.
- Нема чем биться! - сокрушалась Бонедя. Тут-то и прозвучал громовой голос Ядрейки:
- Ат-вали!.. Ат-вали!..
Удары его бича посыпались на возбуждённые головы близстоящих. Четверня дёрнула. Раздались вопли попавших под колеса. А карета уже неслась в распахнутые ворота под защиту кремлёвских стен.
Сойдя на землю в своём дворе, Евфимия обнаружила, что от семейного герба отбит орёл, осталась одна орлица.
- Спасибо тебе, Ядрейко! - поблагодарила боярышня нового конюшего.
Тот отозвался:
- Не на чем.
Полагья явилась повечер в изодранном платье.
- Ой, вырвалась, как душа из ада! - плюхнулась она на лавку в боярышниной одрине, где лежала Бонедя, положив на живот пузырь с горячей водой. Евфимия сидела подле неё.
- Пошто из карети выскочила? - спросила боярышня свою девушку.
- Любопытство прежде нас родилось, - отвечала Полагья. - Услышала, как Колударов с Режским вещали: скоро-де Юрий Дмитрич, сын героя Донского, овладеет по праву великокняжеской шапкой. А московляне в ответ: «Не хотим галицких князей!»
- Какие московляне? Отборные?- спросила Евфимия.
- Нет, - затрясла головой Полагья. - Случайные. Ну, ремесленный люд: кузнецы, серебряники, медники, лучники, седельники, тульники… И ещё пошлые купцы.
- Пошлые купцы? - не понимала Евфимия.
- Ну, самые богатые, - объяснила Полагья, - что большую пошлину платят. Меня, слава Богу, никто в толпе не узнал. А то кричали: «Долой изменника Всеволожа!»
Евфимия опустила голову.
- Чем им князь Юрий не по душе? - спросила Полагья.
Дочь Всеволожского попыталась ей обстоятельно разъяснить, что народ московский предпочитает наследование власти по-новому, от отца к сыну, когда князь остаётся здешним и окружение его прежним. Ежели же переймёт власть не сын, а следующий по старшинству брат, князь удельный, он и сам москвичам не близок, и к чужому чиновничеству с боярством, что с ним нагрянут, надобно приноравливаться долго и трудно. Полагья поняла ли, не поняла, махнув рукой, пошла собирать госпожу в дорогу.
- Что мне делать с Бонедей? - вышла следом за ней Евфимия. - Боли её хватают в крестце и внизу живота, в бедра отдают…
- Бывает такое, Офимочка, с нами, бабами, - по-сестрински обняла госпожу Полагья. - С тобой, со мной - нет, а с иными бывает, знаю. И полощет, и в жар кидает, и по нужде гоняет. Вот и твоей полячке худо. Давеча в карети причитала, обезумев: «Яду! Яду!»
- Не яду она просила, - тихо засмеялась боярышня, - а волю свою выражала: еду!
- То-то что «еду!», - проворчала Полагья. - Отлежалась бы до трёх дён.
Вечером заявился Ефрем Картач на караковом жеребце и во всеоружии.
- Надёжный конь! - издали заметил Ядрейко, однако, разглядев прибывшего, тут же ушёл в конюшню.
Узнав, что отъезд откладывается на три дня по болезни одной из путниц, улыбчивый Картач помрачнел, да быстро преобразился и, потирая руки, промолвил:
- К добру, к добру! Скорейшего выздоровленьица её милости.
По его отбытии конюший пришёл на боярский верх и без обиняков заявил:
- Не езди, госпожа, вкупе с этим фертом. Скверный человек.
Евфимию огорошил такой совет.
- Тебе-то он как знаком?
- Не езди. Скверный, - не отвечая на вопрос, повторил Ядрейко.
- Знаю, что скверный, - согласилась Евфимия. - А делать нечего. Человек великой княгини. Каким случаем ведом он тебе?
- Долгая песня не вдруг поётся. А совет помни, - пробормотал конюший, уходя.
Боярышня не вняла предостережению: не нашла выхода из воли Витовтовны.
На третий день воспрянувшая духом Бонедя потребовала:
- Чы мощно трохэ млека, сэра, сьметаны?
Ко времени повторного прибытия Картача она была на коне. Ядрейко исчез куда-то. Пришлось Бонеде седлать буланого для Евфимии.
Выезжали потемну.
Ефрем достал из-за голенища фляжку и хлебнул на дорожку. Учтиво предложил Бонеде. Та отвернулась.
- Не чшэба.
- Не надо, так не надо, - фыркнул Картач. Полагья обняла госпожу с её спутницей.
- Сохрани, Господь!
6
Скачка длилась всю ночь. Передышки, даваемые коням, были коротки. Картач, не имея времени развести костра, согревался из своей фляжки. На последнем привале он подошёл к Бонеде, сидевшей на палом бревне у обочины, и разнузданно предложил:
- Проше, пани, до лясу! Шляхтянка возмутилась:
- Пся крев!
- Ефрем! - возвысила голос Евфимия. - Веди себя по поставу!
Подвыпивший охраныш хихикнул.
- Я понарошку, а она обзывается.
Занимался рассвет. Лес, обступивший Ярославскую дорогу, был по-зимнему холоден, по-весеннему сыр. Снег ещё не везде стаял. В серой березняковой стене местами чернела хвоя.
Едва всадники чуть отъехали от своего становища, впереди послышался шум. Чёрная великанша сосна рухнула поперёк дороги. Евфимия натянула поводья. Скакавший позади Картач тоже остановился.
- Спона! - закричала Бонедя, поравнявшись с боярышней и не осаживая коня. - Фпшут! Фпшут! - приказала она.
- Вижу, что преграда, - поскакала рядом боярышня. - А куда вперёд? - удивилась приказу.
- Не хвестись! - прикрикнула Бонедя.
- Я и не дрожу, - оправдывалась Евфимия. - Дороги-то нет. Спона же впереди!
- Скок делай, скок!
Это прыжок на языке шляхтянки-разбойницы. Вонзив шпоры в бока коню, полячка разогналась и перемахнула уроненную сосну.
Евфимия последовала её примеру. Конь взвился, как в сказках сказывается, «выше дерева стоячего, чуть пониже облака ходячего». На миг увиделись сверху бородатые образины затаившихся в густыне лесных шишей, а в следующий миг, припав к конской холке, уже она догоняла свою наставницу. Путь стал свободен.
Оглянулась: позади дорога пуста. Стало быть, Картач не одолел споны на своём караковом жеребце и мучается сейчас в руках шишей. Евфимия устыдилась, не найдя в сердце жалости к этому серпоусому, откормленному храбрецу, главнейшему сберегателю великой княгини.
Бонедя зачем-то придержала коня, дождалась её. А ведь проскакали немного. Хотя погони и нет, время ли успокаиваться?
- Ехай фпшут меня, - почти по-русски заговорила Бонедя. - Точка в точку! - показала она. - Буду прикрываць…
- От кого прикрывать? - Евфимия повела глазами за взглядом Бонеди и увидела далеко позади приближающегося всадника.
- Один преследователь, - хмыкнула она.
- Един, два, тши, - предположила Бонедя. - Кильки будэ, не вем.
Конечно, она права: за видимым одиночкой могут скакать другие, покуда ещё не видимые.
Полячка переместила щит на спину, пригнулась и последовала точно за боярышней, чтобы прикрыть в случае стрельбы.
- Острожне, острожне, не выхыляць се! - кричала она, когда Евфимия высовывалась вправо или влево. - Счшэляне! - услышала боярышня предупреждающий крик. И рядом просвистела стрела.
Стало быть, их нагоняли, по ним стреляли. Оборотилась чуть-чуть: тот же одинокий преследователь. Бонедя скакала, тоже обернувшись из-за шита. Всеволожа удивлённо приметила: она держит не лук с натянутой тетивой, под её рукой не колчан со стрелами наготове. Чёрный ствол с отвислой рукоятью целит она в нагоняющего их всадника. Что за притча?
Грохнул как будто гром. Возник и рассосался клуб дыма.
- Оле! - победно воскликнула шляхтянка-разбойница.
Бонедя, остановив коня, спешилась. Евфимия подскакала к ней.
В руке полячки ещё дымился чёрный стальной ствол.
- Что это? - спросила боярышня.
- Пишаль, - сказала Бонедя и тут же поправилась: - Пишчаль… пищаль…
- На пищалях скоморохи играют, - покачала головою боярышня.
- То привёз из неметчины Конрад Фйтингор, рыцарь, - сообщила полячка. - Меня учил. Пуфф!
- Дурная воня от твоего снаряда, - заметила Всеволожа.
- Порох, порох! - поясняла Бонедя.
А сама уже шла по дороге назад, ведя коня в поводу. Евфимия следовала за ней.
Всадник лежал посреди дороги, издавая тяжкие стоны. Приближась, боярышня ахнула от изумления. Пред ними корчился в муках не лесной тать, а Ефрем Картач. Он держал руки на животе, испачканные в крови. Видимо, чуть приподнялся на стременах, стреляя. Этим спас грудь. Рядом валялась лярва, надетая им на лицо из боязни быть узнанным даже издали.
- Где же его караковый жеребец? - спросила Евфимия. - Как ты его по жеребцу не узнала?
Бонедя затрясла головой:
- То нет! То нет! Под ним другой конь. Утекал до лясу, - она показала в лес, куда, видимо, бежал конь, испугавшись необычного выстрела.
- Ой, горю! Ой, спасите… - причитал раненый. - Далеко ль до ближней деревни?
- Як далеко до вси? - повторила Бонедя его вопрос по-польски. - Сказывай, потшему счшэлял? - Картач, не отвечая, стонал. Она спросила нетерпеливо, приставив дуло своей пищали к его груди: - Як длуго бэндэ мусяла чэкаць?
- Я скажу, - выдавливал из себя Ефрем, глотая слёзы. - Намеревался… убить тебя.
- Её?- воскликнула Всеволожа, забыв весь ужас от лицезрения умирающего охраныша. - За что её, не меня?
- Тебя… пока… нет, - лепетал Картач. - Её… в угожденье… государыни-матушки.
- На что Софье Витовтовне её смерть? - допытывалась Евфимия.
- Не сказывала на что… Обмолвилась только: «чтоб сдохла»…
- Как миновал разбойников? - забывшись, теребила его плечо Всеволожа.
- О-о-о! - стонал раненый. - Они должны были нас пленить. Я… убежать с тобой… Её - им… Деньги - на кон! И вот… не случай. Хотел поправить…
Евфимия поднялась и увидела застрявшие в щите Бонеди две стрелы.
- Ты бы убил её, я бы тебя убила, - с презреньем глянула она на охраныша.
- Я бы вернулся… потом нагнал… сказал, что убил… лесной шиш, - едва шевелил губами Ефрем.
- Цо он мцви? - не всё понимала Бонедя.
- Говорит, - попыталась объяснить Всеволожа, - он намеревался убить тебя. Витовтовне, видишь ли, твоя смерть по нраву. Как я разумею, с лесными шишами он сговорился за те три дня, что ты была нездорова. Стало быть, тати у них в наёме.
- То правда, то правда! - подхватила Бонедя. - Ядрейко вчора до меня был, он мувил, то правда.
- Откуда Ядрейко знает? - спросила боярышня.
- Не вем, - исчерпывающе отвечала полячка.
- Душу… на покаяние! - умолял умирающий. Евфимия отвернулась.
Бонедя тем временем подошла к Ефрему.
- Пшэ прашам, шабли нэма. - Извинясь за отсутствие сабли, она приставила к его голове пищаль.
- Окстись, иноверка! - собрав все силы, завопил Картач. - Ты мне не судья!
- Я тебе сэндзя, - возразила Бонедя и выстрелила. Евфимия бросилась к ней, да поздно.
Тишина повисла на пустынной дороге. Ни крика, ни стона.
- Хай йдэ до дьябла, - потащила Евфимию шляхтянка-разбойница в сторону от мертвеца.
- Ты… ты человека убила!
- До видзэня у иншем миру, - обернулась Бонедя к убитому, а Всеволоже сказала: - Був человек, стал персть, прах земный по-русски, - и подсадила спутницу в седло. - Тикаць швыдче!
Обе скакали, словно преследуемые, хотя никто их не нагонял. И сосен никто больше не валил перед ними. Бонедя спрятала свою пищаль в пустое туло для стрел.
- Троица! - воскликнула Всеволожа, увидев церковные маковки, блистающие на солнце из-за высокой монастырской стены. - Теперь и Переславль недалече.
Однако до Переславля им скакать не пришлось.
7
У стен Дома Преподобного Сергия, как часто называли Троицкий монастырь, образовался шатровый посад с полотняными улочками и тупичками. Дым от костров, кипятящих котлы с варевом для воинов, стлался по земле, как от неугодной жертвы. Людской гомон тяжелил воздух.
У заставы, охранявшей стан, всадницы остановились.
- Улица замкнента? - растерялась Бонедя.
- Гляди-ка, девки верхами! - разинул рот бородач с бердышом.
Евфимия спешилась, подошла к рогатке. Заставщики глядели хмуро.
Со стороны стана подходил юноша в узком кафтане до колен, богато украшенный высокий воротник-козырь твёрдо стоял под затылком. К вящей радости Евфимия узнала в юном дворянине Корнилия. Он, видимо, тоже узнал её, молвил несколько слов старшому заставы, и рогатка приотворилась.
- Здравствуй на много лет, дочь нашего боярина Всеволожа! Милости прошу! - снял шапку заставщик.
Евфимия и Бонедя, ведя в поводу коней, пошли рядом с Корнилием.
- Слава Богу, что мы повстречались вновь, - улыбалась московскому знакомцу боярышня. - Да как же ты здесь оказался?
- Запамятовала, Евфимия Ивановна? Сама же посулила мне клобук вместо дворянской шапки, - напомнил юноша. - Вот я тотчас и ушёл от молодой великой княгини, несмотря на отговоры дяди и батюшки. Решил пробираться в Вологодскую землю в Кириллов-Белозерский монастырь и постричься. В Доме Преподобного Сергия сделал остановку. Рать сюда нагрянула внезапь. Люди тут нужны для пригляду. Вот и несу первое послушание.
- Да я давеча пошутила о клобуке, - оправдывалась Евфимия. - Ты вот назвал меня круглой сиротой. Оговорился, что ж из того?
- Почуял и произнёс, - не отказался от прежних слов Корнилий. - Стало быть, и в тебе чувства высказались. Им верить надобно.
- Да что ты, как не от мира сего? - попеняла ему боярышня.
- Не от мира сего, - эхом отозвался будущий инок. - Трудно было мне во дворце подозрительного Василиуса, судроглазки Марьи Ярославны, злицы Софьи Витовтовны. Не люб я стал. А был бы от мира, мир своего любил бы.
- Куда же ты нас ведёшь? - осматривалась Всеволожа.
Корнилий перенял у спешенных всадниц коней, окликнул проходившего послушника, объяснил, куда их доставить. Тот удалился, держа по поводу в каждой руке.
- Ой, сколько мы натерпелись за истекшее нощеденство! - пожаловалась Евфимия на тяжёлые сутки, намереваясь рассказать о пережитых злоключениях, коих причиною был отчасти и сам Корнилий.
Однако у башенных монастырских врат, где сгустилась толпа, происходило, должно быть, нечто сверхважное, ибо юноша, судя по его взгляду, всеми помыслами был там и на слова боярышни отвечал туманно:
- Таково человеческое житие, яко сонное видение: овогда видит человек во сне добро, овогда зло и, встав, мало помнит и рассуждает…
- Что происходит у ворот? - обеспокоилась Евфимия, ибо они направлялись именно туда.
- Между боярами брань великая, слова неподобные, - отвечал Корнилий.
Толпа, сдерживаемая бердышниками, огибала ворота толстой плотной подковой, молчаливо и жадно ловя каждое слово, внутри этой подковы произносимое. Пробраться внутрь было нелегко. Корнилий ради своих спутниц трудился рьяно, терпел рык и скрежет зубовный, продвигаясь на малую толику ещё и ещё.
- Довле, довле! - останавливала задыхавшаяся Бонедя. - Тмочисленное людство! - пугалась она.
- Тщаливый у нас проводник! - хвалила Всеволожа усердие Корнилия и терпеливо следовала за ним.
Вот они уже у бердышного кольца. На пустом пространстве перед воротами стояли друг против друга две сановные группы. В одной боярышня узнала отца и князя Юрия Дмитрича (Боже, как поседел после кончины супруги Анастасии Юрьевны!), а также его сыновей, Косого с Шемякой, окружённых своими боярами. Противную группу составляли двое. Евфимия вроде бы и встречала их в толпе молящихся у Пречистой, а не признала.
- Это московские воеводы, Фёдоры - Товарков и Лужа. Присланы сюда с ласковыми речами, - пояснил Корнилий.
Две супротивные княжеско-боярские группы разделяла третья, монашеская. Её возглавлял высокий сухой чернец в архимандритском клобуке. Как поняла Всеволожа, настоятель монастыря.
Пререканиями грозный спор назвать было мало. Каждая из двух групп проявляла своволю, буйствовала, теряя меру. Лишь промежуточная, монашеская, хранила тягостное молчание.
- Ищу моё место, занятое не по поставу. И доищусь! - кричал Юрий Дмитрич.
Чужой земли ищешь, своей не охабив! - горячился Товарков.
- Вольно тебе поджигать усобицы, - вставлял своё лово Лужа.
- Моего не отдам! - стоял стеной сын Донского. Игумен выступил из среды братии, обратясь к галицкому князю:
- Здесь не говорят: это - моё, это - твоё; отсюда изгнаны слова сии, служащие причиною бесчисленного множества распрей.
Юрий Дмитрич осёкся. Возникла тяжкая тишина, наполненная дыханием толпы. Затем князь начал речь тихо, с укоризной глядя на игумена:
- Авва Зиновий! Иоанн Златоуст такое говорил не князьям, а инокам. Ты же, укоряя меня, запамятовал, как после Эдигеева разорения я вместе с покойным игуменом Никоном пришёл на развалины сей обители и помог поставить на месте сожжённого новый храм Живоначальной Троицы, весь из белого камня.
- Памятую, - отвечал игумен. - Однако ж судибоги мирские и за нашими стенами слышны.
- Что есть судибоги? - спросила Всеволожа Корнилия.
- Плач, жалобы, стон народный, - ответил он.
- Не возбранишь же ты ненависть порицать, - продолжал игумен. - Ибо в Притчах Соломоновых сказано: «Ненависть возбуждает раздоры».
- А какой лютой ненавистью они там ненавидят меня! - ткнул перстом Юрий в сторону Москвы. - Сын Василий к ним с миром пришёл. Пировал на великокняжеской свадьбе. Они же отпустили его с бесчестьем. Пусть безрассудные пострадают за беззаконные пути свои и неправды свои!
Тут Фёдор Лужа снова встрял в спор, на сей раз не надрывным, а мирным голосом:
- Ты, княже, свою правду сказываешь, мы - свою. Христианам чрез это великое кровопролитие происходит. Так посмотри, княже, повнимательнее, в чём будет наша правда перед тобою, и по своему смирению уступи нам.
- Приобретёшь себе спасение и пользу душевную смирением своим, - поддержал Лужу Фёдор Товарков.
- Будь мудр, - примкнул к ним игумен Зиновий. - Ибо сказал Екклесиаст: «Мудрость лучше воинских орудий, но один погрешивший погубит много доброго». А псалмопевец прибавил: «Не спасётся царь множеством воинства».
Юрий Дмитрич задумался. Боярин Иоанн Всеволожский, приближась, вразумил его на ухо. Князь, обратясь к воеводам московским, заговорил с прежней гордостью:
- Ваша правда - неправда! А, как сказал праведник Иов, «ненавидящий правду может ли владычествовать»? Вот и ваш князь Василиус начал худо. Не умел повелевать, как отец и дед его повелевали. Терял честь и державу. Малодушный, жестокосердый, свирепый! Почему поднимаю против него мой меч? Потому, по словам псалмопевца, «чтобы не торжествовали надо мною враждущие против меня неправедно, и не перемигивались глазами ненавидящие меня безвинно».
- О, сосуд зла! - вскинул руки Фёдор Товарков. - И ты ещё хочешь властвовать над нами!
Тут громом возвысился над толпой внятный старческий голос:
- Образумьтесь, бессмысленные люди!
- Григорий!.. Григорий!.. - волнами прокатился изумлённый и восхищенный шёпот.
На середину круга вышел согбенный старец, поддерживаемый двумя монахами.
- Кто это, кто? - спрашивала Евфимия.
- Это Григорий Пелшемский, - пояснил ей на ухо Корнилий. - Вологодский подвижник из рода Лопотовых, галических бояр. Всем враждотворцам необинующий обличитель. Молитвенник пустынного жития. Провёл десять лет в затворе.
- Мощи, мощи! - поражалась Бонедя, глядя на старца.
- Весьма древен! - согласилась с нею Евфимия.
- Нынче сто десятое лето живёт на свете, - с почтением сообщил Корнилий.
- Каково здравствуешь, князь? - обратился к Юрию Дмитриевичу Григорий Пелшемский.
- Божьими судьбами да твоими молитвами, - был ответ.
- Куда ведёшь столько войска? - вопросил старец.
- На Москву, - ответил галицкий властелин.
- Не делай безумия! - возгласил Григорий. - Ты властен в отчине своей, от Бога поставленный унимать людей от лихих обычаев. Не осердись на мои слова. Слышу, что Божественное Писание сам вконец разумеешь, читаешь и знаешь, какой нам вред приходит от похвалы человеческой. - При этом старец сурово глянул на Всеволожского. - И я из Писания же тебе скажу, - вновь обратился Григорий к князю, - словами пророка Исайи: «Беззаконному - горе, ибо будет ему возмездие за дела рук его». А древнюю притчу вспомни: «От беззаконных исходит беззаконие». Сам поразмысли, сын мой: если в корабле гребец ошибётся, то малый вред причинит плавающим, если же ошибётся кормчий, всему кораблю причинит пагубу. Если кто из бояр согрешит, повредит этим одному себе, если же сам князь, то причинит вред всем людям. Возненавидь, сын мой, всё, что влечёт тебя на грех, бойся Бога, истинного царя, и будешь блажен.
Вновь Всеволожский перешепнулся с Юрием Дмитричем. Тот громко заявил:
- Верно пророк Иеремия рек: «Пастыри сделались бессмысленными».
- Ты хочешь, - возвысил голос Григорий, - чтоб и такое пророчество Иеремии исполнилось: «И на земле будет насилие, властелин восстанет на властелина»?
На это Юрий Дмитриевич ничего не ответил.
- Не к таким ли, как ты, обращался апостол Иаков, - продолжал старец. - «Откуда у вас вражда и распри? Не отсюда ли, от вожделений ваших, воюющих в членах ваших? Желаете - и не имеете, убиваете и завидуете - и не можете достигнуть, препираетесь и враждуете - и не имеете»…
Внезапно для всех галицкий властелин подступил к старцу с поднятыми горе, трясущимися кулаками:
- Доколе посхимленные потомки бояр Лопотовых будут меня учить жить? Изведись отсель!
Монахи увлекли старца. Игумен с братией удалился.
- Проклятый племянник, в грех меня ввёл! - опомнившись, сокрушался Юрий Дмитриевич.
Фёдор Товарков не утерпел уколоть его:
- В Притчах Соломоновых сказано: «Как воробей вспорхнёт, как ласточка улетит, так незаслуженное проклятие не сбудется».
- А ещё в тех же Притчах, - не утерпел поддержать товарища Фёдор Лужа, - «у глупого тотчас же выкажется гнев его, а благоразумный скрывает оскорбления».
Тут лопнуло терпение безмолвствовавших из последних сил Косого с Шемякой.
- Если наш отец глуп, - закричал Косой, - то вы будете мертвы!
- Сгиньте с глаз! Истребим с жалкой вашей охраной! - вторил ему Шемяка.
Оба воеводы не заставили себя ждать. Кони их были наготове. И зарогаченная застава не помешала. Буйный клуб пыли пополз по Ярославской дороге в сторону Москвы.
Догонять неудачливых посольников распоряжения не последовало.
- Гдзе се бэньдзе можна зачшимаць на ноч? - спросила Всеволожу Бонедя.
- Где переночевать тебе? - Евфимия сжала руку полячки. - Там же, где и мне.
- Я провожу вас к покоям боярина Всеволожа, - пообещал Корнилий.
- А сам ты, светлый юноша, - спросила боярышня, - куда направишь стопы?
Их ангел-хранитель закинул голову и ушёл мечтательным взором в голубой мир небес.
- На моё счастье, - ответил он, - подвижник Григорий Пелшемский Божьим промыслом оказался здесь. Испрошу благословения вместе с ним добраться до Вологды. Он направит меня в обитель.
Втроём вошли в ворота монастыря. Евфимия истово трижды перекрестилась на золото крестов в голубизне неба. Бонедя, как агарянка, любопытно смотрела по сторонам.
8
- Опомнилась!.. Добралась!..
Иван Дмитрич прижал дочь к широкой груди, и она впервые за много месяцев почувствовала себя хорошо.
Покои боярина в монастырской гостевой хоромине состояли из двух палат, соединённых сенями, имели отдельный вход. В сенях и произошла встреча. Всеволож только что переоблачился в домашнее: поярковый колпак и сорочку, расшитую по воротнику и рукавам шёлком и золотом. При виде ослушной дочери на его лице и следа суровости не возникло. Радость покрыла всё.
Евфимия, оторвавшись от отцовой груди, обернулась. Корнилия уже не было. Насупленная по-сиротски Бонедя оставалась в сторонке.
- А, старая знакомка? - покосился на неё боярин. - А где Полагья?
- Полагья осталась дома. Пани Бонэдия охраняла меня в пути, - боярышня взяла наперсницу за руку, подвела к отцу.
- Этакая козявка учила тебя воинскому искусству! - скривился он. - Учила курица порося летать!
Бонедя надула губы.
- Пан се помылил!
- А, поняла? - усмехнулся боярин. - Ну дай Бог, коли ошибся. - И повелел обеим располагаться в его одрине, куда им доставят притороченную к сёдлам поклажу. Скоро предстояла вечеря в столовой палате, что через сени, напротив.
Старый московский слуга Кумганец принёс и развязал торока, подал умывание. Он, как показалось Евфимии, через край огорчён тем, что Полагья осталась дома.
По случаю великопостного времени вечеряли кислой капустой, белорыбицею со сливами, пирожками на конопляном масле и брусничной водой.
- Як се пани чуе? - по-кавалерски спросил Бонедю Всеволож.
- Дзенкуе добже, - ответила она.
- Прошэ до столу, - пригласил он. Видя, что капуста не тронута ею, спросил:
- Чы не смакуе пани?
- Кфасьна, - ответила она, принимаясь за белорыбицу.
- Чшэба добже зъесьць, - поощрил её боярин.
- То бардзо смачне, - откликнулась гостья, опустошая блюдо.
- Ковалэчэк хлеба? - предложил Иван Дмитрич. Так они изъяснялись миролюбиво и чинно, пока шляхтянка, допив воду, не поднялась и не объявила, что уже «питома», то есть сыта. Боярин не обратил внимания на нарушение порядка вставать из-за стола прежде хозяина. Тем более что Бонедя оправдалась усталостью, извинилась, прежде чем удалиться в ложню. Отец рад был остаться наедине с дочерью.
- Лба не перекрестила латынка, - проводил он взглядом ушедшую.
- Пятиперстием осенилась, на икону не глядя, - уточнила Евфимия.
- То-то, не глядя, - проворчал Всеволож. - На чужой стороне на многое не глядится. Вот ты не одобрила моего возбуяния против наших обидчиков, - продолжал он, нахмурясь. - А ведь нам грозит такое же нестроение, как и ляхам. И побегут наши боярышни да княжны в чужие край, и останутся сиротинками, как твоя шляхтянка.
- У Бонеди особый случай, - вставила Евфимия. - А от усобицы нестроения ещё больше, нежели от плохого правления.
- Усобицы и не будет, - оспорил её Иван Дмитрия. - К нам переходят лучшие из бояр московских. Уже прибыли Илья Иванович Лыков, Пётр Константинович, Иван Никитич…
- Тебе ли их лучшими величать? - удивилась Евфимия. - Ведь так их величал Эдигей, когда напал врасплох на Москву и взялся увещевать сына Донского, отца Василиуса.
- Враг во враге ум ценит, - понурился Иван Дмитрич.
- А ты, батюшка, не ценишь, - дотронулась дочь до отцовой руки. - Я говорю не о Софье-литвинке, не о Василиусе, в них злость да хитрость съедают разум. Я веду речь о молодом окружении великого князя. Там есть и острые умы, и волевые сердца. Возьми князей Оболенских, двоюродных братьев Плещеевых, четверых Ряполовских. А ещё появился молодой воевода Фёдор Басенок. Введённая дедом Василиуса, героем Донским, раздача вотчин за выслуги продолжается и даёт плоды. Был у нас с тобой разговор: за богатые кормления, за сёла, отданные в держание, за полученное боярство эти люди не пожалеют голов. Драться будут хоть за литвинку-злицу…
- Хоть за самого Сатану, - согласился с дочерью отец.
- Бэньдзе бужа, как любит пугать меня Бонедя, - грустно улыбнулась Евфимия. - Будет буря! Этого боится народ. Это провидит ограждающее нас от бед духовенство. Не прогневись, батюшка: ты всуе нынче внушал восставшему на племянника дяде презреть советы троицкого игумена и Пелшемского подвижника.
- Юрий, как зельный гром, заглушил их всех, - вскинул голову Всеволож. Огнь ненависти полыхнул в его очах. Это была та ненависть, что он вынес из подмосковных хором Голтяихи после бесчестья дочери. - Сейчас, - попенял отец, - твоя алчба к миру затмевает всё зло, что творится перед тобою. Пусть торжествует автократор, этот не Василиус, а василиск, а рядом с ним аспидка, его мать. Нет, милушка, на бесказнии мира не наживёшь. Погибнешь! Правильно нынче мы велеумным кремлёвским посланцам путь указали.
Никаких докончаний с Василиском не будет! Мы восстановим истину, а следовательно, и прочный мир.
- Батюшка, - обняла Евфимия отца, - загляни чуть далее ожидаемого тобою успеха. Наденет золотую шапку князь Юрий. По дедине, кою ты прежде порицал, а ныне восхваляешь, ему наследует младший брат, Константин Дмитрич. Далее братьев нет. Стало быть, наследником остаётся сын старшего брата, то есть опять-таки ненавидимый тобою Василиус. Возраст Юрия и Константина Дмитричей заставляет предполагать, что это случится скоро.
Боярин резко замотал сединами.
- Не восхваляю наследования по дедине. Стол князя Юрия займёт старший сын…
- Васёныш? - ужаснулась боярышня. - Косой? Я почла за глумы твои прежние речи об этом. Ты, как чурку из-под ног висельника, выбиваешь законную основу своего дела.
Всеволож встал из-за стола.
- Докоторуемся до новой распри. Лучше прекратим. Ступай на опочив.
Евфимия поднялась.
- Батюшка, а где Устя и сестрица моя Анисья? Иван Дмитрич тяжело вздохнул.
- Дочь Анисья стала монахиней Агриппиной. Вслед за своею старшей сестрой инокой Феодосией. Устина пока при ней в тверской женской обители.
- Ждёт свадьбы с Косым? - спросила Евфимия.
- Не до свадеб нынче, - поцеловал дочь отец. - Вот войдём в Москву, там и заварим кашу. Отказалась ты от хорошей доли, осчастливила племяшку, - глухо бормотал он. Оживился, лишь перейдя мыслями на иное: - Вот домой вернёмся, познакомлю тебя с арабской грамотой. За год жизни в Орде сам её познал от тамошнего своего знакомца мавра Абдаллы. И книг кое-каких привёз, да за несчастьями нашими забыл показать тебе.
- Приятных снов, батюшка! - пожелала дочь.
В одрине теплился светец. Бонедя лежала вниз лицом на широком ложе. Евфимия ласково прикоснулась к её лопатке, выступившей из-под сарафана. Спина шляхтянки стала вздрагивать.
- Ты плачешь? - удивилась боярышня.
- Разбачила сё, - сквозь всхлипы подтвердила Бонедя.
- Переживаешь, человека убила? - предположила боярышня и, желая успокоить, привела строки из Священного Писания:- Пророк Осия сказал: «Ефрем… каждый день умножает ложь и разорение». Конечно, не Картача Ефрема имел в виду, однако Картач тоже лжец и разоритель, да и мало того - тайный головник. Сколько прервал жизней, пальцев недостанет счесть. И нас бы погубил, если б не ты…
- Не то! - резко обернулась Бонедя. Глаза сверкали, губы дёргались. - Тьфу Ефрем! Тьфу Картач! Една! Една! Два, чши, чтэры роки - една!
Она уткнулась в плечо прилёгшей с ней рядом Евфимии и вновь затряслась в рыданиях.
- Не считай, будто ты одна, - уговаривала боярышня. - Нас всё же двое. А амма Гнева? А двенадцать её сестёр? У нас множество врагов, а мы вместе. Сама страшусь одиночества. Надвигается сырой тучей. Чую студное дыхание. Сония ужасны, боюсь спать. Батюшка нехорошо снится. Видела, он, будто беззенотный, ходит, растопырив руки, ищет путь. Стремлюсь направить, не достигаю: глубокий ров разделяет нас. Да ты спишь? Мжишь веки? Спи пока спокойно. Мы в монастыре. Хоть ты и латынка, мы под защитою всех наших святых, под молитвенным их покровом…
9
Карета стучала, скрипела и продувала всеми своими щелями. Не карета, а таратайка. В разбитых оконцах с остатками слюды виднелась скачущая малая обережь, всего-то человека три - Кумганец и двое недавно нанятых. С ними скакал, выделяясь дородностью, всадник в тёмном бахтерце, сам боярин Иван Дмитриевич Всеволожский. Он поспешал с дочкой и её спутницей в освобождённую от Василиуса Москву.
Прибывавшие в монастырь вестоноши друг за другом сообщали праздничные для боярского сердца вести: на Клязьме в двадцати вёрстах от столицы бывший великий князь наголову разбит Юрием Дмитричем и его сыновьями. Убежав с поля боя, захватив в Кремле мать с женой, «проклятый племянник» пытался укрыться в Твери, да, видимо, непривеченный там, бросился в Кострому, где и был поят людьми дяди-одолетеля.
Евфимия старалась не размышлять об этом. Она вспоминала недолгое, размеренно-тихое житие в Доме Преподобного Сергия, в особенности же свои частые посещения храма Живоначальной Троицы. Даже латынка Бонедя, не входя внутрь, любовалась храмом, говорила, что он похож на Троицкий Краковский собор, называемый ещё Богородичным. Евфимия подолгу простаивала перед иконой Пресвятой Троицы, написанной иноком Андреем Рублёвым, совсем недавним обитателем дольнего мира. Жизнями они соседствовали: он почил перед тем, как боярышня появилась на свет. И оставил эту удивительную икону. Евфимию завораживали три крылатых странника за столом перед чашей и предстоящий им библейский патриарх Авраам. Боярышню поражали не ангельские крыла, не чаша, не число три, а то, какими средствами иконописец как бы отдёрнул перед нею завесу иного, непознаваемого мира, сумел передать узренное им откровение. Среди мятущегося времени, в коем она жила, среди раздоров, междоусобных распрей, всеобщего одичания и татарских набегов, среди глубокого безмирия, растлившего Русь, её духовному взору открывался бесконечный, невозмутимый, несокрушимый свышний мир. Вражде и ненависти, царящим в дольнем, противостояли взаимная любовь, вечное согласие, безмолвная беседа, единство душ мира горнего. Даже лазурь здесь более небесная, нежели земное небо. И премирная тишина безглагольности. И высшая друг перед другом покорность. Здесь всё пронизано любовью, которая выше пола, выше возраста, выше всего земного, как само Небо…
- Цо пани хмура? - спросила сидевшая рядом Бонедя.
- Не хмура, задумчива, - отвечала Евфимия и обратила внимание, что шляхтянка всё время держит руку за занавескою своего сарафана, то есть за передником с рукавами. - Что ты там прячешь?
- Так, - поджала губы полячка. - По-московлянски сказаць: на всяк случ…
Карета остановилась. Евфимия не успела допытать спутницу о её сарафанной тайне.
- Батюшка, что стряслось? - выглянула она в оконце.
- Подпруга ослабла, - подъехал Иван Дмитрич. - Чрезседельник сполз набок.
Боярышня вышла размять затёкшие от долгого сидения члены. Бонедя выскочила за ней.
Первый майский день не радовал ни теплом, ни солнцем. С пятого апреля, со дня мученика Федула, которого Полагья называла «ветреником», этот Федул как, по её выражению, «губы надул», так и дует, и дует. А со стороны Москвы по наезженному пути движутся хмурые, как непогожий день, всадники и тянут на смычках пеших людей в ошейниках. Кто одного, двоих, а кто и десятерых.
- Наши едут, своих ведут, - мрачно хмыкнул Кумганец.
Она догадалась, что возвращаются воины Юрия Дмитрича, отпущенные после клязьминской битвы с полоном из московлян.
- Куда же им столько пленников? - спросила отца боярышня. - Возьмут себе в рабство?
- Вряд ли прокормят, - покачал головой Иван Дмитрич. - Скорее всего, продадут татарам.
- И не стыдно продавать своих? - возмутилась Евфимия.
- Вятчане! - одним словом пояснил Всеволож. - У вятчан стыда нет. Ещё покойный владыка Фотий их за многожёнство корил, за сожительство без венца, запрещал замужество ранее двенадцати лет, вино до обеда, брань именем матери. А что толку? До шести жён набрать или христианина иноверцу продать - для вятчанина всё едино.
Бонедя, спрятав руку под занавескою сарафана, взирала на жуткую картину спокойно.
- Сбруя в порядке, господин. Едем? - подал голос Кумганец.
Один из пленных, заглядевшись на карету, упал. Всадник не придержал коня. Упавший волоком тащился по земле, пока товарищи по верёвке не подняли его.
- Ой! - заломила руки Евфимия. И на всё серое, голое, безрадостное пространство раскатился её истошный крик: - Кари-о-о-он!
Поднятый вперил в боярышню запавшие очи, широко открыл рот… Изо рта ни слова не вырвалось, только хрип.
- Батюшка, вызволи его. Он же мой спаситель! - взмолилась перед отцом Евфимия. - Это же Карион Бунко, начальник кремлёвской стражи. Он мне Боровицкие врата открыл, когда бежала от Анастасии Юрьевны. Он… до дому проводил… он… - Боярышня, спохватясь, запнулась.
- Как его вызволить? - нахмурился Иван Дмитрич, не знавший, что этот же Карион помог дочке бежать из дома.
- Выкупи, батюшка! - умоляла Евфимия.
- Эй! - крикнул боярин всаднику-вятчанину. - Продай одного из них, - кивнул он на пленных.
- Непродажные, - отозвался тот. - Самому нужны.
И пришпорил коня, натянув верёвочное ужище. Пленные побежали. Бунко, замыкая цепь, размахивал руками, старался не упасть, оглядывался…
- Ка-ри-о-о-он! - Евфимия рванулась вслед ему.
- Стой!.. Образумься! - прокричал боярин.
Тут Бонедя выпростала руку из-под занавески сарафана. На мгновенье мелькнул длинный стальной ствол с отвислой рукоятью, грянул гром, и всё закрылось дымом от выстрела.
Конь под всадником помчался. Пленные попадали, с общим воплем поволоклись по земле. Один Бунко, последний в цепочке, стоял, шатаясь, разглядывал обрывок отстрелянного ужища.
- До нас! До нас! - махала рукой Бонедя. Освобождённый не промедлил. Евфимия упрятала его в карету, прикрыла дверцу. Взбешённый вятчанин и не подумал уступать, поворотил коня, стал приближаться.
- Отдай кощея, ведьма!
Бонедя подняла свой огненный снаряд, слегка поколдовав над ним: что-то опустила в дуло, подсыпала какой-то чёрной изгари.
- А, пшел до дьябла! - огрызнулась она.
- Чего ждёте? - закричал обиженный другим вятчанам, остановившимся после выстрела.
Один из них, ближайший, взял лук, наложил стрелу.
- Оле! - воскликнула Бонедя, поведя стальным стволом.
Прогремел второй выстрел… Раздался стон… Когда дым рассеялся, всех всадников с пленными будто кто языком слизнул.
Со стороны Переславля виделся пыльный хвост. Испуганные вятчане удирали с места происшествия, уволакивали пленных, из коих немногие выживут после такой бешеной проволочки по земле. Боярин же Всеволож глядел в сторону Москвы. Там невдалеке кучились люди, о чём-то споря, жалобно ржала лошадь.
- Кумганец, - позвал боярин, - поезжай со товарищи, погляди…
Верный слуга с двумя охранышами поскакал выполнять повеление. Между тем Бунко вышел из кареты, ошалело осматриваясь, не веря в своё спасение. Бонедя подула в стальной ствол невиданного оружия, протёрла его подолом передника. Боярин сошёл с коня, подошёл к шляхтянке.
- Прошэ, - взял он из её рук огненный снаряд и сказал: - Пищалейка краткая типа «вепрь», ядро в осьмушку гривенки… Где взяла?
- Где нигде, - поджала губы Бонедя, вытягивая из рук Всеволожа отвислую рукоять со стволом.
- Такая малица и так стреляет! Ошибся я в тебе, птаха, - бормотал Иван Дмитрич.
- Спасибо, Евфимия Ивановна, - подошёл Бунко. - И тебя спаси Бог, красавица, - метнул рязанский дворянин восхищенный взор на шляхтянку.
- Прошэ бардзо не ма за цо, - отчеканила та.
- Что она говорит, боярин? - спросил Бунко.
- Говорит: «Пожалуй, не за что», - перевёл Иван Дмитрич. И спросил: - Как в плен попал?
- А, - сокрушённо махнул рукой Карион. - Великий князь набрал второпях пьяных купцов да кузнецов. А они ещё мёду прихватили. На поле брани держали в руках не мечи, а фляги. Галичане ударили, наш сброд - врассыпную. Я стоял под великокняжеским стягом. Говорю Василью Васильичу: «Государь, кремлёвская стража не мясники да аршинники. Выдержим первый натиск, отойдём строем». Куда там! Он слушать не восхотел. «Беги, - крикнул, - всё пропало!» Я стоял, пока всех моих не перебили вокруг. А не стало окрепы со спины, кто-то палицей оглушил.
Подскакал Кумганец с охранышами.
- Господин! Конный вятчанин нашей девою наповал сражён. Мы извлекли его ноги из стремян, погребли грешного. Полонённых освободили от огорлий и ужица. Они разбежались. Коня я привёл. И одежда всадника, вот она. Мыслю, спасеннику нашему должна прийтись впору.
Карион ополоснулся в придорожной канаве, в карете переоделся и вышел героем, слегка спавшим с лица после перенесённых бед.
- Ну, - весело усмехнулся боярин. - Конь есть, сряда есть. Куда ж ты теперь?
Бунко молодцевато повёл плечами.
- В Москву! Предупрежу ваших. А далее… что ж? Служба новому государю.
Он поясно поклонился боярину, его дочери и с особенным усердьем Бонеде.
- Бардзо ми пшикро жэ муси пан юш исьць, - вымолвила шляхтянка.
- Что она сказала? - спросил Бунко Всеволожского.
- Сказала, очень жалеет, что ты должен от нас отбыть, - перевёл боярин.
- Я тоже очень жалею, - признался Карион. - Да ведь разведка - дело важнейшее. А мы ещё непременно встретимся, - широко улыбаясь, глянул он на Бонедю. - Как по-вашему, ляховицки, сказывают: «До видзення»!
- Поводзеня, - пожелала успеха освобождённому шляхтянка-разбойница. А когда он отъехал, тихо вымолвила: - Жэгнай!
- Что ты произнесла? Что такое «жэгнай»? - теребила спутницу боярышня Всеволожа, уже сидя в движущейся карете.
- То значы, - закатила глазки Бонедя. - То по-московлянски значы… пропинай, прош-чай!
10
Евфимия вышла в сад, полный запахов лопнувших почек и новорождённой листвы. Неделя Светлохри-стова Воскресения миновала, а веселья на Москве как не было, так и нет. Бояре Василиуса попрятались по своим подмосковным, купцы открывали лавки с таким видом, будто кто с палкой стоял за спиной. Радостно выглядели лишь те, что приехали с Юрием Дмитричем и его сыновьями. И боярин-батюшка торжествующе потирал ладони. Весело похвалился арабской книгой «Китаб аш-шифа» какого-то Абу-Али Ибн-Сины, великого лечца из песчаных стран. Вознамерился Иван Дмитрич преподать любомудрой дочке и арабскую грамоту в дополнение к прочим, да занятия получались коротки: всё было недосуг. Сызнова зачастили к нему замоскворецкие дворяне Колударов и Режский, соборуя час от часу долее. А вернувшаяся из Твери Устя ликовала, предвкушая скорую свадьбу.
Евфимия шла по саду и удивлялась: с чего на сердце кошки скребут? Ну, поменялась власть. На место мальчишки Василиуса воссел умудрённый опытом Юрий Дмитрич. А рожь стала дорожать. Полагья говорит: май холодный, год хлебородный, в мае дож, будет рожь. Дожди льют, почитай, ежедень. Солнце и в вёдро хоть светит, да мало греет. А соль - по гривне пуд. Люди как будто ждут нового Эдигея под Москвой. И доносчики-татары на Ордынском дворе притихли. Посланец Улан царской волей возложил на Василиуса золотую шапку, а галицкий Юрий снял её и водрузил на собственное чело. Поношение ордынскому царю, да и только. А им, татарам, будто бы всё равно. У них в Орде свои хлопоты: Улу-Махмета свергнул братец Кичи-Махмет. Свергнутый бежал на Русь в захваченный Литвою город Белев. Обоим братьям-царям нынче не до Василиуса.
Евфимия взошла на качели, стала раскачиваться. Как наддаст ногой, и… небо внизу, земля вверху. Хорошо между небом и землёй: грудь теснит сладкий страх, а душа рвётся ввысь. Чей же это голос и откуда тихо так зовёт:
- Евфимия Ивановна!..
То ли чудится, то ли въяве. Прислушалась… Маятник качелей колебался всё тише и вовсе остановился. Над дальним тыном, через который перелезала, бежа из дому, увидела шапку с меховой опушкой и удлинённым вершком из дорогой ткани с золотыми запонами и жемчугом.
Спрыгнув с качелей, Евфимия побежала к тыну. Её домашняя шубка-платно из тонкого сукна тоже сверкнула жемчугом. Как же владелец шапки взобрался с той стороны по голому тыну? Кто он?
Вот показалось знакомое лицо с ухоженной небольшой бородкой, с мягкой, доброй улыбкой, с приятным взглядом внимательных карих глаз.
- Василий Ярославич? - удивилась Евфимия. - Не по воздуху ли ты взлетел на наш тын?
- Стою на своём коне, - улыбнулся брат Марьи Ярославны, князь боровский, так выручивший боярышню на великокняжеской свадебной каше. - Выслушай меня, Евфимия Ивановна. Время дорого.
- Рада слушать, - подошла вплотную Евфимия.
- Мою сестрицу и государя с матерью ополночь привезли в дом купца Таракана, где ныне обосновался Семён Морозов, первый боярин Юрьев. Завтра им будет суд. Умоли отца смягчить сердце одолетеля-дяди, да не предаст племянника смерти.
- Не всуе ли беспокоишься? - качнула головой Всеволожа. - О смерти ли идёт речь?
Кровь прилила к лицу князя. Видимо, тын для него был слишком высок. Стоя в седле на носках, он подтягивался руками, и постепенно сдавали силы.
- Насколько мне удалось осведомиться, - задыхался Василий Ярославич, - Юрьевы бояре Данило Чётко, Яков Жёсткое, а также наши перемётчики Пётр Константинович, Илья Лыков, ну и твой батюшка требуют бывшему венценосцу смерти, а его матери и жене тесного заточения. Оное… тоже… вскорости… оборвёт их жизни.
- Не сокрушайся, - поспешила успокоить Евфимия. - Помогу… как смогу.
- Узники передали… хотят видеть тебя, - из последних сил произнёс Василий Ярославич, исчезая за тыном.
Боярышня пошла в дом.
Иван Дмитрич только что отпустил Режского с Колударовым и ещё оставался в столовой палате в приподнятом состоянии духа. Дочь, радуясь этому, приступила к отцу с трудными речами.
- Вот видишь, мы на щите! А ты терзалась сомнениями, - встретил он её торжествующе.
- Осмеливаюсь ходатайствовать за обречённых, - тихо произнесла Евфимия.
Иоанн Всеволож помрачнел.
- За кого? - глухо спросил он. - За изменника-жениха? За клятвопреступницу, его мать? За похитчицу твоего счастья, его жену?
- Любите врагов ваших, - ещё тише произнесла Евфимия.
Боярин грузно опустился на лавку.
- Сразила! Так-таки наповал сразила! - И тут же встал. - Да, я христианин. Должен любить и прощать врагов. Но я тебя, умницу, сражу ещё круче. Видит Бог, не хотел, а теперь пошли.
Он повёл её переходами, вывел в чёрную дверь, провёл через двор, подвёл к дальней погребуше, что выставила крутую кровлю по-над самой землёй, свёл по ступенькам вниз, засветил свечу. На низком лежаке она увидела нечто длинно-белое. Боярин сдёрнул покрывало, приблизил свет.
- На, гляди!
Боярышня, бросив взгляд, отпрянула, прижав кулаки к груди. Она узнала искажённый мучительной смертью лик дворского Елентея.
- Ополночь привезли, - пояснил отец. - Нашли в каменном мешке под Житницами Витовтовны ещё вживе. Перед тем как Богу душу отдать, сообщил мне, что был поят на большой дороге шишами и по уговору предан Ефрему Картачу. Пытан пристрастно о твоих ко мне словах, переданных устно, не письменно. Литвинка искала козней в нашей с тобой разлуке. Вотще старалась, понеже Елентей, претерпев ад, не смог измыслить, чего и в помине не было. Плоть пытанного страшна. Не надобно тебе видеть ни ног, ни рук его, ни спины. Наше торжество над Василиусом оборвало его муки. От смерти же не избавило. Поздно!
Прикрыв труп, отец вывел дочку на свежий воздух, крепко сжал девичье запястье, дабы унять бившую её дрожь.
- Вот теперь и печалуйся о виновниках смерти дворского Елентея, воротника Изота, конюшего Увара и иных наших слуг, Микиты Головни, Сысоя Бурчака, Маркела Чуксы…
Боярышня Всеволожа молчала.
Когда вошли в дом и расставались на хозяйском верху, отец спросил:
- Где конюший Ядрейко, что наняла без меня заместо Изота?
Дочь виновато понурилась.
- Полагья докладывала: исчез он вскорости по моём отъезде.
Отец не стал корить за опрометчивый выбор. Лишь вслух подумал, уходя:
- Надобно подыскать иного.
Весь оставшийся день просидела Евфимия у себя в одрине, глядючи в растворенное оконце. Дышала свежестью, лечась от внутренней духоты. Наблюдала двор со снующей челядью, оживлённой возвращением хозяев. Повечер углядела молодца, введшего коня в ворота, и привскочила, узнав в прибывшем Кариона Бунко. Чуть погодя кликнула Полагью. Вездесущая сообщила, что начальник кремлёвской стражи прошёл к боярину. Вскорости та же сенная девушка сунула загадочный лик в приотворенную дверь.
- К тебе гость…
Вошёл Карион, поклонился поясно. Поздравствовались. Боярышня усадила своего спасителя и спасёныша.
- Радостно лицезреть тебя, Кариоша, в полном благополучии.
- Ох, не в полном, Евфимия Ивановна, иначе не беспокоил бы, - вздохнул рязанский дворянин.
Евфимия изрядно удивилась:
- Был только что у батюшки, а дочке бьёшь челом. Или боярин в меньшей силе, нежели боярышня?
Бунко смутился.
- В моём случае в меньшей. Хочу припасть к твоим стопам. Уговори известную тебе Бонэдию перекреститься из латынства в православие. Ибо иначе нас не обвенчают. А без неё мне с некоторых пор жизнь не в жизнь.
- Вот так задача! - весело плеснула боярышня в ладоши. - Стало быть, невдавне по пути в Москву шептала-то она «прощай», а мыслила таимно «до свидания»?
- Я сам её сыскал в доме купца Тюгрюмова по твоей сказке, - признался Карион. - Встречаемся ежевечерне. Любовь у нас общая, вера разная. Как быть?
- Да уж придётся горю пособить, - боярышня лукаво улыбалась, едва же гость поднялся, озаботилась: - Есть и у меня к тебе нужда, начальник всех кремлёвских стражников. - Карион внимал, не понимая. Она продолжила: - Чуть припозднится, мне потребно видеть узников, что скрыты в доме Таракана, и с ними перемолвиться, хотя бы кратко.
Бунко задумался.
- Ивану Дмитричу о сём ведомо? Боярышня покачала головой.
- Могу ли в таком разе помогать тебе? Дело опасное.
Евфимия скрестила руки на груди.
- Прошу, да не обязан. Твоя воля. В любом разе я вам помощница с Бонедей. Тебя же не неволю. И в мыслях не держи.
Бунко ещё подумал.
- Кто там в приставах сей ночью? Должно быть, Семён Яма. Подъезжай в первом ночном часу. Стань возле Афанасьева монастыря. Встречу. Евфимия склонила голову.
- Спаси тебя Господь.
- Тебе Бог помоги, - переиначил он молитву и, в свою очередь склонясь, ушёл.
Долгий весенний день клонился к ночи. Посидев с Иваном Дмитричем над хартиями арабской премудрости, Евфимия за вечерей сказала, что хочет навестить боярыню Мамонову накоротке. Есть между ними женские дела. Просила, чтоб Кумганец запряг Каурку. Боярин не перечил, велел, однако, лясы не точить, чтоб в своё время воротиться.
В карете Евфимию знобило. Судорожно куталась в толстую шерстяную понку. У Афанасьева монастыря Кумганец натянул поводья. Дверь у ворот в стене была не заперта. За нею ждал Бунко. Без разговоров, без расспросов провёл сквозь монастырскую ограду к глухой калитке. Почти напротив отыскалась столь же малая калитка не в каменной стене, а в деревянной. Она вела во двор Таракана. Купецкие хоромы были высоки, о двух сенях с большим подклетом. С востока сени, как бы набережные, по-над стеной глядели на Москву-реку, а сени западные выходили внутрь Кремля. Такой величественный терем любимец победившего Юрия Дмитрича, боярин Симеон Морозов, занял по достою. Наверху в сей синий час уже все окна спали. В подклете масляно светилось низкое оконце. Взошли в пропитанную бражным перегаром повал ушу. Стражники играли в зернь. При виде Кариона старший встал и предложил Евфимии:
- Следуй за мной, жено!
Пройдя по переходу влево, он загромыхал замком.
- Входи…
И сунул в её руки масляный светец.
В коморе на полу на толстом слое сена лежал развенчанный Василиус. От света он раскрыл глаза, присел и щурился, разглядывая гостью. Когда за ней прикрылась дверь, товарищ детских игр и грамматично-хитростных занятий удивлённо позвал:
- Евушка!
Убрав ногою сено с земляного пола, она поставила светец, присела перед узником.
- Василиус!
Немного помолчали, глядя друг на друга.
- Такая ж красота, - заговорил он грустно, - ненаглядная! Снишься еженочь. А въяве уж не свидимся. Да и яви почти вовсе не осталось для меня.
- Я тебе сейчас не снюсь, Василиус, - сказала Всеволожа. - Я наяву к тебе пришла.
Он шуршал сеном в поисках её руки. Нашёл. Погладил у запястья. Внезапно и порывисто припал к поглаженному месту, прильнул губами…
- Простишь ли, Евушка, обиду, нанесённую тебе? Простишь ли? Сам был в горе. Отступник от своей любви всегда несчастен. Мне даже объясниться не было позволено. У матушки-разлучницы вымаливал в ногах. Всё было тщетно. Теперь-то поздние слова: жизнь позади, смерть на пороге. Однако не так тяжко будет умирать с твоим прощеньем, Евушка.
Боярышня, тихонько отнимая руку, пообещала:
- Найду силу добиться облегченья твоей участи, Василиус.
Бывший великий князь понурился.
- Вотще, вотще… Не трать себя без пользы. Я обречён на умерщвление. Понеже, будучи жив, восстану из оков, из каменных мешков, из тесного темничного ничтожества, как эта птица, называемая… называемая… Тьфу, леность окаянная! Забыл, как эта птица именуется.
Евфимия тихонько, будто на занятии отцовом, подсказала:
- Феникс.
Оба памятливо поглядели друг на друга и улыбнулись.
Страж поскрёб дверь.
- Тебе пора? - вздрогнул Василиус.
- А знаешь, - попыталась Всеволожа сбросить груз с души, - матушка твоя лучших наших слуг сгубила. Шиши, оплаченные ею, подстерегали и хватали их в пути, а мясники Ефрема Картача запытывали до смерти. Ты ведал?
Низвергнутый великий князь, пристально глядя ей в глаза, тряс головой.
- Прощай, моё несбывшееся счастье, Евушка! Со сладкой мыслью приму смерть. Этой последней мыслью будет твоё имя…
Пройдя за приставом по переходу к противоположной повалуше, Евфимия вошла и увидала два жёстких ложа, голый пол и масляный светец на нём, чуть брезжущий. На ложах друг против друга сидели Софья с Марьей Ярославной. Обе изумились ей, как привидению.
- Ты? - дёрнулась лицом Витовтовна. - Зачем?
- Ой, матушка, - вскочила Марья, - я просила братца умолить Офимьюшку взглянуть на наши страсти и припасть к ногам отцовым. Ведь боярин Иоанн в чести у Юрья Дмитрича. Теперь не верю, что пришла! - Она сама упала на колени перед Всеволожей, обхватила её ноги. - Не попомни зла! Приди на помощь! Ежели бы ты была на моём месте…
- Я на твоём месте не была бы, - перебила Всеволожа жалкую толстуху Марью. - Не взбреди на ум твоей свекрови нарушить клятву, не было бы никакой усобицы. И вас бы нынче в тараканьем доме не было.
Тут Софья поднялась.
- Встань, Марья. А ты, - метнула она колкий взор в Евфимию, - забудь мечтать о прежнем. Я изначально не желала иметь тебя невесткою. Лгала по крайней надобности. Надобность отпала, ложь отринута.
Евфимия при этой откровенности оперлась спиной о стену.
- Стало быть, отец был прав, тебя возненавидя. Уж коль пошло на прямоту, покайся в смерти Елентея и других…
- Покаяться? - Витовтовна уставилась на Всеволожу глаза в глаза. - Ведь ты с приспешницей убила Картача, когда он стал для вас опасен. Я же после измены Иоанна видела в тебе опасность и вовремя стремилась вскрыть её, а зло предупредить.
- Меня посылывала к батюшке с примирными речами и мне не верила? - пыталась объясниться Всеволожа.
- Не верила, - призналась Софья. - Не верю и теперь. Гляди, как мы сидим за приставами. Перескажи отцу. Порадуйтесь обое. А тебе, трусиха, - обернулась она к Марье, - кто велел к врагине за помогой посылать? Немощный твой дух велел?
Евфимия, стуча зубами, пошла к двери. При выходе с трудом произнесла:
- Из вас троих ты, бывшая государыня моя, одна достойна смерти. Да жаль, твоя судьба неотделима от сыновней.
Бунко, метавший по-простолюдински зернь за пристава, уступил ему место за столом. Евфимия, укутанная понкой, идя за Карионом, услышала короткий разговор:
- Кто эта жонка, Семён Яма?
- Тебе всё знать да ведать! Должно, великокняжья сродница. А ты видал - молчи!
Луна сияла на дворе, словно ночное солнце. Небо очистилось. Ветер направлял пушной колдунчик на шесте в сторону Москвы-реки.
- Довольна ли, Евфимия Ивановна, походом? - спросил Бунко.
- Послушала другую сторону, - задумчиво, как бы самой себе, ответила боярышня, - а здесь, - уткнула палец в лоб, - узла не развязала.
Простились во дворе монастыря.
Очнулся дремлющий Кумганец и погнал Каурку на другой конец Кремля к дому Мамонов.
Ворота без расспросов отворяла дева в полотняном покрывале, подвязанном у подбородка.
- Въезжай, боярышня Евфимия!
Выйдя из кареты во дворе, гостья узнала Богумилу. Невзрачнейшая из лесных сестёр девка-чернавка, угадывавшая, как амма Гнева уставляла лучины на полатях, сейчас угодливо держала дверцу кареты.
- Вот так встреча! - обрадовалась Всеволожа. - Ты не иначе воротницей служишь у Акилины свет Гавриловны?
Богумила улыбнулась.
- Нынче у аммы Гневы девичья челядь. Я, Полактия, Власта и Янина к ней явились по понадобью. Вот углядела сквозь ворота, что ты едешь, и отворила.
11
Набаты били, как колокола. Огромнейшие барабаны буйволовой кожи сзывали московлян к великокняжескому терему. Не всех пускали в Кремль, по выбору. И всё же людства собралось у Красного крыльца премного. Не толпа, а глота, говоря по-древнему. Евфимия ждала боярыню Мамонову, сидя у себя в одрине, как на иглах. Вся приодета с помощью Полагьи. На голове девичья кика с рисками. А вместо летника по случаю неведрия - распашная телогрея, с длинными до подола рукавами, отделанная кружевом, застёгнутая спереди от ворота до низу тридцатью пуговицами.
Боярышню задерживало опоздание Мамонши. Накануне, после свиданья с узниками, договорились отыскать средство, чтобы одолетель подобрей был к сверженному, не велел казнить, а велел миловать. Амма Гнева обещала принести. Набаты уже бьют. Вот-вот пленных приведут ко Красному крыльцу всем напоказ. Однако Акилины нет как нет. Евфимия покусывает губы, смыкает-размыкает тонкие персты. Улавливает ухом лёгкие шаги по переходу…
Уф, наконец-то отворилась дверь. Вот и амма Гнева!
- Прости, мой свет. Такая толчея в Кремле! Колымага двигалась улиткой.
- Что принесла? - вскочила Всеволожа. Боярыня достала из-за занавески сарафана плоский чёрный камень. Он как раз пришёлся в её почти мужскую, крупную ладонь.
- Потрогай-ка. Это добряш-камень. Из земли арабской. По-татарски именуется «камык».
Евфимия тихонько переняла его и ощутила теплоту. Приятное, покойное тепло перешло в руку, растеклось по телу.
- Отчего целит сей камень?
Акилина дотронулась до гладкой черноты, как бы жалея расставаться с ласковым предметом.
- Целба его от разных хворостей. А главное, от внутреннего зла, во власти коего порою совершаешь неслйчные твоему нраву, студные поступки. Иди и подари тому, в чьей воле нынче судьба поверженных.
Проходя с Мамоншей через столовую палату, боярышня увидела своих лесных знакомок Власту и Полакию.
- Моя охрана! - обняла их амма Гнева. - Богумилу и Янину не взяла, оставила кормить и обиходить Андрея Дмитрича. Он с головой ушёл в свои занятия. Даже отказался к Красному крыльцу идти, поздравствоваться с новым государем. А ты ступай. Мы обождём.
- Девичник сотворим у Усти, твоей племяшки, - тонким голоском вмешалась Власта.
- Насовсем ушли из леса? - полюбопытствовала Всеволожа.
Полактия, понурив непроницаемый восковой лик, произнесла:
- Нам тут не место. Окончим краткое соборование с аммой Гневой и снова в лес.
Кумганец с трудностями довёз Евфимию до плотных цепей бердышников, что окружили Великокняжескую площадь. Охранышей из челяди отцовой она не озаботилась позвать с собой. Как пробраться к Красному крыльцу одной?
- Моя вина, - сказал Кумганец. - Сам сопроводил бы, да коней оставить боязно.
Евфимия стояла на подножке в тягостном раздумье. И вдруг - знакомое лицо богатыря с ней вровень. Хотя тот стоит пониже, на земле.
- Небось, боярышня! Дай руку…
- Ядрейко!.. Ты откуда? Куда сбежал?
Он не ответил. Помог бывшей госпоже левой рукой и заработал кулаком десницы:
- Ат-вали!..
- Ядрейко! У нас нет конюшего. Ты для чего исчез? - еле поспевала за ним боярышня.
- Орла подбили, орлица улетела, сокол взвился в облака, - оскалился, оборотясь, Ядрейко.
Всеволожа ничего не поняла. Однако вспомнила, как с герба их кареты ярой толпою был отбит орёл, осталась лишь орлица. Ядрейко же в тот раз, свистя кнутом, провёл карету в Кремль.
Она уже взошла на Красное крыльцо. Почувствовала: лапища нечаянного охранителя освободила её руку. Обернулась напомнить бывшему конюшему о возвращении, а Ядрейку вновь поминай как звали…
Евфимия невдолге отыскала на крыльце Ивана Дмитрича.
- Ты здесь зачем? - нахмурился отец. Боярышня заметила, что среди знати она одно-единственное лицо женского пола.
- Хочу всё видеть, - молвила Евфимия, нимало не смутясь.
К ней уже обращали взоры и Шемяка, и Косой, и сухонький старик, бородка клинышком. Его назвали Симеоном. Неужто он и есть тот самый Семён Мороз, любимец нового властителя, дядя Семена Филимонова, верного слуги Василиуса?
Всеволож - нечего делать! - подвёл дочь к Юрию Дмитричу.
- Дозволишь, государь, представить дщерь Евфимию?
Великий князь с высоты роста едва глянул.
- Та, что наследником моим пренебрегла? Я слыхивал, красота писаная. Приподыми-ка лик! За что тебя так жаловала покойная Анастасия? Что мой Василий нашёл в тебе?
Евфимия смиренно приняла суровые слова и протянула свой подарок.
- Да у неё камень за пазухой, - прозвучала рядом колкость Шемяки.
- Прими, князь Юрий Дмитрич, сей скромный дар, - произнесла боярышня. - Исполнись теплотой его и отложи ко мне нелюбье.
Новый венценосец сжал в ладони чёрный поминок и удивился.
- Щедро ты тепло своё в него вложила. Для чего сей талисман?
- Жители земель арабских, - пояснила Всеволожа, - считают: для обережения от зла.
Юрий Дмитрич подмигнул боярину Иоанну и промолвил:
- Славная у тебя дщерь. Жаль, не моя сноха. А по проходу, образованному стражей, уже вели Василиуса. Толпа гудела жутким гудом. В нём более распознавался не злорадный крик, а горький стон. Семья поверженного не показывалась, должно быть, оставалась в доме Таракана. Сам Василиус одет был, словно юрод, не в сличном платье, а в издирках. Взошед на Красное крыльцо, он упал в ноги дяде.
- Встань, - велел Юрий. Племянник трудно выпрямился, отирая щёки кулаками. - О чём плачена?
- До слёз мне стало, - жалобно признался бывший великий князь. - Во мгле ходил…
- Вот так-то, сыне, - усовещивал дядя. - И тебе бы через меру не скорбеть. А нельзя, чтобы не поскорбеть и не поплакать. И поплакать надобно, только в меру, чтобы Бога не прогневить.
Тут Юрий Дмитрич сделал знак рукой, и всё через дворец великокняжеский направились в Престольную палату, где предстоял суровый суд «проклятому племяннику». Сия палата была воздвигнута отдельно от дворца, связана с ним переходами. Обычно там принимались иноземные посольства или великокняжеское окруженье собиралось «думу думати».
Впереди шёл Юрий Дмитрич, перекатывая в сухих ладонях аспидный камык, подарок Всеволожи. Должно быть, старику волшебное тепло пришлось по нраву.
Евфимия пошла с отцом, оставив за спиной притихшую толпу. И в тишине расслышала, как кто-то из народной гущи молвил упавшим голосом:
- Ох, сдался светоч наш на полную волю дяде-галичанину! Делай с ним теперь, что хошь…
Боярин обернулся к дочери, сверкнул очами.
- Ступай домой!
Шествие уже скрипело половицами дворцовых переходов.
Евфимия повиновалась.
Не желая сызнова попасть на Красное крыльцо, искала иной выход. Бывая прежде во дворце с Витовтовной, она отлично знала переходы женской половины и намеревалась выйти вон через княгинины покои. Вдруг кто-то схватил за руку.
- Ты чья?
Боярышня, сколь ни старалась, не узнала деву в белой понке.
- Прости мою погрубину, - сказала незнакомка, отпуская её руку. - Воистину ты Всеволожа. Что здесь ищешь?
- Ищу уйти отсюда, - ответила Евфимия, сочтя незнаемую деву галичанкой, пришедшей с новыми хозяевами.
- Как сюда попала? - допрашивала дева с мертвенно-белым каменным лицом.
- Мечтала лицезреть суд над Василиусом, - призналась Всеволожа, невольно подчиняясь требовательной допросчице. - Нет, не впустили, вот и ухожу…
- Идём, - сызнова сжала охранительница женской половины боярышнину руку хладными перстами. - Нам с тобой попутье. Я ведаю ход к тайному оконцу, из коего великая княгиня Софья Витовтовна незримо назирала сына на престоле и иноземцев, припадающих к его стопам.
Они прошли княгинину опочивальню, комнату крестовую, или моленную, четыре небольших покоя, переднюю и сени.
- Ах, как пусто! - воскликнула Евфимия.
- Теперешний властитель вдов и стар, - сказала дева. - Кому занять княгинины покои?
- Ты не новичка здесь, я вижу, - отметила боярышня. - А я тебя не знаю.
- Ты меня знаешь, - сказала незнакомка, - да не узнаёшь.
Она остановилась у низкой сводчатой двери и лязгнула ключами. Дверь тяжко заскрипела.
- Держись за меня, нещечко, - ласково велела дева в полной тьме.
Они всходили по крутым ступеням. Плечи Евфимии тёрлись о стены… Вот верхняя светёлка, чуть освещённая косящатым, мелко и тонко зарешеченным, оконцем. Сквозь него в светёлку проникали голоса.
- Прильни и погляди, - позвала дева. Боярышня прильнула и увидела Престольную палату сверху, как на ладони.
На великокняжеском престоле восседал Юрий Дмитрич. Одесную стояли сыновья: Косой, Шемяка и высокий узколицый юноша, похожий на Корнилия. Ошуюю занимал место отец Ев ф ими и, а между ним и новым государем Симеон Феодорыч Морозов тряс клинышком седой бородки. Далее теснились новые бояре в длинных до пят ферезях из шелка. Шапки горлатные вышиной в три четверти аршина из меха чёрно-бурых лис покачивались степенно. Василиус стоял в сторонке, опустив главу на грудь.
- Припомни, государь, что завещал потомству Владимир Мономах, - звонко говорил Морозов, приближась к трону. - «Не убивай виновного, ибо священна жизнь христианина».
- Ты помнишь, государь, иное, - мощным гласом перебил Морозова боярин Всеволожский. - Батюшка твой Дмитрий Иваныч, герой поля Куликова, постановил преступников казнить прилюдно в назиданье склонным к преступлению. Ибо вира не истребляет воровства. Что деньги? Жизнь или честь - вот вира, юже надлежит платить преступнику. Сечение кнутом и наложенье клейм понудит наперёд задумываться при злых умыслах.
- Не хочешь ли ты, Иоанн, великокняжескую плоть кнуту подвергнуть? - едко спросил Морозов, сверкая маленькими глазками на Всеволожа.
Тут встрял Пётр Константинович, что подстрекал на свадебном пиру Витовтовну рассказами о золотом источне.
- Ты, Семён Фёдорыч, речами не играй. Боярин Всеволож толкует об ином. Наш смутный век - не место всепрощению. Я мыслю, что племянник, нацеливший оружие на дядю, повинен смерти.
- А твой каков совет, Яков Жёсткое? - спросил великий князь.
Чёрный и сухой, как молнией ударенное дерево, боярин тихо произнёс:
- Не смерть, так тесное, глухое заточение.
- А ты, Данило Чешко? - обратился Юрий Дмитрич к дородному, спесивому даже на первый взгляд боярину.
- Лучший враг - покойный враг, - ответил бархатно-певучий голос.
Тут внезапно выступил на середину узколицый юноша, похожий на Корнилия. И Юрий Дмитрич на своём троне встрепенулся.
- Что ты, Митя?
- Кто он? Кто он? - затеребила Всеволожа белокаменную деву, приведшую её к таимному окну.
Та, сунув пальцы под её рукав, накрепко сжала девичье запястье.
- Это Дмитрий Красный, любимый младший сынок Юрьев.
Запястью Всеволожи причиняли боль сжимающие пальцы странной девы. Ощущалось: силы начинают покидать то ли от боли, то ли по какой иной причине. Попыталась высвободить руку, не смогла. И позабыла боль, сосредоточилась на речи юноши, что так был схож с Корнилием.
- Я, батюшка, противник смерти насильственной, узилища погибельного, жестокости, рождающей жестокость, - говорил Дмитрий Красный. - Племянник твой мне брат двоюродный. Когда мы примемся князей противных и бояр ослушных подвергать бесчестью, казням, куда им деться? Изменниками уходить в Литву? Или покорно класть на плаху головы и родовое имя? Я против крайностей. Зло побеждается добром, так учит наша вера.
- Берегись ошибки, государь! - возвысил голос Всеволожский. - Тот, чьё место занял ты по праву, не таков, кто платит за добро добром.
- Не слушай, государь, речи пристрастные, - воздел руки Симеон Морозов. - Пощади племянника!
Возникла тишина.
В глазах боярышни мутилось. Кружилась голова.
- Отдай руку! - прошептала она втуне.
- Повелеваю, - возвысил голос Юрий Дмитрия. - Племянника, передо мною провинившегося, отпустить с женой и матерью в Коломну, назначенную моей волей ему в удел.
Василий Косой ахнул:
- Батюшка! Коломна издавна удел наследника, старшего сына государева.
Бояре зашумели.
- Теперь будет иначе, - повёл рукою, как отрезал, Юрий Дмитрич.
Василиус воспрянул. Не Василиус, а молодой дубок, что распрямился после бури.
- Подойди, племянник, - велел великий князь.
Тут они с дядей обнялись при поздравлениях Морозова и Красного, при безучастии Шемяки и Косого, при тягостном молчании бояр.
- Всех приглашаю в Столовую палату на почестный пир, - возгласил Юрий Дмитрич. - Дьяк Фёдор Дубенской, подготовь грамоты для докончания. Боярин Глеб Семёныч, распорядись принесть дары прощёному племяннику.
Все недовольные свидетели суда тихонько покидали Престольную палату.
- Выведи меня отсюда, - просила Всеволожа, совсем теряя силы.
Чуть бы раньше обеспокоиться, сумела бы стряхнуть незнаемую деву, разжать её холодные персты. Нет, увлеклась, заслушалась и загляделась. Теперь избавиться от цепкой незнакомки не в измогу.
- Отдай руку!
- Не супротивничай мне, нещечко, моё сокровище, - окрепшим сочным голосом просила дева. - Тотчас сведу тебя в княгинину опочивальню. Там нам никто не сотворит помехи. Напою из драгоценного сосуда. Навечно исцелю от неудачной твоей жизни…
Всеволожа едва ощущала, как сходила вниз. Загадочная спутница вела её в пустующие женские покои дворца. Сон влёк её в свои тенёта. Хотелось чем-нибудь смочить иссохшую гортань.
Преобразились, раздались и вширь, и ввысь сени княгини-матери, куда обе вошли. О Боже, как здесь оказалась амма Гнева да ещё вместе с Властой и Полактией? Они же в ожидании боярышни устроили игру в девичник у счастливицы-невесты Усти. Однако их явление в дворцовых стенах нисколько не попритчилось Евфимии. Неведомая спутница её, уже не белокаменная дева, а воистину кровь с молоком девица, тоже остановилась, увидав непрошеных гостей. Даже отпустила боярышнину руку, отчего вздохнулось посвободнее.
- Ох, не опоздали, слава Богу! - пошла навстречу амма Гнева.
Власта, глядючи на спутницу Евфимии, сказала:
- Мыслит убежать.
Боярышня, касаясь незнакомки, ощутила её трепет. Припомнила, что Власта среди двенадцати лесных сестёр известна даром знать чужие мысли. Полактия уставилась на трепетавшую. И та, как Всеволожа в лесном тереме, окованная взглядом чародейки, лишь дёрнулась на месте и застыла.
- Не изводи постылого, приберёт Бог милого, - грозно прошептала амма Гнева.
Где слышала Евфимия эти слова? Понуженная память подсказала: да в бане же, после бегства от Анастасии Юрьевны, когда боярыня Мамонова рассказывала о старице Мастридии, келейной зелейнице княгини-матери, во всех вселившей страх своими ядами. Именно этими словами Мастридия ответила Витовтовне на просьбу извести дурой отвергнутую нареченную невестку, словно мышь. Узнав от Акилины свет Гавриловны о тайных кознях, Евфимия тогда же, в бане, помнится, сказала: «Нет, я не мышь!»
- Глядите-ка, на нашей-то боярышне лица нет, - волновалась Власта. - А эта силоедка ишь как расцвела!
Тут амма Гнева шагнула ближе, сделала движение руками, будто бы натягивает лук с наложенной стрелой.
- Со мной стоят Борис и Глеб, и Фрол и Лавр! - грозно молвила она. - Емлют в свои святые руки тугие луки, и тетивы шёлковы, и стрелы калены, и ставятся около меня, рабы Божией Акилины, и стреляют чародейца и чародейцу, и черньца и черницу, и отрока и отроковицу, колдуна и колдуниху, ведуна и ведуниху, и всякого лукавого человека. Сгинь, жена, бесовским сущим духом оберегаема, понуженная к злу, лицом нечистым развращающая…
Чем дольше амма Гнева заклинала, тем явнее менялся лик дворцовой девы. Румянец спал со щёк, дебелость усыхала, кожа морщилась, желтея, глаза погасли, рот ввалился, из-под понки выбилась седая прядь, спина согнулась…
- Ой! - отпрянула Евфимия.
- О, амма Гнева! - закричала Власта. - Избавь нас от Мастридии!
Боярыня-ведунья обнаружила зажатую в перстах десницы маленькую косточку, которую намеревалась метнуть в старуху.
- Не совершай! - схватила её руку Полактия. - Не принимай грех на душу…
Отвлёкшись, она отвела взор от страшной зелейницы, и та метнулась из сеней. Долго слышался в дворцовых переходах женской половины стук её тяжёлых башмаков.
Власта и Полактия, подхватив под руки Евфимию, поторопились из дворца. Впереди шагала амма Гнева. Бердышники, что охраняли чёрный вход, беспрекословно пропустили женщин и вдогонку перемолвились между собой:
- Боярыня Мамонова с боярышнею Всеволожей…
- Должно быть, с пира. Обе вполпьяна.
На площади нашли карету с заждавшимся Кумганцем на том же месте, где его оставила Евфимия.
- Ох, Фимушка, на своё счастье ты забыла у меня вчера свой платчик носовой, - радовалась амма Гнева, едучи в карете. - Провидица Янина нашла его и принялась разглядывать. Увидела тебя в княгининых покоях во власти ведьмы. Прибежала. Мы оставили её подле встревоженной Устиньи, а сами - во дворец…
- Мне в мысли не взбрело, что я во власти ведьмы, - сокрушалась Всеволожа всё ещё слабым голосом.
- Она не только ведьма, а ещё и вовкулака, - пояснила Власта. - Ну, силоедка, - уточнила она, видя удивление боярышни. - Вовку лаки кровь сосут, а эта силу молодую пересасывает, чтобы самой сильнеть да молодеть. А думала она, насытясь, опоить тебя мертвящим сонным ядом. Сидящая за приставами старая княгиня подвигла свою верную слугу на мщение.
Полактия вздохнула.
- Едва не стала оборотнем верная слуга. - И присовокупила, обернувшись к Гневе: - Кем ты, амма, собиралась её сделать, кошкой?
Та сумрачно сказала:
- Мышью.
«Лопаточники»! - вспомнила Евфимия таинственную книгу, виденную в лесном тереме. - Волхвованье на костях животных!»
Так и белела перед её взором маленькая кость, зажатая в деснице аммы Гневы.
- Всуе отпустили зелейницу, - хмурилась Власта. - Мышь была бы безопаснее.
Карета въехала во двор.
Евфимию ввели в её одрину, напоили горьким взваром, и она тотчас заснула…
…Кажется, спустя мгновение глаза открыла, ощутив в себе былые силы, будто ничего с ней не случилось.
В дверях стоял отец, распространяя по одрине винный дух.
- Ты, сказывают, прихворнула?
- Устала, - молвила боярышня, припоминая, рассказала ли Мамонше о судьбе Василиуса. Припомнила, что рассказала перед сном. И про целебный добряш-камень, что дядя перекатывал в ладонях, судя племянника.
- Должно быть, пир примирный быстро завершился? - взглянула Всеволожа на отца.
- Откуда тебе ведомо о пире и о мире? - спросил он, памятуя, что дочка до суда покинула дворец.
Боярышня лукаво усмехнулась:
- Чую вони винные. Зрю лик суровый. Всеволожский грузно опустился на лавку у стены.
- Мне этот пир не в пир. Боюсь, восстанет недобитый змий.
- Как птица Феникс, - повторила скрытница слова Василиуса.
- Ах, на суде Семён Морозов нёс такую ал алы с маслом! Уши вяли, - сердился Всеволож. - А младший Юрьич, Дмитрий Красный, по простоте ему поддакнул. И государь послушал двух любимцев, сына и наперсника, а не меня. Поплачет после.
- Вправду ли, что твой соперник - дядя Семена Филимонова, верного слуги Василиуса? - спросила Всеволожа. - Не оттого ли защищал он свергнутого?
- Нет, - возразил боярин. - У двух Семенов, старого и молодого, меж собой немирье. Он выступил единственно мне в пику. И тут я оказался под щитом. Подумай только: свергнутому дана в удел Коломна, достояние наследника, старшего сына. Взбешён Василий Юрьич…
- Васёнышу удар под ложечку? - весело вставила Евфимия.
- Тут смех не к месту, - хмурился боярин. - Чую беду.
- Я эту беду чуяла, когда ты затевал усобицу, - напомнила Евфимия.
- Не соверши великий князь сегодня роковой ошибки, не пришлось бы ждать беды, - отметил Иван Дмитрия. - Однако наша холопья доля пить здравье государя, как бы он ни был глуп. Я нынче на пиру этот обряд исполнил.
- Каков обряд? - полюбопытничала дочь.
- Ну, стал среди палаты, произнёс имя государево, пожелал ему благополучия. Выпив до дна, перевернул кубок на голову. Потом прошёл в передний угол, в большое место, приказал налить многие кубки, поднёс их каждому, всем предложил за государя выпить. И пили все, даже помилованный, быстро осушивший слёзы.
Евфимия, припомнив слёзы пленного Василиуса, чуть ли не усомнилась в правоте своей. Невольно мысли обратились к Дому Сергия, что вырос посреди страны столпом и утвержденьем истины. Там рассказала она плачущей Бонеде свой ужасный сон: отец, как беззенотный, то есть безглазый, ищет, растопырив руки, верный путь, а она не в состоянии его направить, их разделяет ров…
- Дай руку, батюшка, - приподнялась с одра Евфимия и, поднятая Всеволожем, крепко обняла отца.
12
- Июнь - ау! Закрома пусты, ждут новой жатвы, - оповестила Полагья, входя в одрину.
Боярышня глядела в оконце, чуть приподняв занавеску, и не ответила.
- Москва тоже пуста, как после морового поветрия, - продолжила сенная девушка и принялась за уборку.
Евфимия увидела: Васёныш пересёк двор, отвязал коня у ворот, вскочил в седло. Кумганец отворил перед ним воротину…
В этот первый летний день солнце было в зените, когда Василий Косой прибыл к боярину Всеволожу и они запёрлись в боковуше Ивана Дмитрича. Сейчас светило низошло до церковных маковок, а беседа только окончилась. Боярышня на цыпочках заходила в отцову ложню, что соседствовала с боковушей, где он работал, приникала ухом к тесовой стенке, да уловила лишь три слова, сказанные отцом.
Она переживала за Устю, отай совершила то, чего не смела племянница. Месяц прошёл, как на Москве вокняжился Юрий Дмитрич, а старший сын его, обручённый с внукою Всеволожа, будто бы позабыл о свадьбе. Дед нареченной терял терпение. Сама счастливица звонкий смех меняла на злые слёзы. Жених отговаривался безвременьем. И вот подслушаны всего-то три слова Ивана Дмитрича: «Выкупить правую руку». То есть выполнить то, о чём бил по рукам, отдать просватанную, обручённую внучку.
- Что, что ответил на эти слова мой Васенька? - впилась в руку Евфимии острыми ноготками Устя.
- Тихо было говорено, - оправдывалась Евфимия. - У батюшки три слова разобрала, а у Васёныша чуть больше - четыре. Он сказал громко: «Худое охапками, хорошее щепотью». Вряд ли это о тебе.
Племяшка насупленно опустила голову, то надевая, то снимая с десницы тонкую кожаную перчатку, явно великую для её руки.
- Откуда это у тебя? - заинтересовалась тётка.
- Перстянка Васенькина! - гордо показала племянница. - На лавке обнаружила в столовой палате, где мой свет трапезовал с дедушкой.
Боярышня поцеловала Устю в лоб и пошла к отцу. Он, мучаясь одиночеством и дурными предчувствиями, охотно делился с ней новостями. А новости день ото дня худ шал и: то князь Юрий Патрикеич, литовский выходец, отъехал в Коломну с сыном Иваном, то братья Ряполовские вчетвером, то князья Оболенские втроём, то Кобылины-Кошкины, то Плещеевы. Даже купечество пошлое неохотно растворяет свои лабазы. От всех один сказ: «Не привыкли служить князьям галицким». Сегодня же весть была из рук вон плохая. Едва дочь вошла, отец окатил её студёным ушатом:
- Очнувшийся Василиск со старой и молодой княгинями двинулся во главе переметнувшегося боярства из Коломны к Москве.
- Как? - изумилась Евфимия. - Ведь он связал душу клятвой на кресте и Евангелии.
Боярин горько махнул рукой.
- Торопом, торопом обласкал его Юрий Дмитрич, одарил ценной рухлядью, напутствовал пиром с флейдузами и прочей музикией. Теперь музикия будет иная… А всему Филимоновский стрый виной, - принялся он ругать Симеона Фёдоровича Морозова, дядю верного Василиусова слуги Филимонова, а своего необоримого соперника у великокняжеского престола. Впрочем, уж не такого необоримого. Юрий Дмитрич стал подвергать любимца немилостивым укоризнам, да поздно. - Змий выполз из своего нырища, - схватился за голову Всеволож, - назад не загонишь. Вятчане отбыли домой, галичан немного, московляне же, будто мана их соблазнила, все потянулись по Рязанской дороге навстречу своему нещечку.
При слове «нещечко» Евфимия вспомнила Мастридию, представила скорый приезд на Москву Витовтовны и тоже упала духом. Когда допрежь рассказала батюшке о жуткой встрече с Мастридией во дворце, он в гневе на княгиню-мать сжал кулаки: «Ненавижу её величайшей ненавистью!» Теперь же, чтобы уйти от тяжёлых мыслей, Иван Дмитрич резко переменил беседу:
- Как наша юная княжна?
- Тоскует, - отвечала Евфимия.
- Уговори потерпеть, - наказал отец. - Дела осложнились так, что мне правую руку не выкупить, а Василию Юрьевичу свадебную кашу не заварить. Тезоименник коломенский не отпустил ему времени. Боюсь, как бы разума его не лишил. Не чуток к мудрым советам был нынче мой гневный гость. Нацелил устье меча не на истинного врага, а на недоумка Морозова. Ну да невелика оплошка, опомнится.
Евфимия выходила из боковуши, когда боярин сказал вослед:
- Конюшего предложил мне Василий Юрьич из своих верных слуг. Я дал добро. Нынче же придёт. Именем Олфёр, прозваньем Савёлов.
В одрине племянницы боярышня застала одну из лесных сестёр, Бонедину землячку, Янину. Выросшая в Москве шляхтянка в отличие от подруги детства чисто изъяснялась по-русски. И ещё она отличалась от Бонэдии угловатостью, как серенькая осинка от белой берёзки.
- Я у княжны ожидаю тебя, боярышня, - сообщила Янина.
- По какому понадобью? - присела Всеволожа на лавку.
Дева мельком глянула на Устю, мотнула головой.
- Тайны нет. Бонедя меня тревожит. Слюбилась она с известным тебе рязанским дворянином Бунко.
- То есть как слюбилась? - подняла брови Евфимия. - Точнее выразиться, влюбилась.
Янина снисходительно поглядела на девственницу.
- Живут, яко муж с женой.
Боярышня не нашлась, что сказать. Юная княжна покраснела.
- Не при Усте бы эти речи, - укорила себя Янина. - Да вы обе уже невесты. Пора не только с лица, а и с изнанки судить о жизни. Вот я считаю: грех предаваться утехам любви невенчанно!
- Карион открывался передо мною, - тихо вымолвила Евфимия. - Да всуе оказалось просить Бонэдию сменить веру. Она тут тверда как камень.
- Зато в ином не тверда, - осудила Устя.
- Надо рязанца уговорить, - предложила Янина, не обратив внимания на слова княжны. - Не примет ли он истинную веру?
- Карион в вере истинной, - возразила Евфимия.
- Прости за мою погрубину, - спохватилась полячка. - Только где же для наших влюблённых путь к благозаконному браку?
Всеволожа призналась:
- Не ведаю.
- А вот я на ложе с возлюбленным невенчанная не лягу, - твердила своё Устинья.
- Не зарекайся, - остерегла Янина. - Судьба коварна.
- Моя судьба - мачеха! - в один шаг вступила в своё горе княжна. - Не дождаться мне свадьбы! - зарыдала она. - Отошлют в Тверь, в обитель, где инока-матушка отреклась от жизни. Не поменяться мне кольцами с другом Васенькой. Не люба я его сердцу…
- Успокой её, сестрица Янина, ты же провидица, - тихо попросила Евфимия.
- Амма Гнева рассердится, коли правду скажу, - прошептала полячка.
- Стало быть, правда нехороша? - шёпотом спросила Евфимия.
- Чего шепчетесь? - рассердилась Устя.
- Спрашиваю, скоро ли Акилина свет Гавриловна питомиц своих отправит в Нивны, - по нужде солгала боярышня.
- Завтра мы туда едем, - как бы на вопрос отвечала Янина. - Остаётся лишь Власта. Она ещё здесь амме Гневе понадобна.
- Вруньи, - надулась Устя. - Я слышала: Янина не хочет прозреть мою судьбу с Васенькой.
- Отчего ж не хочу? - смутилась полячка. - Однако мне для прозренья вещица требуется от твоего жениха. А её и нет.
Евфимия прикусила губу, зная, что воспоследует за этими словами.
Устя вскочила, порылась на своём одре в изголовье и протянула вещицу:
- Вот…
То была перстянка Косого.
Янина растерянно осмотрела изделие из тончайшей лайки.
- Ин, будь по-твоему. Вели Полагье принесть горшок с колодезной водой, только что зачерпнутой.
- Макитра, в коей трут мак, не сгодится ли? - спросила княжна.
Янина кивнула. Кликнули Полагью. На лавке появился глиняный облитой горшок с водой. Провидица склонилась над ним и деловито зашептала на ляховицком языке, время от времени погружая персты в воду.
- Обмакни, невеста, мизинец, - обратилась она к Усте.
Та повиновалась и удивилась:
- Колодезная вода… тепла! Вновь тихий невнятный шёпот…
- Обмакни перст указательный.
- Горяча! - отдёрнула княжна порозовевший палец.
Колдунья кинула в горшок перстянку, и вода окровавилась.
Наблюдавшая Всеволожа не придала этому значения: перстянка-то крашена.
- Засвети свечу, прилепи сюда, - указала Усте лесная дева на край макитры.
Та всё исполнила, хотела заглянуть в горшок, однако рука колдуньи отвела любопытную.
- Ты глянь, - Янина поманила Всеволожу.
Евфимия приблизилась и отшатнулась. От макитры пахло свежей кровью. Провидица тянула за рукав, и Всеволожа взглянула…
Она увидела в неверном свете бревенчатые сени. На стене висел оскард, рогатая, как будто ляховицкая, секира, о каких рассказывал бывавший в Кракове отец. А на полу лежал в кровавой луже… конечно же… бородка клинышком, лицо сухое… конечно же, это боярин Симеон Феодорович, это Морозов с рассечённой грудью… В дверях будто бы Шемяка с искажённым ликом. А кто склонился над убитым?.. Вот распрямился, отирает меч… Это Васёныш! - чуть не вскрикнула Евфимия. И тут же вспомнила недавние слова отца: «Нацелил устье своего меча не на врага, на недоумка Морозова»…
Боярышня одним дыханием задула чадящую свечу.
- Полагья! - приотворила она дверь.
- Почему вы ничего не говорите? - наступала Устя. - Почему Офима загасила свечку? Почему так неприятно пахнет?
- Отведи её в мою одрину, - приказала боярышня Янине.
Потемневшая лицом колдунья обняла княжну, почти насильно повлекла с собой.
- Идём, идём, сердечко! Волхвование не удалось… Тут же после них вошла Полагья.
- Выплесни и закопай, - сказала госпожа, указывая на макитру. - Перстянку же сожги, не прикасаясь.
В когдатошней одрине постригшейся сестры Анисьи боярышня нашла чёрную понку и накинула, глухо подвязав под подбородком. Глянула в окно: смеркается. Сапожки-чёботы сменила на простые башмаки. Подошла к своей одрине, прислушалась за дверью. Там вскоре бормотание Янины сменилось тишиной.
Когда полячка вышла, Евфимия тихонько попросила:
- Сопроводи до дома Таракана.
- Тебе он ведом?
- Ведом.
- А понадобье?
- Предотвратить убийство. Янина покачала головой.
- Что предначертано, нам не перечеркнуть. Однако же пойдём, коль приглашает совесть.
- Что Устя? - беспокоилась Евфимия.
- Усыпила бедную. Пусть отдохнёт. Её ждёт жертвенная жизнь.
- Как ты сказала? Жертвенная? - испугалась Всеволожа. - Почему знаешь?
- По страждущим глазам, - тянула её за руку Янина. - Идёшь ты или нет?
Пошли к чёрному ходу. Огородом, потайной калиткой, отпертой хозяйским ключом, вышли на зады усадьбы.
Оказавшись в узком кривом проходе меж двумя тынами, боярышня припомнила ту ночь, когда бежала из дому. И страшно стало, как тогда. Зато теперь не растерялась, куда идти. Уверенно вела Янину переулками да тупиками. Вот и подпёртый сваями Заруб с крутеньким спуском к Москве-реке. Вот и подворье Кирилло-Белозерского монастыря. Напротив Афанасьев монастырь. За ним хоромы Таракана, занятые Морозовым.
Сегодня Всеволожа не с начальником кремлёвской стражи, а с несведущей Яниной. Поэтому не стала подходить заулком к глухой калитке, что было ближе. Там не достучишься. У главных-то ворот стучали до разогрева колотушки.
- Кто? - раздался дурной голос, коим лишь во сне кричат.
- К боярину Морозу от Иоанна Всеволожа, - ответила Евфимия как можно басовитее.
Смурый страж повёл их к терему с большим подклетом, где на сей раз оконце не светилось. Повёл к сеням, что выходили внутрь Кремля. Их узкое высокое окошко источало жёлтый свет.
- Господин, должно быть, там…
Боярин, будто заточенник, мерил сени, шагая из угла в угол. На нём был долгополый опашень с широкими короткими рукавами. Удивясь нечаянным гостьям, он глянул из-под седых бровей.
- Каким ветром вас занесло? Ты вроде дочка Ивана Дмитрича, боярышня Всеволожа. А ты?
- Она моя девушка, - сказала Евфимия о Янине.
- Чем я, старик, обязан посещению таких молодиц? - чуть улыбнулся боярин, как бы отвлёкшись от тайных дум.
Всеволожа приблизилась.
- Оберегайся, Симеон Феодорович. Васёныш ищет тебя убить.
Морозов приоткрыл рот, да так и застыл, не находя слов.
- Слышал я, - молвил он наконец, - умна дочь Ивана Дмитрича, чрез меру умна. А теперь не верю.
- И не верь, боярин, - согласилась Евфимия, - Только оберегай себя.
- От кого? - переставал собой владеть мрачный пред тем Морозов, - Ежели верно истолковал твои слова, от Косого? Да ты, случаем, не рехнулась, умница? Где взяла эти вздоры? Сама измыслила?
Евфимия огляделась. Ни на одной из стен сеней не узрела рогатой ляховицкой секиры.
- Где висит твой оскард, Симеон Феодорович? - спросила боярышня.
- Мой оскард висит в Набережных сенях, - ошалело глядел на неё боярин. - А тебе почём знать о нём? Ты у меня впервой.
Тут Евфимия вспомнила, что хоромы Таракана о двух сенях, вторые сени глядят по-над крепостной стеной на Москву-реку, отчего называются Набережными сенями.
- Там… вот там… - начала она.
- Да чего же мы тут стоим? - спохватился Морозов. - Пройдемте в гостевую палату, я вас клюквенным морсом попотчую…
Он провёл девиц во внутренние покои, усадил на скамье с бархатным полавошником, расшитым цветами, зажёг на поставце шандал о шести свечах. . - Авксентий! - кликнул он слугу.
Однако вместо Авксентия отозвался очень знакомый боярышне голос с противоположной стороны хором:
- Семён Фёдорыч, выдь на миг!
- Боже! Это Васёныш! - вскочила она, сложив ладони под подбородком.
- Ну и что ж, что Косой? - усадил её обратно Морозов. - С деловой срочной речью пришёл ко мне. Только пошто через Набережные сени? Ну, да я скоро. Морс вам принесут немедля. Погостюйте у вдовца малую минуту.
- Не пускай его туда, - шепнула Всеволоже Янина.
Боярин погрозил ей пальцем, а Евфимии кивнул.
- Я тотчас…
Ведалица бросилась вперёд, заслонила собою дверь, старик же, как дорогую игрушку, бережно убрал с дороги маленькую гостью и вышел.
Янина бросилась к Всеволоже.
- Говорила же, предначертанного не перечеркнуть!
Евфимия решительно последовала за Семёном Фёдоровичем. Мысль ещё у неё мелькнула: тихо впереди, стало быть, речь мирная, ложная тревога… Позади следовала Янина. Появился и челядинец в зипуне до колен, видимо, Авксентий.
Вдруг всех приковал к месту полный ненависти вопль Косого:
- Ты сгубил нашего отца! Ты злодей, крамольник! И… стук, будто уронили беркушку ржи.
- Кто вы, боярышни? Что там сталось? - лепетал Авксентий позади.
Стоя в дверях, Евфимия видела только часть сеней: стену, где висел рогатый оскард, противоположные двери, в коих мелькнул испуганный лик Дмитрия Шемяки. Васёныш показался спиной, когда покидал с братом Набережные сени.
Евфимия не сразу вошла. Она стояла под впечатлением глаз Шемяки, встретившихся с её глазами. Потом увидела Морозова на полу с рассечённой грудью и услышала жалобный вой Авксентия:
- Лю-ю-ю-ди-и-и!
Янина деловито склонилась над телом и, удостоверившись, опрометью побежала из сеней, таща за собой боярышню.
- Погоди… Помощь не нужна ли? - упиралась Всеволожа.
- Мёртв он, мёртв!
Минуя низкую калитку со стороны заулка, куда месяц назад входила с Карионом, Евфимия схватила за плечо Янину.
- Отворена!
Тот самый страж, что их впускал, теперь исследовал калитку, то поднимая, то отводя фонарь.
- Думал, попритчилось, а въяве… Непрочный внутренний запор был сбит.
- Боярина убили, - сказала трепетавшая Янина. Старик выронил фонарь.
- Те двое, двое… Их кони были тут, в заулке! - причитал он, бежа к дому.
Евфимия со спутницей вернулись на усадьбу Всеволожей, когда стемнело. А темнеет летом поздно. Хоромы спали. Лишь отцово окно светилось. Дочь, постучав и получив соизволение, вошла. Иван Дмитрич оторвался от своих писаний.
- Не спишь?
- Ты тоже полуношничаешь, батюшка?
- Готовлюсь доложить заутро государю, как отвести беду…
- Не поздно ли? - И дочь, набрав полную грудь воздуха, оповестила: - Только что Шемяка и Косой убили Симеона Фёдорыча Морозова.
13
Полагья собирала вещи. Каждую называла вслух. А Евфимия заносила всё в длинный бумажный свиток, как имена в синодик. Кумганец доставлял коробья к подводам. Из открытого окна видно и слышно было, как новый конюший Олфёр Савёлов распоряжался каретниками и возницами, готовясь к длительному пути.
- Пояс большой с жемчугами, - перечисляла Полагья, - пояс сердоничный, окован золотом, два чума золотых больших, два чума поменьше, кожух жёлтый, объярекный, два кожуха с алмазами, бугай соболий с наплечками…
На сердце Евфимии - тяжесть от прощания с Устей. Позабытую женихом невесту отослали в Тверь к матери. Слёзы в два ручья, причитания - всё было накануне. А в день отъезда княжна обледела, как крещенское изваяние на краю Иордани. Казалось, вот-вот случится с ней обумор, когда дева падает навзничь, закатив очи. Однако, Бог миловал, обошлось. Каково-то будет влюблённой Усте в строгой женской обители, где клади да клади поклоны, а мечтать о мирском не смей. Не понудила бы неудачницу инокиня-матушка надеть клобук…
- Поясь золотой с крюком на червчатом шёлку, - продолжала Полагья, - скарлатное портище саженое с бармами, две обязи золотые, два чекана с каменьем и жемчугом, коробочка сердоничная, золотом окованная…
Отец даже не осерчал, когда дочь рассказала о волх-вовании, побудившем её посетить Морозова. Запустил пальцы в седые космы и застыл немтырём. Удивил, попросив привести вещунью, не узрит ли и его судьбы. Ездила боярышня к амме Гневе, а Янины уж след простыл. Осталась лишь Власта, чудесная чтица чужих потаённых мыслей. Да нынче и без чудес видно, что у каждого на уме. Встретишь дворцового спальника или мовника - затученное чело, мысли мрачные: неохота ему возвращаться из великокняжеского дворца в удельный. Подойдёшь к купчине или ремесленнику- светел, как зорька: скоро галицкие пришлецы сгинут, воротится государь законный, хоть и вверзившийся в беду, да свой. У Акилины Гавриловны только и разговору, как Андрей Дмитрич Мамон, ездивший в Коломну к своему князю Ивану Можайскому, ворочался с государевым поездом на Москву. Тьма была народу! Все - за своим богоданным Василиусом, аки пчелы за маткою. Не дорога, а небывалой длины улица Великая в стольном граде, где пешие обгоняют конных. Андрей-то Дмитрич обогнал и тех, и других, торопясь к своим зрительным трубкам да громовым стрелам…
- Опашень скарлатный саженый, - продолжала Полагья, - стакан цареградский, кованный золотом, бадья с серебряною наливкою, икона святого Феодора Стратилата, выбитая на серебре…
«Сумеречный этот Олфёр Савёлов!» - загляделась Евфимия из окна во двор, где новый долгорукий конюший бил по загривкам своих подручных. Она даже пропустила в синодике «аксамитовую шубу с жемчужным кружевом, в кое вставлены гнезда с шестнадцатью яхонтами большими, лазоревыми». Зачем отец принял этого челядинца Васёнышева? Нельзя было не заметить, что боярин с вокняжением Юрия Дмитрича явно расслабился. На тревогу дочернюю отвечал мудрено: «Неуверенность в себе подымает силы, успех же роняет их». А она сомневалась: успех уронил отцовские силы? Скорее, неполный успех. Ведь сверженный был помилован. А когда выступил из Коломны, отец как бы ожил. Ездил ежедень во дворец, побуждал великого князя предпринять ответные действия. Возвращался раз от разу пасмурнее. Не сдавался. Даже после бегства из Москвы Косого с Шемякой, убийц Морозова, Иван Дмитрич с утра отправился к великому князю Юрию, а вернулся повечер. «Худо, дочь, вельми худо! - признался он. - Самое страшное - пустота в Кремле. Сойдёшь с коня у любого храма к Божьим стопам припасть, дорогую свечу поставить, ступишь на землю и… тишина! Никакой суеты сует. Вся жизнь там, в Коломне». Всеволожа узнала, что Юрий Дмитрич, напуганный московским нелюбьем, решил возвратить племяннику стол и уехать в Галич. Дьяк Фёдор Дубенской составил докончальную грамоту: «Целуй крест ко мне и к моему сыну князю Дмитрию Меньшому… А держати мне тебя, великого князя, в старшинстве… А детей мне своих больших, князя Василия да князя Дмитрия, не принимати…» Из грамоты явствовало, что для боярина Иоанна Всеволожского всё кончено. Однако он не пал духом. В Галич так в Галич, а там что Бог даст…
- Шуба объярь вишнёвая на соболях, - продолжала Полагья, - шуба горностайная из чёрной тафты, опашенок из багрового киндяку, шапочка соболья…
Евфимия прикрыла оконце, чтоб со двора Олфёрово злоязычие не мешало, и тяжело задумалась. Вчера отец пришёл туча тучей, лица на нём не было. Князь Юрий забыл своего советчика, будто разум отринул. Вместе с меньшим сыном Дмитрием Красным и пятью человеками ополночь покинул Москву, а боярину Иоанну накануне - ни слова. Боярышня бросилась к батюшке с утешениями, а он удивил её твёрдой, хорошо осмысленной речью: «Наш путь теперь на Великий Новгород к любезному другу моему князю Константину Дмитричу. Он не выдаст». Евфимия знала этого младшего из дядей Василиуса, частого гостя дома Всеволожей, любителя потрапезовать, пособоровать с боярином Иоанном, будучи на Москве. Этот князь появился на свет при смерти своего отца, героя Донского, оттого и не досталось ему удела по духовной родителя. Вокняжившись, старший брат отправил его наместником во Псков. Получивший удел не отцовой, а братней волей, Константин той же волей и лишился его. Он не согласился с введёнными старшим братом правами наследования и не исполнил требования великого князя клятвенно уступить старшинство пятилетнему сыну его Василиусу. Имение Константинов было отнято, бояре его попали под стражу, сам бежал в Новгород, где нашёл достойную жизнь и помощь. Как тут не догадаться, что при первом же столкновении Василиуса с дядей Юрием, Константин возьмёт сторону последнего. Василиус не догадался, послал его в начале усобицы против дяди с великокняжескими полками. Конечно, тот Юрия даже пальцем не тронул. Из-за ордынского суда, где Всеволожский защищал юного великого князя, дружба его с Константином чуть поостыла. Однако после ссоры с Василиусом младший дядя его был первым, к кому бросился боярин Иоанн. И вот судьба повторяется…
- Опашень сукно шкарлат, - продолжала Полагья, - петли и кружево плетёное серебряно, кружевцо узкое кованое немецкое, кафтан атлас золотный, шёлк лазорев, подложен тафтою червчатою, две рубашки да двое портки тафта бела, у всех по швам пояски золотые и плетёные, и петли золотные, у всех на вороту зерна жемчужные…
Тут отворилась дверь, вошёл Иоанн Дмитрич, поднял руку с открытой дланью и резко опустил:
- Прекращай сборы, Полагья… Поздно!
- Батюшка! - удивилась Евфимия.
Боярин вскинул указательный перст. Все прислушались.
Набаты били, как гром небесный. На сей раз огромные барабаны наполняли сердце не радостью, а смятением. Это ясно прочитывалось на лице Ивана Дмитрича.
- Будто пороки в кремлёвскую стену бьют, - тихо молвил он. - Только слишком частые удары для пороков.
Полагья нетерпеливо выскочила за дверь. Ей хотелось принести в дом обилие новостей. Однако нагрянувшие события побуждали семью Всеволожей не навостривать, а затыкать уши. Эти события для боярина Иоанна были ужасны.
- Василиус на Москве, - сел он на невынесенный короб, упёр локти в колени, закрыл лицо. - Посылывал людей найти безопасный путь. Тщетно. Все дороги заставлены. Обыщики рыщут. Юрий бросил меня на съедение зверю…
- Батюшка, - обняла дочь сомлевшего отца. - Сам же давеча сказывал: неуверенность в себе подымает силы. Неужто на Москве скрыться негде? Я тебя отай отведу к Бонеде, у купца Тюгрюмова такой терем - всех клетушек за день не обыскать. А уляжется алчба к мести, в Нивны убежим, в лесное жилище ведьм, отсидимся и…
Иоанн погладил золотую головку дочери.
- Навыдумывала! Ведьмы, тайники… Всё всуе. Всюду прятаться позор, в Литве ли, у своих ли ведьм. Страшно принимать казнь смертью? Нет, душа моя, Евфимьюшка. Величайший страх-то я уже изведал, принял казнь бесчестьем. Больно, что отмстить не преуспел. Теперь в Москве, как в западне. Остаётся ожидать приставов…
Евфимия, сжав руки у груди, хрустела тонкими перстами.
- Не допущу… Измыслю что ни что…
Боярин Иоанн поднялся и, обняв, повёл её из боковуши.
- Оставь… Пойдём-ка лучше, потрапезуем.
За трапезой он приказал холопов отпустить на волю. Боярышня, затрепетав, сдержала глубоко в Себе рыдания и, облизнув сухие губы, спросила:
- Ждёшь конца?
Иван Дмитрич отвечал спокойно:
- Жду… - И ободряюще улыбнулся. - Не успели мы с тобой одолеть ни «Алкорана», ни «Книгу исцеления» Авиценны. А жаль. Откровение языков дано тебе свыше щедрее, нежели мне.
После трапезы, не отходя на опочив, он предложил пройтись по саду.
Как пуговицы, на деревьях зеленели яблочные завязи. Душисто цвела сирень.
- Если рай таков же, как наш сад, - сказал боярин, - считай, что я уже в раю.
И тут-то их нагнал Кумганец с искажённым ликом.
- Господин, там старший пристав Савва Купров. А с ним ещё двое требуют тебя.
Иван Дмитрич отпустил Кумганца:
- Иди. Я следую тотчас. - Он крепко обнял дочь, прижал к груди. - Прости, частица сердца моего.
Евфимия, остолбенело постояв одна, бросилась к дому, взбежала под навесом гульбища в верхние сени. Там перед отцом стояли трое в длинных кафтанах с нашивками-петлицами для пуговиц, подпоясанные кушаками. У двоих на кушаках болтались лжични, чехлы для ложек. Главный из пришедших говорил:
- Пойман ты, боярин Всеволожский, государем Василием Васильевичем, как изменник и злодей.
Боярышня сопровождала шествие к воротам, к простой телеге, на коей увезли отца. Потом взошла наверх, окликнула Полагью. Та только что вернулась, сообщила, что на торговой площади перед Кремлем секут дворян московских Колударова и Режского, растянув голыми на кожаной кобыле.
- У нас издревле такой казни не было, переняли у татар. Позор! - злилась сенная девушка. - Народу - негде яблоку упасть. Бесстыжие!
Евфимия велела ей сходить к своей подружке Меланьице, прислужнице Витовтовны, просить, чтоб приняла великая княгиня дочь Всеволожского.
- Да разве ж лютая… разве примет?
Узнав, что господин её боярин взят за приставы, Полагья в голос разревелась и запричитала:
Ой, богоданный господине мой! Ой, как при последнем-то времечке… Ой, как при вражьем-то праздничке… Ой, как повели-то тюремщики… Ой, как тебя в тёмну темницу… Ой, как лесенки провалилися… Ой, как окошечки покосилися… Ой, как напала сухотушка… Ой, как на твоих-то голубушек… Ой, как на слуг твоих верных… Ой, как на дочь-то единственну… Ой, как они убиваются… Ой, как они упадаются…- Перестань, Полагья, - отвернула дрожащее лицо Всеволожа. - Делай, что велено. Время дорого.
Полагья, утираясь рукавом, вышла.
В ожидании её Евфимия прошла в отцову одрину и боковушу, где он работал, перебрала его пергаменты и бумаги. Те, что сочла опасными, снесла вниз, где кухарка Домница стряпала вечернюю трапезу, и швырнула в печь, наблюдая, как они съёживаются, обращаясь в пепел.
Повечер Полагья принесла весть, что боярышня может ехать во дворец, где великая княгиня примет её на своей половине в крестовой палате, а Меланьица встретит в сенях.
Олфёр Савёлов запряг пару в кареть. Летний день длился до восемнадцатого часа. Евфимия прибыла ещё засветло. Меланьица встретила её там, где амма Гнева едва не превратила Мастридию в мышь, и без слов провела в крестовую.
Два подсвечника освещали сумрачную палату с маленькими оконцами. Иконостас прикрывала задёрнутая завеса, снизу тафтяная, сверху кисейная. Всеволожа стояла, творя про себя молитвы. Великая княгиня не появлялась.
Оконца синели всё гуще и гуще. Свечи в поставцах таяли одна за другой. Ноги немели. Грудь до головокружения сдавливали страхи и опасения. Великая княгиня не появлялась.
Евфимия устала прохаживаться, привалилась спиной к стене, приоткрыла рот заглотнуть побольше воздуха, пропахшего воском, сдавленная грудь не приняла вдоха. Тишина становилась страшной. В бесконечности этой тишины обмершая боярышня уловила едва-едва слышимое сдержанное чужое дыхание. Оно источалось завесой от потолка до пола. Собрав силы, Евфимия шагнула к завесе и глаза в глаза столкнулась с сокрытым за кисеей жадным взором. Этот взор пожирал не её самое, а её страдания. Под возмущённым взглядом Евфимии он исчез, словно испепелился. Она не услышала тихих старушечьих шагов, потому что в палату вбежала Марья Ярославна, схватила её за плечи, оттащив от завесы, повернула к себе лицом, прошептала, сделав свои маленькие глазки большими:
- Векую ищешь заступы. Не пожаловала княгиня-матушка тебя видеть. Я ж сочувствую, а ничего не могу, ничего, ничего, ничего не могу…
Евфимия высвободилась и вышла. Миновав сени, прошла на мужскую половину дворца.
В государевых сенях страж-отрок преградил путь.
- Доложи государю: боярышня Всеволожа по неотложному делу, - твёрдо произнесла Евфимия.
Вскорости отрок отворил перед ней дверь в крестовую.
Палата освещалась тремя подсвечниками. Потемневшие окна здесь были крупнее. Василиус стоял у окна в белой шёлковой сорочке до колен, в портах из лёгкой ткани, вверху широких. Длинное лицо с ястребиным носом выглядело печально. Взор из впалых глазниц был нежен.
- Рад твоему приходу, Евушка. Только припозднилась ты.
- Я… отец… - задыхалась Всеволожа. - Василиус, помоги!
Молодой государь вздохнул и отвернулся к окну.
- За отца печалуешься? Как же не понять? Изменил мне Иван Дмитрич. Требовал моей смерти. Пил здоровье дяди, похитчика престола. Ты - иное. Навестила узника в темнице. Помню. Христианский был поступок. Что же ты ещё могла? Что же я теперь могу?
Обида подсказала Всеволоже мысленный упрёк: «Если бы не я, не стоял бы ты здесь сейчас». Однако же она ни словом не обмолвилась о камне-добряше, сказала лишь:
- Ты даже и не лицезришь меня, в окно глядишь.
- Я лицезрю тебя, - ответил государь. - Твой ненаглядный лик слюдою отражён. Я рад бы не спускать с него очей, рад бы к нему приникнуть мужским лобзанием. Да зла судьба. И твоего родителя она не пощадила. Чего ты хочешь?
- Молю от смерти уберечь! - упала на колени Всеволожа. - Ты в его жизни волен.
Василиус оборотился.
- Евушка! Я возвратил престол. Но я не самовластец. Приговорят бояре, должен покориться.
Он поднял Всеволожу и не сразу отпустил, засматривая ей в лицо. Его глаза были добры, а губы чуть дрожали.
- Уговори княгиню-мать… сохранить жизнь, - просила бывшая невеста.
- Успокойся, - внушал Василиус - Не мыслю, что боярин Иоанн умрёт. Ну, будет заточен на время, после сослан… куда-нибудь, хоть в ваше Зарыдалье, где ты училась боевым потехам. Воительница! - Он с неохотой отпустил её и повторил почти по-родственному: - Успокойся…
- Прощай, мой государь, - склонилась перед ним Евфимия.
Василиус умильно склонил голову набок. Он светился добротой.
Вернувшись в отчие хоромы, боярышня спросила у Полагьи, являлись ли обыщики, чтоб дом перевернуть вверх дном. Услышала: никто не приходил. И в самом деле успокоилась. Однако отказалась от вечерней трапезы. Прошла к себе в одрину, прилегла. Жизнь для неё оборвалась. Снов не было.
Очнулась, тормошимая Полагьей. Слёзы сенной девушки дождём упали на оцепенелое лицо боярышни.
- Ой, горе, госпожа! Ой, горе! Наш Иван Дмитрич дома…
Евфимия в мгновенье ока пробудилась окончательно. Какое горе, коли отец вернулся? Юродушка Полагья! Батюшка дома!
Она вскочила, приняла летник вместо телогреи, не распашной, натянула через голову, враз попала руками в широкие до локтей рукава.
- Где? - впилась в Полагью.
- У себя в одрине.
Полетела переходами летучей мышью, чуть касаясь носками половиц. Раскрыла дверь… Отец лежал под покрывалом на одре. Такой же, как его привыкла видеть: велик телом, полон, кудряв сединами, добро-бород и… и всегда был чёрн зеницами, теперь же… теперь зеницы вылущены из глазниц. О, Боже правый! Дочь бросилась к отцу, припала к тяжело вздымавшейся груди. Он жалобно дышал, не шевельнулся.
- Господин без памяти, - шепнула за спиной Полагья.
- Кто его привёз? - взяла над собой власть Евфимия.
- Великокняжьи люди, кто ж ещё? Разобрала постель. Велела положить. Накрыла… Он без памяти, - повторила шёпотом сенная девушка.
- Позови лекаря с Подола. Немца.
- Спит, поди-ка?
- Разбуди. Полагья удалилась.
Час ли, два ли минуло? Оконце исподволь заголубело. Евфимия стояла на коленях у одра, прислонясь ланитой к батюшкину плечу. Он так же молча тяжело дышал. Потом вдруг молвил:
- Не гляди на беззенотного. Дочь встрепенулась.
- Батюшка!
Он молвил явно через силу:
- На Житничьем дворе Витовтовны… В пору б не опускали… В избе простёрли кровью крашенный ковёр… Два ката… Я видел, как вострили нож… Один вострил, другой стелил ковёр… Засим меня пояли и хотели поврещи… Боролся с ними крепко… Кликнули помогу… Повергли и связали ужищем… С печи достали доску, возложили мне на грудь… Два ката сели, не могли сдержать… Иные два внесли другую доску, придавили плечи, грудь трещала… Кат при ноже ударил в око, испрокудил щёку, затем изъял зеницу… Как мозг в затылке выскребают… Когда изъял другую, я умер… И вот - жив! Чуть жив ещё…
- О, батюшка! - воскликнула Евфимия. - Ты будешь жить. Я стану обихаживать, обласкивать тебя до конца дней.
Боярин не ответил, набирался духу, призывал силы, потом сказал:
- Мужайся. Конец мой - вот он! Так и не увижу тебя больше. Последнее, что видел, - нож ослепительный. Неотвратимый при моём бессилье… Я умираю.
- Батюшка, ты не умрёшь! - кричала Всеволожа.
- Кровь горит внутри, - стонал боярин. - А-а, это возбуяние, зараза… от грязного ножа. Я умираю… всё мутится… отвори окно…
Евфимия, шагнув к оконцу, приотворила створки, вернулась, а у Ивана Дмитрича нижняя челюсть отвалилась, рот разинулся безвольно, рука обвисла…
Осиротевшая узрела, как над отцовым телом, словно над землёй в позднеосенний утренник, восходит лёгкой дымкой испаренье. Как ветерком дохнуло мимо её и унеслось в окно. Не из окна был ветерок, а из одрины. Приотворенные наружу створки, показалось, ещё больше распахнулись вширь.
Вошёл с Полагьей лекарь Ерёменко, по-немецки Герман. Заглянул в пустые очи боярина, чуть побелел лицом. Сжал в пальцах вислое запястье, отпустил.
- Боярин Иоанн есть мёртв.
Немец уже ушёл, а домочадцы ещё долго оттаскивали дочь от мёртвого отца.
14
Всеволожа в одиночестве бродила по саду. Сбылось недавнее пророчество Корнилия: она осталась круглой сиротой. Спустя день после похорон явился к ней старший великокняжеский дьяк Фёдор Беда, предъявил государеву грамоту. «По Божьей воле, - читала она, - и по нашей любови, Божьей милостью, се яз князь великий Василий Васильевич, московский и новгородский, и ростовский, и пермский, и иных…» Далее, продираясь сквозь велеречие древних могучих словес «понеже», «обаче», «юже», Евфимия уразумела, что за вину отца имение его и родовое, и пожалованное, изымается в казну. Под грамотой синела печать Василиуса: всадник с копьём, находящемся в покойном положении остриём вверх. Боярышня спросила дьяка, когда хоромы покидать. Он определил урочный день: спустя седмицу. Стало быть, нынче, в четверток, придут чужие люди и заколотят двери. Рухлядь и ценности разрешено взять лишь ей принадлежащие.
Боярышня припомнила, как в детстве гостила у своей сестрицы Анисий, вдовы князя Андрея Серпуховского, умершего от язвы. По молодости он не изготовил завещания. И весь его удел нечаянная смерть передала в великокняжеские руки. Вдове остались дом в Кремле и две деревни на кормление до истеченья живота. Не стыдно, не позорно, с честью отнималось у княгини мужнее добро. Однако и она крушилась при прощании с серпуховской усадьбой. Об руку с отроковицею-сестрой и дитятком-дочкой Анисья прохаживалась в засени дерев и грустно напевала тихие слова, упомненные юной Всеволожей, как заученные. Потом боярышня многожды возвращалась мыслями к тому вечеру, мурлыча полюбившийся распев. Однако пропевать всю песню не было причин. Судьба её не нудила прощаться с насиженным гнездом. Теперь же изгнанная из родного дома пела, не опасаясь быть подслушанной, не пряча маленького голоса:
Ты прощай, мой прекрасный рай! Оставайся, зелёный сад! Больше мне, молодешеньке, Не бывать да не хаживать, Во саду-то не гуливать. На лужайках не сиживать Ни пригожей девицею, Ни честною невестою, Ни часком, ни урывочком, Ни гостевой минуточкой… Ты прощай, мой прекрасный рай, В руки алчные отданный, Из хозяйских в холопские… Не увянь, мой прекрасный рай, Без души испрокуженный Да без сердца истоптанный Тиуном-греховодником, Злой, лихой молодицею…После похорон боярина Иоанна, погребённого не в Кремле, а на общем кладбище с чёрными людьми, дом быстро опустел. Первыми его оставляли холопи, отпущенные наследницей по наказу покойного. Затем вольные домочадцы покинули многолетнюю службу по найму. Последними уходили Кумганец со своей любавой Полагьей, щедро одарённые пенязями и ценной рухлядью. «Прости, моя госпожа!» - упала сенная девушка в ноги Евфимии. «Бог простит. Бог даст счастья», - поднимала её боярышня. Полагья сообщила, что они с Кумганцем намереваются пробираться в Вятскую республику, где данщики и боровщики не обирают народ, где бояре введённые не самовластвуют в городах, а путные, состоящие в должностях при дворе, не получают кормления неправедными поборами, где вместо околичников в околотках, становщиков на станах, волостелей в волостях, наместников в городах наблюдают жизнь и порядок выборные, совестливые люди. Там Полагья с Кумганцем на боярышнины щедроты купят землицу, обвенчаются и заживут семейно в сладостных трудах, прочном покое. Всеволожа, поразмыслив, не посоветовала им такого заманчивого пути. По её рассуждению великие князья Суздальской земли не потерпят непокорных вятчан, помогающих удельным властителям в любой подирушке или усобице против московской власти. Вятке сильная Москва - меч над головой, Москве же смутьянка-Вятка нож в спину. Потому скорее рано, нежели поздно, дотянется рука ежели не Василиуса, занятого внутреннею борьбою, то его более удачливого преемника, непременно дотянется до вятчан, и наступит там плач и скрежет зубов, как в Писании сказано, и житье там окажется нетерпимее здешнего[6]. Полагья внимательно слушала, а потом сказала: «Понадобится, Евфимьюшка, приклонить голову, прибудь в Хлынов[7], найди в красных рядах товарника Филиппа Казачковича, новгородского гостя, он нашему Кумганцу какая-то вода на киселе, он тебе и укажет нас, а мы до скончания живота - твои слуги». Что поделаешь с тугомыслицей? С тем и покинули якобы выморочный дом будущие вятчане. Остался один Олфёр Савёлов. Этот стоял на своём, аки столп, неподвластный бурям: «От тебя, госпожа, - ни шагу!»
Чуть ли не ежедень наведывалась Акилина Гавриловна. Она и Андрей Дмитрич Мамон помимо домочадцев были единственными, отдавшими последний долг опальному Всеволожу. Без них Евфимия не одолела бы горьких, суетных, хлопотных похорон. «Дочь моя восприемная! - ласкала её амма Гнева. - Отправлю-ка тебя в Нивны с Властой. Подал её от оборотня Василиуса и его злицы-матушки. Бонедя уж там, у лесных сестёр. Карион, её суженый, оказался в числе пятерых, умчавшихся ополночь с бывшим великим князем в Галич. Разлучила временно их судьба. Вот и тебя приютят сестрицы-тайнницы, да так, что никакой соглядатай не обнаружит». Евфимия согласилась, мечтая втайне уговорить Агафоклию подвергнуть её успенью, послать душу в паломничество лет на двести в будущее. Пусть там ждёт ссылка за Камень, в землю Югорскую, однако ж вместе с семьёй. Здесь же кроме пестуньи Акилины Гавриловны не осталось у круглой сироты ни одного истинно близкого человека, ради коего стоило бы продолжать жить. Договорились отправиться с Властой в последний урочный день. Узнав решение госпожи, конюший Олфёр Савёлов нипочём не согласился оставить её, настоял ехать в собственной карете и самому быть возницею. Перед тем ему требовалось завершить кое-какие домашние дела, кое с кем рассчитаться. Он исчез на несколько дней. Объявился лишь нынче поутру. Тут же принялся готовить отъезд. Коробья Евфимьины были собраны. Она ожидала В ласту. Мамоны же, спустя день, должны были сопровождать своего князя в Можайск, а после приехать в Нивны, где все и встретятся.
Почернели завязи яблок, прихваченные откуда ни возьмись летним заморозком. Облетел цвет сирени. Евфимия пошла к дому и уже по пути услышала зов Олфёра из отворенного окна столовой палаты:
- Госпожа, всё готово!
Ещё с утра он вызвался за отсутствием кухарки Домницы самолично изготовить естьё. Евфимия нашла на столе жаркое из куриных кишочков и печени. Славный на вкус вышел потрошок. И лицо Олфёра сияло. Он, как заправский кравчий, прислуживал у стола. Евфимия со стыдом вспомнила, что намедни говорила Акилине Гавриловне, дескать, есть люди, без причин действующие на нас неприятно. Нечего им поставить в вину, а неуютно при них и тошно. К таким она отнесла Олфёра. И вот каялась про себя. Самый верный слуга! Хотя и теперь под его улыбчивым взором боярышню мороз подирал по коже. Явилась Власта.
- Мой узелок в карете.
Олфёр тут же под благовидным предлогом вышел. Перед отъездом предстояла последняя проверка всего и вся.
- Я рада. Мысли твои покойны, - примолвливала Власта, помогая одеться боярышне.
Прощальный взор на родовое гнездо был брошен сквозь слёзы.
Карета с одинокой орлицей в гербе дёрнулась и покатила со двора.
В оставленные ворота по-хозяйски входили чужие люди.
«Прощай, мой прекрасный рай!»
Вот уже и застенье. Колеса протарахтели по брёвнам моста над Неглинной. Кони помчали по Воздвиженке мимо купеческих теремов к Можайской дороге. Боярышня Всеволожа удалялась в изгнание, может быть, до скончания живота.
- У тебя мысли злые, сестрица, - внезапно сказала Власта, - Отвлекись мыслями.
Только что Евфимия вспомнила слова псалмопевца Давида, сказанные много веков назад как бы о нынешнем великом князе московском: «Ты сирот оставлял с пустыми руками. За то вокруг тебя петли, и возмутил тебя неожиданный ужас, или тьма, в которой ты ничего не видишь».
- Поведай, умница, - попросила Власта, - пришёл ли в нашу землю покой с возвращением законного венценосца?
- Распря лишь начинается, - провела нежными перстами Евфимия по загрубевшей в лесной работе руке своей спутницы. - Князь галицкий уступил, старшие же сыновья его не вложили меч в ножны. А родитель отстанет ли от детей? На харатейном пергаменте и отстанет, а в жизни нет. Ратная же доблесть Василиуса, судя по Клязьминской битве, сомнительна. Вот и жди вскорости нового великого князя на Москве…
Обе вдруг едва не стукнулись лбами. Кареть резко остановилась.
В сумеречных слюдяных оконцах замелькали тени.
Дверца распахнулась стремительно.
В предночной час смоляной бородач показался синим.
- Выходи, боярышня Всеволожа! Евфимия не шелохнулась.
- Кто будете?
- Кто никто, выходи! Иная кареть для тебя готова. Девка поедет своей дорогой. Ты - с нами.
- Шиши? - спросила боярышня.
- Мы не воры, - чуть оторопел бородач. - Княжьи воины. Есть до тебя понадобье. Пересядь, не буди в нас силу.
- Он не шиш, - шепнула Власта. - Страшится не исполнить чужую волю. Я за тебя спокойна. Крадёжники хотят отвезти туда, где ты люба.
- Сунетесь, - гневно произнесла боярышня, - отведаете моего ножа. Затворите дверцу. Пусть возница едет.
Бородач прищурился.
- Твой возатай связан.
Грубо, нетерпеливо вторглись в мирные переговоры наружные голоса:
- Румянец, хватит!
- Софря, изымай куклу!
- Ельча, заходи сзади!
Некто дюжий втиснулся в кареть и отпрянул с воем, залившись кровью.
- Ой, ужалила! Будь она проклята…
В то же время медвежьи лапищи сдавили плечи со спины. Неиспытанная доселе мощь пушинкой вынесла Евфимию из кареты.
Власта же сквозь отверстую дверцу внушала по-прежнему:
- Не пугайся.
Ельча развязал Олфёра. Румянец возился с рукой раненого. Против лёгкой кареты высилась обшарпанная грузная колымага, запряжённая шестерней.
- Дозволь со спутницею проститься, - обратилась обезоруженная похищенница к одолетелю.
- Простись, - разрешил Ельча. Евфимия с Властой обнялись.
- У них нет зла, - шепнула ведалица мыслей. - Тебя просто умыкнули.
- Кто умыкнул?
Выслушать ответ не дозволили. Насильно усадили в неуютную повозку. Ельча устроился на облучке, Румянец и Софря - с пленницею в трухлявом коробе. Шестерня рванулась, как шесть ветров. Обшивка ныла. Доски жалобно скрипели. Вот-вот развалится дрянная колымага. Охраныши помалкивали. Расспросы Всеволожи, грозные и мягкие, звучали втуне. Ночлегов не было. Четыре постояния, две трапезы за нощеденство. Спи, сидя и трясясь. Кони крепкие, повозка хлипкая - не очень-то вздремнёшь. Похищенники перемол вливались о неважном для Евфимии. Ей же - неизменные три слова: «Ешь», «Садись», «Сходи». Последнее, когда просилась по нужде. Пускали по ту сторону повозки, сами становились так, чтоб видеть, если отбежит с дороги.
Селения мелькали за оконцем незначительные. Шестерня не замедляла бега. Но вот всё тянется и тянется обширное подградие. Боярышня увидела высокий тын на земляном валу, соломенные кровли, низкие лабазы, площадь, дубовый кремник. Высокая угловая башня, вскинутая, как большой палец, придавала кремнику победительный вид. Протарахтев над рвом, кареть остановилась.
- Червлёный плат! - раздался грубый голос.
- Кровь из носу! - ответствовал Ельча. Раскрылись толстые, скрипучие врата.
- Как именуется сей стольный град удельный? - полюбопытствовала московлянка.
Софря молвил:
- Кострома.
Доставленную возвели под руки на высочайшее крыльцо.
Нагаечники гнали любопытных прочь.
Бревенчатый дворец под луковичными закоморами был сказочен и пах сосной.
В сенях в длинной до пят ферязи, отороченной кружевами, стоял князь. При входе Всеволожи он изрёк кому-то:
- Славно Олфёр Савёлов спроворил дельце!
Тихо было произнесено, однако слышно. Полонённая обратилась к князю:
- Что за нужда, Васёныш, в похищении моём, столь хитром?
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
Второе падение с трона. «Не изменяй мне в злосчастии!» Затворник Макарий. В Орду или в небытие? Нечаянная кончина.
1
- Ну, чуть созорничал… Офима!.. Вспомни, как жука впустил тебе в рукав. Ещё твой батюшка, боярин Иоанн, стебнул меня указкой… Ну, не серчай! Всё объясню…
Василий Юрьич проводил похищенницу к самой бане, где костромские мамушки оттёрли и отпарили московскую боярышню от тягот грязного пути.
День стал вечораться, когда опрянутую путешественницу честь честью усадили за длиннющий стол, накрытый для вечерней трапезы. Вошёл Васёныш, растворил оконницу, впустил в столовую палату закат и яблоневый воздух. Блюдники бесшумно возникали, исчезали. Князь с боярышней сидели за столом одни.
- Сама бы нипочём не согласилась скрыться под моим крылом, - оправдывал свой дерзостный поступок Василий Юрьич. - А ведь мне ведомо, - он предложил гостье почки заячьи на вертеле, она не приняла. - …мне ведомо, что ястребица Софья, дщерь Витовтова, ох как нацелила в тебя свой коготь! - Он подал рябчиковый студень, она отвергла. - Ну кто ж, кроме меня, твоя опора в сей ненастный час, скажи на милость? - спросил он. - Не хочешь дичи, так отведай кундумцов, - князь придвинул вареники с говядиной в подливе, Евфимия отставила. - Ты рассуди, - продолжил он, - Василиус - кровавый головник твоего батюшки. Иван Можайский многожды оглянется, пока мизинцем шевельнёт. Вася, внук Голтяихи, женился и замумрился в своём Боровске. Мне, только мне доверил бы Иван Дмитрич твою судьбу, когда б хоть как-нибудь сумел донесть до нас свою отцову волю… Не желаешь кундумцов? Предпочитаешь дбиво? - князь повелел внести молочную еду. - Возьми губчатый сыр, - потчевал он творожной массой, сбитой со сметаной. - И это не по нраву? А вот ельцы разного вида, - указал он на фигурное печенье. - Вот шишки, - предложил сладкие круглые булочки. - Ты отчего не пьёшь медок? Есть и с мускатом, и с гвоздикой. Больше по нраву ягодный? Ах, тоже не по нраву? Поешь мазуни, - подал он сладкую массу из редьки с патокой. - Голодная встаёшь из-за стола? Офимушка! Ведь ты одна. Как перст, одна! Доверься же заботе любящего. Я не так плох, ей-Богу! Согласись, Офима, стать моей княгиней!
- Сии глаголы, - молвила Евфимия, - не мне бы слушать, а племяннице Устинье. Ждёт не дождётся обручённая твоей женитвы. Не будь презренным обманилой!
Косой заметно побледнел.
- Офима! На мне тягчайший грех, да только не обманство. Устинье ведомо, чей образ ношу в душе. Она смирилась. Её любовь без гордости. Лишь волею наших отцов нарёк я нелюбимую невестой. И не набрался силы сдержать слово.
Оба почти рост в рост стояли, глядя друг на друга, Василий Юрьич с мольбой, Евфимия с холодным гневом. Об их последней встрече в Набережных сенях мельком, когда он убивал, она была случайной очевидицей, нынче - ни полслова. Он, правда, обронил намёком про «тягчайший грех», она смолчала.
- Коли добра желаешь, - заговорила Всеволожа, - отпусти. И я забуду твою погрубину. Прошу не колымагу, не кареть - хорошего коня. Людей не надо, ускачу одна. Сама себе найду заступу.
- Где? В ком? - нахмурился Косой.
- В Твери, в монастыре, у инокинь, моих сестёр. Помнишь вдовых княгинь, тверскую и серпуховскую?
- Ужель мать Усти, Анисия, постриглась? - спросил Косой. Евфимия кивнула. - Ты тоже… наденешь куколь? - ужаснулся князь. Она поникла. Василий Юрьич распростёр руки, стал, как крест. - Не отпущу! - Боярышня вздохнула, покачала головой. - Пути не безопасны нынче, - объяснил он. - Василиус послал литвина Патрикеича с великой ратью к Костроме. Хочет сломить меня и брата. Забыл Клязьму! Вот вернёмся на Москву, сама решишь свою судьбу.
- Вернёшься ли? - засомневалась Всеволожа. - Хвалишься допрежь победы? Кто на похвальбе ходит, посрамлён бывает.
Косой принял смиренный вид.
- Твои слова всегда - хоть прямиком в Евангелие, мои же и в татарский Пролог не годны.
- Дозволь пойти на опочив, - предприняла попытку обойти его Евфимия. - Неможется с дороги.
Князь не стал противиться. Боярышня ушла в свою одрину.
Оцепенев в тяжёлом сне, она увидела, что сызнова вздымается на высоченное крыльцо, взирая снизу вверх на двух князей, Косого и Шемяку. Первый плотоядно ухмыляется, второй глядит невинно, мол, я тут ни при чём. И вдруг - кудлатая большая хамка на её пути. Боярышня нисколько не боится псины, хоть та разверзла пасть, взяла зубами локоть, подымается за нею… А наверху - ни горниц, ни сеней - бескрайня равнина под аспидным покровом ночи. Там и сям при свете факелов или костров - людские сонмища. Она проходит к тем, к другим… Где пляшут, где дерутся, где ревут, друг друга утешая. Заблудшая ищет приткнуться, отдохнуть и не находит ничего уютного: то слишком шумно, то болотом тянет, то открыто всем ветрам… Какая темень, бесприютность, одинокость!
Вдруг чьи-то губы на её губах. Сон или явь? Отвела взор от крутых скул, от страшных глаз Косого. Углядела на столе свечу в медном подсвечнике. Князь в ночной рубахе довлел над нею, дыша хмельными вонями.
- Васёныш! Ты вздурился? Непопригожу пьян…
- Фиал… один фиал для храбрости, - урчал он, приникая к ней.
Не в силах шевельнуть руками, сжатыми им, Евфимия соображала, ища выхода.
- Батюшки нет, заступы нет! - беспомощно взывала она к лучшим чувствам, если таковые у Васёныша остались.
- Беру в жены… Боярин хотел этого, - возился он с её песцовым одеялом, покрытым полосатыми дорогами.
- Ты обручён! - кричала Всеволожа.
- Обручён, не венчан!
Он отнял руку сбросить скомканное одеяло. Она свободною рукой давила его горло, как научилась у Бонеди, чтоб силы покидали и в очах меркло. Ах, левая рука не правая, хватка не та! Железная клешня отринула её.
- Насилком? - билась под Васёнышем Евфимия.
- Насилком! - яростно отвечал князь.
Он разодрал на ней панёву от ворота и до подола. Она вонзила два перста в его глаза.
- У! - застонал Косой.
Простору между ними не было. И света мало. Пальцы вошли не точно. Попали не в зеницы, в вежды. Ногти оцарапали края глазниц. Он снова приковал её к одру. Она удачно попала коленкой в пах. Косой кувякнулся с высокого одра, увлёк её с собою, и оба покатились по рытому ковру. Стол опрокинулся. Свеча упала на пол и погасла. Их руки были сплетены, борьба велась ногами. Князю преизрядно мешала длинная рубаха. И всё же он одолевал…
Теряя остатки сил, Евфимия воззвала во весь голос:
- Услышьте, небеса, море с землёю! Вкусите моих слёз рыдание!
Косой внезапно отвалился вниз лицом, ударил кулаками в ворс ковра.
- Ты одолела… Я бессилен!
Час рассвета обозначил весь разор в жилище пленницы. Она, стоная, поднялась и обернула наготу в подхваченное с полу одеяло. Васёныш на коленях полз к её ногам.
- Прости… Был в о держании… Такая от тебя исходит мана! В огницу ввергла, в лютую горячность.
- Насилу не быть милу, - вымолвила Всеволожа.
- Огрешился! - принял Косой повинный вид. - Мечтал тебя насилком обрести.
Евфимия, стуча зубами, натянула на ноги мягкие кожаные четыги.
- Жить под насильщиной не стану. Князь поднялся с колен.
- Истинный крест, Офима, не пойму, как это сталось. Вместе же росли… Помнишь, вирши у тебя украл, кои Иван Дмитрия для нас придумал на правописанье буквы «ять»? - и он, напрягшись, прочитал по памяти: «Ъхал лъсом бълый бъс, «Ъсть хотъл и в съти влъз».
- Прелестник! - фыркнула Евфимия. - Взгляни, пожалуй, в каком ты виде, в каком я.
Васёныш оглядел себя в ночной рубахе, бормоча:
- Уйду, вымолив прощенье за невольный грех.
- За вольный вымоли прощение, - жёстко сказала Всеволожа. - И не предо мной, пред Богом!
Князь выпучил глаза, спросил, перекосясь лицом:
- За какой… вольный? Похищенница собралась с духом.
- За убийство старика Морозова в Набережных сенях.
Косой не бросился на неё вдругожды, выскользнул за дверь, громыхнул наружными засовами.
И надо ж было ей несдержно прокричать вдогон:
- Из-под семи замков сбегу!
2
Ей услуживала маленькая татарка по имени Дзедзе. В чёрном балахончике она мухой летала по боковуше, жужжа свои непонятные песни. Выносила ночную посуду, стирала пыль, подавала пищу. Входя, говорила «менду», уходя - «байартай», - стало быть, здоровалась, прощалась.
Боярин Всеволож знал татарский изрядно, а дочь не выучил, не успел. Углублялся с ней в латынь, греческий, немецкий, а позднее арабский. Попыталась Евфимия обратиться к Дзедзе с несколькими словами на арабском, та лишь головой потрясла, хотя удивилась изрядно.
Когда Дзедзе не летала во боковуше и не подсматривала в дверную щёлку, Евфимия отдыхала, расслабившись, углублялась в пережитое, исчезнувшее с гибелью батюшки навсегда. Кто теперь остался ей близок? Инокини-сёстры далеки, как прежде. Племяшка Устя последнее время была чужда. Теперь ясно почему: узнала об их совсельничестве в сердце Васёныша. Кто же остался? Акилинушка свет Гавриловна, амма Гнева! Помнит ли свою подопечную? Жалкует ли о ней?
Дверь-скрыпуха приотворилась.
- Гостя не примешь ли?
Дмитрий Юрьич Шемяка! С каких пор не виделись? Должно быть, с великокняжеской каши.
- Фишечка, что за вид! Знать не знал, ведать не ведал. Заполночь прискакал из Галича и вот - на тебе! Огорошен с утра. С братом вошёл в немирье.
Взбудораженная ночным поединком Евфимия обрушила на него всю обиду, будто пред ней не Шемяка, а Косой:
- Не ждала такой чести. Вырвусь, всё Юрию Дмитричу открою, как на духу. Думаешь, постыжусь?
Гость присел на деревянное стольце со спинкой и подлокотниками.
- Ой, Васька! Ополоумел… А челобитничать батюшке? Сама видела: боярина Симеона братец порешил, и какая кара? Отец вроде бы отрёкся от нас, а галицкую дружину прислал. Так что потерпи. Попытаюсь послабить твою невзгоду.
Евфимия заголила рукав.
- Погляди, какая опухлина!
Князь сочувственно перевёл взор от девичьей белой руки к затуманенным очам Всеволожи.
- Отхрястал бы мерзавца! Старшинство его охраняет.
Шагнув к оконнице, он с треском растворил её.
- Душно у тебя, как в порубе.
- Не в силах была открыть, - глянула Всеволожа на разлетевшиеся по полу шипы и подошла вдохнуть воздуха. - Ох, как высок ваш терем!
Князь Дмитрий стал бок о бок.
- Наш дворец высок! Гляди, сколь мелко с высоты земное людство, - надменно указал он на толчею торговой площади. - Кони - тараканы, люди - блошки…
- Мы не блошки? - глядела вниз Евфимия.
- Мы во какие крупные! - шутя коснулся Дмитрий Юрьич её плеч.
- Спускайся, станешь блошкой, - устремилась взором Всеволожа к яблоневым огородам, что отделяли площадь от княжого терема.
- Слышь, божья коровка, - ласково сказал Шемяка, - может, смилуешься и излечишь братца? Сели бы пирком да за две свадебки - мою с Софьюшкой, твою с Васенькой…
Похищенница отскочила от окна и долго испытующе смотрела на Васёнышева брата.
- Что… что глядишь? - насторожился он.
- Два братца одним поясом опоясаны, - истиха повторила она слова Андрея Голтяева на великокняжеской каше.
Шемяка не осерчал.
- Завет отцов: жити за один! - и горестно развёл руками. - Я к тебе с добром, а ты…
Евфимия произнесла наставительно:
- Пришёл с добром, уходи с добром. Князь шагнул к двери.
- Изволь, уйду. - У самого порога обернулся. - А верно ль брат услышал, будто ты грозишь бежать из-под семи замков?
- Всё верно, - усмехнулась Всеволожа. - Хоть из-под дюжины сбегу. Ведь я кудесница. Такие сотворяю кудеса, что ахнешь. А Юрий Дмитрич будет знать: сынок-то старшенький - крадёжник! И Софья Заозёрская пусть ведает: жених-то лестливый, ласкает, да хитрит. Вот князь с княжной от сына с женихом и отрекутся. Да не на время, навсегда…
- Ну, злица! - вырвалось в сердцах у пожелтевшего Шемяки.
Дверь хлопнула.
Назвав обоих братцев Юрьичей насильником и сводником, Евфимия в тот день не тронула еду. Пила лишь взвар, что принесла татарка.
Отставив облитую глиняную кружку, ощутила неодолимое желанье спать. Спала без снов, не чуя времени. Проснулась же не отдохнувшей, а изнемогшей, будто пронеслась верхом от становища, где была в руках Анастасии Юрьевны, до дому. Голова гудела колоколом, грудь сдавил незримый груз. А что с глазами? Одрина кажется не той, где стала поединщицей Васёныша. Окно будто бы там же. Пластьё на потолке поуже. Вот уж воистину помержилось! Евфимия, едва набравшись сил, прошла по своему узилищу и села на одре с тяжёлой мыслью: не помержилось! Вдолжки одрина - пять шагов, а та была пять с половиной, вширки - всего-то три, а та была - четыре.
Татарка унесла нетронутой махотку с кашей, сказав одно лишь слово:
- Дуругэй?
Должно быть, спрашивала: не желаешь, мол? Евфимия смолчала. Однако вскоре, увидав перед собой горшочек с мясом, объявила внятно:
- Не носи еду.
Дзедзе премного алалыкала. Потом пришёл Косой. Евфимия не разомкнула вежд. Васёныша узнала по шагам, по запаху. Он умолял, ругался, не добился ни ползвука. Осталось в памяти смешное выражение похитчика: «Не имеет внятельных разумений!» Сам не разумнее волка клыкастого!
Оставшись наконец одна, едва-едва сумела встать к ночной посуде.
Сколько ещё минуло дней то в сне, то в дрёме?
«Акилина свет Гавриловна, вспомянешь ли меня?»
Двенадцать лесных дев и амма Гнева ой как далеко!
«Ой, ой, ой, ой!» - звучал припев забытой песни, кою певал вдовый боярин Всеволож, принимая на руки от мамушек уашку-дочку, дабы погрузить её в родителеву теплоту. Не помнилась отцова песня, как не осталось ничего от раннего младенчества, а тут вдруг ясно повторилась слово в слово:
Я сегодня, сие ночи, Сие ночи те… Ой! Сие ночи тёмные Спала да высыпа… Ой! Спала да высыпалася, Побудки дожида… Ой! Побудки дожидалася От родного ба… Ой! От родного батюшки. Он меня неразбу… Ой! Он меня не разбудил, Дочушку жале… Ой! Дочушку жалеючи… Или избываючи?- добавила она уже от себя два тревожных слова.
- Машалла! - прозвучал над ней голос Дзедзе.
- Что лопочет ясырка? - спросил голос Косого. Евфимия знала: ясырка по-татарски - пленница, рабыня. Стало быть, Дзедзе ровня с ней. Страшна придворная выслужливость, ясырская страшна вдвойне.
- Лопочет: «Не дай Бог, коли боярышня помрёт от голода», - пояснил голос Шемяки.
- Вестимо, не дай Бог, - подтвердил голос Косого. - А что прикажешь делать? Лечец бессилен.
- Я отыскал тебе лекарочку, - прозвучал голос Шемяки, удаляясь.
Опять настала тишина. И длилась до тех пор, пока то ли во сне, то ль вьяви достиг слуха Евфимии распевный знакомый зов, сладостный до боли в сердце:
- Ба-а-рышня!
Ну до чего же ясный сон - Фотинья! Грибница без грибов, чародейка без волшебных чар, ослушливая, непутёвая сестра лесная.
- Ты - наваждение, - произнесла боярышня и ощутила шаловливый, но чувствительный щипок.
Потом они сидели, обнявшись, как два родные существа. Тепло от крепкого, здорового тела Фотиньи вливалось в ослабевшую заточницу.
- Власта оплошно не уберегла тебя, - звенел в отчаявшейся душе голосок драгоценной гостьи. - Амма Гнева ей ижицу прописала на заднем месте.
- Как… ижицу? - не поняла Евфимия.
- Две полосы на ягодицах от розог - вот тебе и буква ижица! - весело объяснила Фотинья и продолжила: - Янина сразу увидала: ты - в беде! Виновница - реветь: «Её умыкнул прилучник!» А ей в ответ: «Нелюбимый любовник страшнее зверя!» Амма Гнева послала меня на выручку. Уж я урядлива! Привлекла взор ближайшего Шемякина болярца Ивана Котова. Тот представил меня князю Дмитрию, князь - брату Василию. И - я здесь!
- Счастье, что ты здесь, - дышала её теплотой Евфимия. - Хоть чуть-чуть с тобою посидеть…
- Нет, не посидеть, - приникла к ней лешуха, - бежать!
Всеволожу позабавила её самоуверенность.
- Помочь бежать отсюда не в измогу даже лучшей ученице пани Бонеди.
Тут Фотинья соскочила с ложа.
- Кто ж как не Агафоклия тебе наврала, будто дара у меня нет? - сощурилась она. - Лжа, и только! Помнишь, как тебя потянуло на наш вьюнец?
- Какой… вьюнец? - спросила Евфимия.
- Ну, хоровод с песнями. Это я на опушке тебе внушила. А как амма Гнева не наказала меня? Посулила, да позабыла. Это я так захотела. Не сразу нашла в себе дар внушения. Истязала и дух, и плоть, чтобы вытянуть его и взлелеять. Попробуй-ка день-деньской глядеть на одну вещицу! Повесишь перед собой еловую шишку и… А, да что! - махнула рукою лесная дива. - Главное сейчас, в тебя вернуть силы. Притом блюсти мерность в пище, не нарутить здоровью. При побеге уложу на пол охранышей за дверьми, Софрю с Ельчей. Пусть дрыхнут, пока мы зададим лататы. А допрежь того входи в тело. Велю Асфане поспешать с естьём.
- Какой Асфане? - удивилась боярышня. - Мне услуживает татарка Дзедзе.
- Какая ещё Дзедзе? - в свою очередь удивилась Фотинья. - «Дзе, дзе» по-татарски «да, да», «ладно, ладно». Её зовут Асфана.
- Не разумею татарский, - смутилась Евфимия. - Тебе он ведом?
- Ещё бы! - Дева опечалила свой весёлый лик. - Родилась, выросла в Орде. Родителей-полонянников потеряла в мор. Нищенствовала на паперти русской церкви. Блаженной памяти князь Андрей Можайский, будучи в Сарае, сжалился над сиротой, привёз на Русь, выпестовал, как родную. Княгиня же его, литвинка Аграфена, испугалась, что сыночек её Вака слюбится со мной, прогнала из дому по смерти князя. Слава Богу, приуютили Мамоны. Амма Гнева приняла в своё сестричество.
Боярышня с большой натугой поднялась, взяла за руки сестру лесную, расцеловала в обе щеки.
- Господь воздаст тебе, Фотиньюшка, спасительница моя!
Дева оправила слипшиеся пряди на висках заточницы.
- Поверила в меня, голубка. Вот и славно! Возьмёмся за лекарство. Тем временем князья, наши враги, я мыслю, ещё не возвратятся из похода. Большую силу шлёт на них Василиус. Они в нём ещё видят удельного коломенца, а он великий князь Московский. Чем разрешится рать?
Боярышня, опершись на её руку, устало прилегла на одр.
- Я разумею, не его победой, - тихо молвила она. - Воевода Патрикеич стар. А Юрьичам отец прислал пособ.
- Нам всё едино, ба-а-рышня, - прижалась к ней горячею щекою Тинка. - Успеть бы на ноги тебя поднять. Пусть их дерутся. Наш путь не на Москву, а в Нивны. В жилище ведьм!
3
Евфимия выздоравливала в ненастье, а когда выздоровела и подошла к окну, утреннее солнце залило лож-ню золотом. Фотинья жмурилась у приоткрытой оконницы и, вскинув указательный перст, вслушивалась невесть во что.
- Тишине внимаешь? - улыбнулась боярышня.
- Тс-с! - шёпотом просвистела лесная дева. - Улавливаю, что предрекает воронограй. Есть у аммы Гневы книга такая гадальная. Грядущее открывается по крику ворон.
- Что же тебе вороны награяли? - продолжала усмехаться боярышня.
Лик же её спасительницы оставался строгим.
- Преграды накануне пути!
Евфимия так и села на одре, уронив руки долу.
- Чёрные светлого не накличут!
Её побег был решён. Хотя подробностей предстоящего Фотинья не знала до времени. Иван Котов, боярин Шемяки, думал-продумывал важные мелочи. Тинка ждала его последнего слова, чтоб всё боярышне сообщить потонку.
- Асфану вот-вот жду с ответом, - сжимала она ладонь в ладони.
- Асфану? - перепугалась Евфимия. - Преданную ясырку Васёныша?
- Ха! - отмахнулась Фотинья. - Ясырка, да не преданная. Ты в толк не возьмёшь, кто она такая. - Присев рядком, многознайка продолжила: - Асфана - главная жена любимца Улу-Махмета, молодого ордынского воеводы, Ханифа. Она ласково зовёт его «Канафи». Отец царского батыра, стало быть, её свёкор, состоял беклярибеком в Орде, ба-а-альшим начальником! Асфану похитили люди Улумахметова брата Кичи-Ахмета. Между братьями свара за царский стол. А похищенницу привезли по Волге на Русь и продали костромским князьям. Так что Асфана душой с нами!
- Не по нраву мне эта татарка, - призналась боярышня.
- И она поначалу сочла тебя за княжескую прилучницу, - вздохнула Фотинья, - а подглядела в щёлку ваше единоборство с князем, тут же преисполнилась жалостью. Слышишь, как теперь к тебе обращается - «кюрюльтю», что значит «желанная»!
Лёгкая на помине, Асфана вбежала и быстро защебетала по-своему, обратясь к Фотинье. Всеволожа улавливала лишь некоторые слова: «Мушкаф», то есть Москва, «нойон», то есть князь, «баурши», неведомо что, лишь после выяснилось: дворский, главный челядинец.
- А как толкуется «карапчи»? - сразу же захотела боярышня узнать особо привлёкшее её слово.
Асфана смолкла, Фотинья с неудовольствием прервала разговор.
- Что тебе, барышня, до отдельных слов? «Карапчи» может и чёрную кошку означать, и разбойника. Дело-то в том, что нынешней ночью замышляем побег. Всё готово!
- Асфану с собою возьмём? - спросила Евфимия. - Сама-то она согласна?
Ясырка взглянула на свою ровню, как бы впитывая её глазами, и вдруг бросилась обнимать боярышню.
- Согласная!.. Я согласная! - выкрикивала она.
- Ты разумеешь по-нашему? - построжала Фотинья. - Отчего же держала втайне?
- Скрывала, - призналась татарка. - Думала: больше слышать, больше знать. Теперь верю!
- Уф! - отступила Фотинья и широко распахнула оконницу. - Ну, подарочек!
- Не гневайся, - успокоила Всеволожа. - Я, попадись в плен к неверным, так же бы поступила.
- Кто неверный? - возмутилась татарка. - Ты неверный! - и выскочила за дверь.
- Не привыкла с ней к осторожности? - засмеялась Фотинья, глядя на боярышнину растерянность. - Подойди, воздуху вдохни. Душно, как в коконе!
Евфимия выглянула в окно и в ужасе отшатнулась.
- Я… не в своей… одрине! - надрывно произнесла она. - Давно примечала, шагами мерила… Думала - болезнь. Куда они меня вознесли? Зачем в подоблачную высь? Проклятое непроницаемое окно! Тинка, почему не сказала?
Из окна ей открылось совсем не то, что видела прежде, стоя рядом с Шемякой. Кони - не тараканы, люди - не блошки, всё настолько букашечное - не вдруг разглядишь. И никаких яблоневых огородов, торговой площади - серые крошечные крыши посада горбились глубоко внизу, серебряная под солнцем дорога большой реки, извиваясь, исчезала вдали, а за нею - зелёный рытый ковёр лесов, и конца ему нет.
- Успокойся, голубонька, - обняла Фотинья несчастную пленницу. - Ей-Богу, мне невдомёк. Ужли не ведаешь, где находишься? Зачем грозила братьям-князьям, будто сбежишь из-под ста замков? Асфана клянётся: понятия не имела, чем тебя напоила. Кухарь велел снести взвар, а в нём было зелье сонное. Вот тебя, спящую, и переместили туда, где надёжнее. Ты - в Стрельной башне! Слышала приговорку? Баба едет, хочет башню сбить, воевода глядит, куда башня полетит. Ну, перестань млеть личиком… А ведь вороны верно награяли. Не преграда ли нашему пути во-он та пыль на окоёме?
- Что видишь? - страдальчески спросила Евфимия у помрачневшей Фотиньи.
Дева, изогнувшись, сунула руку под подол, будто ногавицу поправить.
- А вот мы сейчас распознаем, какая беда грозит, - отозвалась она, извлекая непонятный предмет.
Евфимию поразило нечто знакомое: две металлические трубки вваяны в деревянный кожух. Фотинья приставила их к глазам боярышни.
- Ну-ка…
Всеволожа увидела войско, движущееся по широкой дороге. Впереди на белом и вороном конях - два брата Юрьича. И очи боярышни замутились слезами. Экое наказанье Божье! В преддверье побега - возвращение окаянных пленителей. Неурочное, перечёркивающее все надежды! Она вернула Фотинье зрительный снаряд.
- Андрей Дмитрия Мамон дивил меня таким чудом. Давал не две трубки, одну, зато длинную. В ней-то я и узрела тебя впервые на другой стороне реки. А сейчас такая назола сдавила сердце и очи - совсем ничего не вижу.
- И меня мудрый супруг аммы Гневы снабдил в дорогу чудной двуглазкой, - приняла Фотинья прибор, - чтобы нашу ясную звёздочку разглядеть да заполучить удачнее. Дай-ка вызнаю, что нам сейчас грозит. - Она некоторое время молча глядела сквозь зрительное двутрубие, потом стала говорить: - Ох, рать великая возвращается! Щиты, шлемы, рогатины, сулицы, копья, сабли, ослопы, топоры… А впереди братцы-полководцы - сёдла из жжёного золота, на конях - кожаные личины, сабли украшены золотыми хитростями, сами в латах, платье из пурпурного греческого оловира, обшито кружевами золотивши, сапоги - зелёный сафьян в золоте… Ишь, стяги заменили знамёнами!.. А вот и сайгат: на отнятых у врага конях- отнятое оружие… Гляди! Ах, тебе не видно…
Окованного в цепях ведут. Безбородый. Зато усы мощные - белым коромыслом, хоть ведра на них цепляй.
- Дай, - вырвала Всеволожа зрительные трубки у лесной девы и содрогнулась. - Это Юрий Патрикеевич Наримантов, литовский выходец, воевода Василиуса. Господи! В кобеняке из простого сукна, с чужого плеча… Сила мятежная сызнова одолела!
- Нам-то что! - отошла от окна Фотинья. - И та, и другая сила тебя не жалует.
- Я не о себе - обо всех, - отступила к одру боярышня. - Василиус какой-никакой, а Господень постав ленник. Беда помазанника - беда народа. Быть на Руси большой сваре, конец её никому неведом.
- Им свариться, нам в лесу ягоды сбирать, - рассудила Фотинья. - В сей чёрный час об единственном думать надобно: как самим спастись.
Асфана внесла взварные калачи.
- О, гужи с чесноком!- обрадовалась Фотинья. Один калач подала Бвфимии, другой сама надкусила и… тут же выплюнула. - Да они с рубленым осердием! Угодница-негодница! - гневно глянула она на татарку.
Та тем временем с удовольствием поглощала пирог-калач.
- Сегодня пяток, постный день, - объяснила ей Всеволожа.
- Их татарскому мясоеду нету конца, - проворчала Фотинья.
Асфана вышвырнула в открытое окно недоеденный кусок и выскочила из ложни.
- Лучше б не признавалась, что по-русски кумекает, - вздохнула лесная дева.
Однако обиженная тут же и воротилась. Лик каменный, а голос дрожит.
- Найоны! Сюда! - кратко сообщила ясырка.
За дверью послышался лязг оружия, многоногий топот, стихший где-то внизу. Выше затопали лишь две пары ног. И вот распахнулась дверь, вошли Косой и Шемяка.
- Оспешался тебя прежде всех лицезреть, Офима, - хриплым голосом заявил Косой.
- Хорошо же моя лекарочка Фишку поставила на ноги! - растянул в улыбке спёкшиеся губы Дмитрий Шемяка.
Боярышня и лесная дева молчали. Лишь Асфана тихо вымолвила:
- Берихелля!
- Что пролопотала ясырка? - спросил Васёныш.
- Лекарку назвала молодцом, - пояснил Шемяка.
- Добро! - Старший брат привалился спиной к стене, поглаживая маленькую бородку. - Лекарку награжу по достою. Теперь же пускай оставят нас, - метнул он взором в Асфану и Фотинью. Те вышли. - Ну что, Офима? - впился он глазами в Евфимию. - Кто на похвальбе ходит, всегда посрамлён бывает? Ха-ха-ха-ха!
- Твои остережения не сбылись, - вожевато обратился к Всеволоже Шемяка. - Одоление наше полное.
- Где рать тезоименкика моего, коломенца? - пылко вопросил Косой. - Побывай на поле у реки Куси: одни ту лова лежат! Как составили заставу из лучших воев, чтоб задержать врага, как послали вперёд сторожу, чтоб языка добыть, как развернули конную лаву дугой, чтоб охватить московлян, так и сдался литвин Патрикеич на полную нашу волю. Ныне, Офима, отвергший тебя Василиус очень недоволен им, как новгородцы недовольны были дедом его Наримантом, сыном Гедеминовым.
- Нам бы ещё пускачей! Слышал про знаменитую Витовтову пушку-Галку? - поднял Шемяка мечтательный взор горе. - Мы бы их заядрили!
- И без того тюфяки, присланные отцом, изрядно оказали себя, - отвечал Косой. - Пусть ядра мелкие, зато орудие, как дитя, на руках таскаешь с места на место. Уф! - присел он на стольце, уложив натруженные руки на подлокотниках. - Раздели, Офима, в братском застолье нашу победу. Ясырка принесёт тебе сряду, опрянешься попригожу.
Евфимия затрясла головой.
- Не неволь. Мочи ещё нет.
- Пойду пока, - толкнул дверь Шемяка. - Столкуетесь без меня.
Васёныш долго молча любовался сидящей на одре боярышней.
- Окажи честь, Евфимия Ивановна, пройдись со мною чуть-чуть. Хочу поверить, что ты во здравии.
- Из башни, куда засадил, спущусь, а подняться не хватит сил, - развела руками Евфимия.
- Полно! - уговаривал князь. - Сам снесу хоть на небо.
- Однажды ночью ты меня уже чуть было на небо не снёс, - нахмурилась Всеволожа. Однако встала из любопытства, поскольку ещё не переступала порога своего нового узилища.
За дверью остановилась как вкопанная. Широкий бревенчатый колодец пугал гулкой глубиной. На дне его переговаривались бердышники, на ступенях - охраныши. У низкого оперенья дощатой площадки чернел перед носом заточницы сказочный горюч-камень, привешенный к толстому кольцу в потолке.
- Эй! - крикнул вниз Косой. И крик его прозвучал богатырским громом.
Бердышники закропотались, сгрудясь. И камень на мощном волосяном ужище пошёл вниз, а взамен ему стала вздыматься вместительная бадья. Князь смело ступил в неё и, подхватив Всеволожу, поставил рядом с собой. Похищенница невольно прижалась к ненавистному похитителю.
- Небось! - ободрил Васёныш.
Пред ней промелькнули бородатые хари охранышей - Софри, Румянца, Ельчи. Затем проплыл вверх горюч-камень. И вот бадья осторожно ударилась о твёрдое земляное тло. Охраныши закрепили её.
- Знатно у вас придумано! - похвалила Евфимия.
- Тяжкие грузы таким способом доставляем ввысь, - пояснил Косой. - А ты для меня драгоценный груз, яко тонкий сосуд стеклянный.
Он взял поданный бердышником факел. Крупные ступени узенького прохода повели вниз. Запахло сырой землёй.
- Ввергаешь из подоблачного в подземный поруб? - поёжилась Всеволожа.
- Поселил бы тебя в лучшей своей палате, - пылко возразил князь. - Одно лишь слово! Теперь же веду не в подбашенную темницу - пусть там Патрикеич сидит, - а в сокровищницу свою…
Он резко толкнул с трудом отпертую железную дверь, злобно заскрежетавшую в ржавых петлях, и они очутились в большой коморе со стенами из дикого камня. Вдоль стен стояли железные коробья. Князь передал факел спутнице и стал отмыкать их поочерёдно. В неверном свете за откинутыми крышками замерцали сокровища.
- Глянь! - жарким шёпотом произнёс Косой. - Новгородки золочёны, серебряные западные рубли, вдвое дороже московских, золотые карабленники аглицкие с выдавленными морскими судами, каждый стоит двухсот наших денег. А перстни и колтки с самоцветами, цепи из чистого золота, регалии с ликами властодержцев латынских и ляховицких, серебряные блюда и чаши…
- На что мне видеть эту казну? - отвернулась Евфимия.
- Тебе! - пытался вложить Васёныш в бесчувственную ладонь золотой кругляк. - Всё - тебе! Только будь со мною…
- Ни с тобой, ни с твоей казной, - строго объявила упрямица. - Душно здесь.
- Кострома не люба, Москву возьму, - не сдавался Васёныш. - У Пречистой тебя поставлю на месте злипы Витовтовны и глупыхи Марьи. Позабудь ночную погрубину, стань моей княгиней, Офима!
- Выведи меня. Мочи нет, - взмолилась боярышня. - Не держи, как Патрикеича, в земле. Дай дохнуть!
- Что ты, что ты! - заторопился князь, запирая лари, растворяя дверь. - Я ли тебя лишаю воздуху? Нынче же в дворцовую светлицу помещу, только не грозись побегом.
- В башне лучше, - возразила Всеволожа. - Там, вверху, воздух чище.
- На заточника не желаешь взглянуть? - внезапно предложил Косой.
Евфимия не колебалась.
- Изволь, пожалуй…
В тесном срубе князь убрал пластьё на середине пола, раскрыл яму.
- Жив, побитыш? - склонился он.
В ответ сначала загремели цепи, затем слабый голос сухо отвечал:
- Побит, да не тобой. Вятчанами, что присланы от батюшки-клятвопреступника отверженным сынам. Вас-то он спас, себя оставил без защиты. Великий князь следом за мной пошёл на Галич, вызнав про измену дяди. Вестило перед самой битвой мне донёс: Галич разрушен. Князь Юрий побежал на Белоозеро. Придёт и ваш черёд.
Евфимия с горящим факелом в руке глянула в яму. Лица наипервейшего боярина почти не разглядела, лишь космы и глубокие глазницы, из коих будто свет в неё ударил.
- Евфимия Ивановна?.. Ты… с ним? - ожёг её очами воевода.
Васёныш оттолкнул спутницу, закрыл яму пластьём. Идя наверх, он пропустил Евфимию вперёд и обратился с прежней просьбой:
- Отпразднуешь со мной и братом наше одоление?
- Не рано ль праздновать? - спросила Всеволожа. Она шла верхними ступеньками, князь - нижними.
Он дёрнул озорно её подол.
- Веришь старому немоге? А я скажу: твой бывший женишок скоро окажется по далее Коломны. Помяни слово!.. Пойдёшь к нашему столу? - спросил он, уже вышедши из подземелья.
Евфимию не ввёл в смущенье голос Косого, ожесточившийся заметно после разговора с заточенным воеводой.
- Сказала - нет!
Её ответ спустил с цепи озлобленность Васёныша.
- А нет, так и одолевай сама все триста тридцать три ступени… Эй, Софря, проводи!
Когда, преодолевши треть подъёма, боярышня остановилась и Софря подтолкнул её под локоть, она глянула вниз, встретилась с глазами бывшего приятеля по детским играм, крикнула:
- Чем дальше в лес, тем ты зверее!
Более не останавливалась, пока не заперли за нею дверь.
4
Фотинья пришла ночью, принесла молока с хлебом.
- Ах, барышня, покинули мы тебя. Как ты тут? Евфимия поднялась с ложа.
- Причастилась сна…
Лесная дева в мужеской сряде достала такую же и спасеннице, помогла переоблачиться.
- Испей. Поешь. Прибавь сил. Клетка растворена. Пришёл час лететь.
Пленница торопливо давилась пищей.
- С неурочным возвращением Юрьичей… по правде сказать… не ждала уже заветного часа…
- Что ж мы, по-твоему, - возмутилась Фотинья, - затянули аллилуйю, да скорей за аминь? Благо, ты удержалась в башне. Отсюда наш путь под землю. Выйдем к Волге, где она бережистее. Из подземелья - в пещеру, а из неё одним махом - в лойву, что ждёт под парусом. И - поминай как звали!
- Где Асфана? - завершила трапезу Всеволожа.
- Ожидает внизу. Охраныши закол одели в тяжком сне. Князья-винопийцы в доброй шкуре сидят, да в дурном уме. Болярин Иван решил: нынешней ночью самое время исполнить умысел.
- Знакомец твой Иван Котов решил? - переспросила Евфимия. - Стало быть, бежим. Ему видней нашего.
Фотинья тяжело вздохнула.
- Одно плохо решил: воеводу из земляной ямы увесть с собой. Привесил тягость на шею!
- Юрия Патрикеича? - усомнилась боярышня.
- И не отговоришь! - перебила лесная дева. - Попыталась - куда там! Ни вмолвить, ни впросить!
Евфимия поднялась.
- Я готова…
Загасили свечу, вступили в задверную тьму и замерли. Светыч в руке Фотиньи едва прояснял половицы над пропастью и крутые ступени вниз. Горюч-камень на толстом ужище казался страшнее, нежели днём.
- Отсюда меня Васёныш в бадье спускал, - сообщила боярышня.
Фотинья потянула её к ступеням.
- Ногами спустимся. От бадьи шуму много. Да и темничный страж один с ней не справится.
Молчание повисло в колодце-башне, как горюч-камень. Лишь старые ступени - скрип, скрип…
- Не разбудим охранышей? - прошептала боярышня.
- Нет, - сказала Фотинья. - Каждый оцепенел спень-спнём.
Взаправду, никто из троих не пошелохнулся. Софря привалился спиной к стене, свесив голову, похилившись к ступеньке на левый бок. Румянец вытянулся плашмя, пришлось беглянкам тянуть ноги, переступая, и крепко держаться за оперение лестницы. Ельча лежал неловко на ступенчатых рёбрах лицом к стене.
- Будто не дышат, - на ходу шепнула Евфимия. - Ты им внушила мертвецкий сон?
Фотинья не ответила.
У подножия лестницы ждала Асфана.
- Шибко долго, кюрюльтю Афима, - подосадовала она, называя Евфимию на свой лад.
У двери в подземелье темнел коренастый страж.
- Все, что ли? Ты, Фотинья Ивановна, со светычем наперёд ступай. Я замкну, чтоб идти спокойнее.
Известным Евфимии узким ходом достигли сруба с земляной ямой. У растворенной двери со свечой в руке стоял Юрий Патрикеевич Наримантов, засевший лучших бояр Василиуса и его отца, а теперь обвисший усами, охудевший до потери величия. Лишь глаза вызволенного из поруба вновь взорлились и глядели по-воеводски. В свободной деснице поблескивал обнажённый меч. Темничный страж тоже был опоясан мечом.
- А нам где оружие? - осведомилась Фотинья.
- Вам? Оружие? - удивился страж. - Девицам мужская тягость на что? Мечами крыс отгонять?
- Ещё какие могут быть крысы! - возвысила голос лесная дева. - Двоим мужам не управиться. Нам же с барышней меч - товарищ.
- Нил Нефедьин, охрабри красавиц оружием, - приказал полководец.
- И ясырку вооружить? - растерялся страж.
- Ай, не надо, не надо! - испугалась татарка.
Пока Нил Нефедьин отсутствовал, благородный воевода дворски обхаживал юных спутниц:
- Обе красавицы, обе боярышни, обе Ивановны! Не при этом бы свете, не здесь бы глядеть на вас!
Что обе они Ивановны, Евфимия уже знала после обращенья к Фотинье темничного стража, а вот что боярышни обе… Не ослышалась ли?
- Спасительница моя - лесная дева-ведунья, - поправила Всеволожа Юрия Патрикеича. - У неё дар внушения. Видел бы ты, боярин, как Фотинья усыпила охранышей! И ночному приставу не иначе она внушила извлечь тебя из поруба!
- Ха-ха-ха! - шумнул старый литвин. Мрачное подземелье не ответило эхом на его хохот.
- Полно безлепицу растабарывать, - осадила Фотинья. - Вон, Нил с двумя мечами. Я выбираю потяжелее.
Подземным ходом повёл Нил Нефедьин. Воевода замыкал шествие.
Идущая перед ним Евфимия отвечала на расспросы о своём похищении. Старик сокрушался:
- Ах, Иван Дмитрия - Царство ему Небесное! - умнейший государственный муж! И с кем задружился? С кровопускателями! Цена отцовой ошибки - мука дочерние. Эх, кабы не боярин Котов, ждать бы мне смерти, тебе - бесчестья!
- Ой! - не дослушала Патрикеича Всеволожа. - Я тельник оставила наверху.
- Нательный крест позабыла? - оглянулась Фотинья. - Как ты могла его снять?
- Вешала перед собою на стенку, Васёныш не догадался прислать икону в моё узилище, - оправдывалась боярышня. - Молилась на батюшкино благословение…
- Не тужи, - успокоил старый литвин. - Благословлю тебя на Москве новым тельником.
- Нет, надобно воротиться, - волновалась Евфимия. - Без креста не будет удачи.
- Шшш! - остановил шествие Нефедьин. Все замерли.
- Впереди звякнуло, - дрогнул голосом беглый страж. - Нас стерегут в пещере.
- И позади слышу шум, - отозвался воевода спокойно. - Отступать некуда. Поспешим вперёд.
Никто не проронил ни слова, пока не подошли к выходу.
Из полутёмной тесноты все враз выскочили в освещённое большое пространство.
Дикий камень вверху и по сторонам. Чадят железные светычи, воткнутые меж камней. В устье пещеры у подбережья, озарённого луной, выстроились в ряд трое кметей при латах с обнажённым оружием. У шлемов опущены личники с прорезями для глаз.
- Брось меч, переветчик Нил, - приказал крайний.
- И ты, темничник, не балуй с жизнью, - велел другой, обратись к Юрию Патрикеичу.
- А, челядь дерноватая, берегись! - крикнул правнук Гедемина и один устремился на троих, как сокол на воронов.
Нил кинулся ему в пособ. Фотинья сделала движение вслед за ними, да была вынуждена обернуться, ибо из подземелья в пещеру хлынула истинная дерноватая челядь с палочьем и ножами.
Евфимия видела перед собой воистые образины. А за спиной - лязг, выдохи, вскрики, стоны…
Она очень сосредоточенно отражала удары. В памяти - гнев Бонеди: «Повернуть себя!.. Как клетка персева?.. Бжух туда!.. Локець!.. Пёнта здесь!..»
- Ба-а-арышня! Пробиваюсь к тебе! - донёсся голос Фотиньи. - Второй! - звонко возвещала лесная дева, поражая ослопников. - Третий!..
- Ведьма!.. Я т-тебя щас достану! О-о-о…
Это уже перед Всеволожей пал незадачливый убиенец. Обычно Бонедя в поединке искала потолще дуб, чтобы обезопасить спину. Памятуя об этом, Евфимия отступала спиной к стене. Однако их было слишком много. Вот и удары стали держаться хуже: неметь начала рука. Без чуру тянулись изнурительные мгновения неравного боя.
- Увёртливая змея! У-у… - далее последовали слова, коих Всеволожа не поняла, и коноплястый малый рухнул перед ней.
В тот миг, пока другой не заступил его места, Евфимия увидала, что не удался её побег: Нил Нефедьин перешагивал трупы убитых кметей с бесчувственной Асфаной на плече, за собой тянул упиравшуюся Фотинью, та впустую размахивала мечом.
- Отпусти, холоп! Я тут ради неё… Отдай руку, презренный трус!
- Её уж не вызволить! - одолевал неудачливую спасительницу бывший темничный страж. - Скорей - в лойву!
Воевода, отступая за ними, отбивался как небожитель от земных тварей, то бишь от наседающих челядинцев.
- Оставьте их! - прогремел в пещере знакомый голос- Её нам надо. Враг с ними!.. - И вот тот же голос обратился к Евфимии: - Дерёшься, как богатырка! - И осёк нападавших: - Не теснись, петушье!
- Олфёр Савёлов! - громко выкрикнула боярышня. - Вдругожды предаёшь меня?
Тайный Васёнышев поддатень осклабился на её упрёк:
- Дело собачье: служим!
Евфимия продолжала бессмысленную борьбу. Рука ещё работала, меч сверкал… Мысль была одна: «Ни за что!» И вдруг снизу, словно из-под земли, сила адская дёрнула, повалила. Боль тут же пронзила локоть, меч выпал из руки…
Парень, что между ног нападавших подползал пластуном, теперь встал, оттолкнул своих:
- Прекратите колоть. Она - наша!
С десяток мужей, одолевавших одну женщину, отошли.
Лёжа лицом к выходу из пещеры, поверженная увидела, как пристала к берегу лойва с поднятым парусом, как вошли на неё по сходням Нил с татаркой на плече и Фотинья, силой влекомая Юрием Патрикеичем. Горсть преследователей высыпала на песчаный подберёт. Стрела с лойвы, поразив одного, остальных загнала в пещеру.
- Наша, да не ваша, - произнёс Олфёр, беря на руки побеждённую…
Он понёс Евфимию подземельем в обратный путь. Коптили факелы, едва мерцали светычи при недостатке воздуха.
- Не зря сердце подсказало ночью навестить башню, - рассуждал бывший конюший Всеволожей. - Гляжу: обереж мертва, верхняя комора пуста, вход в подвал заперт изнутри. Сгаркнул челядь, взломали дверь. Кметей снарядил. Конные по земле быстрей попали в пещеру, чем пешие под землёй. Жаль, не справились. Больше бы послать! Мой погрех!
- Не погрех - обременительный грех! - укорила боярышня. - Не боишься Божьей кары, Олфёр?
За укор он отплатил похвалой:
- Поражён, Офима Ивановна! Сражаешься, как орлица, мужам на зависть!
5
У бадьи на дне башни ждали, окружённые челядью, братья Юрьичи. Олфёр к ногам старшего опустил свою ношу, шумно выдохнул тяжесть нынешней ночи:
- Вот!
Василий Юрьич похвалил его, как в тот раз, когда впервые узрел похищенницу:
- Славно спроворил дельце! - И, обратясь к лежащей, насупился: - Что? Сбежала? То-то!.. Трое лучших людей погибли! Ельча, Румянец, Софря подло изведены окормом!
- Не может такого статься, - отозвалась Евфимия. - Они были усыплены.
Князь хлопнул себя по ляжкам.
- Бредишь?
- Фишечка в полу памяти, - подступился Шемяка. - Гляди, кровь на платье. Она изранена.
- Заступник! - скрежетнул зубами Косой. - Подсуропил мне змею-отравительницу, «лека-а-рочку»!
- Котов хвалил её, - отступил Шемяка. Старший брат, срывая голос, позвал:
- Ива-а-ан!
Приблизился скромный боярин с трехвостой бородкой в виде буквы «мыслете».
- Юная былица, Василий Юрьич, - тихо, но уверенно начал он, - нипочём не вызывала моих сомнений. Не иначе её Нил Нефедьин луками ввёл в соблазн. Ненадёжный малый! В нём я ошибся.
Мрачно глянул на него Косой, потом склонился над раненой.
- Ты что скажешь?
Хмельные вони заставили Всеволожу отвернуться.
- Ничего не скажу.
- Скажешь! - прошептал князь. - И не ничего, а всё! - Выпрямившись, приказал: - Снесите её в темницу.
- Промыть бы раны, наложить снадобья, - холодно, как лечец о чужом болящем, произнёс Котов.
- Вот и распорядись, - заорал Косой. - К утру чтоб была в исправности.
Боярышню перенесли на носилки.
- Тельник!.. Забыла… там… наверху, - приподнялась она из последних сил.
- Брат! - подал голос Шемяка. - Фишка оставила в своей ложне нательный крест.
- Сядь в бадью, Олфёр. Сыщи тельник в верхней коморе, - велел Косой.
Савёлов выполнил повеление. Челядинцы потянули за ужище. Махина пришла в движение: горюч-камень - вниз, бадья - вверх…
- Ужище поменять бы, - заметил один из махинных тружеников. - Истёрлось шибко…
Иной сглазит взором, а иной - словом. Лопнул в башне короткий звук. Следующий звук был - удар!
После удара - мёртвый миг тишины. И в этот-то миг явственно прозвучал в башне голос Евфимии:
- Божья кара!
Тут же оглушил её шум смятения. Она видела ноги, долгополую сряду челяди, слышала суетню, жалобы зашибленных. И всё это перекрыл визг Васёныша:
- Уберите её отсюда!
Под землёй она обратилась к челядинцу-ношатаю:
- Что сталось с Олфёром?
- Рваный мешок костей, - был ответ.
Её Внесли не туда, где зловонила яма - недавнее тесное заточение воеводы. Стены - не брёвна, - камень. Положили на жёстком ложе. Поставили светец в изголовье. Долго лежала она одна в полной тишине, ибо суета земная не проникала в подземный покой.
С дверным скрежетом вошёл человек, принёс белую льняную тканину.
- Разоблачайся до наготы. Накройся.
Она узнала бородку буквой «мыслете». Зачем Шемякин болярец Котов сам пришёл к ней в темницу? Распорядиться было велено ему, а не делать. Лишняя близость - лишние подозрения. Ведь это он до тонкостей изобретал их побег, да изобрёл не на славу. Теперь-то ему бы - в тень, и глаз не казать из тени.
Евфимия не успела высказать укоризны. Он вышел. А вскоре вернулся с банной шайкой воды.
- Что же ты?
- Не в измогу мне. Платье к ранам пристало. Отставив воду, он склонился над ней.
- Не обессудь. В отцы тебе гожусь, ты мне - в дочки.
- Где услужающие? - ёжилась от его прикосновений Евфимия.
- В сей час мне не надо слуг.
- Что есть «сейчас»? - не поняла Всеволожа.
Он не ответил. В местах ранений смачивал присохшую одежду водой, не очень-то избавляя страдалицу от великой боли.
- Потерпи, поточка, - глухо вымолвил Котов.
- Не смыслю такого слова, - подняла она взор.
- На родных моих северах птичка зовётся поточкой, - пояснил боярин. – Ты - птичка. И опять в клетке.
- Не пришлось Фотинье меня спасти, - вздохнула боярышня.
- Не судьба, - согласился Котов. Евфимия, помолчав, спросила:
- Софря, Ельча, Руманец воистину ли мертвы? Он отвечал не вдруг:
- Нил Нефедьин в честь княжого застолья угостил их вином. Для верности.
В коморе воцарилось тягостное молчание.
- Фотинья их усыпила, - начала Евфимия убеждённо. - У неё дар внушения…
- Выдумщица Тинушка! - дрогнул голосом боярин. - Любит представить чижа орлом. Авось доверчивые уверуют.
- Стало быть, - сделала вывод Всеволожа, - и Нилу Нефедьину не она внушила выпустить воеводу?
Котов крякнул, однако смолчал.
- И всё же она привлекла твой взор? - вспомнила узница Фотиньину похвальбу.
- Ей ли не привлечь меня? - загадочно произнёс боярин.
- Нашёл прелестницу! - через силу улыбнулась Евфимия. - Глаза-насмешинки,. губы-обиженки, нос-задавала!
- Изобрази-и-ила! - Котов пониже склонился над раненой. - Приглядись ко мне, ляпуниха. Инда узнаешь своё ляпунство.
- Ты… - у Евфимии перехватило дух.
- Я её отец, - выпрямился боярин. - Мать оставила её в зыбке. Мачеха невзлюбила падчерицу. Пристроил сироту у Мамонов, московских моих соседей. Души не чаяли! Гащивала подолгу и загостилась насовсем. Здесь её не помнит никто. По смерти мачехи звал, не дозвался: родная - дальше чужой!
- Она родилась в Орде, - растерянно возразила Евфимия. - Родители-полонянники рано умерли. Вырастил князь Можайский.
- Лгачка! - обозвал дочь боярин. - Живал я в Орде с князем Юрием Дмитричем, неволею брал с собой мачехину нелюбку.
- Её ты называл поточкой? - полюбопытничала Евфимия.
Иван Котов, ни слова не говоря, достал из-за пазухи забытый наверху тельник, надел на девичью шею.
- Слава Богу! - благодарно вымолвила Евфимия. Снадобья, коими пользовал самозваный лечец, не оказывали должного действия. Жжение в ранах не утихало.
И вновь озадачила мысль: зачем же он здесь? Взошёл в чело башни, доставил нательный крест - спаси, Господи! Однако стоило ли возлагать на себя заботы не по способностям? Разумнее послать княжеского лечца, нежели вредить самочинным лекарством. Возжелал он незнакомке добра по дочкину уговору. Теперь же, под лучом подозрения, держался бы от неё подалее.
- Утром будут тебя пытать, - прервал Котов размышления Всеволожи.
Боярышня приподнялась.
- Как пытать?
- Князь Василий приведёт ката. Потребует имена споспешников. Ноги повелит жечь на угольях. Для виски ты ещё слаба.
Затянулось молчание. Капли в тёмном углу падали, звуками отмеряя время. Узница замерла, откинувшись на одре.
- Батюшка в детстве читал из истории про Сцеволу, римлянина, - заговорила она. - Я, аки терпеливый Муций, сунула палец в пламень свечи, после прыгала по хоромам, тряся рукой.
- Все мы - одно семейство: люди! - вздохнул боярин Иван. - Однако что по силам орлу, того не превозмочь голубю.
- Нынче предатель Олфёр Савёлов орлицею меня назвал, - похвалилась боярышня.
- Коли откроешь моё имя под пыткою, - перебил Котов, - не токмо меня погубишь. Чурбак выпихнешь из-под ног попавшего в петлю Московского государства!
Всеволожа, опершись на локте, вглядывалась в него.
- Таимные речи ты доверяешь мне. Доверь ещё одну тайну: помимо Софри, Румянца, Ельчи лежат чьи-либо жизни на твоей совести?
Иван Котов молчал.
Евфимия сызнова улеглась.
- Не прогневись, боярин. Тоже открою тайное размышление: ведь поделом дочь-мечтательница не возвращается к головнику-отцу!
Котов стоял, согнувшись, будто оправляя полу кафтана… Вдруг звякнула сталь о каменный пол. Рухнул боярин ниц перед одром Всеволожи.
- Прости, Евфимия Ивановна! Прости Христа ради! Зло попутал замыслить бес, да не попустил исполнить Господь. Шёл я к тебе с ласкотой на устах, а за голенищем - с ножом. Иного пути не видел. И… не поднялась рука!
- Встань, лазутник великого князя Василья Васильича, - отозвалась Всеволожа. - Вызволение московского воеводы важней, нежели моё. Добавь к моим ранам смертельную, ведь их никто не считал. Скажи: не помогли снадобья. И на уста мне ляжет печать.
Встав, он нашарил на полу нож, сунул за сапог.
- Дай твоё оружие, - попросила Евфимия. - Спрячу. Будет боль не в измогу, вскрою руку, лишусь памяти… После разузнай, буду ли жива, и пришли лечца. Горят раны, как костры…
Он пошёл к двери, не отвечая. Всеволожа проводила его взором.
- Бог тебе судья!
Ушей боярышни достигла заглушаемая скрипом двери молитва:
- Одели терпеньем рабу твою, святая мученица Евфимия!
6
Узница ждала пытки. Уговаривала боль своих ран приближением более нетерпимой боли. Раны, казалось, внимали ей, и огнь их утихал. Сгорало масло в светце, вот-вот наступит тьма. Страдалица уже приняла её, смежив вежды, и угасание светца ощущала лишь обонянием. Сырой подземельный холод не отдавал тело сну. Хотя тяжесть перенесённого за ночь всё чаще окунала голову в забытье, как краюшку в мёд.
Глаза закрыты, однако сна ещё нет, бодрствуют впечатления порушенного побега. И вот они начинают путаться, перемежаться бессвязицей, будто бы книгу жизни своей боярышня изодрала в клочья, смешала и по клочкам перечитывает. Приходи, спасительная дремота! Наступай, сладкое забытье! «А? Нет, не сплю…» В глазах вращаются веретена. Ко рту прихлынули волны. Накатываются всё крупнее, всё медленнее. Подземный, надземный мир, в коем она страдала, отпускает, как раковые клешни, отступает, уходит вспять. Сердце замедляет прыжки, тело холодеет, кровь, кажется, прекращает свой ток. И только укрупняются волны, и тяжело дышать…
Вдруг совершилось страшное. Будто бы спохватившись, вскипает снулая кровь, тело бросает в жар. И хотя оно по-прежнему слабеет и вянет, под закрытыми веками движутся глаза, дёргаются брови, уста кривятся, руки, вздымаясь, падают…
Однако всего этого Евфимия уже не осознавала. Болезнь пришла как бы в её отсутствие. Сама она оказалась на четверть тысячелетия в прошлом. Не в подземельях затхлой Костромы, в блистательном великокняжеском дворце Киева. «Мамушка Латушка, не стягивай туго волосы, главоболие будет!» - упрашивала невеста дебелую добрую Платониду. А вокруг заливались девичьи голоса:
Уж благослови меня, Господи, Уж душу красную девицу. Уж на сегодняшний Божий день, Уж на теперешний святый час! Пособи уж мне, Господи, Походить, погуляти уж, Попричитать да поплакати…«Платонидица, государь внучку повелел привесть!» - оборвал песню свистящий шёпот. Обряженную повели в покои дедушки. Он привстал на большом одре, перекрестил русую головку, приник сухими губами к влажному лбу. Мудрый, закалённый в усобицах дедушка Святослав Всеволодич, киевский соперник суздальского властителя Всеволода Гюргича! «Отдаю тебя царственному жениху, любезная внука моя Евфимия, - ловит девичий слух слабый старческий голос - Обрети счастье в Цареградской земле, в светлых чертогах царевича Алексия, сына Исаакиева. Ступай встречь суженому, будущая греческая царица! Бояр я уже отправил к его послам, прибывшим за тобою».
От дедушки невесту повели в празднично убранные двусветные сени. И вот заиграли гудцы, заблистали золотные одежды придворных. В палату вступили греки в парчовых приволоках с собольими оторочками… Внезапно смолкло торжественное пипелование, пропали счастливые говоры, онемел дворец. И в этой немоте негаданно, не ко времени, неуместно прозвучал один-единственный возглас: «Великий государь Святослав Всеволодович только что почил в Бозе!» Зашаталась невеста Евфимия, внучка Святослава, правнучка Всеволожа. Её подхватили под руки. Потом были плачевопльствие, долгое смятение и очень далёкий путь. Куда? На чём? Представляла плохо. Мысли смешались. Тряска истомила вконец. Многие части тела нестерпимо болели. Страдания оказались длительны, и путешественница привыкла к ним. Успокоение же пришло столь нежданно, что она открыла глаза.
Перед ней сидел Карион Бунко в собольем зипунце.
- С возвращением к жизни, Евфимия Ивановна!
- Ты? Тут?.. Где я? - пролепетала поражённая узница, оказавшись вовсе и не в темнице, и не в тесной коморе в челе Стрельной башни, и не в боковуше Васёнышева дворца под семью замками.
Потолок низок, как в избе. Из оконца солнечные лучи позлащают тесовую перегородку супротив ложа. В косяке не дверь висит - занавеска из крашенины.
- Мы, боярышня Всеволожа, в сельце Падун, что под Костромой, - склонился к ней Карион. - Обережь тут невелика, да и опасности мало.
- Не возьму в толк никак, - перебила Евфимия. - Только что лежала в подземном узилище, изнемогала от ран, и вдруг… переизбыла всю боль, оттаиваю в избяном уюте, радуюсь твоей опеке, друг мой Карион, хотя ты должен быть ой как далеко!
Бывший кремлёвский страж широко улыбнулся, расправил кончики усов:
- Три седмицы назад я удивился не менее твоего, боярышня. Сошлись мы в бою под Галичем с длинноруким Осеем, бывшим моим под начальником. Помнишь, у Фроловских ворот коня тебе подводил, когда бежала от батюшки? Полоснул меня Осей, голову рассёк. А, узнав, сам же и притащил в наш лагерь. Из-под Галича князь Юрий Дмитрия побежал к Белуозеру. Я бы не перенёс дальнего пути. Старый князь послал меня на поправку поближе, в Кострому, к сыновьям, с жёстким наказом быть им со всеми силами встречь ему, когда вернётся с вятчанами. Молодые князья Василий и Дмитрий посоветовали отбаливаться не в городе, куда невзначай может нагрянуть Василиус, ибо засада оставлена слишком малая. Велели ехать в сельцо Падун, затерянное в лесах. Отбиться от татьбы люди есть, рать же вряд ли сюда пожалует. Утром, покидая детинец, выслушал я наказ Василия Юрьича: «Забери с собой узницу, что в темнице под башней». Ты представь, Евфимия Ивановна, мои радость с горем, когда в узнице этой тебя узнал! - Боярышня завела было речь о своих мытарствах, но Бунко перебил: - Не пытай себя сызнова. Подноготную без пытки от тебя слышал. Вся тряслась в огневице, попрекала же братьев Юрьичей без умолку. Немощное тело молчало, душа твоим гласом свидетельствовала. Маялись мы над тобой с тёткой Платонидой, здешней хозяйкой, думали - не жилица. Вдруг из Костромы - Шемякин болярец Котов. Деваху привёз - косая сажень в плечах. Она тебя и спасла.
- Косая сажень? - переспросила Евфимия. - Что-то не то, Карион. Фотиньей её зовут?
- Не угадала, - поднялся Бунко. - Ка-ли-са! - огласил он избу мощным зовом.
Откинулась занавесь на двери. Глазам Всеволожи предстала грубоватая ликом, зато здоровьем завидная дева.
- Я тебя знаю, - приподнялась на одре Евфимия. - Только не помню, кто ты.
Дева плюхнулась на сундук, затупилась рукавом, зашлась в рёве.
- Вот те раз! - плеснул руками Бунко. - Ты с чего? Никак с радости?
- Д-у-умала, никогда-а-а не проснё-ё-ётся! - выла целительница. - Так и будет с зажившими ранами вечно спа-а-ать!
- Я узнала тебя! - обрадовалась боярышня. - Ты - лесная сестра Калиса. Нечувствительно немощи из тела извлекаешь руками.
- Пойду распоряжусь о еде, - решил Карион. - Теперь уж тебя не отпаивать питательным взваром насильно. Сама сможешь вкушать пищу.
Калиса пересела к болящей на край одра. Обе вспомнили кельицу аммы Гневы, где смуглянка Горислава показывала, как не ощущает боли, чернавка Богу мила видела сквозь стенку, молчунья Полактия сковывала взором, Генефа со шрамом через весь лоб читала нрав по лицу. Калиса была наблюдательницей в тот вечер. И вот пришёл её черёд.
Евфимия выслушала рассказ лесной девы.
Пала ниц перед аммой Гневой вернувшаяся из Костромы Фотинья: «Винюсь!» Не вызволила она из-под спуда «ясной звёздочки» Всеволожи. Акилина свет Гавриловна расшумелась было, да тут же и приголубила неудачницу: «Слава Богу, вызволилась сама!» Янина же углядела в заговорённой воде: изнемогает боярышня от распухших ран. Тут пани Бонедя отважно решилась исполнить то, что не удалось её ученице Фотинье. Но амма Гнева переиначила все: «Разумней послать Калису!» Ох и страдал воин Карион, узнав, что Бонедя могла быть здесь, да не появилась. Калисе в Костроме пришлось долго ожидать Котова. В оставленном князьями городе об узнице не выловишь ни полслова: надёжно блюлась злая тайна! К Ватазину, тиуну Косого, с расспросами обращаться брал страх. Отнюдь не напрасный страх, как заметил прибывший Котов. С его помощью Калиса оказалась в Падуне. К тому времени Бунко с Платонидой потеряли надежду. Княжий лечец грек предрёк от горячки смерть и покинул больную. «Отходит!» - заплакала хозяйка избы, когда Котов привёл бы лицу.
- Карионова голова поддалась лечению быстро, твои же язвы выдавили из меня силушку, как сыворотку из сыра, - пожаловалась теперь Калиса.
Тут-то и вплыла Платонида с лёгким на помине творогом, молоком и подовыми калачами.
- Опамятовалась, голубка! - празднично пропела она.
Всеволожа впилась в дебелую женщину расширенными глазами.
- Мамушка Латушка! - невольно произнесли её губы.
При таком обращении Платонида дрогнула, Калиса подхватила лоток с едой.
- Как ты сказала, дитятко? - грузно опустилась хозяйка избы на лавку - Никто во всю сию жизнь меня так не звал… кроме как во сне, - задумалась она и медленно повторила: - Кроме как во сне…
Евфимия откинулась на подушку.
- Хорошо мне, - прошептала она. - После столь многого плохого наконец хорошо!
- Агафоклии с нами нет, - пожалела Калиса. - Она бы разобралась в ваших снах.
- Полно уж разбираться, - стряхнула задумчивость Платонида. - Давай-ка, голубка, молочко кушати, горячие калачики рушати.
В разгар трапезы вошёл Карион Бунко.
- Добрая весть, Евфимия Ивановна! Только что принёс вестоноша: под Ростовом Великим на Николиной горе наголову разбита рать московского князя Василья Васильича и сподвижника его Ивана Можайского. Юрий Дмитрич с сыновьями, с вятчанами движутся на Москву. Побеждённые разбежались: Иван - в Тверь. Сестрица его за тамошним великим князем. А Василий - в Новгород. Вряд ли его приветят посадник с лучшими людьми, что-то не тянут они к Москве.
Евфимия отставила опаницу с недопитым молоком, отложила недоеденный калач.
- Пагубоносная весть! - омрачилась она. - Незаживающую рану усобицы нанесла нам злица Витовтовна! Проклятый пояс! Сам золот, да концы черны.
7
Оконца забусели от наступившей стужи, когда Евфимия поправилась окончательно. Она сидела на лавке рядом с хозяйкой избы. И трудно было сказать, откуда больше вливается в тело живительного тепла, от печи, выходящей боком в её одрину, или от Платониды, оделявшей истинно материнским теплом с тех пор, как больная невзначай назвала её «мамушкой Латушкой». Сны их, как выяснилось, совпали, хотя Платонида не знала подоплёки увиденного, а боярышня Всеволожа вспомнила читанную отцом хартию летописца, что в таком-то от сотворения мира году великий князь киевский Святослав Всеволодович взабыль выдавал внуку свою Евфимию за греческого царевича, да не дожил до свадьбы. «Мамушка Латушка», слушая постоялицу, хлопала руками по бёдрам: «Охти мне!.. Ахти мне!» И, не умея объяснить чуда, в который раз принималась рассказывать, как трясла болящую огневица, как часто она дышала, как выступила прыщеватая сыпь на губах. При этом толстуха обязательно приговаривала, засматривая в лицо боярышни: «Без притчи лихоманка не берет!» Однако едва речь касалась причин болезни, Евфимия умолкала или отделывалась незначащими словами. Калиса же сидела на излюбленном месте, на сундуке у окна, и думала о своём. Она от Фотиньи знала печальную историю Всеволожи. Теперь её занимала мысль о скором отъезде. Был уже не один разговор с Бунко: вот окрепнет боярышня, установится санный путь, усядутся девы в тёплый каптан, окружит их Карион малою обережью, доставит в Нивны, где влюблённого ожидает любящая Бонедя, горемычную сироту-боярышню приголубит Акилина Гавриловна, а Калису, истосковавшуюся по жилищу ведьм, бурно встретят лесные сёстры.
- Домовито тут у вас, бабоньки! - вошёл в одрину Бунко в изуфреном вишнёвом охабне. - Да надолго ли это счастье? Незваный гость пожаловал!
Женщины вопрошающе глянули на вошедшего. Он, скрипнув половицами, сел на край сундука, потирая лоб.
- Москва взята! На великокняжеском столе - Юрий Дмитриевич. Старший сын его прислал оружничего Фёдора Трябла за тобой, Евфимия Ивановна. Велит везти к себе без промётки. С Фёдором - дюжина человек. Не пожелаешь - применят силу. Вот, соображаю: как быть?
- Ахти мне!.. Охти мне! - поднялась Платонида, не дивясь на сей раз, а вопльствуя.
Калиса тоже встала с сундука, разобрала боярышнин одр как бы для опочива.
- Поболей ещё, - обратилась она к Евфимии и попросила всех: - Выйдемте!
Всеволожа разделась, улеглась, собираясь с мыслями. Выздороветь опоздала чуть-чуть, вот досада! Прикинешься больной, а надолго ли? У Васёнышева посольника горсть бойцов, а у Бунко - раз, два и обчёлся. Хитрость силу опутает, да хитрецов нет. Ни Фотиньи с ней, ни Ивана Котова!
- Можно ли? - приотдёрнул дверную занавесь Карион.
- Ох, входи, - разрешила мнимо болящая.
Бунко вошёл не один. С ним - молодой бородач в теплом песцовом зипуне с пятном крови на поле зипунной.
- Не поставь во грех, боярышня, - твёрдо произнёс он. - Хочу убедиться яве: вправду ли пребываешь не в полном здравии?
- Стало быть, ты есть Фёдор Трябло? - тихо вымолвила Евфимия. - Присядь, погляди: довезёшь ли меня такую?
Гость расстегнул зипун, опустился на то место, где до него сидел Карион.
- Не довезу- не надолго переживу, - вздохнул он. - Князь Василий Юрьич зело суров!
- Никак это ты нёс меня в подземелье из башни, когда Олфёр Савёлов погиб? - узнала его Евфимия. - Помнишь мой вид? Вот и рассуди: в измогу ли было мне за столь малое время твёрдо стать на ноги?
- Немедля пошлю в Кострому, - пробурчал Фёдор Трябло. - Пусть везут лечца Левкия. Он решит: долго ли временить.
Сердце боярышни ёкнуло. Такой оборот дела ещё более сокращал срок для измышления выхода. Бунко бровью не повёл. Большим усилием сохранила спокойствие и Евфимия.
- Расскажи, как брали Москву, - попросила она оружничего. - Вижу, ещё не стёрлась кровь на твоей одежде. Ишь, как возмужал за несколько-то седмиц!
- Ещё бы не возмужать! - нахмурился Трябло. - Близость смерти не молодит. Попадись на глаза Нил Нефедьин, кожу бы с живого содрал этими вот руками, - сжал он булыжные кулаки.
- За что? - не понял Бунко.
- Это Нил вывел из-под земли полонённого московского воеводу! - напомнил Фёдор. - Боярин Котов доказал князьям вины Нефедьина. - Оружничий обратил взор к Евфимии. - А тебе князь Василий Юрьич послал со мной таковы слова: «Не слично опасаться меня дочке Ивана Дмитрича. Отец был вельми велик: дщери венчатель, царствию вводник! Не для доиска мне потребна Евфимия Ивановна, а для свадебной каши».
- Однако ж ты не успел поведать, как Москву брали, - перебила боярышня.
- Ох! - омрачился гость. - Бывший великий князь, бежа от нас в Новгород, оставил беречь Москву вызволенника Юрия Патрикеича. А тот - навычный в войских делах старый лис! - выкатил на стены арматы, огненную стрельбу, привезённую из немецкой земли ещё покойным великим князем, сыном Донского. Не один двор в Москве пожгли, пока враз умились делать для армат зелье. Смешают серу, селитру, уголья, вложат в заткнутый ствол - гром и молния! Наши-то пушки - старые большие махины для метания камней в осаждённых. Ну, мы, подступив, сделали примет к стенам из леса и хвороста, подожгли, дабы удалить защитников дымом и огнём. А они, как смоляне против Витовта, развесили сети перед стеною, поймали в них кучами наших ратников, внесли смятение, вылезли, отобрали махины для метания камней.
- Как же вы всё ж таки Москву взяли? - недоумевал Бунко.
- А ломовые пушки на что? - гордо распрямился оружничий. - Бах да бах! Стены и не выдержали. А тут вятчане осерчали. Пошли на приступ чёрными волнами… И не помогли московлянам ни котлы кипящие, ни смола горящая. Так-то вот!
- Накорми героя, Карион, напои, - попросила Всеволожа, делая лёгкое ударение на последнем слове.
- Не мешкая, пошлю за лечцом, - встал Трябло. - А ты, будущая государыня наша, поправляйся вборзе.
Ушли собеседники мужеска пола, тут же явились - женска.
- Что делать, дитятко? - всплёскивала крупными дланями Платонида.
- Нет с нами Полактии! - сожалела Калиса. - Глянула бы на княжеского поддатня, чтобы не шелохнулся!
Вдали, где-то на околице, завязался невнятный шум. Поначалу и внимания не обратили.
- Поищите щель в плотном охранении, сквозь неё утечём, - размечталась боярышня.
- Искали, - буркнула Платонида. - Непроницаемо!
Шум усилился.
Выбил дробь конский топ за окном.
- Пойду вникну, - обеспокоилась хозяйка избы. - Инда разгулялись людишки нашего гостюшки.
Едва она вышла, дикий крик сотряс старенькую оконницу. Черной бранью ответили ему во дворе. Зазвенело железо, будто учали точить мечи.
- Ой, сестрица, поторопись опрянуться, беду чую, - подала Калиса платье боярышни, стала помогать одеваться.
Обе не вдруг заметили, как всё стихло.
- Чтой-то вроде оглохли мы? - вслушивалась Калиса.
Тут из подклета наверх по лестнице занабатили шаги: бум, бум, бум! Девы, выскочив в горницу, столкнулись с бердышником невзрачного вида. Он в изумлении раскрыл рот:
- Ба!.. Лакомство-то какое!
Двинулся было на хрупкую Всеволожу, да богатырство Калисы его смутило. Должно быть, решил: с двумя не управится. Приказал:
- Выходи по одной!
Всеволожа приблизилась, протянула руку за бердышом:
- Дай оружие!
- Не замай! - остервенился воитель.
Получив ногою в живот удар, достойный пани Бонеди, ратник взвыл, согнувшись пополам. Калиса переняла бердыш, стянула кушаком руки за спиной.
- Кто таков? - спросила Евфимия.
- Ортемка Рухл, великокняж человек…
- Лгач! - потеряла терпенье боярышня, принимая Ортёмку за одного из охранышей Фёдора Трябла, перепившихся через меру. - Заруби на носу: един есть великий князь в Суздальской земле - Василий Васильевич!
Тут и случилось чудо. Вошёл младень, узкобородый, горбоносый, глаза запавшие. Расстегнул тёмно-зелёную киндячную шубу на зайцах. Впился взором в Евфимию:
- Евушка?
Придя в себя, боярышня низко склонила голову.
- Будь здрав, государь!
- И ты здрава будь, Евфимия Ивановна!
Вязень, поднявшись с полу, выскользнул за дверь. Следом степенно вышла Калиса.
- Никому входу нет! - выглянул за ней и приказал своим людям князь. Скинул шапку из козлячего пуха, сбросил шубу на широкую лавку, уселся на неё, оставшись в зипуне из белой тафты, и обратился к Евфимии: - Не чаял тебя тут встретить!
- Васёныш меня похитил, - пояснила она, - когда покинула отчий дом, отнятый твоей волей.
- Моей волей? - изумился Василиус.
- После того, как ты батюшку ослепил, - жёстко продолжила Всеволожа.
- Я?.. Ослепил?.. - ещё более изумился Василиус.
- Стало быть, не ты - твой приказ, - отступила Евфимия, сев у противоположной стены.
- Входя, слышал твои последние слова, Евушка, - произнёс Василиус с тихой радостью и продолжил с большой печалью: - Сызнова наступило моё невремя. Казни Бог на ны шлёт: овогда вёдром, овогда пожаром и иными бедами, а овогда ратью, бессмысленною, кровавою… Побежал в Новгород. Оттуда - на Мологу. Затем - к Костроме. Васькин тиун Ватазин не открыл предо мною ворота. И вот - я в этом сельце. Отряд здешний мои люди побили. Главаря посадили в погреб, дабы отрезвел перед смертью.
- С ним был Бунко, когдатошний начальник кремлёвской стражи, - обеспокоилась Евфимия.
- Карион - тоже в погребе, - объявил Василиус - Переветчик ответит за перевет.
- Отпусти его, - попросила боярышня. Бывший великий князь похрустел перстами и заговорил о ином:
- По земле молвка тянется, будто Васька Косой сговорил тебя под венец.
Евфимия поднялась, круто повернулась и скрылась за занавесью в своей одрине. Уходя, молвила:
- Сговорил бы, сидела бы сейчас на Москве, а не в деревне Падун.
- Так-то оно так, - услышала она государев голос- Да не Бунко ли с отрядом Васькиной обережи и присланы везть тебя на Москву? Ишь, одебелела здесь, аки маков цвет!
- Взойди-ка сюда, Василиус, - пригласила Евфимия.
Князь взошёл в ложню, пощипывая узенькую бородку.
Она расстегнула пятнадцать пуговиц отделанной кружевом телогреи с длинными до подола рукавами, распахнула её, рванула за ворот сорочку белую, нижнюю, обнажила бок, часть груди… Он увидел на нежной девичьей коже свежие рубцы от недавних ран, отшатнулся, прижал ладони к щекам:
- Прости, Евушка!
- Бабке твоей Евдокии, - отступила боярышня, - пришлось обнажаться пред сыном Юрием. Злословил о целомудрии матери, видя её наряженность и весёлость, а под нарядами- власяница, кожа иссохла, от лишнего воздержания. Стыдись уподобиться дяде! Ты вынуждаешь открывать язвы не перед сыном - перед отвергнувшим меня женихом.
- Матушка сказывала, - поднялся князь, - бабка моя щепетухой была, любила наряжаться и нравиться.
- Панфирь твоя матушка, кошка дикая, - оправляла платье Евфимия. - Не устроила б свару на брачной каше, сидел бы ныне на отчем столе, не шатался бы векую. Бабка же твоя говорила: «Кто любит Христа, должен сносить клевету и благодарить Бога за оную».
- Чем искуплю вину?- умоляюще смотрел на бывшую невесту князь.
- Отпусти Кариона, - попросила она. - Кабы не он, не свиделась бы с тобою в темнице Тараканова дома. Помнишь?
Князь пересёк избу, отворил дверь, крикнул вниз:
- Андрей Фёдорыч!
Борзо зацокали по ступеням шаги. Взошёл один из двоюродных братьев Плещеевых, тот, что помоложе: усики - пушок, бородка едва наметилась. Узнав Евфимию, стал как вкопанный.
- Боярышня Всеволожа?
- Выпусти Бунко, - повелел его господин. - Позови сюда.
Князь и боярышня, стоя в горнице, молча созерцали друг друга. Она - ещё не веря удаче, он - уже замышляя нечто…
- Бунко на все четыре стороны отпущу, ты останешься, - порешил Василиус.
- Он должен доставить меня к Мамонам, - объявила Евфимия.
- Или ты - или он! - упрямствовал князь. Всеволожа, стиснув руки на груди, отошла к окну.
- С детства ты - себялюб, себятник. Добр к одному себе, до других нужды нет. Ну на что я тебе, сирота безмужняя? Срам помыслить!
Василиус сел за стол, запустил пальцы в космы.
- Всеми брошен! Всеми пренебрегаем! Мать и Марья за приставами увезены в Звенигород. Брат Иван Андреич Можайский сидит в Твери. Написал ему: «Не изменяй мне в злосчастии». Не изменит ли? Обездружен, как обнажён! Не пристало тебя в друзьях держать - твоя правда. Как всегда, твоя правда! Потому, любя без ума, послушался матушки, не повенчался с тобой. Знал, всегда твоя будет правда, не моя. С детства ты была мне советницей, как потом твой батюшка. Что ж, беги от своего государя, коего назвала единственным великим князем земли Московской…
Он поднял взор. Она глядела на него, ожидаючи. Он встал и с несовратной твёрдостью изрёк:
- Ты уедешь, Карион будет казнён, Евфимия покорно уронила руки.
- Я останусь.
В дверь тихонько заскреблись. Князь распахнул её. Вошли Бунко с Калисой и Плещеев. Евфимия заметила кровоподтёки на лице отпущенного.
- О, Карион! - Боярышня дала ему свой платчик. - Оботрись. Возьми на память.
- На память? - недоумевал Бунко. - Что ты говоришь, Евфимия Ивановна? Или не едешь в Нивны! Вот, Калиса собралась…
- Едете с Калисой. Без меня, - сказала Всеволожа. - Простимся!
Она перекрестила Бунко, по-сестрински прижала губы к наливной щеке свой целительницы, таимно прошептав над её ухом: «Вдругожды похищена».
Калиса с Карионом вышли, поклонясь Василиусу.
Счастливым голосом он наказал Плещееву:
- Повозку и коней! Питья и яств в дорогу! И обережь покрепче, чтоб нашу Всеволожу не кручинила тревога!
8
Зимовала Евфимия в Нижнем Новгороде. В слюдяное окно своей ложни она видела крутой скат горы, на коей воздвигся кремль, и задумчиво вглядывалась в необозримую даль, белую, как мертвецкий саван. Здесь соединялись две могучие реки Волга и Ока. Ныне вся прелесть Соития их была прикрыта снежным крылом зимы. Боярышня ничего не распознавала. Она размышляла о злосчастной судьбе своей, вновь взнузданной Василиусом, хотя на сей раз вовсе не по поставу, даже не по приличию. Спору нет, Василиус - не Васёныш Косой. Заполночь не нагрянет, взаперти не иссушит. Однако трапезуй с ним ежедень, слушай да наставляй. А наставлять было в чём и не без толку, иначе двусмысленное положение Всеволожи при бывшем великом князе показалось бы вовсе невыносимым. «Враги не зрят стези правды, - жаловался Василиус, - сердца их одебелели завистью. Однако же мир мне надобен с дядей Юрием и его сыновьями, моими братьями». Евфимия возражала: «В разгаре драки мира не встретишь». Напоминала князю о деде его, герое Донском, покидавшем столицу не ради бегства, а для собрания сил против нашествия Тохтамышева. Свои мятежники злей татар: те, взяв Москву, уходят с награбленным, эти же остаются, крепя своё беззаконие. Свергнутый властелин воспламенялся от речей Всеволожи, да ненадолго. Окончательно подкосил его ответ Ивана Можайского, привезённый Андреем Фёдорычем, сыном Марии Голтяихи, внуком старого советника при отце Василиуса Фёдора Кошки. Молодому Голтяю в присутствии Всеволожи велено было прочесть привезённую епистолию. На мольбу Василиуса «не изменять в злосчастии» двоюродный брат отвечал: «Государь! Я не изменяю тебе в душе, но у меня есть город и мать, я должен мыслить об их безопасности. Итак, еду к Юрию». Заметался другом и братом преданный: «Он, вишь, - к Юрию!.. А к кому же мне?» Умудрённый Всеволожею сверженец бежал из-под Костромы в Нижний Новгород. Не ошибся! Здешние воеводы Фёдор Долгоглядов и литовский выходец Юшка Драница сохранили верность: приняли своего государя честь честью. И вдруг Голтяев доносит: Шемяка с младшим братом Дмитрием Красным заняли Владимир, движутся к Нижнему. Где далее скрываться Василиусу? «В Орде, - легкомысленно предложил Голтяев. - Ордынский царь защитит. Его волей увенчан ты золотою шапкой». Всеволожа сказала: «Нет, не в Орде! Там Улу-Махмета свергнул братец Кичи-Махмет». - «Чем Кичи хуже Улу?» - встрял Плещеев. И Голтяев поддакнул, мол, нам всё едино. Всеволожа не потерялась в мужеском споре: «Царям не до прочих драк в драке собственной. К тому же князь Юрий, заняв Москву, наверняка послал к новому царю большой подкуп. На это он достаточно мудр». Оба Андрея Фёдорыча не нашли возражений. Василиус колебался. На чём порешит? - об этом думала-передумывала боярышня в своей ложне, пытливо вглядываясь сквозь слюдяное оконце в белую бесконечную даль.
Внезапь вплыла Платонида и, как всегда, отвлекла своим добрым достоспокойным видом. Счастье для Всеволожи, что «мамушка Латушка» увязалась за ней, заперев избу, перепоручив хозяйство соседям. «Хоть на малое времечко пригожусь, пока воля у тебя отнята, - приговаривала она. - А воротишься на Москву к друзьям, я с лёгким сердцем вернусь до дому». Платонида напоминала Полагью, только возрастом старше. Тоже услащала горькие дни изобильными приговорками. «Трещи, трещи! - обращалась к морозу, закрывшему окно ледяной рукой. - Минули водокрещи. Дуй не дуй - не к Рождеству пошло, а к Велико дню». И мороз, как бы устыжаясь, принимал руку от окна, уносился вдаль, шурша снежной шубой. Так Аксинью-по-лузимицу, полухлебницу пережили. А пришёл февраль-бокогрей, солнышко стало припекать, Платонида пуще повеселела. «На Сретенье снежок, весной - дождёк!» - радовалась она. В марте Авдотью-подмочи порог встретили пирогами на ореховом масле с лососиной начинкой. А вскоре Всеволожа пожаловалась, что за дневною трапезой щи подали пусты. «Мамушка Латушка» замахала руками: «Захотела в апреле кислых щей! Сегодня же Марья Египетская! Все запасы на исходе. Марья - зажги снега! Марья - заиграй овражки!» Вот когда ощутила Евфимия, что зиму благополучно пережила. Жди приятных новин. Грянут перемены к лучшему.
- Венценосец недёржкий зовёт тебя в свой покой, - объявила, войдя, Платонида. Не было приязни между ней и Василиусом. Князь почему-то считал, что именно она может стать споспешницей Евфимьина бегства от него. Платонида же в отместку именовала сверженного властелина не иначе как «недержким венценосцем» или «несидухой на троне». - Сведущий человек прискакал из Москвы, - добавила она к княжому позову. - Не иначе пленитель поделится с тобой новостями.
В трёхпрясельном тереме на подклете, бывшем дворце великих князей нижегородских, покои Василиуса занимали среднее прясло. Окна были стрельчатые, дверь - двустворчатая. Обычно Всеволожа на позов входила без стука. Ныне ж, памятуя о прискакавшем человеке из Москвы, постучалась. От неловкости получился не стук, а скорее какой-то скребок. Ответил раскатистый смех Василиуса.
- Чему смеёшься? - вошла Евфимия.
Князь трясся уже в беззвучном смехе, извергая из себя невнятные два слова:
- Ручная… медведица…
- Что с тобой, государь? - теряла терпенье боярышня. - Не в себе ты?
- В себе, в себе, - постепенно успокаивался Василиус - Верный мой воин, прибыв из Москвы, только что поведывал: напуган дядюшка Юрий Дмитрия неблагорасположением людей московских, как год назад. Неуютно ему во взятой столице на отнятом великокняжьем столе. Трепещет за свою жизнь! Не выходит из ложни. Обедню совершают для него в соседнем покое, слушает сквозь дверь. Вместо неподкупного стража завёл ручную медведицу. Пока поводырь выгуливает её во дворе, незаконный властитель дрожмя дрожит, ждёт, когда медведица заскребётся, чтобы впустить. Она царапает лапой, он отворяет. Ты тоже… сейчас… царапала… - сызнова зашёлся князь в смехе.
Евфимия ждала молча. Стройный стан её чётко чернел в свете стрельчатого окна.
Василиус успокоился, положил тяжёлые руки на девичьи плечи.
- Красота ненаглядная!
- Красота твоя за приставами сидит в Звенигороде, - отстранилась Всеволожа.
- Хочешь, исправлю свою ошибку? - жарко дышал он в ухо. - Марью пошлю под клобук, с тобой останусь. Матушку не превозмог, смалодушествовал.
Не впервые за зиму слышала она эти речи. Отмалчивалась. Теперь откликнулась:
- Батюшку моего, верного своего слугу, предал, а потом ослепил. Смалодушествовал? Меня, сироту, лишил дома, тоже матушки не превозмог?
- И бояр, - опустил повинную голову бывший жених, - всех ненавистников покойного Ивана Дмитрича. Каюсь!
Евфимия высвободила плечи из его рук.
- Как государя, Василиус, я тебя почитать должна. Как к человеку ну вот настолько нету к тебе почтения.
- Кабы не ты, - вздохнул он, - кто бы я сейчас был? Червь, уползающий в преисподнюю ордынского ханства! Пёс, лижущий руки своих мучителей! Будь со мной. Исправим случившееся.
- Поздно, - отвечала Евфимия. - Государыня твоя Марьица тяжела наследником. Не греши.
- Кто открыл тебе сие?
- Сердце-вещун.
- Как знаешь, что наследником?
- Её дитя могло быть моим.
Василиус отступил к одру, взял с поставца у изголовья Евангелие, раскрыл наугад, прочёл и, скорбно поморщившись, отложил, не закрывая. Евфимия медленно подошла, перечла развёрнутые страницы, сказала:
- Угадываю, на какой стих Послания апостола Иакова пал твой взор.
Князь молчал, как бы выжидаючи.
- На четырнадцатый, - объявила она. - Тут сказано: «…каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью; похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть».
- Про смерть не дочёл, - отвернулся Василиус и, распахнув двери, крикнул: - Кожа!
Вошёл благообразный коренастый крепыш в воинской сряде, белокурый, светлоокий, двукрылье волос - во все плечи, борода - во всю грудь.
- Пусть изготовят кареть, - велел князь. - Еду с боярышней Всеволожей.
- Куда? - спросила Евфимия, когда исчез Кожа.
- К Желтоводцу Макарию, - пояснил Василиус. - Сей местный уроженец, сын посадского, покинул отчий дом в ранней юности, поменял в пути одежду у нищего, явился в рубище в монастырь, постригся. Спустя три года родители его отыскали, да вернуть не смогли. Рассказывают, отшельничает он в келье на берегу Волги близ озера Жёлтые воды. Проповедует мордве, черемисам, чувашам веру Христову. Чудотворец! Хочу напутствоваться благословением перед бегством в Орду.
- Постыдись, - нахмурилась Всеволожа, - при живой жене ехать к святому человеку с девицей!
Василиус глянул сумрачно.
- Переждёшь в возке. Беру, чтобы не сбежала. От твоей толстой мымры может статься невероятное: подкупит любого стража. Иди. Соберитесь вборзе.
Похищенница, зная упрямца с детства, не потратила силы на вздорный спор. Да и засиделась теремная затворница, захотелось встряхнуться.
- Платонида точно что не сухая, однако ж она не мымра, - возразила Евфимия, уходя.
Под воркотню раздосадованной княжеским сумасбродством пестуньи и при её пособе оделась быстро. Четверня ждала у ворот. Кареть, обитая чем-то выцветшим, была изрядно стара, но отмыта от апрельских грязей. Чавкала копытами конная обережь вокруг. Василиус восседал на чубаром жеребце в нарядном седле. Рядом молодцевата прибывший из Москвы Кожа на каурой кобыле. И вот путники устремились вниз от кремля по кисельной свежеоттаявшей улице. Горбились то дощатые, то соломенные крыши за тынами, слышались грубые понукания. Осевшая под Платонидой кареть жалобно скрипела и немилосердно трясла, вызывая мамушкины охи и ахи.
Когда позади осталось подградие и голый березняк запестрел в оконцах, колымага то и дело стала проваливаться в промоины. Всадники останавливались, дружно спешивались и под руководством Кожи начинали работу чуть ли не по колено в воде.
- Задок, задок подымай! Веселей берись!
- Но, но, окаянные!
- Тьфу, растакую твою…
- Па-а-береги бабий слух!
Всеволоже было неловко, что вместе с каретью как бы и её подымают холопьи руки. Платонида же не испытывала неловкости и на предложение боярышни выйти отрубила:
- Ещё чего!
Окончательно увязли, едва дорога спустилась к берегу. По одну сторону волглый лес, по другую - в ледяной чешуе вода и далёкий опоясок лесной меж водой и небом. Обережь осталась возле рыдвана, алалыкая в стороне тесной кучкой. Князь же с верным воином Кожей углубились в березняк, подчернённый елями.
- По нужде? - тоскливо изрекла Платонида.
- Я расслышала: к месту прибыли, - сообщила Евфимия. - Князь спросил Кожу, как нашёл место, тот сказал, что берёзка здесь согнута, связана буквой «рцы».
Платонида прилипла носом к оконцу, не углядела берёзовую букву, опять разворчалась на сумасбродство Василиуса. Сумасброд тут же стал соседствовать в её рассуждениях со словами «самодержавен», «самовластен» и в конце концов - «самодур».
- Ну на что доброму женатому мужику девица? - возмущалась «мамушка Латушка». - Хоть бы и великому князю! А он уже не великий, а столкнутый.
Всеволожа не откликалась, думала своё. От Василиуса - не от Васёныша! - не очень-то мудрено сбежать. Что же её удерживает? Бросится свергнутый венценосец к татарам - как в омут канет. Не конец придёт бедствиям Руси, а начало. Дядюшка Юрий на ладан дышит. Василий Косой в порфире - серый волк в шкуре льва. Шемяка всё удельным «братьям» раздаст и ордынцев лакомыми кусками употчует за голубой призрак власти. Каково-то будет подвластным! Держится всенародная надежда Василиус за краешек своего великого княжества, кто пособит ему удержаться? Всего два советника остаются при нём. Андрей Голтяев беден умом, Андрей же Плещеев - опытом. Евфимия тяжело понурилась…
Дверца распахнулась внезапно. Забелил воздух шалый апрельский снег, закуржавел бороду княжого воина Кожи.
- Боярышня, инок требует тебя. Велено привесть. Всеволожа глубже надвинула разлапистую шапку атласной ткани с опушкой из бобрового меха, запахнула зимний меховой опашень, легко выскочила, опираясь на руку воина. Платонида рта раскрыть не успела, как её подопечная углубилась в лес при поддержке расторопного спутника.
- Кто уведомил инока обо мне? Князь?
- Государь… про тебя… ни звука! - совсем запыхался Кожа. - Макарий сам молвил: «Деву с собой привёз. Пошто прячешь?»
Подошли к чёрной кельице на тесной поляне, очевидно раскорчёванной руками отшельника. Ступив за порог раскрытой Василием Кожей двери, Евфимия сразу увидела Макария, поразилась величественной его осанке. Ничто и никто не бросался в глаза в тесной избушке, даже высокий Василиус, стоявший в углу, - только инок в чёрной скуфейке, чёрном подряснике, подпоясанном вервием. Что исполняло его величием? Лик, осветлённый лишениями? Взор, возвышенный мыслями?
- Спаси тебя Бог, сирота Евфимия, - благословил пустынник вошедшую.
Она припала к высушенной руке.
- Отшельник пожаловал говорить с тобой, - подал голос князь.
Боярышня робко глянула на молодого затворника. Он доброй улыбкой приободрил её:
- Спрашивай, невеста Христова. Ведь жаждешь услышать от меня нечто.
Евфимия многажды отгоняла мысли о монашеской келье - последнем прибежище, оставленном ей судьбой.
- Я не невеста Христова, - вымолвила она. - Грешная мирянка.
- Спрашивай, спрашивай, - пропустил инок её слова: - Тебе надобно знать…
Противилась этому «надобно», однако спросила:
- Пошто ты покинул мир? По крайности, личному попечению или слабости?
- Не то, не то и не то, - потряс головой Макарий. - Тяжёлые времена побуждают печься не о себе, а о всех. Богоненавистные дела творятся у нас по заветам дьявольским. Не токмо между простыми людьми, между честными и великими. За всякое важное и пустое дело начинается гнев. От гнева - ярость, свары, прекословия враждующих сторон. Нанимаются сбродни. Пьянчливые, кровопролитные люди замышляют бой, души христианские губят. А привычка сквернословить ещё с дорюриковских славянских времён? Нет такого больше нигде между христианами. А хождения к лихим бабам, завязывание узлов, зелья, ворожбы? А венчание девочек ранее тринадцатого года? А торговые дела духовенства белого и чёрного, дача денег в рост? Всех грехов не исчислишь. Их отмаливать не в миру, а в пустыни, ближе к Богу, в молитвах обретя истину.
- Жилище молитвы - сердце, жилище истины - разум, - храбро вставила Всеволожа.
- Истина - озарение свыше, - ответил пустынник. - Достигается не путём рассуждений, но постоянным очищением души, совершенным безмолвием чувств и помыслов, непрестанным упражнением в Богомыслии и молитве умной.
- Как помогло обресть истину это безмолвище? - оглядела Евфимия закопчённую кельицу с маленьким очагом в углу.
- Успокоился и молчал, - объяснил Макарий, - сидел и собирал ум в себе.
- Этого ли достаточно? - усомнилась боярышня.
- Для сосредоточения и усиления внимания, - терпеливо отвечал Макарий, - очень важны положение тела, связь молитвы с дыханием, собранность всего себя в верхней части сердца.
- И приблизишься к Божественному? - горячо дыша, допытывалась Всеволожа.
- Появление существа Божеского, - отвечал отшельник, - обыкновенно открывается безмолвствующим в образе света. Его можно иногда видеть и телесными очами.
- Утомила сверх меры! - ворчал Василиус в углу.
- Растолкуй, преподобный, - увлеклась Всеволожа, - как выдерживаешь такую жизнь?
- Божьей волею, - перекрестился Макарий. - Когда пришёл, пустыня здесь была непроходимая. Ни стежки. Ни куда ступить ногой. Много гадов ползающих видел, един единствуя. Звери приходили к келии и ночью, и днём. Стада волков рыли и ревели возле немудрящего моего жилища. Иногда медведи окружали, но безвредно. Потом звери яко кротчайшие овчата ходили за мной, пищу принимали из рук. А какая пища? Зёрнышки, сочиво… Зимой однажды от великой бури занесло всю келью снегом. Так и жил в снеговой пещере, Богу тёплые молитвы воссылал.
- Отче, не выдержишь, - уверенно заявил Василиус. - Зимы жёсткие у нас.
- Десять зим выдержал, - вновь осенился крестным знамением затворник. - Когда носишь вериги, почти не спишь, мало вкушаешь пищи, чувствуешь в теле такой жар, что не нуждаешься в тёплой одежде. Преподобный Павел Обнорский зимовал в стволе липы. «Тем сосуд избран бысть Святому Духу», - сказано в его житии. Вот разгадка вышеестественной жизни!
- Соблазнительно не верить, - выдала свои сомнения Всеволожа.
- Посмотри, - указал Макарий на рукава её опашня. - Свежий снег лежит на них и не тает. А у меня не топлено. Холодно ли тебе?
- Нет, не холодно, - призналась боярышня.
- Стало быть, теплота не в воздухе, в нас самих, - заметил Макарий. - Она и есть то самое тепло, что даёт молитва: «Теплотою Духа Твоего Святаго согрей мя». Ею согревались пустынники и пустынницы, не боясь зимнего мороза, одеваемы, как в тёплые шубы, в благодатную одежду, от Духа Святаго истканную.
Князь из своего угла тихо подошёл.
- Пора. Утомили…
- Время молиться, - согласился отшельник. - Свет во храме от свечи, а в душе от молитвы.
- Я свечу тебе привёз из храма, освящённую, - подал дар Василиус.
Инок взял свечу, вставил в самодельный каменный подсвечник. Потом обернулся к Василиусу и, указав на икону Спасителя, попросил:
- Повторяй за мной, княже.
Проникновенно говорил черноризец, и свергнутый венценосец вторил ему:
- Господи, как умножились враги мои! Многие восстают на меня; многие говорят душе моей: «Нет ему спасения в Боге». Но Ты, Господи, щит предо, мною, слава моя, и Ты возносишь главу мою. Гласом моим взываю к Господу, и Он слышит меня со святой горы Своей. Ложусь я, сплю и встаю, ибо Господь защищает меня. Не убоюсь людей, отовсюду нападающих на меня. Восстань, Господи! Спаси меня, Боже мой! Ибо Ты поражаешь всех враждующих понапрасну, зубы грешников сокрушаешь. Да будет Господне спасение и на людях Твоих благословение Твоё!
- Боже! - воскликнула Всеволожа, едва кончилась молитва. - Сама собой загорелась свечка!
Колебался язычок пламени над свечой в самодельном каменном подсвечнике. В какой миг он возник, никто не заметил, все были увлечены молитвой, даже Василий Кожа, оставшийся стоять у двери.
- Такое случилось сто лет назад, - вспоминала рассказы отца Евфимия. - Тайдула, любимейшая жена царя Джанибека, вызвала митрополита Алексия исцелить свою слепоту. Перед отъездом он служил у Пречистой у гроба святителя Петра. И свеча сама возгорелась. Митрополит доставил чудо в Орду, возжёг у изголовья царицы. И Тайдула прозрела.
- Не сто лет назад, а перед нашим с тобой рождением, - перебил Василиус, - у гроба бабки моей Евдокии, в иночестве Евфросинии, сами собой загорались свечи.
Макарий, завершив про себя молитву, перекрестил чудесной свечой сверженного помазанника Божия.
- Прими указующий перст Господень! Не бегай никуда больше. Жди…
Отпуская благословлённую Всеволожу, он прошептал:
- Подай, Бог, терпения! Василиусу же вослед велел:
- Не мешкая отпусти боярышню. Не гневи Всевышнего! - И прибавил шёпотом: - Подай, Бог, беззлобия!
Вышедшие боярышня с князем переглянулись. Евфимия - скорбно, Василиус - раздосадованно. Пожелание терпения не сулило ей лёгкой жизни. Пожелание же беззлобия уязвляло князя: ужели он зол не в меру?
Василия Кожу отшельник попросил задержаться малое время. Боярышня со своим государем пошли лесом наедине.
- Он повелел мне ждать! Чего ждать? - недоумевал Василиус - Шемяка с Дмитрием Красным движутся к Нижнему. Смерти ли своей ждать от них?
При упоминании о Дмитрии Красном Всеволоже живо представился высокий узколицый юноша, похожий на Корнилия. «Зло побеждается добром», - говорил он, решая спор о судьбе Василиуса в Престольной палате великокняжеского дворца. Боярышня ясно разглядела его из потайного окошка.
- Свидетельствуй: даю обет! - оборвал князь тонкую нить воспоминаний Евфимии. - Дождусь милости Божьей, воздвигну на сем святом месте монастырь во имя Пресвятой Троицы. Пусть преподобный Макарий в нём настоятельствует.
- Согласится ли? - усомнилась Евфимия.
- Государевой просьбой кто может пренебречь? - удивился недавний властелин странному сомнению.
Проваливаясь по колено в снежную жижу глухого леса, он вновь мысленно восседал на троне.
- Инок наказывал отпустить меня, - напомнила Всеволожа.
Василиус недоумённо остановился.
- А… Как же! Не забыл. Грех наказ пустынника не исполнить. Боюсь. Скрепя сердце, отпускаю…
Их нагнал Василий Кожа.
- Для чего отшельник задержал тебя? - спросил князь.
Кожа утерял свой благолепный вид. В бороде с деревьев сухая крошка, в глазах смятение.
- У нас с Ириницей сынок Матвей, - поведывал воин на ходу. - В восьми вёрстах от Кашина, в селе Грибкове. Недавно вошёл в возраст, сочетали его браком с благородною девицею Еленой Яхонтовою. Нарадоваться на молодых не можем. Отшельник же предрёк, что пяти лет не минет, как уйдёт Матюшка в Кашинский Николаевский Клабуков монастырь и пострижётся. Станет соименником Макария. Вскоре тоже удалится в пустынь в восемнадцати вёрстах от Кашина. Водрузит там крест, поставит келью. Образуется вкруг кельи монастырь по имя Святой Троицы.
- Как ты сказал? Троицы? - переспросил Василиус.
- Так сказал инок, - вздохнул Кожа. - Землями, где будет монастырь, владеет ныне Иван Кал яга. Он мне ведом. Этот-то Каляга, охраняя свои пустоши, решится умертвить моего сына, да не сможет, впадёт в тяжкую болезнь. После исцеления сознается в злом умысле, отдаст монастырю все земли, примет иноческий чин. Обитель народ наречёт Калязинской, а град вкруг неё Калязином.
Князь хлопнул воина по богатырскому плечу.
- О чём же скорбишь? Твой сын угодит Богу. Служи мне, как служил, верой, правдой…
- Не долго служить, - всё более мрачнел Кожа. - Матюша сказал однажды: «Пойду под клобук, батюшка, когда останусь на белом свете один»…
Подошли к рыдвану, где спала Платонида. Предстоял путь обратный.
Как ни расспрашивала Всеволожу «мамушка Латушка», боярышня не находила силы отвечать подробно. Лишь известила, что Василиус решился немедля отпустить её, боясь ослушаться пустынника. Вот уж толстуха славословила Создателя! В ушах Евфимии тем временем звучал рассказ кашинца Кожи о своём сыне. Зачем открыл отцу отшельник судьбу Матвея? Вероятно, храбрый воин гордиться должен такой судьбой. Евфимии же инок лишь намекнул на тягость будущего, молитвенно испрашивая для неё терпения. Стало быть, не мог приободрить ничем. От скорбных мыслей Всеволожа ниже опустила голову, острее ощутила своё сиротство.
Когда проехали подградие, первый храм нижегородский встретил их звоном колокола-голодаря:«Дзын-н-н! Дзын-н-н!»
У теремного крыльца в кремнике ждал младший воевода Юшка Драница. Едва Василиус сошёл с коня, а Всеволожа вышла из карети, он подоспел с поклоном.
- Государь! Весть из Москвы: дядя твой Юрий Дмитрия внезапь скончался. В церквах идут мольбы за упокой души новопреставленного…
А слух отягощал плакучий звук колокола-голодаря: «Дзын-н-н! Дзын-н-н!»
ЧАСТЬ ЧЕТВЁРТАЯ
Кровавое озеро. Смерч - дыра времён. Голодники и ябедники. Отрубленная рука. Клятвопреступник.
1
Евфимия и Кожа потемну вошли в Москву. По улицам у сторожевых костров - застава на заставе. Два чёрных путника, сходивших за отца и сына, воспринимались, как калики перехожие. Один бердышник протянул полушку, другой перехватил монету:
- Суму нищего не наполнишь! Остановились у ворот Мамонова двора.
- Прощай, Василий Кожа. Спаси тебя Господь за обережь, - очесливо промолвила Евфимия.
Намедни с Платонидою прощалась много дольше. «Мамушка Латушка» ревмя ревела. Оставили ей колымагу, коня с возатаем до дому. Колымагу выгодно продаст, возатая отпустит. Остаток длинного пути проехали верхами. Пришлось Евфимии переодеться в мужескую сряду. В ближайшей от Москвы деревне спешились, препоручив каурку и буланого рукам надёжным. Василий Кожа при возврате распорядится ими.
- Обожду, пока калитку отворят и примут, - стоял он у Мамоновых ворот. - Не то тревога загрызёт.
- Куда же ты теперь? - спросила Всеволожа.
- Недалече. Есть тут одни боярские врата. Не деревянные, а из ожиганного кирпича.
- Как? - у Евфимии перехватило горло. - Из ожиганного кирпича?
Ответить Кожа не успел. Калитка отворилась. Всеволожа очутилась в крепких объятиях.
- Боярышня! Ох, ждали! Ох, терзались!
- Прощай, Фимванна. Бог тебя храни! - успокоился на её счёт и скрылся в темноте княж воин.
- Пошто, не спрашивая, отпираешь, Богумила? - целовала Всеволожа сестру лесную, невзрачную девку-чернавку.
- Я тебя допрежь увидела.
- Допрежь? Увидела?
- Вежды смежила, духом напряглась и вижу - ты! Они прошли широкой лестницей в хозяйский верх, и Богумила закричала:
- Ам-ма-а-а!
Прибежали Акилина свет Гавриловна, Полактия, Янина.
Восклицания, объятия, терзанья из рук в руки, поцелуи…
Потом с дороги переодевание, препровожденье в баню и - за стол. Вошла Полактия с рыбными блюдами по случаю среды: с красной икрою белорыбицы, вязигою под хреном. Янина внесла уху судачью, пироги-телесы. Явилась Богумила с другим горячим: разварным окунем в рассоле и оладьями к нему. Всё это на медных сковородах с крупитчатым свежайшим хлебом-папошником, с укругами пшеничными и калачами хамутинными.
- Ведь ты не потребляешь мясо-рыбной пищи, амма Гнева? - сощурила глаза Евфимия.
- А для тебя ж старались, - ответила Мамонша. - Янина ещё утром объявила: «Пожалует к нам дочка боярина Ивана Дмитрича!»
Хозяйка и её девицы кушали горячий взвар с заедками. Когда же трапеза окончилась, по чьему-то позову в столовую палату явился сам Мамон, а девы удалились.
- В дурное время ты попала на Москву, голубка, - пригорюнилась боярыня.
- Тебе бежать надо от нас, - вставил Андрей Дмитрия.
- Мне? От вас? - не понимала Всеволожа.
- Видишь ли, какое дело, - начал объяснять боярин. - Государь покойный, Юрий, если его можно государем величать, мучился болью в пояснице. В перехвате стана, между рёбрами и тазом, возмутились, по-латыни говоря, радикулы, то бишь корешки чулых жил…
- Ой, Андрей Дмитрич, ты попроще! - прервала боярыня.
- Я же говорю о беложилье, мозговых нитях в оболочке, что пронизывают тело, - упорно объяснял Мамон.
- Короче, с наше поживёшь, узнаешь поясницу, - упростила разговор его супруга. - Вот и маялся князь Юрий в шестьдесят-то лет. Немец Ерёменко, лечец кремлёвский Герман, не преуспел утихомирить его боль. Наш государь Иван Андреич прибыл из Можайска на Москву и тут же вызвал нас. Ведь матушку его, княгиню Аграфену Александровну от той же хвори излечили не кто, как мы. Ну, истолок и заварил Андрей Дмитрич поясничную траву горлянку…
- Не помогли припарки, - вздохнул Мамон. - Пришлось жилу бить.
- Как жилу бить? - вскинула брови Всеволожа.
- Кровь пускать, - вставила боярыня.
- Когда водырь Кузьма Кувыря выводил сторожевого зверя на двор опорожниться, - продолжил Андрей Дмитрич.
- Медведицу ручную? - уточнила боярышня.
- Как знаешь?
- Великокняж воин прибыл в Нижний, рассказал Василиусу.
- А к нам из Нижнего первый тамошний богач Тарас Петров приехал на постоянное житье, - вспомнила Акилина Гавриловна. - О твоей жизни через толстуху-мамку он знал многое. Обрадовал, что ты жива-здорова.
- Слыхала о Тарасе, - просветлела Всеволожа. - Он откупил своей казною у татар полону множество людей всяких чинов. Имел шесть сел за речкою Кудьмою. Да запустела от неверных его земля.
- Так вот, - вернул боярин речь на прежнюю стезю. - Когда медведицы в покое князя Юрия не было, мы с Акилиной приносили сокола. Он бил у правой руки жилу. Этим больной легчился.
Тут Акилина Гавриловна вытерла глаза.
- Мы теперь повинны в его смерти!
- Вы? - крикнула ошеломлённая Евфимия.
- Князь отдал Богу душу после нашего прихода, - вздохнул Мамон. - То бишь, когда взошёл Кузьма Кувыря с медведицей, Юрий был мёртв.
- Сокол заразил кровь? - страдальчески предположила Всеволожа. - Но так ли быстро помирают от зараженья крови?
- Князь был удавлен, - произнесла Мамонша охриплым голосом.
- Косой назвал себя великим князем и скрыл причину батюшкиной смерти, - поднялся Андрей Дмитрич. - По его воле немец Еремейко определил кончину от удара. Однако мы на подозрении. Василий Юрьич нудит выдать нас, а наш Иван Андреич просит дать исправу. Да что там! Пусть суд и учинят, спасёт ли он? Сейчас ищут доводчиков.
- Нашли уже, - встала следом за мужем боярыня. - Дворцовый челядинец Софрон Иев объявил, что видел, проходя, как ты душил, а я держала. Была, мол, дверь отворена чуть-чуть. На нас достаточно Иуд.
- Да чем же вы корыстовались, убив князя? - не могла от слабости в ногах подняться Всеволожа.
- Посулами от свергнутого, - дрожала Акилина Гавриловна всем своим дебелым телом. - Мы-де его тайные послужники.
Евфимия тяжело встала, одолела слабость.
- Вам надо бежать. Вот-вот явится шестник, возьмёт за приставы… Негоже, как мой батюшка, смиренно глядеть в пасть чудищу, ждать поглощенья.
- Нам не на что бежать, голубка, - вздохнула амма Гнева. - Лесные сёстры предлагали могучую заступу. Мы отказались. Долго ль продержатся против отряда кметей двенадцать дев, хотя они и ведьмы? Ради себя губить невинных? Упаси Господь! Василий Юрьич хитрый, жестокий юноша. На соглядатаев не понадеялся. Иными мерами отрезал путь. Пришли обыщики, изъяли в доме все монеты, колтки, цепочки, кольца. Дворский Иван Лихорь повёз из Нивн всю выручку от распродажи рухляди. В пути напали будто бы шиши. Приехал без полушки.
- Не нам, тебе надо бежать, милуша, - грустно улыбнулся Всеволоже Андрей Дмитрич. - Чуть обнаружит на Москве Василий Юрьич свою беглянку (нам же всё ведомо!), не поздоровится.
- Ох, от Васёныша не поздоровится! - невольно передёрнуло Евфимию.
- Есть малый рукавок подземный на задворках огорода, - истиха поведала боярыня, - из нашей погребуши в погребушу Владимира Григорьевича Ховрина. Он не противился. Ведь к обоюдной пользе проложили. Мало ли чего? Полактия тебя проводит в соседский двор, оттуда выйдете задами и - на Подол. Там у Водяных ворот живёт Полактиева сродница, десятая вода на киселе. Добрейшей души вдовушка! Она тебя укроет.
- А взять взаймы какую-никакую калиту позвонче не пытались? - спросила Всеволожа.
- Кто ж нам даст? - махнула обеими руками жена Мамона. - Про нас после поносной молвки шепчется весь кремник. Все берегутся, ждут конца правления Василия Юрьича. Зело жесток самообъявленный великий князь!
Боярин, размышляя не о займах, не о бегстве, не слушая жены, сказал своё:
- Полактия тебе сейчас надёжный проводник. Кто б ни напал, она как глянет, скуёт, словно железом.
Несвычно было Всеволоже искать чужих углов в Кремле московском. Не шли из мыслей слова Кожи о воротах из ожиганного кирпича. Покидая столовую палату, она спросила Акилину свет Гавриловну:
- Кто поселился в батюшкиных родовых хоромах?
- Когда тебя изгнали? - наморщила Мамонша переносицу. - Не ведаю. Витовтовна вселила кого-то из своих. Теперь же там живёт боярин Дмитрия Шемяки, отец нашей Фотиньи, Иван Котов.
Иван Котов? - остановилась Евфимия как вкопанная.
Тут подошла Полактия. Мамоны перекрестили боярышню, дали наказ её сопроводительнице, и обе девы пошли вниз.
«Стало быть, к Котову направился княж воин Кожа, Василиусов пролагатай на Москве? - сверлили подозрения Евфимию. - Зачем же к Котову? Кого-то из узилища извлечь иль чью-то голову - долой? А не у Котова ли Кожа был допрежь, когда проведал про медведицу и, возвратившись в Нижний, государю рассказал о ней? А ежели всё так, не с Котовым ли связана смерть князя Юрия? А значит, не Василиус ли тут всему заводчик, как тайный господин Ивана Котова?» От этих мыслей дочь боярина Иоанна содрогнулась и отринула их напрочь. Это слишком! Дашь волю подозреньям, домыслишься до полной черноты.
Молчаливая с восковым невыразительным лицом Полактия зажгла свечу в холодном погребе, и Всеволожа перестала ёжиться, будто большая теплота влилась в неё от маленького света. Рукавок подземный встретил сыростью и теснотой. Из деревянной обрешётки, чуть прикоснёшься, струились влажные песчинки, прилипавшие к одежде. Евфимия шла, сжавшись, ничего почти не видя за спиной Полактии. Ждала, скорей бы очутиться в погребе Ховриных.
Давно, ещё при Дмитрии Донском пришёл на Москву некий Стефан, богатый приморский гость из Сурожа, неведомого города на юге. С ним был Григорий, прозвищем Ховра, тоже купец. Дали они серебра и злата князю, он им дал двор в Кремле. Развернули дело сурожские гости. А умерли Стефан с Григорием, стал владеть делом сын последнего Владимир. Заложил и выстроил у своего двора церковь Воздвиженья. Кирпичная снаружи, белокаменная внутри. Так и зовут её - Владимирова церковь. Богач вхож во дворец великокняжий и к митрополиту. Однажды Всеволож при дочери обмолвился, будто князь Юрий должник Ховрина. Дал в заклад разными вещами одиннадцать фунтов серебра и девять фунтов золота. Никак не выделит четыреста рублей на выкуп. Большая денежная сила Владимир Ховрин со старшим сыном Иваном Головой! Боярин Всеволож вошёл с ними в немирье, когда, едучи в Орду с Василиусом, у Ховриных не одолжился, а предпочёл татарина Абипа, сарайского купца. Сама Евфимия ни разу не видала Ховриных вблизи, лишь у Пречистой, когда глядела сверху, с рундука Витовтовны. Каков их нрав? А, увидав, по лицам вряд ли что-нибудь прочла бы. Тут нужна русоволосая красавица Генефа со шрамом через лоб. Открыла б лицеведка, на что способны Ховрины.
Вот кончился подземный рукавок и снова погреб. Чужой!
- Как выйдем? Он снаружи заперт, - испугалась Всеволожа.
- Заложку можно открывать и изнутри, - ответила Полактия.
Вышли во двор. Друг дружку отряхнули. Две ярых хамки набросились на них, для устрашенья вздыбив шерсть. Полактия взглянула. Псы замерли и улеглись, скуля.
- К воротам не иди. Взойдём-ка в терем, - распорядилась Всеволожа.
- Пошто? - не поняла Полактия. - Мне велено вести тебя к тётке Фёдоре.
Евфимия шла к терему.
- Где чёрный ход?
В подклете сонный челядинец-страж спросил:
- Куда? Кто? Как попали?
- Поди, оповести: дочь Всеволожа Ивана Дмитрича желает говорить с Владимиром Григорьичем, - велела поздняя гостья.
Пока ждала, свербила мысль: «Примет, не примет?»
Страж-челядинец, возвратясь, сказал:
- Взойди, боярышня.
Евфимия прошла с ним на хозяйский верх. Полактия осталась ждать внизу.
Остановились у крестовой, где молилась на ночь вся семья. Поочерёдно вышли сыновья Владимира Григорьича: Иван старший (Голова), Иван Второй, Иван Третьяк, Иван Четвертак и Дмитрий. За ними - дочери: Овдотья Большая, Овдотья Меньшая, Варвара с маленькой Владимировой внукой Дарьей. Все с любопытством глянули на гостью. Внука же состроила ей рожицу.
Старик Ховрин пригласил:
- Пройдём ко мне, Евфимия Ивановна.
В его покое пахло воском, книгами и сургучом. Он указал на стольце с вышитой подушкой, приглашая сесть. Сам стал напротив. На нём чернела ферязь бархатная почти до полу, без воротника и перехвата, длиннорукавная.
Поведай, дочь покойного боярина Иоанна, чем обязан посещению? - осведомился Ховрин:
Евфимия молчала, собираясь с духом. Он не торопил. Она сказала:
- Нужда крайняя вела к тебе, почтеннейший Владимир Григорьич. С тех пор как изгнана из дому и лишена всей жизни, всей рухляди, кроме той сряды, что на мне, я не найду вещицы, чтоб дать тебе в заклад. Со временем надеюсь возвратить отобранное. Что взято право, пусть возьмут, что взято криво, по исправе пусть вернут. Коли разделишь мою уверенность, поверишь под честное слово, одолжусь. А коли нет - прости.
Богач из-под густых бровей в большом раздумье созерцал Евфимию. И отвечал не вдруг, а через тягостное время:
- Наслышан я, Евфимия Ивановна, что разумом пошла ты в батюшку. - Евфимия молчала. - Открой, как мыслишь, - попросил Владимир Ховрин, - останется ли на столе великокняжеском Василий Юрьич, или вернётся сын Василия Димитрича Василиус?
Загадка эта Всеволожу мучила с тех пор, как пришла весть о смерти старого похитчика престола князя Юрия. И Ховрину она ответила, как уже прежде отвечала самой себе:
- Я мыслю: не останется Васёныш великим князем. Жаден он, горяч и суемудрей. Ему бы братьев ублажить, он их обидит. Ему бы оделить бояр московских, чтоб их очи разожглись, он не приложит к этому старания. И что ж? Братья отвернутся, бояре призовут Василиуса, а Васёныш станет бегать.
- Васёныш? - удивлённо вскинул брови Ховрин.
- Я его в детстве так звала.
Хозяин вышел молча. Всеволожа успокоилась. Был бы отказ, она б немедля его услышала. А так… Увидим!
Боярышня увидела тугую калиту в руках купца, когда он воротился.
- Возьми, - рука Владимира Григорьича с весомой помощью без оговорок протянулась к ней. - Вернётся государь, а отнятого не вернёт. Ты не надейся. Однако в крайности приди ко мне. Я чту боярина Иоанна за высокий ум, хотя он не благоволил к моей особе.
Хозяин проводил Евфимию до лестницы в подклет.
Когда закрылась позади калитка Ховрина двора, Полактия была удивлена, что не спустились на Подол, а волею боярышни вернулись к воротам Мамонов. Сестра лесная заворчала:
- Дошли бы старым ходом.
- Не надобно, чтоб челядинец видел, куда идём, - ответила Евфимия.
Пусть соглядатайствует у ворот Васёнышев обыщик. Поздние гостьи пришли к Мамонам, и весь сказ.
Возвращение беглянок всполошило опальную чету. Когда же Всеволожа вручила тугую калиту Андрею Дмитричу, охам и ахам не было конца. Она прервала их:
- Пора бы собираться, Акилина свет Гавриловна. Весенняя-то ночь не зимняя, не так длинна.
Конюший Симеон Яма был тут же послан с лёгким скарбом на телеге в подмосковную деревню Дудницы по запутанным путям. Лесные девы с нехотеньем, спорами (как в чёрный час они покинут амму Гневу?) всё же отправились под Нивны в своё жилище ведьм. Сами же Мамоны с Евфимией переоделись нищебродами, преодолели на задах усадьбы заплот и покинули Кремль через Водяные ворота, где челядь спозаранку снисходит по воду к Москве-реке.
2
Из Водяных ворот вышли в первом часу дня. В этот час солнышко встаёт, отпираются калитки, снимаются рогатки на улицах. Дожидаясь этого часа, Евфимия глядела на луковичный терем за тыном - хоромы Даниила Чешка, знатного боярина Юрия Дмитрича. Когда-то Даниил пытался примирить дядю с племянником, да не преуспел в этом. Не много и лет прошло. Дворы их почти что рядом, как и их души ныне, ведь обоих уж нет в живых. А память останется: Водяные ворота иногда называют Чешковыми.
На Фроловку попали, когда рядом, на Коровьей площадке, затукали топорами мясники, загомонили ранние покупатели, то смеясь, то ругаясь. Дух от площадки шёл тухлый, кровавый, назьмяной. Всеволоже захотелось заткнуть нос.
- Тотчас от Ильинки пойдут великокняжеские сады, там надышишься, - успокоил Мамон.
Евфимия слышала, что в этих, казалось, бесконечных садах однажды в праздник занялся пожар, сгорело много гуляющего народу. Ранним утром через пустые сады проходи, страшась воровства, но не великокняжьих бердышников. Крадёжники безопаснее стражи.
При выходе в чисто поле, где встряхивалась от сна подмосковная деревушка под замутнённым поддымками небом, Андрей Дмитрич нашёл пенёк, снял чёрные сафьяновые сапоги до колен с длинными острыми носами, чтобы перемотать полотняные онучи. Слишком торопливо обулся перед побегом. В ходу обе ноги стер.
- Где укрываться будем? - спросила Евфимия. - Куда направим стопы?
Она говорила так, будто повозка не ждала их в Дудинцах, будто они пешеходцы, безлошадные крестьяне. Хотя вряд ли их можно было за таковых принять при внимательном взгляде. Пусть и висел у Мамонова кушака лжичень, как носили простолюдины ложку в чехле, кафтан на нём был не бедный - длинный, на вате, впереди пуговицы с нашивными петлицами. И на Акилине Гавриловне одежда проста, да не дешева - тафтяной повойник, плотно облегающий и скрывающий волосы, поверх него - искусно повязанное тонкое полотняное покрывало - убрус. На самой Евфимии вместо телогреи для выхода со двора - летник с широкими рукавами до локтей, не распашной, надеваемый с головы. По солнечности и теплу голова открыта, волосы разделены пробором, заплетены в косу, перевитую лентами и украшенную золотой подвеской с кистью - накосником.
- К Господину Великому Новгороду намечаю наш путь, - сообщил Андрей Дмитрич. - Есть там у меня важный друг, степенный посадник Василий Степанович Своеземцев. Он даст приют на время. Однако вот размышляю: как добираться? Есть две дороги: одна - через Волок Дамский, Торжок, Вышний Волочок, Коломенское озеро, Яжолбицы; другая - от Волока Дамского мимо озера Вол ого (откуда Волга начинается), через град Демань - новгородскую крепость на реке Явоне, впадающей в Шелонь, - через Русу, берегом Ильменя, через Коростыню и - на месте!
- Способнее вторым путём, - приговорила Акилина Гавриловна. - Круглее, но глуше. Стало быть, безвреднее.
Направились к деревеньке, что дымилась в тысяче шагах. Она и оказалась Дудинцами.
У крайней курной избы во дворёнке с похилённым плетнём нашли Симеона Яму, чистящего саврасую лошадь, впряжённую в повозку с берестяным верхом.
- Вот наш рыдван, - издали углядела Акилина Гавриловна.
- Не рыдван, а кибитка, - уточнил Андрей Дмитрич.
- Харч не удалось купить, - уведомил Симеон Яма. - Монеты, что господин из калиты дал, - оршуги, шведские медные деньги.
- Истинно, истинно, - подтвердил боярин. - Пфениги, марки, оршуги. Будто бы Ховрин знал, что твой путь ляжет в Новгород, - сощурясь, глянул он на Евфимию.
- Не в Литву ж ей бежать! Не в Москве ж оставаться! - объяснила поступок Ховрина Акилина Гавриловна.
- В Новгороде рады будут таким монетам, здесь же, в лавице, не берут, - заявил Симеон Яма. - А цены, цены по случаю нашей смуты! - воздел он руки к небесам. - Мех овса - алтын, воз сена - алтын, коврига хлеба - деньга, полоть мяса - два алтына, баран - десять денег! Да ещё май добавил скупости. Ах, май, май! Не холоден, да голоден!
- Обвыкнемся голодать, - вздохнул Андрей Дмитрич.
- Попросил у приятеля Христа ради, - кивнул Симеон на курную избу, - овсяных хлебов да жбан молока. Подкрепимся по-бедному и - в дорогу.
За трапезой возатай признался, что хотел кой-какую боярскую рухлядь обменять на еду, да поостерёгся: не заподозрили бы, кто путешестует. В лихое время кругом доводчики.
Саврасый повёз почти шагом. На спусках убыстрял ход, на подъёмах Мамоны с Евфимией покидали кибитку, шествовали позади, лишь Симеон Яма ехал, покачиваясь в седле, помахивал понукальцем.
На полях трудились обельные мужики в рубахах и портах, в сапогах чёрного товара или лаптях, бабы в красных сорочках и сарафанах. Обихаживали свою собину.
- Арина-рассадница! - объявил, спустя несколько дней, возатай. - Рассаду капусты сажают. Жгут старую траву, чтобы не мешала новой. На Арину старая трава - с поля вон!
- Тяжело живут, а у каждой бабы серьги в ушах, - заметил боярин.
- Для крестьянки серьги в ушах, словно крест на шее, - хохотнул Симеон Яма.
В селе Теребень приютил путников скудобородый безлошадник Сысой. Попробовал оршугу на зуб и решил:
- Сгодится!
После вечери жена с детишками взлезли на полати, постояльцам постелили на лавках. Хозяин не погасил светца. Евфимия, засыпая, слышала, как он жаловался Андрею Дмитричу:
- Грядут страшные времена! Уже, видимо, кончина мира приблизилась, и урок житию нашему приспел, и лета сокращаются. Сбылось всё, сказанное Господом: восстанет язык на язык… Говорят, по истечение семи тысяч лет пришествие Христово будет. То-то и есть! Нынешней зимой у нас явился волк голый, без шерсти, много людей поел. А на днях озеро Жидовское у села Троицы три для стояло кровавое…
- Животные есть такие, почти глазу невидимые, - разъяснял Андрей Дмитрич. - По-латыни именуются инфузории, а по-нашему - точка, клуб, угрянка, глазок, разнотелка, вьюнчик. Водятся они во всех жидкостях, настоях, наливках, особливо в квасных, загнивающих. Воду красят. Бывает, в кровавый цвет…
Месяц почти истёк в долгом странствии. В деревне Охна путников никто не приютил. Ночевали в кибитке. Андрей Дмитрич с возатаем поочерёдно спали у костра.
Когда Евфимия среди ночи вылезла по нужде, Симеон Яма спал, бодрствовал боярин. Проводив деву в ближний лес, он посторожил, стоя в подберезье, на возвратном пути сказал:
- Забываю за хлопотами известить тебя, милушка: ещё в Нивнах, после рассказа Фотиньи о твоём ночном поединке с Косым, я задумался. Тяжело противостоять злу голыми руками. Мало ли найдётся на сироту обидчиков? Вот и измыслил тебе защиту: не нож, не меч, а иголочку. Не придумал, как назвать. Спрыск? Брызгалка? Сифон, по-гречески? Трубка такая тоненькая. Несколько трубок. Вошьёшь их в наручи, в подрукавник или под подол. При надобности вонзишь иголочку в супротивника, сожмёшь другой конец двумя пальцами. Сталь в этом месте тонкая, гибкая. А в остром конце лопнет плёночка, и вбрызнется сонное зелье в кровь лиходея. Тут же повалит с ног. А безвредно. Каждая брызгалочка - на один разок. Да разков таких в твоей жизни, я чаю, не много будет. Напомни завтра достать из ларчика. А Акилинушка вошьёт, или сама… Лезь, милушка, почивай пока, - подсадил он её в кибитку.
На другой день возатай объявил:
- Нынче праздник: царь Константин, мать его Алёна. Сеют лен и огурцы. Алёне лён, Константину огурцы.
В граде-крепости Демане предоставили кров два братца новгородца Лазута и Станил. Промышляли они обозами. Обменивали новгородский лен на галицкую соль и новоторжские кожи. Да выглядели небогато. Носили широкие простые армяки без боров и грубые кожаные уледи - сыромятные лоскуты - носок крючком, голенища суконные. Загаяли перед Андреем Дмитричем своё дело. Не на неудачу пеняли, на коробейщину, съедающую всю прибыль. Долго длилась их речь с Мамоном после вечерней трапезы, пока Акилина Гавриловна вшивала в платье Евфимии измысленные головастым супругом брызгалки.
Утром кибитка Мамонов продолжила путь вместе с обозом деманьских новгородцев. Возы с тяжким грузом галицкой соли двигались позади. Саврасый, изрядно устав за месяц тяглового труда, едва всходил на су-гор. Боярская чета и боярышня шли обочь.
- Клячонка нёличь, а неистомчивая! - оглянулся Симеон Яма, сидючи в седле. И тут конь стал как вкопанный. Понукальце не помогло. Кнут, вынутый из-за пояса, понуждал выдохшуюся лошадь буйно поматывать головой, да не двигаться. Удары сыпались в хвост и в гриву. Этого не вынес Мамон.
- Уступи седло, дай поводья.
Возатай спешился, боярин взгормоздился на Саврасого, и… конь тронулся. Евфимия с Акилиной Гавриловной облегчённо вздохнули и продолжили свой разговор.
- Какие ткани ты более всего любишь? - спросила боярышня, углядев под телогреей Мамонши вышитое шёлком цветное лёгкое платье.
- Люблю ткани всех цветов, - сказала боярыня, - кроме чёрного - его носят монашки, - и пёстрого, азиатского.
Тем временем кибитка выехала наверх.
- По сугорью хороши пашни, а по низам все почти вымокли, - подметил Симеон Яма, поднимаясь за женщинами.
И тут произошло нечто, остолбенившее путников.
Навстречу им в крутом ветровом потоке двигался пылевой столп от земли до неба. Он шёл, быстро приближаясь, лоб в лоб саврасому, сидевшему на нём боярину и кибитке. Не успела Акилина Гавриловна руками всплеснуть, как лошадь со всадником и повозкой оказались в вихревом столпе. Вихрь поднял ношу, поносил по равнине, умчал за окоём… Поднявшиеся со своими соляными возами Станил с Лазутой в изумлении оглядывали пустое пространство.
- А где ж Андрей Дмитрич? - спросил Станил.
- Нечистая сила унесла! - стоял с широко раскрытыми глазами Симеон Яма.
- Невиданной силы смерч! - растерянно произнесла Всеволожа.
Истошно, как по покойнику, закричала Акилина Гавриловна.
Всё случилось так быстро, что никто ничем не успел помочь несчастной жертве смерча. Симеон Яма истово молился. Новгородцы оглядывались на свои возы, хотя соляную тяжесть никакой нечистый дух не подымет. Евфимия утешала боярыню.
- Я… его… потеряла! - металась по пустой равнине Мамонша.
- Аки Илья пророк, взят на небо, - вздыхал возатай.
И повозка, и рухлядь, и конь - всё пропало! - хлопали себя по лбу деманьские купцы. В конце концов Станил предложил:
- Слезами горя не истребишь. Лазута проводит вас, женочки, в ближнюю деревню, а я с Симеоном отправлюсь искать боярина и коня с повозкой. Отыщется Андрей Дмитрич!
- Отыщется, а всё равно не живой, - плакала Мамонша.
- Живому порадуемся, мёртвого земле предадим, - рассудил Станил.
В деревне Тошна, куда Лазута привёл возы соли и двух осиротевших женщин, расположились в крайней избе. Хозяин достал из печной выемки - искрёнка растопку и кресало, вздул огонь, чтоб обогреть дрожавшую боярыню, хотя её трясло от горя, не от холода.
- Опомнись, матушка, не убивайся. Ты - амма Гнева! - внушала Всеволожа, снимая с неё кику с назатыльником и подубрусник, закрывающий всю грудь и плечи.
- Я не амма Гнева без своих лесных сестёр, - печалилась боярыня. - Слепа, глуха, беспомощна! Нет со мною Богумилы - моих очей. Нет Калисы - чудотворных моих рук. Нет Янины - ведалицы людских судеб. Нет Агафоклии, способной отыскать несчастного в иных мирах и временах…
Повечер явились ищики - возатай и купец. Сложили кое-что из рухляди к ногам боярыни.
- Остатки колесницы нашли на дереве за рекой Метою, - оповестил Станил.
Симеон Яма кулаком утёр глаза.
- Саврасый пал. Нашли неподалёку.
Оба, прихватив по калачу, направились к двери.
- Куда же вы? - спросила Всеволожа.
- Искать боярина, - сказал Станил. - Ночи теперь лунные… Лазута, ну-ка, с нами! - поднял он приятеля с голбца.
Тот оторвался от печи, накинул армячок. И вновь остались женщины одни. Хозяева давно уж почивали снаружи на повети.
Застыла в горьких мыслях Всеволожа. Светец погас. Безмолвно глядела амма Гнева в подсинённое луной оконце.
- Мне совестно, - тихонько зазвучал её дрожащий голос - Перепугалась стать одной. А ты - одна!
- Ужели не провидишь ничего? - страдала о боярине Евфимия. - Что ж твои книги? «Добропрохладный вертоград», «Рафли», «Лопаточники», «Трепетник»…
- Нет со мною моих книг, - вздохнула амма Гнева. - И нет лесных сестёр. Дай успокоиться, прийти в себя, вступить во внутреннее делание… Помолчим!
В молчанье просидели до третьего петлоглашения. Вдруг амма Гнева поднялась, перекрестилась в красный угол.
- Он идёт!
- Кто? - вздрогнула окованная нечаянной дремотой Всеволожа.
- Он. Андрей Дмитрич. Выйдем встречь…
Покинувши избу, они узрели в молоке рассвета четверых всадников на трёх конях, выпряженных из купецкого обоза. Вот спешиваются. Первый - с поклажей. Двое под руки ведут четвёртого.
В безмолвии счастливо обнялись боярин и боярыня. Потом Станил сказал:
- Нашли далече. На опупке. В высоких травах. Думали, поломаны все кости. А он лежит целёхонек. Кафтан изодран!
К полудню улеглись все радости. Купцы с возатаем, вкусив корчажной пьяной браги, взлезли на поветь и улеглись на прошлогоднем сене. Хозяева ушли на свою пашню. Андрея Дмитрича устроили под солнцем и ветлой. Мамонша приводила в добрый вид испорченный кафтан. Евфимия же слушала в который раз, что пережил и перечувствовал внезапно унесённый вихрем.
- Никакой боли. Поднимаюсь ввысь. Вращаюсь, как веретено. И очень опасаюсь открыть глаза. Такое чувство: вот глаза открою, себя увижу безногим и безруким. Потом открыл…
- И обнаружил, что оказался на вершине травянистого опупка среди золотных одуванчиков, - резво подсказала амма Гнева слушаную-переслушаную повесть мужа.
- Нет, - поднял палец Андрей Дмитрия. - Главного ещё я не поведал. Опасался, что Лазута со Станилом и Симеон сочтут меня выдумщиком. А вам открою: я оказался в ином мире… - Боярыня с боярышней придвинулись. - В каком-то каменно-железном мире, - вздохнул боярин. - Необъятный город! Люди ездят в стальных конях.
- В повозках, - поправила Евфимия.
- В повозках возят кладь, - сказал боярин. - Возницы же сидят в утробах конских, чаще вовсе без повозок. А по углам - трёхглазые железные жердяи. Три ока трёх цветов, и возгараются попеременно. А под ногами - камень, с боков - камень. Зелени почти что нет. Оставшуюся выкорчёвывают. Лишь над головой кусочек неба в паутине. Ещё возят множество людей железные рогатые коровы. Заденут рогом паутину, испускают искры.
- Наваждение! - поёжилась боярыня. - От страха выдумался сей ужасный мир.
- Ужасный, а занятный, - возразил боярин. - Там люди могут говорить друг с другом издали. Ты, скажем, на Москве, я - в Суздале. Один другого слышат. Там простой смертный по небу летает, аки ангел, только не сам собой, а кучно, в утробах мощных стальных птиц. Живут не в избах и не в теремах, а по-пчелиному, в бессчётных сотах, в ульях до небес. Однако в вящее пришёл я изумление, узнав, что мёртвые не умирают. Нет человека, а голос его слышен, сам он даже виден, лишь не осязаем, не отвечает, ежели вопрос задам, хотя и движется, вещает, как живой.
Тут Акилина свет Гавриловна тихонько отвернулась, поднесла к глазам ширинку, дрогнула спиной.
- Что с тобой, милушка? - всполошился Андрей Дмитрич.
- Сам цел-целешенек, а разум повреждён, - уже не сдерживала слёз Мамонша.
- Отчего ж ты не остался в этом чудном мире? - увлеклась рассказом Всеволожа.
- Плохо там, - сказал боярин. - Воду из реки не пей, в пруду не искупайся, овощь, ягоду с куста не съешь, вели отмыть. От городского смраду к сельской чистоте не два шага, а долгие десятки вёрст в железной гусенице…
Тут боярыня не выдержала и ушла в избу. Андрей Дмитрич смолк.
- Как ты вернулся к нам? - спросила Всеволожа.
- Четырёхглазый муж в белой тафье, белой сорочке узнал моё желанье и помог. Такой же вот брызгалкой, что я измыслил для тебя. Однако, милушка, пойду я к нашим мужикам, сосну на прошлогоднем сене. Ты Акилинушку утихомирь и успокой. Ни словом больше не обмолвлюсь о чудном мире. Наважденье, да и только!
3
Евфимия впервые должна была увидеть древнейший русский город - Господин Великий Новгород. Едва опамятовался Андрей Дмитрич от смерченосных странствий, насельники кибитки двинулись в дальнейший путь. Лазута и Станил не стали дожидаться полного оздоровления Мамона. Их торопили договоры со скупщиками соли. Они лишь оказали помощь Симеону Яме в покупке нового коня и распрощались, не надеясь вскорости увидеться, ибо не намеревались дольше дня задерживаться в деловой столице торгующей Руси: на Суздальщине без промешки ждут новгородский лен.
Симеон Яма восседал теперь не на саврасом, на гнедом коне, что был сильнее и моложе. Кибитка шла проворнее, будто сама помолодела.
- Новгород, милуша, делится надвое могучим Волховом, - осведомлял боярышню Мамон. - В Торговой, или Купецкой, части - два конца: Словенский, Плотницкий. А во Владычной, или Софийской, части - три конца: Неревский, Загородный и Людин, или Гончарский… Нам же нужна улица Лубяница с каменною церковью апостола Луки. Там проживает вящий новгородский гражданин Василь Степаныч Своеземцев.
За разговорами с Мамоном Всеволожа не заметила, как миновали первую рогатку. Выглянула из кибитки: улица и улица - глухие тыны почти до крыш, пыль чуть ли не по бабки лошадям, а кое-где вода стоялая, хотя вот уж седмица, как длится вёдро. Евфимия чихнула, втулилась в берестяной короб.
- Подградие, - вздохнул Мамон. - А пыль всё та же, что московская, что новгородская.
И вдруг загрохотала колесница по дощатому настилу. Всеволожа снова выглянула.
- О! Новгород Москвы головой выше. Хороминам по нескольку веков и храмы каменные… А река-то! Две Москвы-реки вместит.
- Во-о-олхов! - важно произнёс Мамон. Кибитка, затёртая возами и каретами, хоть ненадолго, то и дело останавливалась.
- Товару на реке! Товару! - удивлялась Всеволожа.
- Вымол. Пристань, - пояснил Мамон.
- А корабли все иноземные. Я слышу речь немецкую…
- Герольдов вымол, - уточнил Мамон. - Пристань иноземного купечества.
- Предлинный мост и башни на обоих берегах! - оповещала Всеволожа.
- Великий мост над Волховом, - сказал Мамон. На улице Лубянице резные широкие ворота не сразу распахнулись перед ними. Страж чесал в затылке, сомнительно взирал на ставший ветхим латаный кафтан Андрея Дмитрича.
- Боярин?
Когда впустили, Мамон исчез во внутренних покоях хозяина. Акилину же Гавриловну встретила в сенях и обняла улыбчивая, круглая, как репка, жена большого новгородца.
- Оксиньица! - воскликнула Мамонша.
Облобызались троекратно.
После бани Евфимия вкушала солнце у растворенного окна опрятной боковуши, теперешней своей одрины, и любовалась видом Новгорода: закоморами, стрельчатыми башенками, куполами… В дверь заглянули:
- Боярышня, пожалуй к господину!
Удивлённая Евфимия опрянулась поспешно и прошла, сопровождаемая челядинкой, к степенному посаднику.
Попала не в привычный боярский или княжеский покой, а в длинную двусветную палату с изразцовыми печами, высоким потолком и топкими коврами по полу. Затейливые окна в виде опрокинутых сердец источали волшебный свет от разноцветия слюды в оконницах. У круглого блестящего стола с гнутыми ножками в обитом кожей стольце восседал хозяин… Нет, не хозяин! Евфимия прижала к груди руки, расширила глаза… Навстречу ей поднялся осанистый старик без бороды, зато усы седые, как коромысло, хоть ведра на них вешай.
- Приветствую тебя, воительница костромская! Рад лицезреть здоровой, невредимой! - шёл к ней Юрий Патрикеич Наримантов.
- И я тебя приветствую, храбрейший воевода! - склонилась Всеволожа, стараясь сохранять спокойствие. И тут же целиком попала в тепло его распахнутого опашня. Губы воеводы запечатлели поцелуй на её лбу.
Потом приблизились сидевшие на лавке у окна Мамон ещё в дорожном платье и невысокий коренастый муж в скромной тёмной однорядке без подкладки из сукна. Не однорядка - ряса инока.
- Кто сей человек? - задал загадку Юрий Патрикеич, почтительно коснувшись локтя подошедшего.
- Монах, - сказала Всеволожа.
Мамон скривился: мол, попала пальцем в небо. Воевода крякнул и тряхнул главой. Монах полюбопытствовал:
- Чем вызван твой догад? Смиренным платьем?
- Смиренным ликом, - уточнила Всеволожа. - Платье личит к твоему смирению.
- Перед тобой Василь Степаныч Своеземцев, посадник Новгорода, - объявил Мамон.
- О клобуке мечтаю только, - тихо улыбнулся хозяин дома. - Вот кончится моё посадничество, удалюсь в отчины свои на Вагу и при впадении в неё речки Пенежки создам пустыньку. Там и окончу дни свои.
Должно быть, ни можайскому боярину, ни воеводе эти намерения посадника были неведомы. Оба, изумлённо глядя на него, не находили слов. Он продолжал разглядывать боярышню.
- Вижу, ты достойная дщерь Иоанна Дмитрича. Наслышан я о нём. Рад принимать тебя. Пожалуйте покуда в трапезную, дорогие гости, - обратился он ко всем. - Сам потрапезовал бы с вами, да недосуг. Зыбеж сегодня в Господине Новом Городе. Мой долг усовестить народ. А повечер - опять к вашим услугам.
Простились ненадолго. (Знать бы Евфимии, что навсегда!) Мамон отправился опрянуться с дороги. Воевода же с боярышней прошли в столовую палату.
Идя к столу, Евфимия узнала, что Мамон поведал воеводе о всех её невзгодах после неудачного побега. Посадник тут же пожелал увидеть дочь боярина Иоанна. Юрий Патрикеич сам был рад свидеться со своею костромской соратницей. Он постоянно помнил о несчастливом для неё сраженье при выходе из подземелья.
- Как я оказалась в Новгороде, тебе известно, - начала боярышня застольную беседу. - Как ты здесь оказался, мне неведомо.
Воевода, расправляя мощь седых усов, сказал:
- Послом я прибыл к новгородцам от государя Василия Васильича!
- Стало быть, Василиус вернулся на отцовский стол? - не удивилась своему предвиденью Евфимия. - А что ж Васёныш?
- Косого родные братья попросили из Москвы уйти, - ответил воевода. - Пока они преследовали правителя законного, брат их обидел. Отнял кое-что. А у Шемяки - даже приданое, завещанное по духовной будущим тестем, князем Заозёрским, присвоил, забыв совесть. Вот они и объявили похитчику престола: «Когда Бог не захотел видеть отца нашего великим князем, то мы не хотим видеть оным и тебя». Так примирились с государем Красный и Шемяка, а Косой скрывается незнамо где.
- А пленные великие княгини, старая и молодая? - спросила Всеволожа.
- Вернулись в Кремль. Княгиня Марья родила наследника, первенца Юрия. Теперь самое время ставить на ноги больное государство. Вот и прошу у Новгорода денежной помоги. Государь целовал крест, что отступается от отчин новгородских. Ждёт чёрного бору за сей год по старине. С сохи по новой гривне. Уже договорились слать черноборцев по волостям. Ох, не ко времени сегодняшний зыбеж!
- Из-за чего зыбеж? - спросила Всеволожа.
- А из-за денег же, - насупил брови Наримантов. - Денежный ливец Фёдор Жеребец, подкупленный боярами, отливал для них серебряные деньги не по мере. Обман открылся. Вот и созвали вече допросить ливца. Степенному посаднику Василию Степанычу предстоит взойти на степень, иначе говоря, на помост, и успокоить хулящих деньги.
Пришли Мамон и Акилина свет Гавриловна. Боярыня и воевода покланялись друг другу по достою, поздравствовались, и трапеза продолжилась.
- Перед моим отъездом из очищенной столицы ваш князь Иван Андреич мне наказывал, - окинул На-римантов лучезарным взором бояр можайских, - в Великом Новгороде вас сыскать, буде вы тут скрылись, и попросить вернуться. Сам Иван Андреич вновь под знамёнами законного помазанника, отступился от мятежных Юрьичей, не верит злоязычной молвке, будто вы причастны к смерти князя Юрия. Так что прошу со мною на Москву!
Радости Мамонов не было границ.
После трапезы они взялись за сборы. Предстояло возвращаться не нищебродами, а истыми боярами.
Воевода же тем временем предложил Евфимии осмотреть Новгород и первым делом отправиться к Святой Софии, где тоже после обедни состоится вече, но не злое, денежное, а богоугодное: станут избирать архиепископа. Такого действа и на Москве не поглядишь, ибо лишь в вольном Новгороде архипастыри определяются не высшими духовными чинами, а всем миром. Конечно, ныне вече не обычное: все денежные люди соберутся на Торговой стороне решать свою беду, ругмя ругаться во все тяжкие. А на Софийской, или Владычной, столпятся малоденежные, кои нехваткой серебра в монете не слишком-то удручены. Это люди задние: голодники, ну, разные там прошакй да нищие, а также ябедники, облыгатели, что промышляют ябедами по судам. Нет спору, подойдут и вящие, однако задних будет большинство. Придётся обережь брать пообильнее да понадёжнее.
Мамоны ожидали Всеволожу к вечерней трапезе, чтоб, досыта наспавшись, с завтрашним рассветом ехать вместе на Москву.
Евфимия в каретное оконце любовалась старейшим русским городом.
Чем ближе Кремль, тем люди гуще. Пришлось оставить воеводе и боярышне карету, а охранышам коней на отведённом платном месте под надзором сторожей. В окруженье крепкой обережи пешими проталпливались в Кремль к Святой Софии. Вот она дебелой государыней тянется до неба золотой короной куполов! Нёс лично, озорно, в её сиянии звучит глухая перебранка между ябедниками и го ледниками:
- Ябедника на том свете за язык вешают!
- Нищая трава! Ломоносы! Бородавники!
- Бог любит праведника, а черт ябедника!
- Кто ходит в нищих, ест без перцу!
- Лучше нищий праведный, чем богач ябедный!
- Нищий нищему завидует!
- Скупой богач беднее нищего!
- Тьфу! Тьфу! Нет на вас погибели!
- И не нищие, да того же ищете!
Наконец-то протолпились ближе к паперти! Здесь и бороды ухоженные, и голоса спокойные.
- Перед службой, - объяснил Юрий Патрикеич, - протопоп Василий Старый положил на престол три жребия. Как я знаю, один - Самсона чернеца от святого Спаса с Хутына, другой Михаила, игумена от святого Михаила со Сковородки, третий Евфимия, тоже игумена от монастыря Богородицкого, что на Лисичей горе. Вот, гляди, протопоп вынес жребий, оглашает…
Протопопа было не слышно, слишком громкий говор шёл по толпе. По говору воевода и определил:
- Самсон Хутынский!.. Гляди, второй жребий вынесен… Михаил, игумен!.. Слушай, оглашают третьего, чей жребий Бог оставил на престоле, стало быть, из трёх избранников народных определил себе единственного… Игумен Богородицкий! Твой соименник, юная моя сподвижница Евфимия Ивановна! Евфимий, новый архиепископ Новгородский! Я его знаю. Верный сторонник, стало быть, теперешний союзник государя нашего Василия Васильича! Вон и посадник прибыл с Торговой стороны. Успокоил денежников, теперь возведёт нового архиепископа в Дом Святой Софии, на сени.
Однако же торжественного возведения пастыря не довелось увидеть Всеволоже. Услышала лишь хоровое пение, внезапно заглушённое народным рёвом из-за стен Кремля.
Перед Евфимией сияло лицо женщины, случайно втолкнутой в кольцо юс обережи. Она кричала:
- Благословил Господь наше избрание! В храме у праздничной иконы прощены двое калек: у сотского нога прикорченная исцелилась, а у купца рука…
И тут толпа шарахнулась назад.
- Боярышню не упустите! - впоследне слышала Евфимия тревожный голос воеводы.
Здоровяки охраныши ещё какой-то миг в натужном напряжении держались вкруг неё. Кольцо их разомкнулось. Её вытолкнули вместе с женщиной, оповестившей о Господнем Прощении калек. Толпа взнесла их, словно камешки в потоке, и устремила к воротам Кремля.
- Раздайтесь! Дайте стать на землю! - во весь голос просила Всеволожа перемешавшихся голодников и ябедников.
Один из них, как прочие, не в силах ничего поделать, успокоил:
- Радуйся, что ты не на земле. Сомнут! Молись, чтоб не прижали к воротным сводам. Раздавят!
Успокоение тотчас же потонуло в женском вопле. Евфимия узнала искажённый лик той самой женщины, с кем выскользнула из кольца охранышей. Несчастную притиснули к беленой каменной стене. Когда она исчезла, утонув в толпе, стена осталась красной.
Очнулась Всеволожа за воротами, нетвёрдо стоя на ногах. Её подхватывал иной поток, не столь стремительный и плотный. Хотя и из него не выбраться. Он нёс к Великому мосту.
- Что происходит? Что творится? - спросила Всеволожа ражего купчину в поярковом высоком колпаке.
- Зыбеж! - воскликнул он. И, задыхаясь, начал пояснять: - Едва посадник покинул вече на Торговой стороне, ливец Федорка Жеребец, подпоенный боярином Секирой, оговорил не мало, восемнадцать человек, коим якобы лил деньги. Их похватали, домы разграбили, имение изъяли из церквей, чего от веку не бывало. Вот, волокут топить! Иди-ка, молодица, под мой заслон. За башню затупимся, отсюда хорошо увидишь казнь.
- Я не хочу глядеть на казнь. Мне надобно на площадь, где повозки с лошадьми, - молила Всеволожа.
- Гляди! - тянул купчина крюковатый перст. - Покуда не окончат, отсюдова не выберешься.
Она глядела, как со страшной вышины моста низринули в свинцовый Волхов человека с камнем на ногах.
Вдруг закричали рядом:
- Вот он! Вот он! Евстафий Сыта с Нутной улицы! Его ещё не поймали!
Купчину окружили, вознесли и плавно двинулись к мосту, как с гробом на похоронах от дома к лошадям, впряжённым в погребальный одр. Несомый вскидывал руками и ногами. Стогорлый рёв глушил его мольбы.
- А эта? С ним? - вопил вихрастый мастеровой, дыша хмельными вонями, хватая Всеволожу за руки.
- Прочь, сучий потрох! Она со мной, - обнял и поволок Евфимию от страхолюдья высокий молодец в узком кафтане с золотым, стоящим под затылком, козырем.
- Ты кто? Куда? - сопротивлялась Всеволожа.
- Я узнал тебя, Евфимия Ивановна, - объявил, как Небом посланный, спаситель. - Многожды видел у Пречистой подле Софьи Витовтовны на рундуке. Нимало не страшись, боярышня. Я - князь Роман Переяславский.
- Сведи меня на площадь, князь Роман, - просила Всеволожа. - Там ждут кареть и воевода Наримантов.
- На площадь не пробиться, - спустился с нею князь по узкой лестнице на подберег, заваленный мешками, ящиками, бочками. - Здесь склады, тишина. Здесь я оставил доброго коня.
Он кинул оршугу сторожу, вскочил в седло, протянул руки Всеволоже:
- Пожалуй, не смущайся. Отвезу, куда велишь.
- Вези на двор к степенному посаднику, - доверилась ему Евфимия.
Они скакали пустыми улицами и заулками, не наводнёнными народом. Должно быть, князь Роман - бывалец в Новгороде, знал его изрядно.
Спешились на вовсе не знакомой Всеволоже улице у почерневших, не посаднических врат.
- Чужое место! - заподозрила боярыня неладное. - Куда привёз? Тебе неведом двор Своеземцева?
- Двор Василия Степаныча мне ведом, - улыбнулся князь. - Однако же взойдём к моему другу ненадолго. Я должен передать подарок. Он ждёт.
Они вошли в угрюмый неказистый старый дом. Не на подклете, без широкого крыльца и без каких-либо прикрас. В сенях было тёмно и пахло то ль закваской, то ли суслом. Князь отыскал дверь ощупью. И в следующий миг Евфимия увидела Васёныша.
- Ба! - вскрикнул он, вскочив из-за стола. - Ну, чудо! Вот так чудо! - И подскочил к Евфимии, во всю ширь раскинул руки: - Обхапимся, родная!
Всё в ней похолодело. Поняла, что снова в западне. Застыла каменно и не противилась объятиям Косого. Лишь тихо молвила:
- Медведь обхапчив!
4
Чулан, всё наполненье коего - пустой бочонок из-под мёда и лавка, чёрная от времени, хотя и наскоро обтёртая, вот этот-то чулан с пустым волоковым окном стал новым обиталищем Евфимии. Ни сил, ни ловкости ей не хватило, чтоб совладать с Васёнышем, втолкнувшим её сюда. Теперь боярышня сидела в полной темноте и вслушивалась в скрипы большого деревянного жилища. В безгласное ночное время дом жаловался и стонал гнилыми половицами, оконницами, матицами и ещё не поймёшь чем.
Еды она не приняла и всё ж страдала оттого, что не могла сходить в задец и не было в чулане ночной посуды. Достукиваться, требовать смущалась. А достучишься до кого? Охраныши, как видно, далеко. Дверь заперта снаружи, и весь сказ.
Вот - приближающийся шорох, скрежет засова, свет свечи…
Перед ней жена ли, дева ли в повойнике, повязанном под подбородком.
- Я Неонила. По нужде не выйдешь ли? Евфимия пошла за нею, за слабым светом в её руке.
Чёрным ходом вышли в крытый двор, где терпко пахнущие кони хрупали овсом.
- Не выведешь ли меня вон отсюда? - спросила Всеволожа.
- Не смей думать, - истиха сказала Неонила. - Снаружи сторожа. Им о тебе ведомо.
Когда вернулись, Неонила не ушла. Прикрыла дверь, поставила свечу на лавку.
- Не мысли дурно о переяславском князе, - молвила она. - Государь ему поведывал о вашей давней пламенной любви и вынужденной злыми кознями разлуке. Роман был уверен, что, нечаянно найдя тебя, доставит вам обоим неожиданное счастье. Потому, ни слова не сказав, привёз свою найдёну в этот дом. Теперь-то видит - оплошал, да поздно. Ты поделись со мною горем, передам ему. Авось исправит скорбную оплошину.
Боярышня, как опустила очи, сев на лавку, так и не подняла на Неонилу взора.
- Ступай с Богом. Князю Роману передай: пусть спит спокойно. Ничего он не исправит. Когда Василий Юрьич впихивал меня в это позорное узилище, виновный не повёл и бровью.
- Охолонись, боярышня, помысли здраво, - присела перед нею на кокурки Неонила. - Ведь князь Роман крест целовал князь Юрию!
- Крест целовал озоровать с ним заодно? - сурово глянула на деву Всеволожа. - Беззакония творить?
Со вздохом Неонила поднялась, взяла свечу.
- Не по уму, боярышня, мне эти речи. Не имею внятельного разумения. Почивай, как сможется. Приду в первом часу дня. А пищу ты б не отвергала, не лишалась сил на будущее.
Она ушла. Евфимия сидела, временами уходя в освободительную дрёму, до тех пор, пока в волоковом оконце, впускавшем ночной холод, не засинел рассвет.
Её вспугнули тяжкие шаги. Вот резко отлетел засов. Дверь расхлобыстнулась. На пороге - Васёныш в каком-то чёрном кукуле. Закрыв дверь, он мешковато опустился на бочонок из-под мёда.
- Офима, не ругайся за вчерашнее. Был одержим вином. Теперь бежим, не мешкая. Зыбеж скрывал меня в Великом Городе. Сейчас замятия катится на убыль. Федорка Жеребец протрезвился и объявил, что он оговорил утопленных вчерашним днём. А для кого лил деньги, осталось тайной. Нынче уж не спросишь. Секира, напоивший Жеребца, свёл счёты кое с кем и сам внезапно кончил жизнь. А Жеребец убит. Его именье грабят. Посадник с тысяцким поставили иных ливцов. Всё перельют, что не по мере. Берут от гривны по полуденьге.
- Зачем ты предо мною разглагольствуешь? - оборвала Евфимия. - Коли не одержим вином, так отпусти.
Васёныш глянул в мелкое оконце, набирающее свет, и зло прищурился.
- Как бы не так! Тут не село Падун. Василиус на помощь не приспеет. Бунко-предатель не спасёт.
- Вот вздоры! Не предатель Карион Бунко! - встала Евфимия. - Ты до сих пор не выслушал меня.
Васёныш тоже встал, сжал кулаки.
- А что мне слушать? Твой Карион жив, служит Можайскому, живёт с латынкой некрещёной. Мой Фёдор Трябло мёртв!
- Не на виновных взыскиваешь вины, - противоречила боярышня.
Князь не внимал.
- Нам надобно бежать. Архиепископом в Святой Софии теперь Евфимии, твой соименник, мой лютый враг, ибо Василиусу друг. Посадник Новгородский стакнулся с московским воеводой, бывшим моим колодником. Бежать… Куда бежать? - забегал по чулану Косой. - На Мету, в Бежецкую, Двинскую область, в северные пределы Великого княжения. Там галичане с вятчанами - моя подкрепа. А ведь только что был на Москве! Бояре тамошние величали государем. Изменники! Все изменили. Даже братья! И ты, моя любава, ненавистница моя, со всеми ними заодно. Ишь, «отпусти»! Чтобы укрылась у своих ангелов-хранителей Мамонов, у дьяволов - убийц моего батюшки!
- Мамоны непричастны к смерти князя Юрия, - вставила Евфимия.
Косой застыл насупротив, зыркнул беспощадно:
- Не побежишь со мной, убью!
- Неужто кровь мою прольёшь? - как бы не веря, усмехнулась Всеволожа.
- Твоя кровь дороже, что ли, моей? - прошипел князь. - Или ты считаешь себя лучше всех?
Боярышня уселась на свой темничный одр.
- С тобой не побегу. Разве что наейлком, в колодах. Ты не доведёшь до этого.
Васёныш поднял взор горе, подумал и изрёк:
- До колод не доведу. Однако ж оставлять приобретённое не в моих правилах. Я увезу тебя в гробу. Чудесный способ покинуть негостеприимный Новгород без подозрений и задержки. А чтоб не крикнула, я в крытый погребальный одр велю девицу Неонилу посадить и парочку охранышей. Мы в крышке гроба над твоим жестоким сердцем просверлим дырочку. Чуть подашь голос, Нелюб спицей грудь проткнёт. А новгородцам скажем, будто кричала Неонила. Ловко придумано?
- Куда как ловко! - согласилась Всеволожа. Васёныш вышел. Он казался сумасшедшим. Много спустя Неонила принесла шматок копчёной буженины с хлебом и горячий взвар. Заточница не приняла.
- Всуе упорствуешь, боярышня, - шептала в ухо дева, опасливо косясь на дверь. - Князь Роман чуть ли не падал ниц перед Васильем Юрьичем. Молил тебя освободить, не мучить, не неволить. Тщетно! Уже наказано великокняжьим слугам немедля сколотить сосновый гроб. На что, скажи, на что похитчику нужна твоя девическая жизнь?
- Не жизни, чести моей девичьей готовят домовину, - ответила Евфимия. - И не великокняжьи слуги, а разбойничьи. А ветчину неси назад. Тошнит от вида мяса.
По уходе Неонилы Всеволожа бросилась на лавку и беззвучно рассмеялась. Не снится ли всё это? Не в мамкиной ли сказке изволит пребывать? Великокняжеский наместник в Переяславле, занявший должность по наследству, князь Роман - вдруг…. змей-похитчик! Гостью посадничью из светлой ложни вверг в мрачное узилище! Связал душу с Васёнышем, то есть поклялся на Евангелии в верности. Теперь не ведает, как поступить. Не вызволить, а даже тихо сообщить посаднику, в какой беде боярышня, боится или совестится. Змеёвна Неонила князьям потворствует. Васёныш же ополоумел от потери золотой шапки, что, почитай, коснулась его главы, и превратился в идолище поганое. Не вообразить и не измыслить человеку здравому живую увозить в гробу. Ой, напугал! Нет на него боярина Иоанна с Юрием Дмитричем. Один пожаловался бы, другой бы снял порты да высек…
Как в сказке, Всеволожа ожидала скорой избавы всему этому. За долготерпение, за храброе сиротство должно же быть ей свыше пожаловано чудо!
Отперлась и распахнулась дверь. Вошли два молодца, лики яблочны, а взоры оловянны. Тот, что с вервием в руках, спросил деловым голосом:
- Будешь противиться или протянешь руки тебя связать?
За мощными плечми двоих чернела рожа третьего. Нет, эти - не Румянец с Софрей, Ельчей. Те были чуть почеловечнее, не камни-истуканы. Переменил Васёныш охранышей, согласно личной перемене: сам озверел вполне и взял вполне зверей. Евфимия, взращённая для битв шляхтянкою-разбойницей, смотрелась агницею супротив трёх псов. Третий - татарин.
Она покорно протянула руки.
- Теперь ляг, свяжем ноги.
Она легла.
- Бекшик, ослабь узлы. Чего мучить без нужды?
- Сколько раз говорить, Нелюб? Я уже не Бекшик, я Фома.
- Какой ты Фома? Одно слово - ордынец!
- Глупая башка, Нелюб! Трое лучших ордынцев насовсем приехали в Москву. Звали их Бахтый, Хидырь, Мамат. Все приняли крещение. Теперь они - Анания, Азарий, Мисаил. Нешто не ведаешь?
- Впервой услышал. Подсоби Немиру домовину принести.
Татарин с третьим охранышем внесли огромный сосновый гроб.
Евфимию в него вложили, прикрыли крышкой. Она уж ничего не видела, вдыхала смолянистость сосны, ловила струйку воздуха сквозь дырку, ощущала, как её несут, ставят домовину на погребальный одр. Потом слышала голос Васёныша:
- Прощай, улица Даньславлева Прощай, Господин Великий Новгород!
Лошади тронулись. Тряско, жёстко было Евфимии в гробу. Лишь тонкую дерюжку подстелили псы Васёныша.
И вдруг движенье замерло. Раздались грубые вопросы:
- Кто таковы? Откуда?
- С Ярышевой улицы Славянского конца, - отвечал Немир. - Тело погребаем. Только что отпели в каменной церкви Святого Василия. Везём на загородный погост.
- Не ищете ль кого? - вкрадчиво спросил Нелюб.
- Костромского князя Василь Юрьича. Был среди зыбежников. Посадник повелел не упустить.
- Не мешкай, проезжай! - прервал говоруна сердитый голос, обращённый к погребалыцикам.
Вновь тронулись… Ещё остановились дважды… Преодолели большое расстояние, и Всеволожа услыхала над собою Неонилу:
- Как ты, боярышня? В сердцах отрезала:
- Никак!
Вот кони стали. Крышка сброшена. Бекшик-Фома освободил вязницу от вервия. Она высунулась из-под дерюжного навеса. Местность была порозжая: ни деревца, ни кустика. Князья с охранышами снимали смирную одежду: кукули, чёрные понки.
- Действо окончено! - оповестил Васёныш. - А с тобой, Офима, - обратился он к боярышне, - мой поступок сослужил мне службу дважды: первое - ты не сбежала, второе - помогла счастливо миновать рогатки. Здешние волостели меня ловили, аки зверя ценного. Ан, не поймали!
Князья с охраной извлекли со дна телеги оружие. Косой махнул возатаю:
- Гони во-о-он в то сельцо на окоёме!
Невдолге оказались в малой деревеньке с соломенными крышами. Всего одна изба под деревянной кровлей.
- Как именуется сей град? - спросил Косой у встречной бабы.
- Сижка, - сказала та.
- Чей дом? - Он указал на лучшую избу.
- Нашего сотского Данила Божина.
- Гойда! - крикнул князь своей дружине. Тотчас изба была окружена, хозяин изгнан.
- Шиши! - вопил Данило Божин.
- Не шиши, а княжьи люди, - возразил Нелюб.
- Что ж вы, горожане, с нами делаете? - возмущался сотский.
- Горожане - жители, а селяне - души, - хохотал Немир.
- Не казнись, - спешился Василий Юрьич. - Переночуем, кое-что съедим и выпьем. Завтра сызнова воспрянешь духом.
Хозяйка с Неонилой принялись сбирать на стол. Хозяин с детьми взобрался на поветь пережидать непрошеное гостеванье. Князь Роман вышел во двор смыть дорожную пыль. Василий Юрьич, как был, уселся на скамье у печи, свесив буйную голову. Какие неотвязные мысли тяготили её, Бог весть.
Евфимия прошла за перегородку, где высилась красная кровать с подушечными кострами[8] под потолок. В растворенное оконце она увидела Бекшика-Фому, торчащего у ворот. Немир с Нелюбом в углу двора обихаживали коней. Пленница была взаперти. Не под замком, под крепким приглядом.
Неонила принесла Евфимии воду и сряду: умыться и опрянуться после столь злосчастного пути. Когда занавесь ненадолго отхлынула, боярышня углядела сквозь дверь перегородки, как вошедший Немир что-то истиха объявил Васёнышу.
Хозяйка, выставив еду, удалилась. Взошёл в избу князь Роман, готовый к застолью. Василий Юрьич сел насупротив, как был, даже не распоясавшись, бряцая мечом по скамье.
- Офима! - воззвал он громко. - Потрапезуй с нами!
- Нужды нет, - ответила Всеволожа. - Потрапезую одна.
- За руку тебя весть? - встал Косой, снова забряцав ножнами по скамье.
Евфимия вышла и села в торце стола.
- Давненько не бывал в Нове Городе, - начал подобающую застольную речь князь Роман. - Вижу, нравы там зело поиспорчены заезжими иноземцами. Нынче новгородца от немца по сряде не отличишь. Вместо безрукавой короткой поддёвки - камзолик! Хотя иному татарский архалук больше личит. Камзолы зелёные, а щи несолёные!
- Щегольство! - согласился Васёныш. - Я тоже хочу нынче пощеголять. Пусть Немир торока развяжет, раскладет мою лучшую сряду перед невестою, - глянул он на Евфимию, - будущая моя другиня подскажет, во что опрянуться жениху перед свадьбой.
Немир ходил вкруг стола, услужал трапезующим. Евфимия уронила ложку.
- Ты сызнова не в себе? - спросила у Василия Юрьича. - А вина ещё не пригубливал.
Косой отложил полотки, вытер пальцы, кои были обильно засалены кусками копчёного гуся без костей, взял кубок со стола и залпом опорожнил.
- Есть тут в ближайшем городище поп Трифилий прозвищем Полюд, - деловито сообщил он. - Я Нелюба с телегой послал за ним. Нынче же обвенчает нас с тобою, Офима.
Евфимия встала из-за стола.
- Ещё в Костроме говаривала: насилком меня не взять. Священник спросит, согласна ли, и услышит - нет!
Косой несмешливо пырснул:
- Свидетели же услышат - да! Хватит мне с тобой точить ляскалы. Себя мучаю и тебя. Поп тоже услышит - да! Несколько новгородских гривен повлияют на его слух.
Тут подал голос Роман:
- Я не сообщник лжи. Отпусти, брат, Евфимию Ивановну восвояси. Преизлиха мы с тобою грешны. Лишний грех перетянет душу в геенну огненную.
- Преисподнею не пугай! - озлобился на друга Косой, залпом осушив второй кубок, угодливо налитый Немиром. - Подтвердишь, что велю. Или не целовал мне крест?
- Целовал не на том, - побледнел Роман.
- Смирись, Офима, - отвернулся от него князь к боярышне. - Покоторовались мы вволю. Ныне будет не по-твоему, а по-моему.
- Брат! - вышел из-за стола Роман. - Ежели не отпустишь её тотчас, я покину тебя.
- Ты… покинешь? - в смехе откинулся Косой, едва не опрокинувшись со скамьи. - Ой, не дурачь меня, Ромашка!
Всеволожа тем временем шагнула к двери за перегородку.
- Стой! - заревел Васёныш, вскакивая и хватая её за платье. - Пошто уходишь, не изрёкши ни слова?
- Я всё сказала, - остановилась боярышня. - Прочь грязные лапы с моего летника!
Косой сжирал жертву обезумевшими зенками, не зная, на что решиться. Роман, подступившись, взял его за бока и оттащил от Евфимии. Князь брыкался, бил его пятками по коленам. Роман терпел. Смешная схватка их походила на бой орла с кобчиком.
- Я виновник её неволи. Я должен её спасти, - как бы самому себе внушал князь Роман.
- Лучше тебя лишусь, чем её! - вопил, срываясь на визг, Васёныш.
В конце концов Голиаф поставил Давида на пол и резко пошёл к двери.
- Клятва! Клятва! - останавливал Косой.
- Грешней выполнить, чем нарушить, - не обернулся Роман.
Напрасно не обернулся.
Евфимия, наблюдая их свару, не ожидала, что Васёныш выхватит меч. Совершил он это внезапь и ловко, ибо слыл отличным рубакой. Вся его могучесть была в мече. Всеволожа не видела взмаха стали. Всё перед ней очервлёнело, будто кровавым стал воздух. Тут же раздался грохот. Роман Переяславский рухнул, не преступив порога. Он лежал лицом вниз, а десница - отдельно, соединённая с телом багровой лужею. Всё прояснилось в глазах Евфимии: и то, как Косой скакнул с подъятым мечом, ещё сочащимся преступлением, и то, как отсек он вторым ударом ногу Романа…
Из-за занавеси выскочила Неонила, бросилась к павшему, пачкаясь кровью, запричитала в голос - ушам стало не в измогу.
- Что я сотворил? - подошёл к Всеволоже Васёныш, белый как полотно. - Я убил его?
Евфимия, приближась к телу Романа, подержала запястье его левой руки.
- Ты убил, - сказала она.
Князь опустился на лавку, согнулся и затрясся беззвучно.
Немир привёл Бекшика-Фому. Сообща стали оттаскивать Неонилу, чтоб убрать мёртвого.
- Полегче вы! - простонал Васёныш. - Она дружница его.
Евфимия знала: дружница, сиречь возлюбленная, невенчанная жена. Боярышня почти силой увела овдовевшую за перегородку. Сходила к хозяйке, добыла уксусу, заставила Неонилу нюхать, пока та не перешла с криков к стонам.
- Я исполнил сатанинскую волю, - произнёс отделённый занавесью Косой. - Сатана повелел: «Убей его!» Почему душа промолчала? Где моя душа?
- Грешное тело и душу съело, - отозвалась Всеволожа.
- Офима! - позвал Васёныш. Она вышла.
- Вспоминаю Иулианию Вяземскую, - поднял он жалобное лицо. - Когда мой дед убил Симеона, единственного своего друга, мужа её, а затем и самоё княгиню, он скитался в степи, отверженный, до скончания живота. Ты слыхала про хивинского турка Хазибабу? В мордовской глуши близ местечка Цибирца турок возвёл христианскую церковку. Покойный Роман мне о сём поведал. Пойду в Цибирцу, найду эту пустынь, там кончу дни.
Всеволожа ушла, оставив покаянные слова без ответа.
Переяславского князя уложили в ту самую домовину, в коей путешествовала боярышня. Привезённый повечер поп Трифилий вместо венчания отслужил панихиду. Погребли убитого в чистом поле. Поминок не было.
Неонила и ночью не ушла от могилы.
Неспавшая Всеволожа слышала, как поздным-поздно взошёл в избу крещёный Бекшик и разбудил на лавке Василия Юрьича.
- Плохие вести, каназ! Якшибей двух коней загнал.
Едва нас нашёл. На Москве взят за приставы брат твой, Дмитрий Юрьич Шемяка. Привёз он невесту из Заозёрского княжества. Приезжал звать на свадьбу врага твоего Ваську, а тот его в Коломну сослал в тесное заточение. Дружина Дмитрия Юрьича зовёт тебя в Кострому.
- Еду в Кострому! - прохрипел Косой. - Ещё вернусь на Москву! Пусть нас с Васькой рассудит Бог. Чуть рассвет, всем быть в сёдлах!
- А эту… кирмышачку, то бишь дикую кошку, дочку боярина Иоанна? - спросил Бекшик.
- Её? - ненадолго задумался князь. - Беречь и стеречь! Она - с нами. Иногда поклонишься и кошке в ножки.
5
Не внял Васёныш просьбе Евфимии дозволить сопровождать его верхом, не по-женски, по-мужски. Хитрость не удалась. Он сразу же рассудил, что из повозки бежать труднее, нежели сидючи в седле. И вот Немир пригнал из городища кареть, купленную у наследников в Бозе почившего софиянина Новосильца, владычного стольника.
- Зело важен был! - рассказывал об усопшем Немир. - В карету сядет, растопырится, как пузырь на воде. Сидит в подушках, расчесав волосы, что девка, да едет.
Косой чуть глянул на Немирово приобретение, отвернулся.
- Срам показаться в Кострому!
- А ничего каруха, - осмотрел покупку Нелюб. - Дорожная. На четырёх колёсах. Поваплена.
- Пова-а-аплена! - передразнила Неонила. - В каком веке ваплена? Краска-то вся из лезла.
- А тебе, чтоб ещё и позлащена? - нагло осклабился Немир.
Подошёл карякой Бекшик-Фома, умаянный бесседельным объездом коней, покупаемых для карети, оттого и ноги на растопырку. Ушлый наездник доложил князю:
- Шесть впряжено каретных добрых лошадей. Косой кивнул и велел укладываться. Синё было во дворе. Хмурые княжьи люди увязывали торока.
Неонила ворчала:
- Хвалятся шестерней! А кони-то! Один мерин булан, другой ворон, третий кавур, четвёртый рыж, пятый карепег, а шестой - стыд сказать! - в кауре игрень. Не могли одномастных добыть да впрячь!
И охраныши были недовольны каретью. Боярышня, всходя в неё, слышала, как за спиной толковали Нелюб с татарином:
- А где нам ехать пять вёрст, ради колесницы поедем окольной дорогою двадцать вёрст…
Наконец-то тронулись. Одинокий, сникший князь впереди. За ним шестерней - кареть, вокруг малая обережь.
Всеволоже легко дремалось под воркотню Неонилы.
- Он омерзился этим поступком и омерзел всем, - говорила она о Василии Юрьиче, убившем Романа.
Евфимия уже знала, что отец Неонилы был дворским переяславского князя. Мать рано умерла. При родительском недогляде слюбилась дочь дворского с красавцем хозяином, коего дворня именовала за глаза «красавчик-мерзавчик». Слюбилась и очреватела. Пришлось обращаться к бабке-скоблёжке. Сделала она чёрное дело и навек предрекла бесплодие. А при княжом дворе всё «кости да пакости». Охолоумела бедная. Хоть и оставался без ума от неё князь Роман, а что толку? У него княгиня с тремя княжатами. Помер дворский. Впору стало руки на себя наложить сироте Неониле. Нечем было князю её утешить: любимая, да ненужная. Вовремя подоспело несчастье с Василием Юрьичем. Верный Роман, сопутствуя государю, прихватил в бега свою тайную дружницу. И вот - нечаянный страшный час!
- Почему совершил он сие злодейство? - спрашивала Неонила боярышню о Косом. - Кто его омерзил?
- Всяк сам мерзится, - ответила Всеволожа.
Ехали быстро. На постояниях меняли коней, добавляя к оплате попблнок. Боевой киверь на князе совсем побурел от пыли, выглядел простолюдинским колпаком.
На малое время призадержались в Кашине.
Одно в карети боярышне нравилось: крупные окна. Сдвинув слюдяную оконницу, она глядела на торговую площадь после дождя, утыканную ламьём - следами конских копыт.
- Отчего жены здесь так белы? - спросила Евфимия спутницу.
- Чем же сей город славится? - вопросом на вопрос ответила та. - Кашинский сурик, кашинские белила…
И вновь путь-дорога высоким берегом Волги. И горестный рассказ Неонилы о мрачных знамениях, предшествовавших её с Романом отъезду из Переяславля.
- Надвинулся на град облак. Потом облак стал мутен, небо затворилось. И по дворам, и по хоромам, и на путех на землю пал огнь, аки кужли горели…
- Кужли? - не вдруг поняла Евфимия.
- Ну, пучки нечёсаного льна, конопли. Нешто не знаешь?
Кареть вверзилась в колдобину. Девы ойкнули. Дорога выровнялась. Неонила продолжила:
- Люди от огня бегали, а он по земле за ними катался, аки гонял, а никого не жёг. И потом поднялся в тот же облак. И облак исчез…
На ровном пути Всеволожа неощутимо заснула. Повечер спутница бережно разбудила её:
- Подградие Костромы!
Что тут началось! Народ вывалил из дворов, густо стал вдоль дороги. Уши забил барабанный треск. Раздались крики:
- Слава! Слава!
Конные, пешие воины, кто в чём, но с бердышами, копьями, щитами, мечами окружили Васёнышевых людей, самого князя стащили с коня, вскинули на щите, понесли, как кесаря.
- Недостоит тебе явно высовываться в окно, - предупредил скачущий обочь карети Немир.
Всеволожа не слушала.
Вот и мост через Волгу. За ним - деревянный кремник, боярышнино узилище. Она спросила Немира:
- Кто поднял князя на щит? Посадские? Охраныш раздул ланиты:
- Люди сии - дружина Дмитрия Юрьевича Шемяки, изменою заточённого.
В Кремле Евфимию поместили в ту самую боковушу, где состоялся её ночной поединок с Васёнышем. На сей раз похитчик не пригласил к трапезе, даже не объявился. Значит, не до неё.
- Житьишко наше невыглядное, - принесла Неонила естьё с питьём. - И сами мы с тобою невыглядки.
- Велит меня запирать? - осведомилась Евфимия.
- Кто? Негниючка-князь? - сузила глаза Неонила. - А хочешь, по переходам постранствуем?
Обе спустились в сени, прошли на громкие голоса, остановились у сводчатой двери, видимо, в княжеские покои.
Сквозь дубовую толщь доносился буйный голос Косого:
- Пошто супротивник Васька устремился на Кострому? Невдомёк? А мне ведомо. Ещё с пути послал ему взмётные грамоты. Ничещ, отступим. За нами - Вятка! Из Вологды, Великого Устюга воевод Васькиных вылущу, как семечки из подсолнуха.
Неонила стояла спиной к двери. Евфимия - перед ней.
- Укажи выход… Достань коня… Вырваться!.. Умчаться!.. - нетерпеливо трепетала боярышня.
Неонила молчала, расширив очи. Всеволожа, почуяв неладное, оглянулась.
Позади ухмылялся Немир, поигрывая кистенём на верёвочке.
- Побегушки? А при всех выходах - молодцы на стрёме. Будет побегу - по вершку на сажень! Крадусь следом, лопаюсь со смеху - побегухи!
- Ты, Немир, что учёный зверь, - обошла Всеволожа охраныша. - Свою волю сменял на хозяйскую.
Оловянные очи парня вперились в неё, потемнев, как свинцовые.
- Моя бы воля - посягнул бы на тебя. А хозяйская не велит. Радуйся!
Неонила шла молча. Охраныш проводил их до двери боковуши.
- С чего ты так оробела? - спросила Евфимия, когда остались одни.
Ответом был шёпот на ухо:
- Страшны мне Немир, Нелюб, агарянин Фома. Видела, как проклятые кистенём вышибают зубы. Узрела в Немировой лапе кистень - онемела!
Спать устроилась Неонила вместе с Евфимией. Постелила на полу у боярышнина одра. То ль сторожиха, то ли наперсница.
Проснулась Всеволожа одна. Растворила оконницу. Дрогнула. Вспомнила приговорку Полагьи: «Сентябрь холоден, да сыт». Холод кинул в дрожь, зато Неонила принесла оладьи с забелкой, огурцы с мёдом. Боярышня есть не поторопилась. Глядела, как на торговой площади толпились вершники, пешие, все при оружии, а из ворот кремника выползала вереница обозов с походным скарбом.
- Куда сборы? - спросила Евфимия.
- Поспеши, - придвинула услуженница деревянную чашку. - Кареть впряжена. Велено не мешкать.
- Далеко ль ехать? - тяжело вздохнула Евфимия.
- Сказывают, до Вологды. А уж там… Поначалу тащились в хвосте, в обозе. Всеволожа приметила дородных бородачей у моста через Волгу. Распоясанные, без шапок, трое стояли, не в силах скрыть ненависти в глазах. Потом вскинули кулаки, погрозили вслед уходящим. Оглядень Немир тоже им погрозил кистенём.
- Отчего так злы эти люди? - спросила его из окна Евфимия.
- Сурожане купцы, - помрачнел охраныш. - Известная костромичам троица: Гостило, Добрило и Некомат. Привозят Волгой товары аж от самого синего моря. Из Сурожа, Кафы, Ялиты, Кречева. Вот мы у них и взяли взаймы без отдачи.
- Отняли? - спросила Евфимия.
- Зачем? Сами дали. Разоблакли их, привязали к сохе, велели бить кистенями и плетьми… Тьфу!- ругнулся Немир и поскакал к взорвавшимся ссорой обозникам, чтоб унять галдёж.
Вновь потянулись тряские путевые дни с постояниями в курных избах, с картяной и зерновой игрой на привалах. Посетили жалостный городишко Блудкин где-то в Залесье. Евфимии удалось выспаться в опрятной светёлке, в чистой постели. Здесь Васёныш и навестил её. Взглядом выпроводил Неонилу, вкрадчиво спросил:
- Злобишься, Офима? - Не получив ответа, присовокупил: - Ты, помнится, говаривала: «Насилу не быть милу». И ещё: «Под насильщиной жить не стану». Нынче не неволю твоих чувств. А дождусь ли волеизъявления?
- Отпусти меня, Васёныш, - попросила Всеволожа самым дружелюбным голосом.
Косой сдвинул брови.
- Стало быть, без перемены… Ничего, Офима. Доказню тебя. Не в Вологде, так в Великом Устюге, а доказню. Сама вымолвишь нужные слова.
Едва он выскочил, впорхнула Неонила чёрной птицей.
- Только что Немира на телеге привезли. Княжьи люди в Блудкине насильничают, грабят. Немир с ними сгинул на всю ночь. Гражане отмстили удальцу. Не дожил до срока жизни. По досмотру на нём - раны: на голове, на лбу прорублено бердышом до крови, на правой щеке зашиблено кистенём до крови, на правой руке, на локте, прошиблено кистенём до крови…
Евфимьина жалость не шелохнулась.
- Стало быть, кистени не только у татей, а и у мстителей, - всего-то отозвалась она.
С того дня обочь карети стал скакать Нелюб.
Всеволожу со спутницей и колесницей переместили из обозного хвоста ближе к князю.
Вот и опять подградие. Уж не Костромы - Вологды. И мост не через Волгу, а через приток Сухоны.
Тесно на мосту. Движение прекратилось. Боярышня вскоре заметила, что остановка не из-за тесноты, совсем по иной причине.
Кареть ещё чуть продвинулась. И вот стало видно, как тощий согбенный старец преградил путь Васёнышу. Евфимия тут же узнала старца. Вспомнила Дом преподобного Сергия, прю князя Юрия с послами московскими, восхищенный шёпот толпы: «Григорий! Григорий!» Бонедя тогда описала старца единым словом: «Мощи!» Юный Корнилий, уходящий из мира, сказал о нём: «Всем враждотворцам необинующий обличитель. Молитвенник пустынного жития. Провёл десять лет в затворе». Как было не узнать? Это Григорий Пелшемский. Игумен обители, что созрела на пустыньке среди лесов и болот на речке Пелшме, притоке Сухоны. О том ещё батюшка покойный, боярин Иван Дмитрия, поведывал при встрече у Троицы за трапезой. И вот старец, поддерживаемый двумя монахами, вскинув перст, в чём-то укоряет князя. Оттого и стало движение на мосту.
- Что там за катавасия? - теребила Неонила боярышню, высунувшуюся чуть ли не по грудь из окна карети.
Всеволожа, не обратив на неё внимания, пыталась доспроситься Нелюба:
- Что он говорит?
Не в пример Немиру, молчаливый Нелюб уст не разомкнул. Отвечал за него ближний всадник:
- Отшельник закрывает нам путь. Вещает, мол, невязь царит в государстве нашем, то есть недостаток крепости, связи, державы. Велит положить вражде дерть и погреб.
Тут князь ястребино-взмахнул рукой. Монахи были рьяно оттащены. И в следующее мгновение сухое тело Григория Пелшемского, перелетев через оперенье моста, скрылось, падая в реку.
«Ах!» - прошло по пёстрому воинству и затихло. Рать устремилась дальше волей её вождя.
- Утоплен! Утоплен! - надрывалась Евфимия.
- Охолонись, боярышня, - наконец-то разомкнул рот Нелюб. - Чай, с берега видели. Авось вызволят. Останется старик жив. Душа телу спорница!
В вологодском кремнике ожидал разор. Наместник с боярами «задали лататы» по выражению Бекшика-Фомы. Сам же татарин стоял на красном крыльце с питейной чашей в руках.
- Полный каул романеи! Пригубь заморского вина, - предлагал он Нелюбу.
Евфимия попросила Неонилу вызнать о судьбе старца. Слава Богу, известия были добрые. Григория Пелшемского спасли, увезли в обитель.
- Недоказнили святого, жив! - радовала Неонила. По её же объяву Василий Юрьич навечерялся допьяну и снесён в ложню, аки колода бесчувственная.
Следующим утром двинулись на Великий Устюг. Нелюб наказал занавесить окна карети, боярышня не послушалась. Вдоль пути углядела виселицы «глаголем» или «покоем». На сосновом «глаголе» качалось по одному удавленнику, на «покое» по два, а то и по три.
- За что их? - спросила она Нелюба. Тот отвернулся.
- Не гляди на греховный мир, - тянула Неонила боярышню за рукав охабня. - Сама готовлюсь отрешись от него. Из кбрене искапываю вредные помыслы. Вот избавлю тебя от ястребиных когтей, как хотел убиенный друг мой Роман, вот тогда и уйду в обитель.
- Последовала бы за тобой, да не чую сил, - призналась Евфимия.
Дорога пошла угрюмее. По сторонам не красавицы великанши, соединяющие твердь с небом, а так себе, кореньга, мелкий, невзрачный лес. Чуть место пониже - негать, в коей колеса тонут по ступицы.
В сельце Одноушеве, едва Всеволожа узнала его название, вышедши из карети, душу ей надорвал много-горлый предсмертный визг.
- Что это? - содрогнулась она.
Нелюб, сопровождаючи дев к избе, едва разомкнул уста:
- Первое октября. Кузьма с Домианом.
- При чём тут Кузьма? При чём Домиан? - не понимала боярышня.
- Курячьи именины, - пояснил проходящий мужик. - Точней, куриная смерть. Нынче бабы кур режут.
Изба оказалась занятой. Там за столом в обществе приятелей восседал Бекшик-Фома с курчонком в зубах.
- Гляди, какой ослам сорвал! - похвастался он Нелюбу.
- Осламщик! - с завистью отвернулся тот, уводя дев в другую избу.
- Что такое ослам? - спросила Евфимия.
- Бхарыш, - буркнул молчаливый охраныш. Услыхав громкую отрыжку за своей спиной, он в дверях обернулся, упрекнул одного из пирующих: - Постыдись боярышню с сенной девкой!
Опять вышли в непролазную грязь. Сапожки-чоботы приходилось выдирать из неё, облепленные, отчего они становились тяжелее и тяжелее.
- Октябрь-грязник, ни колеса, ни полоза не любит, - ворчал охраныш.
И вдруг стал как вкопанный.
- Ты чего? - испугалась Неонила.
- Смерёдушку свою узрел, - прошептал Нелюб. Будущая инока замахала руками:
- Экое примерещилось! Не бери близко к сердцу. - Поскольку охраныш совсем спал с лица и шёл молча, она прибавила: - Человек родится на смерть, а умирает на жизнь.
- Ночевать будем в Одноушеве? - спросила Евфимия, чтобы сменить речи.
Нелюб долго не отвечал, потом произнёс:
- За деревней - Великий Устюг!
Подъехал всадник с осёдланным конём в поводу.
- Боярышня, тебе велено к государю быть. Верхом сможешь?
Евфимия, хотя и не в свычной для верховой езды сряде, всё же по-мужески встроилась в седло. Нелюба всадник тоже позвал, Неониле же велел ждать в карети.
За околицей Всеволожа на миг остановила коня. Её поразил вид крепости: почернелая дубовая стена под шатровыми заборолами напоминала ощеренный ряд зубов. Между пристеньем и полем, на коем они стояли, мёртвой полосой - погарь сожжённого подградия. Среди этой погари чернела кучка людей. До чего же люди мелки пред зубами Великого Устюга!
Евфимия оглянулась. Цепочки разношёрстного воинства, набранного Косым, двигались от Одноушева в разные стороны, росли, как усы, хотя были мало заметны на чёрной октябрьской земле. Серое небо, тёмная даль, чёрные дубовые стены - всё это сжало душу боярышни предчувствием скорой беды.
Подъехали к князю. Евфимия спешилась. Васёныш подвёл её к бородатому воину в шишаке и кольчуге.
- Вот, Офима, мой воевода Василий Борисыч Вепрев, сын Бориса Фёдорыча Вепря, внук князя Фёдора Фоминского и Ржевского.
Надменно глядел на боярышню воевода. В серых очах под дремучими бровями таилась усмешка.
- Знакомься с Евфимией Ивановной Всеволожей, дочкой боярина Иоанна. Он тебе ведом, - обратился к нему Косой.
- Не дело, государь, ты замыслил, - пробурчал воевода. - Жёнам на бранном поле не место.
- Вот мы тут спорим, - пропустил Васёныш мимо ушей слова Вепрева, - возьмём крепость или отступим. Я видел дурной сон, будто, разгрызая орех, сломал зуб. Ведь ты, Офима, разумом в батюшку. Разреши наш спор.
- Войско уж начало оточение крепости, - с укоризной сказал воевода сумасбродному князю.
- А там воевода не хуже тебя, - возразил Косой. - Глеб Иванович Оболенский. А к нему советчики прибыли из Москвы изгоном: Фёдор Михайлович Челядня, Андрей Фёдорович Голтяев, Михаила Чепчик. Может, и овладеем Великим Устюгом до прихода вятчан, а много ль сохраним воев, дабы соединиться с вятчанами?
Вепрев смолчал.
- Не достоит мне мужскую прю разрешать, - заговорила Евфимия. - Однако же, коль изволите выслушать, я считаю разумнее взять крепость на целование, нежели стоять под ней месяцы. Ведь не город, а окуп потребен вам, не володетелям, а добытчикам.
- Истинно, истинно, - возложил Васёныш цепкую руку на её плечо. - Возьмём окуп и уйдём. А уговариваться с Глебом Оболенским тебе, Офима. Лучшего уговорщика не найду. Боярин Иоанн такими способностями был славен. Ты вся в него. Встреться с московским наместником. Коли отдаст казну, я поцелую крест.
Вепрев хмыкнул и отошёл. Утолчённая военными хитростями глава оценила мысли Косого: чем дочь велемудрого Всеволожа не миротворщица? Знатному московиту она известна. Выгорит дело - добрая половина рати останется на ногах.
Князь вручил Евфимии белый стяг. Нелюба отправил сопровождать посольницу.
Пошли пешими через бывшую торговую площадь меж посадом и крепостью. Почва была утоптана и уезжена до надёжной твёрдости. Лужи от вчерашнего дождя инде отражали смурое небо колотыми зерцалами.
- Отворят ли для нас Брата? - спросила Всеволожа Нелюба, не в силах в одиночку нести бремя тяжких дум.
Нелюб не ответил. Он шествовал чуть впереди, должен был бы расслышать речь за своей спиной, хотя ветер сдувал слова. Нет, Нелюб не ответил, даже не обернулся.
- Ты что, не слы…
Она бросилась вперёд, не домолвив. Охраныш лежал с небывало огромной стрелой в груди.
Подбежал воевода Вепрев.
- Эк его! Из надвратной бойницы. Я углядел.
- Отродясь не видела таких стрел, - рассматривала боярышня орудие смерти.
- Большой лук с прикладом и спуском, - пояснил воевода. - По-франкски именуется арбалет. К нам немцы завезли. А этот - становой, крепостной, для метания в осаждающих больших стрел.
- Мы ведь не осаждающие, - распрямилась Евфимия. - Мы с белым стягом.
- Оплошка, - объявил Вепрев. - Наляцали и пустили.
- Наляцали? - не поняла Всеволожа.
- Ну, напрягли… Как ещё сказать?.. Насторожили… Вон, гляди, приотворили ворота. Иди, княж посольник девья обличья!
Всеволожа ощутила себя лисицей в отверстой клетке. Сигануть - только хвост трубой!
- А не боится князь, что сбегу? - спросила она задорно.
Не утерпела. Воевода же бровью не повёл.
- Бежать от Василья Юрьича - твоя воля. Ты ему не супружница и не дружница, как мне ведомо. Он же велел сказать: не надейся на Оболенского. Взята будешь вместе с Великим Устюгом. А народу погубишь тьму!
Всеволожа пошла.
Встречь ей шёл Андрей Фёдорович Голтяев. Вышедшие вместе с ним люди оставались в воротах.
- Тебя ли вижу среди воров? - вскинул Голтяев очи на Всеволожу.
- Меня, невольницу, - опустила она взор.
- Однако страж твой убит. Где ж неволя? - не понимал Андрей Фёдорович.
- Во-он моя стража, - повела рукою Евфимия за своей спиной. Там, вдали, щетинились копья дружины Шемякиной и людей Косого.
- С чем тебя шлёт крамольник? - спросил Голтяев.
- Чего ищет добрый тать? - в свою очередь спросила боярышня и ответила: - Нажиться, погостевать и уйти.
Голтяев воротился к своим. Посовещавшись, вынесли далее от стен аналой, привели священника.
- Зови, - велел Андрей Фёдорович.
Всеволожа вскинула стяг. Подошли Косой с Вепревым. Малая обережь с обеих сторон оставалась поодаль.
Голтяев с Евфимией стояли на том же месте, где встретились.
- Помнишь, в Нижнем из-за Орды ссорились да ко-торились? - усмехнулся сын Марьи Голтяихи. - Твоя правда была. Выгнал Улу-Махмета братец Кичи-Махмет. Скитается теперь царь ордынский, как мы скитались.
- Целуют крест! - наблюдала Евфимия за высокими договаривающимися сторонами.
- Стало быть, до свидания, Евфимия Ивановна, - чуть склонился Голтяев. - Порадею за тебя перед государем. Авось найдёт случай вызволить добрую спутницу по изгнанию.
Косой, возвращаясь, сделал знак Всеволоже:
- Пошли, Офима!
Она не слушала его благодарностей, то ли искренних, то ли нет. Ею вновь овладело проклятое чувство пленницы.
Стало совсем темно, когда кареть со Всеволожей и Неонилой остановилась у ворот наместничьих хором. Города она и не посмотрела. Знала, немало воинов ввёл с собою Васёныш, да не всех. Большая часть оставалась в поле у Одноушева. Глеб Иванович Оболенский, коего она видела у Пречистой с рундука великой княгини Софьи Витовтовны, встретил на красном крыльце.
- Рад принять тебя, Евфимия Ивановна, - громко произнёс воевода, а истиха примолвил: - Андрей Фёдорыч всё поведал. Придумаю, как помочь. - И добавил во всеуслышание: - Не повечеряешь с нами? Басил ь Юрьич даёт добро.
- Извини моё главоболие, - поклонилась боярышня Оболенскому.
Одрину ей отвели обширную с прихожею о двух окнах. Внесли три светильника. Повечеряли с Неонилой. Васёныш, слава Богу, не взошёл. Верная услуженница сызнова улеглась у одра боярышни.
- Тут тебе неудобь. Полезай ко мне. Или же отдыхай в своей ложне, - пожалела её Евфимия.
- Спи, - ответила Неонила. - Моё место, где повелит душа.
Сон Евфимией овладел беспокойный, с криками, суетой, обилием непонятных звуков, коих не избегнешь в чужих хоромах.
Проснулась, а Неонилы нет. Выскочила в предспальник - она над доской хлопочет. Доска на ножках. На доске белый плат.
- Чем ты тут занялась?
- Катанием.
Неонила разглаживала боярышнино белье деревянным катком. Вид её был ужасен. Очи запали, ланиты красны, лик зарёван.
- О летник твой укололась, - пожаловалась услуженница. - Стала расправлять наручи, дабы убрать летнюю сряду на зиму, и… Там какие-то иглы вшиты.
Боярышня вспомнила о брызгалках Андрея Дмитрича, вложенных аммой Гневой в её одежду.
- Оттого и ревела? - посочувствовала она.
- Вовсе не оттого, - Неонила провела кулаком под глазами. - Град поят воями негниючки-князя, - всхлипнула она. - Кругом татьба и убийства. Воеводе Оболенскому ночью отсекли голову. Бояре московские брошены в застенок.
Евфимия прижала к щекам ладони. Пламень ожёг лицо.
- Не может такого статься. Юрьич крест целовал воеводе Великого Устюга.
- Взял душою на праве, да и убил, - понурилась Неонила. - Заполночь клятвопреступник открыл ворота. Вся его рать, почитай, внутри крепости. Преисподняя, да и только.
Наскоро умывшись, опрянувшись, боярышня спустилась в среднее прясло терема, где вчера был пир. Никто из давешней челяди не встретился на её пути.
Васёныш сидел за столом один. Бекшик-Фома услужал ему.
- Присаживайся, Офима. Потрапезуем. Всеволожа соображала, как начать речь. Подавив возмущение, спросила:
- Где Глеб Иванович?
Косой, как в день убийства Романа, ел копчёного гуся без костей.
- Воевода отправился в лучший мир, - спокойно отвечал он, уписывая полотки.
- Где боярин Челядня, Голтяев, Михайло Чепчик? - продолжала Евфимия.
- Что-то ты о них всех с утра вспомнила? - удивился князь. - Бояре пока не отправлены в лучший мир. Вот с худшим миром завершат счёты…
- Стало быть, попираешь крест и Евангелие? - тихо произнесла Всеволожа.
Васёныш встал, обтёр руки платчиком.
- А ты что же думала? - грозно вопросил он. - Лучшего воеводу Васькина оставлю у себя за спиной? Слова - пустое источение звуков. Главное - мысли. Я же при крестоцеловании мыслил: «Дай, Господи, взять сей град до полуночи!» И вот взял.
- Бога-то не бери в сообщники своему злодейству, - не сдержала гнева боярышня.
- Пошла прочь, Офима! - заорал Косой, хватая со стола нож.
Впрочем, тут же он уронил окровавившееся лезвие и сунул большой палец в рот.
- Укололся, враг тебя возьми. Уходи! Ты всё сделала.
Евфимия медлила, наблюдая за ним. И вдруг просветлела.
- Нет, я ещё не всё сделала. Я пришла к тебе с предложением.
- С каким… таким… предложением? - сосал палец Васёныш.
- Ты мечтаешь заполучить меня по излюбу?
Он слушал настороженно.
- Ну?
- Предрекал, что не в Вологде, так в Великом Устюге, сама вымолвлю нужные тебе слова?
Князь молчал.
- Я их вымолвлю, - пообещала Евфимия, - если отпустишь московских бояр и людей их с миром. В них воистости кот наплакал. Опасаться нечего. Я же согласна…
Васёныш забыл свой палец, и капля крови упала на ржаной хлеб.
- На что согласна?
Боярышня опустила взор долу.
- На всё.
В палате воцарилось молчание.
- Быть по-твоему, - вымолвил Косой. - Отпущу, ежели нынешнею же ночью станешь моей подружней. Свадьбу сыграем завтра.
- Однако же как легко ты посылал меня давеча под вражеские самопалы, - напомнила Всеволожа.
- Вепрев с панталыку сбил, - подошёл Васёныш. - Молви слово, казню его.
Боярышня отступила, выставила ладонь.
- Прежде чем с тобой сближусь, хочу собственными очами видеть, как Голтяев со товарищи выедут из ворот в окружении обережи, благополучно минуют твои заставы.
- Увидишь, - сказал Васёныш. На том расстались.
Евфимия затруднилась определить, долго ли прождала у себя в одрине. День был непроницаемо сер… Пришла Неонила, сообщила, что ждёт кареть.
Выехали при закрытых окнах. Скачущий рядом Бекшик-Фома зорко следил, чтобы занавеси не трогались. Евфимия так и не увидала города. Зато услыхала. Крики ограбленных, обесчещенных и казнимых напомнили первооктябрьский день Кузьмы и Домиана, названный «курячьими именинами». Она забыла оговорить с князем другое требование: прекратить погром. Сделала это, выйдя из карети у самой стены, где он ожидал.
- Быть по-твоему, - согласился князь. Взобравшись на стену, она стояла на забороле, куталась в меховой охабень, глядела вниз.
Ветер свирепо владычествовал на большой высоте.
Вот из ворот показались всадники, вытянулись по дороге. Один запрокинул голову. Порыв ветра надорвал тучи. Просветлело. Евфимия по одежде узнала Андрея Фёдорыча Голтяева. Он оглянулся на стену. Должно быть, тоже узнал её, ибо долго не отворачивался. Что выражал его взор, ей не довелось распознать.
Заставы у Одноушева пропустили конный отряд. Он скрылся за окоёмом.
Возвращаясь назад, Евфимия не слыхала криков. «Куриная смерть» прекратилась в Великом Устюге.
Повечер Неонила взошла в одрину сама не своя.
- Негниючка требует к себе в ложню, - позвала она Всеволожу.
Евфимия спустилась в сени, прошла в княжеские покои. Васёныш встретил её в широких портах, в полотняной сорочке до колен.
- Ах, ты в летнике! - восхитился он. - Для нас с тобой лето ещё не кончилось!
Обхапив боярышню, князь подтащил её к ложу, уложил, вонзил тонкие губы в шею, где-то около уха.
- Дай, дай, сам тебя разоблаку…
И когда жадные руки Косого коснулись её, вонзила в него брызгалку и сильно сдавила пальцами верхний конец иглы.
- Ой! - вскрикнул он.
Хватка рук ослабела. Васёныш, дрогнув, запрокинулся навзничь, застыл, отпыхивая дыхание, пырская пузырями.
ЧАСТЬ ПЯТАЯ
Хождение по водам. Сапфировый перстень. Трубный глас. «Велю очи выняти!» Зверинец-людинец.
1
Зима выдалась люта. Множество человечьих душ и скота погибло. А весна пришла ранняя, с громами, вихрями. Людей объял страх.
Зимовка в Великом Устюге далась Евфимии тяжело. Назбла давила грудь, истомляла сердце. «Сидим в яме, а Бог попустит, и на свет выйдем», - пыталась утешать Неонила. Боярышня вооружалась терпением. Лелеять замыслы о побеге - пустые хлопоты. Буде и вырвешься из Крома в застень, а из белых пространств, насквозь промороженных, вырваться не удастся.
Охранял пленницу всё тот же Бекшик-Фома. А места Нелюба с Немиром заняли как бы их двойники - Звенец и Туптало. Васёныш после столь неудачного посяга будто и позабыл о боярышне. Правда, забвению предшествовали долгие разбирательства, даже званый пир с глазу на глаз, завершённый жестокой ссорой. А далее сызнова «житьишко невыглядное». Давно бы одолела назола, да десятильник устюжского владыки протопоп Иев Булатов, ведавший одним из округов обширной епархии, добился доступа к заточеннице. Он подарил ей искусно переплетённый молитвенник ценой в восемь гривен, стал приносить книги, в большинстве переводные, с греческого или арабского, духовно-нравственные, исторические, даже «отреченные» с ложными сказаниями из Ветхого и Нового Завета. Протопоп доверял мудрости и учёности Всеволожи, охотно обсуждал с нею откровения числолюбца и звездочёта аль-Баттани о том, что Земля кругла и сравнительно со знаками зодиака - только точка по своей малости. Боярышню же более привлекала история. До свету не гасила светца, склонясь над «Магнушевым рукописанием». Более полувека прошло, как умер этот писавец, а слова словно нынче писаны: «Я, Магнус, король шведский, нареченный во святом крещении Григорий, отходя от света сего, пишу рукописание при своём животе и приказываю своим детям… не наступайте на Русь… После похода моего нашла на нашу землю Шведскую погибель, потоп, мор, голод и междоусобная брань. У меня самого отнял Бог ум, и сидел я целый год заделан в палате, прикован на цепи. Потом приехал сын мой из Мурманской земли, вынул меня из палаты… Но на дороге… поднялась буря, потопила корабли и людей моих, самого меня ветер носил три дня и три ночи, наконец вынес под монастырь св. Спаса в Полную реку. Здесь монахи сняли меня с доски, внесли в монастырь и постригли в чернецы и схиму… Меня Бог казнил за моё высокоумие, что наступал на Русь вопреки крестному целованию». Однако ближе чужестранца сердцу Евфимии был свой пове-дыватель. Не могла без платчика у очей читать рязанское сказание о Батыевом нашествии. Ласково принял завоеватель князя Феодора из Рязани с дарами, обещал не воевать его землю, лишь просил показать жену-красавицу. «Когда нас одолеешь, то и жёнами нашими владеть будешь», - ответствовал князь, забыв осторожность. И был рассечён на части. Жена же его Евпраксия с сыном Иваном стояла на превысоких хоромах, когда пришла весть о гибели мужа. Бросилась княгиня вниз вместе с сыном, и оба убились до смерти. «Не лей слёз, Евфимьюшка! - просила Неонила. - Ой, тягость сердечная не доведёт до добра!» Произнесла, как в воду глядела. Вскорости по изволу князя погиб головною казнью десятильник владычный Иев Булатов. Ещё тошней, одиноче стало боярышне без согревающих речей, без вразумляющих книг.
Неонила, улуча свободный часок, сидела у забусевшего оконца и любовалась перстнем на безымянном пальце. Голубой камень в золоте, прозрачный, с переливом в фиолетовые оттенки горел ярким огоньком.
- Сапфир! - восхитилась Евфимия.
- Подарок от жисточки моего Романа, - вздыхала женщина.
- Этот камень ещё древние ведали, - пыталась боярышня отвлечь её от печальных дум. - Две с половиной тысячи лет назад царица Савская прислала с Голубого Нила царю Соломону сапфиры для изображения неба в своде Иерусалимского храма.
- На небе сейчас мой Ромушка, - сызнова вздыхала владелица сапфирового перстня.
- А бывают сии камни густого синего цвета, - продолжала Евфимия, - с бархатистым отливом, будто покрытые инеем.
- Мой милый сказывал мне вот какую басню, - оживилась наконец Неонила. - Поспорили драгоценный камень и золото: кто могущественнее? Пошли по Млечному Пути к Солнцу. Оно рассудит! А Солнце просит подойти ближе. Золото, приближась, покраснело, побледнело да и расплавилось. А камень вернулся твёрдым, как был.
Всеволожа по-доброму позавидовала своей прислужнице. У той есть чем вспомнить дорогое, хорошее. У боярышни же ничего при себе ни от покойного батюшки, ни от сестёр монахинь, ни от Акилины Гавриловны. Ни единой вещички!
По весне супостат Василиусов, как лихоядец, насытясь кровью в Великом Устюге, двинулся встречь судьбе. Дороги рухнули внезапно, пришлось полагаться на воду. Двигались Сухоной с низкими мелколесными берегами. Шалаш в корме лойвы обогревался жаровней. Простирай руки над жарким угольем, грей их до красноты, а сама трясись.
Из Сухоны перевезлись в Волгу. Доро-о-га! Не дорога - ямьё! От повапленной карети остались щепки. Вершницей ехать - не так бы зябла. Однако Васёныш упёрся и - ни в какую! Вспоминать о том недолгом, но лихом сухопутье - мурашки бегут по телу.
Наконец Волга! Это не тихая, смирённая княжеской смутой Сухона. За день там полтора судёнышка встретишь, здесь же то и дело - паузки, карбасы, лодьи, учаны, мишаны, бафты и струги.
У одного из причалов на голом берегу внезапь словно низкий лес вырос. «Вятчане! Вятчане!» - закричали на лойве. Вся помога Васёнышева дожидалась тут. На этих верных своих друзей он больше всего рассчитывал. Получил весть - вышли! - поспешил, презрев козни весны. И вот - встреча!.. Чёрная руготня огрязнила воздух. Вятские матерники оказывали искусство. Похвальба - выше головы! Богатырь вятчанин залеплял ею уши богатырю устюжанину: «Таку вяху отвесил, ажни тот окорачился!» Евфимия, слыша, понимала не всё и без крайней нужды не казала носа из шалаша.
Скоро с лойвой пришлось расстаться. Сызнова переместились с воды на землю. Вновь Бекшик-Фома принёс от князя отказ ехать ей верхом. «Тьфу!» - потеряла терпение Всеволожа. От коня сквозь седло - тепло, от карети сквозь дыры - стужа…
Радости-то было, когда, достигнув села Скорятина где-то близ Ростова Великого, женщины узнали от Бекшика-Фомы, что здесь остановка долгая. Однако встревожились: в двух-трёх поприщах (миновать лес да поле) стояла рать великокняжеская. Жди битвы! Только битва ещё будет не будет (ратные сходки чаще решаются миром), а в тёплой избе у печи тают все недуги. В искрёнок, печную выемку, можно положить варежки - высохнут! Васёныш захватил съезжий дом, выгнал владельцев и постояльцев. Пленнице же своей определил ближнюю избу в два оконца без изгнания жителей, старика и старухи. Очень хорошо! Хозяева, обиходив скот, взлезли на полати. Старик уговаривает старуху:
- Не храпи, татарам продам!
Неонила же, как в Великом Устюге в редкий добрый час, села у оконца, глаз не сводит со своего перстня.
- Васильки в пшенице! - шепчет, перевоспоминая любовь с Романом.
- Сапфир - символ правды, чистоты, совести, - склонилась над ней Евфимия. - В древнем Риме его считали священным. Жрецы храмов носили сапфир в своих перстнях неогранённым, но отшлифованным. Так он больше походил на небесный свод.
- Всё из книг черпала, аки из волшебного кладезя? - вскинула взор Неонила.
- Из волшебного кладезя, - подтвердила Евфимия. - Только кладезников у нас не жалуют. Вот казнён Иев Булатов…
- Негниючка проклятый! - обругала Васёныша дружница Романа и вздохнула по казнённому протопопу.
Без стука, по-агарянски, взошёл Фома.
- Пошли, - сказал он боярышне. - Государь зовёт.
Двор, подклет большого съезжего дома были полны вятчанами и дружинниками Шемяки. Середь двора соборовали воевода Вепрев и Путило Гашук, предводитель вятчан. Бекшик провёл Всеволожу наверх, распахнул дверь в избу, прикрыл, пропустив боярышню, и затопотал вниз по лестнице.
За столом одиноко сидел Васёныш, уписывая пшённую кашу с салом из большой глиняной махотки.
- Присядь, Офима.
Боярышня опустилась на лавку по другую сторону стола.
- Не предлагаю столь скудную трапезу, - повёл речь Васёныш. - В Великом Устюге потчевал икрой белорыбицы, прикрошками и присолами - паровым сигом, копчёным лещом, ухой шафранной, а к ней пирогами в виде карасей, рассольным из разварной стерляди с пышками и оладьями. А уха - не каша в махотке-в медных сковородочках! И хлебец крупитчатый, а не братский, ржаной. А грибы гретые? А шти с соком? А ягоды винные, на рожниках тридевять ягод? А взвар медвяный квасный со пшеном да с изюмом?.. И то добром не окончилось наше с тобой столование.
- Ты доброго человека головной казни обрёк, - напомнила Всеволожа.
- Я ж тебе объяснял, - повторил старое Васёныш, - обрёк смерти протопопа Булатова, имевшего от владыки власть десятильную, поскольку спор у нас был о пошлинах. В его десятинные пошлины я вступился. Он воспротивился и погиб. Преосвященный за то анафемствовал меня, я же владыку не тронул пальцем.
- Ещё бы! - воскликнула Всеволожа. - Довольно на тебе крови князя Романа и тех безвинных, что на «глаголях» и «покоях» повисли, а также воеводы Глеба, коему крест целовал, и… Да что там! Едва не порешил старца-отшельника. Ада за сие мало! Ко всей этой крови, - заключила она, - открыла путь кровь боярина Симеона Морозова.
Косой белел, тёр щёки кулаками.
- Опять которимся? Обернись на себя, Офима. Сама едва не прервала мою жизнь тайной своей колючкой. Думаешь, не сыскал, так поверил? Булавкой, видишь ли, укололся! Оттого очнулся не в себе. Жил с тех пор, будто все соки выжаты…
Евфимия вновь представила невесёлое прошлое. Велела тогда Неониле зарыть брызгалки на огороде. Та поленилась: «Помойная яма и на княжом дворе есть». Боярышня настояла. И не ошиблась. Звенец с Тупта-лом перебрали помойку, как решето с гречихой. Ничего не нашли. До нитки прощупали скарб боярышни, её услуженницы, и тоже вотще. Князь сделал вид, мол, поверил, будто укололся булавкой, вколотой в наруч Евфимии. Тем не менее трапеза их из-за протопопа Булатова завершилась ссорой. Косой сызнова обещал «доказнить» свою пленницу. Она же назвала его «зверем копытчатым», который, «увидев невинного ярыми своими очами звериными и похватив меч свой наг, хочет главу отсещи». Он в отместку сказал, что у неё «звериный язык». Она возразила, что так именуется трава, годная от мокротной болезни.
Теперь оба вспомнили о тогдашем злоречии. Боярышня молча, князь с видимым раскаянием.
- Верно ты подметила давеча. Зверь вошёл в меня, душу выжил. Не изживу его никак, токмо победив врага.
- С внутренним зверем одоления над врагом не достигнешь, - промолвила Всеволожа.
Косой не вник в её речи.
- Близок конец моему невремени, - продолжил он выспренно. - За селом Скорятиным лес, а за лесом поле. Это поле вот-вот станет полем брани. Вернусь ли оттуда, полягу ли там - не ведаю. Вот и призвал тебя, Офима, прощения попросить за всю тяготу над тобой. Простишь, легче встречусь с ненавистником.
- А ненависть на беззлобие поменять нельзя? - спросила Евфимия.
- Поздно, - понурился Косой. - Было время, сидели за одним столом я - Васёныш, он - Василиус, учились азам у твоего батюшки. Теперь дело далеко Зашло. Не жить никому из нас, коли жив другой. Вот и прошу, Офима: не послабил я твоей участи неуёмной любовью, сними тягость с грешника!
- Пусть тебя Бог простит, - поднялась Евфимия. - Буду возносить молитвы…
- Не произнесёшь словечка теплоты? - жалобно спросил Косой.
- Холодно у тебя, - застегнула Всеволожа шубу-одевальницу.
Князь вскочил, раскрыл оконницу.
- Гляди! Легион тысяч войска! Братская дружина Дмитриева! Доблестные лучники вятчане! Пусть брат Дмитрий тесно заточен, пусть Иван Можайский изменил, пусть брат младший, Дмитрий Красный, не со мной. Один справлюсь! Ты гляди, гляди, какие воины…
- Зипунники, - не сдержала откровенности Евфимия. - По ним видно: ищут, где охапнуть.
- Врёшь! - закричал Косой. - Единственный мне близкий человек и… врёшь!
- Что меж нами близкого? - возразила Всеволожа. - Ты похитчик, я похищенная. Стыд за тебя, и только!
Князь закрыл окно.
- Ступай, пожалуй. Колешь ты не токмо ядовитыми булавками, а языком. Иди. Не знаю, встретимся ли…
Боярышня, на миг увидев прежнего Васёныша, не захотела уходить на вздорном слове. Пообещала:
- Вестимо встретимся! - И тут же, чтобы сменить речь, будто сочувствуя, спросила: - Твоих воев поубавилось? На пристани у Волги было больше.
Почуяв каплю теплоты в Евфимии, Васёныш улыбнулся.
- Сметчивая ты! Я часть вятчан отправил на судах до Ярославля. Пусть возьмут город, пока наместник, князь Брюхатый, здесь, среди моих врагов. Ступай, Офима. Ты свободна. А что было между нами скверного, тому - дерть!
Боярышня буквально поняла его слова:
- Ужли отпускаешь?
Князь насторожился. Исчез прежний Васёныш.
- Одолевши, отпущу.
Её ли одолевши? Или Василиуса? Не вдаваясь в суть, боярышня ушла.
2
Остоялась на мосту, перевела дух. Мост держал на сваях большие сени, отделял переднюю избу от задней, зимней. Под таким мостом в подклете обычно зимовали овцы или складывался скарб. Евфимия, кочуя по крестьянским справным избам, знала: с моста ведут два выхода. Один на красное крыльцо, другой на крытый двор. Над мостом и срубами вздымалась сводчатая кровля закоморой об одном волоковом окне. Сквозь него лучилось солнце. По земляной засыпке, что утепляла потолок избы, где принимал боярышню Васёныш, бесшумно в солнечных лучах сновала кошка, видимо, искала тёплого местечка у печной трубы.
Всеволожа вышла на крыльцо, где ждал Бекшик-Фома. Он целиком был занят созерцанием, как воины вятчанин с галичанином коняются на палке, приговаривая:
- Чигирики, мигирики, шаранды, баранды, по мосту по мосту, по лыкову мосту, шишел, вышел, вон пошёл!
Бекшик повёл боярышню по улице. Идут, как госпожа с холопом. Увидишь, не подумаешь, что пленница со стражником. Да и идти-то два шага. И эти два шага для Всеволожи стали незабвенными.
Навстречу - вершники. Впереди - князь. Сверх зипуна длинный кафтан на вате. Пуговицы золочёные с нашивками-петлицами. Богато изукрашенным источнем подпоясан. Шапка с бархатным вершком и горностаевой опушкой. Пешая боярышня глядит не на одежду, на лик князя. Юный удлинённый лик. Бледный - ни кровинки. Будто и не князь, а инок-постник. Очень схож с Корнилием, бывшим слугой Марьи Ярославны. Ужли перед ней тот самый младший сын Юрия Дмитрича, за коим наблюдала из потаённого окна, когда вершился суд над сверженным Василиусом?
Князь бы проехал мимо, да один из спутников, приближась, сказал два слова, глядя на Евфимию. И все остановились.
На неё глядел не кто иной, как давний спутник-охранитель от Новгорода Нижнего и до Москвы, славный княж воин Кожа… кажется, Василий… да, Василий.
- Здрава будь, Фимванна! - приветствовал боярышню былой знакомец. - Странно видеться с тобой в сём логове крамольников.
Князь молча наблюдал за ней.
- Я здесь в неволе, - потупилась Евфимия. - Меня похитили.
- Пошли, пошли, - поторопил Бекшик-Фома.
- Постой, татарин, - спешился Василий Кожа. - Дай разобраться…
Бекшик, вложив два пальца в рот, издал разбойный свист. Откуда ни возьмись к ним тут же подскочили Туптало и Звенец.
- Будем разбираться этим? - извлёк крещёный агарянин креноватый нож.
Кожа скосил глаза на князя, ожидая повелений.
- Оставь, - сказал Дмитрий Красный. - Не силой, разумом решим освобожденье девы Всеволожи. Мне памятен твой батюшка, красавица, боярин Иван Дмитрия, кладезь мудрости, - обратился князь к Евфимии, отчего боярышня зарделась, спрятала волнение в поклоне. - Я немедля потолкую с братом. Что за несусветица!
Повинуясь, Кожа взлетел в седло. Всадников не стало.
Евфимия вошла в свою избу, не в силах справиться с сердцебиением. Неонила перед пузырчатым окном рассматривала голубой сапфир на пальце.
- Вышла из ворот, - поведала она, - ослопников и палишников набралась такая тьма - на них хлеба не наямишься.
- Как… хлеба не наямишься? - переспросила Всеволожа, вся в других мыслях.
- Ну, хлеб же хранят в ямах, - принялась за объяснены! Неонила. - Выроют в виде кувшинов, выжгут соломой, сверху утеплят землёй. В сухой почве ямный хлеб держится долго.
Боярышня повела носом.
- Что за гарь в избе?
- Печную трубу чистят, - отвечала Неонила.
- На кровлю взлезли? - дрогнула Евфимия, только что испытав ветер, рвущий клочьями солому с крыш.
- Зачем же? - возразила Неонила. - Взлезли на избу. Там у переводня, что связывает печь большую с малой, есть в трубе заслонка. Отодвинь и чисть.
Евфимия задумалась. Луч над переносицей возник и проступал всё резче… Вдруг она метнулась в дверь.
- Голубонька, оденься потеплее, - останавливала Неонила.
Боярышня выскочила из избы.
Бекшик-Фома уж тут как тут.
- Куда?
- Платчик позабыла у Василья Юрьича. Я мигом! - побежала Всеволожа.
- Так и я мигом! - поспешил за ней Бекшик. Во дворе съезжего дома она велела, задыхаясь:
- К чёрному ходу! Чтобы не видели, что заходила дважды.
Бекшик остановился у двери на крытый двор.
- Не выйди через красное крыльцо. Там стережёт Туптало.
Всеволожа не слушала. В голове - одна мысль: «Не видеть, так слышать!» Одна и та же, на крыльях несущая, мысль: «Не увидеть, так хотя б услышать!»
У избяной стены - беременная бочка. На бочку Евфимия поставила чурбак и взлезла на избу. Где тут переводень? Брысь, кошка! Вот заслонка. Заело за зиму! Ой, не слушаются пальцы! Чем смахнуть пыль? Смахнется с шубы!.. И вот ухо ловит снизу слова:
- Брат, отпусти её.
- Кончили о ней речь.
- Брат, что она тебе?
- Л юбава!.. Ямки на щёчках… Этакая умилка!
- У самого очи в ямах от большого гнева.
- А ты хорошеешь в безгневии. Выпорол бы, как старший, за службу Каину-Ваське. Поддатень врага хуже поганина!
- Не станем гадать, кто Каин, кто Авель. Кончи миром, без крови. Прошлому всему - дерть!
- Сызнова потакать? Новгородцы такали, такали, да и протакали свою вольность.
- Брат, одумайся!.. Долгая тишина…
- Хотел бы крови, не мира, задержал бы тебя, - чуть смягчился голос Васёныша. - Я же не кровоядец. Хотя можно бы поспеть с битвой. Не скоро станет ве-чораться. Однако прошу времени до утра. Дайте размыслить.
- Брат, за благоразумие тебе Бог воздаст. Будь по-твоему. А как с пленющей?
- Утречком, брат Дмитрий, утречком. Обымемся до завтрашней встречи…
Чуть спустя дверь скрипнула, затворилась.
Ушёл!.. Евфимия не вдруг сошла вниз. Поддатливая память слушала, переслушивала тихий мягкий голос. Князь Дмитрий Красный пёкся о её судьбе! Не преуспел. Не суть важно. Просил, печаловался и теперь скорбит…
Дверь хлопнула. Кто вошёл в избу? Не один!
- Дозволь, государь? - голос воеводы Вепрева. - Мы тут с Путилой Гашуком решили вызнать, чем завершилась братняя беседа.
- Сошлись по згадце о мирных докончаниях? - голос Гашука.
- Никакого обоюдного согласия и мирных договоров не предвижу, - заявил Васёныш. - Слушайте, что делать. С братом мы сошлись на перемирии до завтрашнего дня. Пусть московские полчане успокоятся, заснут крепче. Ты, Путилушка, немедля снаряжай вятчан и, крадучись, сторонкой, обойди неизготовленную к бою рать. Возьми в плетухе петуха поголосистее. Со вторым петлоглашением ударь им в спину. Мы с Вепрем тем же часом ударим в лоб. Считайте, золото победы уже позвякивает в наших калитах!
- Измыслено отменно! - похвалил Вепрев.
- Я удаляюсь делать дело, - объявил Гашук.
Евфимия с избы увидела, как трое вышли на красное крыльцо. Закрыв трубу, она спустилась, выскочила через крытый двор. Бекшику показала платчик с узорчатой каймой.
В избе хозяйка с Неонилой только кончили сбирать на стол. Боярышня сидела на голбце, как истуканша. Ни на какие уговоры не спустилась к трапезе.
- Что с тобою нынче? - встревожилась наперсница, едва хозяева ушли к скоту.
- Взлезай ко мне.
Обнявши Неонилу, Всеволожа шёпотом передала услышанное сквозь трубу.
- Великая измена слову свершится нынче ночью. Как упредить, не ведаю.
Не услуженница, а почитай уже подруга, покачала головой и молча удалилась. У Всеволожи мысли уходили-приходили без толку. Сбежать от стережения 3венца, Тупталы и Фомы, что биться в стену лбом. Послать, как вестоношу, Неонилу? Под приглядом и она. Достать оружие? Одной троих не одолеть. И никого верного. Две девы в волчьей стае!
Явилась Неонила, осмурневшая, с покусанной губой.
- Фома-поганин позлорадствовал: до завтрашнего дня надзор за нами многожды усилен. Сама видела каких-то новых, то ли вятчан, то ль галичан. Впёрлись в тёплую кошару, играют в зернь. Старухе нашей со стариком не велят ехать за сеном. Особая сторожа перед страшным делом! Всех сельчан до времени не выпускают со дворов.
Боярышня, сжимая руки, запохаживала по избе. А Неонила снова вышла.
Пузырь в оконцах покраснел, как уголья, после побурел, как пепел, потом стал тёмен. Первое петоглашение раздалось с крытого двора. От мерзкого бессилия реветь хотелось, а слёз не было. Хозяева вошли, вздули огонь и повечеряли.
- Поешь, дочура, - позвал старик. Вздохнул, не получив ответа.
Вот на полатях - сонное дыхание. Едва приотворилась дверь.
- Роднуша, подсоби.
Неонила передала боярышне охапку: какие-то порты, рубахи толстого сукна, пара тулупов, сапоги чёрного товара.
- Что это?
- Мужская сряда. Оболокайся вборзе. Не разглагольствуй ни о чём.
Переодевшись, вышли.
- На носках ступай. Не зашуми.
По мосту - через крытый двор. Сквозь куриный дух, мимо коровьего жваченья - к чёрной двери. Там в лунном свете- Туптало. Из кошары доносились хриплые голоса с подвоплием:
Ай, в окошечке лебёдушка похаживает, В русу косу алу ленточку уплётывает, А другую, голубую, подпоясывает, А как третью, разноцветну, да на шейку кладёт. Ай, как сладко чёрный лебедь её в лес зовёт! «Уж пойдём, пойдём, лебёдушка, берёзку сажать. Не познавши красной девки, нельзя замуж взять!»- Кто там? - оторопела Евфимия.
- Пьяницы да скляницы, - пробормотал Туптало, сделав головой знак следовать за ним.
По кочкастому огороду вышли на зады. И - в лес. Боярышнины сапоги скользили. Охраныш её поддерживал. Неонила шла легче.
- Тебе чужая обувь не жмёт? - беспокоилась Всеволожа.
- Привычны мы к непутьме, - отвечал за неё Туптало.
- Плач и скрежет зубов ждёт опоенных завтра, - сказала Неонила о поющих в кошаре.
- Хмель не плачет, что пьяницу бьют, - хмуро отозвался охраныш.
Больше не обмолвились ни о чём, пока миновали лес и вязкое поле под ломкой корочкой льда. Боярышня постепенно соображала, что волоокий Туптало вошёл в сговор с Неонилой. А из какой корысти?
Вот снова вошли в лес.
- Далее не пойду, - остановился проводник. - Ню-халы наши сказывали: лес этот, как источень, узок. Не заплутаетесь. Ищите конский след. Он выведет к московскому стану.
- Ты-то куда? - исподлобья глянула на парня Неонила.
- Мне ни вперёд, ни назад нет ходу, - отвечал бывший охраныш. - Мой путь по дал её в сторону. С твоей лёгкой руки авось да не пропаду.
И исчез.
Две женщины, омужиченные неподобной срядой, углубились в березняк, трудно разглядывая ламьё конских копыт.
- Дай, понесу узел с рухлядью, - предложила Евфимия.
Неонила не отдала.
- Сама снесу. - И прибавила озабоченно: - Как бы не застудить тебя. Придётся переобряжаться в холоде. Не являться же в таком виде.
Выглянули из подберезья. Не виднелись, а скорее пахли дымы погасших костров вдали. Едва угадывались в лунной синеве островерхие очертания шатров. Неонила развязала узел.
- Сперва помогу тебе.
Евфимия близко увидела её руку, расстёгивающую ворот тулупа. Безымянный палец пуст.
- Где сапфировый перстень? - ужаснулась боярышня.
Овдовевшая дружница князя Романа поцеловала её холодную щёку.
- Перстню не было хода ни взад и ни вперёд, - спокойно вымолвила Неонила. - Путь его далеко в сторону. Зато мы - здесь!
Всеволожа заплакала.
Лагерь московлян ждал перемётчиц тихо. Как встретят? За кого примут?
3
- Эй, девья мать, али усластить спешишь? - заорал откуда ни возьмись ночной страж с рогатиной.
Шедшая впереди Неонила остановилась. Всеволожа обождала, пока этот воин, должно быть из городских ополченцев, подойдёт ближе.
- К Василию Коже, - сказала она внушительно. - Мы с товаркой несём из Кашина добрую весть от жёнки его Ириницы и сына Матвея.
Ослопник явно знал Кожу. Да кто его в окружении Василиуса не знал? Для пущей верности мужик спросил:
- Как путешествовали из Кашина?
Евфимия бы смутилась. Неонила же отвечала бойко:
- До Волги пешехожением, от Волги с рыбным обозом.
Без лишних речей страж привёл к латаному шатру, освещённому изнутри. В шатре раздавалось чмурное пение, похожее на голоса из кошары, только песня была не озорная, плечевная:
Что не сиз голубь по зарям летал, Добрый молодец по Москве гуляя. Ой, не так гулял, тяжело вздыхал: «Мне не жаль, не жаль широка двора, А мне жаль-то жаль зелена сада, Во зелёном саду растёт древьицо, Дуб-деревьицо - родной батюшка. Медова яблонь - родна матушка, Зелена груша - молода жена, Сучки-веточки - малы деточки…»Из шатра вышел Кожа.
- Хос-с-споди! Фимванна! Как удалось?
- После, друг, после, - торопила боярышня. - Проводи, не мешкая, к государю.
- Почивает он, - мялся Кожа.
- Говорю, не мешкай! - рассердилась Евфимия. - Юрьич порушил докончание с младшим братом. Со вторыми петухами Шемякина дружина бросится на вас врасплох, вятчане ударят в спину…
Княж воин выхватил в шатре светыч с железным пятчиком, оборвал песню, перешедшую в галдёж, повёл пришлиц, приговаривая:
- Этак нас собьют в мяч. Государь до утра распустил полки для кормления. Кормимся-то за счёт областей. А жёнку мою с сынишкой по именам назвала, милая боярышня. Памятливая!
- Подымай всех, - велела Всеволожа уже у великокняжеского шатра. - Кличь воевод и полчан. Вдруг петухи пропели?
- Куда? - встал с земли сонный страж.
- Пропусти! Я - Кожа! - Воин ввёл Евфимию, пообещал: - Всех немедля сгаркну! - и исчез.
Неонила ждала снаружи.
Евфимия воткнула у входа светыч и огляделась. Великий князь спал, раскинувшись, на высокой подстилке из лапника, на медвежьей шкуре. Всеволожа дотронулась до его плеча.
- Пробудись, Василиус!
Чмокнув пухлыми губами, он лишь вскинул узкую бородку, крепче смежил вежды. Всеволожа резко потянула за руку.
- Восстань же, спля сонная!
Открыв глаза, Василь Васильич сел, мотнул взлохмаченной головой, стал шарить меч подле себя.
- Вот меч! Причешись, опрянься.
- Евушка?
- Васёныш обманул брата. Наступает! Хочет застичь врасплох.
- Васёныш?.. Ты тут? Где была? Великий князь ещё не проснулся.
Евфимия увидела в изголовье воинскую трубу. Схватила. Выскочила. Приставила к губам: Пффф!.. Пффф!.. Ни звука.
- Дай! - выхватила Неонила. Щёки стали тыквами. Труба изрядно зашипела, как застуженное горло.
Василиус вышел, окольчуженный, в шлеме с чупруном. Молча переняв трубу, огласил пространство долгим мощным зовом.
Стан, без того ополошенный стараниями Кожи, пришёл в движение.
- Нет со мной воев, - отнял князь трубу ото рта. - Коли Косой докончанье презрел, я погиб!
- Не погиб. Труби! - велела Евфимия. - Вон, кто-то идёт…
- Князь Друцкой Иван Баба. Приспел с дружиной из Риги в своём безвременье.
- Что за сполох? Откуда жены? Как тут оказалась Евфимия? - со спины приблизился Иван Андреич Можайский.
- Она - с вестью: Косой идёт! - объявил Василиус.
- Не может такого статься! - подошёл Дмитрий Красный. - Брат целовал мне крест.
- Нашли час соборовать! - возмутилась боярышня. - Едва ты отбыл, - резко сменив гнев на ласку, взглянула она на Красного, - к Васёнышу пришли воевода Вепрев с Путилою Гашуком, главою вятчан. Со вторым пет л оглашением ударят на вас. Вепрев- в лоб, а Путило - в спину.
- Что за девки среди мужей затевают смуту? - подошёл тучный вельможа в горлатной шапке.
- Кто он? - спросила Всеволожа Василиуса.
- Князь Александр Фёдорыч Брюхатый, мой наместник в Ярославле, - повеличал спесивца великий князь.
- Ах, в Ярославле? - упёрла руки в боки боярышня. - Так ведай, наместник: вчера Василий Юрьич на четырёхстах судах послал вятчан в твой город Волгою. Вскорости Ярославль будет взят.
- Предупредить! - вставил мудрое слово Можайский.
- Отправляйся немедля! - надрывно велел Василиус. - Тоже на судах. Тоже Волгою. Вдогон! Возьми семь тысяч ярославцев, угличан…
- Почему её слушать? - возмутился Брюхатый, скосясь на Всеволожу.
- Она есть дочь боярина Иоанна, - объяснил Дмитрий Красный.
На это наместник бровью не повёл.
- Не её слушаешь - государя! - внушительно изрёк Можайский.
Брюхатый с ворчанием удалился. Тем временем стан наполнялся воями. Рать исполчалась.
- Где воевода Борис Тоболин? - повёл взором великий князь.
- Я - вот он, я!
- Составь сторожевой полк. Спеши в заставу. Сдержи Косого. Сторожу выстави вперёд. Я принимаю великий полк. Правая рука - Иван Можайский. С полком левой руки - Иван Баба и литовские копейщики. Тебе ж, Дмитрий Юрьич, засадный полк. Не допусти вятчан! - обратился великий князь к Красному, скорее не повелительно - жалобно, почти умоляя.
Пусто у шатра. Остались Всеволожа с Василиусом. Одаль - Неонила.
- Евушка! Спасительница! - Великий князь обнял боярышню, прижался щекой к щеке.
- Государь, поспеши! - издали торопил Можайский.
Оставшись с Неонилой и шатёрным охранышем, боярышня огляделась. Луна топла в облаках. Стан пустел. Костры там-сям шипели, как огненные змеи, свитые в клубки. Из мрака доносился, замирая, звяк оружия, храп, топот конницы. Вдруг со спины нарос такой же топ, одиночный. Всадник едва не сбил. Спешился недоросток-воин.
- Э, ты ранен!
Охраныш выдернул стрелу из его плеча. Тот упал.
- Разве же можно так? - накинулась Неонила на торопыгу-охраныша.
Евфимия склонилась к упавшему. Приблизила светыч. Кольчуга у плеча пробита. Рана зияла страшно.
- Никак самострел, - повинным голосом произнёс охраныш.
- Арбалет! - вспомнила Евфимия объяснение Веп-рева. - Франками измыслен. Стрелы зазубрены. Их осторожно извлекать надо.
Торопыга кивнул:
- Кто же знал?
Боярышня сняла с беспамятного кольчугу, шишак. Охраныш помог.
- Снесите-ка его в обоз. Там должен быть лечец. Неонила развязала узел, выкинула мужскую сряду, уложила с помощником юного воина на тканину. Понесли…
Евфимия вошла в шатёр и сызнова надела как при бегстве из деревни, рубаху и порты, сапоги чёрного товара, а поверх - кольчугу. Волосы убрала под шишак. И конь осёдланный, и меч, и щит теперь имели не хозяина, хозяйку. Чуткий, храбрый вестоноша пусть залечивает рану. Боярышня стремглав помчалась в сторону ещё не стихших оружия и голосов. Завидев первого всадника, спросила:
- Чей полк?
- Засадный. Князя Дмитрия Юрьича. Пристроясь в голову отряда, она увидела знакомый облик человека в шлеме с чупруном.
- Князь Дмитрий, поезжай правее. Вон к тому лесу!
Красный оглянулся.
- Ты?.. Евфимия Ивановна?
Она, захлёбываясь, рассказала про вестоношу из засады. Он прискакал не от деревни, где Васёнышева рать, наоборот, от леса, где должен быть Гашук с вятчанами. Она запомнила: правее надо взять, чтоб выйти им навстречу.
Красный согласился.
- Спаси тебя Господь за смелую урядливость. Теперь езжай на стан.
Луна всем ликом вырвалась из туч и осветила князя и боярышню.
- Не для того же переоблачилась и окольчужилась, чтоб, сложа руки, ждать, - сказала Всеволожа.
Князь не нашёлся сразу, как возразить. А лес уже был рядом. Стали просачиваться сквозь него.
- Вели друг дружке передать: ни шагу из подлесья, - сказал Дмитрий Юрьич ближнему всаднику. - Всем быть готовыми. Дам знак, свистнешь. Ты у нас свистало!
За лесом снова было поле. Боярышня невольно ужаснулась рядам вятчан, идущим им лоб в лоб, но их не видящим.
И вот раздался свист.
- А-а-а-а! - поднялось над лесом! Вятчане замерли, смутившись, однако же ответили:
- А-а-а-а! Битва началась.
Пока сшибались конные копейщики, князь Дмитрий ждал. Евфимия подумала: «Как странно складывается судьба! Чего больше всего боишься, чего не хочешь, то и проходишь». Сегодня было её первое крещение в большом бою.
- Тебе не место здесь, - сказал Дмитрий Красный. - А коль уж оказалась, замри в подлесье. Жди. Их будет верх, скачи на стан, предупреди…
И он рванулся в поле.
Рубка при луне был красива и ужасна. Проклятия и вопли - хоть уши затыкай, да бесполезно! Евфимия держала взглядом шлем с чупругом. Увидела: обереженье князя почти всё полегло. Его обходят. Ах, так ли уж силён младший брат Юрьичей, моложе её на год, а то и на два! Он рубится и ловко, и спокойно, да долго ли продержится? Евфимия представила себя в пещере, окружённой челядинцами Васёныша, когда Фотинья пробивалась к ней и не пробилась.
Боярышня пустила коня в поле, как стрелу из лука. Вот первый супротивник… Посечен сзади. Второй уж обернулся, деловито поднял меч… Удар отбит.
- Откуда ты, такой пащенок, взялся? Ещё, ещё удар отбит.
- Вязкий волчок!
Удары тяжелы, рука немеет… Вот щит вятчанина чуть приоткрыл живот. Самое место для удара…
- О-о-о!
Ещё один заходит в тыл к князю Дмитрию!
И тут - толчок в плечо, едва вскинула меч. Успеть вырвать из стремян носки сапог!.. Спина о землю шибанулась, и всё исчезло.
…Очнулась на мужских руках. Нет, это не Олфёр Савёлов. Приятные, заботливые руки, по-братни бережные. Скорее не по-братни, а по-мужни!
- Наказывал, Евфимия Ивановна, стоять в подлесье! Голубушка, ты ранена! Открой уста, взгляни…
- Нет, я не ранена. Я вышиблена из седла, - сказала Всеволожа. - Помоги стать на ноги.
- Я донесу тебя хоть на край света, - пообещал князь Дмитрий, - только живи.
- Поставь меня, - высвобождалась пылкая воительница.
Голова кружилась. Пришлось крепко опереться на руку князя.
Холодная луна серебряно взирала с высоты.
Он оглядел поле, где бродили кони без седоков и алчные хваталы торопливо обирали посеченных.
- Прекрати это! - повелел он одному из подошедших воевод.
Евфимия вполне пришла в себя и отпустила его руку с неохотой. Князь ей сказал:
- Лучше бы я на себе раны видел, только бы невинные люди такой крови не терпели. Лучше бы согласился я жить в заточении необратном, только бы не быть здесь и не видеть над людьми таких злых бед.
Четверо воев за ноги и за руки поднесли тело, положили у ног князя.
- Вот Гашук.
Красный посмотрел на Всеволожу. Чуть склонясь над телом, она выпрямилась, подтвердила:
- Да, Путило, прозвищем Гашук.
Молча сели в седла. Ехали до стана бок о бок в тесном конном окружении. Князь то и дело брал боярышнину руку.
- Как тебе можется? Она пыталась улыбаться.
- Спаси, Господи… Будь за меня покоен.
А с противоположной стороны рать государева уже вернулась в стан. Василиус их встретил у шатра.
- Бог мне помог! Шемякина дружина и полки Косого рассеяны. Васька сам-друг с воеводой Вепревым сверкнули пятками. И вы, как погляжу, с удачей? Где Евушка? Никто не ведает? А что это у тебя, брат Дмитрий, новый оружничий? - Узнавши Всеволожу, великий князь всплеснул руками. - Ну, глумотворщица! До битвы отодрал бы за уши, сейчас смеюсь.
- Не смейся, брат, - ответил Красный. - Она не глумотворщица. Не будь её меча рядом с моим, уже не говорили б мы с тобой.
Все спешились.
- Несите больше свету, - распоряжался великий князь. - Подайте омовенье, а после - яства и питье. Пир зададим на славу. Свершился Божий суд! Пойдемте все в большой шатёр, - пригласил он воевод с князьями и полчанами. - Жаль, старший Юрьич вырвался из моих рук. Стало быть, смуте не конец. Однако же конец отныне близок. - Василиус взял за руку Евфимию. - Не сторонись нас, Евушка. Первый же заздравный кубок - за тебя!.. А войский вид тебе к лицу, - шепнул он в ухо.
- Князь Друцкой Иван Баба показал себя отменно, - похвалил выходца из Риги Иван Можайский. - Он по-литовски изрядил своих копейщиков.
- Как? - спросил Красный.
- Задние закладывают копья на плечи передним, - стал объяснять Иван. - Их копья длиньше, у передних же - короче…
- Где Иван Баба? Где Борис Тоболин?- всполошился великий князь.
- Пошли сугоном за Косым, - отозвался кто-то из полчан.
- Мы смяли их одним ударом, погнали, рассекли, - гордо вспоминал Можайский.
В большом шатре при изобилии свечей вожди-полчане, воеводы и князья кто по-татарски сели, кто, аки римские центурионы, возлегли у жарких яств, хмельных питий. Евфимия сидела между Красным и Васи-лиусом. И Неонилу настояла поместить поблизости. История побега их была уже до тонкости известна.
- Вся в батюшку! - хвалил Можайский. - Большое дело делаешь, как отрубаешь…
Кубки содвинулись… Вошёл Василий Кожа.
- Государь, тебя снаружи ждут Баба и Тоболин.
- Уф! Наконец-то! Пусть войдут, - взмахнул рукой Василиус.
Однако Кожа повторил, потупясь:
- Ждут снаружи. Все стали выходить.
Евфимия последней вышла и удивилась общему молчанию.
Потом увидела двух воевод, покрытых свежей кровью с голыми мечами в руках. Меж ними кмети держали вязня Васёныша. Простоволос, неокольчужен, рот окровавлен.
- Вспомнил, что на Ярославль он загодя послал вятчан, - рассказывал Тоболин. - Бросился за ним на Ярославскую дорогу и не ошибся. Наехал, гляжу: сиганул в лес. Я - за ним, начал кликать: «Ось, князь Василий Юрьевич!» А Иван Баба гонит уж его ко мне. Жаль, Вепрь сбежал.
- Допрыгался! - сказал Василиус.
- Ты одолетель. Я на твоём месте то же бы изрёк, - скривил в усмешке лик Косой.
- В Москву его! - велел великий князь. - За крепкою сторожей. В тесноту!
Все воротились за государем, скрывшемся в шатре. Иван Баба и Тоболин пошли опрянуться с тяжёлого пути. Евфимия стояла, как заворожённая. Кмети повели Васёныша. Он оглянулся.
- Спасибо, ведьма, - произнёс глухо. - Свободен! Наконец свободен от твоих чар. Тоску при мысли о тебе сменят проклятия…
На этот раз он был в крови от головы до пят не по делам своим, а вьяве.
4
Во втором часу дня, едва солнце показалось над лесом, Неонила вызвала Евфимию из шатра.
Стан давно пробудился. Полчане поезживали среди чёрных кострищ, блестя кольчужною чешуёй. Следили за сборами своих ратников. Путь предстоял приятный: дружине - на Москву, ополченцам - по своим волостям. Они споро приторочивали к сёдлам мешки, в коих, как знала Евфимия из рассказов воина Кожи, фунтов до десяти солёной свинины, толчёное просо, соль вперемежку с перцем, а также огниво и медный горшок. Боярышня не сразу заметила князя Дмитрия Красного. Он дожидался чуть одаль от шатра. Увидев её, подошёл, поклонился поясно.
- Здрава будь, Евфимия Ивановна!
- И ты здрав будь, Дмитрий Юрьич, - ответила она тем же.
Их взоры впились друг в друга, а уста онемели.
- Дозволь проститься, - промолвил наконец Дмитрий.
- Отъезжаешь в свой Галич? - замерев сердцем, спросила Евфимия.
Тотчас он предложит поехать вместе, и она согласится. Однако он произнёс:
- Даст Бог, свидимся. Всеволожа склонила голову.
- Дай-то Бог.
Неонила вышла из шатра с узелком. Обняла подругу свободной десницей, прижалась чело к челу.
- Мыслилось: ты - со мной, - сказала боярышня.
- Мне попутье с князь Дмитрием, - ответила Неонила. - Поищу близ Углича внедавне основанную женскую пустынь Рябову или Рябину. Там приму постриг.
- Ужли покинешь мир? - ужаснулась Евфимия.
- Людской мир покину, останусь в Божьем. Обе вдругожды ещё крепче обнялись.
Дмитрий порывисто шагнул к Всеволоже, чуть не дойдя, поклонился и отошёл с Неонилой.
Пуст и чужд стал московский стан, кишащий людьми. Едва Евфимия переоблачилась в сряду для верховой езды, шатерники разобрали и унесли временное жилище.
Княжеские дружины уже построились в конный поезд.
- Воложка! - крикнул Иван Можайский, как звал Евфимию в детстве. - Пристраивайся ко мне. Рад с тобою попутничать.
Войско пришло в движение. Всеволожа поехала с Иваном Андреичем стремя в стремя.
- Как живут-поживают твои бояре Мамоны? - задала она давно мучивший вопрос.
- А, твои старые друзья? - подмигнул Иван. - Не от них ли выкрал тебя Косой в Новгороде Великом? Экое невезенье! Так в глубокую старину наши предки уводом добывали невест.
- Я ведь в шутку, - легко оправдался князь. - А скажи, положа руку на сердце: не почтёшь ли за чудо, что вторично из Васькина плена попадаешь к Василиусу? Вы с ним созданы друг для друга. Тут Божий перст!
- Ещё слово - и я отъеду, - подняла плеть Евфимия.
- Про Мамонов и не услышишь, - напомнил князь. - А ведь Андрей Дмитрия со своей Акилиной сейчас на Москве живут. Московский наместник, правда, у меня новый - Василий Шига. Однако я Мамонам природный князь. Хуле, возведённой на них, положил дерть и погреб. Пусть живут, где желают, овогда на Москве, овогда в уделе. Досталось мне батюшкино наследство - Бутов сад в Занеглименье. Предоставил им теремок в саду. Девок навезено из Нивн, что цветов в снопе. Андрей Дмитрии средь них, как в пчелиной колоде трутень, мудрит, чудачествует. Да ведь ты теперь их общество не пополнишь. Твой путь - в Кремль, во дворец. Ныне брат величал свою спасительницу наивысочайшими словами. Жаль, замужеству твоему он плохой споспешник. Близ него засидухой окончишь век.
- А твоей, Ивашечка, женитве кто чинит помешку? - отомстила колким взором и ехидным вопросом Всеволожа.
- Мать, - вздохнул Можайский. - Ей не по сердцу ни эта и ни та…
Постояние устроили в деревне Плесня. Избы чёрные, и впрямь заплесневелые. Зато стоят на нежно травяном опупке. Отсюда благостное зрелище на лес и реку. Как в праздник, заиграли скрипачи - колодезные журавли. И вытным духом задышали братские котлы над жаркими кострами. Евфимия была приглашена в великокняжеский шатёр, посажена с Василиусом.
- Тоскую по беседам нашим, - истиха признался он. - Поедем далее бок о бок, поговорим, как в Нижнем, помнишь?
Пусть память ничего приятного не подсказала, боярышня покорно опустила голову.
Обильно пиршествовали князья. Минуя костры простых дружинников, Всеволожа видела, как в котёл с водой бросалась полная ложка проса, чуть соли с перцем, лишь у иных добавлялась маленькая частица свиного мяса. При мыслях о таком вареве жирный кусок не лез в горло за великокняжеским пиром. Среди приглашённых, особо отличившихся в битве, не именитых дружинников, один встал по завершении пира и тихо сказал товарищу:
- Теперь можно воздержаться от пищи дня на два, на три.
После трапезы и опочива Всеволожа ехала рядом с великим князем. Он сообщил угрюмо:
- Первенец Марьин Юрий недавно предстал пред Богом.
Боярышня поспешила утешить своего государя:
- Прими скорьбь мою и надежду: Марьица вскоре сызнова одарит наследником.
- Марьица! - недовольно изрёк Василиус. - От тебя наследник был бы разумом выше, душой добрее.
Всеволожа поникла.
- Зря напомнил свои глаголы нижегородские. Стыд, и только. Не ввергай в огонь злоязычия. Довольно с меня и Нижнего.
- Чьё злоязычие? - привскочил в седле князь.
- Чьё ничьё, - не назвала боярышня Ивана Можайского. - Наперёд оставим срамные речи.
Василиус замолчал надолго.
Последнее постояние было в селе Стромынь. Евфимия ночевала в тиунском доме, в опрятной хозяйской боковуше.
Утром она впоследни трапезовала с великим князем.
- Дом Всеволожей тебе верну, - обещал Василиус - Зарыдалье тож. Место твоё отныне не вдали от меня, а близ. Матушке накажу, чтоб жаловала. Телом не быть с тобой, так хоть взорами, речью соприкасаться. Так велит душа. Мир в государстве теперь воздвижен, яко неколебимый столп. Твой совет поспособствует уберечь его от внезапных бурь. Виноват я перед Иваном Дмитричем и перед тобой. Поревнуем же обое, дабы Бог меня простил.
- Что будет с Васёнышем? - спросила Всеволожа.
- Головной казни избежит, - помрачнел Василиус - Тесного же заточения клятвопреступник не минует.
- Отпусти брата его Дмитрия Шемяку, - напомнила Евфимия.
- Отпущу при крепком докончании, чтобы по любви, вправду, без хитрости.
Попрощались до вечерней встречи во дворце. Обходительный Василиус препоручил почтительную Всеволожу заботам княжа воина Кожи.
Въезд великокняжеский в столицу был таким, как бы вернулся одолетель над самим царём Ордынским. От малинового звона всех колоколов воистину происходило благорастворение воз духов. Народ приветствовал возлюбенного венценосца. Летели шапки в небеса. Ликующие клики «Слава! Слава!» сливались от подградья до Кремля в сплошной неистовый звук: «Ва-ва-ва-ва-ва!»
Дружина, исполчась, заняла площадь у Пречистой. Новопоставленный митрополит Исидор, грек, только что прибывший из Царьграда, благословил властодержавца и всех воев.
Василий Кожа проводил Евфимию в великокняжеский дворец, где в отведённом для неё покое сенные девки принялись за умывание и переодевание. Всё это счастье навалилось и воспринималось сном, как тот волшебный сон, когда, спустя два века, её, избранную невесту государеву, готовили для обручения. И чувства были те же, и суета, и бестолочь - всё то же.
Когда ввели в Престольную палату, где дядей своим был судим Василиус, она увидела бояр и ближних (комнатных), и путных, собирающих доходы с волостей, и свойственных, кои в родстве с великим князем. Сам же Василиус сидел на троне в золотой шапке и бармах. Близ него были великая княгиня-мать с великою княгинею-женой. Старейший дьяк Беда провозгласил:
- Дочь боярина Иоанна Всеволожа!
Перед Евфимией склонились. Тишайший ропот там и сям был заглушён словами государя:
- Прими, боярышня Евфимия, знак благодарности за верность.
Она приблизилась. Он приколол на повенец искуснейшую диадему в виде звезды с вваянным в золото алмазом.
Далее дьяком оглашались, государем же вручались жалованья и награды князю Можайскому, воеводам Тоболину и Бабе, прочим, отличившимся в успокоенье смуты.
По объявлению пира все пошли в столовую палату. Василиус с великими княгинями - женой и матерью - отправился допрежь в свою Крестовую.
- Идём с нами, Евфимия, - позвала Марья Ярославна.
В Крестовой четверо безмолвно постояли, глядя друг на друга, потом великий князь сказал:
- Отныне прошлому положим дерть и погреб. Что было между нами тёмного - прочь, прочь с дороги! Во имя мира и любви облобызаемтесь!
Витовтовна, покорно поводя мослами под рытым бархатом, чуть дотянулась до склонившейся Евфимии и ошершавила иссохшими губами её щёку. Боярышня при этом не удержалась от грешной мысли: «Как ни вертись, ворона, а спереди карга и сзади карга». Внучка Голтяихи расцеловала соперницу былую в губы.
- Так-то вот! - повеселел Василиус и долее, чем принято не отрывал уст своих от уст боярышни.
- Сын, - подала голос великая княгиня-мать. - Василь Кутузов хочет стать пред твои очи. Я его призадержала ради торжественного часу. У него дурная весть.
Всеволожа от отца слыхала о Кутузе, потомке слуги самого Невского.
- Доколь терпеть дурные вести? - возопил Василиус. - Пусть Фёдорыч войдёт.
Евфимия до лобызания в Крестовой догадалась, что именно сюда их ввёл великий князь, желая, видимо, скрепить меж ними мир и дружбу не только чмоканьем взаимным, но целованием креста, Евангелия, общею молитвой миротворной. Однако это не успел ось из-за сообщенья Софьи Витовтовны.
Вот и Кутузов.
Великие княгини и боярышня вышли в переднюю.
- Дожидайся здесь, роднуша, - обратилась к Всеволоже Софья Витовтовна, как прежде, в добрые их времена. - Тотчас взойдёт сюда Меланьица, моя постельница, она тебя опрянет к пиру.
Софья из Крестовой шла последней и не вполне прикрыла за собою дверь.
Когда свекровь с невесткой удалились, боярышника слуха достигла речь Кутуза пред великим князем.
- Вятчане, коих Косой послал на Ярославль, - рассказывал Василий Фёдорыч, - не дошед до града пятнадцать вёрст, у речки Тунашмы оставили суда и пеши побежали назад, дабы помочь Косому в битве. Не всё. Лишь сорок человек. Да не поспели. Встретили беглых с бою, узнали, что Василья поймали. Побегли за своими взад, вдоль речки Которосли, вниз. А нощь настала. Очутились близ Ярославля на заре. Встречь им - чернец. Сказал: князь Александр Брюхатый в устье Которосли шатром стоит на Волге со всей силою. Вой спят у костров, князь со княгинею - в шатре. В то утро мгла была велика. Вятчане, крадучись, князя с княгиней поймали, в их же суда вметались и отпихнулись на середину Волги. Рать Александра поздно повскакала, начала хватать доспехи. Вятчане же, держа над князем и княгиней топоры и копья, закричали: «Кто из вас стрелит, мы их погубим!» Князь крикнул ярославцам с угличанами, чтоб не стреляли. Посулил вятчанам окуп четыреста рублёв. Все ждали, покуда княж казначей из Ярославля привёз казну. Вятчане её взяли, Александра же с княгинею не отпустили, побегли к Вятке мимо Казани на судех. Брюхатых повезли с собой неволею.
- Злодеи! - прошипел великий князь. - А этот спля кутырь! Расквасил бы его спесивый нос за несторожу! Пошлю на Вятку Горбатого Ивана с Григорием Перхушковым. Пусть свернут шею вольности[9].
- А как прикажешь ныне поступить с Косым? - спросил Кутузов.
Великий князь молчал.
И вдруг Евфимия, ушам не веря, различила плотоядный шёпот:
- Велю очи выняти…
Кутузов выпятился из Крестовой, не заметив Всеволожи, удалился.
Боярышня влетела в молитвенный покой.
- Василиус, похерь свой приговор!
- Ты? - удивился великий князь.
- Я по наказу Софьи Витовтовны ждала Меланьицу. Всё слышала.
Властодержавец, не похожий на недавнего Василиуса, стоя спиной к иконам, молчал.
- Ты не поступишь скоровёрто, - внушала Всеволожа. - Иначе - продолженье смуты. Шемяка не простит. Красный проклянёт. Злодейство не имеет оправданий. Васёныш не давал вятчанам наказа брать Брюхатого за окуп и пленять.
- Не давал, мог дать, - мрачно процедил Василиус. - Не суйся, Евушка, в большие дебри. В них не безопасно.
- Не побоюсь сказать: ты мне солгал! - упорствовала Всеволожа. - Ведь обещал же давеча…
- Не подвергать головной казни, - подсказал Василиус.
- Нож ослепительный чем лучше смертоносного ножа? - дышала возмущеньем Евфимия.
- Не досаждай! Исчезни в женской половине дворца, - сорвался в крик великий князь. - Готовься к пиру, а не к брани.
- Теперь-то ведомо, - боярышня беспомощно сжимала кулаки, - ты и не кто, как ты, сгубил моего батюшку, велев «очи выняти». Доколе? - возопила Всеволожа громким голосом. - Доколе, Владыка Святый и Истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу?
Узнав слова апостольского Откровения, Василиус забыл, что он в Крестовой.
- Вон! - заорал великий князь. - Вон из дворца, змеюга-переветчица!
Евфимия сняла подарок государя - диадему, положила рядом с ним на аналой и по достою вышла из Крестового покоя.
Затем, уже опрометью бежа по переходам, лицом к лицу столкнулась с Меланьицей в сенях княгини-матери, в тех самых, где старица Мастаридия, оборотясь девицей, как вовкулака, пия из Всеволожи силу, встретилась с Властой, Полактией и аммой Гневой. Кабы не они, боярышня сейчас бы не бежала, а лежала в сырой земле.
- Куда ты? - распростёрла руки Меланьица.
- Вон из проклятого дворца, - пыталась Всеволожа отстранить постельницу.
- Молю тебя: не выходи отсюда. Недалеко уйдёшь, - настаивала та.
- Василиус прогнал. Вдрызг раскоторовались, - рвалась Евфимия.
- Государь опамятуется. Стерпи.
Однако же боярышне удалось вырваться. И вот она уже сбегает с красного крыльца. Никто за нею не спешит вдогон. Она уже на площади Великокняжеской. Окстясь, прошла мимо Пречистой. В груди не утихает буря. Когда-то страх было подумать выйти пешей на виду у всех, без провожатых, без карети. Теперь бежит одна… Куда бежит?
Только тут вспомнила, что при пожалованье получила диадему, а не отнятый родовой дом. Забыл похитчик отчины про обещанье иль с умыслом отложил дело?
Выйдя из Кремля в застенье, она почуяла на себе взор. Оглянешься, народ идёт туда-сюда. Забудешься, затылок сверлят чьи-то очи.
На берегу Неглинной, у моста, боярышня остановилась и пропустила мимо чубарого детину, рыжего, как тыква, усы - морковинки, глаза, как будто говорят: «Вот я тебя!» Он тоже стал на полмосту, похоже, что-то выглядел в Неглинке. А что там выглядишь помимо тины и отбросов?
Боярышня прошла. Спустя немного, он - за ней.
Запутали неопытную городскую пешеходку в Занеглименье затыненные улицы. Попала, будто в Тезеушев лабиринт на Крите острове. Дождалась преследователя, рыжика чубарого, спросила:
- Как пройти к Бутову саду? Он, нимало не смутясь, ответил:
- До угла дойдёшь, сверни налево. Упрёшься в Бутов сад.
Истину сказал. Упёрлась. И, уже попав в объятья Богумилы, прежде стука отворившей низкую калитку, увидела под солнцем, в глубине заулка, того же огненного, только со спины. Зачем он шёл за ней? Любезничать не собирался, судя по их кратенькой беседе. Шёл, повернулся и исчез. И неприятно было вспомнить о его усах морковками и далеко не нежных лазоревых очах: «Вот я тебе задам!»…
5
Всё возвратилось на круги своя. Евфимия успокоилась. Она сидела в уютном тереме за столом среди близких душой и сердцем людей. Амма Гнева расспрашивала по-матерински, Андрей Дмитрия ласкал отеческими взорами, Богумила с Яниной внимали, замерев. Особенно же её радовала счастливая чета Кариона с Бонедей, сидящих рядком, как на свадебной каше, и млеющих от взаимной близости.
- Не зрю среди вас Фотиньи, Калисы, Власты, - оглядывала Всеволожа лесных сестёр.
- Полактии, Агафоклии, Генефы, - подсказала Янина.
- Сестричество и не мыслило переселяться из лесных глубин в стольный град. - Амма Гнева положила боярышне тельное к ухе, тесто из рыбной мякоти с приправою, запечённое в виде зайца. - Мы ведь тут без слуг. Сами хозяйствуем, сами служим. Вот сёстры и помогают. Эти затоскуют по лесу, придут другие.
- А я - вот она! - вошла в столовую палату Калиса. - Снадобье сотворила для нашего Аники-воина Кариоши.
Бунко смутился.
- Дрога, прикуси язык! - строго глянула на неё Бонедя.
- Пх!.. Вот так речи, пани Бонэдия! - поперхнулась от удивления Всеволожа.
- Муве трохэ по-росыйски, - зарделась шляхтянка-разбойница.
- Научилась от муженька, - пырскнула Янина.
- Поженились! - плеснула в ладоши боярышня.
- Не повенчались, - вздохнула амма Гнева. - Не хочет Бонедя принимать нашу веру.
- Ах, Акилина Гавриловна, перестаньте, - взмолилась полячка.
Евфимия поспешила переменить беседу:
- Что с тобой стряслось, Карион? Зачем снадобье?
- Не хотели с Бонедей тебя расстраивать, Евфимия Ивановна, - признался Бунко. - Ранен я. Второй год лечусь. Кажется, пошёл на поправку.
- Ранен? Где? - ополошилась боярышня.
- Помнишь, из Падуна отпустил нас с Калисой Василиус по твоей заступе с малою обережью? Мы были уже под Нивнами, когда внезапь напали шиши. Не смотри, что злодеи: все железом одеяны, были среди них меднощитники, копьеносцы, железострельники.
- Что есть железострельники? - спросила Всеволожа.
- Железно лучництфо, - пояснила Бонедя. - Счшэла деревянна, кончик железен.
- Именуется жёлезница, - продолжил Бунко. - Вот и угодили мне этою железницею под левую пазуху. Обережь перебили. Меня принесли, Калису же привели к своему атаману Взметню. Стал Взметень спрашивать: кто, откуда? Я в полу беспамятстве помянул боярышню Всеволожу. И - вот удача! - атаман обнял меня, как родного. Сам назвался Ядрейкой, твоим конюшим.
- Ядрейко! - вспомнила Евфимия.
- Взметень, - уточнил Бунко. - Нас разбойнички отпустили, да ещё с провожатыми. С тех пор Калиса пользует меня снадобьем на то место, где уязвило железце стрельное. Важную жилу зацепила стрела. Рука уже повинуется, однако пока с трудом.
- Что с Гориславой? - прервал рассказ Андрей Дмитрия.
- Пора уж ей быть, - заметила амма Гнева. Льнокудрая смуглянка Горислава встретилась Всеволоже сразу же у привратной кельицы, где вернувшаяся к Мамонам похищенница расцеловывалась с Богумилой. «У меня с утра губы зудят - к поцелуям!» - прижалась к ней в свою очередь Горислава, готовая тотчас исчезнуть. «Надолго ли и куда?» - успела спросить Евфимия. «Боярин послал к железнику. Тут недалече. Его торговое место в рукавичном ряду на проулке. С горы идучи, от шёлкового ряду к железному по левой стороне», - подробно объяснила Горислава. Евфимия обратила внимание на голые руки лесной сестрицы. Понадеялась торопыга на майское солнце и близкий путь. Выскочила в летнике, хоть и теплом, да с рукавами по локоть. А у Евфимьиной телогреи рукава до подола, а подол подшит мехом. Всеволожа успела накинуть на деву свою верхнюю сряду. «Ой, зачем же?» - воспротивилась та. «Май нынче с зимой поручкался, - застегнула на ней Евфимия все тридцать пуговиц телогреи. - Мы с тобою - рост в рост, худоба в худобу». Горислава вышла из ворот - истая боярышня!
Потом за поцеловками Всеволожа не думала о ней. Долго не высвобождала пестунью из материнских объятий Акилина Гавриловна. «На поцелуи, что на побои, - ни весу, ни меры», - приговаривала она. С пани Бонэдией лобызание происходило по-польски: «в плеча». За бурной встречею - жаркая баня, обильная задушевная трапеза, опросы да расспросы… И вот - Гориславы до сих пор нет.
- Ктура годзина? - спросила пани Бонедя.
- Пятнадцатый час, - определил Андрей Дмитрич по песочным часам.
- Скоро станет вечораться, - вздохнула Калиса.
- Ушла пшэт полуднем, - сказала Бонедя.
- Куда ты её послал? - сердито глянула Акилина Гавриловна на боярина.
- Почитай что рядом, - оправдывался Андрей Дмитрия. - К железнику Микулке Овдееву. Торгует железьем-ветошью. Большой мастер! Работает мелкие железные и медные вещи холодною ковкою, чеканкою, сверлом, напилком. Чужой замок отомкнёт, а ему ещё кланяются. Мне отменное аргалие изготовил, кровопустное железце. Я ему заказал лезвие для чукрея, тонкого ножа, вятское, ценой два алтына, две деньги.
- Далось тебе это лезвие! - ворчала Акилина Гавриловна.
Бунко молча встал и вышел.
- А вы преобразились на Москве, не то что у себя в лесу, - с восхищением оглядела прибранные головки лесных сестёр Всеволожа, пытаясь придать застольной беседе более приятное направление.
- И причёсаны, и наряжены! - вскочила из-за стола Янина, повернулась, как на смотринах, лебёдушкой.
- Это всё она, - кивнула на Бонедю Калиса.
- Ты лекаш, а я кравец, фрызьер, - попыталась улыбнуться грустная полячка. Ей стало одиноко по уходе Бунко.
- Что такое фрызьер и кравец? - не поняла Евфимия.
- Она говорит, Калиса - лечец, а себя называет портнихой да ещё и причёсницей, - перевела Янина. - Так оно и есть.
- Ой, не могу! - не находила себе места амма Гнева.
- Муси пани трохэ почэкаць, - произнесла Бонедя.
- Да говори же по-русски, - рассердилась боярыня.
- Она просит немного подождать, - сказала за подругу Янина.
Богумила с Калисой стали убирать со стола.
Ушла и Акилина Гавриловна, волею неприятного случая превратившись из волшебницы аммы Гневы в расстроенную Мамоншу.
Андрей Дмитрия погрузился в глубокие мысли, выводя незримые знаки ногтем на скатерти.
- Гориславка вот-вот вернётся. Выше носы! - принесла Калиса взвар и заедки.
Вошёл пасмурный Карион.
- Беда, - сообщил он с порога. - Был у железника Микулки Овдеева. Горислава не являлась к нему. Никто её ни в рукавичном, ни в шёлковом, ни в железном рядах не видел.
Амма Гнева слушала, застыв в противоположной двери. Потом заявила:
- Плохо. Смотрела по зернию и по книгам. С девчонкой плохо.
- Дёрнуло же послать её! - всплеснул руками Мамон.
- Дёрнуло облачить её в мою телогрею! - спохватилась Евфимия.
- Шшшто? - не поняла амма Гнева.
- Она свою тёплую сряду на её летник накинула, - объяснила свидетельница Богумила. - А что дурного?
- Дурное может быть вот что, - опустила голову Всеволожа. - За мной от великокняжеского дворца до Бутова сада увязался соглядатай не соглядатай, не знаю кто. С речами не приставал. Спросила путь, указал. Вошла в ворота, он повернул назад. Человек, мне не ведомый. Рыж, как тыква, усы морковками, очи злы.
- Вылитый Ростопча, истопник Марьи Ярославны, молодой великой княгини, - определила по описанию Мамонша. - Скверный человек.
- Он ли повредил Гориславе? - усомнилась Евфимия. - Видел меня вблизи. Не мог обознаться.
- Мыслишь, девоньку выкрал? - очнулся от глубоких дум Андрей Дмитрия.
- Не заметила ли с ним спутников? - спросила боярышню Акилина Гавриловна.
Евфимия покачала головой.
- Сам Ростопча не ввязнет в крадву, - размышляла Мамонша. - Укажет похитчикам издали. А издали вы с Гориславой схожи. И сряда та же… Богумила, - вскинула она взор на невзрачную деву чернавку. - Где в Кремле Житничный двор, тебе ведомо? - Та затрясла удивлённым личиком. - У церкви Рождества Иоанна Предтечи - хоромы Софьи Витовтовны, - стала объяснять амма Гнева. - С другой стороны храма - бывший двор митрополита Петра. Там теперь проживает правнук Гедемина, князь Юрий Патрикеевич На-римантов. Его в Кремле каждая собака знает. Самый ближний государю боярин! Ты спустись ниже, к Подолу. Первый из по дольных дворов - Житничный. Тщательно погляди: не там ли наша похищенница?
Богумила вышла из-за стола и с опущенной головой покинула Столовую палату.
- Нет у меня внятельного разумения твоих мыслей, - взглянула Всеволожа на амму Гневу.
- Ток моих мыслей прост, - пояснила та. - Из того, что от тебя слышала, заключаю: Литовтовне, как ты именуешь Софью, мир твой с Василиусом и нынешняя близость к нему ой-ой не по нраву! Ссора ваша ею подстроена весьма тонко. Осталось лапы на тебя наложить. У Ростопчи были спутники, не примеченные тобой. Не пешие, а в карети. Тебя с пути не взяли по многолюдству на улицах. В полуденное же время улицы, почитай, пусты. Вот Горислава и оказалась впору. Дай Бог, чтоб быстро выявилась ошибка.
- Зачем Богумиле Житничный двор? - не понимала Янина.
- Этот двор - отцовское наследство Василиуса - мать забрала и построила на нём житницы, - продолжила объяснения амма Гнева. - А под житницами-то погреб. А в погребе-то тюрьма. Личное, никому не подведомственное узилище великой княгини. Там уготовано было место нашей боярышне неведомо для чего и надолго ли. Если вместо неё попала под житницы Горислава, удастся ли ей поздорову выйти?
Все терпеливо ждали возвращения Богумилы.
- Никак не проникнет она туда, - беспокоилась Всеволожа.
- Ей не надобно проникать, - молвила Янина. Евфимия тут же сообразила: очам лесной ведалицы ни камень, ни дерево не преграда.
Все пребывали в неиспокое. А время шло…
Допили взвар. Калиса убрала со стола. Девы стали расходиться.
Дольше других в столовой палате оставались Всеволожа с Мамонами.
- Хоть бы поспела наша всевидица, пока поставят в Кремле рогатки, - вздыхал Андрей Дмитрия.
- Надобно исправлять ошибку. Мне, только мне! - поднялась Евфимия.
- Не бери в голову, - возразила Мамонша. - С Гориславой могла приключиться беда полегче каменного мешка. Может, она не там?
В дверях прозвучал голос Богумилы:
- Она там.
Следом вошла Калиса. Домашние собрались, кроме Янины, Бонеди и Кариона.
- Под Житничными палатами, - стала рассказывать Богумила, - ещё двухпрясельные палаты длиною с небольшим семь аршин и шириной такие же, а высотой четыре аршина. Примерно говорю, не взыщите. Туда ведёт белокаменная лестница, с коей верхняя палата соединяется узким проходом. А нижняя с верхней - лишь небольшим отверстием, только пролезть человеку. И там ещё тёсаный белый камень. Стенки и посредине, и сбоку по впадине. Так что в нижней палате как бы два каменных мешка, глубиною до трёх сажен. В них и ходу-то нет. Туда опускают сверху. В одном из этих мешков - наша Горислава.
- Она задохнётся там! - испугалась Калиса.
- В верхней и нижней палатах сделаны по две щечевых продушины для притоку воздуха, - успокоила Богумила.
Из двери поманил пальцем Карион:
- Идемте-ка, бабоньки. И ты, Андрей Дмитрия… Все спустились из хозяйского верха в поварню. Увидели там Янину с Бонедей. На лавке стояла лохань со свечой, полная воды. Евфимия вспомнила, как кудесничала Янина по просьбе племяшки Усти о женихе и увидела Васёныша в Набережных сенях над телом старика Морозова. Сейчас, очевидно, происходили те же кудеса.
- Прошэ замыкаць джви, - попросила Бонедя вошедших прикрыть за собою дверь.
- Нашла Гориславин платчик, - прошептала Янина в ответ на вопросительный взгляд аммы Гневы.
Все подошли к лохани.
- Прошэ заховаць цишэ, - попросила Бонедя соблюдать тишину.
Янина, склонясь над водой, зашептала на ляховиц-ком языке заклинания…
Вот обмакнула персты… Вот бросила в воду платчик Гориславы… Вот вода окровавилась… Вот Янина зажгла свечу… И вновь Евфимию поразил запах свежей крови. Ужли убивают Гориславу? Нет…
- Боже, она в застенке! - прошептала в ужасе амма Гнева.
- Ставят на огненную сковороду, - разглядывала воду Янина, - забивают щепы под ногти, подвесили, режут ноги…
- Хуже татар! - в бессильной ярости воскликнул Бунко.
- Шшш! Не спугните воду, - попросила Янина.
- Почему лик страдалицы так спокоен? Не кричит, даже не размыкает уст, - удивилась Евфимия.
- Горислава не чует боли, - напомнила амма Гнева.
И тут Всеволожа разглядела за истязуемой ещё одну жертву, чуть одаль висящую, нагую по пояс.
- Ещё кого-то привели к пытке, - задыхалась страхом Калиса.
- О-о-о! - в голос закричала Евфимия. - Не может, не может, не может такого статься! - и опрометью бросилась из поварни.
В глубине сада нагнал её Карион.
- Что стряслось, Евфимия Ивановна? Что с тобой?
- Я узнала. Она… она… - захлёбывалась словами боярышня. - Это Платонида!
- Кто? - допытывался бывший кремлёвский страж.
- Та… вторая… на виске… - Евфимия заходилась в рыданиях. - Мамушка Латушка!
- Как же? Как же? - морщил лоб Бунко. - Я-то и не признал нашу хозяйку избы в Падуне. За что же её?
- Кариоша! - бросилась ему на грудь Всеволожа. - Руки на себя наложу, ежели немедля не отведёшь туда.
К ним подходила Акилина Гавриловна.
- Просит к Житничному двору свести, - растерянно объявил Бунко.
- Что ты хочешь? - испугалась Мамонша.
- Хочу всё исправить, - уже спокойно заявила Евфимия. - Гориславу пытают вместо меня. Безвинно страдает другая женщина, сделавшая мне много добра и в сей жизни, и в предыдущей. Пытчик Василь Фёдорыч Кутуз не заприметил меня у великого князя и теперь обмишулился. Вот приду и скажу об этом.
- Даже не бери в голову! - заломила руки Мамонша.
Евфимия обняла её.
- Моё решение несовратно.
При этом известии суета поднялась в тихом тереме эутова сада. Все Евфимию отговаривали, но тщетно. Запоминали, что Горислава боли не чует. Всеволожа отмахивалась: боли не причинят, а изувечат, как пить дать! Угроза её собственной жизни не остановила боярышню. В конце концов Карион открыл, что надзирает Житничный двор Осей. Он когда-то подвёл Всеволоже коня при её бегстве из дому. Он, едва не убив, сам же спас своего начальника Кариона в бою под Галичем. Короче, тот самый Осей. Теперь среди кремлёвских охранышей - крупный прыщ! Не поможет ли он чем-нибудь? На душе у всех несколько полегчало…
С утра у привратной кельицы зачмокали поцелбвки, как накануне, однако не со смехом, а с плачем.
- Неотступно стану за тебя Бога молить и пред сильными мира ходатайствовать, - обещала Акилина Гавриловна. - Возопию к Феодосию, архимандриту, духовнику великой княгини…
- Главное, - прервала её Всеволожа, - самое первое сделай: пошли в Галич к князю Дмитрию Юрьичу Красному. Пусть всё ведает.
6
Едва Евфимия с Карионом добрались до Житнично-го двора, начались ожидания. Ждали у железных ворот, пока на позов Бунко кликнули Осея. Клик этот охраныши передавали один другому, поэтому дозвались нескоро. Важный Осей, обрюзгший, обвислый, вовсе не походил на того подтянутого, молодцеватого, что подводил Евфимии лошадь у Фроловских врат. При виде бывшего своего начальника он улыбнулся изо всех сил и с той же натугой смягчился неприятный скрипучий голос. Потом боярышне пришлось ждать в самих Житничных палатах у тяжёлой двери, за коей Бунко и Осей беседовали. Когда Карион ввёл спутницу, разговор продолжился:
- Ну?
- Вижу, что она. Только признал не вдруг. Времени-то прошло! А нашу вязницу Всеволожей назвали, не отрицалась.
- Тихо надо сделать подмену. Иначе не жить вашей вязнице.
- Само собой тихо. Я тебе верю.
- Себе не веришь?
- И себе верю.
Осей извлёк из ларя могучую связку стальных ключей. Уходил вразвалку, видимо, на больных ногах.
- Сейчас он сам выведет Гориславу, дабы никто не видел, - объяснил Карион. - Охти, Евфимия Ивановна! - присовокупил он с досадой. - На что обрекаешь себя?
Боярышня сплела пальцы.
- Ужли на то же должна обречь постороннюю к сим делам Гориславу?
Бунко уронил голову на грудь.
Осей не ввёл, а втащил девицу. Что осталось от льнокудрой смуглянки? Одного нощеденства не прошло - превратилась в тень.
При виде Кариона с Евфимией она лишь глазами выразила величайшую радость.
- Найму для неё кареть, - произнёс Бунко, уходя.
- Пожду за дверью, а вы поменяйтесь срядой, - велел Осей.
Евфимия с Гориславой остались наедине.
- В какой ад они ввергли тебя! - возмутилась боярышня.
- Посадили в каменную блошницу, - едва отвечала лесная дева.
- Пытки были ужасные! - осторожно снимала Всеволожа с неё издирки, в кои облекалась сама. Горислава же с её помощью влезала в боярышнину одежду.
- Болей не чуяла, - вымолвила она. - Теперь ног не чую. - И успокоила: - Калиса поставит на ноги.
- Ради чего приняла на себя моё имя? - выговаривала Евфимия.
- Ради тебя, - пролепетала смуглянка. - Ты бы не выдержала. Знакомка твоя именем Платонида покинула бренную плоть. Замучили!
- Платонида? - воскликнула Всеволожа. - Её больше нет? О, мамушка Латушка!
Горислава, попригожу опрянутая, сидела на лавке, опустив голову.
- Чего допытывались? - спросила Евфимия.
- Пытали… как в Нижнем Новгороде… ты улещала великого князя отправить молодую великую княгиню под клобук, а с тобой пойти под венец, - с трудом закончила Горислава слишком длинное для неё сообщение.
- Экий вздор! - возмутилась боярышня. Вошли Осей с Карионом.
- Бог тебе в помощь, Евфимия Ивановна, - с тоской глянул на Всеволожу Бунко и повлёк Гориславу с Житничного двора.
- Следуй за мной, голуба душа, - пригласил Осей, громыхнув ключами.
Пройдя по длинному переходу, темничник ввёл новую узницу в большую палату. Она располагалась не под землёю, ибо вниз не спускались. По одной стороне зияли светмо оконца малые, сводчатые, оплетённые крест-накрест. Евфимия не заметила крупной железной клетки посреди палаты. Из противоположной двери в это самое время вывели под руки человека, двигавшего ногами как бы во сне. Голова свешена, волосы пали на лицо. Платье же по плечам и на груди окровавлено и изодрано. Проходя мимо Всеволожи, он внезапь вскинул голову, резко рванулся из рук темничников. Один из них прикрикнул от неожиданности:
- Но, но, но!
В первый миг Евфимия узнала Васёныша. В следующий же миг, когда он тряхнул головою вбок и волосы разлетелись обочь лица, она узрела две пустые глазницы, две ямы, из коих до дна выскоблена жизнь.
- Батюшка! - крикнула Всеволожа не своим голосом и лишилась чувств…
Пришла в себя в тесной клетке. Ни встать, ни лечь. Сиди, съёжившись.
- Отверзла зеницы нещечко, моё сокровище, - заворковал деревянный голос, напомнив давнее блуждание во дворце перед судом над Василиусом, цепкую незнакомку под белой понкой, впоследствии оказавшуюся вовкулакой Мастридией.
Перед клеткой взабыль стояли две сгорбленные старухи. Разглядывали её, аки зверя диковинного.
- Она! Вся, как есть, она. Чего зря болтать? - изрекла удоволенно Софья Витовтовна. - Кутузов меня переполошил: сам её не помнит, а Ростопча голову даёт наотрез - не она! Ох, этот Ростопча! Сорву с дурной головы рыжий чуб собственными руками.
- Отвори клеть, - попросила Мастридия. - Дай с ней поручкаюсь. Молодая! Сочная!
- Погоди, - окоротила Витовтовна. - Мне она ещё живою потребна. Будет увядать медленно, доколь не признается в лестливых чарах против своего государя. А я ежедень стану посещать её, наблюдать, как уходит из тела жизнь. Дьяк Беда поведал о нынешнем франкском короле Людвиге. Наивящих своих врагов заключил он в клетки. Еженощь навещает их[10]. Ты воткнёшь зерно в землю и глядишь то и дело, как росток набирает силу. Людвиг же наблюдает противное: приход смерти за шагом шаг. Уж до того занятно!
- Молчит! - скучнела Мастридия, не спуская глаз с Всеволожи.
- Говори! - приказала Софья Витовтовна. - Каким зельем улестила моего сына в Нижнем, что не может выкинуть тебя из головы, а?
Узница не проронила ни слова.
- Кутузов почёл её ведьмой, - поделилась великая княгиня со своею наперсницей. - Голень резали, стопу жгли - ни звука! Она боли не чует.
- Ишь ты! - удивилась Мастридия.
- Оттого я велела изготовить для неё клетку, - гордая выдумкой, сообщила Софья. - Ни катов не надобно, ни трудов. Муки зачинаются изнутри, растут сами по себе. Поглядим, потерпим!
- Приспешница-то её издохла враз, эта будет отходить медленно, - рассудила Мастридия.
- Станешь ли говорить? - обратилась Витовтовна к Всеволоже.
Евфимия не разомкнула уст. «Горислава молчала, и это её спасло», - заключила она, всем упорством преодолевая желание высказать прегнуснодейной старухе всё, чем больна душа.
Посетительницы, потоптавшись ещё, ушли, злобствуя и ворча.
Очень скоро заточница ощутила мучительность злого замысла. В отличие от помещённых в клетки зверей ей не давали ни пищи, ни питья. Не выводили по нуждам, не предоставляли посуды.
Пустая палата потонула в ночи, сызнова вплыла в день. Не появлялся никто.
Кажется, повечер ОНИ вновь возникли. Мастридия на сей раз опиралась на клюку.
- Дух от неё - ой-ёй-ёюшки! - проскрипела она.
- Ну! - воззвала Витовтовна. - Выверни душу наизнанку. Дьяка позову, всё запишет.
Всеволожа молчала.
Мастридия сквозь прутья просунула клюку, ткнула в бедро. Пришлось отползти. Однако старуха обошла клетку и ткнула сызнова.
- Прекрати, - попросила Софья. - У катов железа пострашней твоего, и то пользы не было. Время сделает своё дело.
Старуха не унималась, гоняла заключённую в клетке, как зверя, из угла в угол.
- Пардусиха! - восхищалась Мастридия.
- Не пардусиха, а змея подколодная. Тьфу! - отвернулась Софья.
Наконец дождалась страдалица их ухода.
Голод её не мучил. Мучили тошнота и слабость. Встряхнуться, собраться с силами не было никакой возможности. Лежала, скрючившись, неволею покорялась сну.
Воспоследовали новые посещения наблюдательниц её мук. Но глумливые посетительницы уже почти не ранили глаз и ушей заточницы. Какие б рожи ни строили, что бы ни изрекали, ей было всё едино. Болели лишь те части тела, куда попадала клюка Мастридии. Однажды достигли слуха обеспокоенные глаголы Софьи Витовтовны:
- Надо что-то переменять. Она окоченеет в безмолвии.
- Травку знаю, - вкрадчиво предложила Мастридия. - Выпьет - всё, что спрятано в душе, выложит, как на блюде.
- Тьфу, твоя травка! - не обрадовалась великая княгиня. - Хочу слышать от этой твари не то, что у ней в душе, а то, что у меня в голове.
Удалились шаркающие шаги, и вновь свело с ума одиночество. Нет руки вызволения, нет пособа отсюда вырваться. Стало быть, тщетны старания аммы Гневы, бессильна заступа Дмитрия Красного. Василиус или неведок случившегося, или же соучастник тайный. Осей боится подойти с крохой хлеба, с глотком воды, за ним не иначе глаз да глаз.
Всеволоже вспомнилась курица. В Зарыдалье в пладенный час Пеструшка увязла по брюхо в навозной жиже. Нет бы барахтаться, крылышками махать, лапки вызволять. Застыла, бедная, уронила гребень. Ещё живая, а уже мёртвая. Евфимия в такой клетке, где крыльями не взмахнёшь, ног не распрямишь. Курица, да и только!
В очередное из утр дверь заскрежетала. Ужли опять старухи? Нет, не они. Всеволожа таращит очи. Вежды хоть перстами раздвигай - шире, шире… Нет, лгут глаза. Сон представляется явью. В палату вошли Василиус с Дмитрием Красным.
- Что я говорил? - возопил младший Юрьич.
- Вижу и не уверую, - мрачно молвил великий князь.
- Или ты не знал, господине, кто твоим именем в катские руки отдан? - вопросил Дмитрий Красный.
- Знал, брат, знал, - признался Василиус - Государыня матушка сказывала, будто бы Всеволожа… она… икону Богоматери похитила, что я из Галича вывез, когда изгнал оттуда твоего батюшку.
- Вольно было тебе святотатствовать, - упрекнул Дмитрий за давешнее. - Икона ещё при Донском явилась боярину Ивану Овину. В честь её храм сооружён, монастырь переименован Успенским.
- Икона исчезла из собора Пречистой, - пасмурно сообщил Василиус. - Матушкин духовник архимандрит Феодосии допускает, будто боярышня могла взять святыню, отдать Ваське Косому при их сретении в Новгороде Великом. Ну а тот отвёз в Галич. Вот и наряжено было разбирательство. Доиск как доиск.
- Эх, господине! - шумно выдохнул младший Юрьич. - Ты взгляни на нашу спасительницу в недавней битве. Это ли беспристрастный доиск? А духовника твоя матушка, видимо, по себе искала. Икона, как объявил наш преподобный игумен Паисий, едва оказалась на Москве, в ту же ночь неведомой силою явилась на прежнем месте, в галицком монастыре, в своём храме. Я готов просить преподобного: Паисий привезёт тебе список святыни, лишь покровительствуй нашей Успенской обители.
- Попроси, брате, попроси, - обрадовался Василиус - Встретим с колокольным звоном и крестным ходом. Отпустим с грамотой о всяческом бережении галицкого монастыря.
- Добро, господине, - согласился Дмитрий. - Перейдём же от мытарств высших к мытарствам низменным. Дозволь немедля доставить страдалицу в покойное место, где ей обеспечат уход и помощь.
- Ты ведаешь сие место, брат? - голос великого князя сменился к худшему.
- Не твой же дворец! - не сдержал упрёка Дмитрий Юрьич.
Властодержец подошёл к клетке.
- Слышишь ли меня, Евушка? Видишь ли? Открой очи, скажи слово, дай пасть к ногам.
- Оставь её, господине, - попросил Красный. - Боярышня больна, нас не чует.
Когда они уходили, Всеволожа расслышала вопрос Красного и ответ Василиуса:
- Где старший брат мой? Где средний?
- Косой выслан под Москву. Слепого обихаживает княжна Устинья. Кстати, нашей Всеволожи племяшка. Шемяка выпущен из тесного заточения, выехал из Коломны.
Когда младший Юрьич вернулся с челядью и вязницу стали извлекать из узилища, она сызнова потеряла память. Не от беды или радости - от стыда. До смерти стыд объял, что в таком непотребном виде судила судьба попасть на руки Дмитрия Красного.
Очнулась щекой на его плече. Кареть цлавно ехала по Подольной улице, в Водяные или Чешковые ворота, дальше, дальше от Житничного двора…
- Евфимия! - просветлел прекрасный лик Дмитрия, увидевшего, как она открыла глаза.
Ошиблась когда-то матушка его Анастасия Юрьевна, проча Всеволожу за своего старшенького. Ей по сердцу младшенький.
- Евфимия! - ещё ласковее промолвил он. Всеволожа коснулась губами поддерживающей её руки.
Книга вторая. Простить - не забыть.
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
Дело было под Белёвом. Невеста неневестная. Праведник умирает дважды. Хлебный дождь. «Днесь великий князь торжествует!» Двенадцать воистых дев.
1
На сей раз спасённая узница долго оправлялась от пережитого. Приютилась в одной из ложен Шемякина двора, поскольку младший Юрьич не имел собственного в Кремле. Двор этот находился между митрополичьим и Владимира Андреевича Храброго, где до замужества жила Марья Ярославна. Совсем рядом - две церкви, Николы Льняного и Рождества Пречистыя Богородицы на Трубе. Из первой по позову Дмитрия Красного навещал Всеволожу священник, служа заздравный молебен. Сослуживал ему княж дьякон Дементеи, что был вместо дядьки при Дмитрии, «ближним сберегателем». К Евфимии относился настороженно, как к случайной особе. «Изревновался!» - отзывалась о нём сенная девушка боярышни Раина, присланная Акилиной Гавриловной. В Нивнах Евфимия знала её среди тех немногих, что ничего ещё не умеют, учатся. Амма подобрала Раину на паперти московского храма. Отец девушки, хлебопашец, был вынужден пойти «в бдерень», то есть в вечную кабалу, к рязанскому вотчиннику, ибо подпала лесному пожару его собина и сгорела дотла. Не желая становиться холопкой, Раина сбежала в Москву, нищебродствовала в обществе попрошаек и оборванцев. Коноплястая, кропотливая и урядливая, она сразу же приглянулась боярышне простотой и искренностью. Дмитрий Красный терпел её. Не захотел отвезти боярышню в дом Мамонов, не доверял им после слухов о гибели своего отца князя Юрия, но не мог воспротивиться заботе Акилины Гавриловны о бывшей пестунье. Этой заботой и стала незаметная, приглядчивая Раина. Докучала она боярышне лишь одним: «привидениями»! Нет-нет да и выскажется: «У меня было привидение!» То есть ей привиделось нечто, чаще всего дурное. По рассказам Раины такой дар ещё в жилище ведьм обнаружился у неё после нескольких лет «тайного делания». Однажды заявила Агафоклии, будто та лишится перста. Место-блюстительница аммы Гневы и в самом деле вскоре потеряла левый мизинец, колючи дрова. Когда же Раина объявила, что все сёстры лесные в огне сгорят, девы запретили ей вести речи о «привидениях». Евфимия же терпела «несообразные несуразности». Однажды о дьяконе Дементее вещунья молвила: «Предаст тебя для невиданной казни!» Боярышня отмахнулась и позабыла об этом. Когда же о Дмитрии Красном услышала «не жилец», рассердилась: «С чего ты взяла, дуравка? Князь свеж, как летнее яблоко!» - «Ах, - сокрушалась лесная дева, - розов-то розов, а белизной пугает». Ну что с выдумщицей делать? Однако стоило Раине поведать об очередном «привидении» - «Здесь, в Шемякином доме, свершится зло: великому князю изымут очи!» - Всеволожа разгневалась так, что седмицу не разговаривала с девицей.
Осенью Красный отвёз Всеволожу в Галич. По его мнению, в Кремле стало небезопасно. Василиус требовал передать боярышню в дом Юрия Патрикеича Наримантова. Старик-де отведёт пересуды, вызванные пребыванием незамужней у неженатого. Марья же Васильевна, жена воеводы, сестра великого князя, обиходит больную.
Евфимия разделяла опасения Красного: Юрий Патрикеич, её костромской соратник, слишком близок с великим князем, а стало быть, и с самой Витовтовной.
И вот по раннему снегу заскользил обшитый шкурами каптан. Боярышня не смогла бросить прощальный взор на Москву, ибо уезжали по темноте. Как выразился дьякон Дементей: «Ночию исшед тайно».
Галицкий княж дворец напоминал костромской. Те же здатели возводили для тех же князей. Возраст теремов почти схож. Брёвна желты, смолой пахнут. В слюдяном оконце одрины так же блестит река, чуть покажется солнце.
Шемяка, недавний заточенник коломенский, посетил её сразу же по приезде. Он в Галиче собирал остатки своей дружины после разгрома Косого. Взошёл один. Не поздравствовался. Произнёс с укором:
- Ну, Фишка! За преданного тобой Васёныша совесть не гложет?
Евфимия не привыкла соучаствовать в злых речах.
- Поди прочь! Шемяка ушёл.
Красный вечером объяснился за него:
- Отжени обиду! Косой - брат нам с Дмитрием.
Тоскуем по ослеплённом. Даже навестить нельзя. Митя же зол после Костромы. Братнюю боль на тебе сорвал. Свару затевает. Мутник!
За общей вечерей Шемяка первый обратил речь к Евфимии:
- Винюсь за давешний приход. Впредь буду поучливее.
При боярышнином безмолвии Красный произнёс:
- Вот и помирились!
В звоне посуды, серебряных лжиц и вилиц явственно услышалась воркотня Шемяки:
- В кого слепая любовь вселится, того охромит или ослепит…
Позже Всеволожа уразумела подоплёку высказанной пословицы.
Раина принесла переодеванье ко сну и таимно поведала:
- Князья, совершив молитву, сварились в крестовой. Я, проходя, услышала. Старший говорил младшему: «Восприми мужество, отверзи от себя ласкания этой жены и любление с нею». А младший старшему: «Брат, мы не прилучники, мы возлюбленники. Я несовратно женюсь на ней. Да будет женитва наша светла, несовместна ни с какой скверной».
- Подслушивала? - возмутилась Евфимия. Раина поникла белобрысой головкой. Боярышня позабыла бранить её. Сказала, сладко дыша: - Стало быть, замужество? - и тотчас попросила: - Подай охабень вишнёвый.
- Чесотка да таперичи! - опрометью бросилась исполнять Раина.
О чём ни проси её, слышишь бойкий ответ: «Чесотка да таперичи!» Что означало: «Выполню немедля!»
Лучшая сряда пришлась ко времени. В одрину испросил дозволения войти Дмитрий Красный. На нём - бархатная ферязь нарядная. В руках - драгоценное подаренье: колтки золотые с яхонтами.
- Без сватов сватаюсь, Евфимия Ивановна, - не обинуясь, промолвил князь. - Поди за меня. Прими в знак согласия вещицу на память.
Зардевшаяся Евфимия надела колтки. Оба стояли молча.
- Не извлеку слов из разума, - смутился Дмитрий Юрьич. - Кто сух да горяч, у того речь развязнее. Я ж, наверное, мягок, холоден. Уста на замке.
- Читала у римлянина Луцида, - тихо молвила Всеволожа. - Который человек сухого и горячего естества, тот и дерз, и храбр, и любит всякие жёны, непостоянен… А ты иной.
- Дозволь облобызать тебя, невеста моя? - попросил Дмитрий Юрьич.
Евфимия подошла. Молодой князь робко и коротко прикоснулся к её устам. Ответ был долог. В нём как бы захватывалось, втягивалось, поглощалось накопленное большое чувство.
- О! - простонал Дмитрий. - Сколь люболюбна ты!
Оторвавшаяся от его губ боярышня прошептала:
- Любимик мой!
Дмитрий подхватил её на руки, возложил на одр, покрыл лик несвычно для самого смелыми поцелуями. Вишнёвый охабень расстегнулся. Евфимия ощутила тело Дмитрия.
- Как ты вздражлив!
- Первая моя, - лепетал он. - Единственная!
- И ты мой первый, единственный, - отвечала она.
- Страшишься ли? - спросил он. Евфимия призналась:
- Страшусь.
Князь оторвался от неё, сел на одре.
- Я… девая, - как бы оправдывалась она.
И тоже села, обняла Дмитрия, прижалась к нему. Он ласково отстранился:
- Читывал в одном из святых житий: «Прикасающиеся телеси умом любодействуют!»
Оба, задыхаясь, молчали, крепко-накрепко держась за руки.
- Василиус тебе не был люб? - спросил князь. Боярышня затрясла головой.
- И старший брат мой хоть вот настолько?
- Васёныш? - Евфимия отпрянула в ужасе.
- Прости, деволюбственная, прости ревность мою, - встал Дмитрий Юрьич с одра и поднял свою любаву. - Заварить бы кашу, не мешкая, да противится лютая судьба.
- Какая судьба? - оправила платье Евфимия.
- Вестило нынче приспел от Василия из Москвы: Улу-Махмет, сверженный в Орде, крепко сел в литовском городке Белёве на нашей границе. Великий князь никак не может смириться с этим, нудит меня и брата возглавить дружины, прогнать бывшего царя.
- О! - надломился голос Евфимии. - Сызнова одиночество? До коих же пор!
- Малый поход, - успокоил Красный. - Вместе вернёмся, сыграем свадьбу.
- Вместе? - обрадовалась Всеволожа.
- Оставлю ли тебя, солнце моё? - обнял её князь. - Ежедень буду трепетать, коль оставлю. Только в силах ли ты разделить со мной трудности? - спохватился он.
- В силах, в силах! - сжала его руки Евфимия. - Однако что брат твой скажет?
- Тут брат не указ, - отвечал Дмитрий Юрьич. - Станет он тебе деверем, Софья же его - свойственницей.
2
- Ох, ясынька! Отдыхать бы мне в тереме на высоких перинах, а приходится странствовать. Я ведь тяжела! - сетовала, сидючи перед Всеволожей, Шемякина княгиня Софья, бывшая княжна Заозёрская.
На другой день после памятного сватовства Дмитрия она явилась из Заозерья, где гостевала у батюшки, и Шемяка за первой же общей трапезой объявил: «Коли ты, брат, невесту с собой берёшь, мне грешно покидать жену. Тоже возьму с собой». Никакие отговоры не помогли. Софья излила море слёз, и опять же втуне... «Женский род любезен, но слёзолюбив», - утёр ей очи суровый муж. Он был крайне раздражён решением младшего брата взять в поход Всеволожу.
Она отправилась в путь не верхом, как было бы любо, а в каптане. И всё из-за Софьи, ворчуньи и привередницы по причине тягости. Раину, взятую с ними, княгиня прямо-таки загаяла: «Ну, скажи, девка, что тебе привиделось о конце моей жизни?» - «На чужбине помрёшь», - простодушно отвечала вещунья. «Дура! - гневалась Софья. - Экая непроглядная дура! Ты-то как терпишь, ясынька?» - тормошила она Евфимию. Та отмалчивалась.
Ехали трудно. Из каптана то и дело приходилось перемещаться в кареть, ибо конец осени был неровен: то лёд и снег, то вода и грязь. А пересадки мучили раз от разу пуще.
Наконец прибыли в Кремль на Шемякин двор. Начался отпуск полков на ратное дело. Поскольку брюхатость Софьина не была заметна, княгиня развлекалась, участвуя в торжествах. Евфимия же носа не казала из ложни. Красный до поры опасался обнаруживать нареченную пред великим князем и его присными. Будущая свойственница с жаром рассказывала ей об увиденном: «В четвёртом часу дня началась обедня у Пречистой. Государь был на своём месте у Южных дверей. Великие княгини, старая и молодая, - на рундуке у Северных. По левую сторону - боярыни, прочие честные жены. За государевым местом - бояре, окольничие, думные люди по чину. Справа - воеводы - мой и твой Дмитрии, Андрей Иванович Лобан Ряполовский, Андрей Фёдорыч Голтяев, Руно, Русалка. Мой Митя ровнялся с передним столбом государева места. А дальше - дьяки, передовые полчане в десять рядов до Западной стены, стольники, стряпчие, дворяне, жильцы - все стояли пространно и благочинно. После обедни - молебен о победе над врагом. Зело благолепно и удивительно! Запевали протопопы, священники тихими, умилёнными голосами. Слезам достойно! Государь сошёл на средину церкви. По молебне прикладывались к иконам, слушали молитвы на рать идущим с упоминанием имён воевод. Великий князь поднёс митрополиту воеводский наказ. Тот положил его в киот Владимирской Богоматери на пелену, потом вручил воеводам. Великий князь обратился к воинству: «Служите честно! Не уповайте на многолюдство и своеумие! Не сребролюбствуйте! Не ведайте страху человеческого!» Митрополит благословлял воевод просфорою, они целовали пресветлейшего в руку. Великие же княгини стояли скрытно, за запоною, ибо в то время в соборе происходило передвижение полчан: прикладывались ко кресту. Затем было целование великокняжеской руки, так с государем прощались полчане и воеводы. Все дважды кланялись до земли, подошедши и отошедши. Порядок блюли трое окольничих, один против государя, другой против митрополита, третий же у помоста, дабы проходили чинно и по чинам. На паперти государь жаловал, звал к себе хлеба есть. Мужеский стол происходил в передней палате Теремного дворца. Мы же трапезовали в Столовой избе. И на наше столование приходил государь. Жаловал всем по чарушнице вина из собственных рук. Все поклонялись, потом садились. Были читаны прибранные к случаю поучительные главы из Посланий святых апостол, из житий. Певчими пелись мудрые краснопопевистые стихи. После третьей чарушницы велено было снимать скатерть. Соборный ключарь совершил обряд молитвенного вкушения Богородичных хлеба и чаши. На прощание государь позвал всех к руке. Послезавтра он будет провожать соборную рать, что пройдёт через Кремль из Фроловских врат в Спасские. Митрополит окропит воинов святою водою». Евфимия терпеливо слушала длинный рассказ Софьи, понимая, что для вырощенницы удельного Заозерья столичные пышные торжества, словно рай для смертного.
Теперь же в селе Ослебятеве тягостная княгиня изнывала от тоски. Две госпожи с прислужницей занимали одну избу Старостиных хором. В другой - через мост жили братья Юрьичи. Часто вхож к ним был Андрей Фёдорович Голтяев. Допрежь он случайно заметил Всеволожу в обозе, с коим двигалась кареть. Весьма удивился. Благодарствовал за спасение из великоустюжского несчастья. Узнав в ней невесту Красного, поздравил и пожелал всех благ. Более не говаривали, пока не прибыли в Ослебятево, людное село под самым Белёвом. Здесь долетал до неё зычный глас Голтяева из мужской избы. О чём шла речь, было не понять. Софьины жалобы заполняли уши: «Пошла в задец, а там во-о-от такая крыса!» - показала она зверя величиною с зайца. «На крытом дворе сапожок утонул в грязи, прискакала на одной ноге!» Ну что ты с ней будешь делать! Вот и сейчас упрекает не прямо, а исподволь подводит к тому, что именно из-за Всеволожи претерпевает несличные княгине мучения. Своего Митю не винит.
Евфимия не находит слов для успокоения. Все мысли о сумрачном женихе. Накануне приходил к ней в боковушу-истобку, печалуясь: многочисленная рать, вверенная братьям, не оставила от Москвы до Белёва ни единого селения в целости. Воины всюду грабили, отнимали скот, имение, нагружали возы добычею. «Не воевод видит в нас народ, а разбойничих атаманов!» - сетовал младший Юрьич. Брат не радел о порядке, Голтяев и Лобан Ряполовский не управлялись с полчанами. А уж сам он и того паче. «Не воист я, любезная Евфимия. Не гожусь в вожди», - вздыхал Дмитрий. «Вижу, всё вижу, любый мой, - гладила руку князя невеста. - Истомилась от безнарядья. Шемяка попустительствует крадежникам. С какой стати? Ведь конец будет отвечать началу. Это ли ему потребно при тайной вражде к Василиусу?» От такого предположения Красный ещё более мрачнел. Чем утешишь?
А тут Софья с плачущими очами, с жалобными речами:
- Слыхивала от здешней старостихи: татары терзают русских, как волки стадо овец. Люди падают ниц пред погаными, ждут решения судьбы. А им отсекают головы, расстреливают в забаву. Иных избирают в невольники, иных обнажают, оставляют несчастных в жертву страшному холоду, неизбежной смерти. Пленных связывают, аки псов на смычке, гонят пред собой человек по сорок…
- Тише, Софьюшка, - прервала Евфимия. - Слышишь, в мужеской избе вновь собор?
- Говорят, в Белёве татары православный собор в мезгит превратили, в мечеть, - продолжала своё княгиня.
- Хочешь, послушаем воевод? - предложила боярышня. - Взлезем на избу, под крышу, откроем заслонку в печной трубе… Слышно, будто рядом стоишь.
- Нужно-то мне любоперье слушать! - возмутилась княгиня, видя в воеводах лишь ярых спорщиков.
Всеволожа взошла на избу одна. Голос татарского мурзы был искателен, даже подобострастен. Он предлагал через нашего толмача:
- Царь отдаёт в залог сына своего Мамутека. Сделает всё, что требуете. Когда Бог возвратит ему царство, будет блюсти землю вашу, перестанет брать дань…
- Испугались? - перебил голос Шемяки. - Передайте Улу-Махмету: великий князь отвергает его посулы. Нас много, вас мало, говорить не о чем.
Евфимия оспешйлась сойти с избы до ухода татар. В боковуше-истобке ворчала Софья: - Где твоя «чесотка да таперичи»? Пусть несёт поесть.
- Тотчас биться будут, - сообщила боярышня. - Сдвинутся под Белёвом две рати…
- Кому биться, а кому есться и питься, - возразила княгиня. - Капусты квашеной хочу, яблок мочёных!
Когда ж от недальних белёвских стен долетел до села, проник в избяную тишь тысячегорлый рёв рати, Софья забыла про капусту и яблоки.
- Митя! Митенька мой! - пала она с воплем на одр.
Всеволоже было известно, что к Белёву пришло двадцать тысяч москвитян, десять тысяч рязанцев, столько же тверичан. Все они бросились на Улу-Махметовых воев, вышедших для защиты города. Боярышня, содрогаясь, ждала вестей об исходе битвы. У неё был в мыслях свой Митенька…
Наконец он явился, уксусно-потный, грязный.
- Одоление! - закричал с порога. - Вогнали в крепость татар. Убили зятя царёва!
Евфимия молча приникла к его груди. Следом вошёл Шемяка, обнять свою Софью.
- Смутен, брат? - удивлённо оглядел его при светце младший Дмитрий.
- Не смутен, спокоен, - возразил старший. - Что мне, в любвах ваших с вами веселиться?
- Впору замириться с Улу-Махметом, - оторвалась от жениха Всеволожа, обращаясь к Шемяке.
- Умна больно! - фыркнул тот. - У нас сила, у него слабость.
- Сила-то неурядлива, слабость-то отчаянна, - возразила боярышня.
- К нам воевода мченский Григорий Протасьев прибыл с большим полком, - радовался Красный. - Какой тут мир! Ты не права, любезная.
- Что её слушать? - Шемяка тянул брата за руку. - Идём, сгадаем с Протасьевым про завтрашний приступ. Григорий ждёт.
- Мченский воевода не московский, литовский подданный, - сказала вдогонку Евфимия. - Литва ищет не помогать Москве, а мешать.
Шемяка с порога состроил рожицу. Софья прикрыла за воеводами дверь.
- Оставь, ясынька. Им виднее.
Раина внесла естьё, в том числе яблоки и капусту. Потрапезовали неспешно.
- Чесотка да таперичи, - обратилась к простолюдинке княгиня, - было ли тебе «привидение» про завтрашнюю нашу победу?
Раина, будто и не умевшая обижаться, тихо ответила:
- Победа пятками к врагу.
- Ну как тебе это любится? - возмущённо обратилась Софья к Евфимии.
Боярышня не успела взять свою девушку под защиту. Нежданно взошёл Дмитрий Красный.
- Солнце моё, Голтяев просит тебя в мужской разговор.
Удивлённая Всеволожа вышла за женихом.
В первой избе их ждали пятеро воевод: князь Андрей Иванович Лобан Ряполовский, Руно, Русалка и Шемяка с Голтяевым. Шестым был неказистый ляховицкого вида муж с бритой бородой. Не лях, но подделавшийся под сяха. Должно быть, он и есть Протасьев. Встрет появление женщины, как пёс муху: отмахнулся, отошёл в угол. Руно с Русалкой глянули на неё с любопытством. Шемяка - почти что с ненавистью. Голтяев же с добротой.
- Ведаю о твоём любомудрии, дочь боярина Иоанна, - начал он выспренно. - У нас же здесь любоперье: спорим, гневимся, поучаем друг дружку. Разреши нашу брань добром. - И обратился к Протасьеву: - Повтори свои речи, воевода Григорий.
- Твоя просьба мне в оскорбление! - отвернулся Протасьев.
- Друг, прибывший нам в помогу, только что объявил, - молвил за Протасьева Дмитрий Красный, - будто бы его государь прислал с новым наказом: не биться ему с Улу-Махметом, а примириться и полки распустить. Не так ли? - обратился князь к литовскому подданному.
Тот молчал, гордо держа голову.
Евфимия ощутила жар, приливший к груди.
- Лгач лукавый! - гневно произнесла она. - Не было тебе вестей, был изначальный наказ: сорвать наши мирные докончания с ханом, а уходом внезапным ослабить нас. Докажи обратное!
Протасьев даже не обернулся. Шемяка принял беспечный вид:
- Докажи, воевода, не чинься.
Руно с Русалкой попросили наперебой:
- Докажи!.. Докажи!.. Литовский пришлец произнёс:
- Пусть она уйдёт. Евфимия вышла.
В боковуше на её одре сидела Раина, сжав лик в ладонях. Покачивалась со стороны на сторону, пела постным голосом:
Я, млада-младенька, Темпу ночку не спала, Не спала я тёмной ночки И не буду спать другой. Загадаю себе сон Про сиротский страдный путь: Сторона ли ты, сторонка, Незнакомая страна! На чужой пустой сторонке Нет ни травки-ковыля, Ни матушки, ни отца, Ни сестричьего тепла…- Что с тобой, друженька? - попыталась обнять её Всеволожа.
Раина высвободилась.
- Почивай, боярышня. Пойду в свою конуру. Это мне к любости будет.
Ушла. Однако Евфимии пришлось повременить с опочивом. Явился Красный.
- Молодец Голтяй, что тебя позвал, - заявил он радостно. - Проняла ты Протасьева. Пригорюнились мы было, узнав о его внезапном отходе от нас. Теперь же Григорий душу связал быть с нами заедино. Завтра пойдём на приступ.
- Охолонись, любый мой, - поцеловала Всеволожа Дмитрия в пушистую щёку. - Литвину вас обмануть, что испить воды. Чем душу связал? Ваш крест - его ли крест? Завтра, как мыслю, хан пришлёт с новыми докончаниями. Пришлёт, ежели вошёл в сговор с литвином, для сокрытия истинных намерений. А коли не вошёл в сговор, от безвыходности пришлёт. Будьте начеку. Берите мир на полной своей воле. Мир станет победой.
- Умница! - шепнул Красный. - Я и Голтяев решили тебя в войскую сряду переодеть, отай взять на переговоры, как моего стремянного. Может, истиха что подскажешь… Брат против. Лобан Ряполовский и Русалка с Руном изъявили согласие…
Оба не имели силы разминуться, как переплётшиеся сосенка с дубком. Наконец поздний час взял своё…
Евфимия видела во сне реку широкую и свинцовую. Лодья с раздутым парусом двигалась по ней к северу. А там, при устье меньшей реки, высился утёс. А на утёсе белый кремник. Внизу же, по берегу, - тёмный посад. В носу лодьи пасмурно глядел вдаль батюшка Евфимии, однако не боярин Иоанн, а тот, из кудесного сновидения, из будущей жизни, рязанский дворянин, Раф Всеволожский, источенный болезнью после царских застенков. «Какой град у нас в виду? Что за град?» - ёжась, вопрошала она. Отец не успел ответить…
- Боярышня, пробуждайся! Спели третьи петухи, - теребила Раина.
Сборы были оспешливы! Утренняя трапеза - калач с молоком. И вот уже юный стремянный обочь своего князя сидит в седле супротив мурз татарских. Мгла над полем спозаранку нависла одеялом пуха лебяжьего. Крепости не видать. Ряды воев в стороне чуть чернеют, готовые к приступу. Главный мурза весьма тучный, на вид свирепый. Толмач именует его «Хочубой», хотя из татарских уст Евфимия ясно слышала «Кичибей». Этот боевой ханский муж повторил вчерашние посулы: отдать в залог сына Улу-Махметова Мамутека, или, как произносил толмач, Маматяка, блюсти землю русскую, не брать дани.
- Нудьте их оставить Белев, не вбивать клина меж Москвой и Литвой, уйти к родственным булгарам, - внушал юный стремянный, склонясь к своему господину.
Младший Юрьич завёл было речь об этом, однако старший перебил его:
- Хотим оружием решать! Мира не хотим!
И тут случилось невероятное. Возник шум вкруг кучки переговорщиков. Зазвенело оружие. Первые предсмертные крики огласили мглу.
- А! Не хотите? - завопил Хочубой, простирая руку в сторону русской рати. - И так смотрите!
Всеволожа увидела воинов, бегущих от Белёва прочь, словно гонимых внезапным ужасом.
- Вввай-йя! - заглушил все звуки гортанный клик степняков.
Конные мяли пеших. Боярышня успела узнать в ближнем коннике литовского воеводу Протасьева, сеющего страх, скачущего с ужасным криком:
- Побежи!.. Побежи!..
Всё, что оставалось живого, устремилось за ним. Мурзы исчезли. Русалка, Руно, Шемяка с Голтяем вопили, кто во что горазд:
- Внезапь!
- Они подкрались внезапь!
- Мы преданы!
- Андрей Лобан Ряполовский убит!
- Проклятая мгла!
До боярышни донёсся призыв Дмитрия Красного:
- Бежим, солнце моё!..
Тут же их разделили обезумевшие всадники. Всеволожа скакала меж ними, слыша за спиной вопли изрубаемых отстающих.
Снег неглубок, почва окаменела, скакал ось споро. Встречный вихрь рвал лебяжью мглу в клочья, относил вспять. Степь яснела, бескрайняя, белая, слитая с серым небом где-то на окоёме. В стороне мелькнули ветлы и кровли беззащитного Ослебятева. Ржущие рядом кони с оглушёнными бедой седоками не давали пробиться к селу. Евфимия ловила возможность их обогнать, пришпоривая своего белого, он, видать, такой, что не выдаст.
Долго ли длилась скачка? Смурое небо не показывало часов. Ослебятево осталось далеко позади, когда перед всадницей сделалось свободнее. Она пооглядывалась, заприметила в мужском стаде деву-вершницу. Та продиралась встречь, распустив власы (боевой вид Бонеди-разбойницы!), сжимала в руке древко, обмотанное мокрым платом.
- Раина!
- Боярышня!
- Где княгиня?
- Отправила загодя с добрым воином Гостилой. Прочь от опасности. Куда погане не пойдут…
- Куда?
- В град Жиздров. Там наш «летучий ертаул». Что сие, мне неведомо.
- Ертаульные разведывают местность.
- Гостило знает… Злая Софья чуть не прибила… Обоз туда же потёк.
- В руке что держишь?
- Только-только вот тут нашла. На земле. У мёртвого.
Евфимия раскрыла полотнище. Пластаный золотой орёл на лазурном поле, обрамленном бахромой. Знамя! Перепачканное, мокрое. Однако же знамя!
Сняв шишак, взметнув волосами, Всеволожа вскинула древко, орёл взвился на ветру.
- Во-о-о-и-и! - надрывно огласил пространство глас девы, словно волшебной птицы. - Сто-о-ой-те-е-е!
Беглецы, ошеломлённые видением, натягивали брошенные поводья. Кони останавливались, разворачивались. Мечи извлекались из ножен. Копья щетинились.
- Девка! Гляди, девка с оруженосицей!
- Не девка, Белёвская Дева! Высшая сила с нами! Вот уж конный ряд вырос во всю ширь, стал лицом к врагу.
Возникло расстояние меж русскими и татарами. Те тоже стали. Сойдутся ли? Продолжится ли пир смерти?
Отъявленные вопёжники сомкнули замершие уста. Меж ратными стенами царствовала напряжённая тишина ожидания.
Супротивная стена, как бы одумавшись, принялась рассеиваться. Обретшие смелость ратники увидели пред собою пустую мглу.
К боярышне подскакали Шемяка и Русалка с Руном.
- Фишка! Остановила рать? Могли сшибить, как былинку…
- Где твой брат Дмитрий? - спросила Евфимия.
- Видели его, - сообщил Русалка. - Тотчас будет тут.
Красный с Голтяевым среди кучных всадников пробивались к знамени. Лица вокруг преображались, как небеса, от ненастья к вёдру.
- О! - наконец вернул себе совесть и рассудок Шемяка. - Что же сталось с моей подружней? Где ж моя Софья?
- Вот теперь найди-ка град Жиздров да возьми там невредимой брошенную подружию, - ответила Всеволожа. - Полководец!
3
В галицком княжом тереме соседствовали печаль и радость. Печаль после поражения под Белёвом, радость перед свадьбой Дмитрия Красного с боярышней Всеволожей. Впрочем, радовались лишь обручённые, он и она, да ещё ближний боярин Дионисий Фомин, искатель «веселия в питии», ожидавший изобилия оного от брачного пира. Даже Раина, причастница жизни боярышниной, двигалась молчаливо и не по-молодому согбенно, будто бы ношу тяжкую незримо несла на узких своих раменах. Шемяка из-под Белёва отправился к себе в Углич и Софью туда увёз. Будет ли он на свадьбе, Бог ведает. Евфимию это не столь заботило, как её жениха. Старший Юрьич - единственный родич, кого он мог пригласить на кашу. У Всеволожи таких родичей не было, а без своего человека за столом какое же брачное торжество?
В одрину мрачно вошла Раина.
- Опрянься, боярышня. Уже повечер. Жених зовёт на последнюю трапезу.
Евфимия по пути к столовой палате внезапно остановилась. Что значит «на последнюю»? То ли вещунье помержилось ложное «привидение», то ли вечерю назвала последней трапезой на сегодня.
Дмитрий встретил в дверях обычной любосиятельностью.
- Жду тебя, солнце моё. Усаживайся насупротив. Подали прикрошку осетрью, звена белой рыбицы, четверть оладьи тельной по случаю постного дня пятка.
- Свет мой, что тебя труднит? - приглядывалась невеста к возлюбленному.
- А, не бери в разумение мои трудности, - отмахнулся князь.
- Откройся, - настаивала боярышня. - Иначе солнце твоё затмится неведрием, - улыбчиво приговорила она.
Князь обернулся к кравчему:
- Вели принести мой меч.
Ели молча, пока не пришёл оружничий. Князь извлёк меч из ножен, подал Всеволоже:
- Гляди.
На светлой стали чернью зияли буквицы: «Никому не отдам чести своей». Евфимия трепетно возвратила оружие.
- Проклятый сговор литвина с ханом! Проклятая мгла! - вспомнила она.
- Помыслим о будущем, - словно не слышал её Дмитрий. - Спустя седмицу будем в благозаконном браке. «Одно тело и одна плоть», как сказано в Писании. Духовник мой священноинок Осия с дьяконом Дементеем готовят венчание в церкви святого Левонтия. Певчие пропоют «Исайя, ликуй». Пекари испекут пироги росольные, пряжные, круглые. Повара изготовят лебедя, жаренного на шести блюдах, журавлей, цапель на вертелах, языки провесные, лапши с зайцем, дваста сковородок стерляжьих ух, дваста сковородок подлещиковых…
- Таково ли многолюдно будет за столом? - удивлялась Евфимия.
- Зело многолюдно, - утверждал Дмитрий. - Льщусь надеждой: Софья мужа уговорит. Обещала! Стало быть, брат с невесткой будут из Углича. А мои бояре? А лучшие люди? А твои приглашённые?
- Кто мои приглашённые? - поскучнела Евфимия. - Устю от ослеплённого не дозовёшься. Сёстры под клобуками, не в миру. Супруги Мамоновы оклеветаны пред тобою с братом. Некого мне позвать. Разве что Василиуса? - повысила голос Всеволожа с горькой усмешкой.
- О Василиусе - ни полсловечка! - замахал руками Дмитрий. - Зол на нас с братом великий князь за позор белёвский. И то сказать! Ратники от стыда тупились друг друга. Бледный вид незлобия принял государь, подписав с нами новые докончания. Оставил на прежних условиях мирно господствовать в отцовском уделе, пользоваться частью московских доходов. А в глумление приписал: «что буде взяли на Москве у меня и моей матери, и вам то отдати». А что осталось неотданного, скажи на милость! Доводчики донесли: теперь моей свадьбой мучается. Твоё замужество сердце ему занозит. Экое суевластие! Сам не ам и другим не дам…
- Будет уж о Василиусе, - потупилась Всеволожа. - Удумала я, кого в ближние себе позвать. Константина Дмитрича!
- Кого? - переспросил жених.
- Дядю твоего, изгоя, - громче ответила невеста. - С ним батюшка мой был дружен.
- Это к любости будет всем, - обрадовался Дмитрий. - Он - единственный из моих дядьёв. Ведь Пётр Дмитрия внедавне помер. Нынче же пошлю в Новгород Великий. Шестьсот вёрст позовник за три дня одолеет изгоном. На всех постояниях будет менять коней. То-то порадуется за нас старик, пока жив! Кстати вин заморских мои люди доставят от новгородских немцев. Слышно, подорожали вина. Беременная бочка романеи - тридцать рублёв, полубеременная ренского - двадцать.
- Не излишни ли будут траты? - приняла деловой вид невеста.
- Для торжеств ничего не жаль, - раскраснелся князь. - Нам ли, сиротам, ставить себе пределы? Сами сватаемся, сами женимся, сами торжествуем! Я уж купил семь блюд больших аглинского олова, каждое весом в пуд, три десятка блюд средних в три пуда, сотню ложек корельчатых с костьми, да ножей чугреев красных, с оправою медною, с финифтом…
- Ах, любый мой, - перебила Евфимия. - Что мне торжества! Не дождусь зреть тебя благозаконным супругом в тихом покое, наедине…
- Торжества, моё солнце, осветят нашу тишину, - возразил жених. - Представь жар свечей, сладкогласый храм. Нас будут поучать от Божественного Писания. Дружка поднесёт сыр и перепечь ко всем: и к новобрачному князю, и ко княгине, сиречь к тебе, и ко всему поезду. А пред столом он скажет: «Как голубь без голубки гнезда не вьёт, так новобрачный князь без княгини на место не садится!»
- Для пары сирот и сиротства нет, - тихо произнесла Евфимия.
- Что ты говоришь? - недослышал князь.
- С тобой я не сирота, - громко повторила боярышня.
Красный помолчал, потом произнёс:
- Странное нынче со мною нечто: громогласие звучит внятно, обычная же речь слуху недосягаема.
- Ужли уши застудил? - испугалась невеста.
- Не ведаю, что с ушами, - признался он. - И ещё удивительная напасть: ем блюда с приправами, а вкуса не чую. С чего бы? Не оттого ли, что нынче сон не пришёл ко мне?
- При отсутствии сна всяческая немогота случается, - поднялась из-за стола Всеволожа и подошла к жениху. - Пойдём, мой любимик, провожу до опочивальни.
Идя по переходам и через сени, крепко держа его руку, она ощутила тревожный холод в ней, едва приметную дрожь.
- Воспрянь духом, любезная Евфимия, всё это пустое, - утешал Дмитрий. - Взойдём в новый день, а хвори оставим в старом. - Он приголубил невесту у своего порога и пожелал: - Выспись, солнышко, осияй меня поутру!
К Евфимии сон пришествием не замедлил. Увидела себя на стене высокого кремника. Крутизна голая вилась вниз. Там чернели избы посада на берегу широкой реки. Тяжёлым богатырским мечом отливали её стальные воды. И небо провисло низко. И солнце снизилось к окоёму. Обок Евфимии на слабых ногах едва держался Раф Всеволожский, коего дочь привела сюда, напрягая силы. «Люблю слияние рек, - молвил он. - Сливаются реки дружные». Дочь не впервой доставляла отца на его любимое место. Недолгая жизнь за Камнем не оставляла надежды ссыльному вернуться на родину. «Не дожить!» - вздыхал он, чуть ли не ежедень вспоминая допросы в Тайном приказе, куда поступил о нём государев указ со страшными четырьмя словами: «всякими сысками накрепко сыскать». «Всякими», стало быть, - пытками. Сперва ставили возле дыбы, делали «стряску» - били кнутом, жгли огнём. После было такое, чему смертную казнь предпочтёшь. Отлитого водой до следующего раза берегли накрепко, чтобы над собой какого дурна не учинил. Семья привезла в Сибирь Рафа едва живым. Дочь ловит хотя бы малую улыбку на отцовском лице, себя считая виновницей его бед. Сейчас на стене сурового кремника он просиял улыбкой: «Гляжу на запад, как на родную даль. Восток за спиною чужд». - «Придёт час, поедем домой, на запад», - успокаивает Евфимия. Отец грустно поводит головой: «Не дожить»…
Как настойную ягоду из длинногорлого сосуда, тянула её из сна Раина, трепля по-нежному:
- Очнись, невеста, жениху плохо!
- Что? - села на одре Евфимия. - Что ты говоришь?
- Носом хлещет кровь. Причастие принять не мог. Дьякон Дементей и чёрный поп Осия ноздри князя бумажками затыкали.
- Зачем бумажками?
- Чтобы причастить.
Всеволожа наконец пришла в себя, опрянулась, собралась с мыслями.
- Срочно скачи к амме Гневе за Калисой. Лучшего скакуна возьмёшь. Набью рублями калиту. Коней будешь менять на каждом становище.
Тут Раина села на сундук, замотала головой.
- Вотще стараться! Что у князя порча, это вижу.
Кто испрокудил, неведомо. А подслушала поповское соборование - дьякон тебя винит, мол, жениха испортила, даже допускать к нему считает вредным. Священноинок его усовещивает: дескать, грех, не знаючи, вчинять вины. Однако же обмолвился, знахарство, мол, тут непотребно. Помощь - токмо Бог.
- А что ж князь? - спросила Всеволожа.
- Сделался глухой, как тетерев, - расширила глаза Раина. - Тебя зовёт, не умолкая. Дементей с Осией его не слушают. Тоже тетерева глухие!
Евфимия скорее - в дверь, опрометью на половину князя…
В сенях увидела Осию со святыми дарами. В дверях стоял Дмитрий, держа у носа красный платчик.
- Любезная моя! Взойди поскорее.
В покое были Дементей, немногие бояре с Дионисьем Фоминым.
- Вот только приобщился святых тайн, - сказал князь невесте. Усадил на стольце, сам лёг. - Теперь станет лучше!
Принял яства, что челядинец внёс на деревянном блюде, вкусил толику от ух мясных и рыбных, испил чашу вина. Потом взял за руку боярышню, глянул на приближенных:
- Выступите вон. Дайте упокой.
Среди бояр возникло оживление, как бы тяжесть спала с плеч.
- Князюшка лучшает, - сказал дьякон.
- Идемте, други, посидимте у меня, - пригласил Фомин, живущий ближе всех к княжому терему. - Ещё не поздно.
Дверь закрылась. Дмитрий сжал руку Евфимии.
- Прости, невестинька, мои недуги. Смешные люди, - отозвался о боярах. - Мнят, будто не кровь у меня носом, а кровавый пот. С чего бы даже пот? И глухота… И ещё чую, будто бы болячка внутри движется.
- Бога ради! - молила Евфимия. - Дозволь послать к Мамонам, привезть Калису. Целительница, коей всё подвластно!
Говорила громко на ухо болящему. Он запротестовал:
- Ни в коем разе! Мамонам в огненной геенне гореть за смерть батюшки. Их ведьм - подалее от порога! Скрепя сердце принял Раину. Скажи, - привлёк вплотную невесту князь, - Раина - не ведьма?
Всеволожа пришла в уныние. Больной откинулся на подушки.
- Мой мир телесный желает сна. Побудь со мною. От тебя токи сладостные. Ты - источник жизни. С тобою воспряну духом, люболюбная моя неве… невестинька Евфи…
Она сжала его руку. Рука стала холодеть. Глаза раскрылись, но взирали несмысленно. Уста шевельнулись - ни звука. Она приникла - ни шёпота!
Боярышня стремглав покинула покой. Оказавшись в пустых сенях, истошно крикнула на весь терем:
- Князь Дмитрий Юрьевич отходит!
Первым прибежал дьякон Дементей. За ним - Осия в епитрахили. Скоро стали скапливаться бояре.
Князь уже не подавал признаков жизни. Евфимия, склонясь, припала к устам… Показалось, приняла последнее воздыхание…
Невеста отступила под чтенье канона на исход души. Осия подошёл к жениху.
- Что он делает с князем? - спросила Всеволожа боярина Фомина.
- Загнёте ему очи и покры его, - ответил рядом стоящий дьякон.
- Идемте, изопьём мёду за упокой души новопреставленного, - позвал Дионисий Фомин бояр.
Евфимия недолго пребывала наедине с покойником. Пришёл дьякон с толстой книгой, положил Псалтирь на аналой, отстегнул застёжки… Потекло заупокойное чтение:
- «Внегда призвати ми, услыша мя Бог правды моея. В скорби распространил мя еси. Ущедри мя, и услыша молитву мою. Сынове человечестии! Доколе тяжкосердии векую любите суету и ищете лжи? И уведёте, яко удиви Господь преподобного своего»…
Слушая Псалтирь, невеста глядела на усопшего, как на живого, не верила, что мёртв. Будто смежил очи при кудесном усыплении. Будто ищет душой: в грядущее ли воспарить, остаться ли в настоящем. Ближе подступила к смертному одру, низко склонилась к лику жениха. И слово за словом воскресло в памяти заклинание Агафоклии. К месту ли оно? Не отгонит ли спящего от бодрствующей? Однако же слышала его Всеволожа не только засыпая ради паломничества души, но и пробуждаясь, возвращаясь к оставленному. Разум умолк. Сердце затрепетало надеждой. Уста сами по себе выговаривали заветные слова:
- Ходит сон по сенюшкам, дрёма по новым. Сон, что лучше отца с матушкой, сон, что смерти брат. Смертушка-смерёдушка, не наглая, что от внезапности, не немощная, что от хвори, не несчастная, что от случая, не насильственная, что от зла, смешивайся со сном!.. Кому сон, кому явь, кому сон, кому быль… Пронеси, Бог, сон мороком!..
Не заметила, как Дементей прервал чтение Псалтири. Не почуяла, как приблизился. Ополохнулась, услыхав грозный шёпот:
- Сгинь, злосчастная!
Дьякон, аки громовержец, потрясал над ней готовыми покарать руками. Тут только осознала всё своё святотатство, молнией выскользнула из княжеского покоя…
Вбежав к себе в боковушу, пала ничком на одр. Раины по милости судьбы не было. Никто не мешал корить себя мысленно и изустно. То-то горе на неё грянуло! То-то лишило разума! Божий дар за её мытарства, дар взаимной любви, отнят дьявольской силой. И вот она, поддавшаяся беде, сама почти в руках дьявола…
- Боярышня, - прозвучал над ней растерянный, перепуганный голос Дементея, - князюшка тебя кличет. Поль к нему.
Евфимия поднялась, глянула в страшные очи дьякона, сама вся дрожа, осенила его крестом.
- Приди в себя, отче. Жених мой мёртв.
Сухой старик, оказав несличную ему силу, потянул за собой, впившись сухими перстами в руку:
- Поспеши! Он жив!
Дмитрий Красный сидел, сринувши покровы, глядя на вошедшую горящими очами.
- О радость! - воскликнул он громогласно. - О невеста моя неневестная, оставленная без брака!
- О любимик мой! - бросилась к нему Всеволожа. Он упал на подушки навзничь, смежил вежды, однако же продолжал:
- Прекрасны ланиты твои под подвесками, шея твоя в ожерельях; золотые подвески мы сделаем тебе с серебряными блестками… Что лилия между тёрнами, то возлюбленная моя между девицами… Голубица моя… покажи мне лице твоё, дай мне услышать голос твой…
- Возлюбленный мой принадлежит мне, а я ему, - отвечала Евфимия словами Песни Песней Соломона, стихи коей тут же узнала в устах Дмитрия. - Доколе день дышит прохладою и убегают тени, возвратись…
Жених не слышал своей невесты, хотя взирал на неё осмысленно. Он продолжал голосом более тихим, более слабым:
- Глаза твои голубиные под кудрями твоими; волосы твои - как стадо коз… Как лента алая, губы твои… Как половинки… яблока ланиты твои… Два сосца твои - как двойни молодой серны, пасущиеся между лилиями… Вся ты прекрасна и пятна нет на тебе!.. Пленила ты сердце моё, сестра моя, невеста! Пленила ты сердце моё одним взглядом очей твоих…
Дементей приблизился, но князь отослал его, поведя рукой, и дьякон отошёл к двери.
- О, как любезны ласки твои, сестра моя, невеста! - сызнова глядел жених на Евфимию. - Сотовый мёд каплет из уст твоих, невеста; мёд и молоко под языком твоим, и благоухание одежды твоей подобно благоуханию сада! Запертый сад - сестра моя, невеста, заключённый колодезь, запечатанный источник… Уклони очи твои от меня, потому что они волнуют меня…
Всеволожа не отвернулась. Хотела ответить и не могла. Она поняла, что Дмитрий не слышит её, хотя узнаёт глазами и в присутствии её спокоен.
Долго длилось его молчание. В окнах забрезжил и разгорелся день. Ей казалось, князь спит, очи его были закрыты. Вдруг он опять взглянул на неё и совсем тихо заговорил:
- Кто эта, блистающая, как заря, прекрасная, как луна, светлая, как солнце, грозная, как полки со знамёнами?.. О, как прекрасны ноги твои… дщерь именитая! Округление бёдер твоих, как ожерелье, дело рук искусного художника; живот твой - круглая чаша, в которой не истощается благоуханное вино; чрево твоё - ворох пшеницы, обставленный лилиями… Шея твоя - как столп из слоновой кости… Стан твой похож на пальму и груди твои на виноградные кисти…
Дементей вышел. Дмитрий ненадолго умолк. Лик его с сомкнутыми веждами был свеж, полон жизни.
- Подумал я, - молвил он едва слышно, - влез бы я на пальму, ухватился бы за ветви её… Положи меня, как печать, на сердце твоё, как перстень, на руку твою: ибо крепка, как смерть, любовь, люта, как преисподняя, ревность… Большие воды не могут потушить любви, и реки не зальют её…
Евфимия ждала. Песнь Песней кончалась, однако ещё оставалось несколько стихов… Дмитрий молчал. Она ждала долго… Рука князя окостенела.
Евфимия вышла. За дверьми ждали Дементей и священноинок Осия со святыми дарами от утрени. Без слов, по слезам на её щеках они поняли всё и вошли. Князь не раскрыл очей. Осия провёл по его устам лжицею, и Дмитрий взглянул.
Приняв причастие, он внятно произнёс: - Радуйся, утроба Божественного воплощения! Тело вытянулось. Мертвенная бледность покрыла лик. Дементей и Осия перекрестились.
- Надобно послать в Углич за Дмитрием Юрьевичем Шемякой, - приговорил дьякон, как ранее решённое. - По завещанию удел князюшки достался старшему брату.
- Обрядим отошедшего, - согласился Осия. - Отнесём в храм святого Левонтия. Пусть полежит без пения до приезда брата.
На боярышню ближние люди князя больше не обращали внимания.
Церковь святого Леонтия в Галиче стала не местом венчания - местом отпевания любви Дмитрия и Евфимии.
4
В одноглавой бревенчатой церкви на некрашеном дощатом полу лежала у гроба безутешная Всеволожа. Не велено было никого впускать в храм до приезда Шемяки. Она отдала сторожу колтки золотые с яхонтами, предсвадебное подарение жениха, и была впущена на всю ночь. Седмицу ходила около и наконец осталась наедине с любимым. Трескучие свечи в ногах и у изголовья озаряли колеблющимся сиянием нетронутый тлением лик усопшего. Чем быстрее таяли свечи, чем слабее светили, тем громче звучал под деревянными сводами плач Евфимии:
- Оживят ли тебя мои слёзы огненные, уветливый, тихий мой? Увижу ли взор твой красный, познаю ли душу чистую? Был ты оком слепых, ногою хромых, трубою спящих в опасности! О, день скорби и туги, день мрака и бедствия, вопля и захлипания! Жили бы единою душою в двух телах, единою добродетелью! Как златоперсистый голубь и сладкоглаголивая ластовица, с умилением смотрелись бы в чистое зерцало совести!.. Зашёл свет очей моих! Погибло сокровище моей жизни! Где ты, бесценный? Почто не ответствуешь? Цвет прекрасный, для чего увядаешь так рано? Виноград многоплодный, уж ты не дашь плода моему сердцу, сладости душе моей! Воззри, воззри на меня, обратись ко мне на одре своём, вымолви слово! Неужли забыл меня? Кому сироту приказываешь, на кого оставляешь? Господине мой, как обниму тебя, как послужу тебе? Изменилась вся жизнь моя вместе с лицем твоим! О, смертное счастье, кратко-жизненная краса! Ни лета мне не осталось, чтобы ласкать, миловать тебя! Платье-узорочье променял ты на ризы бедные! Не моего наряда одежду на себя возлагаешь! Худым платом главу покрываешь! Из красной палаты во гроб вселяешься! Ах, если бы Господь услышал молитву мою! Молился бы и ты за меня, да умру с тобой без разлуки! Ещё юность нас не оставила, ещё старость нас не постигла! Ах, недолго я радовалась моим другом! За веселием пришли слёзы, за утехами - скорбь несносная! Почто я родилась? Почто не умерла прежь тебя? Не видела бы твоей кончины, а своей гибели! Ужли не слышишь жалких речей моих, не умиляешься моими слезами горькими? Крепко уснул любимик мой, не разбудить мне тебя! Звери земные идут на ложе своё, птицы небесные летят к гнёздам, ты же, мой любый, отходишь навеки от дома своего!.. Кому уподоблю, как назову себя? Вдовою ли? Ах, не ведаю сего имени! Женою ли? Ты не подвёл меня под венец! Невестою неневестною, без обряда брачного! Вдовы, утешайте меня! Жены, плачьте со мною! Горесть моя жалостнее всех горестей!.. Боже великий, будь утешителем!
Она не услышала скрипа входных дверей, очнулась лишь от Шемякина голоса:
- Подымись, грешница, покинь сие место.
Вкруг неё в смирном образе стояли черноодетые люди. Среди них углядела Василия Борисыча Вепрева, столь неодобрившего её посольничества под Великим Устюгом, а затем столь счастливо сбежавшего после битвы у села Скорятина под Ростовом Великим.
- Слышишь ли повеленье князя? - сузил он памятливые зеницы.
Мрачный, ненавидящий взор дьякона Дементея напомнил ей давнее «привиденье» Раины: «Предаст тебя для невиданной казни!»
Не веря в такой конец, она поднялась с колен, попрощалась глазами с безгласным гробом и покинула церковь.
В своей одрине нашла Раину. Та бросилась на шею.
- Боярышня, бежать надо!
- Бежать? - не уразумела Евфимия. И махнула рукой. - Уедем потиху после отпевания, погребения…
Лесная дева вздохнула, покачав головой.
- Принесу поесть. Почитай, три дня у тебя во рту крошки не было.
Всеволожа оставалась одна недолго. Внезапно в одрину ввалился Вепрев. В растворенной двери - двое приставов.
- Поята ты, Евфимия, дочь Всеволожа, князем Дмитрием Юрьичем за злокозненные кудеса твои над покойным братом его Дмитрием Красным.
- За какие «злокозненные кудеса»? - пылко возразила боярышня.
- За те, что достойны казни, - глухо произнёс Вепрев.
- Казни? - переспросила Евфимия.
- Ты будешь казнена немедля, - приговорил имщик княжеский.
- Казнена? Без суда и исправы? - всё ещё не верила Всеволожа.
- Есть послух, сиречь свидетель, твоих волшебств, - разъяснил Василий Борисыч. - Дьякон Дементей видел и слышал, как ты творила заклинания над усопшим, как насильственно возвратила к жизни покинувшего её, как распечатала мёртвые уста, дабы восприять непотребные, сластолюбивые о себе глаголы.
- Полноте, воевода! - возмутилась Евфимия. - Князь Дмитрий не умер, когда все сочли его мёртвым. Пришед в себя, он произносил стихи из Соломоновой Песни Песней. Каноническими словами попрощался со мною и предстал перед Богом. Дьякону Дементею невесть что попритчилось.
- Послухование его принято Дмитрием Юрьичем, - сказал Вепрев.
- Каким Дмитрием Юрьичем? - испугалась боярышня.
- Живым! Каким же ещё? - в свою очередь осерчал воевода Шемякин.
Всеволожа, приглядываясь к нему, поняла, что серчал он не столь за несусветицу нынешнюю, сколь за её поступок давешний под Скорятиным, когда едва избежал пленения и возможной гибели.
- Ныне ваша с Шемякой надо мной воля. Мёртв мой заступник, - сказала Евфимия и протянула приставам руки.
Вязницу вывели из дворца.
- Где твоя девка-ведьма? - пытал Вепрев по пути.
- Не ведаю.
Однако в скоплении челяди боярышня на миг встретилась с коноплястым личиком лесной девы, а знаку не подала на её кивок.
Выведенная на задний двор, очутилась перед дощатым строением, в каких хранят сено зимой. Неужто тут и поруб, земляная яма? Внутри - утоптанный пол, присыпанный сухой крошкой. Никакого отверстия в поруб. Даже никаких предметов. Лишь в углу большая сенная куча. Здесь ли казнят? Как станут умерщвлять?
Ей связали ноги. Положили спиной на землю.
- Прощай, гнусная переветчица, - сказал Вепрев. - Помни преданного тобой Василия Юрьича и приваженного, обречённого преждевременной смерти Дмитрия Юрьича…
- Клеветы сии лягут на чашу весов, когда будут взвешивать твоё зло перед адским пламенем, - перебила его Евфимия.
- Прежь меня сгоришь в аду! - рыпнулся воевода, воздев над поверженной трезубие вил. Однако ж не опустил их на её грудь, а передал одному из своих приспешников.
Вязница изготовилась ощутить смертельный удар острых зубьев. Вместо этого на неё упал навильник сухого сена. За первым - другой и следующий… Сено пахло осенним лугом. Мелкий острец с засушенными вкрапинами васильков, анютиных глазок, мать-и-мачехи щекотал ноздри сладким запахом ушедшего лета. Она вспомнила себя в Зарыдалье беззаботной отроковицей, когда ласкал солнышком Самсон-сеногной, обещая погожую осень. Она увидела себя в Занеглименье на берегу речки то ли Чертольи, то ли Черторьи, когда Марья Ярославна, внучка Голтяихи, плела для неё венок, Васёныш носил цветы, Шемяка в ней признавал другиню, Василиус называл невестой… Софья… Заозёрская Софья! Прибыла ли она нынче с мужем в Галич? Ведает ли, что творят с Евфимией? На сей вопрос не было ответа… Однако долго ли ей лежать под ворохом сена? А ворох становится весомее, тяжче, давит грудь… Вот уж и сладостные сенные вони не радуют - душат! Разум боярышни озарился догадкой: её не прячут под сеном неведомо от кого, её не испытывают ос-комными издевательствами, её измыслили лживым образом задушить, будто бы умерла сама, - ни петли на шее, ни катских перстов на горле. Вот она, привидевшаяся Раине, небывалая казнь - удушение сеном!
Евфимия пыталась пошевелиться. Тщетно! Сено настолько сдавило, стало столь плотным, что ни сесть, ни улечься на бок, даже ни головой крутнуть.
- А-а! - крикнула умирающая и не услышала крика.
«Любимик мой молится обо мне, зовёт к себе. Я иду к нему Божьей волей!» - была её последняя мысль…
И вот уже легче становится. Груз слабеет. Потоки пыльного, а всё-таки воздуха обвевают её. Сдавленная грудь ещё причиняет страдания, но тотчас это кончится, кончится…
- Работайте же, как ангелы! Не вилами, враг тебя уязви! Вилами её задеть боязно. Так, так разгребай!.. Эй, Кузька - кузькина мать! - Кузьма! Кому говорю? Руки ей разомкни. Пошире! Теперь сомкни. Ещё разомкни, ещё сомкни!.. Девка - как тебя? - Райка!
Подай воздуху ей в уста. Пощедрее! Глубоко вздохни, с силой выдохни. Вот и славно! Ишь, как хорошо глядит!..
Пока спасенница не раскрывала очей, слушала вдавни знакомый голос. А взглянула - узнала: Константин Дмитрия! Единственный оставшийся в живых дядюшка Юрьичей и Василиуса, сын Донского, безудельный изгнанник, старый друг её батюшки, прибыл из Новгорода Великого. Стало быть, успел послать за ним Дмитрий Красный, как обещал. Да не к свадебной каше успел приглашённый невестою, а к позорной казни.
- Сколько лет, сколько зим не виделись, сиротка Евфимьюшка! - склонился он к самому её лицу. - Ну, дозволь поверну тебя, вервие развяжу… Ах, ироды проклятые!.. Кузька, с ног путы поснимай. Побережнее!.. Подымайте, дети мои, сей бесценный груз. Прямиком - в мою кареть! И - ходу, ходу отсюда! Даже на отпевание безвременно почившего племянника не пойду, чтоб более не видаться с извергами. Поистине, удались от зла и сотворишь благо!
5
Село Вседобричь, отданное новгородцами в кормление Константину Дмитричу, успокоило Всеволожу близостью к Господину Великому Новгороду, дальностью от Москвы, Костромы и Галича. Княж терем стоял от села наособь, окружённый огородом и службами. Здесь успокоенная Евфимия предалась тихой жизни, напомнившей о родительском доме. И всё же она возвращалась мыслями к претерпенным страстям.
Когда княжеская кареть спешила умчать её от Шемякиной слепой злобы, спасённая выяснила, что избежала казни благодаря Раине. Той пришло «привидение», будто Евфимию спрятали в копне сена. Большого искусства стоило и подслушивать под дверьми, дабы вызнать о грозящей обеим беде, и скрываться от Вепрева, Шемяки и Дементея, и проследить, куда увели боярышню. Узнав, что единственный приглашённый Всеволожей на свадьбу гость Константин Дмитрич наконец-таки прибыл в Галич, Раина бросилась к нему. Старый друг боярина Иоанна подоспел вовремя. «Как Шемяка не воспротивился моему увозу?» - недоумевала Евфимия. «Он ли мог мне перечить? - вскинул бороду дядя Юрьичей. - По дедовскому закону я сейчас должен быть властодержцем Великого княжества Московского. Да заветы порушены!»
Отвлекая от пережитого, князь поведывал по пути бывальщины новгородские, коих сам был когда-то охотным слушателем. Потекли рассказы о первопроходцах ушкуйниках, что видели на дышущем море червь неусыпающий, слышали скрежет зубовный, встречали реку молненную Морг и ещё наблюдали, как вода входит в преисподнюю и снова выходит по трижды в день. Евфимия возвращалась душой в волшебное детство. Раина же приняла взабыль случай, когда судно ушкуйника Моислава прибило бурей к высоким горам. Путешественники увидали на горе Деисус - три совместные иконы Спасителя, Богоматери и Предтечи, написанные чудным лазорем. Свет на том месте ослеплял столь самосиянный, что человеку выразить нельзя. С гор слышалось ликование. Парусничий Нежило взбежал к вершине, всплеснул руками и исчез. То же приключилось с другим. Третьему привязали к ноге верёвку, и, когда стащили насильно вниз, он оказался мёртв…
Под тёплым крылом батюшкина друга Евфимия пережила во Вседобричи холода, обрадовалась весенней ростепели, дождалась лета. Луг за огородом украсился разноцветьем. Раина с боярышней приносили в свою одрину сладкопахнущие снопы цветов.
И вот, как обычно, после утренней трапезы побежали на луг. Не успели опомниться, а уж солнце, словно посадник на вече, взошло на степень. Из самой верхней светёлки кухарка Агафья замахала цветастым платком, крича свой полуденный позов, от коего доносились лишь трубные звуки: «Го-го-го-го!»… Евфимия подбежала к Раине.
- Скорее домой! Князинька ждать не любит!
- Чесотка да таперичи, - отвечала дева, доплетая васильковый венок.
В столовой палате ставились два прибора: для князя и для боярышни. Старик был рад нечаянному прибавлению в доме. Безженному и бездетному нравилось мечтать, как его опека успокоит настрадавшуюся скиталицу, как он выдаст названую дочку за доброго человека. Тревожило отсутствие на окоёме достойных лиц. Однако была отвага для их успешного поиска. Видел: невесту жжёт скорбь об утерянном женихе. Развлекал её государственными беседами, кои любили и сам, и покойный друг его боярин Иоанн, а, следовательно, и дочь последнего, любомудрая Всеволожа.
Прошлым днём соборовали о делах литовских, что весьма осложнились после смерти Витовта. Великому Дяде наследовал Свидригайло, брат польского короля Ягайлы, приятель покойного Юрия, а значит, и Константина Дмитричей. Привлечённый в своё невремя Суздальской землёй, этот литвин, расположенный к православию, был ненавистен полякам. «Клепали на него выше носа! - махал рукой Константин Дмитрии. - И пьяница (будто сами не хлещут через край!), и ленивец (будто сами не превратили жизнь в пиры да спаньё?), и вспыльчив, и безрассуден (ах, какие невинные!), и мечется, куда ветер подует… Одно добро: щедр не в меру!» Евфимия вставила: «Батюшка, как припомню, и про Витовта всё то же сказывал». Князь кивнул: «Таковы гедиминовичи. Однако же Свидригайло сделал поползновение отделить Вильну от Кракова: занимал замки собственным именем, исключив имя польского короля. Ягайло в ответ захватил Подолию, да вернул: братний гнев недолог! Польские советники в Вильне сговорились умертвить Свидригайлу и, запёршись в крепости, ждать коронного войска. Ягайло этому воспротивился: брат же всё-таки! Послал в Вильну Яна Лутеку Бржеского склонять литовского властелина признать зависимость от польской короны, а Подолию уступить. Свидригайло ему - оплеуху!» - «Фу! - скривилась Евфимия. - Что за нравы!» Старик дотронулся до нежных её перстов: «И-и, милая! Витовтовна сына, коль правду сказывают, почём зря хлещет по щекам. Шемяка же - челядь видела - Софьюшку свою любимую так стебнул, бедная три дня плакала. Как твой батюшка говаривал по-латыни: «О времена, о нравы!»…»
Вчерашний рассказ о Литве настолько зажёг боярышню, что сама продолжила за сегодняшней трапезой:
- Я давеча не дослушала, как же уладился Свидригайло с поляками?
- История длинная, - расправил бороду Константин Дмитрия. - Ян Лутека подступил к нему вдругожды и сызнова схлопотал по бритой скуле, да ещё попал в тесное заточение. Вот тут уж Ягайло вынужден был обрушиться на литовского самовластца. А гоже ли ратиться с родным братом?
- Идти супротив своих! - вставила Всеволожа. - Ведь король Ягайло - литвин.
- В том-то и закавыка, - примолвил князь. - Король мягчал, подданные ожесточались пуще. Страшный был поход. Пленникам не давали пощады. Ягайло вызвал брата в Парчёв для мира. Тот не явился.
- Достоит ли так поступать вождю? - осудила Евфимия. - Война не ради войны. Издревле говаривали: «Рать - до мира!»
- Вот и решили ясновельможные паны, - продолжил Константин Дмитрия, - выставить несговорчивому вождю соперника. Возбудили смуту в его вельможах. Лаврентий Зоронба поехал в Вильну как бы склонять Свидригайлу к миру, втайне же надоумил литовцев-католиков призвать на престол Витовтова брата Жидимонта, князя Стародубского. Составился заговор. Жидимонт, напавший внезапь, выгнал Свидригайлу из Вильны.
- Как твой брат Юрий Дмитрия Василиуса из Москвы, - не утерпела сравнить Евфимия.
- Не ровняй! - возмутился Константин Дмитрии. - Твой Василиус изгнан был по закону. Там - всё наоборот!
- Ах, ты держишь Свидригайлову сторону! - Улыбнулась Евфимия.
- Чью же ещё? - согласился князь. - И не токмо я. Земли Полоцкая, Витебская, Смоленская, Чернигово-Северская, Киевская, часть Волыни и Подолии остались ему верны.
- Русские земли, православные, - подхватила боярышня. - У нас же, кроме уделов твоего брата, все остались верны Василиусу.
- Ты забыла вятчан! - сказал князь. - Суть не в том. Тут сравненье невместно. Нас делит властолюбие и алчба, а Литву разделила вера. Жидимонту-католику без Польши было не усидеть. Признал власть короны, отдал Подолию.
- Не уразумел простой истины, - покачала головой Всеволожа. - Разделяемых верой объединяет отечество. Униженное отечество ведёт к гибели властелина.
- Унижение Литвы сгубило и Жидимонта, - подтвердил князь. - К тому же свиреп он был, аки коршун, и властолюбив, как петух. Палатин Троцкий Янут и гетман литовский Гумбольд составили заговор, да погибли под топором. И тут за дело взялись братья Чарторыйские Александр с Иваном. Знаешь, кто надоумил нашего Юрия Дмитрича жить под охраной ручной медведицы?
- Трудно припоминаю, - напряглась Всеволожа.
- Друг Шемяки Александр Чарторыйский! - пристукнул по столу князь. - Не помогла медведица Жидимонту. Заговорщики научились подражать царапанью её лапы. На этот звук он впускал зверя с выгула. Отпер- а вместо медведицы- Чарторыйские… Довелось ему быть убитым стальными вилами.
- И Юрию Дмитричу зверюга не помогла, - вздохнула боярышня. - Кто же повинен в смерти нашего князя?
- Тайна сия за семью печатями, - помрачнел брат покойного. - Но вернёмся в Вильну. Там уже и не мыслили о изгнанном Свидригайле. Невиданным преступлением запятнал себя сей несчастный. В Витебске сжёг на костре православного митрополита Герасима! Заподозрил в измене. С тех пор пошли слухи, что Свидригайло ссылается с Папой, ища поддержки. А тут возьми да уйди в мир иной восьмидесятишестилетний Ягайло. Захотел в весеннюю ночь соловья послушать, застудился и скончал жизнь. Наследовал ему юный сын Владислав. Литовцы же посадили на Гедиминов стол младшего Владиславова брата Казимира Ягайловича.
- Нынешнего короля польского? - догадалась Евфимия.
- Всё так, - кивнул князь. - Владислав погиб в битве с турками, Казимир воссел в Кракове, оставаясь великим князем литовским. Два государства под его скипетром вновь воссоединились. Всё вернулось на круги своя. За что ж Саня Чарторыйский принял грех на душу? Рассуди, попробуй! Теперь скитается. То воеводствует во Пскове, то в Новгороде гостит у дружка Шемяки на Даньславлевой улице.
- На Даньславлевой? - дрогнула Всеволожа, вспомнив Васёныша и князя Романа.
- Опять больное место задел невзначай? - спохватился Константин Дмитрич. - Однако пришла пора сообщить тебе, детушка: кончилось время наших деревенских бесед. Завтра - в Новгород.
- Завтра? - ополохнулась боярышня. - Отчего так скоро?
- Надобно поглядеть, всё ли по поставу в моих хоромах на улице Рогатице, на Владычной стороне.
- Я проживала неподалёку, - сообщила Евфимия, - на улице Лубянице в тереме степенного посадника Василья Степаныча Своеземцева.
- О, кого вспомнила! - вскинул белую бороду князь. - Посадники новгородские меняются, как перстянки. Ныне посадничает Нежата. Своеземцев же удалился в отчины, на Вагу, где ещё прежде при речке Пенежке выстроил городок. Рассказывают, не знаю, верно ли, будто отдыхал он однажды близ того городка и услыхал колокольный звон, а ни одной колокольни окрест. Василий Степаныч воспринял сие, как чудо. Соорудил на том месте монастырь во имя Иоанна Богослова, оставил мирскую суету и постригся под именем Варлаама… Что призадумалась?
- Я? - смутилась боярышня. - При нашей с ним первой встрече Своеземцева назвала монахом…
- Провидица! - Князь провёл сухой дланью по её волосам. - Пойду, покуда сосну. А ты своей девушке вели собираться в путь.
Евфимия застала Раину за уборкой одрины.
- Была ли ты в Новгороде Великом? Та мотнула головой:
- Не-а.
- Увидишь златоверхие храмы и преухищренные терема повыше московских. Князинька увозит нас в Новгород.
Лесная дева, присев на одре, понурилась:
- Не жилец… Боярышня вышла из себя:
- Спятила? С чего взяла «не жилец»? Почём знаешь?
- По взору, - вымолвила Раина. - Старческие глаза глядят будто бы из загробной жизни.
6
Многоместная колымага двигалась неспоро. В подушках сидели четверо: Всеволожа с Раиной, князь Константин, что по старости затруднялся скакать в седле, и священноинок в клобуке до бровей. Обочь колыхалось множество всадников.
- На что большая обережь, князинька? - удивилась Евфимия.
- Все дороги ворами заворены, - отвечал Константин Дмитрич.
Инок молчал, созерцая движущийся мир в оттулённом оконце. Евфимия знала: во Вседобричь прибыл он третьего дня. Вчера отдыхал с пути и трапезовал в ложне. С князем говорил кратко. Подозревалось: именно он - основная причина их внезапного выезда.
- Отче Симеон, - обратился к нему Константин Дмитрич. - Это моя названая дочка со своей девушкой, - показал на Евфимию и Раину.
- Благослови, Господи, дочь боярина Иоанна, - пробормотал Симеон.
- Знаешь ли меня, святой отец? - спросила боярышня.
- Видел на Москве у Пречистой, хотя сам из Суздаля, - ответил монах.
- Священноинока Симеона знавал твой батюшка, - сообщил своей подопечной князь. - Большой учёностью славен сей мой старый знакомец! То-то митрополит Исидор взял его на Восьмой Вселенский собор! Многое повидал в чужих землях наш мудрый старец. Поведай, отче, - обратился князь к иноку, - каково житье в западных городах. А то мы тут в Новгороде слушаем лишь своих купцов. Вон Стефан Верховитинов побывал в Царьграде и такого наплёл! Жаба там ходила по улицам, пожирала людей. Метлы сами мели: встанут люди - улицы чисты…
Сквозь скудную бороду Симеона просияла улыбка.
- Царьграда не привелось лицезреть. Град же Юрьев велик. Весь каменный, каких нет у нас. И Любек дивен вельми. Дома с позолоченными верхами. Изобилье товаров. Воды проведены по улицам и текут по трубам, а овогда из столпов, студёны и сладки. В монастыре Любекском - мудрость недоуменная, несказанная: как живая, стоит Пречистая и Спаса держит на руках. А зазвенит колокольчик - ангел слетает сверху, сносит венец, кладёт его на Пречистую. Потом звезда идёт по небу и, глядя на неё, шествуют три волхва. Впереди - человек с мечом, позади - другой, со святыми дарами…
- Каково чудесно измыслено! - восхитилась Евфимия.
- В Люнебурге, - продолжил инок, - столпы позолоченные из меди. И люди медные приряжены к каждому. Текут из них воды хладные: у иного изо рту, у другого из уха, у третьего из глаза. Текут шибко, как из бочек.
- Пить можно? - спросил князь.
- Пьют и гражане, и скот, - подтвердил монах. - В Брауншвейге крыши домов крыты досками камня мудрёного, что много лет не рушится. Был и у хорватов. Язык у них с Руси, вера латинская.
- А что ж во Флоренции, на Соборе? - не терпелось Всеволоже узнать о главном.
Инок опустил главу, смолк.
За него Константин Дмитрич повторил услышанное накануне:
- Не снёс наш Симеон всей неправды митрополита-грека. На Москве Исидору был наказ: «Принеси к нам древнее благочестие, какое мы приняли от прародителя Владимира. Нового, чужого не приноси. Принесёшь чужое, не примем».
- Исидор же склонился пред Папою и приклякал по-фряжски, - вставил Симеон.
- Что значит приклякал? - спросила Евфимия.
- Ну, приседал, - пояснил князь. - И наших заставлял. А Симеон с ним спорил, оттого держался греком в тесноте.
- Видя ересь, неправду, я бежал из заточенья в Смоленск, - сказал инок.
- Смоленский князь-литвин выдал его Исидору, - продолжил Константин Дмитрич. - Симеон вновь был ввержен в темницу. Сидел зиму в железах, в одной свитке, на босу ногу. Вязнем попал в Москву…
- Сидеть бы до сей поры, - вздохнул инок, - когда б Исидор не принёс к Пречистой латинский крыж, не помянул на ектинье Римского Папу, не зачитал пред великим князем и боярами грамоту с латинскими новизнами, не объявил о нашем приложенье к папизму. Государь обозвал митрополита «ерестным прелестником», лютым волком, не пастырем. Велел свести с митрополичьего стола, взять под стражу…
- Ай да Василиус! - подпрыгнула, плеснув в ладони, Евфимия.
- Бояре ему сказали, - продолжил инок. - «Государь! Мы дремали. Ты один за всех бодрствовал, открыл истину, спас веру. Митрополит отдал её на злате Римскому Папе, вернулся с ересью».
- Рязанский епископ Иона подучил Ваську, что сказать, - уверенно заявил Константин Дмитрич. - Иона - вельми мудр!
- Стыдись, князинька! - нахмурилась Всеволожа. - Личная неприязнь мешает оценить достоинства человека?
- Он, как его родитель, не дал мне удела, - ворчал старый изгой. - Озлился, что я брата Юрия, его дядю, не повоевал. У кого ж неприязнь?
- Бог судья, Бог судья, - осенился крестным знамением иеромонах и взглянул в оконце. - А вот уже и Клопская обитель зовёт нас златыми главами!
Евфимия загляделась:
- Борисоглебский монастырь в Торжке мне казался дивен. Сей же ещё прекраснее!
- Истинно! - похвалил князь её восторг и обратился к Симеону: - Ты не досказал, отче, что ныне с Исидором?
- Отступник Православия, - оповестил инок, - был заточен в Чудове монастыре. С Крестопоклонной недели сидел всё лето. На днях бежал из Кремля, из Москвы. Куда ж ему теперь? В Рим!..
В Клопской обители отстояли конец обедни. Монашеский хор на клиросе пел демеством, старинным напевом, взятым у греков, гнусливым и в один голос. Евфимии показалось, что среди лета попала на великопостную службу. Хотя вспомнила: батюшке Иоанну Дмитричу такая певческая «мусика» нравилась. Находил её «сотворяющей свет от прекрасного осьмигласия».
По крестоцеловании ко князю и Симеону подошёл игумен Феодосии. Втроём удалились для задушевной беседы. Боярышню же с девицей препоручили монаху, что повёл показывать монастырь.
Долго созерцали Евфимия и Раина каменную церковь Пресвятой Троицы.
- Была сия храмина деревянной, - рассказывал провожатый. - Обитель посетил много лет назад нынешний спутник ваш князь Константин Дмитрич. Встретил здесь Христа ради юродивого инока Михаила. В рубище явился Михаил из Москвы к игумену Феодосию. Весьма скоро прославился прозорливостью и чудотворениями. При трёхлетнем бездождии его молитвами возник в монастыре источник, над коим соорудили колодезь.
- Чем же облагодетельствовала нашего князиньку встреча с юродивым? - полюбопытствовала боярышня.
- Он узнал в Михаиле ближайшего своего родича, без вести пропавшего, - объявил монах. - Не эта бы встреча, никто бы не ведал в обители, что новый наш брат происхождения весьма знатного. В честь того дня и воздвигнут иждивением князя на месте деревянного каменный храм.
- Где же сейчас юродивый? - спросила Раина.
- Отошёл в Новгород по неведомой нам причине. Обещал вернуться спустя седмицу.
У врат обители их нашли Константин Дмитрич и Симеон.
- Пора в путь, - позвал князь. - Трапезовать будем в Новгороде. Осталось пятнадцать вёрст. Отец Симеон поспешает к Евфимию, архиепископу новгородскому, уведомить о судьбе Исидора, поклонника Флорентийской унии.
Уже сидя в карети, князь с грустью промолвил:
- Жаль, не застал я в обители блаженного Михаила. Не говаривал ли тебе, Евфимьюшка, о сём редкостном человеке?
- Не говаривал, - отозвалась Всеволожа. - От провожатого-инока узнала о нём. И церковь каменную узрела, возведённую твоим иждивением.
- История стоит большой беседы, - принялся было за рассказ князь, однако же не успел начать.
Едва проехали реку Мету, приблизились к Волховцу - до Новгорода оставалось пять вёрст, - и вдруг…
- Что это? Поглядите-ка! - встрепенулась Раина.
За оконцами почернело. Ветер хлестанул в них, пришлось прикрыть. Лошади стали. Конная обережь скучилась. Один из охранышей спешился, подошёл к карети.
- Небывалая хмарь, господине! Сухой дождь движется на нас!
- Экая несусветица! - осудил оробевшего Константин Дмитрич.
И тут началось светопреставление. Дождь сухо забил по кожаной крыше. Кареть шаталась. Всадники съёжились в сёдлах, накинули полы одежд на головы. Капли дождевые изумляли чудесным видом. Симеон оттулил оконце, высунул руку с простёртой дланью, показал спутникам толику пшеничных и ржаных зёрен.
- Господь ниспослал хлебный дождь! - молвил он дрогнувшим голосом.
- Надо ж случиться такому чуду! - не верил князь, перетирая пальцами зерна.
- Неподалёку буря была сильна, - надоумила Раина спокойно. - Вихрь взял зерна с полей и принёс сюда.
Тем временем дождь иссяк. Князь открыл кареть, и все вышли.
- Ой, всё в зерне! И поле, и лес, - обозревала угомонившееся пространство Евфимия.
- А вон и селяне с торбами, - показал князь. Он подошёл к ближней бабе, что склонилась, сбирая зерна в подол. - На стол вам, бабонька, манна с неба?
- Не на стол, Господину Великому Новгороду в продажу, - голосисто отвечала селянка. - Там ныне сухмень и хлебная дороговь, и с того люди мряху. Нам прибыток, а гражане обрадуются.
Священноинок перекрестился, усаживаясь на своё место:
- Чудны дела твои, Господи! Кареть продолжила истекающий путь.
7
Повечер миновали Волховец и приблизились к Нову Городу. Раина, глядевшая со своей стороны в оконце, внезапь отпрянула.
- Что с тобой, душенька? - спросила Евфимия.
- Тьма впереди пугает.
- Дню приходит конец, - объяснила боярышня.
- Дню приходит конец с востока, не с запада, - возразила лесная дева.
- Буря, принёсшая хлебный дождь, теперь злодействует над Великим Новгородом, - оповестил Симеон.
Как бы над их головами грозно грянул гром.
Не хлебный, водяной дождь обрушился на кареть, заструился по слюдяным оконцам. Вспышки молний, на миг-другой ярко высвечивали испуганные лица крестящихся путников.
- Страсти какие! - шептала боярышня.
- Чуть-чуть до дому не дотянули! - сожалел князь.
Подъехали к городским вратам. Ливень стих, кареть же остановилась. Возница, сошед с облучка, приотворил дверцу:
- Далее нет езды. Улицу запрудила толпа.
- С Божьей помощью доберёмся пешехожением, - вздохнул князь, покидая тёплое место.
Симеон - за ним.
- Боюсь быть в толпе, - вспомнила Евфимия новгородские злоключения.
Раина прижала к своему боку боярышнину руку:
- Небось!
Молнии ещё пыхали окрест. Кое у кого появились факелы, ибо совсем стемнело.
- Ступайте к церкви Пресвятой Богородицы, - слышался позов. - Там сторожа Андрея убило молнией!
У паперти над трупом выла женщина. Другая громко поясняла:
- Цепь паникадильную порвало, двери царские ожгло.
- Внутрь вошёл огнь? - ужасались голоса.
- У нашего святого Николы в воротах под церковью двоих убило! - свидетельствовали очевидцы. - Одни упали, как мёртвые, другие онемели, иные без ног стали и оглохли…
- А в церкви у святого Константина иконы опалились!
- И у Предтечи, и у Василия Божий гнев оставил отметины…
- Пропустите князя Константина и людей его!.. А ну, отхлынь! - кричала обережь вокруг Евфимии и её спутников.
Чья-то мужняя жёнка под выцветшим убрусом в толчее просочилась сквозь охранышей, оказалась меж Раиной и боярышней.
- Не зря вчера в вечернюю зарю являлось знамение на небеси!
Женщина тряслась от страха. Евфимия спросила:
- Какое знамение?
- А не видала? - полуплача, крикнула напуганная дивом горожанка. - Все видели! На западе звезда немалая взошла, аки копьё, а сверху, с острия, воссиял луч. Это ради грехов наших. Так толкуют сведущие. Всё преобразуется, претится и велит покаяться.
- В чём каяться? - услышал их беседу князь.
- В том, что русские между собой секутся, брат куёт копьё на брата, острит меч приятель на приятеля, стрелами стреляет ближний ближнего, сулицею прободает сродник сродника, племенник своего племенника низлагает и правоверный единоверного рассекает, юноша седин старческих не стыдится, и раб Божий раба Божьего не щадит…
- Куда, куда отжимают нас? - сопротивлялся князь толпе, что с обережью вкупе понесла их вправо от Великого моста. - Нам на Владычную сторону!
- Любезный княже, - стонал сдавленный с боков Симеон. - Говорят, инок свят внезапно начал в колокола звонить, и многие сходятся… Он же уродствует…
- Что толкуешь, отче? Какой инок? - продолжал сопротивляться толпе Константин Дмитрич. - Ох, и вправду колокольный звон!
Дождь то уходил, то приходил, загашивая факелы.
И вся толпа, спешащая на зов, напоминавший набат, вдруг погружалась во тьму кромешную. Лишь вспышки молний озаряли бесконечность жарких глаз, всклокоченных бород, высоких шапок…
- Не наседай! Не наседай! - предупреждала цепь вольных стражников. - Пройди заулками!
Кабы не стражники-богатыри, помяли бы толпежники друг друга.
Вывернув из-за угла, Евфимия узрела страшный свет. Треща, искря, грозя красноязычием, пылал костёр до неба.
- В храм угодила молния! Сосновый храм горит! - кричали спереди на крики напирающих.
- Что, что горит?
- Колокола на звоннице от огненного жара разлились! - перекрывал всех тонкий голос.
Однако тот набатный звон, что стягивал толпу на площадь, ещё гудел. И вдруг умолк. И всё умолкло. Лишь факелы шипели и чадили, судя по запаху, ибо во тьме не видно было чаду.
- Глядите, вон, на каменной приступке возвысились архиепископ наш Евфимии с посадником Нежатой…
- Тише! Тише!.. Юродивый заговорил…
На звоннице каменной церкви, что насупротив пылающей сосновой, освещённый пламенем, стоял высокий человек. Он не был в медной шапке и веригах напоказ, какими Всеволожа привыкла видеть на Москве юродивых. На нём были скуфейка, ряса, подпоясанная вервием. Левая рука сжимала длинный посох, правая возвысилась над площадью.
- О, это ж Михаил, мой родич! - затормошил князь своих спутников.
Его утихомиривали из толпы:
- Дай слушать!
Михаил Клопский подошёл к самому краю высокой каменной площадки. Белая, едва не по колена, борода зашевелилась. Он стал говорить. Гулкий, как гром небесный, голос, чёткие, как будто зримые, слова как было не услышать?
- Днесь великий князь торжествует! - возгласил юродивый. - Господь даровал ему наследника. Зрю младенца, ознаменованного величием. Се игумен Троицкой обители крестит его, именуя Иоанном. Слава Москве!
Толпа безмолвствовала. Будто бы никто вправду не воспринял славословия юродивого.
- Иоанн победит князей и народы, - продолжил он. - На горе нашей отчизне Новгород падёт к ногам Иоанна и не восстанет!
По толпе прошёл стон.
- Гордыню вашу упразднит Иоанн и ваше самовластие разрушит, - пророчествовал Михаил. - И самовольные ваши обычаи изменит. И за ваше непокорство многу беду, и посечение, и плен над вами сотворит. И богатство, и сёла ваши восприимет…
- Протиснусь, протолплюсь к архиепископу, - рек Симеон на ухо князю. - Ты не пойдёшь со мною, сыне?
- Нет, - мотнул головой Константин Дмитрия. - Евфимии держит сторону Василия Московского. У нас с владыкой мысли разные.
Вскоре по отходе Симеона умолк юродивый, покинул звонницу. Князь было попытался с помощью охранышей приблизиться к своему родичу, однако увидал его вблизи архиепископа и отступил.
Толпа редела. Люди расходились.
- Ты веришь, доченька, пугающему прозорливцу? - спросил князь Евфимию.
- Я верю, - отвечала Всеволожа.
- Я - нет, - возвысил голос Константин Дмитрич.
Раина не участвовала в споре.
Кареть ждала их у Великого моста.
Хоромы «князиньки» на улице Рогатице удивили Всеволожу мрачностью. В палатах и простор, а потолки низки. Брёвна в стенах и могучи, а черны. Ступени лестниц и крепки, а стонут, как ледащие.
Приняв с Раиной баенку, протопленную только что, а скуповатую на жар, боярышня опрянулась и поднялась в столовую палату, где ждал Константин Дмитрич.
- Тяжёлый день! - заметил он. - От хлебного дождя до грозного пророчества. Дай Бог, чтобы последние часы до сна были покойны.
Едва лишь прозвучало это пожелание, внизу возникли голоса и шум.
- Сколько крат можно ходить? - кричал вельможный бас - То князь в Торжке, то в сельском замку! Але прячется? Ох, мает быть караный! С третьей покушки мне потрафило: князь дома!
- За покушку бьют в макушку! - проворчал Константин Дмитрич.
- Кто так припозднился? - недоумевала Всеволожа.
- В который раз пожаловал. Подумал, прячусь, - хмыкнул князь. - Грозится наказанием. С третьей попытки застаёт…
Евфимия допытывалась:
- Кто же, кто? Константин Дмитрич тяжело вздохнул:
- Слышу голосище выходца литовского, дружка Шемяки, Александра Васильича Чарторыйского!
8
Едва гость переступил порог, Всеволожа про себя ахнула, вслух же прошептала:
- Богатырь!
- Чета братцу Ивану, - истиха вымолвил Константин Дмитрич, поднимаясь встречь вошедшему.
- Лабас понас! - заорал большеглазый великан, блистая серебряными усами.
- Добрый вечер, - ответил князь.
Они трижды облобызались. Однако гость этим не удовольствовался, промурлыкал:
- Ера! Ера! - и облобызал хозяина ещё многожды. Константин Дмитрич едва вырвался.
- Будет тебе «ера», «ера», «ещё», «ещё»!
- Але не с пригоды? - хохотал Чарторыйский. - Не виделись сто лят! - Потребовал вина себе с хозяином против обычая, чокнулся кубками, провозгласил: - Сто лят, сто лят нех живе, живе нам!
- Ещё раз, ещё раз нех живе, живе нам! - пропел следом за ним князь.
Видно, во время оно оба употчивались по-братски.
- Ты мне ближе отца с маткой! - орал, хмелея, литвин. И тут из-за плеча князя, не уступавшего богатырю ростом, углядел присмиревшую за столом Евфимию. - О, прекраснейшая паняли!
- Эта паненка - моя названая дочь, Евфимия Всеволожа, - представил князь.
- Дочь пана Иоанна! - воздел руки Чарторыйский. - Да покоится его душа в райских кущах боженства христианского!
Евфимия, встав, поклонилась гостю. Не плечистость, не рост и не крупный лик его с тяжким голым подбородком оказали на неё сильное воздействие. Глянув раз, она продолжала видеть мускулистые руки Чарторыйского, умертвившие Жидимонта.
- Дозволь, князь, покинуть вас, - обратилась боярышня к Константину Дмитричу.
- Побудь ещё с нами, - попросил он.
- Ера, ера! - обрадовался Чарторыйский. - Ещё, ещё!
- Литовские жены менее приятны твоему взору, нежели наши? - спросил хозяин.
- О! - взмахнул рукой гость. - Татары держат жён в сокровенных местах, наши ходят по домам праздные, в обществе мужчин, в мужском почти платье. Отсюда страсти… У нас некоторые женщины владеют многими мужчинами, имея сёла, города, земли, одни временно, иные по наследству. Желая владычествовать, живут под видом девства или вдовства необузданно, в тягость подданным. Одних преследуют ненавистью, других губят слепой любовью…
- Платье-то на тебе наше, - перевёл в присутствии девы речь в иное русло хозяин.
- Платья, однорядки и кафтаны, - отвечал Чарторыйский, - радные паны причинают делать и многие любят носить ныне с московского обычая.
- Вы переимчивы, друже, - заметил князь.
- А вы? - вопросил Александр Васильич. - Жены русские, как и наши, носят на голове украшения, отделывают подол платья до колен полосами горностая и иных мехов, мужчины носят верхнюю одежду в виде немецкой.
Константин Дмитрич наполнил кубки.
- За дружество наше, Саня! Вместе пуд соли съели. Гость опорожнил кубок и очервленел ликом. Видно, напотчеваться успел не только в этой палате.
- Слышно, покинул ты псковитян? - спросил князь.
- Тьфу на них! - сплюнул в сторону Чарторыйский. - За моей спиной жили, как за каменной стеной. Вдруг сие не так и тоё не так! Ищут нового воеводу. Я ушёл к побратиму Шемяке. Привёл триста боевых людей кованой рати, не считая кошевых. Станут псковичи соколом ворон ловить и меня, Чарторыйского, вспомнят.
- В Литву тебе нет дороги, - вздохнул Константин Дмитрич.
- Се мне не трафит, - согласился литвин. - Под скипетром Казимира только шеей зад взвешивать! Зело зол! Дружница жидовка Эстерка ему прибавляет зла. То-то новгородцы не приемлют от него помощи!
- А предлагал? - обеспокоился князь.
- Предлагал, коли станут подданными…
- Буммм! - раздалось за окном. Константин Дмитрич прикрыл оконницу.
- Часомерье на Владычней башне извещает о полной ночи. Пора, друже. Благодарствую за приход. Утро вечера мудренее.
- За гостины - поклон! - обнял князя Чарторыйский.
- Обережь нужна?
- Моя ждёт внизу.
Друзья, пошатываясь, направились к противоположным дверям.
- Провожу тебя, князинька, - приняла руку старика Евфимия.
Пожелали друг другу покойной ночи. Прикрыв дверь хозяйской опочивальни, боярышня прошла через столовую палату в сени. Стол был пуст. Челядь разошлась. У ступеней, ведущих выше, в её одрину, Евфимия услышала шаги снизу. Тяжёлые, торопящиеся шаги. И вот густой шёпот позвал:
- Обожди, паняли Евфимия!
Всеволожа остановилась. Пред ней вырос Чарторыйский.
- Запону жемчужну на столе забыл…
- Пусто на столе, - сказала Всеволожа. - Пирник, стало быть, прибрал. Завтра у него спрошу…
Припозднившийся гость стоял, в упор глядя на неё. Видимо, не спешил откланяться. Жаждал продолжать беседу.
- В Вильне была, паняли?
Всеволожа покачала головой.
- Батюшка бывал, сказывал: столица Великого княжества Литовского состоит из дурных деревянных домов, деревянной крепости и нескольких церквей.
- То было давно, - пробасил Чарторыйский, не трогаясь с места.
- Пора на покой, гостюшка, - очесливо улыбаясь, стала боярышня на первую ступень своей лестницы. - Вельми поздно!
Он взял её руку для прощального лобызания, а после внезапь притянул к себе, охватил стан другой рукой.
- Брось старика… Едем ко мне… Княгиней будешь… Хозяйкой моего замку!
Объятия были не столь решительны. Всеволоже удалось выскользнуть, стебнуть оскорбителя по лицу и далеко отскочить.
- Пёсья мать, - тихо выругался литвин.
- Твой господин Свидригайло на предложения об измене отвечал оплеухами, - напомнила Всеволожа.
Александр усмехнулся, раскинул лапищи, пошёл на неё медведем.
- Подь до верху, не трону..
Он как бы освобождал путь к лестнице. Тут таился подвох: слишком близко предстояло пройти мимо жадных лап, готовых схватить. «Очами лжёт, а руками страшен!» - не двигалась Всеволожа.
Чарторыйский тем временем подступал… Вот приблизился… Вот занёс над ней великаньи длани… Ими он исторг жизнь из несчастного Жидимонта, отпершего на его подман. Евфимия увидела эти руки с вилами… Нет, над ней были руки Вепрева, занёсшего стальное трезубие… Страдный предсмертный крик потряс сени, весь терем княжеский. С переходов и лестниц понеслось топотание. В дверях зажелтели испуганные лица.
- Любодей в моём доме? - удивлённо прозвучал голос Константина Дмитрича.
- Я… не… не есть любодей, - обернулся гость к хозяину в ночной рубашке до пят.
- Любодеяние в сердце любосластивца первее всего возгорается! - вскинул князь указательный перст.
В сенях воцарилась напряжённая тишина. Её нарушил хозяин:
- Ты оскорбил мой дом!.. Дорож, Спитко, Анфал, Кюр! - позвал он.
- Будикид, Буйвид! - крикнул Чарторыйский.
С разных сторон вошли в сени литовцы при оружии и безоружные люди князя. Однако же вид последних был очень внушителен.
- Теперь нас с тобою рассудит поле и Божий суд! - возвысил голос Константин Дмитрич.
- Рыцарский поединок? Ха-ха! - разразился смехом гость-оскорбитель. - У вас нет рыцарства…
- Когда ты под стол пешком ходил, - сказал князь, - сын великокняжеского пестуна Осей на моих глазах был смертельно уязвлён на игрушке оружием. Так что рыцарские игры у нас в заводе. И рыцари есть не хуже франкских или немецких, лишь именуются по-иному. Твёрдые ратователи за правое дело, самоотверженные заступники всегда были. Так что готовься к завтрашнему суду!
Литвин круто повернулся и пошёл из сеней вместе с Буйвидом и Будикидом. Князь приказал:
- Раина, прими боярышню! Кюр, Спитко, идемте со мной!
9
- Бежим! И не мешкая…
- Бегство равно предательству: князинька в беде!
Девы сидели на одре, тесно прижавшись друг к другу. В оконницу заглянул рассвет. Дождались его появления, не сомкнув очей.
Раина подошла к окну, впустила утреннюю свежесть.
- Было мне «привидение»: всем грозит беда! Надобно изменить судьбу.
- От судьбы не сбежишь, - откликнулась Всеволожа.
В дверь стукнули.
- Дозволь взойти, детушка?
Застав Евфимию бодрствующей, князь всплеснул руками:
- Разве ж так можно?
Всеволожа бросилась к старику с уговорами:
- Откажись от смертельной игрушки из-за меня. Помысли про свои лёта!
- Кюр Сазонов уже воротился, - объявил князь. - Ратоваться будем мечами на дальней поляне моего огорода.
- Безумство! - возмутилась Евфимия. - Вспомни, покойный митрополит Фотий за вызов на поле лишал причастия. Убийц отлучал от церкви на восемнадцать лет. Убитых запрещал отпевать. Язычники искушали спорящих огнём и водой. Искушать оружием - не худший ли грех?
- Защита чести - не грех, - молвил старый князь.
Евфимия увидела мысленно надпись на мече Дмитрия Красного: «Никому не отдам чести своей». И не нашла возражений.
С первыми солнечными лучами поединщики встретились на огороде, углубились в яблоневые дебри. Боярышне было запрещено созерцать «суд Божий». Однако урядливая Раина провела её стороной. Обе спрятались в смородиновых кустах.
Поляна была просторная, в окружении плодовых Деревьев. На княжеской стороне стояли Спитко и Кюр. На стороне Чарторыйского - Будикид с Буйвидом. Скинув верхнее платье, бойцы остались в сорочках. На князе - шёлковая, до колен, с пристёгнутым стоячим воротником из бархата. На литвине - полотняная, расшитая по воротнику и рукавам золотом.
- Одумайся, друже, - пробасил Чарторыйский. - Готов покутовать пред тобою.
- Покаяния твоего мне мало, - ответил князь. - Бесчестье смывается токмо кровью.
- Маешь быть караный за твою гордость, - пробурчал литвин.
- Кара ждёт тебя! - возразил Константин Дмитрич.
Буйвид и Кюр подали мечи поединщикам.
Евфимия не могла унять дрожь во всём теле, однако же ободряла тишайшим шёпотом пасмурную Лесную сестру:
- Поранят друг друга и разойдутся. Они ж друзья! Первым сделал выпад литвин. Князь отбил удар.
Чарторыйский вновь занёс меч… И не успел опустить. Константин Дмитрич поднял свой, но как-то медленно, словно сонный… И вдруг зашатался и упал навзничь.
Всеволожа, забыв о своей таимности, бросилась к неподвижному, без меча сражённому старику. Оскорбитель оттолкнул её, стал на колена, припал ухом к груди недавнего супротивника… Тяжело поднялся и объявил:
- Князь мёртв!
Буйвид с Будикидом напали на Спитка с Кюром. Те выхватили ножи…
- Стойте! - властно прозвучало со стороны. Всеволожа внутренне сжалась, узнав ненавистный голос.
- Внесите дядюшку в дом, - приказал Шемяка. - Боярышню заприте в её одрине. А мы с тобой, побратим, пойдём, пособоруем без свидетелей…
Крепкая мужская рука повлекла Евфимию к дому. Вскинув слёзно затуманенный взор, Всеволожа узнала трёххвостую бородку буквой «мыслете» ближнего болярца Шемякина, столь памятного ей родителя Фотиньи, Ивана Котова.
- Доверься, Евфимия Ивановна, ведь я тебя единожды спас!
Более он не произнёс ничего. Запер её в одрине. Не успокоить ли хотел тёплым словом, чтоб не противилась?
Раину к ней не впускали. Где же Раина? Боярышня смутно вспоминала: ещё до того, как услышала Шемяку, не чувствовала лесную деву рядом с собой. Была и исчезла!
Поесть принесла Агафья. Одежда на ней плачная.
- Пусти попрощаться с князинькой, - попросила боярышня.
- За дверью охраныш, - шепнула стряпуха. - Шемяка хапнул осиротевший терем под свою руку. - А вслух примолвила: - Ещё во Вседобричи слышала плач, стон, вздохи домового - к смерти хозяина!
Назавтра до Евфимии тоже донеслись и плач, и рыдания, и многий вопль. На сей раз не домового, а наёмных плачей.
Судя по времени, уже после похорон в соседней ложне за тесовой перегородкой от души плачевопльствовал кто-то из челяди:
- Али мы тебя не любили? Али чем прогневили?.. Повечер пришла прибрать за боярышней жалевая Агафья.
- Плачешь? - спросила Евфимия.
- Кажись, и не плачу, а слеза бежит…
- Погребли князиньку?
- Погребли под дубом. Прозвание древу дали: «дуб плачен».
- Много пришло наймиток?
- Была бы кутья, а плакуши будут.
- Погребением управлял Шемяка?
- Яко ночной вран на нырище… Ты-то как? - посочувствовала Агафья.
- Плакать не смею, тужить не велят, - понурилась Всеволожа.
- Райку-то твою ищут. Сгинула! - перешла на шёпот стряпуха.
День миновал, другой… Евфимия сумерничала у открытого окна, гадая, что с нею на сей раз сотворит Шемяка. С огорода тянуло свежестью от близкого Волхова. При резких порывах ветра снизу доносился дробный стук спелых яблок…
А вот и на подоконнике стукнуло. Затворница подняла отлетевший на половицу камешек. Как он мог в этакую высь залететь? Она высунулась из окна и узрела в яблоневой густоте белый лепест. Это подавала знаки Раина, сорвав с головы льняной плат, помнится, с синей каймой. Потом показала Евфимии тёмный шар и тут же сложила руки, как для ловли мяча. Боярышня шире растворила оконницу, ниже свесилась, выставила ладони. Тогда лесная сестра кинула вверх клубок… Он был пойман. «Фишка ловит любую свечу!» - крикивал на детском лугу Шемяка, заядлый игрок в лапту. Вот и теперь ловуша не подкачала. В её руках пеньковое вервие, крепкое, свитое из нескольких прядей нити.
Она поняла знак Раины, ждущей в яблоневом укрытии. Закрепила верёвку мёртвым узлом на выступе подоконника. Примерчиво посмотрела вниз: с третьего прясла деревья выглядели кустами! Из плетёного короба, где помещалось её имущество, извлекла перстянки. Спустила ноги из окна, перевернулась к подоконнику лицом. Удачно прошла телом в оконницу. И, всей силой сжимая вервие, стала осторожно спускаться…
Чем ниже, тем качность больше, будто висишь, как зыбка… Качунья для вящей смелости поглумливалась над собой: не заболеть бы качеей, когда и рвёт, и голова кружится! Спускалась всё ниже, ниже… Вервие и надёжно, да жжёт ладони. Уже и перстянки, порванные, не помогали. Однако ещё чуть-чуть, и она окажется в добрых руках Раины… «Слизко, неловко, в серёдке верёвка», - вспомнила Всеволожа детскую загадку про сальную свечу. Загадка сия весьма сейчас подходила к ней.
И вдруг… беглянка не спускается, а вздымается. Теремные брёвна перед глазами замелькали в обратном направлении. Глянула вверх… В окне высунулся по грудь Чарторыйский, простоволосый, в белой сорочке. Втаскивает верёвку страшными лапищами убийцы, втягивает в одрину. Евфимия, похолодев, пуще заперебирала руками. На какое-то время зависла. И всё же медленно стала приближаться к окну. Ещё сделала усилие, забыла об осторожности… Тщетно! То зависнет, то идёт вверх. Горькая мысль мелькнула: сколько ни виться вервию, конец будет всё равно… И вот он, конец!
- Быть тёлочке на верёвочке! - раздался над ней приговор Чарторыйского. - Не трафит меня любить, прыгай до земли… Але держись, верну тебя до себя…
До земли было не рукой подать. Она висела на уровне середины второго прясла. Стоило разжать кровоточащие пальцы и - смерть! Не лучшее ли избавление от житейских мук? Стыд: воли нет к смерти!..
Вот он подтягивает её к окну, подхватывает свободной рукой, как пудовичок, водворяет в одрину… Медвежья сила!
В дальнейшем коробушку-светёлку будто бы тряс нечистый. Два зерна бились в ней, малое и большое, то сталкиваясь, то отскакивая… В первый миг боярышня очервленила сорочку мучителя кровью своих рук. Он, смутясь, отпрянул. Однако тут же продолжил ловлю, началась игра в кошки-мышки… Чарторыйскому мешало большое тело, Евфимию выручала увёртливость. Ратная пляска паука с мухой всё же завершилась не в её пользу. Внезапный окрик спас притиснутую к стене:
- Не тронь Фишку, брат!
10
Чарторыйский ушёл, а Шемяка не уходил.
Евфимия убрала растрёпанные волосы под шёлковый лепест, оправила на себе платье, Агафья принесла кувшин воды с тазом, отмыла израненные руки боярышни, залечила кровоточащие места снадобьем, а Шемяка стоял у двери насупленный.
По уходе Агафьи Евфимия обратилась к нему:
- Сызнова умерщвлять станешь? Князь тяжело вздохнул:
- Отжени ушедшее, думай о грядущем. Я был в одержании злых чувств. Вепрев надоумил, я не поперечил. Мой Вепрев бывает вельми свиреп. И то сказать, брата Василия до безумия жаль. Хотя на здравую голову поступок твой не сочту переветом. Старший мой братец дурьей любовью принёс тебе много бед. Ты вправе ненавидеть его.
- Ненависть ни при чём, - молвила Всеволожа. - Не упреди я московский стан, тьма бы людей погибла. Резали бы их, аки сонных тварей. Это ли «Божий суд», как вы именуете битвы ратные?
- Внезапная смерть младшего брата Дмитрия отемнила меня, - продолжил Шемяка, не желая увязать в спорах. - Как бы ни свидетельствовал послух Дементей, что бы ни нашёптывал Вепрев, не верю, будто ты хоть на столько, - сложил он пальцы в щепоть, - повинна в его кончине.
- Претят мне сии глаголы, - отвернулась Евфимия.
- Стало быть, и покончим, - согласился Шемяка, - Я пришёл известить: Софья моя больна стала, узнав о случае в Галиче. Встрёпку от любавы получил жёсткую. Велела без околичностей доставить тебя в Углич под дружескую опеку. Доверься Софье. Меня не бойся. Я рядом с ней бессилен. Отдохни, оглядись, ибо жизнь поступает с тобой немилостиво.
Евфимия долго молчала, испытующе глядя на бывшего своего казнителя, потом попросила:
- Отпусти меня прочь.
- Куда? - прищурился князь.
- К добрым людям, что будут милостивее, чем Жизнь.
Шемяка покачал головой:
- Я дал слово Софье.
Евфимия усмехнулась:
- Софья твоя - благой повод. Не хитри. Открой душу. Что замыслил, касаемо моей дальнейшей судьбы? Ведь сызмальства знаем друг друга. В дипломатике тебе ли со мной соперничать?
- Истинно так, - понурился князь. - Выложу мысли, как на духу. Дозволь лишь обосновать. Честно вспомни: всем ты не в радость. Василиус так и остался от тебя сам не свой. Отец, Иван Дмитрич, восстав за честь дочери, угодил в беду. Васёныш, как ты именуешь его, голову по тебе потерял и Божьего света не взвидел. Младший брат Дмитрий возле тебя угас. И наконец, сердце дяди Константина, защитника твоего, перестало биться…
- Мастерский подбор! - перебила Евфимия. - О тебе можно подобрать памятку похлеще. Не в этом суть. Скажи, чего ждёшь, и окончим прю.
- Жду видеть тебя в ангельском облике старших твоих сестёр, - осторожно молвил Шемяка.
Боярышня села на одре.
- Всё так, всё так, - поглядела она на внесённую Агафьей свечу слабого воска, быстро сгорающую. - Нет мне места в этом миру со смертью Дмитрия Юрьича. Подумывала отъехать к сёстрам на постриг в Тверь.
- Под Угличем есть обитель, - сказал Шемяка, - то ли Рябова, то ли Рябина…
Всеволожа вспомнила Неонилу.
- Дабы я точно знал… - приговорил князь.
- Не успокоишься, не увидев меня под куколем, - опустила голову боярышня. - Я согласна.
- Из-под Углича можешь перевестись под Тверь, - подсказал Шемяка.
Всеволожа кивнула:
- В Углич к Софье с охранышами доставишь? Князь притворил оконницу, ибо на свечной пламень собиралась обильная разноцветная погань.
- Завтра мои дружины вкупе с полком Чарторыйского двинутся на Москву. Вятчане присоединятся в пути. С Василиусом опять немирье. Опузырился, что я не помог, когда Улу-Махмет в отместку за Белев осадил Москву.
- За Белев? Москву? И ты не помог? - вскочила Евфимия. - Я не ведала…
- Жила в деревне у «князиньки», аки у Христа за пазухой, - напомнил Шемяка.
- Почему не помог? - допытывалась боярышня. Князь развёл руками:
- Не помог, и всё тут. Васька бросился на Волгу собирать войско. Патрикеич оборонял столицу. Махмет стоял десять дней, сжёг посады и удалился. Теперь я буду брать Москву. Пан или пропал!
- Мутник! - с сердцем произнесла Евфимия. - Таких вот, как ты, куколь ждёт не дождётся…
- Покамест он ждёт тебя, - ожесточаясь, ответил князь. - Ежели не пойдёшь добром, окажешься на одре Чарторыйского. Литвин спит и видит тобой владеть. Мне союзнику противиться трудно. Согласился на его обережь от большой дороги до Углича, когда будешь ехать в карети с Иваном Котовым…
- Вот оно что! - воскликнула Всеволожа. - Всё уже обговорено! Меня отправляют с твоим болярцем. Вокруг литовская обережь. По миновении свары с великим князем Чарторыйский забирает меня из Углича, словно вещь. Стало быть, благородные князья действуют, как шиши лесные!
- До приезда Чарторыйского в Углич ты мир покинешь, как уговорились, - остановил разгневанную боярышню князь. - Поедешь в карети от повёртки с большой дороги. До того можешь ехать верхом, как это тебе любится. Дай лишь слово, что не сбежишь.
Евфимия подавила гнев и отвечала спокойно:
- При бессилии покоряюсь силе. Даю слово.
- Так-то, Фишечка, - удовлетворился князь. И примолвил, уходя: - Ведьма-девка твоя сбежала. Нигде не могли сыскать…
Памятуя, что Раина скрывается в огородной чаще, Евфимия пожелала:
- Дай Бог, чтоб не нашли. Её в твоей власти ожидает судьба не чета моей, много горше.
Шемяка в конце концов покинул одрину.
Боярышня повечерять не восхотела, испила деревянную опанку вишнёвого взвару.
Посидела при догоравшей свече, передумала горькие думы. А улёгшись, долго ворочалась с боку на бок под покрывальцем. Не засыпалось никак. Перечитала молитвы на сон грядущий во второй, в третий раз. Ещё помучившись, пересчитала галок на воображаемом древе. Исподволь стала вспоминать заклятие: «Ходит сон по сенюшкам, дрёма по новым…» Однако не попала в тот мир, где большая река сливается с малой, где на утёсе высится белый кремник, в коем живёт она, порушенная невеста царская, с истерзанным пытками отцом, сосланная со всем семейством за Камень… Нет, не попала в тот дальний будущий мир, провалилась в чёрную пустоту грёз, без видений…
Проснулась от мягких толчков Агафьи. Стряпуха торопила опрянуться и поесть. Шемяка и Чарторыйский покидали Великий Новгород. Предстояло пленницей двигаться на Москву с их мятежной ратью, а с полдороги - на Углич и там - под куколь…
Прощание с домовитой Агафьей было торопливым, но очень плачным.
- На кого ты нас покида-а-а-ешь?
- А я на кого покину-у-у-та?.. Где Раина?
- Не ведаю-ю-ю…
Чуть сошла с гульбища, подскочил Шемяка:
- Где твоя девка-ведьма?
- Ты меня спрашиваешь? - удивилась Евфимия. - Запертую в одрине?
- Побратим Александр сказал: она тебе с огорода кидала вервие. Где она?
- Твой побратим не дал убежать, - отчеканила Всеволожа. - С тех пор не покидала одрины.
Шемяка оставил её, ругаясь. Зато окружили Буйвид с Будикидом и ещё то ли лях, то ли венгр, Малаш Франик, как его называли. Он подвёл серого коня, судя по зубам, старого, на таком не сбежишь.
Прощай, улица Рогатица, Софийская, Владычная сторона с Кремлем, соборами, Ярославовым дворищем! Волхов, тёмный от злых событий, унеси зло, утопи в чужих водяных глубинах!
Уже за городом Чарторыйский, проскакав мимо, подмигнул: мол, придёт время, будешь в моих руках, никуда не денешься!.. Самоуверенный пан литовский!
Ближе к полудню, приглядев лесной колок у дороги, Евфимия указала охранышам:
- Мне - туда!
Буйвид с Будикидом задёргали головами, Малаш Франик изрёк:
- Не можно!
- Как это так «не можно»? - вскинула гневный лик боярышня. - Сам то и дело отскакиваешь по нужде. Ужель не ясно, осиновая башка? Мне - туда!
Лях или венгр - враг его поймёт! - схватил старика коня за узду:
- Не можно!
Днём она отказалась от пищи. Повечер - тоже. Облегчение принесла ночёвка в избе, где удалось сбегать на крытый двор, пока охраныши дрыхли.
Назавтра - прежнее издевательство. Однако голодовка боярышни обеспокоила Будикида. Он покинул обоз, с которым двигалась пленница, а вернулся с Иваном Котовым. Болярец был в кунтуше, длинном польском кафтане.
- Сряда на тебе панская, - заметила Всеволожа.
- Почему не ешь? - спросил Котов.
- Много ли съешь, коли по нужде не пустят? - резко сказала пленница.
- У, ироды! - погрозил охранышам кулаком боярин и, взяв в повод боярышнина коня, направился к лесу. У опушки строго-настрого приказал: - Не сбеги, Евфимия Ивановна!
- Шемяке слово дала, - сообщила она.
- Дело не в слове, - отмахнулся боярин. - Твой побег сейчас ни к чему. Потерпи седмицу.
Выйдя из леса, Всеволожа спросила:
- Ради чего терпеть? Котов не ответил.
В дальнейшем он дважды, а то и трижды на день подъезжал к ней и отпускал в лес.
- Где моя девица Раина, не знаешь ли? - спросила она однажды, не надеясь на осведомлённость болярца, скорее стремясь разделить своё беспокойство с единственным человеком, кто обходится с ней здесь по-людски.
Каково же было её удивление, когда Котов пообещал:
- Скоро свою девку увидишь.
В дальнейшие объяснения он не вступил, молчал, как оглохший.
У повёртки на Углич к боярышне подскакал Шемяка.
- Ну, Фишка, прощай! Коль доведётся свидеться, будешь уже не от мира сего. Все, кто под куколем, - непогребённые мертвецы. Так что не поминай лихом! Вон, кареть ждёт, - указал он в просеку.
Там стоял запряжённый парой рыдван, по совести говоря, отслуживший век. Малаш Франик и Буйвид с Будикидом направили к нему коней, чтоб дальше охранять подопечную. Она последовала за ними, ни слова не сказав князю. Чарторыйский было приблизился, намереваясь по-кавалерски проститься, однако Шемяка перехватил его, не допустил, внушительно уговаривая. Евфимия, сдав коня, открыла дверцу карети. Там сидел Котов.
- Ох, боярин Иван! - обрадовалась она. - Рядом с тобой отлегло от сердца.
- Что ж, посидим рядком, - осклабился тот. - Чем в панской сряде я хуже Чарторыйского?
- Оставь вздоры! - нахмурилась Всеволожа. - Скажи лучше, где Раина?
- С надёжным провожатым, с тугой калитой на добром коне там, где надо, - осведомлённо успокоил боярин.
Какое-то время ехали молча. Евфимия отходила от долгого беспокойства о судьбе своей сенной девушки, наслаждаясь хотя бы временным обществом тайного доброжелателя, искала слова осторожно выведать, ради чего он велел потерпеть седмицу, почему обещал скорую встречу с Раиной. Сам же боярин Иван посматривал на неё нерешительно, будто вертелось нечто на языке, да остерегался высказать. Наконец вымолвил:
- Не желаешь ли знать подробности погребения жениха своего?
Боярышня дрогнула, онемела на миг и тут же затормошила Котова:
- Расскажи, пожалуй! Поведай все…
Боярин прикрыл тяжкой дланью дрожащую руку девушки:
- Выслушай, ибо любовь твоя была искренней… Ты любила святого!
- Святого, - повторила она. И тут же подняла на рассказчика изумлённые очи: - Святого?
- С этим именем его погребли, - сказал Котов. - Тебя князь Константин увёз - Царствие ему Небесное! - его же, твоего жениха, по отпевании положили в колоду и осмолили, дабы отвезти на Москву, в собор Архангела Михаила, где покоятся лица его достоинства. Везли на носилках, дважды сронили. Когда ж по прибытии рассекли колоду, мнили обрести кости. Ведь двадцать три дни прошло. А тело и чрез сие время оказалось живым, без знаков тления, без синеты…
- Господи! - воскликнула Всеволожа, закрывая лицо руками.
Боярин гладил её склонённую голову. Потом, чтобы успокоить и отвлечь, спросил:
- Как мыслишь, сызнова падёт Москва? Боярышня не ответила.
- Как пред Юрием Дмитричем, пред сыном его падёт? - выводил Котов свою собеседницу из безмолвия.
- Перед Улу-Махметом не пала, перед Шемякою - и подавно, - откликнулась Всеволожа.
- Улу-Махмет - сила! - поднял перст боярин. Евфимия исподволь увлеклась беседой:
- Бывший царь хитростью одержал под Белёвом верх. Ему ль было осаждать Москву?
- Э! - возразил Котов. - Бывший царь Ордынский ныне Казанский царь! Из Белёва через мордву всунулся в Булгарию. Есть там древний Саинов Юрт. Мы опустошили когда-то. Сорок лет простоял в развалинах. В нескольких хижинах укрывалось несколько бедняков. Махмет близ руин воздвиг крепость новую, наименовал Казанью, дал убежище булгарам, черемисам, моголам. Споро наполнил Казань людьми. Беженцы Золотой Орды, Астрахани, Азова, Тавриды приняли его царём. Новое царство Казанское приводит теперь нас в трепет.
- Ошибся Василиус, напав на Белев. Ошибся Шемяка, не дав беглому царю мира, - расстроилась Всеволожа. - Оказались мы промеж двух царей…
Котов не отвечал. Словно бы убаюкал его качающийся рыдван. Евфимия постепенно вновь погрузилась в горькие думы о «святом» своём женихе, о собственной неурядливой участи… Ужли иночество - единственный удел сироты? Ужли провидел это отшельник Макарий, назвав её «невестой Христовой»?..
Очнулась, а Котов весь в напряжении, будто чего-то ждёт.
- Что с тобой, боярин Иван?
- Ничего со мной…
- Как тебе поживается на Москве в моём доме кремлёвском? - спросила Евфимия, дабы в свой черёд его отвлечь, завязать беседу.
- Ничего поживается, - ответствовал он. - Батюшку твоего вспоминаю.
- Кто меня сдаст в обитель? Ты или Софья Шемякина? - пытала боярышня.
- Никто тебя не сдаст, - странно объявил Котов.
- Что за топот, за крик? - внезапно всполохнулась Евфимия. - Нас окружили шиши? Почему стоим? Почему девий визг?
- Ввва-а-а! - визжала вокруг дюжина женских горл. Полон ли гнали? Скорее полонянницы расправлялись с пленителями.
Зазвенели мечи, как в точильне. Кони захрапели, заржали, будто тоже дрались… Всеволожа прильнула к оконцу и отшатнулась.
- Лесные разбойники, - героически усмехнулся Котов.
- Лесные разбойницы! - поправила его спутница, видя развевающиеся волосы всадниц, орудующих мечами и палицами.
- О-о! - прозвучал рядом нежный девичий стон.
Евфимия попыталась выскочить, Котов удержал.
И тут громыхнуло… Она вспомнила почти позабытый гром Бонединой то ли «печали», то ли «пышчали».
К дверце карети привалилось тяжкое тело, не давая Евфимии выйти. Наконец тело оттащили, и она выбралась.
Среди просеки распростёрся убитый Буйвид. Над ним стояла пани Бонедя с дымящимся стволом. Её окружали лесные девы. Раина повисла на шее Евфимии:
- Успели!.. Успели!..
В тот же миг Всеволожа увидела у обочины на траве мирно лежащую на спине Фотинью. Мирно, если бы не распускающийся алый цветок на её плече. Когда Евфимия склонилась над ней, услышала знакомое:
- Ба-арышня!
- Поточка! - глухо выкрикнул Котов, бросаясь к дочери.
В очах Фотиньи возник испуг.
- Батюшка, не выказывайся…
- Это кто? - подошла Янина, изучающе рассматривая болярца. - Он её отец? - глянула на Фотинью.
Котов, отступив, подошёл к карети.
- Ранена? - спросил он.
- До плеча задета. Немножко, - объявила Бонедя.
- Что с охраной? - спросил боярин.
- Перебита, - был краткий ответ.
- Меня свяжите покрепче. Уложите здесь, на дороге, - распорядился он. - Скоро сюда подъедут. - А Всеволоже сказал: - Прости, Евфимия Ивановна! Доброго тебе пути!
- Ей - моего коня! - велела Бонедя и прижалась губами к исхудавшей щеке боярышни. - О, Матка Воска, как ты суха!
Когда девичий отряд отъехал от места кровавой сечи, Янина нагнала могучую Агафоклию, держащую на Руках Фотинью, и сказала раненой:
- Не ждала… Не думала… Стало быть, он - твой отец!
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Суздальщина. Москва пылает. Москва трясётся. Выкупыш. Третье падение с трона. Епитрахиль для младенцев. Простить - не забыть!
1
На пятое лето пребывания Евфимии в Нивнах между нею и Акилиной Гавриловной впервые пробежала лёгкая тень. Давно не бывала боярышня в лесу у сестёр-отшельниц, своих спасительниц. Устала видеть Фотинью, казнимую подозрительностью подруг. Узнав, что Котов её отец, Янина поделилась с девами горьким открытием: он есть убийца Юрия Дмитрича, ибо его, ни кого иного, лицезрела провидица в заговорённой воде, ища волхвованием виновника гибели старого князя. Фотинья возмущённо отрицала причастность отца к злодейству, однако знатной кудеснице было более веры, нежели дочери. И вот обвинение гнетёт душу: отец убил и живёт спокойно, Мамоны же в подозрении. «Ба-арышня, заступись, отгони навет!» - обращалась несчастная к единственной, кто ей сочувствовал, к Всеволоже. Доводы, рассуждения, заверения Евфимии выслушивались без споров и… не имели действия. Самоё амму Гневу, как лицо не стороннее и весьма ранимое, оберегали от этой распри.
Жалость к Фотинье утяжелялась на сердце Евфимии дополнительным грузом: жалостью к Раине. Эта её бывшая спутница и наперсница все пять лет тосковала о воине покойного князя Константина Дмитрича некоем Кюре Сазонове. Его Евфимия и видела-то несколько раз мельком. Однако именно он был снаряжен Котовым в качестве «надёжного провожатого» для Раины, когда она тайно бежала в Нивны из Великого Новгорода, дабы вовремя привести воистых сестёр на выручку увозимой в неволю боярышне. Кюр оставил отряд перед повёрткой на Углич. Раинино расставание было тяжким. Да с сёстрами не поспоришь. А тоска гложет! За пять лет не уймётся! Евфимия понимала деву. Если тоску по мёртвому (Дмитрий Красный продолжал жить в боярышниной душе!) годы не утишают, утишат ли они тоску по живому? И нечем помочь. Лишь два горя соединились, и обеим легче. Изнемогла Всеволожа от неиспокоя душевного, от травной пищи, от созерцательного молчания сестёр. Не монастырь, а всё-таки на свой лад обитель. Не святая, а колдовская. Захотелось в боярский терем к лукулловым пиршествам добрейшего Андрея Дмитрича, к занятным беседам увлечённого числолюбца и звездочёта, к дивно измышленным чудесам неутомимого искателя и придумщика. Давно проторённым тайным лесным путём вернулась она, как решила, надолго из сказочной бревенчатой кельицы в не менее сказочные хоромы. Амма Гнева вскоре последовала за ней, пробовала вернуть и не преуспела впервые. Евфимия отговорилась по-доброму, сослалась на главоболие. Размолвка их стерегла по иной причине, неожиданной для пестуньи и её подопечной.
Обе поочерёдно смотрели в дивную трубку, принесённую в столовую палату Андреем Дмитричем. В этом, направленном на оконный свет, маленьком снаряде возникали узоры многих цветов. Чуть повернёшь трубку - новый узор.
- Соревнуюсь с природой, божественно созданной, - улыбался Мамон. - Воззрите на небеса: сколькожды тучи ни проходят по ним, а картина всё разная. Вот и в моём снаряде: сколь его ни верти, узоры не повторяются.
Дневная трапеза была уже на столе, а женщины неутомимо крутили перед глазами волшебную трубку и убеждались в правоте знатного измыслителя.
Дворский вошёл, объявил:
- Новгородец, что привозил Раину пять лет назад, хочет видеть тебя, боярыня.
Акилина Гавриловна отдала снаряд Всеволоже.
- Какой новгородец? Где он?
Оставшись наедине с Андреем Дмитричем, Всеволожа услышала:
- Сейчас меня занял отчаянный замысел. Лишь тебе открою. Ты умна, милушка, ты поймёшь… Видишь ли, Дух - это бестелесное существо, обитель не вещественного, а существенного мира, верно? Иначе сказать, бесплотный житель недоступного нам мира духовного, так? - Евфимия наклонила голову. В иной миг затея Мамона, коей ещё не ведала, преисполнила бы её ожиданием, как всегда. Теперь же известие дворского отвлекало мысли. Кто как ни Кюр Сазонов мог снегом на голову свалиться из Новгорода на тихие Нивны? - Душа - бесплотное тело Духа, - продолжал Андрей Дмитрич. - Дух выше души… Вот и пытаюсь я грешным делом измыслить прибор, который пока наименовал «духомером»…
Акилина Гавриловна ввела в столовую палату Кюра Сазонова.
- Присядь, гостюшка, к нашей трапезе, - указала она место за столом.
Курчавый парень, в коем Всеволожа сразу признала одного из устроителей поединка Константина Дмитрича с Чарторыйским, сел за стол в явном смущении.
- Расскажи, любезный, как живёт-поживает Господин Великий Новгород эти годы, - пригласила хозяйка гостя к беседе.
- Эти годы для Новгорода худы, - отозвался Кюр. - Недороды и дороговь приводят граждан в отчаянье. В запрошлом годе без всякого доказательства обвинили многих людей в зажигательстве, жгли на кострах, топили в Волхове, избивали каменьем. - От слова к слову голос видимо усталого путника становился твёрже. - Ныне вопль и стенания раздаются на улицах, - тяжко продолжил он. - Бедные шатаются, аки тени, падают, умирают. Дети гибнут перед родителями, отцы с матерями перед детьми. Кто бежит от голода в Псков, кто в землю немецкую, кто в Литву. Иные из хлеба идут рабами к купцам магометанской, жидовской веры. Убили правду в судах ябедники, лжесвидетели и грабители. Старейшины утратили честь. Мы стали поруганием для соседов…
- Ахти мне, охти мне, - причитала боярыня.
Боярин, окончив трапезу, хмуро поднялся из-за стола, покинул палату. Кюр тут же прервал рассказ, обратился к Мамонше:
- Матушка, отпусти со мною Раину! - И, не дожидаясь ответа, примолвил: - Деньги у меня появились. Дом я купил на Москве. Из сорока тысяч домов московских один теперь - мой! Изба недорога - пятьдесят копеек. Пристройку сделал, рабочим в сутки по копейке платил. Лошадь купил за рубль, корову - чуть подешевле. Сорок соболей для будущей своей жёнки сторговал за сорок рублей. Вот мех на шубу обошёлся недёшево - тысяча золотых!
- Тысяча золотых это сколько? - полюбопытствовала Евфимия.
- Двести девяносто рублей, - с готовностью отвечал Сазонов. - Зато мёрзнуть не будет Раинушка, - обратил он молящий лик к амме Гневе. - Отпусти, матушка, пять лет ждал!
Амма встала из-за стола.
- Мой ответ тебе ведом. За пять лет он не претерпел перемен. И за пять веков не претерпит! - грозно вскинула она указательный перст.
- За пять веков? - испугался Кюр.
- А ты мыслил что, один век живём? - усмехнулась ведалица. - Езжай к своей избе, лошади и корове. Дам тебе свежего коня в путь. Уразумей лишь одно: нет для тебя Раины!
- А для кого ж она? - оторопел парень.
- Не для… - Акилина запнулась, махнула рукой. - Не для мужика с коровой. Для иных, высших, неведомых тебе, целей!
- Я ведь без неё не уйду, - нахмурился Кюр.
- Ты… без неё… уйдёшь! - с расстановкой произнесла амма Гнева и, вытянув властную руку в сторону Кюра, продолжила: - Ты выходишь… - Он вышел, застучал башмаками вниз по лестнице из сеней. - Ты садишься на конь… - приказывала колдунья. - Он сел на доброго мерина, что подвёл конюший. - Ты выезжаешь из ворот, скачешь на Можайскую дорогу, мчишься к Москве, - звучал голос Гневы. И Всеволожа, видевшая в окно, как Кюр вынесся из ворот, знала: всё остальное именно так происходит, как сказано. Вдруг позади прозвенел страдальческий голосок:
- Амма Гнева, где он? В дверях стояла Раина.
- Ты… здесь?- удивилась Мамонша. - Кто тебя вызвал из леса?
- Сама, - пояснила дева. - Мне было «привидение»: Кюр сидит у тебя в хоромах… Вот я и…
- Выдь вон, - распорядилась хозяйка. - После будет у нас беседа.
- Чесотка да таперичи, - произнесла Раина, спеша уйти.
- Никогда, - вымолвила Евфимия, - никогда не приходилось мне наблюдать, Акилинушка, как ты творишь зло. Нынче вот пришлось…
Боярыня побелела, как полотно, обратя к ней взор. Без слов выскочила из палаты.
Евфимия постояла в тяжком раздумье. Пошла отыскать Раину и не нашла. Направилась к боковуше Андрея Дмитрича, обнаружила дверь приоткрытой, обрадовалась, однако услышала разговор:
- Что ты скажешь, есть ли какая-нибудь материя за пределами небесного свода и звёзд?
- Материя то, что находится под небесным сводом. Всё остальное - нет.
- А как ты скажешь, есть за пределами свода что-нибудь не материальное?
- Неизбежно. Ибо наблюдаемый мир ограничен. Пределом его условились считать свод сводов, то есть то, что отделяет одно от другого. Следовательно, за пределом должно быть нечто, отличающееся…
Евфимия вспомнила, что к Мамону прибыл из середины Азии учёный араб с длинным именем. Она его имя непроизвольно запомнила, как запоминала всё необычное: Абу-Мансур Мухаммед ибн-Дуст, обладающий познаниями во всех науках. Немало учёных то и дело наведывались к можайскому чудаку. Недавно посетил Нивны алхимик Шпангейм из неметчины, теперь вот араб… Столовой палаты не посещает, питается из собственных рук.
- Так, - произносит он по-латыни, ибо весь разговор ведётся на сем мёртвом наречии. - Однако разум спрашивает: есть ли у нематериального свой предел? До каких пор оно простирается? Если же безгранично, то может ли безграничное быть преходящим?.. Всё это чрезвычайно смущает меня.
- Кого это не смущало? - отзывается Андрей Дмитрич.
Сильная рука обняла тонкий стан боярышни, повлекла прочь от таинственной боковуши с её учёностью.
- Куда ты тащишь меня? Пусти! - прошипела Евфимия, не в силах высвободиться.
- Не гневайся, ненаглядная! Я поступила дурно, но не могу иначе.
- Почему, Акилина свет Гавриловна, почему?
- Двенадцать у меня доченек. Ты не в счёт. Расстаться с любой - как с членом своего тела. Попробуй собственную руку отсечь. Достанет ли сил?
Они оказались в боярыниной одрине. Мамонша усадила Всеволожу на мягкое стольце и объявила:
- За тобой посланный прибыл из Москвы. Великий князь требует тебя без промешки.
- Меня?.. Василиус? - не хотела верить боярышня.
Пять лет назад, когда воистые сёстры лесные с помощью Котова освободили её по пути на Углич, Шемяка и Чарторыйский не взяли Москвы. Литвин вернулся во Псков, Дмитрий же Юрьич примирился с великим князем, отъехал к себе в удел, даже впоследствии помогал московлянам против татар. Замерла усобица на Руси к радости народной. Успокоилась судьба Всеволожи в Нивнах. И вдруг - позов! Что ещё от неё Василиусу?
- Кто прибыл? Для чего? - покинула уютное мягкое стольце боярышня.
- Андрей Фёдорович Плещеев за тобой прибыл, - сообщила Мамонша. - Не говорит для чего. Идём, помогу собраться.
- Акилинушка, - примирительно обняла боярыню Всеволожа. - Отпусти, пожалуй, со мной Раину. Не сочти за отсечение руки. Однажды ты её отпускала, и я спаслась.
- Ин, будь по-твоему, - обрадовалась миру боярыня.
Вошёл в одрину Мамон.
- Слышно, ты покидаешь нас, милушка? Андрей Фёдорыч Плещеев явился ко мне, прервал учёную беседу с арабом.
Вместо ответа Всеволожа прижалась щекой к скудной бороде боярина и спросила:
- Поведай мне на прощание: что составляет переменчивые цветы в твоей дивной трубке?
- О, это просто, - погладил её голову Андрей Дмитрич. - В трубке ничего необычного, кусочки цветного стекла и три длинных зерцальца.
2
- Садись, боярин, с боярышней рядышком, так вам беседовать будет лучше, - предложила Раина, взойдя в кареть, и уселась насупротив.
- Я ещё не боярин, - поправил её Плещеев, - просто молодой дворянин.
- А я тебя уже боярином вижу, - улыбнулась лесная дева[11].
- Каково здравствует государь наш Василь Васильич? - завела речь Евфимия, едва кони тронулись.
- Весь в трудах и заботах, - оповестил Плещеев. - Прошлой осенью золотоордынский царевич Мустафа полонил на Рязанщине тьму людей, пленных продавал в степи самим же рязанцам, да ещё попросился зимовать у них в городе, ибо степь погорела, а зима пришла лютая, кони татарские от бескормицы перемерли. Вот тут и наслал на него государь Василья Оболенского да моего тёзку Голтяева. Нашли они Мустафу на речке Листани. А вьюга нагрянула - стрелы некуда посылать, сплошь бело. Татары озяблые и бесконные отражали нападение с трёх сторон: от наших воевод, от мордвы и от казаков рязанских. Резались крепко, не давались в руки живыми. Мустафа пал. Окруженцы его бросались грудьми на копья. В плен попали лишь тяжко раненные. Наши удивлялись их храбрости.
- Кровь Чингисова, Тамерланова не вовсе остыла в сердцах моголов? - отозвалась Всеволожа.
- Клокочет она в двух царствах, Ордынском, а теперь ещё и Казанском, - подтвердил Плещеев. - Чуть справились с Мустафой, Улу-Махмет тут как тут. Повоевал Нижний, двинулся к Мурому. Все князья собрались, даже Шемяка явился. Побили Улу-Махмета возле Гороховца, передохнули до весны. В нынешнем же году он сызнова осадил Нижний. Двух сыновей, Мамутека с Ягубом, направил к Суздалю. А наши-то распущенные полки соберёшь не вдруг. Явился государь в Юрьев, стеклись к нему князья Верейский, Боровский, Можайский с малыми силами. Шемяка же обманул на сей раз.
- И что произошло? - не терпелось узнать Евфимии.
- Пока ничего, - успокоил Плещеев. - Царевичи медлят, наши ждут их на речке Каменке у монастыря Евфимьева. Даст Бог, обойдётся.
- Куда ж мы спешим? - недоумевала боярышня. - Как я поняла, государя на Москве нет.
- Спешим под Суздаль, - пояснил Андрей Фёдорович. - В стан великого князя, дабы предстала пред его светлые очи.
- Место ль боярышне в стане воинском? - насупилась Всеволожа. Затея с отъездом не по нраву ей была изначально, а теперь и подавно.
Молодой дворянин смолчал.
Раина дремала.
- В Нивны нынче наведался человек из Великого Новгорода, - осторожно сменила речи Евфимия. - Рассказал о внутренних тамошних нестроениях.
Плещеев перевёл дух.
- Там к внутренним бедам добавились внешние, - охотно поддержал он беседу о Новгороде. - Ливонцы, которуясь с новгородцами, затеяли вооружить на них знатную часть Европы. Орден договорился с королями датским, норвежским, шведским совокупными силами воевать нашу землю. Россияне-де люди беспокойные, наглые, любящие отнимать чужое и жаловаться. Распределили: немцам взять Копорье, шведам Орехов, а прочим прочее. Ливонские суда перекрыли Неву, не пускали в Ладогу корабли с хлебом и съестными припасами. В Бранденбурге, Эльбинге, Кёнигсберге служили молебны о счастливом успехе христианского оружия против «отступников злочестивых» новгородцев и московлян. Пусть-де способствует Небо совершенному истреблению Российской державы, великой более именем, нежели силой, опустошённой голодом и болезнями.
- Помогло ли Небо столь грозным замыслам? - спросила Евфимия.
- На Нарове была битва, - сказал Плещеев. - Пруссаки и ливонцы ушли назад. На Двине шведов поколотили. А тут Югорский народ объявил независимость. Пришлось Великому Новгороду усмирять бунт оружием. Москва не могла помочь, будучи меж наковальней и молотом - меж Ордой и Казанью.
Путники молчали в задумчивости.
- Чем более князей и царей, тем более войн, - промолвила Всеволожа.
- Малые государства - и войны малые, - откликнулся Андрей Фёдорович.
- Надобно поразмыслить, - присовокупила Евфимия, - что народу тяжельше, большая война за сто лет или малые ежедень.
На ночь в деревне Кистма принял их съезжий дом.
Наскоро потрапезовали. Раина удалилась на опочив. Плещеев со Всеволожей вышли на гульбище вдохнуть воздуху перед сном.
- Открой, Андрей Фёдорыч, - спросила Евфимия напрямик, - какое во мне понадобье государю?
Плещеев не поспешил с ответом. С высокого гульбища он всматривался в недальний лес, отражающий багряный закат. Лес огораживал поле, по коему двигался мирный конский табун, звеня боталами. Лес ограждал его от наступающей ночи, что превращала лазурь в синеву, а синь в черноту. Белые облака, проплывая по тёмной глади, тоже отражали закат и казались позлащёнными лодьями удальцов с Торговой стороны Волхова.
Всеволожа ждала ответа.
- В толк не возьму, - признался Плещеев. - С некоторых пор Василий Васильич нет-нет да и вспомнит то своё невремя, когда бедовал в Нижнем, а ты отговаривала бежать в Орду. Тогдашние наши споры памятны мне. Я сказал государю: «А ведь боярышня Всеволожа была права». Он молвил: «Она всегда права!» И велел: «Съезди за ней, пока я тут сам по себе ожидаю мира. Хочу её лицезреть. Есть надобье».
- Велением самовластна звезду с неба вынь да положь, - хмуро отозвалась боярышня, - не то что меня, несчастную!
Статный красавец, спутник её, будто и не слышал Евфимии, занятый созерцанием ночи.
3
Шатровый град на высоком берегу Нерли был невелик, но оживлён. Воины расходились с обедни, отслуженной прямо в поле. Пахло навозом и конским потом. Где-то скрипела сбруя, где-то затачивалось оружие. Осёдланные, готовые к делу кони перебирали ногами. Великокняжеский шатёр стоял наособицу. Из него вышел князь Василий Ярославич Боровский. Узрев подъехавшую карету, подошёл к ней. Плещеев помог сойти Евфимии и Раине. Поклоны, взаимные здравствования князь Боровский продлил, как можно. Потом отвернулся и произнёс:
- Оплошина совершается.
- Чем омрачён, Ярославич? - не расслышал его Плещеев. - Как ведут себя татары?
- Не показывались покуда, - отвечал князь. - Вчера пришла весть: неприятель идёт! Вой надели латы, подняли знамёна, исполчились, да так и вернулись в стан.
Евфимия уловила прежние два слова отвернувшегося Боровского, однако не поняла и спросила:
- В чём видишь оплошину, князь Василий?
Плещеев указывал Раине шатёр поблизости от великокняжеского, при самом впадении в Нерль речки Каменки. Туда надлежало отнести вещи боярышни. Место - красивей не выдумаешь!
- Оплошина в том, - молвил Ярославич, - что наш друг Андрей всё же привёз тебя в стан, исполнил причуду своего господина. Василиус излишне подвергается питию последнее время. Нынешней ночью пировал чуть не до рассвета. Сопирники государю всегда найдутся…
- Что ж мне теперь? - растерялась Евфимия.
- Коли приехала, повидайся, - робко дотронулся князь до её руки. - А свидевшись, постарайся скорей отбыть восвояси.
Всеволожа вошла в государев шатёр.
Василиус возлежал на ложе из волчьих шкур. Боярышня вспомнила ночь у села Скорятина под Ростовом Великим, когда вот так же в поле, в шатре, вошла разбудить великого князя для предстоящей битвы. На сей раз она повернулась к выходу.
- Евушка, я не сплю, - произнёс Василиус расслабленным, сладким голосом.
- По какому понадобью велел быть в сие неподходящее место? - хмурилась Всеволожа.
- По сердечному, Евушка, по сердечному, - сел на ложе великий князь.
Евфимия опустилась на деревянный короб и разревелась:
- Пошто меня Бог наказал тобой?
- Меня тобой наказал пошто? - гладил её спину Василиус- Не гневайся. Отложи нелюбье. Представь: ты - замужем за Васёнышем! Поймёшь моё супружество с Марьицей. Повинен. Секи главу. Сердце приголубь!
- Не отрезвел от ночного пира? - отвела его руку боярышня. - Приличны государю такие речи? Враг - около. Стыдись!
- Замирюсь с царевичами, - размечтался бывший жених, - отдохнём в Суздале, побеседуем всласть, есть о чём. Пять лет боролся с собой от тебя вдали. Не переборол! Каково было знать, что ты стала невестой Красного? Хвала судьбе, обошлось! Евфимия встала с короба.
- Распорядись о четверне для кареты. Хочу вернуться. Немедля! Пойду под куколь, найду от тебя покой. Прав князь Боровский: совершила оплошину…
- Ха! Ярославич чуть не с младенчества млеет по тебе, - вскочил с ложа Василиус. - При нашем несчастном обручении дуриком женился с горя. Потом кусал локти. И нынче кусает. Впрочем, тут мы с ним братья.
- Отпусти и выспись, - просила Всеволожа. - Неровен час…
Ей не пришлось досказывать. Сполошно завопили трубы. Плещеев сунулся в шатёр:
- Тревога, государь! Татары переправляются через Нерль. Их тьма!
Недавний предсказатель мира затрепетал. Евфимия охрабряла Василиуса:
- Отринь хмельные ковы! Я буду рядом…
- Ты?.. Рядом?.. Дивно! - бормотал он. - При Дмитрии Красном была стремянным. Станешь при мне оружничим. В пансире… в зерцале… на аргамаке…
Намереваясь уйти, боярышня откинула шатровый полог… Нос к носу - былой знакомец. Княж воин Кожа!
- О, Фимванна!
- Добудь коня, доспехи, меч полегче. Сенной девушке - вон в том шатре - вели бежать в обоз, там ждать исхода рати.
Вышел и Василиус окольчуженный. Ночного пира - ни в одном глазу!
Подошли памятные по сидению в Нижнем воеводы: Фёдор Долгоглядов, Юшка Драница.
- Вестоноши посланы по станам, - доложил Юшка.
- Мало нас, - вздохнул Долгоглядов. - С полторы тысячи. Их - вдвое!
- Бердата опоздал!- шипел Василиус по поводу отсутствия дружественного татарского царевича. - Шемяка обманул! Гады ползучие!
- Сердцем копьё недруга не переломишь, - откликнулась Евфимия.
- Ах, наша бывшая нижегородка! - узнал Драница. И захотел развеселить великокняжескую гостью: - Хочешь угадаю: мы одолеем или они? - подкинул он монету вверх. - Копьё аль решето?
Монета показала решето.
- Тьфу! Лучше б не кидал, - сплюнул Василиус.
- Пустые глумы, государь. Игра! - смутился Юшка.
Наскоро устроенная рать бодро пошла под звуки труб, в блеске доспехов, при распущенных хоругвях. Её вели внуки Донского, князья Московский и Можайский, а также князь Боровский, внук Храброго.
Евфимия, преобразившись воином, покинула шатёр. Ногу в стремя и - в седло. Чем не оружничий? И панцирь, и зерцало… Пусть аргамак не аргамак, конь всё же добрый: стрелой примчал к великокняжьему стягу.
- Ты? - округлил глаза Василиус.
- Ух ты! Я ж пошутил. Возвратись в обоз!
- Благоразумно ль в открытом поле встречать превосходящих вдвое? - засомневалась ученица краковской бойчихи.
Вождь не ответил. Взмахнул рукой. Лава понеслась…
Вот островерхая живая крепость степняков. Вот частокол их копий. Вот-вот в этот заплот ударит прибой конницы московской… Ан, нет! Враги оказывают спину. Всеволоже чудится: уж слишком споро оборотились, как по приказу.
- Придержи воев, придержи! - крикнула она в самое ухо пылкому Василиусу, сравнявшись с ним почти стремя в стремя. Помнила рассказы батюшки о старых битвах, когда враги пускались наутёк, дабы расстроить ряды преследователей.
Василиус не отвечал. Рвался вперёд. Настиг поганина. Ударил в запале скачки. Тот - с коня! Бегут, бегут татары! Бегут…
- Прекратите обдирать мёртвых! - негодовал Юшка Драница… Эх, негодует, как в пустую бочку!
- Взять, взять царевичей, обоз! - визжал рубака-парень, обеспамятев с успеху.
И… нет рубаки-парня. Наступал разброд.
Всеволожа исподволь приметила его лихие признаки. Зато Москва ещё преследовала, Орда ещё бежала. Великий князь с победно очервлененным мечом нет-нет оглянется, блестя зубами.. Евфимия страдала не ушибами рук, головы и плеч от паличных ударов, воительница мучилась щемящим сердцем: когда ж всё кончится?
Внезапь обрушилось смятенье. Уж не погоня - сеча впереди! Всадники - в комке. Стук, хряст, проклятья… Татарин сбоку наскочил, за ним - другой…
- Эй! Нас сбивают в мяч! - пришло на память выраженье летописца.
Василиус её не услыхал. Никто не услыхал. Рубились без ума, теряя слух и память…
- Держись, малайка! - прохрипел ощерившийся воин, падая к луке седла.
Как пробуравиться к Василиусу?
Евфимию не слишком осаждали, покуда были супротивники крупней, ядрёнее, забористее. Однако их всё меньше. Битва превратилась в избиенье уцелевших.
- Не разобщайся! Плотней держись! - достиг боярышни срывающийся голос Юшки Драницы.
Татары ринулись на этот голос.
- Спасайся, Всеволожа! - махнул рукой, проскакивая мимо, Плещеев.
Булава обрушилась на его темя. Андрей Фёдорыч упал.
Владельцу булавы копьём проткнули спину. Обоюдоострое железо вышло из груди.
Евфимия невдалеке увидела, как двое поднимают мёртвого. Узнала в нём Можайского Ивана. Нет, он не мёртв, бессмысленно вращает головой. Оруженосцы изловили невредимого коня. Усажен князь…
- Плещеева спасите! - крикнула Евфимия.
Её не слушали. Поддержанный бок о бок вершниками, Можайский быстро удалился. Всё слишком быстро…
Бой разбился на маленькие кучки, на одиночек. Татарам не хватает супротивников. Вон, кучей одолевают одного. Никак не одолеют. Враги сильны числом, храбрец - отчаяньем. Направила туда коня. Куда ступить копытом? Когда-то хвастался Васёныш: «Побывай у реки Куси: одни тулова лежат!» Здесь речка Каменка и - тоже тулова, конские, людские, вперемешку. От них - стон, будто сама земля исходит муками…
А конь выплясывал меж павшими, приближал всадницу к остервенелой стае, одолевавшей одного. Евфимия приметила трёххвостый малахай, чтоб со спины рассечь…
Вдруг сбоку узкоглазый голоус - хлобысть мечом! Удачно отклонилась… Меч обрушился на гриву. Бедный конь! Успела ногу выдернуть из стремени. Другая накрепко застряла… Спина расшиблась оземь. В голове - пасхальный звон!
Враг с торжеством победоносца занёс копьё… Нет, не ударил, прянул с коня, склонился к ней:
- Ты - депка?
Ответить бы: да, девка, девка. Боль в ноге вмиг родилась, созрела, завладела ею. Вместо ответа дёрнула ногой, придавленной конём. Чуть дёрнула, а чувств лишилась… Когда пришла в себя, проворный голоус добил коня, извлёк из стремени ступню.
- Яман! Яман!
Ах, это «плохо» по-татарски. Он стянул сапог, сорвал онучу, поднял гачу, согнул ногу в колене, ощупал и… как дёрнет за стопу, ударив в то же время по кости!
Истошный крик боярышни затмил все стоны поля. Боец-лечец ткнул в грудь её, потом себя и вымолвил по-русски:
- Моя!
Евфимия забыла боль, вскипев от гнева: голоус её брал в плен! Борьба с Бонедей на ковре восстановилась в памяти во всех приёмах. Мгновенье - враг лежит. Евфимия стоит. Стопе почти не больно.
Осталось подхватить упавший меч. Едва нагнулась, удар ногой пришёлся на здоровую лодыжку - снова рухнула. А голоус уже вскочил, рванул из ножен креноватый нож.
- Собака! - занёс он руку… и повалился на лежащую, хватая воздух ртом.
С трудом поднявшись, боярышня увидела в пленителе стрелу. Под самую лопатку угодила, оперённая! О, птица смерти! Кто её послал?
На поле брани там и сям, и полустоя, и на четвереньках, по-шакальи, крадёжники ощипывали равнодушных мёртвых, добивали раненых. «Свои - своих!» - впервые Всеволожа с презрением подумала о соплеменниках. Татары тоже рыскали, искали знатных пленных, алкачей же, сползшихся из ближних деревень, лениво отгоняли.
Единственная женщина стояла неподвижно, опиралась на высокий лук, потом пошла к Евфимии. Та устремилась к ней, узнав Раину. Споткнулась о лежащего Плещеева. Склонилась - Андрей Фёдорович жив! Дышал с трудом и тормошенья не почуял.
- Господь с тобою и в аду, боярышня, - присела рядышком на корточках Раина. - О, жив наш спутник!
- Ты стреляла? - благодарно обняла Евфимия лесную деву. - Меткая!
- Шишишка краковская зря не хвалит, - отозвалась Раина о Бонеде.
Боярышня вновь обратила взоры туда, где волчья стая одолевала одиночку… Там всё кончено. Татары, положив щиты на копья, тащили побеждённого. Живого или мёртвого? Кто он? Один из воинов, идущих за носилками, вскинул хоругвь. На ней - вооружённый всадник, копьё остриём вверх. Это хоругвь великокняжеская! Несут Василиуса! Затрепетавший при внезапной вести о врагах, ратился один с десятком! Евфимия рванулась к венценосцу. Раина удержала:
- Чем поможешь? Этого бы вынести таимно, - указала на Плещеева.
- Как вынести? - задумалась боярышня.
- Ляг наземь, - рассудила дева. - Затаимся. Ищики пройдут, мы с передышками снесём страдальца в ближнюю деревню.
Всеволожа тут же увидала: замысел негож. Их окружала со спины Раины цепь татар.
Лесная дева, оглянувшись, обомлела.
Её стали оттеснять. Принятую за алкачку, обдирающую павших, отогнали плётками. Напрасно толковала, что служит при боярышне. Не понимали!
Евфимии же не уйти. Доспехи обличали в ней воительницу. Пленители поцокивали языками: девка в мужеском деле! Шишак свалился при падении с коня. Локоны, лик нежный - сомнений не было в её девичестве. Сквозь гомон проступало вдавни слышанное слово:
- Харем! Харем!
Неужто заточению в гареме обрекла её судьба? О сём поганом заведении у многоженцев поведывал отец, вернувшись из Сарая.
Кисти рук спереди скрутили сыромятными вожжами. Повлекли, как телку в поводу.
Плещеев застонал некстати. Ему соорудили такие же носилки, что и Василиусу.
Довольные, пошли татары с необычной пленницей и знатным пленником. Боярышня, чуть припадая на ногу, не поспевала. До отказа натянулась сыромять.
Краем глаза угадывалась позади Раина. Издали сопровождала боярышню лесная дева. Чем поможет?
Вошли в раскрытые врата Евфимьева монастыря.
Стройный кудряш в кольчатой рубахе вышел из привратницкой. Татарского в нём - лик да очи, а так - придворный щап, по коем сохнут удельные дворянки. Глянув на Плещеева, махнул рукой, дескать, несите далее. Увидев же Евфимию, схватил за сыромять и потянул к себе. Татары, судя по сряде, знатные, вышедшие с ним, переглянулись с откровенной завистью. Только один, высокий, что постарше, не обратил внимания на пленницу и возбуждённо говорил с дрожащим коротышкой. Тот, обнажив бритую макушку, непрестанно кланялся. Должно быть, господин беседовал с рабом. В рабском алалыканье мелькнуло обращение «Ханиф». Евфимия насторожилась. Память подсказала имя той, что часто, мучаясь тоской, произносила: «Ханиф! Ханиф!» И Всеволожа, ни к кому не обращаясь, громко выговорила:
- Асфана!
Гневливый батырь зыркнул на неё:
- Ты кто?
- Я Афима, - сказала Всеволожа на татарский лад, как называла её костромская яшница. И тут же обратилась к каменноликому вельможе: - Канафи! - так Асфана ласкательно звала Ханифа. - Кумекаешь по-нащему?
Чудо свершилось: каменный лик смягчился.
- Ку-ме-ка-ешь! - промолвил по складам Ханиф, муж Асфаны.
Он быстро, горячо заговорил с красавцем кудряшом. Именовал его - никак не повторить! - то ль Мамутек, то ль Мамутяк. Боярышня припомнила слова Плещеева в карете: «Двух сыновей, Ягуба с Мамутеком, направил Улу-Махмет к Суздалю». Пред ней был сын казанского царя! Он возражал Ханифу, затем махнул рукой и отвернулся. Муж Асфаны освободил Евфимию от сыромяти, дал знак кивком:
- Иди за мною, Афима, - и подмигнул: - Айда отсюда!
4
Ханиф вёл подопечную к приземистому, длинному жилью монахов. Сейчас все чернецы теснились возле трапезной, откуда постно пахло щами. Их кельи заняли татарские темники с сотниками. Простые воины расположились средь двора, зажгли костры, готовили похлёбку, распространяя вытный дух. Голодная боярышня невольно потянула носом. Ханиф пообещал:
- Скоро поешь. - И доверительно примолвил: - Мамутек хотел забрать тебя в зенан.
- Куда? - не поняла Евфимия.
- Вам более знакомо слово «гарем», - поправился Ханиф. - Ты шибко полюбилась нашему царевичу и стала бы в его сокровищнице женской отхан хутум, младшей госпожой.
- О! - возмутилась Всеволожа. - «Муж-многоженец не всегда ли одинок?» - спрашивал певец Востока Низами почти что триста лет назад.
- Я не охоч до песен старых или новых, - откликнулся Ханиф. - Однако ты спасала Асфану, а я спасу тебя.
- Меня? Малую рыбку в ваших сетях? - печально вопросила Всеволожа. - Если б ты мог спасти великого князя Василия!
Ханиф даже остановился.
- Нет! Солнце вашего нойона закатилось. Царь не простит Белёва. Царевич Мамутек во зле раздрал тулы на головах пленённых воевод, сорвал с них прилбицы, и барсуковые, и волчьи.
- Зачем опушки с шапок драть? - негодовала Всеволожа.
- Он тоже не забыл Белёва. Отец чуть было не отдал его в заложники, да ваши отказались, не желая мира.
Воительница предпочла молчать о собственных белёвских похождениях.
- По крайней мере, знаю: наш государь жив! - перевела она беседу в иное русло. - Не ведаю: здоров ли он?
- Нет, не здоров, - сказал Ханиф, вводя её в монашескую келью, им захваченную.
Приоткрыл дверь, крикнул повеление и сообщил боярышне:
- Послал за пищей.
Присев на тёмную старую лавку, она сказала горько:
- Есть просьба, Канафи. Желанье сердца! Однако ты не выполнишь.
Муж Асфаны насупился.
- Боюсь, не выполнишь, - не отступала Всеволожа. - Хотя ты вельми славен, как поведала моя подруга, твоя жена.
Вельможа усмехнулся:
- Только сила человека на земле достойна славы. Хватит ли у меня сил исполнить твою просьбу?
- Хватит! - уверенно произнесла Евфимия. - Мне нужно ненадолго воочию увидеть страждущего государя.
- Немыслимо! - поморщился Ханиф. - Им заняты лечцы.
- Покуда заняты, никто не помешает. Ужель неисполнимо? - поднялась боярышня.
Ханиф задумался. Евфимия по каменному лику силилась понять: откажет, не откажет? Мрачность посулила решительный отказ.
- Пошли, - дёрнул головой Ханиф.
Из противоположного крыла длинного дома попали в огород. Всё, что посеяли, взрастили трудолюбивые монахи, татары обобрали, а местами вытоптали. Посреди зелёного разора возвышалась лёгкая постройка: остов из дранья, крытый слюдой. Евфимия узнала: теплица! Подобная была в её саду, однако из стекла. Обитель же не столь богата, чтоб покупать стекло.
- Зачем туда идём? - спросила Всеволожа. Ханиф сердито взял за руку, можно сказать, втащил в узкую дверь.
Среди теплицы - длинный стол. На столе - голое тело. Над телом - бородач в чалме и белой понке.
- Властитель без одежд! - значительно сказал Ханиф. - Ты захотела. Теперь смотри!
- Почему здесь? - спросила Всеволожа.
- Здесь лекарю достаточно светло.
Храбруша подступила, содрогнувшись внутренне, видела брусничные от паличных и сабельных ударов грудь и плечи, потом десницу с тремя отрубленными альцами, повисшими на кусках кожи.
- Господи!..
Ханиф тем часом перемолвился с лечцом и сообщил:
- Тринадцать ран на голове. Одна рука насквозь обита… Уложил добрую сотню, сам стал синей сукна.
- Он изнемог! - представила боярышня неравный бой Василиуса.
- Волей Аллаха он был ввергнут в джаханнам, - рек ближний вельможа Мамутека. - Как по-вашему? А, вспомнил: ад!
- Он не в аду, а с нами, - возразила Всеволожа. - То предречёт твой Эскулап? - глянула она на лекаря. - Продолжит жить великий князь Московский?
- Эс-ку-лап? - переспросил Ханиф. Вновь перемолвился с бородачом и твёрдо объявил: - Продолжит жить!
- Что будет с ним в плену? - спросила Всеволожа.
- Аллах подскажет. Уповай на его милость, - сказал Ханиф.
- Царь сохранит ему венец? - допытывалась дочь боярина Иоанна.
Её могущественный покровитель отвернулся.
- Кто видел сокровенную скрижаль судьбы? Даже Пророк её не видел!
Евфимия понурилась, не споря. Потом поближе подошла к Василиусу.
- В себе ли государь в сей миг?
Ханиф опять - к лечцу. Тот отрицательно повёл челом.
- Не скажет, что с Плещеевым? - искательно взглянула на бородача боярышня. - Пленён вместе со мной. Меня ввели в обитель, его внесли.
Вопрос Ханифа и - ответ:
- Тот яшник невредим. Он оглушён. Боярышня склонилась над великим князем:
- Василиус…
Ни губы и ни сомкнутые вежды не дрогнули. Одна ступня босая судорожно дёрнулась…
Ханиф взял Всеволожу за плечо, направил к выходу:
- Довольно!
В келье, им занятой, гостью ждала чашка, выдолбленная из берёзового наплыва - чаги, - полная парного молока.
- Возьми аяк, - подал чашку временный хозяин кельи. - Испей того, что между кровью и желудком.
Евфимия от Асфаны слыхала: так называется в Коране молоко.
Бритоголовый коротышка принёс ещё один аяк - с мясной похлёбкой.
- Поешь шурпы, - как дома, угощал муж Асфаны. Покуда гостья насыщалась, хозяин отлучился. Обе чашки опустели, когда он вошёл в келью. С ним явился коротышка, блестя бритой головой.
- Сбирайся, Афима, - велел Ханиф.
- Куда сбираться?
- В Мушкаф.
- В Москву?
- Надень чачван, - подал он чёрную сетку из конского волоса, коей татарки прикрывают лицо и грудь.
- Я ведь не мусульманка, - возмутилась Всеволожа.
- Сейчас ты мусульманка, пока не вырвешься отсюда, - пояснил муж Асфаны. - Прикройся от царевича Ягуба и его людей. Мне не простят, что отпускаю яшницу.
Евфимия прикрылась частой сеткой и ощутила тайну, охватившую её.
- Наш лучший сотник Ачисан свезёт нательный реет Василия его княгиням, жене и матери, - продолжил пояснения Ханиф. - Он и тебя доставит в кремник. Верхом ты ездишь. Хлопот мало.
- Послушай, где-то близ монастыря есть моя деревушка, - не забывала ни на миг боярышня о прогнанной татарами Раине.
- Твои заботы, - обрубил вопрос Ханиф.
- Она такая: будет искать, может пропасть, - пустилась в объяснения Евфимия.
Он ничего не слушал.
- Домой, домой!
Вывел Всеволожу под чачваном. Ей тут же подвели коня.
- Хороший конь! - похлопал он буланого по холке.
- Дуль-Дуль, сказочный конь Али, халифа, царя ужей, - поддакнула Евфимия.
- Много читаешь, много знаешь, - похвалил муж Асфаны.
- Женщина, что изучает лишь божественное, или начатки знаний, или ничего, такая женщина - рабыня! - сказала Всеволожа.
Ханиф впервые улыбнулся, тихо произнёс:
- Берикелля!
- Так Асфана меня хвалила, - вспомнила Евфимия.
- Прощай, - сказал её спаситель.
- Байартай! - опять же вспомнила Евфимия. - Не прощай, а до свиданья. А это передай жене, - она откинула чачван и чмокнула татарина в волосяную щёку.
- О, баяндер! - оторопел Ханиф. - Не понимаешь? Щедрая! Теперь мой дом - твой дом…
Она была уже в седле, и старший в группе всадников что-то кричал Ханифу. Тот ответил. Кони вынеслись из монастырских врат.
Евфимия прощально оглянулась.
За ней скакал тот самый коротышка, что приносил еду.
Дождавшись, чтобы поравняться с ним, боярышня спросила:
- Ты… - запнулась, не умея изъясниться по-татарски.
Коротышка отвечал по-русски:
- Господин велел блюсти тебя, ханум. В Машфу доставить.
- Как твоё имя?
- Дюдень.
5
На редкость исполнительным, проворным оказался этот Дюдень. Увидел, что боярышня приподняла чачван и зорко всматривается в темнеющую степь, осведомился о причине, услышал о Раине, расспросил подробнее и, словно дух, исчез. Евфимия обеспокоилась: над полем воцарилась тьма, а Дюдень кинулся бедовой головою в ночной омут…
На первом постоянии ей постелили кислую овчину поодаль от костра, чтобы не портила мужской беседы своим присутствием. Один из воев Ачисана принёс аяк шурпы. Сам же «лучший сотник» к женщине не подходил. Её для него не было, его для неё тоже. Насытившись, боярышня легла, пристроила главу на локоть, ждала глубокой ночи, надеясь незамеченной отстать от Ачисана. Без Раины уезжать не мыслила.
Однако день истекший так надорвал и утомил, что сон сморил, пришед внезапно. Ей снилось, будто бы стоит перед большим зерцалом, а грудь и плечи сплошь покрыты синетой от паличных и сабельных ударов. Возможно, и взабыль покрыты. Она не ведала, не сняв воинской сряды. И все часы в монастыре болела телом, как побитая. Раина бы раздела и растёрла, попользовала снадобьем, нашли б уединённое местечко…
- Боярышня! - заполнил ухо жаркий шёпот.
Сон? Не сон! Резко повернулась, уткнулась в хрупкое плечо под холстяной сорочкой, пахнущее лесом, обняла беззвучно плачущую деву:
- Что ты? Утри слёзы.
- Я на радостях.
- Как отыскала?
- Твой Дудень отыскал меня в деревне. Поутру мечтала просочиться в монастырь…
- Не Дудень - Дюдень!
- Дудень! Хвала Богу, хоть не Дурень!
- В монастыре татары тебя бы превратили в яшницу, упрятали в гарем…
- Я коноплястая. Пожалуй, не понравлюсь и татарам.
- Кюру же Сазонову понравилась?
- О нет, боярышня, не поминай о Кюре. Хочу забыть…
Обе невзначай заснули в объятиях друг друга.
Утром Дюдень объявил, что всё поведал Ачисану о Раине. Тот не возбранил её оставить при боярышне. Однако же велел служанке, как и госпоже, закрыть лицо. Где взять второй чачван? Пришлось разрезать Всеволожин надвое. И обе девы покрылись лишь до подбородков, на грудь сетки не хватило.
- Как придобыл коня Раине? - спросила Всеволожа коротышку.
- Ха! Поле мёртвое полно коней бесхозных, - осклабился татарин. - Не всех ещё крестьяне поймали.
Лесная дева погладила проворного по глянцевой макушке:
- Якши, якши! Дюдень встрепенулся:
- Что якши?
Раина сняла руку с головы татарина:
- А просто так якши…
Тот призадумался. На следующем постоянии стал внушать Раине и боярышне:
- Чачван - завеса осторожности. Каждая женщина должна иметь завесу между собой и нами, - ударил себя в грудь. - Чачван заставит соблюдать пристойность, приличия. В нём - самоуважение!
- Ты лучше господина своего по-русски изъясняешься, - уставилась на коротышку Всеволожа.
Раб, Как божок восточный, закачал бритой головою:
- Был в плену.
Раина, выслушав хвалу чачвану, не смогла сдержаться:
- Нет, Дудень, всё ж ты дурень!
Под звон колоколов татары Ачисана въехали в Москву. Звон был похоронный. Погребали павших в «суздальщине». Так прозвали рать несчастную с царевичами на Нерли.
На въехавших глядели с ненавистью. Двое посадских рассуждали:
- Татарок для себя везут!
- Над московлянками не станут сильничать… Люди Ачисана въехали в Кремль, презрев людское недовольство. Отряд остановился у Пречистой перед великокняжеским дворцом. Стражники хмуро отвернулись от вида белого полотнища на древке. Тяжёл был мир! Невесть чем кончится…
Впервые Ачисан обратил взор к Евфимии, поманил пальцем:
- Идём!
Раину оттолкнули. Дюдень сам остался.
Сорвав чачван, Евфимия пошла среди татар.
Дворец шуршал движением. Их, видно, ждали.
Войдя в Престольную палату, она увидела княгинь великих, Витовтовну и Марью Ярославну, а рядом - Юрья Патрикеича, Василья Ярославича Боровского, Можайского Ивана, ещё кое-кого из ближних. Стало быть, Ярославич благополучно покинул поле битвы при разгроме, спасённый же Иван пришёл в здоровье. Оба, увидав Евфимию, уставились во все глаза.
- Вот! - крикнул Ачисан, небрежно протянув тельник Василия княгине-матери.
Рука Витовтовны плясала в воздухе. Крест взяла Марья.
- Вот! - схватив за руку боярышню Евфимию, Ачисан подвёл её к Витовтовне. - Вам - наша пленница.
Старуха пала головой на перси Всеволожи и разрыдалась.
Как будто этого ждала и Марья Ярославна - разревелась в три ручья.
- Наш государь, - сказал Иван Можайский мрачно, - ваш пленник. Что сие значит?
Ачисан глумливо усмехнулся:
- Он - наш пленник!
- На Москву пойдёте? - плачным голосом воскликнула Софья Витовтовна.
Татарин развернулся на высоких каблуках, ни слова не сказав, покинул Престольную палату - только стук по лестнице.
Все бурно зашумели, плотно окружили Всеволожу.
- Улу-Махмет идёт к Москве!
- Не может статься. Казанцы победили, но потрёпаны…
- Евфимия Ивановна, рассказывай!
- Где Драница? Где Долгоглядов? - прежде всего спросила Всеволожа Боровского с Можайским.
- Оба на Москве, - сказал Василий Ярославич.
- Родной мой братец вместе с государем полонён, - горевал Иван Можайский о брате Андрее. - Здоров ли он, целёхонек ли? А, Воложка?
- Утешься, князь Верейский цел, - сказала Всеволожа. - Плещеев Андрей Фёдорыч изрядно оглушён…
- О, брат двоюродный! - закрыл лицо руками Михаил Борисович Плещеев.
- У государя на челе тринадцать ран, - продолжила Евфимия. - Одна рука прострелена, другая же лишилась трёх перстов. Плечи и грудь, спасённые доспехами, целы, однако сини, как сукно.
- Сын мой единственный! - вопила старая княгиня. - Вернуть татар! Сечь головы!..
- Вот тут-то, матушка, казанский царь и в самом деле обступит нас, сожжёт Москву, - заметил Юрий Патрикеич.
- Ладно, - отмахнулась Софья и обратилась к Всеволоже: - Пойдём, Евфимья, отведу на опочив, ты настрадалась выше меры…
- У крыльца ждёт моя сенная девушка, - остановилась Всеволожа, выйдя из Престольной. - Её не взяли во дворец.
- Не полошись. Покличем. Приведём, - пообещала Софья.
Однако кликнули по её знаку не Раину, а постельницу Меланьицу. Та отвела измученную путешественницу в баню, угостила трапезой, устроила в одрине окном в сад. Евфимию смутила малость в этом неожиданном угостье: помещена она в глухом крыле дворца. При ней одрина прибиралась, обеспыливалась и проветривалась.
- Почему здесь? Меланьица смутилась:
- Матушка великая княгиня рассудила: здесь покойнее.
Раину так и не нашли.
Чуть отдохнув, боярышня решила сама пуститься в поиски. Толкнула дверь… Ан, заперто!
К чему бы держать гостью взаперти? Чтоб не обеспокоил посторонний? Обнаружила, что предварительно поставлена посуда на ночь. Значит, до утра не отопрут. О Боже! Зачем чванливый Ачисан привёл её в Престольную палату? Зачем сдал на руки Витовтовне? Зачем не отпустил в застенье? Нашли б они с Раиной способ достигнуть Нивн.
Чем дольше размышляла Всеволожа, тем крепче убеждалась: сама виновница случившегося! Надо бы оговорить с Ханифом своё освобождение до тонкости. Вельможа счёл, что она ближний государев человек, коль ратилась бок о бок с ним. Вот и сдали пленницу с рук на руки его жене и матери. Однако каково болеет лицемерием Витовтовна! На людях слаще мёда, наедине же злее яда…
Всеволожа принялась стучать. Дверь, как стена, не чувствовала девичьих ударов. Однако же они слышны. Пришла в конце концов Меланьица… Стоит за дверью. Дышит шумно.
- Отопри!
Вздохнула тяжело. Ушла. Опять - стук в оба кулака… За дверью заскрипел глас Софьи:
- Охолонись, прилучница! Мечтала завладеть великим князем не в тереме, так в ратном поле? Ведь я ещё с тобой не посчиталась за давешнее. Красный помешал, покойник. Кукушка улетела, да вернулась, неугомонная. Что ж, нынче заполночь почуешь, каково озоровать в чужом гнезде. И ведьму твою сыщем, Мамоншину колдунью…
Литвинка наконец угомонилась. Стало быть, ушла.
Что страшного она измыслит на сей раз? Огненную пытку, как в застенке Житничных палат? Клетку, как в беззвучном подземелье Людвига Одиннадцатого?
В окне стемнело, и в одрине воцарилась темь. Боярышня, свернувшись на одре, устала думать да гадать и отдалась в неодолимые объятья сна. Ей виделся костёр на постоянии. Вокруг него татары чавкают шурпой. Поленья свежие искрят и сладостно потрескивают. Берёзовый домашний дым приятно проникает в ноздри… Треск всё сильнее, дым всё едче…
Евфимия вскочила. Дворец горит! В окне бушует пламя: Кремль горит! От полымя светло в одрине. Однако ж дымно не в измогу. Примерилась: пролезет ли в оконце? Нет, слишком тесно. Уж лавку подняла, чтоб высадить оконницу. И опустила. Судя по большому жару, огонь близок. Лишняя тяга быстрее привлечёт его. Стала стучать в дверь… Жалкий звук в огненной пустыне! Кто сейчас внемлет дальним стукам? Всяк спасается, как может. Ужли не вспомнила Меланьица о запертой двери? Витовтовна и вспомнит, да обрадуется, не велит постельнице открыть.
Глаза не видят. Грудь не дышит. Истлевают силы… Бесплотный красно-серый дух сначала закружил, затем свалил Евфимию. Она успела напоследок ударить в дверь ногой…
Дверь распахнулась. В огненно сияющем проёме - Марья Ярославна. Ахнув, великая княгиня схватила за ноги боярышню и выволокла из одрины.
- Подымись, Офимка! Мне не одолеть поднять… Всеволожа поднялась. Проход хоть полон дыма, да внезапное освобожденье придавало сил. Спасительница и спасенница опрометью бежали в ту сторону, куда стремился дым. Там не было огня. Вот сени, где ведунья амма Гнева чуть не превратила в мышь Мастридию. Отсюда выход близок.
- Ой, не могу! - вскричала Марья и села на пол.
Евфимия взяла толстуху на закорки, понесла.
- Мать-государыня и слышать не хотела, чтоб тебя выпустить, - пищала в ухо внучка Голтяихи. - В Кремле внезапно загорелось. Вмиг! Словно хворост! Сплошь - огонь! Всё деревянное - сплошные головни! Сам камень рушится! Церковь Воздвиженья распалась на куски. Мать-государыня детей - в карету, сама - с ними… Едем в Тверь. Пускай Махмет берет сгоревшую Москву.
- Нишкни! - озлилась Всеволожа. - Мешаешь мне соображать, где ближе к выходу.
- Сверни к крестовой, там крыльцо, - подсказывала Марья. - К опочивальне не беги, там полыхает… - И примолвила: - Двоих несёшь!
- Двоих? - не поняла Евфимия, боясь: уж не свихнулась ли толстуха.
- Двоих, - твердила Ярославна. - Я брюхата! Сойдя с Красного крыльца, боярышня побережнее опустила Марью на землю. Площадь Великокняжеская светла, как в час заката. Из кареты выглянула Софья. Невестка подбежала к ней и крикнула:
- Я выпустила Фимку!
Великая княгиня-мать откликнулась хоть не крикливо, но вполне громко:
- Дура!
Дверца захлопнулась за Ярославной. Шестерня дёрнула и утонула с каретой в многолюдстве под звук бича и грозный вопль возницы. Дворец пылал. Народ валил в собор Пречистой, возвышавшийся, как утёс в огненном море.
- Людишки переполошились, - раздался за спиною Всеволожи густой бас. - Слух прошёл, что одолетели татары идут сюда. Вот и спасались стар и млад, покинув домы, из окрестностей и пригородов. Набили Кремль, как калиту. Теперь в огне спасутся ли?
Тонкие жилистые руки обвили шею вызволенной из огня боярышни:
- Голубонька! Жива! - И зычным голосом Раина позвала: - Эй, Дудень, она - вот она!
6
Навершной Дюдень подскочил на вороном коне, подвёл гнедого с пегим, осёдланных и взнузданных. Раина подсадила боярышню в седло, сама вспорхнула, и втроём, держась друг друга, стали выбираться из Кремля. Скелеты теремов трещали и светили жарко. Повсюду - головы, похмельные в пиру огня.
- Зачем рушат негорящее? - кричала Всеволожа, задыхаясь дымным духом.
- Чтоб дальше не горело, - держалась ближе к ней лесная дева. И следила: - Не отдались! Не затеряйся!
Фроловские ворота были забиты сбегами, покинувшими домы. Сошлись грудь в грудь, кто из Кремля, кто в Кремль. Пришлось спуститься на Подол, у Водяных ворот было свободнее.
На Торгу толпа внимала зверовидному посадскому в сапогах чёрного товара, в белой рубахе, в портах синего толстого сукна.
- Ша! - осадили всадников рассерженные голоса. - Семён Терпилов говорит!
- Бегут правители! - надрывно и неистово вещал посадский. - Спасают животы! Воспламенённую Москву кидают к стопам хана! Мы не хотим! Укрепим город! Изберём иных властителей! Прежних не выпустим! Бояр ловить! Запретить бегство! Ослушников наказывать, вязать! Починить врата и стены! Строить новые жилища!
- Верна-а-а! - вопил мастеровой, только что шикавший на вершников. - Терпилова-а-а в старшие-е-е!
Теперь его осаживали:
- Тих!.. Молчь!.. Иван Уда - на бочке!
Взамен Терпилова возник длиннобородый. Густые волосы - на два крыла, грудь голая, десница - в кулаке.
- Люди меньшие, задние и чёрные! - взывал Уда. - Хватайте вящих! Понуждайте ждать возвращенья государева из плена. Василиус - единственный законный наш властитель. Он вернётся! Тужите, плачьте не о домах сгоревших - о его пленении. Вот наше бедствие главнейшее! Я говорю вам: он вернётся!
- Я… тоже… говорю!- во всю мощь лёгких закричала Всеволожа.
К ней обернулись. Услыхали!.. Однако Дюдень перехватил поводья её гнедого, потянул к себе. Он и Раина, обогнув толпу, стремились вон из города.
Спустя малое время у Покровских врат рогаточники их остановили:
- Нет выезду!
- А мы не вящие, мы задние, - врала Раина. - Мы чёрные. Нам в ближнюю деревню…
- То-то чёрные на этаких конях! - гудели стражи. - Не положено!
Дюдень под башлыком помалкивал, дабы не обнаружить своего татарства.
- Дождитесь тут, - велела Всеволожа, развернув коня.
Над городом, объятым дымом, рассвело. Однако гарь затмила небо. Из-за кремлёвских стен хвостатыми кометами летели головни, запаливая на посаде избы с теремами то там, то сям. Толпежники, напуганные новыми пожарами, бежали с Торга, уберечь свои жилища. От вершницы в боярской сряде шарахались.
- Иван Уда! - взывала Всеволожа. - Эй, покажите, где Иван Уда?
Детина в колпаке поярковом схватил гнедого под уздцы:
- Ты кто?
- Я дочь боярина Иоанна Всеволожского. Мне нужен ваш главарь по срочному понадобью.
Поярковый колпак подвёл коня к длиннобородому, что толковал у бочки с Терпиловым.
- Иван, дочь Всеволожа опального - к тебе…
- Евфимия Ивановна? - узнал Уда. - Жива?
- Ты мне не ведом, - удивилась Всеволожа. - Я тебе ведома?
- Кому ж ты на Москве неведома, благодаря отцу? А я изготовлял замки твоему батюшке. Скобарь!
- Москву покинуть помоги, - перешла к делу Евфимия. - Я ратилась под Суздалем. Избегла плена. Государя видела в жестоких ранах. Знаю, как вызволить. За окуп! Великие княгини от огня бежали, не выслушав. Сама явлюсь к царю казанскому для доконча-ний.
- Родитель твой был превеликий мастер докончаний, - сказал Иван Уда. - Коль дочь в него, толк будет. Лишнюю надежду не отрину. Помогу… Хитря! - воззвал скобарь к поярковому колпаку. - Езжай с боярышней к заставе, выпусти под мою голову. Хитря орлом взлетел на круп Евфимьина коня.
- Гони!
- Не надобна ли обережь? - спросил вдогон Уда.
- Не надобна. Своя! - оборотилась Всеволожа. И столкнулась с глазами мощного Хитри, горячими, горящими, как Кремль.
- Гони, боярышня! Сули татарам окуп. Да не промажь! А мы всем миром соберём, хоть по полушке, по деньге… Деньга - от слова «день», полушка - от «полушка».
- Не так! - забывшись от его речей, не удержала первый за большое время звонкий смех Евфимия. - Татары говорят «теньге», а мы - «деньга», полушка - пол монеты…
- Ври, ври, да дело делай! - задорно хохотал Хитря.
- Ты кто? Скобарь? - спросила Всеволожа.
- Нет, я кожевник.
Конь сундолой домчал их до заставы. У рогатки Хитря спрыгнул. Перемолвился со стражами. Те подняли заслон.
- Счастливых слов, переговорщица! - махнул рукой кожевник.
До первого дневного постояния скакали молча. Свернули в лес. Нашли поляну. Развели костёр. Раина есть не стала. Локоть под щёку и - как убитая. Дюдень, почерневший то ль от пожара, то ль от бессонья, бережно прикрыл её попоной:
- Ухайдакалась!
- Ты почему не возвратился с Ачисаном? - спросила Всеволожа.
- Ордынский двор меня держал немножко. Сын Урустай у мурзы Бегича - в бессрочной послуге. Полгода не видались. Ачисан забрал мурзу к царю порассказать, что слышно на Москве. Мой сын сгорел[12], пока я с твоей девкой бегал…
- Боже! Куда бегал?
- Спасать тебя. Она сказала: ты - взаперти. Однако во дворец не удалось проникнуть. А наш Ордынский двор сгорел, как пакля. Даже кони! Конюшню некому было открыть.
- Где же ты взял коней?
- Отпер конюшню Оболенских. Самих-то нет: Василий в Переславле, Семён в плену, Глеб на том свете. Дом с челядью сгорел. Я коней выпустил, трёх обратал.
- Ты знаешь всех в Кремле? - внимательнее присмотрелась Всеволожа к Дюденю.
- Не всех. Однако многих. Давно туда-сюда переношу заветные слова. Вестило!
Евфимия, как и Раина, более суток провела без сна. Вздремнула под охраной Дюденя. Потом ему дала вздремнуть.
Ночь пришла лунная. Ехали ночью. Когда же, миновав Владимир, Дюдень свернул не к Суздалю, а к Нижнему, Евфимия насторожилась:
- Куда?
- В город Курмыш, - сказал татарин. - Там царевичи. Там его милость царь Улу-Махмет. Однако повторяю: зря ты затеяла неподобающее дело. Вернись, пока не поздно. Мне господин все пятки отобьёт за то, что не отговорил тебя.
Евфимия не удостоила татарина ответом. Почти что от Москвы надоедал он уговорами не ездить выручать Василиуса. Грозил опасностью пути, зенаном Мамутека, наконец, смертью, ибо Улу-Махмет бывает ой как крут! Евфимия сперва доказывала верность своего решения, теряла меру в спорах, потом отмалчивалась. Ей больше, чем себя, жаль было пяток Дюденя, однако своего намерения не изменила.
На сей раз перед решительной повёрткой, кажется, заколебалась.
- От кого знаешь, что царевичи и царь в Курмыше? Где пленные и где такой Курмыш?
Татарин пощипал косичку бороды.
- Ачисан сказал: царевичи замыслили скорее удалиться с добычею и важным пленником. Войска после битвы мало. Царь ждал их в Нижнем. Он там не останется. Пошлёт Бегича к Шемяке. Сам отойдёт в свои пределы. Куда ж, как не в Курмыш? О том же рассуждала на Ордынском дворе челядь, слушая господ… Они уехали, а челядь вся сгорела, - вздохнул убитый горем Дюдень. - Кто ждал пожара? Один Аллах всё знал…
- Раина! Дальше я поеду с Дюденем. Ты возвратишься в Нивны, - решила Всеволожа.
Лесная дева отвернулась:
- Чесотка да таперичи… Боярышня пришла во гнев:
- Ты не должна подвергнуться той же опасности, что я. Ты ни при чём.
- Я при тебе, - ответила Раина. - Покину в добром тереме, среди друзей. А на лесной дороге… Слушать совестно, голубонька!
И она первая помчалась к Нижнему, охаживая понукальцем пегого.
В сам Нижний заезжать не стали. Дюдень предпочёл глухие тропы, чтоб миновать заставы.
Лес оборвался на высоком берегу реки.
- Итиль! - воскликнул Дюдень.
- Волга! - объявила Всеволожа.
- Ого! - качнула головой Раина. - Конь не переплывёт!
- Каюк переплывёт, - подмигнул Дюдень. Пошарив в зарослях вдоль берега, он вытолкнул к воде сосновую долблёнку с лопаточным веслом. Вмиг расседлал и разнуздал коней, сбрую покидал в каюк, велел садиться девам.
Когда отплыли, слёзы заструились по сухим щекам татарина.
- Что с тобой, Дудень? - всполошилась сердобольная Раина. - По сыне плачешь?
- Большое горе не пускает слёзы, оставляет здесь, - прижал к груди левую руку коротышка, правой орудовал веслом.
- Так отчего ты плачешь?
- Коней жалко…
7
- За христианским кладбищем - Курмыш! - показал Дюдень.
В подлесье на высоком берегу виднелись похиленные кресты. Меж ними, гомоня, сновали люди, человек до полусотни, с вёдрами, кувшинами, мехами. Сбегая по крутой тропинке, черпали воду, поднимали вверх. На крутояре высился мулла, воздевший к небу конский череп.
- Чем они заняты? - спросила Всеволожа. - Ужель так дружно поливают цветочки на могилках?
- Сухмень стоит, как не полить? - заметила Раина.
Проворный кормчий помог девам сойти, вытащил каюк на подберег. Взвалил на спину узел с конской сбруей, в другую руку взял весло.
- Посуху мы незаметней войдём в город, нежели водой, - пояснил он.
- Судёнышко присвоят, - с сожалением вздохнула лесная дева. - Для чего тебе весло?
- А отгонять собак…
Взойдя на берег, Евфимия увидела недальние строения. От них шли люди, тоже с вёдрами, над коими струился пар.
- Водой горячей поливать цветы?- взглянула изумлённая боярышня на спутника, так явно равнодушного к происходящему.
- Столько народу враз объюродело, ой-ой! - крутила головой Раина. - А мусульманский батя поднял череп лошади и сумасшедшим «ах» не скажет!
- Дюдень, что молчишь? - теряла Всеволожа последнее терпение.
- А, не гляди, не спрашивай, - смутился раб Хани-фа. - Тёмные люди вызывают дождь. Мулла, должно быть, опускал уже череп кобылы в воду. Он всегда так делает. На этот раз не помогло. Дождя всё нет. Значит, мертвец ночами восстаёт из гроба и разгоняет тучи. Ну, проверили могилы: откуда мог мертвец подняться? Вижу, татары-мусульмане нашли свои захоронения исправными, а христиане-чуваши сыскали у себя могилу с дыркой, то ли норою, то ли трещиной. Вот сквозь неё мертвец и вылезает. Как умертвить мёртвого? Чем гроб выкапывать, проще заливать водой. Сперва горячей заливают, потом холодной. Той и другой по десять вёдер надо вылить в трещину. Тогда мертвец угомонится и пойдёт дождь.
- Ой, страсти-то! - воскликнула лесная дева.
- Ты сам не веришь в эти кудеса? - спросила Всеволожа.
Дюдень обиделся:
- Я? Сам? Покойный господин, отец Ханифа, позволил мне знать грамоту, читать умные книги. Учёный Бируни ещё четыре века назад высмеял таких вот вызывателей дождя. Пошлёт ли Аллах воду, можно знать лишь по тому, как стоят горы, дуют ветры, движутся тучи… Однако же вот и Курмыш!
Затыненная улица в полуденное время была пуста. Дюдень не повёл по улице, свернул в узенький заулок, где из-за высоких палей ни дома, ни деревьев было не видать.
И вот Евфимии почудилось, будто из-за плотного заплота доносится приятный птичий щебет: «гюль, Поль, гюль, гюль»…
- Остановитесь тут, - велел татарин шёпотом. - Я войду в дом, будто один. Вы будто сами по себе явились. Я будто ничего не знаю…
- Зачем так, Дюдень?- возразила Всеволожа. - Войдём с красного входа, объявим всё, как есть. Я объяснюсь с Ханифом. Ты ни при чём. К чему лганье и хитрости?
Дюдень в свой черёд крайне удивился:
- Хочешь говорить, как есть? С ума сошла! Делай по-моему. Не устанавливай, как ваши говорят, свои порядки в чужом монастыре. Жди с девкой здесь. Вас впустят.
Он, как под шапкой-невидимкой, исчез в кривом заулке. Раина прижималась лицом к палям в поисках щёлки.
- Татарское сестричество по-нашему развеселилось!
- Сестричество? - спросила Всеволожа. - Не птицы ли поют?
- Птички в белых приволоках! - хмыкнула Раина. - А распахнутся - чуть не нагишом! - нашла она наконец выбитый сучок для глаза.
- Выдумщик Дюдень! - гневалась боярышня. - Войти б, как люди добрые, сказать всю правду - не стояли б тут…
- Ой, Дуднева родня, ордынцы да черкасы, разве скажут правду? - не отлипая от заплота, произнесла лесная дева. - Глупостью сочтут, и только.
Вдруг она отпрянула от тына. По ту сторону послышалось шуршание кустов, движение. Почти у самых ног Евфимии открылся лаз, просунулась орехового цвета девичья рука, поспешно поманила:
- Эй, эй! Иди, иди…
Тонкие Раина и Евфимия пролезли в тесный лаз свободно.
В сени кустов их встретила глазастая смуглянка. На маленькой головке - трудно ошибиться! - сто косичек. Она взяла прибывших за руки, согнулась, потащила сквозь кусты…
На изумрудной травяной поляне с искусственным прудом резвился сонм татарских дев. А на железном стольце, нависшем над водой, царицей восседала Асфана. Чуть увидав Евфимию, она опрометью бросилась к ней и заключила в крепкие объятья.
- О, кюрюльтю! О Афима! Мне Канафи сказал: он отпускал тебя домой… А ты со мной?
- У меня тут важные задачи, Асфана, - в свою очередь по-сестрински сжимала Всеволожа подругу по несчастью в Костроме. Ох, эта Кострома!..
- Потом задачи, потом важное. - Асфана тёрлась щекою о щёку Евфимии. А оторвавшись, закричала: - Айбике-е-е-ен!
Та самая татарка, что открывала лаз, проворно подскочила. Поговорив накоротке - «гюль, гюль, гюль, гюль», - хозяйка обратилась к гостье и её спутнице:
- За ней ступайте.
Прошли мимо железного седалища, возвышенного над прудом. Евфимия спросила Айбикен:
- Зачем такое стольце над водой? Нырять?
- Ха! - засмеялась та. - Наш господин Ханиф отсюда выбирает жён. Мы плаваем. Он в нас кидает яблоко. В какую попадёт, та с ним идёт… Куда? Как говорят урусы, «на опочив».
Две московлянки не успели оглянуться, как из райских кущ попали в банный ад... Здесь не в пример домашнему было не густо жару, пару, зато нагие дьяволицы задали такую трёпку грешницам, что терпеливая Раина возмутилась:
- Пусть трут и гладят, а зачем щипать? Голубка, заступись! - молила лесная дева Всеволожу. - Вон та, зубастая, чуть не плясала по моей спине!
Евфимия страдала, но молчала. Айбикен в рамена и в лопатки втирала ей дурманящее снадобье. И ужасалась то и дело:
- Где много падала? Где расшибалась? Сказать - на поле брани, - не поверит. Из бани - к трапезе.
Устроились без лавок, без столов: подушки - по ковру. «По-римски!» - отметила Евфимия.
Тут распоряжалась не Айбикен, а Асфана. От непривычно сдобренной приправами баранины во рту горело.
Раина ела сдержанно, как на поминках. «От бани не пришла в себя», - решила Всеволожа и спросила:
- Никак, не можется?
- Нет, хорошо, - сверкнула дева конопушками. - Привыкла к их мытью. Теперь привыкнуть бы к еде!
К разгару пиршества пришёл Ханиф.
- Ты? Здесь? - не находил он слов. - Не верил, когда узнал.
Евфимия с Раиной поднялись и поклонились поясно.
- Есть у меня в Курмыше дело, Канафи, - сказала Всеволожа после здравствований. - К кому было прибегнуть, под чью крышу? Ты говорил: «Мой дом - твой дом».
- Да, говорил, - вздохнул Ханиф. - Где Дюдень? «Стало быть, ещё скрывается от господина», - догадалась Всеволожа. Чтоб не соврать, ответила:
- Большой пожар был на Москве. Ордынский двор сгорел. Твой человек потерял сына.
- Хм-хм, - понурился Ханиф. Однако тут же вскинул голову и улыбнулся: весь - гостеприимство. - Насытишься, пусть Асфана сведёт тебя ко мне.
Закончив трапезу, Евфимия в сопровождении хозяйки перешла в мужскую половину дома.
- Потом расскажешь, как жила? - спросила Асфана.
- Вестимо, - согласилась Всеволожа. - Обеим будет что порассказать, что вспомнить.
Жена Ханифа приоткрыла дверь, сама же не вошла, впустила гостью.
Вельможа Мамутека возлежал на низком ложе, покрытом стриженым узорчатым ковром. Боярышне он предложил подушку:
- Садись и выслушай.
Евфимия уселась, подобрав ноги. Вся - внимание.
- Отчаянная! - погрозил Ханиф. - Упрямая! Знаю, за кем явилась, чего хочешь. Домой отправил, не послушалась. Теперь из-за тебя - хоть под топор! Не хмурься. Это лишь мои заботы. Ты - гостья. Отдыхай. Асфана рада.
- Что с великим князем? Как здоровье пленников? - осторожно задала вопрос Евфимия.
- Нойон Василий поправляется, - сказал Ханиф. - Андрей Плещеев и другие в полном здравии. Царь послал Бегича к Дмитрию Шемяке, чтоб быть ему великим князем под верховной властью правителя Казанского, Василию же быть в вечной неволе. Есть вести, что Шемяка согласится, поддастся нашему царю в обмен на смерть Васильеву. Не знаю, как решит Улу-Махмет. Тебе же при любом решении тут делать нечего. Гости и возвращайся восвояси.
- Благодарю на приглашении, - склонила голову Евфимия. - Не обрати во гнев мои слова: прежде чем вернуться, хочу увидеться с царём.
Ханиф насупился:
- Худые речи, Афима! - потом прищурился с ехидцей: - С Богом не желаешь встречи?
Всеволожа повторила жёстко:
- Хочу видеться с царём! С твоим пособом иль без оного, я с ним увижусь. Клянусь небом, проливающим дожди, клянусь землёй, выращивающей травы, я буду лицезреть Улу-Махмета!
- Знаешь Коран? - осклабился Ханиф. - Хочешь, чтобы я уведомил царя о дерзостном твоём желании? - Евфимия кивнула. - Напомню из Корана, - продолжал муж Асфаны. - Земледелец воззвал: «Боже! Уведомь Землю о любви моей!» Земля тотчас же сотряслась. Сосед воскликнул: «Ой, Земля трясётся!» А земледелец с гордостью ответил: «Её уведомили!»
- Стало быть, не будешь мне споспешествовать? - поднялась с подушки Всеволожа.
Ханиф молчал. Она остановилась у двери.
- Благодарю за всё, что уже сделал. Будь благополучен.
- Не торопись, - остановил Ханиф. - Коран читала, мусульманских же обычаев ещё не ведаешь вполне.
- Чего не ведаю? - спросила Всеволожа. Вельможа улыбнулся:
- Молчание или улыбка у нас считаются согласием.
8
Протекали за седмицей седмица, а дело, ради которого Евфимия оказалась в Курмыше, не терпящее промешки дело, как кол в водовороте, не двигалось. Жизнь гостьи напоминала акварий, сосуд стеклянный для разведения водожилых: и водоросли в водяничке, и речной песочек, а воли нет. За крепостной заплот не то чтоб выйти - не выглянешь. На мужескую половину без позова не ступишь. Ханиф не зовёт. Изрядно устала Евфимия от банных новизн, от восточных яств, от словоохотливой Асфаны, с кем всё переговорено, пересужено. На просьбу отпустить та просила продлить гостины или избегала ответа.
Раина тоже истощила терпение. Хозяйка, будто не замечая боярышниной тоски, подметила Раинину скуку. «Отпусти девку, - предложила она. - Служанок у меня много». Евфимия, поразмыслив, поняла: её здесь держат намеренно, чтоб не встревала палкой в колеса. И будут держать, пока не решится судьба Василиуса. Хитро придумал Ханиф! Нет замысла расстроить его придумку.
Дюдень как-то показался мельком. Не подошёл, издалека поприветствовал. Значит, досталось бедному за появление подопечной в Курмыше. Пусть не по пяткам, а всё же крепко. Теперь нет на него надежды.
Асфана, весёлая, вошла в ложню гостьи и объявила:
- Сегодня к нам - песельник! Ещё в Орде Мамутек купил его. Большой полон пригнали с Южной Руси. С тех пор возит с собой царевич русского соловья. Мой Канафи одолжил яшника на вечер. Пошли…
Женское общество собралось в саду. По одну сторону пруда - жёны Ханифа с боярышней и её девушкой, по другую - длинный худырь с узким ликом, впавшими ланитами, взором огненным. В руках будто лютня иль балалайка, только больше, пузастее.
- Как прозывают песельника? - спросила Асфану Всеволожа.
- Мы зовём Митуса… Гордость уруситов! Теперь - наш! По-татарски может. Тебе будет петь по-русски.
Длинными тонкими перстами Митуса прошёлся по струнам. Побренчал, настраиваясь… Запел райским голосом, но с земной тоской:
Не гром гремит, не гроза идёт - Молодой татарин полон ведёт: «Вот тебе, жёнушка, работница! Враз о трёх делах позаботится: Заставь её ногами дитя качать, Заставь её руками гужель вертеть, Заставь её очами гусей стеречь»… Качает полонянница дитятку: «Ай, люлю, люлю, баю-баюшки! По отцу-то ты татарчоночек, А по матушке - мой внучоночек! Твоя матушка-то мне дочь была, Во полон она семи лет взята, А семнадцать лет во плену живёт»… Услыхала татарская жёнушка, Полоняннице в землю кланялась: «Что ж ты, матушка, не призналася? Ни к чему трёх дел тебе делати. Ты снимай-ка шубу кожуриную. Надевай шубку соболиную. Мы пойдём с тобой во зелёный сад, Во зелёный сад виноград щипать». «Ах ты, дитятко моё милое! Не пойду с тобой виноград щипать. Отпусти меня во Святую Русь, В мою дедину, к дорогим крестам»…- Тьфу, поёт! - озлилась Асфана. - Одни слёзы! Зачем? У нас полный пруд воды.
- Дозволь говорить с Митусой, - спросилась Евфимия.
- Что ты! Нельзя, нельзя, - замахала рукой хозяйка.
Гостья встала и удалилась в дом, сопровождаемая Раиной.
- Боярышня, бежать надо. В лес хочу-у-у! - не впервой запричитала дева.
- У тебя в тяжкий час одно слово - «бежать»! - гневалась боярышня. - Как бежать? Куда бежать? Всюду глаз…
- Измыслю как, - не унялась ловкая наперсница.
- Сбежишь - вернут! - отрезала Всеволожа. Взошла, молитвенно сложив ладошки, Асфана.
- Что ты ходишь, как семенишь? - набросилась на неё Евфимия.
- Так красиво, - опустила татарка повинный взор. - У нас принято так.
Боярышня не сумела взять себя в руки, продолжала ехидничать:
- «Решила ворона, как куропатка ходить, позабыла и собственную походку». Ведомо ли тебе такое ваше присловье?
- Ты добрая, тебе плохо, - поняла Асфана. - Я не гневаюсь.
- И голос-то у тебя не твой: тонкий, птичий, будто щебечешь, - совсем разошлась боярышня. - В Костроме говаривала, как люди.
- Там была яшница, тут - жена Ханифа! - гордо вскинула голову Асфана.
Раина ушла от греха подальше. Евфимия опустилась на одр, задумалась.
- Митуса иглу воткнул в сердце Афимы? - подсела к ней хозяйка. - Ладно, не горюй. Хочешь, развлеку? Как? Не угадаешь.
- Не помыслю угадывать, - откликнулась Всеволожа.
- На мужней половине, - продолжила Асфана, - в тесной потайной палате в сей час родитель мой, имам курмышскогомезгита, беседует…
- Так это твой отец почти ежевечерне, - перебила боярышня, - кричит с мечети, или, как вы называете, с мезгита… Я даже выучила наизусть: «Ля илляхе иль Алла, Мухаммед расу л Улла!»
Асфана сминала пальцами и тут же расправляла на коленях свой цветной шабур из яркой домотканой шерсти.
- Это муэдзин азан читает, молитвой созывает правоверных. Мой же отец в мечети - главный. Мы с тобой алалыкаем, а он как раз отай беседует с имамом уруситов, яшником царя. Тот и другой встречаются в нашем доме подалее от глаз людских. Отец приходит, яшника приводят. Хочешь глянуть на него?
- На кого? - не брала в толк Всеволожа.
- На имама уруситов.
- У нас нет имамов. Асфана вздохнула.
- Когда царь весной брал Нижний, его нукеры нашли в лесу имама. Он не мусульманин, он… Ну, «человек писания». Так называют единобожников, отличных от язычников, хотя неверных. Этот яшник был в монастыре урусов главный, значит, имам. Теперь он в яме. Отец любит тайно с ним беседовать.
- Как ты сказала? В Нижнем? - соображала Всеволожа. - Имени его не ведаешь?
Татарка покачала головой.
- Идём, - торопила она. - Та палата стеной выходит в нашу половину дома. А вверху, в стене, есть у меня смотрелка, дырка незаметная. Вот я и знаю, что там делается. Идём…
Спустя малое время Евфимия стояла на подставной лесенке, глядела в круглое отверстие, внимала различимым голосам и видела седого старца в чалме, а на ковре против него… Уж вот кого не ожидала! Хотя мелькнула мысль, едва услыхала о Нижнем, да отогнала догадку: что за монастырь? Там была келья в пустыньке… И вот пред ней лицо отшельника Макария! Стало быть, государь исполнил обет: выстроил для него обитель Пресвятой Троицы… Имам татарский стар, священноинок русский - средних лет, однако он величеством осанки спорит и с благобородым старцем. Хотя тот из богатого жилища, этот из ямы.
Беседа двух духовных лиц, видимо, заканчивалась.
- Клянусь посылаемыми поочерёдно, - торжественно воздевал сухие руки имам, - клянусь пасущимися быстро, клянусь показывающими ясно, различающими верно, передающими наставления, и прощение, и угрозу: предвозвещённое уже готово свершиться!
- А наш апостол речёт, - тихо молвил Макарий, - «не клянитесь ни небом, ни землёю, и никакою другою клятвою, но да будет у вас «да, да» и «нет, нет», дабы вам не подпасть осуждению».
- Ваши апостолы? - возразил имам. - У них ли лестница к Небу, чтобы подслушивать, что там? Лишь ангелы и Дух восходят к Богу в течение дня, которому пятьдесят тысяч лет!
- Прости, мудрейший, - устало произнёс Макарий. - Не ваше ли учение гласит: «Кто желает посева для ближней жизни, нет ему в последующей никакого удела»?
- К чему это говоришь? - вопросил имам.
- Меня смущает твоя тучность, - ответил пленный отшельник. - Ты мне представился, как боголюб. Однако же любовь сушит…
- О-о! - расслабился имам. - Всякий раз, как вспомню, что я раб Аллаха, выступаю горделиво, оттого выгляжу толще… Да я утомил тебя! Не разрешишь мне перед царём замолвить слово о твоей участи?
Макарий встал.
- Благодарю. Всем доволен, ибо всё ниспослано свыше.
Евфимия, ощутив круженье головы, спустилась с лестницы.
- Ай, ай! Ты белая, как моя нижняя сорочка, - испугалась Асфана.
А в зенане началась суета: слышались голоса и топот. У двери ложни ждала Раина:
- Боярышня, тебя ищут!
- Сбегаю разузнать, - обеспокоилась Асфана. Вернулась сама не своя.
- У Канафи Мамутек! Урусита чёрным ходом увели. С Мамутеком - большие люди! У отца борода тряслась. Хвала Аллаху, царевич яшника не заметил. Требует тебя. Какой-то шакал донёс, что ты здесь.
Следом за Асфаной появился Дюдень. Лысина - в поту, куценькая бородка растрёпана.
- Пошли, ханум, к господину, - голос не предвещал ничего приятного.
Евфимия - что было крайней редкостью для неё - ощутила сосущий страх. В мыслях всплыло слово «гарем». Не уготовано ли ей место среди жён Мамутека? Неведомо для чего взяла Раину с собой.
- Помогай тебе Биби-Мушкиль-Куша, - напутствовала шёпотом Асфана.
- Кто, кто? - переспросила боярышня.
- Госпожа-разрешительница, покровительница всех жён…
В покое Ханифа Евфимия прежде всего узнала царевича в щегольском терлике с перехватом у пояса, с короткими рукавами. Чем-то знакомым повеяло и от свирепого на вид тучного мурзы в длинном, ниже колен, чапаке типа кафтана. Третий, с колючим взором и ухоженной чёрной бородкой, был Ачисан.
- Какую жемчужину у себя скрываешь, Ханиф? - прищурился Мамутек.
Тучный мурза вперил во Всеволожу подозрительный взгляд.
- Моя гостья, - сказал хозяин.
- Почему твоя гостья не может оказаться моей? - лучезарно улыбнулся царевич.
Раина, державшаяся бок о бок с боярышней, дрогнула.
- Она гостья моей жены Асфаны, - уточнил Ханиф. - Я твоей милости объяснял после битвы под Суздалем…
- Хотел её отпустить домой, - напомнил царевич. - Её дом - твой дом? Ты мне лгал.
- Мой дом - её дом, - понурился Канафи.
Тучный мурза не спускал глаз с боярышни. От такого внимания захотелось провалиться сквозь землю. Где ей встречались эти обвислые усы?
Мурза прошептал царевичу нечто важное, ибо Ханиф, расслышав, с испугом посмотрел на мурзу, с жалостью - на Всеволожу.
Мамутек согласно кивнул и отдал приказ через дверь.
Некоторое время вельможи переговаривались на своём языке. Потом царевич сказал:
- Выйди, женщина в соседний покой. Пусть девка переоденет тебя.
Евфимия и Раина вышли. В малой палате, где только что беседовали имам и отшельник, боярышню ждала русская мужская сряда, какую носят стремянные. Тут она догадалась, вернее, вспомнила: свирепый на вид вельможа был тот, что под стенами Белёва вёл переговоры с князьями. Толмач именовал его «Хочубой», Евфимия же из татарских уст ясно слышала: «Кичибей».
- Ой, возвращаться к ним, словно отроковицам в пещь огненную! - волновалась Раина.
- Хоть в ад, иного пути нам нет, - переодевалась Евфимия.
- Маматяка боюсь! - стонала лесная дева. - Было мне возле него «привидение» то: злодейски умертвит он отца и брата.
- Фух! - перевела дух Евфимия, поскольку Раинины «привидения» то и дело сбывались и боярышня начинала им верить. - Вот от чего ты давеча дрогнула!
Едва обе переступили порог Ханифов, Кичибей, или Хочубой, ткнул пальцем во Всеволожу:
- Советник князя Дмитрия Красного, уготовь Аллах покойнику в джаканнаме жаркую сковородку!
- Верно ли? - резким голосом спросил Мамутек ту, что намеревался взять в жены.
- Твой мурза памятлив на лица, - кивнула Евфимия.
- Кто родил тебя, лучше бы родил камень, - проскрежетал Ачисан. - Камень занял бы своё место при постройке стены.
- Я пыталась построить стену доверия меж двумя ратями под Белёвом, - заявила Евфимия.
- Посланник Аллаха учит, - возразил Ачисан, - советы жён нам нужны, чтобы делать наоборот.
- Однако же ваша мудрость гласит о женщине, - напомнила Всеволожа, - «она родит, она и на ноги ставит», «Язык немого лишь мать поймёт», «У кого нет жены, у того нет близкого».
- Женщина - мешок орехов, чтобы купить или продать. Мужчины намного выше степенью своего достоинства, - упорствовал Ачисан.
- Когда арабское племя туарегов проиграло битву, - напомнила Евфимия из истории, - пришли на помощь женщины и выиграли бой. С тех пор в этом племени они сняли паранджи и заставили носить их мужчин.
Услышанное о туарегах вызвало бурю негодования у царевича и вельмож. О чём они спорили? Что приказывал Мамутек? В конце-то концов Ханиф сурово велел Евфимии:
- Удались пока… Боярышня и Раина вышли.
Хозяйка ждала у входа на женскую половину.
- Что?
- Кичибей узнал во мне белёвского советника при князе, участницу споров о докончаниях, - сообщила Евфимия.
- Ой, ой, ой, ой! - сжала голову Асфана. - Теперь попадёшь не в зенан к царевичу, а на плаху. Они потеряют разум!
Раина беззвучно плакала.
- Когда открывается истина, разум отступает назад, - вздохнула Евфимия.
Мрачное воцарилось молчание. За трапезой к еде не притронулись ни хозяйка, ни гостьи.
Повечер явился Ханиф, перемолвился с главной женой и вышел.
- Не обо мне ли шла речь? - осведомилась Евфимия. - Тайны нет?
Асфана прижала подол к лицу и разревелась навзрыд.
Айбикен смачивала её виски целебной водой. Открыв лик, татарка произнесла сквозь всхлипы:
- Велел одеть воином. Горе тебе! Сегодня предстанешь пред грозные очи Улу-Махмета. Царь будет твоим судьёй!
9
Палата, где заседал диван казанского царя в Курмыше, сравнительно с великокняжеской Престольной была скромна. Белые стены - глазу остановиться не на чем. Ковры - единственная роскошь, - стопа утопала в них. По бокам - мурзы, в средоточии же, у противоположной от входа стены, на более высоких подушках - старый, сухонький Улу-Махмет. По левую и правую руку - царевичи.
Один из приставов, что привели Всеволожу, втолкнул боярышню в дверь и шепнул по-русски:
- Перед тобою диван-беги, старейшина Совета, Магомет-Мазербий, у царя первый человек!
Старик в чалме - борода до полу - важно повёл её пред очи царя.
Евфимия поклонилась.
- Рукуг? - удивился старейшина поясному поклону. - Саджа! - повелительно ткнул пальцем в землю.
- Пред иноземными владыками ниц не падаем, - строго молвила Всеволожа и обратилась к царю с вызубренной загодя речью: - Улу-Махмет хан халеде ал-лагу муккугу! - что означало: «Улу-Махмет хан, да продлит твоё царствование Божья милость!»
Царь мрачно молвил на её языке:
- Подойди поближе.
Подслеповатые глазки долго сверлили приведённую уруситку.
- Это ты под Белёвом давала советы своим князьям?
- Я хотела, чтоб твоя сила оставила этот город, не вбивала клина меж Москвой и Литвой, ушла к родственным булгарам. Жаль, христианские князья, словно мусульмане, выслушав женщину, поступили наоборот. Ты - кладезь мудрости! - сделал, как следовало. Ныне основанное тобою царство устрашает соседей. Разве я была не права?
Улу-Махмет подал знак рукой, дабы Всеволожа ещё приблизилась.
- В твоих очах радость. Чему радуешься? - прошамкал царь.
- Радуюсь, что стою пред тобой, - отвечала боярышня, - ибо пятнадцать лет назад мой родитель стоял пред тобой же, ратуя о судьбе нашего великого князя Василия.
Судя по выражению морщинистого лика, царь был крайне удивлён.
- Дочь боярина Иоанна?
- Дочь его, - склонила голову Всеволожа. Мурзы по сторонам встрепенулись. Неподвижность восточных божков нарушилась. Шепотки - будто ветерок пролетел по сухой листве.
- Отец твой, - возвысил голос Улу-Махмет, - просил золотую шапку для юноши, ещё не запятнанного дурными делами.
Евфимия смиренно потупилась.
- Дозволено ли мне напомнить царю слова из Корана? «Если наказываете, то наказывайте соразмерно тому, что считается у вас заслуживающим наказания, если же будете снисходительны, это лучше для снисходительных».
Царь перевёл вопрошающий взор со Всеволожи на своих мурз. Кичибей, или Хочубой, встал и произнёс нечто грозное. Ачисан поддержал его. Страшнее всех прокричал злое слово, скосясь на Евфимию, Мамутек.
Царь изрёк:
- Я обязательно накажу Василия. Смертью ли, вечным пленом ли… Обязательно!
Евфимия улыбнулась:
- Знатный арабский мыслитель Абу-аль-Ала аль Маарри создал труд, который назвал: «Обязательно ли то, что не обязательно?».
- Зачем живая ссылаешься на умерших? - запальчиво прокричал Ачисан.
Евфимия обратилась к нему:
- Отвечу словами Пророка: «Когда вас приведут в отчаянье, ищите помощи у лежащих в могилах».
Вояка Хочубой грубым голосом вмешался:
- Ты прочла много книг! А великий халиф Омир говорил: «Если в книгах писано то же, что и в Коране, то они лишние, если же писано иное, то они лгут»!
Евфимия не удостоила Хочу боя ответом. Улу-Махмет раздумчиво произнёс:
- Отдам золотую шапку Шемяке, он будет благодарней Василия.
Всеволожа возразила вопросом:
- Будут ли благодарны бояре, ненавидящие Шемяку? Ему ж не в пустом сосуде державствовать.
Среди вельмож возник шум. Кое-кто вскакивал и кричал, тыча перстом в Евфимию. Громче других неистовствовали Ачисан с Кичибеем. Боярышня обратилась к ним:
- Аллах внимает не слухом… Прекратите же ваши крики! Разве вы кричите тому, кто находится от вас далеко, или стремитесь разбудить дремлющего?
Царю явно пришлось по душе сравнение его со Всевышним. Он сделал знак рукой, и диван затих.
- Веруешь ли, - полыхая очами, спросил властитель стоящую пред ним деву, - веруешь ли, что я поступлю справедливо?
- Благословен тот, у кого в руке царство, - отвесила поясной поклон Всеволожа, - потому что он всемогущ!
- Веруешь ли, что я вправе обречь Василия смерти? - продолжил царь.
- Верую, - согласилась Евфимия, - ибо это нелепо.
- Опять чужие слова? - ехидно спросил Ачисан по-русски.
Евфимия одарила врага улыбкой:
- Тертуллиан, римский богослов.
Тем временем царь переговаривался с царевичами. Боярышня устремила на них любопытный взор.
- Мы опасаемся, - по-русски объяснил ей наиболее приятный ликом царевич, - долгое время нет нашего посла Бегича, отправленного к Шемяке. Уж не убит ли он? Не решил ли князь Дмитрий править независимо?
Всеволожа тихо спросила старейшину Совета, диван-беги, стоявшего около:
- Кто это?
Тот не знал русского, однако понял вопрос по взгляду Евфимии, устремлённому на царевича, и назвал:
- Касим.
- Шемяка вашего посла не убьёт, - отвечала Всеволожа Касиму. - Вот разве перепоит от усердия. Наш народ на хмельное очень гостеприимен. Проспится Бегич как следует и возвратится к вам поздорову. Да вряд ли привезёт новость, коей бы вы не знали.
- Василий за добро не платит добром! - на весь диван объявил Ачисан по-русски. - Василия надо - ы! - ткнул он большим пальцем вниз.
Евфимия спокойно обратилась к царю:
- Закрой свои уши для лжи, которую слышишь от них.
Улу-Махмет, судя по лицу, начал переменять гнев на милость. Крюковатым перстом подманил он Всеволожу ещё поближе.
- Дочь остромысла боярина Иоанна, тайная советница князей, что, отвергая неподходящее, посоветуешь ты?
Боярышня перевела дух.
- Дабы царская твоя милость, выслушав женщину, не совершила обратного, я отвечу опять-таки словами Корана: «Воюйте… с теми из получивших писание, которые не принимают истинного вероустава, пока они не будут давать выкуп за свою жизнь, обессиленные, униженные». Самодержец Московского великого княжества не достаточно ли унижен? - прибавила Всеволожа.
Царь настороженно потянул носом.
- Ты говоришь о выкупе?
- С Шемяки не возьмёшь выкупа, а дань он сберёт не скоро, - присовокупила Евфимия.
- Выкуп!.. Выкуп? - на разные лады применял лакомое словечко Улу-Махмет.
- Дабы не от женщины исходил сей совет, - продолжила Всеволожа, - призови и поставь пред свои очи знатного советчика, коему вся Русь могла бы внимать, подвижника святой жизни, сидящего в твоей яме.
- О ком ты? - осведомился казанский царь.
- О Желтоводском отшельнике, взятом в полон под Нижним. Его имя Макарий.
Властитель чуть-чуть склонил голову. К боярышне подошёл царевич Касим.
- Ты свободна, Евфимия, дочь Всеволожа. Чего ты хочешь?
- Хочу ещё погостить в доме своей товарки, жены темника Ханифа, Асфаны. Пусть тень злословий и подозрений не падёт на сей знатный дом. Ещё хочу свидеться со своим государем перед отъездом на Русь. Касим переговорил с отцом и пообещал:
- Будет так. Твои желания выполнимы. Дипломатик наш Ачисан хоть и не чета твоему покойному батюшке, а посольник справный. Он тебе поспособствует. Обратись к нему, отложи нелюбье.
Боярышня по достою простилась с царём, благодарно улыбнулась Касиму, поклонилась хмурому Ачисану и в сопровождении тех же приставов покинула велемудрый диван.
Светильники в белой палате давно уж плодили копоть. Терпеливый Совет дышал тяжело. Евфимия, выйдя, жадно вдохнула воздух. Факельщики с носильщиками вскорости доставили её в дом Ханифа.
- О, Афима! - повисла на ней испещрённая слезьми Асфана. - Горе не горе, если кончается радостью!
10
Осень покрыла киноварью красоту сада Асфаны, когда Евфимия с группой всадников покидала Курмыш. Бок о бок молодцевал в седле крепкий, как до Суздальской битвы, Плещеев, коего государь послал на Москву предвестником своего счастливого возвращения. У боярышни с ним попутье. Им с Раиной плещеевская обережь кстати: леса кишат шайками шишей!.. По другую руку на караковом коне - Кичибей. Его отправил Улу-Махмет создавать в Кремле помимо Ордынского двор Казанский. Надо загодя выбрать усадьбу с хороминой для такого двора. А уж посольства и челяди наедет с русским великим князем до полутысячи - заполнят новое татарское обиталище.
Узкие улицы Курмыша в ранний час были немноголюдны. Редкие прохожие жались к тынам, уступая путь всадникам. Внезапно всё изменилось. Вершникам пришлось жаться, высвобождая дорогу дико орущей толпе. Она вывернулась из-за угла и медленно двигалась, пугая своим неистовством. Впереди несколько десятков людей, одетых в белое, с обнажёнными руками, грудью, плечами. То и дело они заносили над собой сабли и ножи. С криками «Шах Хусейн! Вах, Хусейн!» ранили себя в голову, плечи, грудь… Кровь лилась обильными струями по белоснежной одежде, окрашивая её в багряный цвет. Каждый удар самоистязателей толпа приветствовала, возбуждая к новым мучениям.
- Страсть какая! Что это? - обернулась Евфимия к Кичибею.
Раина жалась к боярышне, трепеща.
- Это шахсей-вахсей, - пояснил мурза. - День памяти имама Хусейна, принявшего мученическую смерть десятого мухаррема, по-вашему октября, около тысячи лет назад. Этот святой имам…
Евфимия не дослушала. Её внимание привлёк самоистязатель, проткнувший складки собственной кожи длинными железными иглами. Кожу при этом он оттягивал гирями, кольцами и иными тяжестями, увеличивая мучения. Эти тяжести раздирали рану… Вот вырвали кусок мяса… Мученик продолжал идти, нарочно встряхивая руками, плечами, обременёнными иглами и цепями, даже подпрыгивал, радуясь, что ещё сильнее по белому льётся алая кровь.
- Аллах, Али! - кричал он.
- Хусейн - сын Али, - сообщил мурза.
- Зачем они мучаются? - ужасалась боярышня.
- Смерть имама была мучительной, - сказал Кичибей. - Так святой искупил человеческие свободу и право…
Уф! Наконец-то толпа прошла в сторону мечети. Вершники двинулись в дальний путь.
Волгу переплывали в большом насаде, где поместились и люди, и кони.
Мурза после пребывания Всеволожи в диване заметно переменился к «советнику русского князя» и теперь не отходил от боярышни. Стоя у оперённого борта судна, он развлекал её любопытными разговорами. Льстил при этом, но так искусно, что она слушала - вся внимание.
- Знаешь, как наши после дивана называли тебя? - пропускал он сквозь пальцы вислые усы. - Разийя!
- Разийя? - вскинула брови боярышня.
- Известна ли твоей учёности Разийя? - сощурился Кичибей.
Евфимии ничего не оставалось на этот раз, как помотать головой.
- О, Разийя была умница каких мало! - поднял руки мурза. - Жила она в Индии двести лет назад. Отец, султан Илтутмыш, передал дочери престол вопреки притязаниям сыновей. Считал их неспособными править. Знатные же люди не пожелали правления женщины. Возвели на престол Рукнуддина Фируза, старшего сына покойного царя. Никудышный был человек: похотливый пьяница! Султан гулял, а делами ведала мать его Шах Туркан, коварная женщина, когда-то была служанкой в гареме.
- А что ж Разийя? - не терпелось Евфимии, сразу представившей Литовтовну и себя.
- В государстве начались распри, - вздохнул мурза. - Дурные люди взялись за оружие, внутри и извне. Толпа разъярённых умертвила султана и его мать. Правительницей была провозглашена Разийя. Вельможам это не нравилось. Она не уединялась в зенане, отказалась от женской одежды, сидела с мужами в диване, ходила вместе с ними в поход.
- Ужли это так дурно? - вступилась за Разийю Всеволожа.
Мурза беспокойно повертел головой.
- Большой ветер пришёл на большую реку. А время осеннее. Спустимся в нижнее помещение.
В корабельной коморе он усадил Всеволожу на лавку, сам сел напротив на чурбаке.
- Бедная Разийя! - сокрушалась Евфимия.
- Бедная судьбой, богатая разумом, - возразил Кичибей. - Правила три с половиной года. Противники её одолели. А люди запомнили, как великую, благодетельную. Она творила суд справедливый, покровительствовала учёным, заботилась о неимущих, одерживала верх в битвах. А что дали ей эти замечательные достоинства?
Судно остановилось. Боярышне не пришлось завершить беседу о Разийе. Стали выгружаться на берег. Плещеев распорядительно торопил людей.
- Спешит с приятным сеунчем, - отметил мурза.
- Что значит «сеунч»? - спросила Евфимия.
- Весть! - объяснил Кичибей. - Счастлив раб, приносящий весть о свободе своего господина!
Боярышне не понравилось сравнение Плещеева с рабом, да и усомнилась она в правоте Кичибея: всегда ли раб счастлив счастьем рабовладетеля? А кони уже осёдланы. Не время пускаться в сложные споры. Скачка началась…
Минуя Нижний, достигли повечер села Киселёва на полпути к Мурому. У околицы задержались. Встретились вершники с запасными конями. Плещеев долго с ними переговаривался у края дороги.
Для Евфимии и Раины определили избу. Наскоро повечеряв, обе улеглись рядышком на голбце. Лесная дева вмиг провалилась в сон, боярышня же заснула не сразу. Волновало воспоминание о недавнем прощании с плачущей Асфаной. Ей вторили Айбикен и другие неутешные жены. Слёзы лились не столько об отъезде Евфимии, как об их господине Ханифе, отбывшем незадолго до того с Мамутеком в Казань. Поступило известие, что один из князей булгарских Либей завладел столицей Улу-Махмета в отсутствие царя. Царевичу и тысячнику его предстояла битва с мятежником. Нечаянная беда пришлась кстати при решении участи великого князя Московского. Боярышня дважды виделась с государем. Первый раз он, сияя радостью, обнял бывшую невесту и прослезился: «Евушка! Рад, что ты жива, здорова!» - «И я рада видеть тебя в полном здравии», - ответила сестринским лобзанием Всеволожа. Она рассказала всё, исключая царский вызов в диван. «Страшные беды ниспосылает Господь за наши грехи! - скорбел венценосный пленник. - Вот, трёх перстов лишён, - смущённо показал он десницу. - Слава Создателю, наш подвижник, заступник мой, священноинок Макарий, незадолго полонённый погаными, сумел сокрушить злобу Улу-Махмета, удостоился приёма, пленил царя собственным величием. Сам был тут же отпущен, и меня грешного с моими людьми казанцы выпустить соблазнились за окуп. Требуют несусветных денег: двести тысяч рублёв!» Из слов Василиуса боярышня поняла, что татары помалкивали о пребывании женщины в их Совете. Объёмом же окупа Евфимия возмутилась: «Алчебники! Великое княжество обнищает от их алчбы! Надобно, не спеша, рядиться». Василиус терпеливо поддакнул: «Братец Михаил князь Верейский и другие знатные пленники прилагают старания. Сам дважды говорил с царём. Глядит букой, стоит на своём»… При последнем свидании Всеволожа нашла в государе больше душевной крепости. Узнала, что казанский мятеж положил конец долгой ряде. Татары согласились на окуп «от злата и сребра, и от портища всякого, и от коней, и от доспехов двадцать девять тысяч пятьсот рублёв». На том царь и сын его утвердились с пленником целованием креста и Корана. «Едем, Евушка, со мной на Москву!» - тёр ладони Василиус. «Я поеду вперёд с Плещеевым, - предусмотрительно решила Евфимия. - Иначе сызнова начнут сучить сплетни про нас с тобой». Вспомнив её недавние злоключения, он согласился: «Хотя у суки и не без крюка, однако езжай вперёд. Не вздумай лишь удаляться в Нивны. Всенепременно дождись меня в дому Юрия Патрикеича. По моём приезде немедля встретимся. Обсудим, как дальше быть. Я в должниках твоих оставаться не вправе»… Боярышня обещала дождаться государева возвращения. Теперь, лёжа в постоялой избе, думала-передумывала: какие милости от Василиуса получит судьба её сиротинская? Так и заснула, ни во что не поверив…
Едва солнце заглянуло в окно, Раина затормошила боярышню:
- Просыпайся! Между мурзой и Андреем Фёдорычем большая пря!
Дева, видать, только что с улицы. Наблюдала прю собственными глазами.
- Что?.. Что могло их рассорить? - стряхивала сон Всеволожа.
- С рассветом привезли вязня, - сообщила Раина. - Повязан Фёдор Дубенской, что ехал в Курмыш с татарином Бегичем. Парень из обережи мне обо всём поведал доподлинно. Дьяк с послом из Мурома судном шли. Коней отпустили берегом. Вчера у околицы наши захватили их человека, Плишку Образцова, с конями. Объявили, что государь отпущен. Плещеев отправил с Плишкой нескольких воев. Пояли Шемякина дьяка под Дудиным монастырём. Бегича кто-то предупредил. Он заполночь бежал в Муром. Тамошний воевода при встрече опоил его мёдом и к утру выдал нашим. Вот-вот привезут татарина. А из их обережи кое-кто убежал к Шемяке.
- Сообразительная ты дева, - похвалила Раину боярышня. - Всё до меня довела потонку.
- Так ведь поведыватель мой сам ездил имать шемякинцев, - делала большие глаза Раина.
Вборзе собравшись, обе покинули избу. Евфимия сразу увидала толпу у Оки. Подошла. Дьяка Дувенского, дородного, благообразного, ей доводилось встречать и в Костроме, и в Галиче. Теперь он выглядел непотребно: кафтан разодран, борода клочьями, под левым оком большой синяк. Повязанный вервием по рукам и ногам, дьяк сидел в телеге. Воины насмехались над ним. Чуть в стороне которовались мурза с Плещеевым.
А по муромской дороге пылевое облако катилось к деревне. Вот в нём обозначилась и приблизилась тройка, впряжённая в кареть, когда-то обитую чёрной кожей, ныне облезлую.
Замерли кони. Два воина вывели из карети хмельного татарина, окованного по рукам. Он поматывал башкой и мычал. Тут Кичибей усилил словесный натиск на молчуна Плещеева, Андрей Фёдорыч отмахнулся.
Мурза, проходя мимо Всеволожи, глянул исподлобья, будто она виновна, и пробурчал:
- Зачем мирились? Чтобы наших послов ковать? Плещеев тем временем удалился в свою избу. Евфимия последовала за ним.
- Не гораздо ты делаешь, Андрей Фёдорыч, - сказала она, войдя. - Кичибей вне себя!
- Что Кичибей! - огрызнулся Плещеев. - Великий князь покинул Курмыш. Улу-Махмет уехал в Казань. Там сын его Мамутек бьётся с мятежным Либеем. Им не до нас. Дьяк же с Бегичем на московском доиске выложат всю подноготную о чёрных Шемякиных замыслах против государя. Сие весьма кстати!
Евфимия возразила как можно спокойнее:
- Кое в чём ты прав. Не прав в главном. Люди из обережи посла и дьяка доведут до Дмитрия Юрьича о случившемся. Узнав, что Дубенской с Бегичем в застенке, князь примет крутые меры. В них - дело жизни и смерти для него самого и его споспешников.
- Пугаешь Шемякой? - прищурился Андрей Фёдорыч.
- Пугаю дальнейшей смутою на Руси, - ответила Всеволожа.
- Женские страхи! - усмехнулся Плещеев. - Ступай-ка, Евфимия Ивановна, изготовься. Спустя малое время - в путь!
Из Киселёва выехал не только конный отряд. Чёрная кареть двигалась позади под крепкой охраной. Кичибей же с Плещеевым ни словом не перемолвились до самой Москвы. Мурза молчал разобиженный, а молодой дворянин - как каменный.
Москва встретила пустырями, погарью. Чёрные остовы печей с трубами напоминали кладбищенские надгробия.
Кремник под стать застенью представлял пепельную пустыню.
- Гляди, боярышня, хоромы Юрия Патрикеича в целости! - обрадовался Плещеев. - Туда нам и надобно.
Кичибей, не простившись, отъехал на пепелище Ордынского двора со своими людьми. Андрей же Фёдорович с Евфимией остановили коней у ворот Наримантова. Челядь выскочила встречать. Воевода, седоусый и седовласый, вырос на гульбище, аки волхв с воздетыми к небу руками:
- Слава Создателю! Вернулись, с кем не чаял и свидеться!
11
По прибытии в дом Наримантовых Всеволожа отдалась в полную собственность княгини Марьи Васильевны. Старшая сестра Василиуса проследила со всей заботой, как гостью отпарили в бане, как обрядили, как потчевали. Повечер в ложню боярышни явилась лесная дева, посвежевшая, отдохнувшая, спросила застенчиво:
- Не отпустишь ли в Нивны?
Евфимия, не ожидавшая столь внезапной разлуки, удивилась:
- Сей час?
- Завтра поутру, - потупилась дева и тихо примолвила: - Ты ведь отныне благополучна?
В дверь заглянула бойкая челядинка:
- Евфимия свет Ивановна! Князь просит пожаловать в свой покой.
Окаменевшая Всеволожа с места не тронулась. Раина ответила позовнице:
- Тотчас придёт. - Закрывши за челядинкой, она обернулась к давней спутнице по несчастьям, всхлипнула, тут же бросилась ей на шею: - Голубонька! Думала, надоела тебе, стала не нужна. Лишний груз - с воза прочь! А ты… Отстегай меня, избей дуру! Дай душистым платчиком тебе очи вытру…
Боярышня высвободилась из объятий девы и глухо произнесла:
- Твоя правда. Надобно попрощаться. Амма Гнева сойдёт с ума. - И тут же засобиралась пред очи князя: - Где губная масть, сурмила с румянами?
- Вот он, твой ларчик, - подала Раина понуро и ушла.
Евфимия посовещалась с зерцалом и отправилась к воеводе.
В покое княжеском было так покойно, будто не выгорела Москва. Юрий Патрикеич сидел на лавке. Сорочка белела из-под расстёгнутого охабня. Усы - чуть ли не до пупа.
- Ох, приукрасилась! - восхитился он Всеволожей. - Не смущай старика. Присядь-ка насупротив, на стольце. Полюбуюсь да потолкуем.
Прежде всего он пожелал слышать всё, что произошло в Курмыше. Боярышня пересказала случившееся, опустив свою прю с Улу-Махметом в диване. Воевода кивал согласно, пока речь не дошла до её спора с Плещеевым из-за пойманных и повязанных татарском посольнике и Шемякином дьяке.
- Тут ты, Евфимия, была не права, - возразил старик. - Нынче на виске Дубенской открыл, что князь Дмитрий Юрьич требовал государю смерти, себе же великого княжения под рукой казанского царя. Бегич подтвердил сии происки. Его выпустят без урону. Улу-Махмет, занятый казанскою смутой, не возведёт на нас зла. Что до Шемяки, то он бежал к себе в Углич, узнав о поимке посла и дьяка. Да ведь Углич не Литва, при нужде достанем.
- Завтра великий князь будет на Москве, - молвила Всеволожа.
- Завтра, коли успеет, - тяжело вздохнул Наримантов. - Без него Москва- сирота. А ещё надобно ему в Переяславль завернуть, взять великих княгинь с детьми. С пожару-то Софья Витовтовна настропалилась в Тверь, да Шемяка у Дубны перехватил её поезд, поворотил в Ростов. Ныне в Переяславле государыня-мать ждёт сына, а государыня Марья - мужа.
- Как детки Марьины? - спросила Евфимия. - Как старшенький Иоанн?
- В полном здравии и Иван, и Юрий, - отвечал воевода.
- Мыслю многое об Иване, - пооткровенничала Евфимия. - Зрю его в славе. Будучи на берегах Волхова, собственноушно слыхала, как чудотворец Михаил Клопский предрёк ему полное одоление над Великим Новгородом.
- Не вместе ль мы любовались Волховом? - напомнил воевода. - Не слыхал такого пророчества.
- Я вдругожды была, - сообщила боярышня. - Бежала от Шемякиной казни.
- Поведывали о твоих мытарствах, - поник Юрий Патрикеич. - Только ведь этот юродивый, сказывают, родня князю Константину Дмитричу, нашему супротивнику, Царство ему Небесное!
- Запомнился мне тот день! - не отозвалась Всеволожа на замечание Наримантова. - Как после стало известно, он вточию совпал с днём рождения Иоанна. Юродивый объявил, что крестил новорождённого Троицкий игумен Зиновий. Как мог узнать?
- Чудны дела твои, Господи! - Воевода возвёл очи горе. - Кому даёшь, у кого отымаешь - Твоё Господне соизволение… Однако же истомилась ты, неусыпная путница, пора и на опочив, - поднял он Всеволожу, запечатлев отцов поцелуй на её челе.
Расстались до завтра, не ведая, что сулит день грядущий.
Поутру - ни свет ни заря - ворвалась в опочивальню Раина:
- Беда, голубонька!
- Какая ещё беда? - вскочила уставшая от бед Всеволожа.
- Прошла беда! - обрадовала лесная дева. - А страху-то было! В шестом часу ночи поколебался весь город, Кремль и посад, домы и церкви. С меня неведомая сила стряхнула сон. И сила-то недолгая, а незримая - вот в чём страсть! Вся челядь обеспамятела: бегают, кричат… Княгиня Марья Васильевна объявила, якобы внутриземье разверзло недра, дабы поглотить Москву. Князь вышел в одной сорочке, усовещивал подружию. Наименовал происшествие явлением естества, весьма необычного для земель северных. Евфимия тем временем умывалась и одевалась.
- Землетрясение! - вымолвила она. - О разрушениях не говаривают?
- Нет, - качнула головой Раина. - Лишь со слезьми не спавшие исповедуют спавшим всё виденное и слышанное. Гром изошёл из земных глубин. Ночь осветилась нечувствительным заревом. Дворский Кузьма счёл нечаянный ужас предтечею новых бед…
Суматошно начавшийся день суматошно продолжился. Челядинцы передавали друг другу слухи и пересуды, сообщали, что ни на Торгу, ни в домах ни о чём ином речи нет, кроме как об ужасном явлении. Юрия Патрикеича не было весь день. Всем распоряжалась Марья Васильевна. Унять общую дрожь было не в её силах… Вдруг зазвонили колокола. Радостно, как на светлый праздник. Все колокола уцелевших от пожара церквей московских возвещали окрест некое благое известие. Дворский Кузьма первый принёс его в дом:
- Государь воротился из плена!
Ввечеру на двор Наримантова прибыл конный поезд. Евфимия углядела из слюдяного оконца, как в нестойком кружевном мареве первого раннего снега всадники спешивались, выгружали из возков скарб. Весь дом наполнился мужским говором.
- Бра-тинь-ка-а-а! - раздался истошный голос Марьи Васильевны, вероятно обнимавшей как бы выходца с того света.
Евфимию никто не позвал. Десятое чувство подсказывало не покидать свою ложню.
Раина, вбежав, перечислила всех прибывших:
- Хозяин с Плещеевым и другими боярами привезли великого князя! Готовят пир!..
- Ты собиралась сегодня в Нивны, - напомнила Всеволожа.
- Собиралась, не собралась, - тряхнула дева кудряшками. - До того как земля разбудила, увидела «привидение». Забыла рассказать в суете. А ехать не еду.
- Про кого «привидение»? - полюбопытничала боярышня.
- Про тебя…
В дверь очесливо постучали.
- Взойди, Василиус.
- По стуку узнаёшь меня, Евушка? - широко улыбаясь, вошёл государь к своей недавней сподвижнице. Раина исчезла. Он уселся на сундуке, упёр руки в колени. - Вот мы и на Москве!
- Слава тебе, Господи! - перекрестилась боярышня на икону Спасителя.
- Не токмо в столице, во всех городах, в самих хижинах сельских добрые подданные веселились моему возвращению, спешили воочию лицезреть, - начал он рассказ. - Забыв о горькой стихии, москвичи толпами шли навстречу. В Переславле нашёл многих князей, бояр и детей боярских. Ратных собралось столько, хоть иди на сильнейшего из врагов. Старикам сие напомнило деда моего, славимого после Куликова поля. Донской пленил славой, я тронул сердца несчастьем.
- Не обольщайся, - молвила Всеволожа. - Боюсь давать волю чувствам. Жизнь многожды повергала из радости в горе.
- Горестно видеть московский пепел, - охладился великий князь. - Пустыри вместо улиц. Не имею дворца. Оставил матушку на Ваганкове, в её доме. С ней Марья и дети. Сам поживу пока в тереме Юрия Патрикеича, единственном уцелевшем в Кремле.
- Ещё Шемякин двор уцелел, - усмехнулась Евфимия.
- Ох, не напоминай о Шемяке! - отвернулся Василиус.
Боярышня встала.
- Пришло мне время прощаться с гостеприимным боярином и твоей сестрой.
Василиус взял её за руку и вновь усадил напротив.
- Выслушай до конца. Завтра возьму детей и поеду к Троице. По обычаю отцов и дедов вознесу благодарственные молитвы за спасение от поганых. Марьица остаётся, сызнова тяжела. Матушке не можется. Возьму кой-кого из ближних. Очень бы желательно, чтобы ты спустя день-другой оказалась там же, на богомолье. Нашли бы время и место для дружественной беседы. Есть о чём. Известно мне подлинно о твоём позове в царский диван. Ты ни о чём таком не обмолвилась со мною в Курмыше. Теперь поведаешь всё потонку. Да и помолиться следует самой. Чудом ведь спаслась!
- Отпусти в Нивны, - вновь поднялась Евфимия. - Не неволь. Отдохну, съезжу к Троице. По твоём оттуда отбытии.
Великий князь тоже встал.
- На колени ли государю пред тобой пасть? Не милости прошу, а покорности. Бог ведает, в святом месте не последней ли будет наша с тобою встреча. Слово даю: отпущу с богомолья хоть в Тверь, хоть в Нивны твои лихие. Детьми дружили. Ничем дружбу нашу не посквернил. Была б ты мужеска пола, осталась бы с детства в моих друзьях. Советовались бы и сражались бок о бок. Мать была мне советчицей, десятилетнему сироте. Привык! Ныне отвыкаю. А что иные? В друзьях обнаруживаю врагов. Не оставь хоть ты меня, Евушка, ни в радости, ни в злосчастии. Казни за все вины перед тобою и твоим батюшкой. Только не оставляй…
Всеволожа подошла к свету, ткнула лоб в оконницу.
- Еду вслед за тобой. Помолимся и расстанемся. Василиус поцеловал её в щёку.
- Прими братнее лобызанье от непутёвого своего государя…
По его уходе Раина не замедлила появлением.
- Я завтра - на богомолье. Ты - в Нивны, - встретила её Всеволожа твёрдым решением.
- Василиус сел на коня и отбыл с Плещеевым, говорят, на Ваганково, - сообщила Раина.
Евфимия не ответила.
- А я пока не возвращусь в Нивны, - объявила лесная дева. - Отправлюсь с тобой.
Всеволожа нахмурилась:
- Это почему?
- Сколько раз сказывать? «Привидение» было! - осердилась Раина. - Привиделось, будто выпрыгнул мечник из сенного воза и напал на нас внезапь.
- О, главоболие моё! - воздела руки Евфимия. - Доколь терпеть твои «привидения»?
Дева надулась и покинула ложню.
Боярышня прилегла на одр, пытаясь собраться с мыслями. Стало быть, пир, намеченный воеводой в честь государева возвращения, покуда не состоялся. Василиус приезжал с нею свидеться, уговорился о месте своего пребывания в доме Юрия Патрикеича и отъехал. Ей предстоит у Троицы быть на глазах бояр, осуждающих, злокозненных и завистливых. Венценосному себялюбцу не постичь её туги. Его прихотью вырвана она из домашнего тепла. Теперь сердцу хочется отогреться. Государыня-мать, несмотря на хворь, разыщет все тонкости её встреч с Василиусом, да ещё с добавкою вымыслов. Ох, долг исполнен, скорей бы отбыть повинность! А тут некстати Раина со вздорными «привидениями»… Какие мечники? От кого нападение? Разве что снова прегнуснодейность неугомонной Литовтовны? Добро, хоть Мастридия ушла в мир иной, вздохнулось свободнее. Евфимия решила схитрить, как сможет: сказаться болящей в Доме Преподобного Сергия. И отбыть, помолясь, по-тихому. Не поставит же государь в вину благоразумное непослушание. Пусть успокоится от татарского плена, от Шемякиных козней. Пусть правит умно, осмотрительно…
В дверь стукнули. Челядинка просунула нос:
- Боярышня, тебя неотступно спрашивает какой-то дворянин прозвищем Бунко.
- Бунко? - вскочила Евфимия. - Проводи, немедля.
Оправила волосы, платье, прибрала одр. Вошёл Карион. Поклонился поясно. Радость сверкала в очах Евфимии. Хоть на шею кинься старому другу! Тоже поясно поклонилась.
- Рад видеть тебя во здравии, Евфимия Ивановна!
- Поздорову ли прибыл? - спросила боярышня. - Где Бонедя?
- Благодарствую на добром слове, - сызнова поклонился Бунко. - Прибыл не издалека, сблизка. Мы с Бонедей живём у купца Тюгрюмова. Помнишь, провожал тебя, когда бежала от батюшки? Его дом пощадил пожар. А тебя приспел труд найти вот по какому делу: неладное затевается в нашем великом княжестве! Вызнал доподлинно: Дмитрий Юрьич отай ссылается с Иваном Андреичем.
- Шемяка с Можайским? - насторожилась Евфимия.
Бунко мрачно кивнул.
- Внушает, будто освобождённый выкупыш задолжал казанцам двести тысяч рублёв.
- Двести тысяч? - изумилась боярышня.
- Будто раздаёт наши земли прибывшим с ним казанским мурзам, - продолжал Бунко. - Улу-Махмету клятвенно обещал Москву, сам будет властвовать в Твери. Борис Тверской, страшась лишиться княжения, взял сторону Шемяки.
- Надобно разуверить! - воспламенилась Евфимия.
- Поздно! - охладил Бунко. - К заговору пристали бояре умершего Константина Дмитрича. Нашлись изменники и в Москве. Главный - Иван Старков, внук татарского царевича Серкиза, выехавшего из Орды при Донском, сын боярина Фёдора Старко-Серкизова, великокняжеский наместник в Коломне. Шемяка, сосланный туда вязнем, был под его приглядом. Там оба стакнулись. Теперь Старков привлёк кое-каких дворян, купцов, даже иноков. Хотят нечаянно овладеть Москвой, схватить великого князя. Ждут случая.
- Немедля скачи в Ваганково, - распорядилась Евфимия. - Василиус едет к Троице. Предупреди! Сразу, немедля же, извести меня. Буду ждать, не сомкнув очей.
Едва Бунко удалился, боярышня бросилась к Юрию Патрикеичу. Его покои были пусты. Прибежала к Марье Васильевне. Подружия воеводы только что помолилась на ночь, вышла из Крестовой.
- Нешто не ведаешь? Нынешней ночью мой благоверный отправился сопровождать государя к Троице.
- Почему ночью? - удивилась боярышня. - Что за поспех?
- Мыслю, им пожелалось утром попасть к обедне. Ступай, роднуша, угомонись, сосни…
Всеволоже всю ночь было не до сна. Ждала Кариона. Он не явился. Чуть свет послала Раину верхом в Ваганково истиха разузнать о Василиусе. Дева вернулась с известием, что в ночь государь отбыл к Троице с ближними и детьми. Великая княгиня-мать разнедужилась. Великая княгиня Марья в своём покое. Москву ведать оставлен Иван Старков.
- Твои «привидения» - на пороге! - ополошилась боярышня.
Вошёл дворский Кузьма:
- Господин приказывал подготовить тебе коня в богомолье.
- Подготовь, голубчик, коней поболее, - схватила его руку Евфимия, - чтобы менять в пути, чтоб скакать без роздыху! - И, обратясь к Раине, велела: - Сбирайся вборзе!
12
Весь день шёл снег. Всеволожа с Раиной вынужденно ехали не столь скоро, как бы хотелось боярышне. Вокруг - белая непроглядность. Приостанавливались в деревнях, указанных дворским, дабы пересесть на свежих коней, усталых оставить известному Кузьме человеку. Заночевать пришлось всё-таки в селе Тагиле, ибо, чуть смерклось, не стало видно ни зги. С рассветом продолжили путь. Снегопад утих. Прояснилось. Споро добрались до Радонежской горы. Осталось перевалить её, спуститься к селу Клементьевскому, за ним - обитель.
Миновали длинный обоз, то ль с мороженой рыбой, то ль ещё с какой кладью. Иные розвальни покрыты рогожами, иные овчинными полостями. Возчики шли обочь, проваливаясь в снегу.
На опупье остановила всадниц застава:
- Кто такие? Куда?
Немного заставщиков. Похаживали по снежному пятаку, посверкивали бердышами.
- Богомолки, - отвечала боярышня.
- Не видали ратников по пути?
- Видели обоз.
- А, - махнул рукой сивоусый. - Снегу выпало на девять пядей. Не пройдут незамеченными… Езжайте!
Чуть отъехали, обе враз оглянулись, будто кто толкнул в спины.
Длинный обоз переваливал гору. Равнодушно пропускали его бердышники.
- Государя кто-то ополошил, коль послал заставу, - успела произнести Евфимия.
Раина в ответ лишь вскрикнула.
Рогожи и полости сами собой послетали с розвальней. Из-под них выскочили вооружённые вой. Началась драка не драка, ибо заставщиков захватили врасплох. Бежать нельзя - снег глубок!
Всеволожа не стала ждать, пока перевяжут захваченных. Понужнула коня… На рысях проскочили Клементьевское.
Врата обители отперты. За ними - сумятица. Мечутся иноки. Скучилась горстка бояр у храма Живоначальной Троицы.
Кто отпер ворота?
- Запритесь! - крикнула Всеволожа людям в воротной башне.
Брадатые чернецы с разверстыми ртами лишились слуха злым промыслом: глядят неосмысленно.
- Запирайте же!
Поздно!.. Вон Юрий Патрикеич, взошед на ступени храма, пытается распоряжаться. Не внемлют! Первые вершники ворвались…
Спешенные Всеволожа со спутницей оттиснуты от своих коней, вжаты в ряды богомольцев, сгрудившихся у паперти.
Главарь налётчиков в малиновом кунтуше со шнурами разогнался к самым ступеням. Конь споткнулся, всадник грохнулся оземь. Всеволожа узнала Никиту Константиновича, вернейшего из бояр Шемяки, брата Петра Константиновича, что нашёптывал великой княгине-матери тайну золотого источня.
Упавшего подняли. Зашатался, как пьяный. Побелел, как мертвец. Хрипло вымолвил:
- Где он?
Прибывшие с ним толклись на конях у паперти.
- Где он?.. Где он?..
Худший из нищей братии вскинул десницу с просящей дланью, левой же рукой указал на запертую дверь храма:
- Там!
Толпа отвернулась. Все глядели к воротам. В них въехал князь Иван Андреич Можайский.
- Где государь? - воззвал он. Голос Василиуса донёсся из храма:
- Брат любезный! Помилуй… Не лишай меня святого места. Никогда не выйду отсюда. Здесь постригусь. Здесь умру…
Евфимия закусила губу до крови. Всё, для чего не жалела себя столь долго, всё рушилось. Народом сызнова овладевали временщики. Чуть воссиял венец делу, чуть узрелся успех конечный - всё полетело в тартарары! Боярышня двинуться не могла - мёртвый камень, и только! Обратилась к Раине на ухо:
- Беги! Игумена тормоши, Зиновия: где государевы дети? Старший - Иоанн, младший - Юрий. Узнай, кто их ведает. Спрячь детей. Не тронусь отсюда, пока не увижу конца…
Раина растворилась в толпе.
Двери храма раскрылись. Великий князь выступил с иконою Богоматери.
Старый инок за спиною Евфимии тяжело задышал:
- С гроба святого Сергия взял икону… Великий князь обратился к Ивану Можайскому:
- Брат и друг мой! Животворящим крестом, сею иконою в сём же храме клялись мы в любви и верности. Теперь что делают надо мною, не понимаю.
- Государь! - спешился Можайский. - Если захотим тебе зла, да будет нам зло. Нет, желаем только добра христианству. Делаем так, дабы устрашить слуг Махметовых, прибывших с тобой. Пусть уменьшат окуп.
Великий князь удалился в храм. Всеволожа сквозь раскрытые двери видела, как он положил икону, пал ниц перед ракой святого Сергия. За ним вошли Можайский с Никитой, стали у дверей.
Громко и внятно звучала молитва из уст Василиуса:
- Господи, Боже мой, на Тебя уповаю! Спаси меня, избавь от гонителя! Да не исторгнет он, аки лев, душу мою, терзая! Нет избавляющего, нет спасающего, Ты, Господи, Боже мой, единственная моя заступа! Если что сделал худо, если неправда в руках моих, если платил злом за доброе, если воевал с тем, кто со мною в мире, пусть настигнет душу мою кара Твоя, пусть втопчётся в землю жизнь моя и слава моя повергнется в прах. Разве я не спасал того, кто без причин враждовал со мною? Восстань, Господи, во гневе Твоём, подвигнись против неистовства, пробудись для меня на суд. Сонм людей стонет вокруг, воззри на них с высоты. Судья народов, услышь мольбу мою, и да прекратится зло. Ты испытуешь сердца и утробы. Воззри: нечестивый начал неправду, был чреват злобой, родил в себе ложь. Рыл ров и выкопал. Замыслил яму и приготовил. Да обратится гнев его на его главу, злодейство его - на его же темя! Славлю Господа по правде Его, пою имя Бога Всевышнего!..
Всеволожа слышала слёзы возле себя. Видела, как Можайский кивнул перед образами и поспешил уйти. Слуха достигли слова, сказанные Никите:
- Возьми его!
Государь встал с колен, огляделся:
- Где брат мой Иоанн?
Никита Константинович подошёл, схватил за плеча:
- Взят ты великим князем Дмитрием Юрьичем! Василиус сник:
- Будь воля Божия!
Его свели вниз, к голым саням.
Тем часом бояр повязанных вывели из обители. Воевода Юрий Патрикеич сызнова пленён, на сей раз не Косым - Шемякой. По толпе - говор: вящие покованы в цепи, меньшие же ограблены, нагими пущены по снегу…
Конями правил в голых санях монах. С ним посадили вязня-богопомазанника.
Евфимия, дыша пламенем, подбежала к Можайскому, повисла на нём:
- Опомнись, Иван!
Он глянул. Удивился? Озлобился! Толкнул боярышню, что есть сил:
- Сгинь, проклятая!
Худые крепкие руки поставили её на ноги, отёрли с лица грязный снег от конских копыт.
Визжали полозья саней, увозивших Василиуса из Дома Преподобного Сергия…
- Сюда, голубонька, в эту вот низкую дверь… Принагнись, пожалуй. Не ушибись… В этот тёмный ход… Не бойся, я тут шла. Ногу вскинь - ступеньки! - Раина безопасным путём вела её в каменные игуменские покои. - Рыщут в обители вой, аки волки в овчарне.
Седобородый под чёрным клобуком, игумен Зиновий вид имел строгий, а голос медвяный. Ему бы не с врагами речи вести, с попечительными князьями.
- Что тебя привело ко мне, девица Евфимия? - ласково молвил он. - Что грозит тебе? Князь Иван Андреич заверил: его люди богомольцев не тронут. Мольбы же мои, не налагать рук на Божья помазанника, оставил втуне. Присядь, дочь моя. Макарий, подвижник наш, возвратясь от татар, навестил обитель, поведал о твоих хлопотах, Бог тебе воздаст…
- Авва! - отдышалась Евфимия. - Где государевы дети, Иван и Юрий? Их спрятать надобно.
- У меня не тронут, - успокоил игумен. - Сюда не взойдут. Маленькие княжата с мамкой в соседнем покое. Твоя услуженница привела их вовремя.
- Авва! - встала Евфимия. - Бога для прошу: укрой потаимнее. Эти люди взойдут, куда им и ходу нет. Мне их повадки ведомы. Не хватит сил сберечь государя, наследников его сохранить - наш долг! Нынешней ночью, едва страсть уляжется, увезу их в надёжное место, за крепкую обережь.
- Куда, дщерь моя? - возразил игумен. - Есть ли места надёжнее?
Всеволожа насупилась, потирая лоб.
- Знаю. Есть. Город Юрьев. Вотчина князей Ряполовских.
Зиновий постоял молча.
- У Ряполовских силы достаточно. Твоя правда. Пойдём.
Прошли в соседний покой.
Чуть переступили порог, боярышне обрадовалась Меланьица:
- Евфимия Ивановна! Прибыла, пожаловала! Государь мне про тебя сказывал. Горе-то какое!
Шестилетний глазастый мальчик, схожий с Василиусом, подошёл степенно. Младший прятался за спиной Меланьицы.
- Ты кто? - спросил Иоанн.
- Боярышня Всеволожа - нам в помогу, - стала объяснять мамка, бывшая постельница Витовтовны. - Твой батюшка государь с ней дружен.
- Моё имя Евфимия, княжич Иван Васильич, - подошла Всеволожа. - Нам надобно собираться в путь.
- Где отец? - спросил Иоанн.
- Государь вынужденно отъехал, - склонился к нему игумен. - Тебя с братцем вручил боярышне.
- Для чего вручил? - вперил в Евфимию настороженно-пытливый взор маленький будущий самодержец.
- Чтобы отвезти к добрым людям, - пояснила она. - Там дождётесь батюшки.
- Где матунька? Где татунька? - заревел за спиной Меланьицы Юрий.
Иоанн, не внимая братнему реву, велел Всеволоже:
- Назови этих людей.
- Князья Ряполовские, - сказала Евфимия. Шестилетний малыш кивнул, словно взрослый:
- Добро. Мы едем.
Тем часом Меланьица облачила Юрия, помогла одеться Ивану. Призванный игуменом инок долженствовал свести их в сокровенное место.
- Неспокойно на душе, дочь моя, - вздыхал архимандрит Зиновий. - Везти наследника с братом без обережи… Хотя до Юрьева недалече… Кметей у меня нет.
- Оружие есть, авва Зиновий? Доспехи по нам с девой есть? - допытывалась Евфимия. На согласные кивки попросила: - Вели доставить, дабы окольчужиться. Большая сила не нападёт. От малой, даст Бог, отобьёмся!
- Подвижник Макарий представил тебя, как суздальскую воительницу, - сообщил игумен.
- Может ли преподобный Макарий столь много ведать и о моей воистости, и о моих хлопотах? - удивилась Евфимия.
- Ему ли не ведать? - склонил голову игумен. Принесли узел с доспехами и оружие.
- Обереги вас Господь! - благословил старец детей и женщин.
Евфимия припала к его руке. Как в редкие мгновения жизни, сделалось страшно.
Спустились в глубокое подземелье. Пламя свечи в руках инока едва освещало низкий потолок, тёмные углубления в стенах.
- Чьи там гробы? - прошептала Раина, приметив край домовины.
- Братия, жившая прежде нас, здесь упокоивается, - отвечал монах.
Меланьица несла Юрия на руках. Иоанн вырвал ручонку из тёплой длани боярышни:
- Отпусти, тётка Евфимья. Сам пойду…
Подземелье расширилось. Свеча озарила престол с крестом на небольшом возвышении, иконы над ним.
- Часовенка под землёй? - догадалась Меланьица.
- Молимся здесь, бывает, - возжёг инок в подсвечнике несколько свечек.
Отдохнули до поздноты. Попеременно сидели на железном ковчежце. Затем иеромонах отслужил напутственный молебен, всех благословил.
Выбрались на воздух вне стен обители. Густой кустарник укрывал выход. Во тьме добрались к дороге с монашьей помощью.
Возница с каптаном ждал.
- Обыскались детей государевых нечестивцы, - поведал монах-конюший. - В игуменские покои не посовестились взойти!
- Есть ли в каптане медвежьи полости? - тревожилась мамка.
- Овечьи есть, - успокоил возница.
Возок заскользил в белоснежную пустоту… Да скользил недолго. Вдруг стал.
Евфимия приотворила дверцу. Луна сияла. Красота ранне-зимняя услаждала сердце. А тошно стало: впереди мерцала оружием кучка вершников.
- Приспел черёд мужеству! - обернулась боярышня к спутнице.
- Чесотка да таперичи, - отозвалась лесная дева. - Сначала из лука стрелим? - выглянув со своей стороны, она изготовилась. - Дверь-то - щит!
Евфимия укрылась за своим «щитом».
- Тётка, дай меч! - потребовал Иоанн.
- Сиди уж! - укротила Меланьица. Монах с козел объявил:
- Что-то машут…
В белой тиши боярышня распознала зов:
- Евфимия Ивановна!
Не помня себя от счастья, отозвалась:
- Карио-о-он!
13
- Ты сызнова - воин, Евфимия Ивановна?
- Всю жизнь - воин. Такая судьба. Ехали рядом. Ей дали поводного коня.
Бунко поведал свои злоключения. Не застал государя в Ваганкове, ринулся к Троице. Уведомить Всеволожу не было времени. Подоспел в обитель к концу обедни. Просочился к великокняжьему месту, никто не смог удержать. Выложил одним духом, что Шемяка с Можайским идут сюда ратию. Допрежь в пути точно попал в ряды ратников Ивана Андреича. Слышал, как князь говорил своему воеводе Яропке о розвальнях с полостями, рогожами, где можно упрятать воев, дабы напасть врасплох. Бунко в разговорах не опасались, знали за Шемякина воина. Ещё по жизни в Нивнах можайцы к нему привыкли. Удалось оторваться вперёд… И вот он - перед великим князем. А тот недоверчив, считает за переветчика. «Эти люди только смущают нас! - говорит он ближнему боярину Патрикеичу. - Может ли быть, чтобы братья пошли на меня? Я с ними в целовании крестном!» Несчастный неверок велел выбить Бунко из монастыря. Пусть-де едет назад и радуется, что жив.
- Не вовсе неверок, - поправила Всеволожа. - Послал же заставу к Радонежской горе.
- Толку-то! - вздохнул Карион. - Не выслушал до конца. Застава проворонила обоз с «рыбой». Я ж иными воротами вернулся в обитель. Искал тебя. Всуе! Догадался: будешь пытаться спасти княжат. А куда побежишь? Вестимо, к Юрьеву, к Ряполовским, верным слугам Василия. Вот, собрал малую обережь, вышел на юрьевскую дорогу.
- Светлый у тебя ум! - похвалила Евфимия.
- Такая на Руси жизнь, только и ворочай мозгами! - проворчал Карион.
Позади зазвенел властный детский голос:
- Тётка Евфимья!
В приоткрытой дверце каптана- высунувшийся Иоанн.
- Кремень-малёк! - отметил Бунко. - Не чета рыхлому отцу.
Евфимия поравнялась с каптаном.
- Зачем с обережью едешь? - выговорил наследник великокняжеского стола. - Сядь рядом!
Пришлось повиноваться будущему великому государю.
В последнем ночном часу проехали сонный Юрьев. В первом дневном - попали в село Боярово, вотчину князей Ряполовских, природных Рюриковичей, потомков Ивана Всеволодича Стародубского, сына Всеволода Большое Гнездо.
У дубовых врат долго достукивались именем Иоан на и Юрия. Воротина заскрипела, а приотворилась чуть-чуть. Заспанный воротник потребовал:
- Покажите государевых сыновей!
Евфимия вывела старшего, Меланьица вынесла младшего. Юрий спал, Иван же, протерев глаза кулачками, глянул на бородача-воротника гневно:
- Зачем мешкаешь, холоп?
На высоком крыльце стоял Иван Иванович Ряполовский. В серый снежный час он всё-таки узнал княжича, бросился к нему, обнял, потом узнал и Меланьицу, должно быть, встречал во дворце при княгине-матери, погладил Юрия по беличьему башлыку. Когда ж увидел Евфимию, отступил на шаг:
- Боярышня… Какими судьбами?
- Какими-никакими - не тутошний разговор, князь Иван, - заметила Всеволожа.
- Вестимо, вестимо, - спохватился боярин. - Взойдёмте в терем.
Поднялись на хозяйский верх, пересекли сени. В теплом покое разоблачили детей. Ряполовский прошёл в боковушу с Евфимией и услышал от неё всё, что произошло у Троицы.
- Добро, ты там оказалась. Урядлива в батюшку! - хвалил он боярышню.
В хозяйском покое собралась вся семья: брат Дмитрий, брат Семён с подружиями. Не было лишь Андрея, коего достаточно хорошо узнала Евфимия под Белёвом, где он сложил воеводскую голову.
Рядом с маленьким Иоанном стоял его сверстник, сын Ивана Ивановича, названный в честь дяди Семёном. Видать, только встал с постели. Белая сорочка до пят. Держит именитого гостя за руку.
- Сведи-ка на опочив, - повелел Иоанн. Меланьица с Юрием, подружил старшего Ряполовского Марья удалились вслед за детьми. Евфимию окружили жены Семена с Дмитрием. С расспросами, ахами, охами повели обиходить по достою с дороги, приготовить к трапезе, отдыху…
Раина, провожая глазами маленьких Ряполовского с Иоанном, побратни держащихся за руки, прошептала в ухо боярышне:
- Шествуют ангелочками, а превратятся в мужей - один другому голову срубит.
- Ты што? - шикнула Евфимия. - Не мели-ка вздор. Кто кому срубит?
Лесная дева смолчала, чтоб не привлечь вниманья хозяек. Всеволожа и без её ответа догадывалась, кого имела в виду Раина, как будущего головосека[13].
В столовой палате за утренней трапезой продолжились те же расспросы, о том же да сызнова. На сей раз более говорили жены, мужи обдумывали последствия.
- Тут нам не отсидеться, - молвил Иван Иванович.
- Боярово разве крепость? - согласился Дмитрий Иванович.
Семён Иванович предложил:
- Вооружимся, соберём людей, сколько сможем, и - в Муром. Тамошний кремник не по зубам Шемяке.
Старший из Ряполовских согласно приговорил, словно припечатал:
- Затворимся в Муроме!
По выходе из столовой палаты начались сборы.
Особый разговор был у старшего Ряполовского с Карионом Бунко. Уединились в истобке. Вышли - Карион напряжённый, Ряполовский довольный.
- Этот бывший кремлёвский страж - с нами! - объявил братьям князь Иван.
- Обережь небольшая, а всё лишняя сила, - обрадовался Семён.
Перед тем как спускаться к возкам, Иван Иванович сказал Всеволоже:
- Уж ты облачись в девью сряду. Воев у нас достаточно.
Ехали весь день. Путь выбирали окольный. Ночевали в глухом сельце. Быть бы в Муроме к следующему вечеру, да снег пошёл густо. Дороги стали пуховыми. Кони под понукальцами, фыркая, тут же переходили на шаг. Пришлось дважды заночевать. На третий день повечер увидели стены Мурома. Евфимия здесь не была ни разу. Посад невелик, кремник мал. А взглянешь на него и подумаешь: крепкий орешек!
Наместник муромский, князь Василий Иванович Оболенский, потомок святого Михаила Черниговского, верный воевода Василиуса, встретил по-дружески, разместил по-княжески. Дети, истомлённые долгой тряской, заснули, едва поев. Вскоре за ними последовали и взрослые. Лишь князь Иван долго соборовал с братьями и Оболенским. Должно быть, обговаривали возможность осады.
Поутру, едва сели за трапезу, князь Оболенский начал расспрашивать Всеволожу о гибели своего брата Глеба, наместника в Великом Устюге, убитого Косым. Кое-что уже знал от спасённого тогда Евфимией Андрея Голтяева, теперь хотел узнать больше. Рассказав о страшных днях, боярышня поспешила перевести речь на недавний успех самого Василия Ивановича под Рязанью, где он разгромил Мустафу с отрядом татар-алчебников. Челядинец прервал беседу:
- Человек из Москвы со срочным понадобьём к князю Ивану Иванычу Ряполовскому!
- Зови к трапезе, - велел князь.
Принявший достойный вид московлянин вошёл, поздравствовался и назвался:
- Парфён Бренко.
Иван Ряполовский, сморщив лоб, вспомнил:
- Боярин Василия Ярославича?
- Так, княже. Это я, - подтвердил подданец Боровского, государева шурина.
Его не поторопили с рассказом, дали насытиться. Чуть пожевав и пригубив, он выпрямился на лавке, сам поспешил с сообщением:
- Москва Шемякой взята. У него с Можайским был полк наготове в Рузе. Ночью заняли Кремль. Иван Старков отворил ворота. Все спали. Бодрствовали изменники. Великих княгинь захватили в Ваганкове. Ограбили пощажённые пожаром домы бояр. Можайский допрежь отправился к Троице, где пленил государя.
- Это мы знаем, - сказал Иван Ряполовский.
- Пленного доставили прямиком на Шемякин двор, - продолжил Парфён. - Мой князь, прибывший из Боровска, как раз по соседству был, на своём дворе, что оставила ему бабка Елена Ольгердовна, вдова Владимира Храброго, по смерти всех своих сыновей…
- Сии тонкости нам известны, - перебил Оболенский. - Ты - к делу!
- До Василия Ярославича донеслось, - продолжал Бренко, - как Шемяка кричал на повязанного великого князя: «Для чего любишь татар и даёшь им русские города в кормление? Для чего серебром и золотом христианским осыпаешь неверных? Для чего изнуряешь податями народ? Для чего ослепил брата нашего, Василия?..»
- Далее, далее! - торопил муромский воевода. Парфён тяжело вздохнул.
- Далее ночью мой князь Ярославич слышал с Шемякина двора страшный вопль… Утром узнал: государя нашего ослепили!
- Эк, побелела ты, Евфимия Ивановна! - всполохнулся Семён Ряполовский.
- Подайте воды боярышне! - закричал князь Иван.
- Тише, - остановила Евфимия. - Мне… я в обычном здравии. Продолжай, боярин, - обратилась она к Бренко. - Что с великими княгинями?
- Софью Витовтовну отправили в Чухлому. Ослеплённый с женою заточен в Угличе. Дворяне московские, скрепя сердце, присягнули Юрьичу. Все, кроме Фёдора Басенка, государева воеводы, литовского выходца. Он торжественно объявил: «Не хочу служить варвару, хищнику!» За то окован, ввержен в темницу.
- Где же твой князь? - спросил Оболенский. Парфён понурился.
- Князь мой сбежал в Литву с ближними людьми. Мне ж велел скакать в Муром, ибо слух по Москве прошёл, якобы дети государевы спасены. Вот и рассудил Ярославич: кроме крепкого Мурома, им скрываться негде. Шемяка зол, корит Ивана Можайского. Мне велено упредить об опасности.
За столом воцарилось молчание. Тишина нарушалась всхлипами со стороны княгинь Ряполовских. Воевода Мурома глухо молвил:
- Готовиться к обороне! Всеволожа рассудила раздумчиво:
- Иоанн с Юрием безопасны в муромских стенах. С ними Меланьица. Во мне сейчас иное понадобье. Еду на Москву. Попытаюсь чрез Софью Шемякину действовать на самозваного государя.
- С чем? - спросил князь Иван.
- С тем, чтоб слепого вынуть из тесноты. А с ним - Марью Ярославну. Она опять в тягости. Надо определить их судьбу, воссоединить с детьми.
- Мыслишь, смиримся в нынешних обстоятельствах? - сумрачно спросил князь Иван.
- Нет, не дадим веселиться злобе! - поддержал его брат Семён.
- Будущее - воля Господня, - ответила Всеволожа. - Нынешнее же нам промышлять, сколько хватит сил.
14
Группа всадников приближалась к Первопрестольной. Впереди - статный витязь с молодецки закрученными усами. По бокам - два ратника с женовидными ликами, как два ангела из Небесного воинства.
- Прислушайтесь, сколь тиха Москва! Ни скрипа обозов, ни звона… Только - тук, тук, тук, тук! - тысячами сердец!
- Не придёт в себя от пожара.
- Не оправится, захваченная временщиком!
- Не то и не то. Просто пладенный час. А стучат - плотники.
Так которовались, въезжая в столицу, Евфимия, Карион и Раина.
Кони скакали по узкой улице. Погарь виднелась и там и сям. Топоры стучали вовсю. Венцы свежих теремов блинчатыми пирогами ласкали взор, вытным запахом щекотали нюх.
Осталось миновать Торг, попасть на Варьскую, или Варварку, там - дом Тюгрюмова. Бунко обнимет жену, Всеволожа - подругу, Раина порадуется их встрече.
На площади задержала толпа. Кого ждут? Все глаза - к Неглинке, где загрохотал мост под копытами и колёсами.
Евфимия увидела вершника на белом коне. С ним - боярское окружение. Позади - каптан, золотный змеец по округлым бокам. Вокруг - охраныши с бердышами.
Толпа ротозейничала на государево возвращение то ль с богомолья, то ли с прогулки утренней. На белом коне - Шемяка. В каптане, должно быть, Софья Шемякина, ставшая великой княгиней.
- Езжайте домой, - велела боярышня Кариону с Раиной. - Возьмите моего коня. Вскорости подойду, тут недалече.
Бунко повиновался, Раина же спешилась и упёрлась:
- Оставить одну? Ни на шаг! С ней иной раз не справишься. Стали в первых рядах зевак.
По расчищенному бердышниками пространству двигался человек в издирках, в медном колпаке, в железах и грубом вервии на почти нагом теле. Оседлал он палочку, как мальчишка. Держал в руке густо посоленную краюху хлеба.
- Максимушко! Максимушко! - разнеслось в толпе при появлении босого юродивого.
Привлёк он и внимание Всеволожи. Сей блаженный не был похож на пророчествующего Михаила Клопского. Тот пугал грозностью, этот смущал дурашливостью. Почти каждого усмешливо поучал:
- За терпенье Бог даст спасенье!.. За терпенье Бог даст спасенье!
Вот подошёл к молодице, испуганно осенившейся крестным знамением:
- Всяк крестится, да не всяк молится!
Вот подошёл к купчине из рядов красного товара:
- Божница домашняя, а совесть продажная! Кутырь отворотился. Босой страстотерпец припрыгнул на палочке к другому купцу:
- По бороде Авраам, а по делам Хам!
Тот важно протянул благоюродивому голую деньгу да так и остался держать невзятую.
Въехал на площадь Шемяка. Максимушка устремился к нему, протянул заготовленный ломоть:
- Дмитрушко, Дмитрушко, поешь хлеба-соли, а не христианския крови!
Властитель, исказив лик, занёс над лысиной святого человека оружие.
- Дмитрий! - раздался истошный крик из каптана.
Толпа ахнула, ибо юродивый стал невидим. Шемяка выронил меч, вонзил стремена в конские бока и умчался в Кремль.
Над площадью прозвучал другой позов:
- Софьюшка!
Бывшая княжна Заозёрская опознала в толпе зовущую её Всеволожу.
- Взлезай ко мне, ясынька! - протянула былая подруга белые руки.
Боярышня не замедлила принять приглашение. Раина впорхнула в каптан за ней следом.
- Ах, и ты тут, «чесотка да таперичи»? - даже развеселилась Софья, расстроенная только что случившимся.
Каптан вполз во Фроловские врата, вскоре остановился у великокняжеского дворца, ещё не вполне отстроенного, окружённого сходнями и лесами.
Софья тем часом теребила Раину:
- Скажи, дурочка, о своих «привидениях» насчёт меня и государя, моего супруга.
Лесная дева нахохлилась:
- Не скажу!
Переходами женской половины дворца Софья повела Всеволожу и её деву, дабы употчевать гостью и себе отвесть душу, истомлённую одиночеством. Пришла блажь хозяйке отослать сенную девушку вниз, да Евфимия не дозволила. После бани они с Раиной, как равные, сменив воинскую сряду на сличную, сидели пред млеющей государыней, уплетая сладкое печиво, запивая медами и взварами.
- Подскажи-ка мне, ясынька, - вопрошала Софья, - куда вдруг подевался юродивый? Обыскалась его глазами! Так быстро юркнул в толпу?
- Он не прятался в толпу, - возразила боярышня.
- Куда же он спрятался? - не понимала княгиня.
- Просто стал незрим.
Софья выронила надкушенный пряник.
- Ты не свою «чесотка да таперичи», а уж меня за дурочку держишь?
- Софьюшка, - примирительно подала ей упавшее лакомство Всеволожа, - оставим пустые споры, есть к тебе вельми важное дело.
- Печалуешься о ком? - напряглась новая государыня.
Всеволожа кивнула:
- О малютках Василиуса.
- Сие новость! - подняла брови Софья. - Поведай-ка всё, что знаешь.
Выслушав рассказ Всеволожи, она задумалась. Потом с сердцем произнесла:
- Горе с тобою, ясынька! Мятущаяся бездомная сирота! Эк, тебя угораздивает, угораждывает, угораживает - не найду, как и выразиться! - всегда ввергаться не в своё дело! То лезешь под крепостные стены, то ратоборствуешь средь мужей девой-витязем, то встреваешь в чужие смуты. Не передать, сколь зол Дмитрий Юрьич, не поймав сыновей врага. Грядущие супротивники! Не токмо ему, а наследнику, сыну Ванечке. Доищется, что виновница их спасения…
Евфимия перебила:
- Ты - женщина! И не жалко деток? Чьи б ни были.
- Не жги душу! - взмолилась Софья. - Что могу для них?.. А ты ступай вниз, - набросилась на Раину. - Не твоим ушам слышать…
Лесная дева выскользнула из покоя. И вовремя. Спустя миг «ведьме», как её звал Шемяка, не поздоровилось бы. Ибо взошёл он сам. Вид имел мрачный.
- Фишка?.. Ты… тут?
- У меня гостит, - заявила Софья.
- Митя, - улыбнулась ему боярышня, - отчего в солнечный день ненастен?
- Неистребимая! - процедил он сквозь зубы. - Никакой я не Митя. Я государь, властодержец земли Московской!
- Каково державствуешь, государь? - вопросила Евфимия с некоторым озорством.
- Глумотворшица! - ещё пуще озлился Дмитрий Юрьич. - Ведь не ляскалы точишь здесь. Через Софью затеяла вернуть вотчину… Шиш! В твоём тереме живёт Иван Котов, лучший мой боярин. По тебе ж давно келья плачет.
Евфимия поднялась.
- Неуютно тут у вас.
- Митенька! - возроптала Софья. - Окстись, что с тобою нынче?
- Ежедень неприятности! - проворчал Шемяка. - Только что юрод Максимка ошеломил: сгинул, как наваждение. А во дворце узнаю: Федька Басенок ночью из темницы исчез, сринул железа, как истый волхв, прошёл сквозь двери чугунные, стены каменные.
- Басенок, наслышана, воевода отменный, ценный литовский выходец, - вставила Всеволожа.
- Молчи уж! - рыкнул Шемяка. - Доводчики донесли: ты - спасительница детей Василиуса. Веры этому нет. Не по твоим силам дело. А заботушка у меня теперь вот где! - хлопнул он себя по загривку.
Софья задрожала осинкой при последних словах супруга.
- Я вывезла княжичей из обители, - объявила Евфимия. - Могла ли отдать малюток в лапы твоих кметей?
- Ты? - задохнулся новый великий князь. - Ты?
- О-о! - простонала Софья.
- Задуши меня сеном, - предложила Евфимия. - Константина Дмитрича нет на свете. Младшего брата твоего нет. Василиус ослеплён и в яме. Сёстры - под куколями. Заступиться некому. Ну!
Дмитрий Юрьич молчал.
- Отвезла детей к Ряполовским, - продолжала она. - Скрыли их за стенами Мурома. Сама явилась к тебе, решить судьбу малюток по-доброму.
- Явилась… ко мне… - постепенно соображал Шемяка. - Кто подослал?
- Говорю, сама. - Боярышня села на своё стольце как ни в чём не бывало. - Условилась с Ряполовскими и другими. Вернёшь деток родителям, дашь сверженному удел, его бояре будут служить тебе по любви, вправду, без хитрости. Ежели не уладимся, быть великой рати.
- Какой там рати! - сел Шемяка на кованый сундук. - Ярославич Боровский бежал в Литву. К нему ж побежит Басенок, куда ещё? Иван Стрига-Оболенский поцеловал мне крест, пусть и без охоты. Муром же обложу. Ряполовские в нём сгниют с Васькиным отродьем.
- Митя, - тронула Всеволожа его персты на коленке. Он отдёрнул руку, как от пламени. - Меня не бойся, Митя. Я всего девица. В башне можно мучить, сеном удушить. Сказать тебе хочу лишь вот что: Литва рядом - рукой подать! Вечно будешь под дамокловым мечом…
- Каким таким «дамокловым»? - не понял Дмитрий Юрьич. - Довмонтовым? - вспомнил он князя, легендарного защитника, чтимого во Пскове.
- Узнаешь меч Довмонта, - пригрозила Всеволожа, - коль хоть единый волосок падёт с голов невинных княжичей.
Шемяка напряжённо думал:
- Ваську выпустить… связать душу крестом…
- Марья опять в тягости, - примолвила Евфимия.
- Плодятся, аки крысы, - проскрежетал Шемяка. Ему подружия преподнесла лишь одного наследника. - Как мыслишь, - обратился он к боярышне, - моим посулам Ряполовские поверят, отдадут княжичей?
- Тебе? Поверят? - покачала головой Евфимия. - Я бы не поверила.
- Ты бы! - перебил Шемяка. - Тьфу!.. Кому поверят?
Боярышня возвела очи к потолку и твёрдо объявила:
- Митрополиту.
- Митрополита нет, - напомнил Дмитрий Юрьич. - С тех пор как убежал Исидор… А-а! - воскликнул он. - Иона! Досточтимый муж! Муром - епископия его рязанская. Пусть возьмёт деток на епитрахиль. Я ему митрополичий сан доставлю своей волей. Только бы привёз княжат. Пообещаю выпустить Василия, дать ему удел богатый. Да господствует он в оном и живёт в достатке. Думаешь, не согласятся Ряполовские?
- Могу сопровождать владыку, вставить своё слово, - предложила Всеволожа.
Шемяка чуть подумал. Решил:
- Обойдёмся без юбок. Святой отец сам управится. И удалился спешно, без простин, довольно потирая руки…
15
Всенощная в Успенском соборе подходила к концу. Евфимия в смирной одежде стояла пред образом Богоматери Овинской, списком с иконы, полученной от неизвестного лица галицким боярином Иваном Овиным, изъятой из Успенского монастыря при взятии Галича Василиусом, а затем невидимой силою явившейся на своём прежнем месте. Исполнил Дмитрий Красный обещание великому князю, привёз игумен Паисий список иконы в Москву, встречен был колокольным звоном и крестным ходом. И вот Богоматерь Овинская подаёт милость не только галичанам, но и московским людям. Не себе просит помощи у Неё боярышня. Обращается с мольбой о свергнутом венценосце и его семье. Да будут благополучны их дни, хотя и не в заточении, так в изгнании. Месяцы прошли с того времени, как Шемяка послал в Муром рязанского епископа Иону за малолетними сыновьями бывшего великого князя. С тех пор Евфимии довелось ещё единожды встретиться с нынешней великой княгиней Софьей. Теперь эта выращенница глухоманного Заозерья возвышается у Пречистой на рундуке, обитом красным сукном и атласом по хлопчатой бумаге с шёлковым золотым галуном. Тезоименница её, Витовтовна, ещё недавно стоявшая здесь, сидит в Чухломе. Софья видит или не видит Евфимию. Различи её среди скромных жён под чёрными понками, что кладут и кладут поклоны перед иконами! Единожды всё-таки различила, повелела позвать. Угостила по-царски и обласкала. Поведала, как епископ Иона уговаривал князей в Муроме передать ему спасённых детей, как, отпев молебен, торжественно принял их с церковной пелены на свою епитрахиль, поручась, что Дмитрий Юрьич не пожелает им зла. Софья присутствовала при встрече привезённых малюток, видела, как её супруг плакал от умиления и ласкал племянников. Была на обеде в их честь, вместе с государем одаривала, знакомила с сыном Иваном, наследником великокняжеского стола, пожелала благополучного пути в Углич. Евфимия успокоилась, сочтя выполненным свой долг. Софья предложила ходатайствовать о возвращении ей имения, если не отчего дома, где живёт Иван Котов, то хотя бы какого иного. Боярышня попросила не беспокоиться. На том и расстались.
Ещё перед иконой молилась Евфимия о ниспослании здравия и благополучия болярину Андрею и болярыне Акилине. Пока она с Карионом была у Троицы, затем в Муроме, Бонедя, оказывается, ездила в Нивны. Вернулась с обеспокоенностью о семействе Мамонов. Ничего явного, просто тягота на сердце. Амма Гнева пасмурна от дурных предчувствий. Все гадания сулят нечто ужасное. Лишь Андрей Дмитрич не замечает печали своей подружии, занятый недосягаемыми простому уму размышлениями и расчётами. У лесных сестёр тоже не всё гладко. По-прежнему Фотинья с ними живёт, словно в воду опущенная. Янина доняла подозрениями о её отце. Хотя, кроме волхвования, нет у ней никаких доказательств его вины в смерти старого князя Юрия Дмитрича. Евфимии вся эта пря неприятно памятна и отбивает желание ехать в Нивны. А вот Раина засобиралась в лес. То ль совпадением с этими сборами, то ли поводом к ним стало её последнее приключение. На Торговой площади попала в лабаз красного товара и из разговора приказчика с покупателем узнала, что хозяин всему лабазу не кто иной, как её вздыхатель когдатошний, Кюр Сазонов. Вскоре вышла кутырка, насурмлённая, набелённая, нарумяненная. Её назвали хозяйкой. Раина, не утерпев, доискалась встречи с лабазником. Она и Кюр долго вздыхали и плакали. Делать нечего - он женат! Кого Бог соединил, человек да не разлучает. Придя в дом Тюгрюмова, Раина обронила при Всеволоже: «Чтоб ей в огне сгореть!» Как выяснилось, она имела в виду не подружию Кюра, а амму Гневу. Боярышню передёрнуло от таких глаголов. Вскоре лесная дева надумала возвратиться к сёстрам. Сочла, что Евфимия безопасна среди друзей. Сестричеству же грозит беда, такое было ей «привидение». Расставались слёзно. «Скоро увидимся», - пообещала Евфимия. Раина затрясла головой: «Прощай, голубонька!..»
Вот и окончилась всенощная у Пречистой. Всеволожа подошла ко кресту. С ним вышел сам местоблюститель митрополичьего стола, епископ Иона, в золотом саккосе. Евфимия слышала, что он родом галичанин, сын боярина Фёдора Опаушева прозвищем Одноуша. Покойный галицкий князь Юрий Дмитрич хорошо знал его семью, а значит, знавал его и Дмитрий Юрьич, хотя владыка Иона постригся двенадцати лет. Фотий, митрополит, коего юницей помнила Всеволожа, посетил однажды московский Симонов монастырь и, как рассказывал отец Евфимии, узрел там юного инока, мирно спящего. Удивлённо посмотрел на кроткое величественное лицо и изрёк: «Сей юноша будет первым святителем земли Русской!» То был Иона.
Евфимия поцеловала крест и направилась к выходу. Отсутствие своей карети у паперти ныне не смущало её. Привыкла ходить пешком. Не обращала внимания на бояр. Да и бояре были не те. Нет ни Кобылиных-Кошкиных, ни Сорокоумовых, ни Оболенских, ни Филимоновых, ни Акинфовых. Их места заняли Константиновичи - Иван, его братец Пётр, что подстрекал к буре Витовтовну рассказом о золотом источне, Никита, что поймал великого князя в Доме Преподобного Сергия, в стенах храма Живоначальной Троицы. А с Константиновичами небезызвестный Евфимии воевода Вепрев. А с ним Фёдор Галицкий, Михаил Сабуров, ближние, хотя и не родовитые Шемякины слуги.
Вдруг Всеволожа встретила одного из прежних именитых лиц - Ивана Ивановича Ряполовского. Он, несомненно, узнал её, ибо с паперти спускался след в след.
- По ком плачно оделась, боярышня? - прозвучал его низкий голос почти у самого уха.
- По многострадальной стране нашей, - тихо произнесла Евфимия и спросила: - А ты, княже, по ком облачился в чёрное?
- По детям нашего государя, преданным вероломцу, - отвечал Ряполовский.
Они отошли чуть в сторону от боярских карет и челяди.
- Что-то не пойму, князь Иван, - остановилась Евфимия. - Кто вероломец? Почему преданы?
- Преданы по нашему неразумию, - пробасил недавний её сподвижник. - А вероломец - Шемяка. - Видя растерянность столь деятельной храбруши, князь доверительно пояснил: - Передавая в Муроме Ивана и Юрия на владычню епитрахиль, я с братьями и воеводой поверил: похитчик власти не учинит им зла. И вот - доподлинное известие: княжичи ввержены в тесное заточение с матерью и отцом.
- Не может статься! - возразила Евфимия. - Владыка Иона в Угличе видел Василиуса и Марью свободными.
- Едва удалился преосвященный, - продолжил князь, - государь с государыней вновь оказались в темнице, откуда на время были извлечены. Да ещё и два сына - с ними.
- Владыка знает? - спросила боярышня.
- Вряд ли, - вздохнул Ряполовский. - У него забот полон рот: местоблюститель митрополичьего стола! Борется с остатками ересианства исидорского в Южной Руси.
- Надобно довести, - решительно заявила Евфимия.
- Доводчиков караулят доглядчики, - усмехнулся князь. - Нет, - примолвил он. - Мы решили иное. Нынче же покинем Москву. У Волока Дамского ждут Стрига-Оболенский, сын нашего муромского воеводы, да братья Сорокоумовы, Иван Ощера с Бобром, да Семён Филимонов, да Юшка Драница, да Русалка с Руном и иными детьми боярскими. Придём к Угличу, овладеем им, освободим мученика с семьёй.
- Опять кровь! - поникла Евфимия. - Не лепше ли словами исторгать кровь души, нежели мечами кровь тела?
- Шемяка внемлет лишь языку меча! - отчеканил князь и распрощался с боярышней.
Евфимия не ушла от храма. Она прохаживалась по площади в виду отверстых соборных дверей и паперти, засиженной нищими. Вот вышел Иона в мантии, в окружении иподиаконов и священства. Боярышня заступила путь. Бердышник урядливо подскочил:
- С дороги!
Её несомненно бы отогнали, не возопи она во весь голос:
- Владыка!
Епископ воздел десницу. Охраныши оставили Всеволожу в покое.
- Что тебе, дочь моя?
Всем зреньем тела чувствовала, как подозрительные глаза сверлят и справа, и слева. Вот уж воистину доводчика сторожат доглядчики. Пусть! Одиночке трепетать не за кого, только за себя.
- Владыка! Я Евфимия Всеволожа, дочь боярина Иоанна. Дмитрий Юрьич солгал тебе. Старшие сыновья Василиуса в темнице!
Иона малое время стоял в раздумье. Потом вымолвил тихое повеление одному из ближних. Монах подошёл к боярышне:
- Следуй за мной, дщерь Божья!
Ещё чуть спустя она сидела в митрополичьей карете. Введена была незаметно, со стороны, противоположной площади. Когда архиерей с келейником взошли, тут же вознамерилась говорить. Владыка остановил поднятой дланью:
- Выслушай, дево! Знавал твоего родителя, кое-что доходило и о тебе. Потому глаголы твои перевешивают сомнения. Молвка о том же из других уст не внушала веры. Вопросить Дмитрия Юрьича?
- Вопроси, владыка, - поддержала боярышня. - Лучше в моём присутствии, чтоб вдругожды не солгал. Мне не солжёт. Увижу насквозь!
- Ты бестрепетна! - заметил епископ.
- За себя ль трепетать? - спросила Евфимия. - Для меня земная юдоль, не успев начаться, окончилась.
Иона велел ехать ко дворцу. Евфимии предложил:
- Обрящь Небесную юдоль, прими постриг.
- Ещё не всё успела в миру, - потупилась Всеволожа. - Уйду, когда душой успокоюсь.
Остановились у Красного крыльца. Дворец из пожарища воздвигся с любовью, да не для Василиуса. Бывая у Софьи, боярышня видела не всё завершённым. Сейчас убранство, ухоженность, как у жениха к свадьбе, - вот так дворец! Похитчик готовится к торжествам. Спешит надеть золотую шапку, принять помазание на власть.
Иона прошёл в Крестовую со спутницей в чёрной понке.
Посланный оповестил Дмитрия Юрьича, тот явился. Благословясь, спросил:
- Чем понапутствуешь, святый отче? - Тут же узнал Евфимию. Самоуверенность поколебалась во взоре. - Зачем с тобой эта дева?
Епископ без обиняков объявил:
- Дочь Всеволожа доводит, что ты покривил душой: пообещал ведь освободить слепого, соединив его с сыновьями?
- Да, обещал, всё так, - бормотал Шемяка. - Ныне же мыслю над, - он запнулся, - над тем, как…
Иона прервал его:
- Будучи в Угличе, видел Василья Васильича и Марью Ярославну свободными. С лёгким сердцем вручал им детей невинных…
- Едва преосвященный уехал, - вступила в разговор Всеволожа, - великокняжеская семья и с малютками вновь вверглась в тесноту.
- Замолчи! - сжал кулак Шемяка. - Все-то ты знаешь! Откуда тебе всё ведомо?
- Ах, сыне, сыне! - останавливал бурю владыка.
- Князь Ряполовский узнал доподлинно, - ответила Шемяке Евфимия. - Станешь запираться?
Юрьич отскочил, уставился в оконце цветной слюды.
- Не запираюсь… Надобно время… Не вдруг такое свершается… Сегодня - милостивец, завтра локти кусай!
Евфимия презрительно отвернулась:
- Милостивец! Князь не сдержался:
- Дозволь, владыка, велеть ей выйти? Иона сказал сурово:
- Сделал ты неправду, а меня ввёл в грех и срам. Ты обещал и князя великого выпустить, а вместо того и детей его с ним посадил. Ты мне дал честное слово, и бояре меня послушали, а теперь я остаюсь пред ними лжецом. Выпусти несчастных, сними грех со своей души и с моей! Что тебе могут сделать слепой да малые дети? Если боишься, укрепи его ещё крестом честным…
Тут вошёл Иван Андреич Можайский. Благословился у владыки, не заприметил Евфимии, сообщил Шемяке:
- Брат, Ряполовские убежали!
- Лихое продолжение смуты! - добавила Всеволожа.
Иван Андреич вытаращил на неё глаза.
- Враг с ними, с Ряполовскими! - процедил Шемяка.
- Отпусти слепого, - приказал святитель. - Богом взываю, как твой молитвенник!
Можайский, не мешкая, сообразил суть речей и встрял:
- Не сверши оплошины! Вспомни про отца и Коломну…
Дмитрий в замешательстве метался очьми от Ивана к владыке, от владыки к боярышне.
И тут Всеволожу будто толкнул нечистый. Впервые в жизни она, не обдумав, высказалась:
- У Волока Дамского Ряполовских ждут Стрига-Оболенский, Сорокоумовы, Филимонов, Драница с Русалкой, Руном и иными детьми боярскими. Двинут соединённые силы к Угличу. Устоишь ли в Москве перед ослеплённым её государем?
Можайский при сих словах побледнел. Владыка кашлянул, прикрыв рот. Шемяка не взбеленился, как подменённый, не затопал, не закричал, промолвил раздумчиво:
- Нет, не устою. Мыслил, в Литву потомки Большого Гнезда бежали, тогда бы враг с ними. Тут же расклад иной. Выдь из Крестовой, Фишка, ты сослужила службу. Тебя же, владыка святый, прошу: соберись. Завтра с утра всем двором с духовенством и с твоим святительством во главе отбываем к Угличу. Нынче отправлю наперёд Котова, дабы освободил слепого. Утвердимся с ним в мире и целовании крестном, отпразднуем конец смуты. Пожалую его по достою уделом добрым. Благослови меня, отче, молитвенник мой! - припал он к руке владыки. - А ты, брат Иван, останься на время малое…
Евфимия вышла первой. Следом за ней епископ. Сошли с Красного крыльца. Владыка благословил её у кареты:
- Прости тебе Бог неосмотрительные глаголы! Боярышня стала красной.
- Каюсь. Сорвалось с языка.
- Выдав друзей, ты подвигла их супротивника на благое дело, - успокоил преосвященный павшую духом. - Слепец будет освобождён!
- Защитники же его пойманы и окованы, - досказала Евфимия.
Карета уехала на митрополичий двор.
Всеволожа пошла к Фроловским вратам.
Встречь двигались колымаги, кареты и вершники. К тынам жались обдаваемые грязью прохожие. Она прикрывалась понкой. В невёдрие - грязь, в вёдро - пыль, не скажешь, что лучше. До чего тесен, необихожен Кремль!
Рядом прозвучал вдавни знакомый позов:
- Воложка!
Её нагнал князь Можайский на вороном жеребце с малой обережью. Спешив ближнего челядинца, он велел подсадить боярышню в седло.
- Помнишь, ехали от Скорятина победителями? Ты была в мужской сряде. Сейчас тебе неслично верхом?
- Как-нибудь, - отозвалась Всеволожа.
- Государь решил послать Вепрева на перехват Ряполовских, - доверительно сообщил Иван. - Мнит поочерёдно разбить, пока не соединились сообщники. Ты выдала поимённо и тех, и других. Зато запугала - страсть! Решился освободить Василья на свою голову. Слепой-то слепой, да зрячих на его стороне предостаточно. Отговорить не сумел. С перепугу к здравым мыслям не восприимчив.
- Проговорилась! - изливала на себя зло Евфимия. - А ты, - набросилась на Ивана, - ты, брат и друг Василиуса, как впал в измену?
- Заплутался меж двух дубов, - признался Можайский. - Теперь мыслю остаться с тем, что сидит покрепче. Устал! - И прибавил, не переждав молчания Всеволожи: - Прости за давешнее у Троицы. Оттолкнул тебя. Не внял гласу истины. Нынче казнюсь, да что толку: умчались кони!
- Мне сюда, Иван, ко двору Тюгрюмова, - остановилась Евфимия и вернула чужую лошадь.
- Обитаешь здесь? - натянул повод Можайский. - Не знаешь ли, где скрывается знакомец наш Карион Бунко?
Тут Всеволожа не обмишулилась.
- Нет, не ведаю. В Нивнах видела Кариона, а с тех пор - нет.
Сочтя, что боярышня с бывшим кремлёвским стражем не связана, Иван Андреич пооткровенничал:
- Шемяка обыскался его. Никак не отмстит. Предал нас Карион у Троицы, предупредив Василия. Бесполезно, а предал! Ну, - развернулся он вместе с обережью. - Будь благополучна, Воложка!
16
Евфимия сидела одна в боковуше, где ещё так недавно любезничали Карион и Бонедя. Когда, распрощавшись с Можайским, она сообщила, что поимщики рыщут в поисках Бунко, бывший кремлёвский страж призадумался: куда побежать? В Нивнах спасенья нет, там Можайский. В Новгород путь наверняка перекрыт, все туда бегут чуть что. «В дебрях скрыться?» - предложила Евфимия. Карион усмехнулся: «Волки съедят. В особенности пани Бонэдию. Она - лакомый кусочек!» Бонедя строго вмешалась: «Сидеть тут. И не выхыляць се». Бунко вздохнул: «Можно и не высовываться, да обыщики всунутся». Шляхтянка надоумила: «Замыкаць джви». Бунко отмахнулся: «Замкнёшь дверь, а ломы на что?» Тогда уроженка Кракова предложила: «Побежим до Литвы! - И весомо сказала: - Сквозь лес!» Тщетно боярышня возражала: в лесу ведь заблудишься, не успев моргнуть глазом. Бунко вспомнил, что ему доводилось продираться лесами с тайными поручениями к Витовту через Ржеву и Великие Луки. Отроком ещё был, а нитечку запомнил навечно. Оставалось поднабить калиту в дальний путь. Жизнь последнее время всех троих достатком не баловала. Воину приходилось разгружать паузки с товаром на Москве-реке, дабы снабдить Бонедю средствами пропитания. Набрался духу, пошёл к Тюгрюмову. Возвратился довольный, подкидывая на длани увесистую мошну. Купец, узнав об опасности, нависшей над его любимой жиличкой, не мешкая, раскошелился, сказал, мол, сочтутся после. «Большой души человек!» - восхитился Бунко. «Богачество не попортило его душу», - примолвила Всеволожа. «Сколь ни одаривает нечистый, а деньгами душу не выкупишь!» - рассудил Бунко, имея в виду не душонку, а великую душу. Простины были тяжёлые. Бонедя с Евфимией так долго не могли разомкнуть объятий, что Бунко обронил слезу. Боярышня обещала скоро уехать в Нивны, дабы самой не подвергаться опасности, сидючи в Москве. «Прошэ пшеказаць сэрдэчноэ поздровеня пани Акилине!» - наказывала шляхтянка. «Обязательно передам сердечный привет амме Гневе», - обещала Евфимия. «Кеды се знову забачымы?» - то и дело повторяла Бонедя. «Скоро, скоро увидимся», - успокаивала Всеволожа. Вдруг Бонедя всполошилась: «Чы ма пани якесь пенюндзе пши собе?» - и втиснула ей в руку горсть серебра. «Ещё чего! - возмутилась боярышня. - Не ради меня вас снабжал Тюгрюмов. Обойдусь как-нибудь». В препирательствах истекли последние дорогие мгновения. И вот супруги отъехали, а Всеволожа осталась с «пенёнзами» в рукаве.
Смерклось. В раскрытом оконце и так весь день ничего не видишь, кроме высоких сосновых палей, ограждающих дом Тюгрюмова от сторонних глаз. А тут резко упала занавесь августовской ночи. Евфимия за творила окно и зажгла светец. Масла осталось мало, тусклый огонёк коптил. Книги, писанной полууставом, не прочтёшь. Осталось разобрать одр и лечь. Тут в дверь стукнули. Ключница тюгрюмовская Асклипиада показала суровый лик:
- К тебе инока в княжеской карети.
Какая инока? Почто в княжеской?.. Месяц миновал, как осталась боярышня без друзей, одиночествует в сомнениях: в Нивны ли воротиться, уйти в сестричество, под Углич ли попутешествовать, принять постриг в монастыре то ли Рябовом, то ли Рябином, где живёт под куколем бывшая Неонила… Никто одиночку не навещал, даже амма Гнева не подавала знаков. И вдруг - инока! Не судьба ли?
Вошла женщина в чёрной понке, надвинутой на глаза. Облик так знаком!
- Кто ты?
Понка сброшена. Господи! Пред ней нынешняя великая княгиня Софья Шемякина.
- Тише! Я ненадолго. Предупредить…
- Сядь, подруга, - усадила гостью боярышня. - Боишься быть узнанной, а ездишь в царской карете! Велю твою государынину повозку вогнать во двор.
Евфимия вышла. Когда вернулась, княгиня с ужасом оглядывала неказистую боковушу.
- Как бедно у тебя, ясынька!
- Не замужем за великим князем, - усмехнулась боярышня. - Только что-то мы не о том… Зачем снизошла ко мне потемну и втайне?
- Убегай, Евфимьюшка! Митенька велел тебя поймать, привесть к розыску за большие вины, - одним духом выговорила Софья.
- Вот как? - заняла Всеволожа место напротив и взяла княгиню-подругу за руку. - Господь видит, Софьюшка, для тебя сей ночной приход - страшный подвиг! Попытаемся обмануть беду. Расскажи допрежь, ездила ли в Углич со двором? Что Василиус? Что Марья? В тесноте сидеть - не венок плести! А как детки?
- Всё поведаю, - успокоилась Софья. - Жаль, на речи времени отпущено вот столько, - показала выхоленными перстами мелкую щепоть. - Была в Угличе, видела слепого, брюхатую, маленьких. Хотела позвать тебя, воротившись, а где искать? У Можайского вызнала о доме Тюгрюмова. Иван жалостлив. «Пусть, - говорит, - обыщики с ног собьются. Знаю, не скажу. Найдут, не найдут - я тут ни при чём». Сам поостерёгся упредить. Я смелей Ивана!
- Ты смелее, - согласилась боярышня. - Не томи, поведай, как было в Угличе?
- Прибыл государь с двором;- торжественно доложила Софья, - с князьями, боярами, епископами, игумнами. Велел позвать Василия, дружески обнял. Винился, изъявлял раскаяние, потребовал прощения великодушного…
- И государь простил? - не утерпела перебить Всеволожа.
- Слепец, не государь! - поправила великая княгиня. - Он объявил с сердечным умилением: «Нет, я один во всём виновен. Страдаю за грехи мои и беззакония. Излишне любил славу, преступал клятвы, гнал братьев, христиан губил, мыслил изгубить ещё. Я заслужил казнь смертную. Ты ж, государь, явил мне милость, дал средство к покаянию».
- Воистину ли таковы слова изрёк? - не верила Всеволожа.
- Вот крест! - Великая княгиня осенилась и продолжила: - Всё так искренне! Слова - рекою вместе со слезьми. Бояре плакали. Митенька хвалил смирение Васильево. Потом - клятвы с крестоцелованием. Грянул пир в нашем углическом дворце. Василий сидел с Марьей и детьми, взял богатые дары, Вологду в удел.
- Вологду? - одобрила Евфимия.
- Пожелал Митеньке благополучно властвовать в Московском государстве, - закончила великая княгиня.
- В чём я виновата? - удивилась Всеволожа.
- Ты не виновата, - плачуще сказала Софья. - Ты много осведомлена. Знаешь козни Ряполовских, их затеи на грядущее. Под Дамским Волоком наш Вепрев был разбит, едва сам не погиб. Поездка государя в Углич, решение освободить слепого, расстроила весь заговор. Мятежники отправились в Литву, к Боровскому, к Басенку. Не для того же, чтоб там сиднями сидеть.
- Я их дальнейших замыслов не ведаю, - сказала Всеволожа.
Софья тяжело вздохнула:
- Могу ль не верить тебе, ясынька? Поверят ли обыщики? Застенок выдумает вины, навострит язык для несусветицы.
- Застенок? - вспомнила боярышня Дубенского и Бегича.
- Беги, родная! - торопила Софья. - Время ли нам наслаждаться дружеской беседой? Коня тебе я, едучи сюда, взяла. Ты, знаю, вершница изрядная. Вот серебро. Ах, вспомнила. Поимщики приставлены к дорогам на Можайск, на Тверь, на Дмитров, на Владимир…
- На Ярославль, - с усмешкой подсказала Всеволожа.
- Да, и на Ярославль, - кивнула Софья.
- Возьми-ка серебро своё, - вернула ей боярышня тугую калиту, - и забери коня, мне он не надобен. Сама же возвращайся вборзе во дворец. За упрежденье благодарствую, - и чмокнула великую княгиню в щёку.
- Куда ж ты денешься? - спросила Софья.
- К Богу в рай, - ответила Евфимия.
- Под куколь? - испугалась великая княгиня.
- Ах, милая, скорее, а то хватятся. Ты совершила, что могла. Век не забуду.
Боярышня сопроводила гостью до кареты.
Хозяина нашла в Крестовой. Помолилась вкупе с его семейством. При выходе предупредила, что, возможно, хожатые нагрянут этой ночью.
- Хожатые не позыватые? - пробормотал Тюгрюмов. - Взойди ко мне.
Спокойно выслушав Евфимию, купец задумался. Потом спросил:
- Куда тебя увезть, не мешкая? Где сможешь скрыться?
- В Угличе, - сказала Всеволожа, рассуждая про себя: уж там её искать не станут! И спохватилась: - Как увезть? На всех дорогах соглядатаи.
- За что тебя, невинную девицу, не пожаловал Шемяка? - покачал сединами купец.
Евфимия вздохнула.
- Моими происками он освободил Василиуса. Теперь срывает зло. Считает, выпустил из клетки ястреба, хотя и ослеплённого, а сам - ворона. Кто виновник? Я! У нас большие счёты, коль порассказать…
- Сейчас не время, - напрягал чело Тюгрюмов. - Вывезем! Укроем в возу сена.
Боярышня тотчас припомнила шемякинскую казнь.
- Не надо сена! Купец развёл руками.
- Что надо?
- Гроб! - сказала Всеволожа, памятуя о Василии Косом.
Тюгрюмов потёр лоб.
- Нет под рукой готовой домовины. К тому же опытные ищики и гроб досмотрят. О-хо-хо!.. Ах, вот оно! Нашёл!.. Ты помнишь, как Москву терзала язва-прыщ?
- Почти не помню. Лет тогда мне было…
- Всё просто, - перебил Тюгрюмов. - Есть большой ларь. Вожу баранки с кренделями в калашный ряд. Ларь смажем дёгтем, и - на телегу. Тишку - на козлы. Прошку - в саван. Пусть ляжет головою к дверце, обомрёт, коли начнут доискивать. А ты - в его ногах, под кучей скарба, якобы подлежащего сожжению. На месте фонаря повесим колокол. И - в путь! Все сыщики умчатся врассыпную. Мор - дело страшное!..
Не минуло и часу, как Всеволожа в моровой повозке покинула гостеприимный дом Тюгрюмова. Ни у одной заставы не произошло задержки. Снаружи слышались испуганные голоса:
- Быстрее проезжай! Быстрей! Остановились поутру в осиновом подлеске, в заячьих местах.
- Вот тебе конь, - смеялся Прошка, разлучив пару гнедых. - Мы на одном вернёмся.
Был ломовым Гнедко, стал верховым. Боярышня в лесу сменила сряду, приторочила к седлу свой немудрёный скарб.
- На Тверь дорога широка, - заметил Тишка. - Днём не обидят. У Волги заночуешь. Завтра от повёртки до Углича - эх, с ветерком! Всех благ тебе!
Отъехав, Всеволожа видела, как Тишка с Прошкой жгут вымазанный дёгтем ларь. Куда ж его ещё?
17
Охраныш больно завернул руку за спину, сдавив выше запястья. Нож, приставленный под лопатку, нудил повиноваться.
До того всё было, как нельзя лучше. Удача сопутствовала беглянке от Москвы до самого Углича. Почему именно этот город избрала она местом бегства? Вспомнила о здешней обители Рябовой, как о крайнем прибежище. На последнем постоянии расспросила дорогу к монастырю. Знала: в виду подградия будет повёртка влево. По ней просекой сквозь лес выедешь к дубовым стенам, кои навечно скроют тебя от мира. Знала и не свернула к просеке, устремилась к городу. Что ей эти соломенные кровли, затыненные узкие улочки, где и в вёдро грязь по конские бабки? На том же постоянии привелось случаем подслушать перемолвку двух угличан. Старик толковал юнцу о слепом государе земли Московской, что примирился со своим ослепителем и собирается теперь в Вологду стать удельным князем. Юнец вспомнил о некоем знатном лице, беззенотно сидевшем в узилище. Старец возразил: «Не сидит уже, а живёт в выморочном терему возле самой Волги, близ мельницы. Здесь поселил его до отъезда в пожалованный удел наш бывший князь Дмитрий Юрьич». - «Юрьич отмстил за брата!» - приговорил юнец, и на том расстались. А Всеволожа призналась себе: никак не сможет она уйти от мира, не повидав слепого Василиуса. И вот пересекла город, нашла водяную мельницу, выморочный терем узнала по внешней ветхости. Пришлось спешиться у запертых врат, да не привелось постучаться. Откуда ни возьмись, чудище-великанище внезапь сбил с ног и вот ведёт по двору.
- Куда тащишь паробка в войсковой сряде? - загляделся привратник во все глаза.
- Не паробка, лиходейку! К старшому государевой стражи.
А во дворе суета. Челядь носит кладь, грузит на телеги. В домовидный большой рыдван впрягают шестерню, умягчают сиденья полостями, подушками. Ношатай обронил тюк, развалил ткани парчовые по земле. Свора девок ну его облаивать!
Засадный сберегатель втолкнул пойманную в одну из бревенчатых служб.
- Подосланную схватил! Обрядилась воином, меч у бедра, камень за пазухой…
Старшой же государевой стражи и лиходейка глядят друг на друга и широко, радостно улыбаются.
- Фимванна!
- Василий Кожа!
Когда Всеволожа опомнилась, чудищи-великанищи след простыл.
Поздравствовались старые знакомцы.
- Нашего полку прибыло! - объявил княж воин. - Всё больше верных сюда стекается, что ни час. Я третьего дня из Мстиславля, где все вкупе: и Василий Ярославич Боровский, и Ряполовские, и Иван Стрига с Ощерой. Знаем: ты спасла княжичей. Хвала тебе! Мы намеревались общими силами сойтись в Пацыне. Вострепетал бы клятвопреступник! Из Брянска готовились нам в пособ Семён Оболенский, Фёдор Басенок. Вдруг вестоноша Данька Башмак пригнал с новостью: государь - на свободе! А в Брянск о том же весть сообщил Полтинка Киянин. Вот меня и прислали разузнать, как да что. Нынче государь просит сопроводить великую княгиню до Вологды. Сам едет в Кириллов-Белозерский монастырь вознести благодарственные молитвы за избавление. Тебе следует повидаться с ним. Только что вспоминал: «Не она бы, - говорит, - не осязать бы мне деток!»
- Не осязать? - дрогнул голос боярышни.
- Пойдём, в государев покой сведу.
- В такой моей непригожести? Дай время опрянуться…
- А, пустое! Что ему твой вид?
- Что ему мой вид? Кожа оторопело подскочил:
- Эк, ты как с лица спала! Успокойся. По достою хочешь перед слепым предстать, твоя воля. Мигом определю одрину, пришлю девок, опрянешься. Сряда у тебя есть? Вот и славно! Баньки не изготовлено, девки нагреют воды в корыто.
Он повёл её чёрным ходом в терем, по пути отдавая распоряжения. Боковушу отпер в подклете, велел наскоро прибрать. Челядинки явились румяные, востроглазые. Только что в переходах заливался их щебет, а узрев деву-витязя, прикусили языки, услуживали, вопросов не задавая.
Кожа, воротясь, обомлел:
- В нижегородском кремнике была как весна-красна, под Суздалем - ещё краше, а в Угличе - не найду и слов!
- Ты без слов проводи к Марье Ярославне, - попросила боярышня. - Прежде - к Марье. А после уж…
Кожа повёл без противоречий и всё-таки не без слов. Идучи, завёл повесть про Полтинку Киянина. Оказывается, сестра Василиуса Настасья, будучи замужем за Олелькой Владимировичем, князем Киевским, внуком Ольгерда Литовского, имела на Москве пролагатая, что носил ей молвки о брате, матери и делах московских. Вот этот-то Полтинка Киянин…
Кожа не досказал, ибо вступили в опочивальню Марьи. Уведомленная о Всеволоже, она сидела на одре в подушках, ждала. Княж воин тут же исчез.
- Ох, Евфимия! Стыд оказываться пред тобой в такой тягости. Теснота заточения из лица соки выпила.
Боярышня подошла, не чинясь, обняла Марью по-дружески.
- За детей Бог тебе воздаст, за наше избавление тож. Иона, молитвенник наш, поведывал, - отирала Ярославна потускневшие очи. - Сядь поближе, дай руку. Мы ныне, почитай, ровня. Обе - изгнанницы, страстотерпицы.
- У тебя - удел. У меня нет отчины, - напомнила Всеволожа.
- Ах, чужой удел, чужой город, всё чужое, - поморщилась Ярославна. - Брось скитанья, останься с нами, будь хоть ты - своя, - неожиданно предложила бывшая соперница.
- А Витовтовна вернётся? Мне несдобровать! - опять-таки напомнила Всеволожа.
- Ой, про государыню-мать Вася не столковался с Шемякой, - вздохнула Марья. - Боится злодей отпустить дочь Витовта!
- Тебе бы воспрянуть, Марьюшка! - приободрила толстуху боярышня. - Помнишь, как у Чертольи плела венки? Прыткой была молодкой!
- Девка кудахчет, а баба квохчет, - вздохнула Марья. И призналась: - Наговаривала мне воду Мастридия, упокойница, и смачиваться велела, чтоб князь великий взабыль любил. Ныне хоть и слепец, а затронет брюхо, какие уж тут привады?
- О детях думай, не о любовях, - отозвалась Евфимия. - Моя любовь умерла. Детей же иметь не сподобил Бог.
- Вася на богомолье едет, на Белоозеро, - сменила речь Ярославна. - Мне же в тягости и с детьми - бережная дорога в Вологду. Прошу, сопроводи беззенотного. Хотя люди с ним будут, да обережь не нянька. А в Вологде воссоединимся, обсудим твою судьбу.
- Моя судьба, - начала Евфимия, намереваясь назвать уделом своим обитель женскую, да умолкла на полуслове…
Кожа ввёл Василиуса.
Всё знакомо: высокий рост, разворот плеч, некоторая согбенность, длинные, жёсткие волоса с залысинами, узкая борода, а лицо… лица-то и не видать. Чёрная повязка над крупным носом. Впалость щёк под ней. Знаемых, врезанных в память черт не различишь…
- Евушка! - сказал бывший великий князь. Евфимия увидела перемену на лице Василия Кожи.
Только что княж воин ввёл государя, хитровато сверкая заговорщичьими глазами. Видать, предварительно не оповестил, захотел внезапности. И вдруг слепой сам называет гостью.
- Как узнал её? - без обиняков спросила удивлённая Ярославна.
- Я… - напрягся вытянувшийся струной Василиус, - я… почуял.
Внучка Голтяихи вздохнула и произнесла устало:
- Вот тебе и поводырка в монастырь.
- Ты-то, Марья, береги себя в пути, - приблизился Василиус к жене. - Я буду вскорости. Дождись с родинами, - неловко усмехнулся он. И, повернувшись к Всеволоже, будто зрячий, попросил:- Сопроводи в одрину, Евушка. Пусть Кожа принесёт дорожное. Я переоблачусь.
Евфимия с тяжёлым сердцем наблюдала прощание недавних заточенников…
В своей одрине князь присел на ложе, она на стольце.
- Кажется, вот только-только зрел тебя в дому у Юрья Патрикеича… - Слепец сделал движение дрожащими перстами снять повязку. Евфимия его остановила. - А представляешь, что увидел я впоследни? Что до сей поры стоит пред взором мысленным?
- Нож ослепительный, - сказала Всеволожа. Свергнутый великий князь приоткрыл рот и не издал ни звука.
- Тебя простёрли на ковре, - сурово продолжала Всеволожа. - Два ката!.. Навострили нож… Затем пояли и повергли… Достали доску, возложили на твои перси…
- О-о! - простонал князь. - Умолкни! Не душа ль твоя со мной терпела, стояла подле?
- Батюшка допрежь терпел. Его душа была подле тебя, - почти шепча, произнесла Евфимия.
Щёки слепого под повязкой забусели. Он спросил сдавленным голосом:
- Ужель и после наказанья нет прощенья?
Она взяла его десницу без трёх перстов. Ответила:
- Простить - не забыть! Разум прощает, сердце помнит. Сердце прощает, разум помнит…
18
Кириллов-Белозерский монастырь остался в памяти боярышни своей обширностью, как Кремль московский, но не теснотой внутри - простором. И главное - своею белизной. Стен белокаменных зубчатость, прямоугольных башен белокаменность. Белый собор среди зелёного пространства. Вдоль стен - строенья белые. Там - трапезная, кельи, покои настоятеля. Всё это солнцем залито, освещено небесной синевой.
Василиуса принимали два игумена. Евфимия, держа слепого под руку, вначале подвела его благословиться к здешнему - Трифону, затем к Мартиниану из Ферапонтовой обители, что недалече от Кириллова. Отстояв службу, потрапезовали. Затем гость удалился на краткий опочив. Игумны же велели позвать боярышню в обительскую вивлеофику. Любительница книг вступила не без трепета под своды каменной палаты, где в хранилищах дубовых содержались фолианты, кои поведают потомкам дальним о днях нынешних.
- Присядь, дочь Иоанна Дмитрича, - указал Трифон на стольце с бархатной подушкой. Сами же монахи сели супротив на лавку. Она их лица плохо различала. Клобуки надвинуты почти на самые глаза. Отличие лишь в бородах: у Трифона седая, у Мартиниана чёрная.
- Зачем мы здесь? - спросила Всеволожа робко.
- Макарий, богомолец наш, из плена вырвавшись, здесь побывал и кое-что поведал о тебе, - пытливо глядел Трифон на боярышню. - И до того от князя Юрия покойного мы слышали о дщери Иоанновой. Твой ум, как вивлеофика. Прочтённое в нём незабвенно. Многие в себе содержишь книги. Здесь говорить с тобой самое место.
Глаза старца улыбнулись. Мартиниан же сказал просто:
- Здесь двери толще, звук короче. Есть нужда порасспросить тебя таимно о сыне Юрия, правителе сегодняшнем. Ведь ты почти что прямо из Москвы.
Евфимия собралась с мыслями.
- Насколько я успела сведать, - раздумчиво повела речь боярышня, - новый властитель разрушает созданное прежними, плодит раздробленность земли Московской, с чем так боролся дед, а ещё пуще и отец Василиуса. Не стану утомлять, скажу лишь, что Суздальская область с Нижним Новгородом, Городцом и Вяткою вновь отдана в полную собственность бывшим владельцам, внукам Кирдяпиным. Стало быть, отпала от Москвы. Удельные державцы правят независимо, сами ведают Орду. Шемяке лишь осталась честь старейшинства.
- Зачем он раздирает собранное государство? - удивился Трифон.
- Из малодушия, - ответила Евфимия. - Боится сильных. Ищет тех, кто ради личной выгоды тотчас готов подняться на его защиту. А старший внук Кирдяпин храбр. Служа Новгороду, бивал немецких рыцарей.
- Что ещё скажешь о Шемяке? - спросил Мартиниан.
- Суды его неправедны, - поникла Всеволожа. - По государевой указке судьи защищают сильного и осуждают слабого. Опять же из-за малодушия властителя.
- Что мыслишь о грядущем? - спросил Трифон.
- Страшусь Казани, - отвечала Всеволожа. - Чуть тамошний мятеж иссякнет, Улу-Махмет и Мамутек на нас воззрятся сызнова. Шемяка - не заслон. Его воистость мне известна.
- Природный государь попал в беду, - опустил взор долу Трифон. - Он слеп!
- Его глазами станет сын Иоанн, - сказала Всеволожа.
Игумны молча встали, переглянулись. Встала и боярышня.
Мартиниан к ней обратился с отеческой внушительностью:
- Ты много пользы принесла, Евфимия Ивановна. Как попущенье Божье можно восприять, что не твоей судьбою было стать государыней московской. Теперь же вспомни, как в пустыни сказал Макарий изгнаннику Василию насчёт тебя. Мы ныне скажем то же.
Евфимия подумала о вызволенном пленнике и о спасённых детях, что случилось после слов Макария, однако возражать не стала, лишь тихо вымолвила:
- Нет во мне соблазна.
Игумен Трифон осенил крестом её чело, и перси, и рамена.
- Соблазн помимо твоей воли от тебя исходит, даже и к слепому… Исполнь, дево, что предписано устоями отеческими. Отыди от соблазнов. Прими постриг.
Евфимия, припав к руке игумена, пообещала:
- По готовности души уйду от мира…
Покинув вивлеофику, она нашла Василиуса восставшим ото сна. По просьбе Трифона с Мартинианом отвела его к игумнам. Ждала долго за дверьми.
Слепец, когда входил, склонился чуть не в пояс под низким сводом. Вид его был отрешённый, безразличный. Вышел же воспрянувший, как зрячий.
Боярышня услышала слова Мартиниана, произнесённые в напутствие Василиусу:
- Человече! Иди с миром путём царским. Как начал, так и кончи. Не уклоняйся ни вправо и ни влево. Господь с тобою!
Боярышня вела Василиуса по монастырскому двору к коням. Слепец, как будто прозревая цель, спешил и даже рвался из поводырских рук. Евфимия, смутясь внезапной переменой, терялась. А он рассказывал взахлёб:
- Ах, Евушка! Я так скорбел. Считал жизнь конченой. Связал душу с врагом заклятым. Ты, прежде всего ты спасла меня. Иона сообщил потиху и потонку…
- Я выдала и Ряполовских, и прочих заговорщиков. Проговорилась! - не могла простить себе Евфимия.
- Зато как напугала Юрьича! Подвигла выпустить меня из тесноты.
- А если б князь Иван и прочие не отразили Вепрева? Все были бы пойманы! - напомнила Евфимия возможность худшего исхода.
- Да отразили же! - отмёл Василиус её раскаяние. - А я свободен! Знаешь, что сейчас сказал мне Трифон Белозерский? Моя клятва не законна! Дана неволею, под страхом. «Родитель, - объявил игумен, - оставил тебе в наследие Москву. Да будет грех клятвопреступления на мне и моей братии. Иди с Богом и с правдою на свою отчину. А мы за тебя, государя, будем молить Господа». Вот как, Евушка! Возьму из Вологды детей, поеду в Тверь, к Борису. С ним Ряполовские ссылались. Великий князь Тверской меня поддержит. Обручу Ивана с дочкой его Марьей. Борис давно мечтал, да я был против. То-то обрадуется! Объединим силы и - к Москве!
Князь высвободил локоть из руки боярышни, велел конюшим кареть бросить, оседлать ему коня.
- Поедем, Евушка, верхами! - веселился он. - Помнишь, под Суздалем ты была - мой оружничий?..
Слепец по-зрячему решился править конём. Старшой охраны и Евфимия держались обочь. Удалый вершник скакал перед ним на игреней кобыле, дабы Василиусов жеребец бежал за нею след в след. Князь опустил поводья, а голову вскинул уверенно, будто он - только он! - повелевает движением…
После ночного постояния в деревне Толба к вечеру прибыли на Кубенское озеро. Вот она, Вологда! Ничем не памятная Всеволоже, кроме зла. Здесь сброшен был Косым с моста Григорий Пелшемский. Здесь, в кремнике, она делила с Неонилой тревогу за грядущее. И опасенья были не напрасны. Теперь княж терем вологодский - опять её пристанище. Перед какими бурями?
Запоздно, едва устроилась на ложе в той самой боковуше, где обитала при Василии Косом, едва смежила вежды, изнемогшая от долгой верховой езды, едва её коснулись призрачные виды, предваряющие сон, натужные страдальческие стоны разнеслись по терему, переходя в отчаянный животный крик… Евфимия вскочила, схватила паволочную накидку, зажгла свечу, вышла…
По переходу бежали мамки.
- Государыня рожает! - оповестила ближняя, промчавшись.
Всеволожа двигалась к опочивальне Марьи.
- Где государь? - оспешливо метались женщины. - Позвать?.. В своём покое?.. Будить?.. Сын! Третий сын! Сподобил Бог…
Из ложни Ярославны бабка повивальная вынесла младенца. Всеволожа подошла. Личика новорождённого не разглядишь при плохом свете. Сплошной орущий рот! Тельцем ядрён, весит, должно быть, фунтов десять.
- Васи ль Васильич не велел будить, - явился Кожа. - Утром поглядит дитя.
Евфимия ушла к себе. В ту ночь во сне её встревожила Раина очередным невероятным «привидением». «Голубонька! - ревела перед ней лесная дева. - Жаль рождённого на горе. Андреем назовут. Андрей Большой! Большой, да не старшой! Старшой - Иван. Он умертвит Горяя[14]!»
Утром, ещё к трапезе не звали, за Евфимией пришла сенная девушка от Марьи Ярославны.
- Княгиня хочет тебя видеть.
Боярышня, успевшая умыться и опрянуться, пошла к роженице.
Марья, вся в испарине, лежала на подушках. Дитя было при ней. Спало.
- Евфимья! - сделала кислое лицо внучка Голтяихи. - Прими признание: жалею, что вытащила тебя из геенны огненной в Кремле. Оставила себе кручину! Василий нынче заходил и даже не облобызал меня. К дитяти чуть притронулся. А вышел за порог, и, слышу, речи между ним и Кожей всё о тебе да о тебе…
- Дозволь поцеловать дитя? - спросила гостья. Марья не противилась.
Склонясь над будущим Горяем, Всеволожа распрямилась и сказала, отвешивая поясной поклон:
- Прощай, великая княгиня Марья!
- Стой. Что ты? - вяло удивилась Ярославна.
Евфимия ушла к себе, переоделась в сряду для верховой езды, накрылась понкой и покинула княж терем.
Идя по ранним улицам к Торговой площади, вкушая грудью дух берёзы после подцыменья в посадских избах, боярышня прикинула в уме: на донце калиты ещё остались тюгрюмовские деньги, чтоб купить коня и скромно пропитаться седмицы две, пока доедет до Москвы, там сделает клюку, минуя ищиков шемякинских, и в Нивны.
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ.
Попутье с медведицей. Истребление ведьм. Супруги-факелы. Свои на своих. Яд для голодного. У врат обители святой. Обезглавленный заговор.
1
Серко, купленный в Вологде, уже за Ярославлем начал харчить. До Ростова Великого Евфимия добралась чуть не шагом. На очередном постоянии хозяин не пустил во двор.
- Чем я не людина?- возмутилась Всеволожа. - Чем моя деньга не деньга?
- У тебя конь сапатый, - сказал воротник.
Она давно заприметила возгристость в ноздрях своего Серка. Не придала значения. Возгривый человек отсморкается. Назовёшь ли его больным? Мужики объяснили: зелёная слизь из лошадиного носа - не простой насморк, а болезнь, до смерти изнуряющая, неизлечимая. Напугали, что сап заразен как для лошадей, так и для людей. Пришлось с возгривцем ночевать в поле, тащиться со скоростью пешехода. В Стромыни предложили продать сапатого на шкуру. Евфимия пожалела Серка. Огибая окольными путями Москву, вела коня в поводу. В полу днищах ходьбы до села Вышлес он упал. Подняться не нашёл сил. Так и смотрели друг на друга - Евфимия с жалостью, Серко с грустью - пока конь не издох. Слишком он удлинил путь скиталицы! Рассчитывала на две седмицы, а прошло вдвое больше. Иссякла калита. В несличном виде боярышня добралась до Вышлеса: сряда превратилась в издирки, выцвели волосы, загрубели руки, лик пропитался пылью и почернел. Уледи, выменянные на изношенные сапожки, раскрыли рты, как галчата. Порог корчмы путница переступила с двумя полушками.
- Что тебе, небога? - спросил корчмарь. Она отдала монетки:
- Край хлеба, опанку травяного взвару.
Хлеб оказался чёрствым. Хоть взвар горяч, духовит… Отогрелась! Удивилась пустой корчме. Мужичьи голоса где-то рядом.
- Село большое, а у тебя не людно.
- Ещё как людно! - возразил корчмарь. - Выдь на крытый двор. Водырь там кажет плясанье медвежное.
Отставив пустую чашку, Евфимия пересекла сени, сошла по крутым ступенькам…
Под крышей двора зрители жались к стенам. Посреди огромный медведь облапливал человека. Тот в объятиях, будто не звериных, а бабьих, поведывал удоволенным голосом:
- Я - ему: «Медведя поймал!» Он - мне: «Веди сюда!» Я - ему: «А нейдёт!» Он - мне: «Так сам иди!» Я - ему: «Не пускает!»…
Зеваки опасливо похохатывали.
- Лапистый зверь! - сказал мужик рядом. - Ломыга!
- Гляди, чёрный весь, ошейник белесоватый! - толкал под локоть другой сосед.
- Его бы на коня верхом… Ух, был бы леший! - размечтался бровастый парень, о коих говорят: «брови, что медведь, лежат».
- Он и пеший, как леший! - возразил осанистый старикан.
- Подь, Дунька, пусть и тебя обхапит, - пытались вытолкнуть объёмистую бабу передние.
Водырь воспротивился:
- Не сручно бабе баловать с медведем, того гляди юбка раздерётся!
Освободясь от когтистых лап, он поднял с полу балалайку, забренчал. Мишка не шелохнулся, пока вожак не шевельнул ногой край цепи. Зверь неуклюже переступил задними лапами, помахал передними…
- Не охоч плясать, да губу теребят, - отметил бровастый парень.
- Медведь пляшет, поводатарь деньгу дерёт, - обнародовал своё мнение осанистый старикан.
Медведчик установил колоду середь двора. Зверь скакнул через неё.
- Что значит, - прокричал водырь, - когда мишка через колоду скачет? - И сам ответил: - Значит, либо пень не высок, либо медведь сердит.
Поводатарю поднесли жбан браги. Приняв подношение, он обратился к некоему незримому рядом и важно предупредил:
- Сторонись, душа, оболью!
Поднесли второй. Труженик смерил его глазами:
- Душа подымет! - Выпил до дна и провозгласил: - Люблю победить медведя!
Когда «победителя» стали потчевать третьим жбаном, он отрицательно помотал головой:
- Душа не подымет!
Начались уговоры. Водырь предложил жбан медведю. Тот отвернулся.
- Эх, - вернул подношение весельчак, - коли медведь не тянет, водильщику же не лопнуть стать!
Евфимия, наглядевшись, поднялась в сени, через крыльцо покинула корчму.
Невдолге она вышла из Вышлеса, зашагала просёлком, свесив голову на грудь. Безлошадной было от чего впасть в раздумье. До Нивн добираться пешей… достанет сил. Не достанет оставаться голодной так много времени. Ради милостыни не протянется длань, не будет повиноваться голос. Привычная к злосчастью скиталица на сей раз обратила взор к Небу, жизнь коего незрима. Видит ли её отец? Слышит ли безысходные думы?
Позади кто-то наезжал… Обернулась с надеждой на людскую доброту при попутье. Тут же отпрянула…
На большой телеге ехал мёд вед ник со страшным зверем. Саврасой масти битюг протрусил, храпя, будто не зверя вёз, а поклажу, хотя и тяжкую. Зверь спокойно лежал на боку большим чёрным кабаном.
Путница, придя в себя, пошла следом.
Телега остановилась. Возница крикнул:
- Чумичка! Садись, ноги пожалей. Пешеходка приблизилась.
- А… а медведь? Поводатарь осклабился:
- Небось! Зверь смирён. - И обратился к смирённому: - Потеснись, Матрёна!
- Медведица? - спросила Евфимия.
- Мечка, - подтвердил хозяин. - Матуха.
- Конь её не боится? - устроилась на краю телеги боярышня.
- Старые друзья с Савраской. - Возница понужнул коня. - Как прозывать тебя?
- Евфимия. А тебя?
- Кузьма, - гордо отвечал спутник. - Прозвищем Кувыря.
Знакомым показалось имя. Кузьма Кувыря! Слышала когда-то… Не вспомнила. Спросила, продлевая беседу:
- Давно поводырничаешь?
- Тридесять лет, - веско объявил Кузьма. - С Матрёной - осьмой год. Учёная! Сам растил. Возил в Серчагу, в Сморгоны, к нашенским учителям медвежьим, к литовским. Кормлюсь медведями. То глумотворствую, то помогаю жёнкам.
- Жёнкам? - удивилась Евфимия.
- Чреватые дают Матрёне хлеб из рук, - охотно пояснил Кувыря. - Чем разрешится чрево? Смолчит медведица - родится отрок. А рыкнет - девка явится на свет.
- Не страшно ли кормить из рук? - спросила Всеволожа. - Жутковиден зверь!
- Есть много жутче! - Кувыря чмокнул на Савраску. - Купцы полуденных земель рассказывали: слон - вот это жуть! А далее, за океаном-морем, людей пугает наказанье Божье - ноздророг! Ух, зверь! Ужаснее слона! Уши медвежьи, очи под горлом, рога - на губе…
День стал вечораться. Остановились средь леса. Въехали в чащу. Кузьма извлёк из торбы хлеб, баклажку молока. Позвал:
- Ефимьица! Коль не погребуешь, испей со мной из одной посуды. Опанки нет.
- Ефимьица? - смутило деву обращение к замужней. - Нет, я Евфимия.
Медведник крякнул:
- Ясно. Пей. Не скисло молоко? Боярышня пила наперемен с водатарем.
- Что делать, не зима! - И, жадно жуя чёрную краюху, задала давно вертевшийся на языке вопрос: - Куда путь держишь?
Кувыря отвечал, не обинуясь:
- В Нивны. - Для ясности примолвил: - В княжество Можайское. - И в свой черёд спросил: - Нам не попутье?
Евфимия набила полон рот, чтоб отвечать не сразу. Тщетно напрягала память: Кувыря!.. Кузьма Кувыря!.. Нет, не вспомнила. Призналась тоже без обиняков:
- Нам полное попутье. - И обратилась, как к знакомцу: - Что у тебя в Нивнах?
Попутчик ухмыльнулся:
- Дошёл слух: там кошельков не пожалеют на медвежьи пляски.
Ночевать не расположились. Продолжили путь, презрев тьму.
- Торопишься набить мошну? - спросила Всеволожа. - Боишься, опередит тебя водырь слона?
Кузьма прервал насвистывание:
- И то, и то. - Задрал голову к небу, где из-за туч вылущивалась луна, очесливо позвал её: - Выдь к нам скорее, медвежье солнышко!
Мохнатая Матрёна тоже подняла башку. Луна распаренной голыхой выскочила, как из баенки, и воцарилась на своём верху.
- Медвежье солнышко? Матрёна им любуется? - Боярышня заметно привыкала к зверю.
- С сестрёнкою здоровкается, - нашёл Кувыря пальцем в небе сверкание Большой Медведицы.
…Конь начал уставать. Ни чмоканье, ни понукания не действовали.
- Лошадка в хомуте возит по могутё, - вздохнул Кузьма и проворчал с тревогой: - Самое бы место бегу!
Евфимия полюбопытничала:
- Что здесь за место?
- Княжщина смерда! - был загадочный ответ.
- Нельзя ли говорить повнятнее? - промолвила боярышня.
Боялась показать, что ей медведник неприятен. Чем? Трудно выразить. И весел, и занятен, и чуток (мог бы мимо прокатить!). А что-то всё-таки в его оскале прячется. Что-то в узловатых лапищах страшит. Чем-то смех царапает. Не верила чутью, измотанная путевыми муками. Боялась: не дай Бог, заметит… Последние свои слова сочла излишне резкими и улыбнулась.
- Тебе-то весело, - напрягся, глядя вдаль, Кузьма. - А мне-то страшно…
- Нам ли бояться? - успокоила Евфимия. - С нами великая княгиня всех зверей!
- Тебе известно? - таинственно спросил Кузьма. - Тут где-то у реки Колочи живёт простолюдин по имени Лука. Князь цацкается с подданцем! А тайна в том, что тот Лука нашёл в лесу икону Богоматери, висящую на древе. Носил её счастливчик и в Можайск, вёрст за пятнадцать, и на Москву, подалее. Всюду от неё больные исцелялись, Бог миловал калек, входили в разум бесноватые. Луке, конечно, - подношения. Разжился от при носов! Воздвиг терем на Колоче, аки князь какой. Понабрал отроков. Ест знатно, пьёт без чуру. Ездит на охоту с соколами, кречетами, ястребами. Завёл псарню и медведей, утешается. Пограбит ловчих князя, Иван Андреевич всё стерпит. На поклон и просьбу вернуть отнятое ответ крут, суров… Вот так Лука! Помоги, Боже, миновать его поместье без урону!
- Гостила в Нивнах, слышала такую притчу, - вспомнила Евфимия. - Рассказывали скупо. У тебя занятнее…
- Гостила? В Нивнах? - перебил водырь.
- Ну, у Мамонов, у бояр удельных, - откровенничала спутница.
Водырь переклонился к ней, заглянул в очи, заговорщически молвил:
- Сестра лесная? Боярышня осеклась:
- Ты… ты кто?
- А ты? - спросил Кузьма.
- Я Всеволожа, дочь боярина Ивана Дмитрича, - успела произнести она.
Конь стал. И тут же прозвучал над ними грозный глас:
- Водило! Отдай зверя.
Одесную вырос тын. Из-за него - двухпрясельные дивные хоромы с луковичным многоглавием. Под резной кровлей затейливого гульбища - верзила с бородою во всю грудь. Рассвет румянится, проснувшееся солнце уже глядит одним глазком, а борода с ним споит рыжим пламенем. Кузьма, став на колени, стебнул коня. Савраска истомлённо дёрнул и - ни с места.
- Подай медведя! - громогласил бородач. - Введи в ворота. Не то псами затравлю.
Ворота - настежь. Конь - ни с места.
- Слезай, боярышня, - сказал Кузьма. - Возьму Савраску под уздцы.
Евфимия сошла и стала одаль. Кувыря потянул коня. Матрёна выпросталась из телеги. Ещё бы! Спущенная служкой хамка-псина мчалась прямо на неё. Цепь помешала устремиться встречь. Кузьма в единый прыг стал меж медведицей и псом. И волкодав, и медвежатник с рыком, криком покатились по земле…
Поднялся медвежатник. Евфимия увидела покусанные руки. Персты как бы стальные. Они казались толстыми когтями лап Матрёны. Эти руки задушили пса.
Хозяин с верхотуры крикнул служке:
- Спускай Бурю!
Кузьма в один приём снял цепь с Матрёны. Евфимия молила:
- Не делай так!
Водатарь вскинул взор. То был иной Кузьма: он сам стал зверем!
Недаром говорится: «Кто повидал, чтобы медведь летал?» Успела Всеволожа моргнуть глазом, а медведица смахнула с пути псину, как соринку. Бедный Буря!.. Зверь уж на вершине гульбища. Лука был сразу оглушён. Он не издал ни звука. Матрёна поднялась на задних лапах добить поверженного…
Разящий душу крик смертельно раненной матерой женщины сотряс лесные воздуха и покатился по просторам. Так крикнула медведица. За миг до этого за спинами Кувыри и боярышни громыхнул гром. Своеобразный запах попал в ноздри. Дымок над головами, забелев, растаял. Евфимия, мгновенно вспомнив о Бонеде, оглянулась.
Позади сидел в седле Иван Можайский в пёстром окружении.
- Вот, промахнулся по оленю, попал в медведя! - одобрительно изрёк один из ближних.
- Зверь бы дотерзал Луку, - ответил князь и закричал: - Яропка! Поди взгляни, - он указал на гульбище, - что там содеялось. - Потом велел подручному, указывая на Кувырю: - Возьми его.
Велел, как в Сергиевом Доме, в храме Троицы, когда Никита Константинович поял Василиуса.
На сей раз посланный определил, что одному не справиться с медведником. Оравой навалились княжьи люди на Кузьму. Нятого, связав и оглушив, унесли к дворовым службам.
Князь спешился и подошёл ко Всеволоже.
- Кто такая?
Она стянула плат со лба, подняла лик.
- Воложка? Вот так дар! Тебя встречаешь в самых неожиданных местах. В каком ты виде! Преобразилась нищебродкой?
Боярышня произнесла устало:
- Пешехоженьем добиралась. Конь мой пал.
- Зачем с тобой медведник?
- Он предоставил место в телеге от Вышлеса. Ты зря поял его. Лука Колоцкий сам напал на нас, травил собаками.
- Травить собакою - не зверем! Скоморох! - озлился князь.
- Лука без памяти, - кричал Яропка с гульбища. - Помят и подран преизрядно.
- Придётся задержаться, - сказал князь. - Пошли со мной, Воложка. Надобно тебе опрянуться.
Он сделал знак своим. Всё окруженье устремилось к терему.
- Пищаль? - спросила Всеволожа, кивнув на стальной ствол в его руке.
- А разве боевые новизны лишь у твоей латынки? - прищурился Можайский. - Мне Карион Бунко рассказывал про её подвиги.
- Ей подарил пищаль Конрад Фитингор, рыцарь, - вспомнила Евфимия.
- А мне Яган Готхельф, посольник князя Местеря, - похвастался Иван. - Залучил гостя, и вот - память! Матушке Аграфене Александровне - иной поминок: лохань да рукомойник, серебряны, золочёны.
Взошед на гульбище, князь долго простоял, склонённый над Лукой. Евфимию не подпустил: не для девиц такие страсти. Пыхтя от туги, княжьи люди снесли убитую Матрёну вниз.
- Навылет в сердце, господине, прямо в сердце! - взахлёб докладывал Яропка.
Сбежалась челядь поднять Луку на простынях и возложить на одр в его покое.
- Свезём беднягу к нашим костоправам, - решил князь.
- Пока же в честь столь славного охотника устроим пир на месте? - предложил угодливый болярец.
Другой поддакнул:
- Редкая добыча! Князь согласился:
- Пир так пир.
Бабы замывали скоблёный пол на гульбище.
- Эй, кто там! Девки, мамки! - закричал Иван Андреич. - Обиходьте московскую боярышню! - ввёл он в хоромы Всеволожу.
- Отпусти медведника, - упорно добивалась милости Евфимия.
Князь отвернулся, едва она была взята под белы руки.
Когда он постучал в её одрину и был впущен, глаза его расширились, рот растянулся, ладонь хлопнула в ладонь.
- Теперь-то истинно Воложка! Любава Дмитрия и трёх Васильев.
- Каких Васильев трёх? Вот вздоры! - оправила подле себя по лавочник Евфимия.
Можайский не ответил.
- Ох, ну и мовницу спроворили тебе прислужницы Луки! Как ткань льняную отбелили! - восхищался он.
Про двух Васильев Всеволожа догадалась без ответа. Кто третий? Вернула вспять беседу:
- Глумишься, поминая про Василиуса и Косого. Стыд тебе, Иван!
Князь развёл руками, склонил голову.
- Не ставь во грех. Шучу в надежде на безгневие. - И, всё-таки не утерпев, сощурился: - Про третьего забыла! Про Ярославича Боровского. Твой тайный воздыхатель с детства! Подружия его занемогла. Увёз в Литву совсем плохую. Большую могу надобно иметь с недужной и тремя детьми. Старшой-то отрок, младшие - ещё младенцы. Он могач!
- А где медведник? - оспешилась сменить речи Всеволожа. - Отпусти поимыша.
Можайский посмурнел, ответил жёстко:
- Не твоего высокого ума сие низкое дело. - И предложил, дабы отвлечь боярышню от легкомысленной заступы: - Желаешь лицезреть несчастного, измятого медведицей? Лука, сказали, пришёл в память. Иду к нему. Не возражаю против твоего сопутствия.
Евфимия не отказалась пойти с князем к одру хозяина хором.
Кликнутая челядь провела их через сени в большой покой. Лука лежал под покрывалом, смежив вежды. Князь подступил, склонился низко:
- Видишь ли меня и слышишь ли?
Боярышня держалась одаль. Урядливый Яропка на цыпочках втулился и застыл у входа.
- Вижу и слышу, - отвечал Лука.
- Зачем ты полюбил бесовское позорище и пляску и предался пьянству? - укорил его Можайский. - Бог тебя прославил чудотворным образом Своея Матери, а ты низошёл к бесполезному мирскому житию. Поделом тебе так приключилось!
С одра послышались глухие всхлипы.
- Помоги мне, господине! Распорядись богатством на дела богоугодные. Останусь жив, свези в обитель. Хочу постричься, окончить дни в глубоком покаянии.
- Ты будешь жив, - утешил князь. - Походный костоправ смотрел твои изъяны. Отлежись. Завтра - в Можайск. Долечим. Раскаянье твоё Бог примет.
Иван Андреич вышел. Евфимия с Яропкой - следом.
- О, людие! - промолвил князь за дверью. - Здоровые грешат, а умирающие каются…
- Коль ты так добр, освободи медведника, - опять пристала Всеволожа.
Иван сказал с досадой:
- Добр до предела. - И спросил: - Куда путь держишь?
- В Нивны, разумеется, - ответила боярышня.
- Яропка, погляди, готов ли пир? - велел Можайский. И продолжил, когда тот удалился: - Не езжай, Воложка. Не место тебе в Нивнах. Там пусто…
Боярышня остановилась.
- Там Мамоны. С ними мне нигде не пусто. Можайский с сердцем произнёс:
- Свалилась ты на мою голову! Кой враг тебя подвиг бежать по упрежденьи Софьи не в Новгород, а в Углич? Василиус не столь гостеприимен, как рассчитывала? Хоть Марья ежегод брюхата, а, видно, держит над ним власть?
- Станешь грубить, уйду, - сказала Всеволожа.
В конце прохода замаячил коломенской верстой Яропка.
- Пир готов!
- Пойдём! - пригласил князь. - Тебе время поесть. Не в одиночку же…
В столовую палату пирники вносили жареного лебедя, что на шесть блюд раскладывается, а с ним (губа не дура у Луки!) и журавлей, и цапель. Окруженье ждало князя.
- Боярышня Евфимия Ванна Всеволожская! Прошу любить и жаловать, - представил гостью Иван Андреич.
Мужское общество приятно оживилось. Всем было любопытно видеть дочь боярина Ивана Дмитрича, о коей до Можайска доходили слухи с пересудами.
- Мы случаем сюда попали, и она случайно, - объяснил князь. - Мы голодны, она с дороги не сыта. Надеюсь, знатная девица пиру не помеха?
Так оправдал он с лёгкостью поступок свой противу правил. А кто ему мог поперечить? Все только поприветствовали женский лик на мужеском собрании.
- Гляди, орлы какие! - подводил Можайский гостью поочерёдно к своим ближним. - Василий Шига, мой наместник на Москве!.. Елеазар Васильев, лучший мой боярин!.. Воевода Семён Ржевский!.. Дьяк Фёдор Кулу дар и дьяк Щербина… Яропка тоже воеводит славно, а, Яропка?
- Как прикажешь, государь! - тряхнул кудрями озорно глядящий молодец.
Степенно порасселись, почти молча. Каждый место знал, кто с кем. Пирники разлили мёд и вина. Елеазар Васильев возгласил здравицу. Кубки содвинулись. Боярышня пригубила и обнаружила в своём (Лука - разборчив!) кардомоновое пряное вино.
Веселье началось. Первые обрывки развернувшихся речей не привлекли внимания боярышни. Семён Ржевский поведывал Яропке о Большой Узде, цепи укреплений против степняков по берегам Оки, Угры, где довелось ему служить:
- Утёс - камень! А наверху того камени башня и караул, и по степи видать всяких людей далече…
Василий Шига вспомнил старую обиду:
- И он поколол сына моего на площади у судебни…
- А ты? - спросил сосед, вкушая журавлиное крыло.
- Дометил злодею до конца!
Кубки наполнялись и пустели… Вдруг разговор двух дьяков, Щербины с Кулударом, ожёг Евфимию худыми подозрениями.
- В застенке подымана и в петли висела, - поведал Кулудар, - и с виски спрашивал: «Чем колдуешь?» - «Снадобьями, - кричит, - наговорами». - «Что колдуешь?» Признается: «Ворожу». А я ей: «Научись колдовать да концы хоронить!»
- Ведьма! - согласился Щербина. - Спозналась чародейка с нечистой силою! Сказывают, у таких злодеек есть хвостик…
- Не углядел, - захихикал, тряся бородкой, Кулудар. - Дал ей пять ударов, и - как каменная!
- Ведьму надо бить умеючи, - учил Щербина, - наотмашь, от себя…
Евфимия похолодела, вспоминая, как отговаривал её князь ехать в Нивны. «Там пусто!» Что сие значит? Скучно ли ей будет или терем пуст?
- А он? - клонился к Фёдору Щербина. Кулудар шумно задышал:
- Подымай был на виску, пытан накрепко, расспрашивай. Дано ему ударов двадцать… Без толку! Городит несусветицу…
Евфимия, смяв бархатный полавочник, ушла из-за стола, приблизилась к Ивану:
- За угощенье благодарствую. Время отдохнуть с дороги.
- Иди, поотдыхай, Воложка. Завтра, завтра… - рдел виновник торжества, дыша винными вонями.
Всеволожа отошла, да сразу не покинула палату. Её привлёк Яропкин спрос, произнесённый нарочито тихо, а по хмельному делу громко:
- Завтра… куда её?
- В дом Белевута, в Гвоздну, - отвечал Иван. - Оберегать, покуда не скажу. Держать очесливо!.. Пошли с ней Костку Затирахина…
Евфимия сошла с крыльца во двор. За невысоким похилившимся плетнём на огороде псари под руководством ловчего делили мясо освежёванной Матрёны. Один сидел к делёжникам затылком, другие полукругом наблюдали. Ловчий же в кровавом фартуке, поочерёдно брал куски с рогожи и спрашивал:
- Кому?
Сидящий спиной к действу называл имя, прозвище:
- Кумцу… Ивашке… Ларке… Куске… Круглецу… А по другую сторону двора брусчатыми стенами чернели службы с брусяными кровлями. Евфимия прошла повдоль. Все двери отперты, а на одной - вислый замок. Туда в махотке глиняной один из княжьих слуг нёс полбенную кашу. Прошёл мимо Евфимии, косясь сурово… Вот отпер дверь и тут же вышел… без махотки.
Подождав, пока он скроется, боярышня приблизилась к складскому помещению. Колодное окно забито досками. И дверь колодная - не отопрёшь. Изба - колода: все косяки и притолока из крупных брусьев. Над дверью обозначен мелом белый крест. Боярышня вздохнула: «Нет креста в душе, а крест на притолоке не спасенье!»
Вернувшись в дом и оглядевшись в переходе, она прошла не в свою ложню, а в покой хозяина.
Лука всё так же возлежал под белой простыней. Лик был торжественен, взор кроток.
- Как можется? - склонилась к раненому Всеволожа. - Не надо ли чего?
- Испить… - сказал Лука.
Она взяла сосуд на поставце, наполнила серебряную чару холодным взваром.
Он утолил жажду, не выпрастывая рук. Весь был в повязках.
- Молись и веруй, человече: будешь жив! - утешила боярышня.
Несчастный отвечал смиренно:
- Жив буду - в монастырь… под схиму. Тяжко мне! Невдолге перед Господом предстану, а грехов - без веды, нет числа!.. Ребра изнывают, горят раны…
Всеволожа вспомнила себя, почти такую, после сражения в пещере костромского подземелья.
- Медведника князь заточил в колодном складе, - сообщила она тихо.
- Прощаю… всех, - откликнулся Лука. - Скажи, пусть выпустит…
- Пыталась… Векую!- упавшим голосом произнесла Евфимия. - Свиреп и непреклонен князь. Ничьих слов не послушает. Даже твоих. - Поскольку раненый молчал, она добавила: - Не смыслю, как освободить прощённого. Сама б отважилась. Не побоюсь. Мне с ним попутье.
Время шло. Рыжебородый великан тянул с ответом.
- Ключи у дворского Матфея, - произнёс он наконец.
- Ключи уже у княжеских доглядчиков, - вздохнула Всеволожа.
Лука молчал, постанывая. Потом изрёк свистящим шёпотом:
- В чертополохе… позади… в стене есть лаз. Хранил в амбаре сахарные головы. Сластёны-челядинки крали. Сделали прорезь - вставят, вынут… Не успел забить, провести доиск… Теперь Бог им судья…
Евфимия перекрестила тайного пособника.
- Подай тебе Владычица оздоровление и заступись за грешника пред Господом!
Неслышной ступью, с тщательным остережением прошла она в свою одрину. Прилегла соснуть до темноты, накопить сил.
Глаза закрыты, а сна нет. Господствуют дневные впечатления. Бодрственные, ясные. Перемежаясь, путаясь, скрываются в тумане полузабытья. Дремота углубляется. Медленный сон крутит веретеном, лелеет, обволакивает, словно саван, уносит к иной жизни… Пред Евфимией поднялось пламя до небес. Испуганная бьётся, мечется в руках родных, кричит истошно: «Старицу сжигают… Агафоклию! Мою целительницу! Изверги рода человеческого!» Родные крепче обнимают дочь. Среди треска костра и зрелищного рёва матушка громко уговаривает в самое ухо: «Взнуздай боль! Не пособишь ничем! Царь Алексей Михайлович, отвергнув твою редкую красу и наказав себя же, свершил гораздо худший грех: разделил веру на Руси. Оттого народ, как при распятии завеса храма, раздрался надвое и вот злыдарит…» Евфимия утишивает причитания: «Жгут Агафоклию-ю-ю! Целительницу жгу-у-ут!»…
Села, пробудив сама себя, не в состоянии опамятоваться. Собравшись с духом, поднялась. В оконце - темь. Пора!..
Путём, что накануне заучила, спустилась без светца во двор. Должно быть, и пиршебники, и слуги омертвели до утра. Судя по караульщику, что у крыльца на сгнившей плахе сам лежит, как плаха, так оно и есть.
На задах склада, где хранились сахарные головы, чертополох взабыль густой, как волосы лесного чудища. Евфимия надолго занялась ощупыванием задней стенки кладовой. Вот он и лаз! С натугой извлекла кусок из сбитых брусьев. Дохнуло смрадом. Изверги не принесли посуды тюремному сидельцу.
- Кузьма!.. Проснись, Кузьма!
- А?.. Что?..
Ножом, сокрытым в платье на пиру, не так-то скоро удалось разрезать сыромятные тугие смыки на его руках.
- Дочь Всеволожа? Уй-юй-юй! - завыл Кувыря. Когда продрались из чертополоха, на их беду взошла луна.
Савраска, в суете не распряжённый, стоял с телегой у плетня в другом углу двора.
- Ух, скареды! Не дали ни овса, ни сена, - сетовал Кузьма. - Смородиновый куст объел от голоду!
Запор был дружно отодвинут, воротину сумели отворить без скрипа. И вот уже телега мчится по дороге. А конь оглядывается, будто бы оставил, потерял кого… И вдруг заржал! Протяжно, неуёмно, как собака по покойнику.
- Матрёну кличет! - шмыгнул носом осиротевший поводатарь.
Спутница обеспокоилась другим:
- Беду накличет! Не ошиблась.
Двор, пришёл в движение. Возникли голоса. Прикрытая воротина вновь растворилась. Выскочили люди. Один проворно вскинул лук…
- Меткач! - сквозь зубы процедил Кузьма, хлеща Савраску. - Попади, попробуй!
Стрелы полетели… Нет, не достигли. Боярышня перевела дух. Конь взял с места вскачь. Усадьба далеко… Кувыря же трясёт рукой.
- Ты что, Кузьма?
- Достал стрелюга окаянный! Воистину меткач!
Евфимия увидела стрелу пониже локтя. Стрела была необычайно тонкая, короткая. Что за стрела? Пришлось разодрать рукав, извлечь проклятую летунью воднодёржку. Кувыря ойкнул. Струйка крови побежала по руке.
- Прими-ка вожжи, отсосу руду, - попросил он. Евфимия гнала, гнала Савраску. Ждала сугону.
- Горько. Яд какой-то, что ли? - ворчал Кузьма. - Зачем охотникам такие стрелы?
- У гадов не без ядов, - произнесла Евфимия. Дохнуло рыбным запахом реки. Вот он, знакомый мост! За ним - Мамоново поместье. Погони можно перестать бояться. Боярышня, плеснув в ладони, возгласила:
- Нивны!
- Кабы Новгород Великий! - возмечтал Кувыря. - Здесь не стог, а мы не иглы. Как восстанут княжьи псы от сна…
- Нас не найдут! - вскричала Всеволожа с мыслью о жилище ведьм.
2
Многое переживала за короткий век Евфимия. А тут… Увидела и задохнулась, словно рыба на песке.
- Тошнит!.. Меня тошнит, - стонал Кузьма.
Нет сил откликнуться. Боярышня шаталась на ветру осинкой-сиротинкой…
Не было терема. Воняла погарь. Ни служб, ни бани, ни медуш, ни погребов. Лишь головни и головни… За погарью - бесхозный огород. За яблонями - лес.
Кузьма согнулся у обрубыша ветлы. Со стоном выворачивал нутро…
Евфимия безмолвствовала идолицей на моляне.
Изнемогший распрямился наконец. Приставил руку козырем ко лбу:
- Людин какой-то ищет что-то…
Найдёшь ли на пожарище хоть что-нибудь, придя последним?
Людин приблизился, узрел чужих. Евфимия с трудом узнала обельного крестьянина Силвана. Лет пять как отработал кабалу. Поднял своё хозяйство в деревне за рекой. По найму у бояр порою исполнял короткий труд.
- А, московлянка? - щурился Силван.
А московлянка как глухая: немо смотрит на разор, и ничего, кроме обугленных стропил и чёрных головней, не видит, и ничего не узнает. Вот зашептала, будто заклинание, одно и то же:
- Божья кара или княжья?.. Божья кара или княжья?..
- Княжья, - обронил Силван и пояснил: - Явились кмети. Жгли всё, что горело. Взяли рухлядь. А бояр за караулом отвезли в Можайск.
- За караулом? - уловила страшные слова Евфимия. - Акилину свет Гавриловну с Андреем Дмитричем? За что? - Она пыталась разумом переварить беду.
Силван пересказал, что слышал:
- Боярина назвали ведьмаком! Кудесит сам, даёт приют кудесникам иноплеменным. Боярыню же объявили ведьмой! Сердца-де вынимает человеческие. Кладёт в воду. Её ведуньи-девки той водой кропят, бродя по сёлам. Оттого горят дома.
- Горят дома? - как эхо, повторила московлянка.
- Третьего года Гридя Ярцев погорел, - вспомнил Силван. - Тем летом - Алексей Боловолоков. Весной - Иван Будиволна…
- Ты веришь? - подняла брови Евфимия. - Веришь, будто бы…
Силван поскрёб в затылке:
- На что людская вера земным богам?
И отошёл, да воротился. Сблизился лицом с боярышней, сказал таимно:
- Не ходи в лес. Там пусто.
Вспомнились слова Можайского о Нивнах: «Там пусто!» Всеволожа сжала руки на груди.
- Там нет лесных сестёр, - примолвил горестный поведыватель.
Боярышня спросила шёпотом:
- Бежали?
Поселянин отрицательно тряс головой:
- Их кто-то предал. Навёл расправу. Казнители рассказывали с бранью: сёстры бились крепко. Спешно отступали в чащу. Кудри бы убрать под шишаки! Дрались простоволосые. А дебрь - не поле. Повисла каждая на сучьях, как Авессалом Библейский. Всех похватали. Заключили в их же лесном тереме и обложили сушняком… Двенадцать ведьм сожгли!
Боярышня хотела опереться на руку Кузьмы. Кувыря оказался в стороне. Вновь выворачивал нутро…
- Пойду, - вздохнул Силван.
- Не сбережёшь ли лошадь и телегу, пока не возвратимся из лесу? - спросила Всеволожа.
- Из лесу? - поёжился мужик. - Что ж, сберегу. Он сел на передок и понужнул Савраску. Боярышня оборотилась к спутнику:
- Вижу, не сходишь ты со мною в лес? Белый, как платчик, он отирался рукавом.
- Зачем?.. Я опоздал.
Евфимия раскрыла очи во всю ширь.
- Ты? Опоздал? К кому?
- К Фотинье, - заявил Кузьма. - Велением боярина Ивана я послан был привезть Фотинью. Котов думал спасти дочь. Знал: и Мамонам, и сестричеству - конец. Наказывал прикрыться ремеслом водатаря и поспешать. Я двигался не пешим, вёз Матрёну на телеге… Мы с боярином Иваном давние приятели. И вот… К чему теперь мне лес? Да и тебе…
Помолчали, каждый со своими растревоженными мыслями. Потом Евфимия призналась насчёт леса:
- Не знаю. Тянет туда сердце… Оставайся. Силван скроет. Он ещё не так чтоб далеко…
Телега с поселянином едва проехала сожжённую усадьбу, выбиралась на дорогу.
- Ай, в лес так в лес! - решил Кузьма.
И вот она, невидимая стёжка: от берёзы меж двух вязов - к трём дубкам. У дуба голенастого отвислый сук указывает речку Блудку. От виловатой старенькой ветлы сквозь иву - в дром. За ним - поляна с рассохой-клёном, где водили ликовницы свой вьюнец. А дальше - снова к тихой Блудке и - по-заячьи петлями, кругалями - до задранного корневища дуба, ниспроверженного молнией.
- Фух! Не могу, - отчаялся Кузьма. - Живот - будто Матрёна изнутри царапает. Башкою будто к мельничному колесу привязан.
Евфимия остановилась с оторопью:
- Занемог! Не надо бы тебе со мной… Ужель отравлена стрела?
- У гадов не без ядов! - напомнил поводатарь.
- Сказала ради красного словца, - оправдывалась Всеволожа. - На погари стояла в о держании… Видела - бледен, так ведь от заточения. Ох, глупая моя головушка!
- А гадовьё-то было с кровью! - напомнил занемогший о своих тягостях под обезглавленной ветлой.
- Теперь и губы сини, и лицо синё, - испуганно отметила боярышня.
Она коснулась узловатой длани спутника и ощутила в ней холодный пот.
- Пошли, - позвал Кузьма. - А то вернуться будет не в измогу. - И, зашагав, махнул рукой. - При чём стрела? От каши полбенной такое кровавое гадство. Проквасили антихристы, а я не разобрался с голоду.
- Вот! Вот она, поляна, - обрадовалась Всеволожа. - Орешек-теремок целёхонек!
- Тут не могли их сожещи, - пробормотал Кузьма.
- Нет, это же не их избушка, - не столь ему поведывала, сколь сама с собою рассуждала гостья аммы Гневы. - Их избушка на иной поляне. Здесь, я вижу, не бывали кмети, не то оставили бы погарь. Льщусь надеждой: сундук с книгами - на месте. Отыщу «Добропрохладный вертоград». Такое вычитаю снадобье!
Шагов за десять до крыльца Кувыря рухнул. Евфимия натужилась поднять, и недостало сил. Лишь на спину перевернула для удобства, ибо он пал ничком.
- Предчувствую конец, - сказал водырь.
- Тяжёл в свою Матрёну! - сетовала Всеволожа. - Полежи, найду рогожку. Внесу волоком…
- Лучше погляди в лечебник, - понадеялся недужный и обеспокоился: - Как опознаешь, что со мной?
Боярышня ответила:
- Глядела в эту книгу: там яды - по приметам, от каждого - противоядие.
И, полная решимости, вбежала в теремок. Всё было на местах. Сундук открыла - вот он, фолиант искомый!
Шуршали ветхие страницы. К шуршанию в пустой избушке стал примешиваться посторонний звук: то досок скрип, то чьё-то шевеление по доскам. Всеволожа не успела опознаться, как узрела голую ступню, что свесилась с полатей. Чья ступня? Она вскочила. Не сделала и шагу, голос сверху обдал счастьем:
- Ба-а-арышня!
- Ой! - вскрикнула Евфимия. - Фотиньюшка! Две девы обнялись. Одна - огонь и радость, другая - грусть и хлад.
- Тебе всё ведомо? - Фотинья вопрошала чужим голосом.
Боярышня не уставала тормошить её.
- Силван сказал: «Двенадцать ведьм сожгли!» А ты… Ведь ты жива?
- Они ошиблись, - сникла уцелевшая сестра лесная. - Сожгли одиннадцать.
- Вас кто-то предал! - посуровела боярышня. Фотинья будто бы осведомлённо закивала.
- Кто? - невольно отступила Всеволожа. Изба отяготилась каменным молчанием.
- Безмолвствуешь, - понурилась Евфимия. - Вестимо, ты не ведаешь. Я дура.
Дева вскинула округлый подбородок:
- Ты не дура! - Глядя в расширенные очи Всеволожи, продолжила: - Желаешь знать предательницу? Вот, она перед тобой!
Всеволожа отскочила, как от прокажённой.
- Нет веры… Хоть казни… Нет веры…
- Отчего же? - села на чурбак у очага Фотинья. - Помнишь, как Генефа-лицеведка назвала меня предательницей? Всеприлюдно… Не ошиблась! Помнишь, допекли меня вконец? Отец мой, видишь ли, убийца князя Юрия! Подзуживала всех провидица Янина. Амма же - ни пол словечка, будто дело не её!
- Акилину с Андрей Дмитричем за караулом увезли в Можайск, - сказала Всеволожа.
- Ведь не в убийстве их винят, а в колдовстве, - отметила Фотинья.
Обе замолчали. Всеволожа, не справляясь с горем, стала причитать:
- И Калисы нет, моей ценительницы!.. И Раины нет, моей наперсницы! И Гориславы, за меня страдалицы!..
Фотинья, уперев локти в колени, сжав ладонями лицо, раскачивалась глиняным болванчиком. Евфимия, угомонясь от причети, спросила:
- Куда же ты теперь, после содеянного? Дева поднялась:
- Под заступ, в могилку, да укрыться дернинкой. Боярышня оглядывала избушку.
- Мне бы рогожину. Человека внести. Недужного. Фотинья пошла поглядеть, что за человек.
Не найдя ничего подходящего, Всеволожа взлезла на полати. Там на глаза попалась оленья шкура. Большая. Обшитая по краям.
Евфимия вышла с находкою на крыльцо и застыла: лесная дева, словно в земном поклоне, склонилась над Кузьмой и приказывала:
- Говори, говори! - Узрев боярышню, вскинула голову. - Оставь шкуру. Его трогать нельзя. Очень плох.
- Стрелою отравлен, - сообщила Евфимия. Фотинья заторопила:
- Ищи же противоядие. В той книге, что читала. Пришлось вернуться. Переворачивала за страницей страницу…
Сквозь приотворённую дверь был слышен голос Кувыри. С натужною хрипотой выговаривал он одно и то же:
- Я… боярин… я… боярин… я… - В конце концов будто надорвался словом: - Исполнено!
И затих.
Всеволожа с раскрытой книгой поспешила к нему: - Нашла!.. Приметы: туга в животе, харк с кровью, круженье головы, синюха, хладный пот, корчи… Это ракитник, золотой дождь. Противоядие: животный уголь, масло ореховое…
Фотинья встретила её стоя. Кузьма не двигался.
Лес щебетал на всех птичьих наречиях. Солнце, великий ляпун, красило тёмное в светлое, светлое в яркое.
- Ничего уж не надобно, - осенилась крестом Фотинья. - Нет медведника. Сбросил бремя плоти…
Боярышня опустила книгу…
Не стоило помышлять тащить грузного Кузьму из лесу. Одним заступом рыли поочерёдно могилу. Обернули тело шкурой с полатей.
Когда Евфимия прочитала молитву при погребении, Фотинья присовокупила:
- Упокой грешника!
На тризну удалились в избушку.
- Что он говорил перед смертью? - любопытствовала боярышня.
Дева ответила кратко:
- Бред.
Желание Всеволожи посетить погарь терема, где были сожжены сёстры, Фотинья отвергла с нежданной суровостью:
- Не пущу!.. Пока жива, не пущу!
Сидели у холодного очага. На блюде - чёрствый хлеб. В братине для вина - водица из Блудки.
- Отныне пути у нас вразнотык, - прятала глаза Фотинья. - Мне пешей - на Москву. Тебе?
- К отцу? - спросила Евфимия. Дева сказала:
- Не помышляла вернуться. А вот есть нужда свидеться.
Замолчали перед разлукой.
- Вот что, девонька, - поднялась Всеволожа. - Со мной в телеге съездишь в Можайск. Окончу тамошние дела, свезу тебя до Москвы. Пешехожением не пущу, как и ты меня в терем сестринский.
- Не побрезгуешь? - насторожилась Фотинья. Евфимия обронила:
- Отучена.
3
Иван Андреич Можайский стоял перед Всеволожей, усаженной на лавку в его покое. Оба собирались с духом ради речей, достойных разума. Без прекословии ввёл Яропка к князю добровольно объявившуюся пособницу водыря Кувыри. Ожидал скорой расправы над беглянкой. Но к удивлению, был тут же господином выставлен. Дверь затворилась. За нею тотчас раздались два крика, мужеский и женский. Вновь недоумевал Яропка: удельный князь и бездомка боярышня кричат друг на друга, как равные!
Евфимия, видя, что её доводы крепче, что за криком князь прячет слабость, утихла первая:
- Не надобно брани. Помнишь, детьми ругались, порой дрались, из-за цацек? А толку? Изломаем, чем дорожили. Давай начнём заново. Успокоимся.
- Давай, - согласился князь. - А то - «неверник правды», «злыдарь»… Так не уразумеем друг друга.
- Попробуем уразуметь, - стала рассуждать Всеволожа. - Ты основываешь свой суд на послуховании Софрона Иева, дворского Юрия Дмитрича, случайно видевшего, будто Мамоны душили князя?
- Я? - возопил Можайский. - Шемяка, вот кто основывает! Как мне государю не верить?
- Василиус был государем, верил ему, - напомнила Всеволожа и присовокупила: - Не предавайся наущателям!
- Хм, рассудила! - молвил Иван. - Тебе в безвластии просто. Властелин же обязан заключать чувства в тугие пелены. Я Мамонов любил, как своих бояр, я вынужден их предать смерти, как волхвователей.
- Ах, волхвователи? Ведьмак и ведьма! - сорвалась Всеволожа и обуз далась: - Андрей Дмитрия - книжник и число люб! Его уму доступно, что неподвластно прочим. Акилина Гавриловна познания черпает из старинных хартий. Грамота - не колдовство!
Можайский запохаживал по тканому ковру.
- Учёная колдунья хуже прирождённой! Боярышня поднялась, подступила к князю:
- Иван! В каких писаниях сказано, что голода бывают от волхвования или волхвами хлеб умножается? Веришь этому? Не преследуй волхвов! Умоляй их, дары подноси: пусть устроят и мир, и дождь, и тепло, и плодоношение. Вот три года неурожай на Руси и в латинских землях. Это волхвы наделали? Скорблю о твоём безумии! Мой батюшка поведывал, как, испугавшись язвы, во Пскове сожгли двенадесять ведьм. Язва унялась? Ты тоже впал в темноту языческую. Умоляю: остановись! Отступись дел поганских! Не впадай в грех, угождая временщику! Покайся в истреблении «ведьм», отпусти Мамонов. Не суди их судом Шемякиным.
- Шемяка сегодня - сила! - пробормотал Можайский.
- Сила - уму могила! - приговорила Евфимия.
- Послухование Софрона Иева не сбросишь со счетов, - задумался князь. - Что же, его водой испытывать по дедовскому обычаю? Станет тонуть - солгал, поплывёт - за ним истина.
Боярышня не сдержала усмешки:
- Дьявол ему утонуть не даст, тебя обрекая на душегубство. Вода - естество бездушное. Богу верь! Он обличит клевету Софрона. Вспомни, как Фотий митрополит был оклеветан перед Витовтом. Он и церковь Киевскую пограбил, главу и славу всея Руси! Он и узорочье церковное увозил в Москву! Клеветы нужны были, дабы Русь южную даже в вере отторгнуть от Руси северной, разрушить главное наше единство. А клеветник оказался свой. Какой-то Савва Аврамиев. Жил неподалёку от митрополичьего дома. И вот - пожар! Помнишь - мы были малыми детьми, - горел митрополичий двор? Огнь от Фотиевой палаты отторгся облаком, достиг клеветника, испепелил живого…
Можайский, остановись перед Всеволожей, сказал:
- Истерзала меня! Слушай признанье: Шемяка зол, что простил Василиуса. Против себя пошёл; отдал ненавистному Вологду. Как родитель его - Коломну. Ему бы теперь сорвать зло. На ком? С тобою не преуспел, сбежала. Вспомнил Мамонов. Ради почину велел истребить лесных ведьм. Бояр же - предать суду по исправе. Прислал послуха для свидетельства, послухатая для смертного приговора. Все Юрьичи верили, что Мамоны - виновники гибели их отца. Ты была невестою Красного, разубедила его? Мне ль нынче разуверить Шемяку? С ним повязал судьбу. С ним готов сам на смерть. Изменить? А куда?.. К кому?.. К Ваське под топор? В Литву на изгнание?
Боярышня убеждалась: её заступа напрасна. Обронила с презреньем:
- Сколь же ты жалок!
И тут он словно с цепи сорвался.
- Порутчица! За Мамонов порутчица! Не бескорыстно ли поручаешься?
Евфимия напророчествовала:
- Чтоб ты помер изгнанником!
- А за это… - забушевал Можайский, - Яропка!.. Взять за караул! На цепь в колодки, в ножные железа!
Всеволожа стояла у старой оконницы со сломанным запором. Легко открыла. Впустила горький дух палых яблок. Узрела под оконцем куток для огородных орудий, покрытый добротным тёсом. Невдали - ветхий заплот, где ночные псы проломали лазеи. Сгинуть бы в одну из лазей, подалее от лихого терема!
Яропка надел на руки смыки, повёл во двор.
- Анашка! - сгаркнул он пристава. - Проводи в колодницу!
- В какую? - Бердышник таращил зенки.
- Проснись! - повелел Яропка. - В ближнюю. Где башня высока, караулиста.
Пошли затыненной улицей. Опускались сумерки.
Досадовала Евфимия: не так вела речь с Иваном. Поддалась чувствам. Теперь кто спасёт Мамонов? В голове злое, как лисий лай, напутствие Ивана Можайского: «Пошлю тебя в дар Шемяке, то-то обрадуется!»
В Можайске две путницы остановились у торговки Олёницы. Фотинья познакомилась с ней, наезжая с послугами для аммы Гневы. Олёнице она верила. Не верила надежде Евфимии выручить Мамонов. Сама не годна в помощницы. Её тотчас опознают. Двенадцатая несожжённая ведьма! За предательство не просила пощады. Прикинулась девахой-деревенщиной, указала путь. Сама до врат смерти осталась с сёстрами. Сражалась бок о бок с ними. Не разделила пещь огненную. Смогла перегрызть смыки на руках, освободить ноги. Отползла в чащу. Боярышня мысленно осудила Фотинью: спешит под крыло отца! Расставаясь, договорились, что дева дождётся возвращения Всеволожи.
И вот - знакомый облик впереди под иноческим покрывалом. «Не дождалась?» - удивилась Евфимия. Зачем она здесь? Приближалась, повесив голову, закрывшись понкою ниже глаз. Разминулись при полном равнодушье бердышника. Фотинья на миг одарила Евфимию условленной среди лесных дев рожекорчей. Так две сестры обменивались обычно, замышляя повалить наземь третью. Вязница моргнула в ответ, стала скашивать взор назад. Пошла же быстрее, чтобы поравняться с охранышем: он вёл её на смыках, как козу в поводке. Зайдя чуть вперёд, вязница остановилась.
- Кой враг? - ничего не понял бердышник. Получив от смычницы лёгонький удар в грудь, он грохнулся навзничь, ибо позади под ногами скрючилась Фотинья.
Не дав опомниться упавшему - бердыш оказался рядом, - она нанесла удар в голову. Пристав дёрнулся и затих.
- Кошачье вымя! - прошипела Фотинья. - Медвежий выгляд! Волчья сыть! Упырья рожа!..
- Убила! - ужаснулась боярышня.
- Убила, - сказала дева. - Сразу его узнала: готовил хворост, жёг лесных сестёр… - Она срезала смыки с рук Всеволожи. - Бежим!
- Мне… мне назад! - упёрлась Евфимия. Фотинья загородила путь.
Боярышня отстраняла препятствие:
- Я доконаю злеца Ивана!
Вырвавшись, спотыкаясь во тьме, она побежала меж тынами к дому князя. Удачливо обогнула двор. В безлунье чутьём нашла псовый лаз в заплоте. Изловчась, проползла. Вот закуток. Взлезла на кровлю. Окно светилось. Подтянулась на носках: князь распростёрся на одре, не сняв сапог с острыми носами. На поставце - свеча. Дёрнув к себе, растворила оконницу. Мгновение - и стоит перед князем, сверкая очами.
Иван вскочил.
- Ты? Воложка! - Крепко обнял. - Фу, будь я проклят! Сейчас думал о тебе. Ну и зверь! Воложку - в колодки! Бессильную, сироту! Тьфу, наважденье! Другиню детства! Хотел кричать, а ты тут как тут…
Со стуком вошёл Яропка. Стоял, раскрыв рот, но собрался с речью:
- Она Анашку - обушком в голову. На левом виску выше брови - пятенцо.
- Не такая бессильная сирота! - отозвалась Всеволожа.
Иван пораздумал, махнул рукой:
- Враг с Анашкой! Грош цена приставу, коего вязень валит.
- Вязница! - поправила Всеволожа.
Князь вправил в порты выбившуюся шёлковую сорочку.
- Яропка, выдь! Ты, Воложка, сядь. Вот что тебе скажу: езжай в Тверь, к сестрицам, прими образ ангельский. Что ртачиться, коль не велит судьба? Один жених - на небе, другой - женат. Дам тебе в путь коня, обережь, съестное… Чего желаешь, проси! Не требуй лишь выручать Мамонов. Не в моей силе-власти.
- Дозволь хотя б повидать, - убитым голосом молвила Всеволожа.
Князь даже не колебался:
- Ин, будь по-твоему. Скажешь - проводят. Хоть бы немедля.
Боярышня кивнула:
- Немедля!
И урядливый Яропка приглашён вновь, послан отвезти, поочерёдно пропустить к двум темничникам, боярыне и боярину.
Ехала в прадедовской колымаге, тряской, гнило пахнущей, без подушек. В пустые оконца врывался ветер. Видимости никакой - темь!
Потом замаячил воротный светыч.
- Мамоны в какой колодничьей? - спросил с козел Яропка.
- К воротам, где караульный чердак, - крикнули ему.
Встряхнуло раза три на колдобинах, и - опять остановка.
- Ерофей Степаныч, караульня у тюрьмы ветха, дыровата, надо бы перемшить…
Яропка, не отвечая, раскрыл привезённой дверцу:
- Иди, пожалуй.
4
Тюремщик со светычем вёл Евфимию по ступенькам вниз, бормоча молитву:
- «…огради меня ризою Своею от колдуна и от колдуницы, от ведуна и от ведуницы, и от всякого злого».
Подземелье было глубоким, необихоженным: потолок и пол сгнили, отчего идти было страшно, отдушины с давних пор не чищены, отчего дышать тяжко. Провожатый вёл в самый конец прохода, отпер колодный замок на самой крайней двери.
Пахнуло затхлостью, нечистотами. Слабый свет озарил человека на слежавшейся соломе в углу. Женщину можно было опознать по безбородому лику и по груди, глядящей из-под издирок. Всеволожа едва узнала Акилину Гавриловну.
- Оставь светец, стань за дверью! - повелела тюремщику.
Тот исполнил. Видно, Яропка не сообщил, с кем прибыл. А страж и за дверью страж.
- Ефимьюшка-а-а!
- Амма Гнева!
Всеволожа бросилась обнимать, боярыня отстранилась:
- Не прикасайся. С кожей неладное… Всеволожа взяла в руки прядь седых волос.
- Тягостно тут, Акилинушка свет Гавриловна!
- Тяжело в тесноте, а в навете ещё тяжелее, - отозвалась боярыня.
- Спешила в Нивны за радостью, подоспела к беде, - жаловалась Евфимия.
- Одна добиралась? - слабым голосом спросила Мамонша.
- С медведем, - попыталась улыбнуться боярышня. - Довёз поводатарь. Прозвище смешное: Кувыря!
- Кузьма Кувыря, - повторила Мамонша. - Тот, что с ручной медведицей охранял князя Юрия Дмитрича.
И прояснилась память у Всеволожи.
- Господи! - вскрикнула она.
- А? - приоткрыл дверь тюремщик.
- Колодки на ногах весом по сорок фунтов, - страждущим голосом сообщила Акилина Гавриловна.
- Тотчас меня уведут, - прижалась губами к впавшей щеке Евфимия. - Тотчас свижусь с Андреем Дмитричем. Что передать?
- Передай, - медленно выговорила боярыня. - Молюсь Архангелу Михаилу: взял бы раба Божия Андрея из рук врагов его, от лиха, от зла человека, ото всякие порчи и соблюл в бедах, в скорбях, в печалях…
- Выдь, выдь… Пора! - тянул за рукав тюремщик.
Провёл к началу прохода, отпер первую дверь. Евфимия насчитала девяносто шагов. Всего в девяноста шагах друг от дружки жена и муж, а будто бы в девяноста поприщах!
- Милушка! - сразу узнал вошедшую Андрей Дмитрич. - Ожидал, что придёшь. Видел сон… Слушай, запоминай, - извлёк он из-под рубахи махонький узелок с лёгким порошком на ощупь. - Нас замыслили сожещи. Раздели это надвое. Одну часть исхитрись вложить в мой костёр, другую же - в Акилинушкин. Только допрежь огня. Главное, чтоб допрежь огня!
- Мученик, Андрей Дмитрич, куда тебя ввергли! - негодовала боярышня, пряча узелок в рукаве.
- Отдан за приставы, посажен за караул, - как бы винясь, сообщил боярин. - Положишь допрежь огня, - повторил внушительно. - Это… это… как тебе объяснить? Видишь ли, сила в нас - огонь Духа. Духовно мы - в трёх мирах, взаимодействующих друг с другом…
- Не в измогу тебе здесь! - сочувствовала Всеволожа всем сердцем.
- Не в измогу быть в казни от князя Ивана Андреича, - отвечал Мамон. - Уж так я его любил! - и продолжил: - Мир, в коем мы обитаем, вещественный, рукотворческий. За ним следует - мыслетворческий, тонкий. А самый высший - мир огненный, духотворческий…
- Выдь, женщина. Время выйти, - стал тюремщик меж Всеволожей и узником.
- Бог с тобой, Андрей Дмитрич! Не сомневайся во мне, - успела она сказать.
Наверху ждал Яропка, проводил до рыдвана, захлопнул дверцу. Сидела во тьме, представляя, что так же сидят Мамоны, только без тряски. А вот уже перестало трясти. Дверца расхлобыстнулась. Светыч озарял провожатого, ворота княжого дома.
- Куда тебя? На хозяйский верх? - недоумевал Яропка, не получивший на сей счёт указаний от господина.
В противоположности от ворот она увидела улицу, по которой шла на смыках в узилище. Не то чтобы видела, скорее угадывала во тьме. Ни слова не говоря, устремилась к ней. Улица была пуста.
Парень не догонял, даже не окликал. Баба - с возу!..
Теперь занимала мысль: найти дом Олёницы. Фотинья провожала до прямого пути к терему Можайского. Как назад - не уговорились. Заблудишься, канешь в лапах ночного татя…
- Ба-а-арышня! - прозвучал тихий голос.
- Фотинья?
- Сколько часов жду! Без веды! От колодок спасла, не спасла от безумия.
Евфимия обняла её в благодарном порыве:
- Опасно одной в ночи!
Фотинья не торопилась высвободиться.
- Не одна. С оружием.
- Ведаешь ли, Кузьма Кувыря охранял со своей медведицей покойного князя Юрия, - сообщила боярышня.
- Ведаю, - отозвалась дева. Евфимия прекратила шаг.
- Открыл давеча в бреду, - продолжала Фотинья, - задушил бывшего государя собственными руками. Привёл зверя с выгула и… И первый же объявил о смерти.
- А ты молчала! - возмутилась боярышня. - Утаила признанье истинного убийцы! Теперь возведут на костёр невинных!
- Сожгут не убийц, а волхвов, - был глухой ответ. Евфимия вразумила:
- Можайский мне сказывал: злец Шемяка ищет смерти Мамонов, как убийц своего отца.
- Ишь ты! - удивилась Фотинья. - В таком разе слова Кувыри всё равно не шли бы в зачёт. Ведь он тут же умер. Кому поверят? Тебе? Ещё хуже - мне?
Всеволожа примолкла. Фотинья была права.
- Ба-а-арышня, поспеши, - поторопила она. - Ближе к свету - самый час для татьбы.
Молча дошли до избы Олёницы. Пробрались к своим лежбищам: Евфимия - на голбец, Фотинья - на лавку. Сон охватил без снов. Замелькало только что пережитое и исчезло…
С утра Всеволожа терзала разум: как вызволить из огня невинных? Фотинья сидела у растворенной оконницы, кутаясь в чёрный плат. Как монашка, давшая строгий обет молчания. Единожды лишь откликнулась.
- Сколь крепко было ваше сестричество! - обратилась к деве боярышня. - Сколь необоримо оно могло стать перед бурей! Отчего буря сломила вас?
Бывшая лесная сестра обернулась к бывшей подруге:
- Сломила… Только не извне - изнутри. Раскоторовались - разрушились. Помнишь, ты бежала от нас из леса? Удалилась и амма Гнева. Не нашла сил помочь… Вот мы и сожжены.
«Ты-то не сожжена», - глубоко спрятала упрёк Всеволожа.
Словно услыхав, Фотинья ответила:
- Я ли перед тобой? Призрак во плоти! Дух сгорел…
Снова боярышня погрузилась в поиск: как спасти осуждённых? Требовался большой заступник. Властью ли, силой ли могущий разметать неправый костёр. В ком сила и власть? Все далече. Василиус - без державы и скипетра. Юрий Патрикеич - без войска…
Ещё день минул в бесплодных мыслях.
Фотинья собралась в Москву пешей. Отговоры не помогали. Удалось удержать упрямицу мольбой не оставлять свою «ба-арышню». Дева вновь села у окна. Чёрный двор, полный кур, свиней, обдавал тяжким неблаговонием.
К кому припасть? К чьим стопам? Василий Ярославич Боровский за литовской границей, в Брянске. Ряполовские с Оболенскими невесть где. Названый митрополит Иона? Евфимия вспомнила споры с его участием, когда решалась участь детей Василиуса. И… вздохнула: рязанский владыка вряд ли знает можайских бояр, да ещё волхвов!.. Осенила мысль: Софья! Бывшая княжна Заозёрская, нынешняя великая княгиня! Немногое может противу властодержавца мужа, а какая-никакая заступница!
Боярышня поднялась. Только бы успеть! Ей вневеды, много ли отпущено времени.
Пампушка Олёница вернулась из торговых рядов. Объявила с порога:
- Бирючи на стогнах кричат: повечер колдунов сожгут, мужа и жену! Мостники на Торгу установили столбы и рундук для князя. Старая княгиня Аграфена - литвинка, слышно, не явится поглядеть. Страшится!
По ногам Всеволожи косой ударили. Упала на лавку.
Олёница отпаивала парным молоком дневной дойки. Успеть бы выполнить завещанье Андрея Дмитрича! В узелке был серебристо-коричневый порошок. Медный или медно-свинцовый. А лёгкий! Надвое поделила, спрятала в рукавах.
Фотинья отказалась идти на Торг. Побелела в необъяснимом упорстве. Олёница и Евфимию отговаривала:
- Не устоишь там, лебёдушка. Даже от вести лишилась ног!
Фотинья не смела остановить, а глядела с надеждой.
- Пойду, - покрылась Евфимия чёрной понкою. - Есть понадобье.
На Торгу перед заповедным пространством с двумя столбами, за цепью бердышников, полукольцом собирались мёстичи - жители Можайска, а также окрестные поселяне. Княжеский рундук, сработанный мостниками на славу, ещё был пуст. Кат в чёрном кобеняке с пришитым к вороту колпаком, с длинными рукавами, распоряжался подручными, что окладывали столбы дровяными клетями. За спиною Евфимии с холопской безропотностью приговорил стариковский голос:
- Головная казнь - кара, наказанье от Господа!
Забубнили набаты, оборвав многоглагольность толпы. На рундук взошёл князь. Он явился не в лучшем платье: в бархатной тёмной ферязи, длинной, прямой, без воротника. Людство оспешливо раздалось, открывая путь двум телегам, привёзшим двух вязней: боярина и боярыню. Евфимия цаплей тянула шею, тщась увидеть родные лица. Верхушки шапок мешали.
Дьяк Фёдор Кулудар выступил с харатейным листом назвать вины приговорённых. Разобрать бы слова, а она протискивалась, норовя стать ближе. Хорошо видела, как Мамонов взвели на клети, привязали к столбам. Купчина в первом ряду тонко оповестил:
- Простились, аки голубь с голубкой. Евфимия пробилась к нему.
С неожиданной силою на весь Торг прозвучал голос аммы Гневы:
- Позовите священника!
Торговка в рыбном фартуке утёрла слезу:
- За это бы их простить!
Священник, совершив требу, покинул обречённых одного за другим. Кат подал знак к прощанию.
Первым подошёл дворский из Нивн, опустил перед боярыней и боярином по охапке цветов. Всеволожа - за ним. Столб Андрея Дмитрича оказался ближе. Опустила завещанный узелок на дровяную клеть перед ним. Показалось, Мамон кивнул. Иль помержилось? Тем временем кто-никто вереницей подходили к столбам, подносили цветы и платчики, образки и тельники… Людство издавало стон. Князь дал знак Яропке. Тот мячом - с рундука. Бердышники разогнали прощающихся. Евфимия едва подошла с узелком к дровам аммы Гневы, её так сшибли - отлетела на сажень… Не упала. Крепко сжала содержимое в кулаке. Пыталась умолить приставов: прислужница, мол, казнимой боярыни. Оттеснили за оцепление: - Пшла, нечистая!
Заветное место являло порог между первым миром - вещественным и непосредственно третьим - огненным. Всеволожа винилась глазами перед Андреем Дмитричем: его «милушка» не исполнила завещания! Он же страдальчески устремлял взоры на Акилину Гавриловну…
Кат поднёс два горящих пеньковых витня к его и её подножиям.
Вспыхнул хворост в дровяных клетках. Взвились кудри дыма перед лицом огня. Клетки занялись, затрещали…
Следующее мгновение очевидцы вспоминали, как конец света. Вырос огненный столп от земли до неба. Не столп - красный смерч! Всё крутилось… Падали замертво приставы и бердышники. Рухнул кат в пылающем кобеняке. Как слизанный, опустел рундук. Всеволожа заметила: Яропка и Кулудар подсаживали князя в седло. Толпа с воем побежала, ломая лавицы с дорогим товаром. Торг оголился. Боярышня стояла одна. Платье пахло сосной. Серосмольный сумрак вился над площадью.
Место смерти Мамона - чудесная пустота: ни сожжённого тела, ни чёрного столба, ни пепла внизу. Большой земляной пятак на стёртой траве, и только.
На месте же аммы Гневы - и сожжённое тело, и чёрный столб, и погарь в подножии.
Боярышня закрыла лицо. Тёплые руки взяли её за плечи:
- Пойдём, лебёдушка! На телегу да - к дому, там и опомнишься.
Уводимая от огненной тайны, она услышала издали обезумливающий вопль:
- Отказни-и-и-или!
5
Заночевали в деревне Брошевая, дабы въехать в Москву, когда рогатки поснимут с улиц. Утренний заморозок сорвал с путниц паутину сна. Евфимия ощупала опашень, сходный с мужским, в подол коего вшила то, что не успела бросить на костёр аммы Гневы. Как день перед грозой, хмурая Фотинья натянула вожжи на Торгу, попросила:
- Ба-арышня, купи квасу.
В квасном ряду лица смурные. Почитай, Белокаменная вся омрачена, как Фотинья. А вот двое знакомцев, пьющие квас. Длиннобородый, густые волосы крыльями по вискам, грудь голая, десница в кулаке - это Иван Уда, умелец-скобарь. Могучий, в поярковом тёртом колпаке, взор горяч - это Хитря, кожевник. Внедавни оба подымали Москву против пожара, разора. Теперь пьют квас. Скобарь занят замками, кожевник - кожами. Боярышню не узнали. Так ли переменилась?
- Эх, было времечко! - Хитря опорожнил ковшик. - Ела кума семечко. А ныне и толкут, да не дают.
- Временщик силён, а не долговечен, - пробасил Уда.
- Справность шапку ломит, сволочь властвует, - примолвил Хитря.
- Доля во времени живёт, бездолье в безвремянье, - вздохнул Уда.
Кожевник наполнил ковшик.
- Когда ж злодей полетит кувырдышки? Уда успокоил:
- Придёт время, будет пора. Богоданный вернётся, даст кувырка, сверзится мучитель задком под горку…
Фотинья утолила жажду. Въехал Савраска в Кремль средь возов с боярскою кладью. Миновали хоромы Головиных, дворы дьяка Семена Башенина, великокняжьих портных Ушака и Ноздри, придворных Бабина, Сесенова, Савостьянова. Живут ли в своих домах? Куда побежали? А Василий Сабуров, Шемякин боярин, здравствует в кремлёвских пенатах!.. У Всеволожи занялся дух: ворота из ожиганного кирпича! Родимый дом, родное крыльцо! Фотинья всходит хозяйкой, Евфимия гостьей.
- Кого Бог дал лицезреть! - выскочил Иван Котов.
С дочкой - объятия, с гостьей - здравствования… И вот обе в заботливых руках челядинок. В баенке, где парилась с Анисьей, Устей, Акилиной Гавриловной. Евфимия едва смыла пыль дорожную. Поспешила уйти. Фотинья домывалась одна.
В столовой палате, где Всеволожа слушала последние наказы отца, теперь на его месте восседал Иван Котов.
- Выполнил-таки Можайский прихоть государеву, показнил Мамонов! - скрежетал он. - Видит Бог, я всё сделал, чтоб упредить несчастных. Кувыря опоздал волей рока.
- Кувыря старика убил, - вымолвила Фотинья.
- Что? - подскочил Котов. - Как знаешь?
- Слушала предсмертный бред, - отвечала дочь.
- Ах, бред! - успокоился боярин. - Предсмертный… Ах, Кузьма-бедолаха!
Принесли стерлядь с огурцами, пирожки на конопляном масле. Фотинья не ела. Евфимия в угоду хозяину надкусила пирожок с рыбой.
- Поня-а-а-атно! - растянул губы Котов. - Одна боярышня скорбит по сёстрам, другая по опекунам. А беды могло не быть. Андреич зря старается перед Юрьичем. Власть Шемяки дышит на ладан. Василиус обручил малюток: своего сына с дочкой князя Тверского. Приобрёл верного союзника! Спешат на помощь князья Боровский, Ряполовские, Стрига-Оболенский, воевода Басенок. Мой пролагатай поведал, вышла у них в пути закавыка: встретили татар! Едва не поратились. Лучники уж пустили стрелы. Татары закричали: «Кто вы?» Наши ответили: «Москвичи. Ищем своего государя Василья Васильича. Сказывают, он свободен. А вы кто?» Татары обрадовали: «Мы из страны Черкасской с царевичами Касимом, Ягупом. Друзья Василия! Знаем: сделал с ним худо брат недостойный. Помним любовь его, хлеб. Желаем отблагодарить в тяжкий час». Тут обнялись князья и царевичи. Пошли русские с татарами вместе. Гуляет слух по Кремлю: Шемяка послал к Можайскому. Зовёт к Волоку, встречь врагу.
Фотинья внимала и не внимала: глаза невидящие, мысли - глубоко. Евфимия слушала со вниманием и спросила:
- Отчего Касим и Ягуп из земли Черкасской? Не из Казанского ль царства?
- Нет, - сказал Котов. - Они в Казани лишились доли кознями Мамутека. Он старика Улу-Махмета зарезал и меньшого брата Юсупа. Единовластец! Испугались Касим с Ягупом отцовой и братней участи, убежали к черкасам.
Всеволожа поникла:
- Что творится кругом!
Фотинья встала, не кончив трапезу. Сказалась утомлённой с дороги, ушла к себе.
Беседа Котова и Евфимии тянулась недолго. Бывшая хозяйка, нынешняя гостья, тоже устала, захотела в свою одрину. Именно в свою, столь долго пустовавшую.
Окно рано потемнело - осень! Книг не было. Оставался сон. Доброе чувство, внезапь прихлынувшее, побудило пойти в Полагьину ложню. Теперь там дочь Котова.
Обе смотрели друг на друга без слов. Фотинья, не разоблачённая, - у одра. Евфимия - у двери.
- Не убивайся, - сделала к ней шаг Всеволожа. - Грех твой тяжек, а Бог милостив. Не устану за тебя возносить молитвы. Отжени огонь с сердца. Господь с тобою…
Дева бросилась к ней на шею:
- Ба-а-арышня!.. Остоялись вблизи друг друга. Фотинья сказала:
- Кликни отца для дочерней беседы. - Неохотно разжав объятия, пожелала: - При горькой жизни сладких тебе снов!
Евфимия нашла Котова в той боковуше, где над своими хартиями полуночничал Иван Дмитрич. Передав Фотиньин позов, удалилась. Сама себе расстелила одр. Погрузилась в небыть…
Раным-рано тормошливые руки вернули к яви. В окне брезжил тусклый свет.
- Проснись, Евфимия Ивановна! Подь со мной… Лицо боярина было обычным, только бородка буквой «мыслете» мелко тряслась.
- Куда? - Евфимия куталась в покрывало, боясь расстаться с теплом.
- Я выйду. Опрянься. Котов исчез.
Одевшись и выйдя следом, опять спросила:
- Куда?
- Пойдём, - тянул он. - Покажу… Знакомым переходом вёл в сад.
Сошли по ступенькам. Утренник и Евфимию поверг в дрожь.
- Боярин Иван, что с тобой?
Не было ответа. Шла по сухим листьям и палым яблокам, как в последний день, перед разлукой с отцом.
- Вон, вон, гляди! - остановился Котов перед той яблоней, где когда-то колыхались качели.
Она увидела призрак. Он будто бы парил над землёй. Нет, не призрак. Явная плоть, только слишком безвольная. Дева парила в воздухе к ним спиной. Узнаваемый облик…
Котов взял Всеволожу за руку:
- Не заходи к ней спереди. Пришлю челядь. Приготовят к погребению. Возвратимся в дом.
Вернулись. Прошли в ту боковушу, откуда накануне она звала его к Фотинье.
- Как, как могло такое статься? - чувствовала Всеволожа руки лесной девы на своих плечах.
- Я виновен, - трясся Котов. - Я убил Юрия Дмитрича.
- Ты? - Евфимии вдруг стало страшно с ним. - Его убил Кузьма Кувыря.
- По моему указу. - Тут же Котов замахал перед собой руками, как бы ограждаясь. - Нет, я этих рук не осквернил. Нет, никогда… Убил его медвежьими…
Евфимия спросила шёпотом:
- Василиус велел? Котов понурился.
- Я самочинствовал. Решил одним ударом кончить смуту.
- Кончил! - выдохнула Всеволожа и примолвила: - Где вызнала Фотинья? Ведь она предательством отмстила за охулку на тебя…
- О дщерь любезная! - Котов опустился на колени перед столом, где лежал тафтяной лепет с дочерней головы. - Кузьма в беспамятстве признался, помянул меня. Она здесь проведывала, всуе ли я был помянут.
- И ты открылся? - догадалась Всеволожа. Котов выл, охватив лысую голову.
- Не преуспел сокрыть! Глядела, будто видела насквозь. Не преуспел сокрыть!
Евфимия ушла, забыв притворить дверь. В пустынном переходе услышала причеть боярина:
- О, чадо моё милое, прекрасное! На древо воспарила красота твоя неизреченная! А косы твои свисли до земли… А голос твой - на Небес и…
Евфимия покинула хозяйский верх, спустилась с гульбища во двор, прошла к воротам. Никого не встретила. Все были заняты в саду. Даже воротник отлучился поглядеть на висельницу.
Не свой, давно уж не родной, навечно отчуждённый преступленьем дом!
Боярышня поторопилась выскочить на равнодушную к ней улицу Кремля, хотя куда направит путь, сама не ведала.
6
Хоромы, где обрела пристанище Всеволожа, напомнили терем Юрьичей на Даньславлевой улице в Новгороде Великом. Здесь всё скрипело. И лестничные ступени, и половицы, даже стены и потолки. Скрип первых звучал сердито под тяжестью самых лёгких шагов. Потолки же со стенами, к коим не прикасался никто, просто жаловались на старость. Сидишь в тишине, а откуда ни возьмись - кряк, кряк, кряк… Знать, предолгий век живут-доживают эти хоромы в конце улицы Великой у выезда на Тверскую дорогу.
Скиталица бесприютная случаем оказалась здесь.
День-деньской бродила по кремлёвским заулкам, уйдя от Котова. Успокаивалась присловьем: «Отыди от зла и сотворишь благо». А благо не приходило. Надвинула на глаза чёрный плат, дабы ищики Шемякины не заметили. Слава Богу, не опознал никто. Спрашивала себя о приюте и не находила ответа. Ноги привели к Афанасьевской церкви, где полвека назад был большой пожар. Кремль затрепетал от него. Отец, Иван Дмитрич, помнил о нём. Она же не углядела на церкви его следов. Вот здесь, у паперти, была боярышня узнана: «А ну-ка, поди ко мне, Евфимия Всеволожа!» Оборотилась, вздрогнув. И улыбнулась. Узнал её нагоходец в издирках, медном колпаке, железах и грубом вервии на почти нагом теле. «Максимушко! - обрадовалась боярышня. - Нету денежки, чтоб подать тебе». Благо-юродивый тоже развёл руками: «И у меня нету денежки, чтоб тебе подать». Каким чудом окликнул Евфимию Христа ради юродивый, коего видела второй раз? «Как живёшь-можешь, Максимушко?» - очесливо спрашивала она. «Несу древнее пророческое служение, полноту правды Божией, - разумно ответил юрод. - Борюсь с миром и обличаю зло». - «Не устал ли от добровольного мученичества, - любопытничала боярышня, - от непрерывной борьбы против своего естества, против мира и дьявола? Где набираешь духовных сил?» - «В молитве, горемыка, в молитве», - приговаривал нагоходец, взяв её за руку, словно ровню, и уводя куда-то. «Далеко ли ведёшь, блаженный?» - беспокоилась Всеволожа. «К устью Яузы, - сообщил Максим. - На мельницу, что завещал Владимир Храбрый жене своей Елене Ольгердовне. Мельник мне кельицу уступил ради зимнего прозябания. Всё равно пуста».
Кельица оказалась крохотная об одном оконце. Благо-юродивый вздул огонь в очаге. «Шемяка меня не жалует. - Максим установил на очаг котелок с водой, начал готовить сочиво. - Вышел самозваный государь от Пречистой, - поведывал он тем временем, - со своим московским наместником Фёдором Галицким и спрашивает: «Где быть моему тиуну на том свете?» Я говорю: «Там же, где и тебе». Очень он опузырился. Видать, зол был на Галицкого в тот день. Думаю, надобно пояснить. «У доброго князя, - говорю, - тиуны понимают, что такое суд. Тогда и князь, и тиун будут в раю. А коли ты своего поддатня, аки пса бешеного, пустил на людей, опоясав его мечом, то и сам пойдёшь в ад, и тиун с тобою». Вот тут-то мне и попало!» - развёл руками Максим. Подал он гостье деревянную опанку сочива и себе налил. «Так и воюю с мирскими силами, - дул на горячее варево гостеприимный хозяин. - У меня правило, у них кривило, у меня чудотворцы, у них смутотворцы». - «Ты святой человек, Максимушко!» - опустошила посуду с суровой пищей изголодавшаяся боярышня. «Нет, не я, - затряс он главой. - Святым был преподобный Андрей, живший полтысячи лет назад. Родом славянин, отроком проданный в рабство, в Грецию. Там изучил Священное Писание, многие науки. Неземной юноша призвал его к подвигу юродства… А ты ведь заядлая книжница? - неожиданно оборвал он рассказ и тут же продолжил: - Ученики Андрея, Никифор и Епифаний, с коими он говорил разумно, свидетельствуют: обладал преподобный даром читать с помощью Духа Святаго каждую книгу, на каком бы наречии она ни была». Евфимия отважилась спросить, как Максим исчез, когда Шемяка поднял на него оружие. Благоюродивый откровенно признался: «Сробел! Гляжу: меня не видят, я же всех вижу. Страха ради немощное тело растворилось…» Он повёл речь о грешном теле, об «умном делании». Всё это походило на искания лесных сестёр. Но те, взыскуя дар, в них заключённый, сосредоточивались на предметах, юродивый же искал милость Божию в молитвенном, духовном состоянии и достигал «неизреченной радости», когда «язык смолкает, молитва отлегает от уст… Тогда не молитвой молится ум, а превыше молитвы бывает». Всеволожа заснула на голом дощатом ложе под журчание благостной речи, под водяные шлепки мельничного колеса над омутом.
На другой день Максим привёл свою постоялицу к церкви Воздвижения. Велел постоять у паперти, пока он взойдёт, помолится. Внутрь не входить. Идти с тем, кто позовёт. Евфимия притерпелась к его невнятным речам, готовилась, едва нагоходец скроется в храме, идти дальше, куда глаза глядят. Вот он вошёл в притвор, а разодетая в бархат старуха вышла, звеня голыми деньгами в калите, оделяя милостыней. Подала нищей братии, подошла к Евфимии, не отличая её от прошаков и прошаек. Боярышня, пряча руки, невольно подняла лик. «Бог ты мой! - воскликнула благодетельница убогих и приказала: - Живо, в мою карету!» Евфимия не противилась. Всплыло в памяти, как Анастасия Юрьевна выручила её у Пречистой. У той-то была карета! У этой же - колымага, обшитая толстой кожей.
Всеволожа сразу узнала внезапную опекуншу: «Каково здравствуешь, Ульяна Михайловна?» С нею сидела свойственница по старшей сестре Анисий, княгиня Перемышльская. Её покойный супруг Василий и Анисьин Андрей - братья, сыновья Храброго. «Я-то здравствую, а ты бедствуешь, - ворчала вдова. - Почитай, век не виделись. С тех пор, как собрал родню Иван Дмитрич в последний раз. А красой не беднеешь. Наслышана о твоём сиротстве. Разыскивала тебя, да попусту. Ну-ка, хватит бродяжить, живи со мной. Будешь свойчивой родственницей - беседливой, обходительной, ласковой - слава Богу. Не будешь - опять же Господь судья. Эй! - высунулась старуха в дверцу. - Ступай!» Кони дёрнули. С облучка прогремел вдавни памятный крик: «Ат-вали!» И рыдван помчался. «Кто твой конюший?» - пристала к княгине Евфимия. Та глядела, не понимая. «Назови!» - требовала боярышня. «Ну, Ядрейко!» - пробасила старуха. Всеволожа переменилась в лице от радости. «Не в себе! Не в себе! - приговаривала княгиня, гладя её плечи и руки. - Отогреешься, образумишься!»
С того дня прошло семь седмиц. Можно сказать, осень канула и луна утонула в Москве-реке до весны. Долготерпие бесед с княгиней Ульяной, чтение вслух духовных книг (иных в доме не было) сменялось поездками в Домодедово, подмосковную деревню княгинину, коей благословила сноху вдова Храброго Елена Ольгердовна. В эту деревню свойственница отпускала Всеволожу одну, под защитой конюшего. Поседевший с висков Ядрейко сил и времени не жалел, услужая бывшей своей молодой госпоже: то обувь починит, то цацку сделает - на витом стержне три железных лепеста. Возьмёшь в руку, дёрнешь кулаком снизу, и взметнётся цветок выше древа стоячего, чуть пониже облака ходячего. «Жаворонок!» - назвала Ядрейкину придумку боярышня. Порой, забывая свою кручину, она игриво называла конюшего атаманом Взметнём. Он хмурился: «Друзья-то наверх взмели, а недруги-то вниз вымели». О причинах ухода от лесных друзей - ни слова. По отдельным намёкам поняла: со смутой на Руси скуден стал прибыток разбойничий. Богачи разоряются, бедняки не богатятся, вот шишам и досада. Притуляются к сильным мира сего: кто охранышем ко князьям, кто подручником к княжьим людям.
Сама хозяйка Ульяна редко ездила в Домодедово, грузную, растрясало в пути. Поручила Евфимии соглядать порядок, передавать наказы. Ученица Бонеди-наездницы любила посещать с Ядрейкой табун, где он арканил двухлеток для передачи объездчикам. Боярышне захотелось испытать свои силы. Брала в руки шерстяное волосяное вервие из грив и хвостов, упругое, прочное, что не завивается в колышки и, зимой, намокнув, не мёрзнет. Ядрейко учил арканить в накидку, изручь, без шеста. Указывал жеребят моложе, чтоб самоё из седла не вынули. «Поарканим?» - предлагала Евфимия. «Поконаемся арканом, кому быть атаманом», - соглашался вчерашний Взметень. Если ей сопутствовала удача, он удовлетворённо произносил: «Аркан не вожжа, смиряет!» Ежели постигал промах, Ядрейко поматывал головой: «Проарканилась!»
С приходом зимы поездки в Домодедово прекратились. Скучно во вдовьем доме. Боярышня, гуляючи по двору, забрела на конюшню. Ядрейко укладывал в возок под сиденье свитое в кольца вервие, собственноручно сплетённое. Возок представлял собой тот же короб, обшитый кожей, переставленный с колёс на полозья.
- Весь в трудах и заботах! - похвалила конюшего Всеволожа.
- Готовь снеговую лопату летом, а арканы зимой, - улыбнулся Ядрейко. - Отпразднуем Рождество, свезу изделия на деревню, пусть лета ждут.
Спальница с крыльца кликнула Евфимию: княгиня зовёт.
В боковуше Ульяны Михайловны пахло воском, земляным маслом для выведения моли.
- Книг было без числа. Драгоценных книг! А много погнило, и моль поела, - жаловалась княгиня. - Возьми-ка вот поучения святителя Кирилла Туровского, подвижника, осветившего собою юдоль земную три века назад. Поучает послушников и послушниц, как своволю отсечь перед постригом.
Всеволожа подозревала: княгиня исподволь готовит её под куколь. Послушливо развернув пергаменты, принялась читать:
- «Ты, как свеча, волен в себе до церковных дверей, а потом не смотри, как и что из тебя сделают. Ты, как одежда, знай себя до тех пор, пока не возьмут тебя в руки, а потом не размышляй, если разорвут тебя и на тряпки. Имей свою волю только до поступления в монастырь».
Боярышня опустила фолиант на колени. Княгиня, взглянув на неё, переняла и убрала книгу.
- Ну, ну, ну! - возложила материнскую руку на боярышнино чело. - Прояснись, прояснись! Тотчас станем к заутрене собираться. Попригожу, не торопясь. Присмотри, что надеть…
Поехали потемну. Луна просияла. Снег под ней голубой. Мороз тихий, ласковый. Воистину сочельник рождественский! Пройдёт ночь в молитвах и песнопениях у Пречистой, и увидит Евфимия по пути домой маленьких христославов, преодолевающих сугробы, с торжеством возносящих над головами светящиеся восьмиконечные звёзды. Сейчас, приближаясь к Торговой площади, она углядела в оконце факелы и жестяные светцы, светлячками мелькавшие в талом пятачке за слюдой. Отчего-то казалось, будто они не движутся, а стоят. Ждут не ждут? А кого им ждать? Народ спешит в храмы. Звонят к заутрене! Боярышня неутомимо дышала на слюдяной пятачок и вскоре уверилась: каждый светоноша не одинок! За ним - люди. Не просто люди, вооружённые ратники. Нет-нет да и попадают в полосу света то стан, опоясанный мечом, то саадак лучника, то плечо копьеносца. Зачем оружие перед праздником? Чем ближе к вратам кремлёвским, тем чаще спрашивала себя об этом.
- Княгинюшка, а княгинюшка! Худое в нынешнюю ночь затевается.
- Окстись, - посоветовала старуха. - Чего только под Рождество не помержится!
У Никольских ворот Ядрейко провозгласил: - Карета боярыни Ульяны Перемышельской! Атпирай!
Тяжёлые кованые воротины растворились. Возок въехал под каменный свод. А некие люди, звеня кольчугами, впёрлись следом, едва не оттесняя его, шурша шубами по обшивке…
- Э-ге-ге-ге! - услышала Всеволожа восклицанье возницы.
И Ульяна услышала, хмыкнула, а не придала значения.
Возок камнем из пращи полетел по Никольской.
Вот и паперть Успенского собора. Тут коней и возков видимо-невидимо. Открыв дверцу, Ядрейко помог княгине сойти, подал руку боярышне, истиха произнёс:
- Веди старую в храм. Разведаю, что у ворот. Дожидайся.
Пробираясь в толчее к паперти, Всеволожа заняла свойственницу речами:
- Ещё по сей день, княгинюшка, кремлёвские жители не отстроились. Такой был пожар! Твои ж хоромы целёхоньки.
Старуха с удовольствием похвалила себя:
- Или я не мудра? Супругу говаривала: чем далее от Кремля, тем надёжнее.
Служба началась. Архидиакон на амвоне возглашал Великую ектинью. Нареченный митрополит Иона в окружении иподиаконов возвышался в сиреневой мантии на кафедре посреди собора. Софья с маленьким сыном Иваном (почти однолеткой своему соименнику, сыну Василиуса) стояла на рундуке, где Евфимия привыкла видеть Витовтовну. Место великого князя пустовало. Шемяка с Можайским стоят у Волока, ждут главных сил Тёмного, как с недавнего времени стал называть народ свергнутого страдальца. Кому оставит жизнь и власть этот бой, зрячему ли, слепому ли, во всяком случае он должен быть последним. Евфимия, вознося молитву, осеняясь крестом, с волнением ожидала Ядрейку. Вот недавний атаман Взметень запалисто задышал за её плечом:
- Тихо!.. Михал Борисыч Плещеев внезапь занимает Кремль. Наш въезд его людям открыл ворота. Движутся сюда. Покуда не началась кутерьма, надо уходить.
Всеволожа, не оборачиваясь, велела:
- Сопроводи княгиню. Вскорости буду следом. Слышала, Ядрейко чуть ли не силой повёл Ульяну:
- Выдь, матушка. Срочная весть из дому. Вестило у возка ждёт…
Сообразила: Михал Борисыч Плещеев - двоюродный брат Андрея Фёдорыча, её сподвижника по сидению нижегородскому и татарскому плену. Стало быть, или Шемяка разбит, или в обход ему вой Василиуса занимают столицу.
Достойной ступью, не привлекая внимания, Всеволожа взошла к великой княгине, как привыкла всходить к Витовтовне. Завидев её, Софья потеряла дар речи.
- Ты… ты… ты… - только и смогла произнесть. Боярышня заявила жёстко:
- Коли мне веришь, иди со мною. Софья ещё открывала рот, но уже без звука.
- Будь покорна, - шептала ей на ухо Всеволожа. - Спасёшь и себя, и сына.
Софья затрепетала. Чинно (у Евфимии отлегло от души!), по достою она с ребёнком покинула своё высокое место, в сопровождении боярышни пошла к выходу. Всеволожа заметила перед дверью: наместник Шемякин Фёдор Васильич Галицкий обратил взоры к Софье, сам начал пробираться, дабы степенно оставить храм.
Посадив спасёнышей в княгинин возок, Евфимия умостилась рядом. Ядрейко не сразу погнал коней.
- Кто тут? Кто с тобой? - беспокоилась Ульяна Михайловна.
- Княгинюшка, не взыщи, - попросила боярышня. - Спасаем Софью Шемякину и её дитя.
Старуха рассудила, необинуясь:
- Михал Плещеев семью мятежного Юрьича без оков не оставит.
Осмыслив страшную новость, бывшая великая княгиня запричитала навзрыд:
- Ми-тень-ка-а-а! Эко горе! То-то горе! Свижусь ли с живым? Мёртвого ли помяну? Горе по горю, беда по бедам! Ой-ой! Зачем в жизни малой да высота великая? Где чается радостно, там встретится горестно…
- Перестань, - велела Ульяна Михайловна. - От тебя дитя плачет.
- Цел твой Митенька, - успокаивала Евфимия. - Был бы мёртв или схвачен, не крадучись бы Плещеев вошёл в Москву.
Софьина причеть стала затихать. Шемячич заподвывал, притулившись к матери. Всеволожа обратилась к княгине:
- Дозволь, отвезу другиню в безопасное место?
- В мой дом? - спросила старуха.
- Обыщики чужими глазами проверят домы, - возразила боярышня.
- В Домодедово? - предложила княгиня. Всеволожа ненадолго задумалась.
- Начнут доиск по деревням, Домодедова не минуют. - И спросила у Софьи: - Сама-то где мыслишь надёжнее затвориться? В Угличе?
Та, справляясь с собой, объявила внятно:
- Углич ближе (хлип, хлип!). Галич крепче (хлюп, хлюп!). А как? С кем? На чём? - И сызнова - в три ручья: - Ми-тень-ка-а! Горюшко с тобой, беда без тебя! За хоромами бездомье, за поклонами пинки… Ой-ой!
В голос с матерью завопил Шемячич:
- Вырасту, всем всё вымещу!
«Уж ты выместишь!» - подумала Всеволожа, вспомнив поведение сына Василиуса Ивана в столь же тягостных обстоятельствах.
Старая бездетная княгиня ёрзала на подушках, не привычная к реву, ни невесткину и ни внукову. Не было у неё ни той, ни другого.
- Благослови доставить несчастных в Галич, - напрямую обратилась к ней Всеволожа. - Твой возок не досмотрят. Лучше Ядрейки оберегателя нет.
Свойственница молчала. Евфимия успела усвоить: её молчание предвещает отказ. А в чём отказано, то отрублено!
- Тпррр! - раздалось снаружи.
Факельным пламенем озарились оконца. Замер заливистый звук полозьев. Боярышня выглянула в проталинку. Не узрела ничего. Затянут отдышанный пятачок молодым ледком. Голоса снаружи - как лай на псарне.
- Так где ж, сучий потрох, отродье Шемякино? Отвратительный голос! Давно и единожды слышанный. Чей, не сыщешь в заулках памяти.
- О-а-а!- ответствовал стон. - Она её увела… с дитём… не видал куда…
- Вспоминай!.. Ну же, вспоминай!
- О-а-а! Вывела на паперть…
Имя и обличье обыщика вот-вот выявится в памяти… Ан- нет! Зато допрашиваемый узнался: Василий Шига! Наместник Можайского на Москве. Внедавне сей голос звучал на пиру в хоромах Луки Колоцко-го, только не со стенаниями, с посмешками.
- Карета княгини Ульяны Перемышельской! - объявил Ядрейко, упорно именуя возок величавым словом.
- Ехай! Не на ча глазеть!
Отъехав, боярышня чуть приоткрыла дверцу. Слава Богу, они в застенье! Задержка была у Никольских врат. Вот улица Великая. Людства-то! Будто уж отошла заутреня.
- Ульянушка свет Михайловна, - повеличала свойственницу Евфимия. - Слышала признание избиваемого? «Она её увела»! «Она» - это я. «Её» - это Софью с дитятком. Обыщикам любой скажет, где я теперь живу. Убежище ли для Софьи твой дом и твоя деревня? Выбирай без промешки: отвезть ли беглянку в Галич, обречь ли на поимание.
- По голосу знаю, кто допрашивал Шигу, - откликнулась не по существу старуха. - Слыхала его погрубины челядинцам на половине великой княгини Марьи. Истопник прозвищем Растопча!
Всеволоже представился тайный спутник её от Кремля до Бутова сада. Соглядатай Витовтовны! Рыж, как тыква, усы морковками, очи злы…
Возок вкатился в княгинин двор. Ядрейко госпоже подал руку. Пришёл дворский с железным светычем.
- Страху-то по Кремлю! - сообщил конюший. - Все улицы в разговорах о слепом государе. Ищут Фёдора Галицкого. Шига выехал было из Никольских ворот на лошади. Ростопча его - цап и привёл к воеводам. При мне доискивали. Окован вместе с другими боярами. Говорят, с москвичей будут брать присягу на имя великого князя Василья Васильича.
- Отвези в Галич Софью с Шемячичем, - приказала Ульяна Михайловна. - С вами будет Евфимия. Возвращайтесь немедля. - И обратилась к дворскому: - Готовь в дорогу естьё.
Софья дрожала, Иван похныкивал.
- В Га-а-а-алич? - томительно протянул конюший.
- Ядрейко! - взмолилась боярышня.
- Надобно поспешать, - опустил буйну голову бывший атаман Взметень. - Заставы ставят по всей Москве.
Потерявших великокняжество сбегов провели в дом, наскоро покормили, собрали в неблизкий путь. Княгиня поцеловала боярышю:
- Памятуй о покинутой свойственнице!
- Исполню свой долг и - к тебе, - ответила поцелуем Евфимия.
Дворский внёс спящего Ивана в возок. Удобнее усадили Софью. Ядрейко ласково оглядел заменённых коней:
- Добрая четверня! Допрежь испытывал каждого. Не должно быть ошибки. Только бы миновать Стромынь! - успокоил он Всеволожу. - Сгаркну своих из приволжских лесов. Всех ростопчей растопчем!
По Устретенской улице выехали к заставе. Ядрейко внезапь свернул за угол и остановился. Прираскрыв дверцу, сказал Евфимии:
- Утеплись, боярышня, возьми вожжи. Я наперёд пойду. Ты - за мной.
В возке путницы надышали до теплоты. Всеволожа сидела в безрукавой борчатой шубейке. Надела поверх неё шубку ниже колен с пуговками водноряд. Ловко взлезла на козлы. Конюший произнёс похвалу:
- Ах, Евфимия, шубка синяя, сама черноброва, опушка боброва!
Ночи ещё - ни конца, ни края, да от свежего снега светло. Ядрейко уверенно шагал впереди, помахивая боевым топорцем на аршинной рукояти. Слева миновали безлюдную избу-развалюху. Он решительно повернул в бесхозные распахнутые ворота, пересёк большой двор, упёрся в старый заплот из пластья. Несколько топориных стуков - ив заплоте образовалась дыра. Ещё несколько стуков - не дыра, а проход. Взмах рукой: проезжай, мол. И засинел за проходом след полозьев на цельном снегу… Четверня дождалась возницу. Стал на запятки. Велел Евфимии:
- Взъезжай на дорогу далее от заставы. После вожжи перейму.
Ловко атаман объехал охранышей! Должно быть, на московских окраинах он, как рыба в воде. Им-то Всеволожа гордилась, собой-то нет. Коренник оказался урослив. Тянул ближе к заставщикам, где покрепче наст.
- Что же ты, девья мать! - ругался с запяток Взметень.
- Не управилась! - оправдывалась боярышня. А заставщик в седле тут как тут.
- Возок княгини Ульяны Перемышельской следует в подмосковную вотчину, - спрыгнул на снег с объяснениями Ядрейко.
Охраныш оказался не из простых:
- Домодедово, деревня Ульяны, не по Ярославской дороге, а по Каширской.
Заставщики поняли знак старшого, побежали к коням. Тотчас они будут рядом…
Евфимия в сумраке не могла понять, отчего вершник ткнулся в конскую гриву с залитым кровью ликом. Уяснила суть дела, увидев бывшего атамана с пустыми руками. Топорец - на дороге с окровавленным обухом. Так ловко метнуть оружие не смогла бы сама Бонедя!
Ядрейко подскочил к козлам.
- Живей - в возок! Посмотрим, чьи кони дюжистее…
Скачка началась…
- Наконец-то тронулись с места, - проснулась Софья. - Что задержало?
Евфимия не ответила.
- Повторилось во сне недавнее, - начала рассказ бывшая великая княгиня. - Как Митеньке льстил Василиус в Угличе, величал государем. Истину говорит присловье: лесть и месть дружны!
За оконцами нарождался день. Стук по крыше возка побудил приотворить дверцу, высунуться. Ну и вихрь в лицо!
- Достань под сиденьем вервие, - переклонился с козел Ядрейко. - Взлезь на возок, меня не удержит. Нам на руку рассвело. Поарканим!
Пришлось поднимать с сиденья княгиню с сыном.
- Матунька, дай испить, - попросил Иван.
- Чем озабочена? - любопытничала сонная Софья. Конюший тем временем притормаживал.
Когда кони стали, Евфимия взобралась на возок, распласталась головою назад. При ней три мотка вервия. Кони тут же понеслись вскачь.
Опасность заставляла напрячься: доспевала погоня! Велика ль, не определишь. Всего-то два вершника оторвались от своих, с завидным упорством нагоняли Ядрейку. На скаку слали стрелы в возатая. Промахивались из-за плохого прицела.
- Ветер - в помогу! - пожелал атаман Всеволоже. Ветер арканщице был попутным. Она подпустила проворнейшего из двух сугонщиков: голоус, шапка внахлобучку… На эту шапку метнула вервие… Заслужила атаманов упрёк:
- Проарканилась!
Этот упрёк должен стать последним. Под руками - два вервия на двух вершников. Для верности поднялась. Десятым чутьём ощутила стрелу возле уха. Промах! Голоус нацелился сызнова… Не поспел! Вырванный из седла, покатился вальком по белоснежным полотнищам.
Второй уже нагонял. Не голоус - бородач. Стрел не мечет без пользы. Извлёк нож из-за пазухи. Мнит разрезать аркан миг в миг. Взметень с козел подал совет:
- Захлёстывай не грудь - горло!
Изловчилась и… получилось! Отпустила конец захлестнувшего вервия. Бородач ещё скачет, а душа улетела Бог весть куда.
Теперь можно остановиться. Ядрейко задержал для лобызания в лоб.
- Твоей волей мы - не поимыши! Сугон отстал безнадёжно…
В Стромыни, в вытной жаркой корчме, Ядрейко за ковшом браги разглагольствовал о сугонщиках: пока доберутся да переменят коней, он в приволжском лесе «сгаркнет своих» и до Ростова, Ярославля, Костромы, Галича верная обережь обеспечена. Софья, не ведавшая случившегося, кормила сына Ивана, пугливо косясь на двух странствующих монахов за соседним столом. Один другому вещал:
- И сице властодержательный Шемяка, не улучи зло действенные своея мысли, побежа к Углечу…
Сия славянщина означала, что бывший властитель, не осуществив злых замыслов, отступил в свой удел.
- В Угличе я бы соединилась с Митенькой, - сокрушалась на ухо Всеволоже Софья, жалея о решении ехать в Галич.
- Бежа, не мечись, - посоветовала Евфимия. - Разбит ли твой Дмитрий или, упреждая беду, ушёл, супротивники будут его преследовать. Углич к ним ближе Галича.
7
В галицком княжом тереме жил дух Дмитрия Красного. Всеволожа сидела в той самой одрине, где жених подарил ей колтки золотые с яхонтами, где поял её воевода Вепрев, чтоб казнить удушением сеном.
- Плохо, всё плохо, - пришёптывала боярышня.
Размышляла о совершённой ошибке. Лучше бы воротиться в Москву с Ядрейкой. Уж как улещал конюший Ульяны Михайловны исполнить слово, данное свойственнице! Смущённым был лик атамана Взметня. Свои не откликнулись в приволжских лесах на разбойный посвист. Беззащитным двигался княгинин возок от Ростова до Ярославля, от Ярославля до Костромы и далее, к Галичу. Бог миловал от погони, а от засады шишей бывший атаман ведал способы уйти с миром. И вот Евфимия не пустилась в обратный путь. Софья пред ней расплакалась: «Не покидай меня, ясынька! Нет со мной человека, ближе тебя!» Как было ни остаться? Свойственницу надеялась умолить о прощении. Повздыхал Ядрейко: «Судьба нам с тобой, Ефимья Ивановна, чуть что - разлучаться!» И укатил восвояси. Сиди теперь в памятной боковуше, где Дмитрий-любимик не приголубит, Раина - «чесотка да таперичи» - не извлечёт из беды. Уступчивость уговорам всегда бывает добра. Зато зло раскаяние! Нос челядинки сунулся в дверь:
- Государыня кличет. Государь прибыл из похода! Софья своего «Митеньку» ждала ежедень, еженощь.
Наконец пожаловал! Опять примется аркаться с Евфимией! Стрелы будут метать друг в дружку. Поводов выше меры. И всё ж боярышню радовал приезд князя. Теперь Софья не станет её удерживать.
В столовой палате, едва Всеволожа вошла, Шемяка рухнул пред нею ниц… Отступила от неожиданности.
- Фишечка, отжени обиды! Сына сберегла от мук! Жену - от узилища! Нечем отплатить, токмо покаянием. Каюсь: винил тебя в смерти брата Дмитрия. Каюсь: желал тебе тесноты и доиска. Каюсь: опекуны твои всуе лишены жизни. Знаю виновника смерти батюшки…
- Знаешь? - прищурилась Всеволожа. - Кто?
- Головник - поводатарь медвежий, Кузька Кувыря! - объявил Дмитрий Юрьич.
Всеволожа вскинула голову. Гнев отверзал уста назвать заказчика смерти, не исполнителя.
Она стояла лицом ко входу в палату. Между нею и дверью поднимался с колен Шемяка. В двери возник боярин Иван. Не мог он не слышать последних слов. Лик его побелел. Евфимия сомкнула уста. Многожды каялась после. В сей же миг решила по-доброму: мёртвых не воротить. Пусть потерявший дочь не теряет жизни.
Котов опустился на лавку с краю. Боярышня сказала Шемяке:
- Положим давнему дерть. Расскажи про недавнее.
- Углич пал, - сгорбился князь, уперев руки в стол. - Допрежь пришла весть: Москва занята, из Твери к Василиусу идёт Борис, из Литвы - Боровский, подкреплённый татарами. Пришлось отступить без боя. Мыслил остаться в Угличе. Он не пал бы, кабы не пушки. Их подослал Тверской. Окрепы не устояли пред ядрами. Но Ваське Боровскому со товарищи одоление далось нелегко. Принесли мне тело их воеводы Юрия Драницы, выходца из Литвы…
- Юшка! - вскрикнула Всеволожа.
- Он тебе ведом? - спросил Шемяка. Она склонила чело:
- Зело храбр.
- Храбрым подруга - смерть! - подал голос Котов.
- Поведай далее о своих мытарствах, - просила Софья.
- Бежал в Чухлому с Можайским, - перевёл дух Шемяка. - Взял там вязню Витовтовну, отвёз в Каргополь. Старуху допрежь измучила теснота. Потом нас мучили её хвори. Слепец отправил Кутузова со словами: «Брат Дмитрий! Какая тебе честь держать в неволе мать мою, твою тётку? Ищи иной мести, буде хочешь. Я уже на столе!» Ишь, как запел углический сиделец!
- Ужли отпустил ведьму? - спросила Софья.
- А! - махнул рукой князь. - Люди для рати надобны, а тут её стереги! Послал с ней Сабурова Михайла Фёдорыча.
- Что же теперь? - уронила княгиня главу на грудь.
Дмитрий Юрьич глянул на Всеволожу:
- Как мыслишь, Фишечка, что теперь?
- Сказать? - вскинула взор боярышня. - Шесть битв меж вами полыхало в усобицу. На очереди седьмая. Полторадесять лет которуетесь. Виновна Литовтовна с золотым источнем. Ей мало мук! Ну а вы, братья, старший да средний, умники? Век готовы промстить за безделицу. Совесть не говорит худого?
- Веришь? - запальчиво перебил князь и признался: - Не говорит ни гугу! - Внезапь извлёк хартию из-за пазухи. - Чти, грамотея! Пять вящих чернецов ко мне пишут: Ростовский, Суздальский, Московский и Пермский… Совестят, строже некуда!
- «…ты дерзаешь быть вероломным, - читала вслух Всеволожа, - пленяемый честью великокняжеского имени, суетною, если она не Богом дарована, или движимый златолюбием, или уловленный прелестью женскою…»
- Софья! - перебил Дмитрий Юрьич. - Как тебе сие последнее любится: «уловленный прелестью женскою»?
- Вздор! - возмутилась княгиня. - Не к чести епископов сии вздоры!
- «…именуешь себя великим князем, - читала далее Всеволожа, - и требуешь войска от новгородцев, будто бы для изгнания татар, призванных Василием и доселе им не отсылаемых. Но ты виною всего: татары немедленно будут высланы из России, когда истинно докажешь своё миролюбие»…
- Вот оно как! - возопил Шемяка. - Признались, что отпрыск Витовтов наводнил Русь татарами. А то «клеветник», «наветчик»! Теперь, выходит, не клеветник, зато сам причина засилья татарского на Москве! Каково вразумление? Ложь соседствует с полуправдой…
- «…не возвратил ни святых крестов, - продолжала боярышня, - ни икон, ни сокровищ великокняжеских»…
- Будет! - отобрал лист Шемяка. И обратился к Котову: - С чем пришёл, Иван? Увлеклись мы, тебя забыли…
Боярин встал:
- Весть худая. Под Галич идёт великий князь на осад!
Шемяка сжал кулак, хрустнул пальцами:
- Эка, великий князь! Фёдор Галицкий уже здесь?
- Жив и благополучен.
- Пусть всех местичей забирает в войско. Выступим лоб в лоб.
Котов истиха возразил:
- По городу и по башням караул держать будет некому.
- Осадным головой назначаю Ватазина, - пропустил возраженье Шемяка. - Пусть ведает всю засаду в кремнике. Пусть найдёт, где покрепче дворы и домы для сидения осадного. - Тут он заметил немотствующих в ратном совете женщин. - Иди, Софья, к сыну. А ты, Фиша, - к себе. Жди со мной беседы.
Боярышня не осталась в своей одрине. Облеклась в шубу-бармиху, вышла отдышаться на гульбище.
День был ясный. Мороз пощипывал, снимал вялость с лица. Снизу поднимался несграбный грек в ватном колпаке и коротком жупане. Стрелки усов заиндевели. Глаза смеялись. Сколько ни приходилось с ним говорить, вспоминая свои познания в греческом, он всегда был весел. Хотя судьбину на Руси обрёл неприветную. Позванный из Царырада здатель угодил в московскую смуту. Не обновлять Успенский собор в Кремле, а скитаться с Шемякой досталось ему на долю. Незадачливый властелин не оставил в Москве иноземного мастера, всюду возил с собою.
- Здравствуй, Феогност! Хорошо ли гулял? - сделала лёгкий поклон боярышня.
Прибывший с Котовым две седмицы назад, грек уже изрядно знал Галич.
- О! - воскликнул он. - Смотрел с башни церковь святого Леонтия.
- Что увидел с такой высоты? - спросила Евфимия.
- Чешую на куполах, - удивил её Феогност. И вынул из-под полы жупана длинный зрительный снаряд. - Вот!
У боярышни захватило дух. Очи увлажнились. Вспомнила Мамона. Вернула трубку.
- Константинополь! - мечтательно ушёл взором ввысь Феогност. - Наши мастера! Память о Родине! Посмотри, посмотри!
Всеволожа отрицательно повела головой, спрятала руки за спину.
Грек по-своему понял, почему она отказывается поднесть трубку к глазам:
- Мороз! Глаза не видят от слёз! Холодна ваша страна!
Распрощавшись с мастером, Всеволожа увидела идущего к ней Акишку, княжого отрока, и с облегчением перешла на родной язык:
- Что стряслось, Акинфий?
- Фефиния! Государь бушует в твоей одрине. Кричит: «Орись-недарись!»
- «Ори, не доорись!» - поправила боярышня. - А я не Фефиния, а Евфимия.
- А я не Акинфий, а Иоакинф! - на выпад выпадом отвечал колкий отрок.
Шемяка сидел на её одре, ероша густые волосы, заиндевевшие вовсе не от мороза. Даже не спросил, где была, сразу приступил к делу:
- Сядь рядом, Фишка, и слушай…
- Всю жизнь прошу: не называй меня Фишкой! - возмутилась Евфимия.
- Заутра выхожу встречь Стриге-Оболенскому, - пропустил её слова мимо ушей князь. - Васильева рать с татарами близко. Слепец - позади. Доверился воеводе. Что ж, померяюсь силами с Ванькой Стригой. Только что ободрял галичан. У нас пускачи, ещё батюшкою оставленные.
- На пушки надеешься, - без воодушевления произнесла Всеволожа. - А ежели у Стриги пускачи ломовые? Втиснет в крепость, начнёт ломать стены…
- Сметливая ты! - похвалил Шемяка. - Не зря под Белёвом Голтяев превозносил тебя. Я, думаешь, не опасаюсь осады? Вижу, не отсидимся. Потому пришёл с просьбой: взойди на стену. Увидишь их одоление, бери Софью с сыном. Кличь Акишку-отрока. Он знает из кремника подземный ход. Выведет в овраг. Станьте на лыжи. Выйдете к деревне Мушкина гора. Там - возок с крепкой обережью. Оттуда зимним путём через Вологду и Устюжну - в Новгород. Улица Даньславлева. Софья знает.
- Я тоже знаю, - сникла Евфимия.
Шемяка удивлённо хмыкнул и пошёл из одрины. Его занимал предстоящий бой.
- Всякая ссора мировою красна! - выскочила вслед Всеволожа.
Князь, полуоглянувшись, сказал:
- Кобыла с волком мирилась, к дому не воротилась!
Воротится ли нынешний галицкий полководец? Княж терем притих. Запёршись у себя, Софья ревмя ревела, предчувствуя страшный конец. Феогност попадался на глаза в невозмутимом спокойствии, мурлыкал по-гречески песнопение: «Агиос, офэос…» Акишка-отрок при встречах взглядывал на Всеволожу, как заговорщик. Однажды столкнулась с Котовым. Он истиха молвил:
- Мы среди недругов.
- Тебе ль ровняться со мной? - осердилась Евфимия.
Послужник Василиусов удалился.
Просьба Шемяки приводила в отчаянье: теперь не покинуть Галича! На ней Софья с сыном. Днём довелось трапезовать в обществе тиуна Ватазина. Князь не поспел к столу, устраивал воев. Софья не вышла, сослалась на главоболие.
- Эта битва станет последней, - сказал Ватазин.
- Последней, - согласилась Евфимия, - если вы будете под щитом.
Тиун поперхнулся ухой, смолчал. Утром, чуть рассвело, к боярышне постучал Акинфий:
- Они идут!
Опрянувшись, Всеволожа позвала Софью взойти на стену. Та отказалась. Сопровождал боярышню Феогност со зрительным снарядом.
День занимался солнечный, ясный, как на заказ. Евфимия разглядела чёрные движущиеся пятна в белой дали, однако не различала, что там творится.
- Хочу всё видеть, - сказала по-гречески.
- Возьми, - отдал Феогност свою трубку. Волшебные стекла показали начало рати. Стройно и бодро приближалось московское войско к Галичу. Шемяка стоял на крутой горе над глубоким оврагом. Приступ был труден. Москвичей больше, у галичан место выгоднее. Они неподвижно ждали, пока неприятель от берегов замерзшего озера медленно двигался по берегу. По левую руку - лес. Всеволожа представила: оттуда мог наступающих опрокинуть засадный полк. Нет, лес не обрушил в овраг засады. Видно, Шемяка счёл: москвичи и татары достигнут горы утомлённые и расстроенные. Легко их смять свежими силами. Всеволожа наблюдала с тяжёлым сердцем, как свои идут на своих. Вот наступающие - у подножья горы. Дружно, лихо, по-муравьиному, устремились на высоту. Задние подпирали передних. Едва вскарабкались первые, на них мощно ударили галичане. Вой смешались. Какой там ад! Татарские малахаи не видны. Они под горой. На что им в чужом кровавом пиру похмелье! Пусть россияне переколотят друг друга. Потом грабь мёртвых, добивай недобитых… Вот бегут галичане. Их уж не остановит ничто. За спиною - смерть, впереди - надежда! Евфимия вернула Феогносту снаряд, поспешила вниз.
Акишка ждал у чёрного хода. Софья с сыном готовы. Осталось одеться в верхнее, тёплое. Княгиня подняла бледный лик:
- Плохо?
- Уходим! - торопила боярышня.
С тихим плачем шла Софья к смотровой башне.
- Туда? Под землю? - тряслась она.
- Что страшит под землёй? Софья Дмитриевна! - недоумевал Акинфий.
- Тартар! Там он ближе, - медлила княгиня. - Мразкое подземельное место!
- Мату-у-у-унька! Не хочу в тарта-а-а-ар! - заревел Шемячич.
- Возьми его, Иоакинф, ступайте вперёд, - велела Евфимия. И обратилась к Софье: - Чего пугаешься?
- Духа, - пролепетала княгиня. - Изыдет из человека нечистый дух, проходит все подземельные места, смотрит, ищет себе покоя и… и не обретает!
- Боже правый! - почти в полном мраке поддерживала подопечную Всеволожа. - От каких глупых бабок набралась ты подобных врак в глухом своём Заозерье!
8
Отошла обедня в Святой Софии. Евфимия приложилась ко кресту, пошла к выходу с горькими думами. Тезоименник её, архиепископ Евфимии, вновь обличал на проповеди злодеянья Шемяки: крамольник захватил Устюг, приводит добрых людей к противозаконной присяге. Не желающих изменить великому князю Московскому бросает в Сухону, навязавши камень на шею. Святитель называл имена казнённых: Емельян Лузсков, Мина Жугулев, Давид Долгошеин, Евфимии Ежевин… Последний исхитрился освободиться от камня, выплыл по течению много ниже, свидетельствовал о злодеяниях.
Боярышне удалось втулиться в проход, образованный для вящих людей, дабы не в толчее, по достою покидали главную святыню новгородскую. Она узнала среди лучших гражан двух старост Неревского и Плотницкого концов, непременных витий на вече, Федоса Обакумовича и Кирилу Есиповича. Даже строгость собора не могла сдержать говорунов. Чем ближе к дверям, тем говорили громче.
- Преосвященный корит нас за покровительство Дмитрию Юрьичу и его семье, - басил Федос Обакумович. - А мы надеемся через то иметь более средств к обузданию князя Московского в его самовластии.
- Истинно так, - соглашался Кирила Есипович. - Не помогаем Шемяке, однако же не мешаем…
Выйдя на паперть, Евфимия увидала толпу на площади. Над скопищем застывших голов возвышался чернец в скуфейке.
Сдержанные голоса звучали вокруг боярышни:
- Кто?
- Клопский.
- Тише! Не слышно, что вещает блаженный…
Вспомнился именитый юрод на колокольне в отсвете пожара. Михаил Клопский! Родственник князя Константина Дмитрича. Прорицатель и чудотворец.
Всеволожа впиявливалась в толпу, невзирая на недовольство. Вот она близко от возвышения, на коем стоит монах. Речь хорошо слышна:
- Лучше смерть, нежели зол живот!.. Не бойтеся смерти тела, бойтеся смерти духа… Дух грехомыги сгорел в страстях. На смерть, что и на солнце, не взглянешь. Грехомыга же взглянет! Почин его чёрной жизни - во властолюбной Москве, конец - в Господине Великом Новгороде!
- Карачун предсказывает старик. Кому? - спросил татарский гость в малахае заволоцкого купца в куньей шапке.
- Я понимаю так, - солидно отвечал тот. - Блаженный сулит смерть Шемяке, изгою московскому.
Кареть ждала вне кремля. Опять ехать на Даньславлеву улицу! Полгода на берегах Волхова тяготили всё более. Скорее бы возвращался Юрьич, дабы ей отъехать в Москву! Порушенное слово, что давала Ульяне, - камнем на совести!
Софья тоже ждала супруга. Затворилась в одрине. Не умолишь высунуть носа на улицу. Евфимия ж только в городе - в храмах, на стогнах, в торговых рядах, - ловила вести из родных мест. В старом скрипучем доме ничего нового не узнаешь. Однажды, ещё зимой, наведался боярин Никита, что поймал у Троицы законного государя. Привёз малую епистолию от Шемяки. Жаловался княжне с боярышней: Василиус, возвратясь в Москву, отнял у Константиновичей дворы на Чудовской улице. Отныне и сам Никита, и братья Иван и Пётр - скитальцы бездомные. Ещё рассказал о том, что творилось в Галиче по взятии его войсками московскими. Жутко звучали слова боярина: «А побитых во граде многое множество! Не было где ступить, дабы не потоптать мёртвых. По улицам из тел сложили костры, как башни. И лежали со стенами градными ровно!» По отъезде Никиты дом до сей поры без гостей. Всеволожа устала от стонов Софьи, хныков Шемячича. С Акинфием не разбеседуешься. Вот и слушает городскую молвь, молясь да гуляючи.
Месяц назад преосвященный Евфимии, воротясь из Москвы, поведывал после службы о новом татарском нашествии. Сын Седи-Ахмета Мазовша, царевич Синей и Ногайской орд, пришёл к Василиусу за данью. Государь вверил столицу Ионе, впервые поставленному в митрополиты не Патриархом Царьградским, а Собором иерархов Российских. Сам же, по обычаю, удалился за Волгу собирать силы. Татары зажгли посады. Стояли жары и сушь. Густой дым с огнём несло ветром на Кремль. Вой на стенах, осыпаемые искрами, головнями, задыхались, не видели ничего, пока посад не испепелился, огнь не угас и не прояснился воздух. И всё же тащили пушки к бойницам, настораживали самострелы, вооружались пищалями. Первый приступ отбили. Заутра ждали второго. Готовились умереть. Всю ночь святитель Иона молился перед Владимирской Богоматерью. Утром Мазовшин стан оказался пуст. Поятый «язык» сообщил: за полночь в лагере слышался необычный шум. Похоже было, сам князь московский возвращается с большим войском! И убежал царевич. Спасённые вознесли молитвы своей Владычице.
В тот раз Всеволожа возвращалась в постылый дом просветлённая. Нынче сердце в неиспокое: филиппики владыки на новгородцев, пророчество Михаила Клопского преисполняли страхом.
Отрок Акишка радостно встретил у ворот:
- Господин воротился!
Едва переоблачилась, позвали к трапезе. На пути к Столовой палате в сенях столкнулась с Дмитрием Юрьичем. Чуть старше её, а сед, морщинист, будто бы за полжизни прожил всю жизнь.
- Фишечка! Наконец я с вами! - обнял изгнанник другиню детства. - Многим тебе обязан. За всё воздам. Ступай к столу. Софья там. Тотчас буду, только опрянусь полепше…
Княгиня похаживала у стола без сияния, словно радость не в радость.
- Что с тобой? Муж вернулся! - удивилась Евфимия.
- Ах, ясынька! Он без меры весел. А ведь сам-друг от врага прибег. Веселие под щитом - не к добру.
Вошёл князь, потирая руки.
- Голоден, аки зверь! Почитай, день и ночь - в седле. А в пути еда, что в огне пенька - пых! - и нет…
Подали холодное. Княгиня нежданно тоже показала позыв на пищу.
- Не облизывай персты! - рассмеялся Юрьич.
- Вкусно, - молвила Софья.
- Мастера привёз, - хвастался Шемяка. - Котов отыскал. Ух, кухарничает!
- Феогност с тобой? - спросила Всеволожа, вспомнив грека при слове «мастер».
- Феогност? От простуды помер, - помрачнел князь. - На студёной Кокшенге, в дальнем из городков. Север не для южанина. Я был гоним на север.
Женщины примолкли за трапезой. Глянув на них, Юрьич снова повеселел:
- Нет, я не под щитом! Мните, побегу в Литву, как Иван?
Кухарь в белом колпаке собственноручно подал горячее: вытно пахнущую запечённую курицу.
- Можайский в Литве? - спросила Евфимия.
- Где же ему ещё? - отломил князь курячью ногу. - Покинул меня в злосчастии, стал служить Василиусу. Ан, не выслужился! Шёл на Москву Мазовша, Ивану велено было не пропускать его за Оку. Сей малодушный промедлил. Да не горюет! Мне достоверно ведомо: Иван через тестя ссылался с Казимиром Литовским. Просил помочь занять стол московский, пока мы с Василиу сом делим его.
- Просил через тестя? - удивилась Евфимия. - Ужли Иван женился?
- Женился рак на лягушке, - усмехнулся Шемяка. - Взял дочку князя Феодора Воротынского, что на пограничье. Аграфена Александровна, литвинка, благословила.
- Воротынский… Пограничье… - пыталась представить Евфимия.
- Где-то возле Одоева, - сказал Юрьич. - Там не поймёшь, чьи земли, литовские, наши ли. Одоев поделён надвое. Одной половинкой владеем мы, другую удержал Казимир. Так вот, Иван обязался за помощь писаться перед ним младшим братом, отдать Медынь, Ржеву, не требовать возврата Козельска, помогать супротив татар. Теперь пригрет, как изгой. Нет, я не ищу иноземных кормлений. - Шемяка вгрызся в курячью ногу. - Завтра буду иметь речь с посадником степенным Михайлой Тучей, пошлю к вятчанам… Не пойму, мнится ли, вправду ли, каких-то горьких пряностей переложил кухарь. Как, Фишка, тебе курица? Тебе, Софьюшка?
Та и другая доели блюда, слушая его, оставили одни кости.
- Перца переложил, пожалуй, - предположила Софья.
Шемяка обглодал и вторую ногу. Взялся за крыло.
- Нет, я не под щитом! Я ещё… я, - вдруг поперхнулся он, резко встал, пошатываясь.
Женщины всполошились.
- А… А… - Князь посинел, на устах появилась пена.
Он рухнул навзничь, опрокинув скамью. Софья бросилась к нему с криком.
- Кровь! Горлом кровь! - взывала княгиня к помощи.
Евфимия позвала что есть мочи:
- Люди!
Сгребла все платы камчатной ткани для утирки за столом, поспешила к Софье. Вбежал Акинфий.
- Лечца немедля, - приказала боярышня. - Кухаря схватить! Здесь ли Котов?
- Был, - таращил глаза Акишка. - Где-то, должно быть, в городе…
Отирали бороду, усы, грудь. Платы очервленели. Толку не было.
- Со… фью… шка! - с трудом вымолвил Дмитрий Юрьич. - Я… под конём!.. Достал!.. Тебе… в Псков… с Ваней. Там Чарторыйский - друг! А потом… в Литву.
Челюсть отвисла, рот отверзся сверх меры, взор омертвел.
- Ещё хоть словечко!.. Словечко! - приставала к упокоенному княгиня.
Явился лекарь. Домочадцы увели Софью. Акинфий сообщил: повар «испарился, аки вода в котле». Боярина Ивана ищи-свищи! Ведь Новгород… Великий! Лечец определил окорм, изрёк по-латыни три слова. Всеволожа не знала их и не стала у иноземца выспрашивать.
Дом погрузился в плач, в причеть. Прибывший вскоре Никита Константинович взял управление погребением.
Погребли тихо. Тризновали недолго. Никита вызвался сопроводить княгиню с сыном до Пскова. Передать под крыло друга Шемякина, Чарторыйского, вновь принятого псковичами воеводой.
- Едем со мною, ясынька! - уговаривала боярышню Софья.
- Нет, - твёрдо ответила Всеволожа. - Нет!
- Что тебе на Москве? Туги, да печали, да, того гляди, ещё худшее.
- Что мне на чужбине? - возразила Евфимия. - Горе вдали от родных могил!
Так и простились, плача, осеняя крестом друг друга.
Всеволоже предстояло провести последнюю ночь в пустом доме. Завтра найдёт попутчиков, покинет берега Волхова. За окном золотится трёхглавие церкви святого Василия. Отзвонили с вечерни. Вот и солнечный блеск на луковичках под крестами погас. Во дворе пьяный сторож разглагольствует с кем-то. Обнял воротную верею. А кто с ним в дорогом кобеняке?
Тишина-а-а… Осиротевший дом не скрипит. Евфимия затворила оконце, села на одр, погрузилась в думы.
Вдруг - топ, топ, топ, топ… Ей, храбруше, сделалось страшно. В дверь постучали.
- Кто?
Вошёл Иван Котов.
- Ты?
- Не гони, Евфимия Ивановна. Выслушай, тогда выгонишь.
Боярышня поднялась с одра.
- Мне ли слушать? Какие речи? - сбивчиво начала она. - Выдать бы тебя приставам. Не сыскали хоря в курятнике.
- А хорь-то не без души, - приближался Котов. - Наложил бы на себя руки, а душу жалко. Сам бы повинился пред палачами, а с душой как же? Она не отмолена, неотчищена. Пред кем ей предстать? Пред дьяволом?
- Ты ли мыслишь о Боге, грешник! - возмутилась Евфимия.
- Дочка, поточка, упрекала в том же. Приход к тебе это - к ней! Не отвергай окаянного, поступи по-Божески. - Боярин стал на колени.
- Почему я? - Евфимия сделала шаг назад. - Зачем ты ко мне?
- Больше не к кому, - сказал Котов.
- Сызнова самочинствовал? Мнил ударом покончить смуту? - тряслась от гнева боярышня.
- Ах, на сей раз не сам, - оправдывался Иван. - Всё по слову государеву на сей раз.
- Лгач! - отвернулась Всеволожа.
- Вот крест! - не вставал он с колен. - Прибыл из Москвы дьяк Степан Бородатый. Велел: пора! Вот я и…
- Ты и…
- Подговорил кухаря, - завершил признание Котов.
Евфимия вспомнила Василиусов змеиный шип: «Велю очи выняти!» Представила его наказ Бородатому: «Велю окормити!» Опустилась на одр, спросила:
- Что тебе от меня, боярин Иван?
- В обитель хочу, под куколь, - стоял на коленях Котов. - Есть в трёх вёрстах от Боровска на реке Истреме Пафнутиев монастырь. Основал его внук баскака Батыева, нареченного в крещенье Мартином. От сына Мартинова Иоанна родился Парфений, в иночестве Пафнутий. Был отшельником в пустыне, основал обитель, игуменствует по сию пору. Страшусь один не дойти. Подай дочернюю руку, сведи к Пафнутию. Не отними надежду у души грешника.
Евфимия собрала силы и протянула руку:
- Встань, боярин Иван. Он встал:
- Бог тебе воздай! Завтра едем. В пути будем становиться на станах, в крепких лесных и караул истых местах. А тебе - ей, ей! - Бог воздаст.
9
Наконец вырвались из леса. Езжалая дорога устремилась из просек широкой росчистью в голубую даль. А вдали замаячил шатровый верх, взгорбились хоромные крыши… Пафнутиева обитель! У Евфимии отлегло от сердца.
Мольбы Котова сопроводить в монастырь были поняты боярышней, как поиски несчастным подпоры в трудном пути. Крытая повозка, им нанятая, куда как скромна: никакой долготерп не снесёт её неудобств. Всеволожа слова не молвила: назвалась груздем, полезла в кузов. И вот на первом длительном постоянии, в селе Середокорытна, не доезжая Твери, где пришлось задержаться на целое нощеденство (перековка коренника, починка колесней), она случайно подслушала речи Котова на съезжем дворе. Говорил он с попавшимся встречь знакомцем, едущим в Новгород.
Оказывается, боярин Иван едет вовсе не в монастырь, а в свой, то есть бывший Евфимьин, кремлёвский дом. Не по скрытности это сказано, а взаправду, ибо взял поручение у приятеля к его московским родным. Боярышня пришла в замешательство, а после - в великий гнев. Тяжёлый был разговор, коего лучше не вспоминать. Условились, не заезжая в Москву, околёсно прибыть к Боровску. За Дмитровом же, ночуя в деревне Инобаш, Евфимия, дрогнув, проснулась от возни на дворе. В открытое оконце узрела: боярин Иван с возницей седлают Каурого из четверика. Опрянулась, выскочила, услышала: Котов решил от неё бежать! Новый встречный за вечерей поведал: подьячий Василий Беда, сын Фёдора Беды, изгоном привёз государю из Новгорода весть о смерти Шемякиной и пожалован за то в дьяки. «Боярин Иван за то же достоин наищедрейшего жалования!» - сообразила Евфимия. Он, оправдываясь, божился: не грешный соблазн подвиг на побег. Смалодушествовал, и только. Ведь от мира уйти, что руки на себя наложить. Желание благое, исполнение тяжкое… И вновь ехали к чудо-старцу Пафнутию. Далеко огибали притяженье Москвы. На всех постояниях, в деревнях Негуча, Черноголовль, Гордошевичи, Добратинская борть, Берендеева слобода, Евфимия, не смыкая очей, караулила подопечного. Сил не стало долее нести послугу. Наконец-то Пафнутиева обитель!
Перед ними высокий бревенчатый храм, воздымающий к Небу единственную главу над шатром. За ним - тесовые кровли служб из-за низкой дубовой стены и ворота с калиткой опять же под шатром, под увенчанной крестом главкой. Покоем и благостью веет от сих строений. Жить бы в такой тиши!.. А уединенье навек? Отреченность от мира? Оглянулась Всеволожа на Котова - грешный взор испуган!
У открытой калитки - четверо чернецов. Трое молодых, один старец. Белый, как лунь. Усы длинные, бородка короткая. Любовались, должно быть, речкой в травяных берегах, отражающей солнечное золото вечера, а за ней - хвойным лесом, тоже золотым, но таинственным, не откровенным, как речка. Узрели повозку, обратили внимание к покинувшим её путникам.
- Я… туда… не пойду! - Котов побелел, как саван.
- Я пойду! - заявила Евфимия. - Скажу, ищешь иночества.
- Пойди, - согласился он. - Мне ещё не в измогу. Сотрясаюсь борьбою внутренней. Ты пойди и скажи…
Боярышня направилась к старцам. Оглядывалась на Котова, дабы не отъехал внезапь. Он стоял, как каменный. Шаг за шагом внятнее становились голоса иноков. Расслышался ответ старца одному из учеников:
- Се человек, желающий стать монахом, дабы очиститься от пролитой крови.
- Чью пролил он кровь? - спросил инок. Старец сказал:
- Сей человек князя Дмитрия Шемяку отравою уби…
Евфимия решительно подступила и сложила ладони:
- Авва Пафнутий, благослови! - Получив благословенье, примолвила: - Воистину ты святой. Ничто перед тобой не сокрыто.
- О, дево, не вещай выспренне, - улыбнулся старец. - Юный Иоасаф Каменский из рода князей Заозёрских, зрящий свой скорый и ранний исход из жизни, - вот кто подлинно свят. Благодать, обитающая в нём, возносит юношу на крыльях молитв в селения райские. Однажды он созерцал Церковь первородных, о коей апостол Павел писал, как о торжествующем соборе во граде Бога живаго, о церкви первенцев, отмеченных небесами, средь сонма Ангелов и духов праведников, достигших блаженства. Видевший сие Иоасаф причастился там пищи Боговедения, стал чуждаться вещественной еды на земле, лишь по воскресеньям вкушает хлеб после приобщения Святых Тайн и сызнова постится седмицу.
Пока говорил Пафнутий, Котов сам подходил к нему.
- Отведи его, Косьма, - обратился старец к ученику. Евфимии же предложил: - Отстой вечерню в нашем храме Рождества Пресвятые Богородицы и ступай своим путём.
Когда Котова уводили, он бросил на Всеволожу прощальный жалобный взгляд.
Благовест к вечерне невесомой ангельской ступью пошёл окрест: воспарит и опустится, воспарит и опустится…
Евфимия вошла в храм. Богомольцев было немного. Предстоящие в основном - под куколями. Впереди, у правого клироса выделялись шёлковыми ферязями несколько удельных болярцев, да рядом с нею крестились и кланялись две странствующие монашки, сбирающие пожертвования.
Всеволожа под звуки службы отрешилась от преходящих дум, сосредоточилась, стала творить молитву:
«Рассуди меня, Господи, ибо хожу в непорочности и, уповая на Бога, не поколеблюсь. Искуси меня, Господи, испытай меня! Расплавь внутренности мои и сердце моё, ибо милость Твоя перед очами моими. Всегда в истине Твоей пребываю. Не сижу с людьми лживыми и с коварными не пойду. Возненавидела сборище злонамеренных, воспылала обличением к нечестивым. Омою руки в невинности, припаду к жертвеннику Твоему. Не погуби души моей с грешниками и жизни моей с кровожадными. Их руки в злодействе, десница в лихоимании. Избавь от них, Боже, и помилуй меня. Нога моя да стоит на правом пути! Господь - свет мой и спасение моё. Кого убоюся? Господь - крепость жизни моей. Кого устрашуся?..»
Служба подходила к концу. Вот старенький иеромонах прочитал Отпуст. Стали подходить ко кресту. Евфимия, как мирянка, постаралась примкнуть к болярцам. Один из них глянул на неё…
Сошла по шатким ступенькам паперти, блюдя осторожность. Увидела удельных - кучкою у калитки. По виду главный стоял наособь. Подняла взор, когда он преградил путь:
- Теперь-то не сомневаюсь, Евфимия Ивановна. Тебя вижу!
То был Василий Ярославич Боровский. Боярышня склонила голову и зарделась:
- Здрав буди, князь Василий!
- Не окажешь ли честь принять тебя? - несмело попросил Ярославич.
- Окажу, - улыбнулась Евфимия и последовала за ним.
Князь отдал людям коня. При нём не было кареты. Сам и окружение - вершники. Потому пришлось ему влезть в неказистую, пыльную с дороги котовскую повозку.
- Неслично тебе со мною, князь. Поезжай-ка в седле. А я в одиночку - следом, - протестовала боярышня.
Он молча отверг протесты и водворился рядом.
- Через три версты - мой Боровск. Покуда рассказывай. Расспросы о тебе на Москве - без пользы. Как будто никто ничего не ведает.
- Кому ж ведать? Была вдали, - начала исповедь Всеволожа.
Князь превратился в слух. Не перебивал вопросами. Она говорила, как на духу. Пусть злоязычат Василиус и Можайский в насмешках над давними воздыханиями по ней Ярославича. Сей князь не в пример другим. Он неизменно добр. В нём хочется видеть близкую душу. Так оно и есть. В лице Ярославича, как в зерцале, отражались все злоключения, о коих она поведывала.
Боярышнина повесть окончилась прощанием с Котовым. Князь не успел отозваться ни словом. Повозка остановилась. Их ждал перевоз через реку Протву. Сошли на паром. В небе обозначились звёзды. Река играла последними угольками зари. Райская явь, кабы не конский пот да запах назьма.
Вот и Боровск, затыненный, тесовый, бревенчатый. Кирпичный храм. Опустелый Торг. Княж терем под закоморами.
- Зело красен твой терем! - похвалила Евфимия.
- Велел палаты покрыть в два тёса, - по-хозяйски сообщил князь. - Промеж тёса - скалы с подзорами, закоморы над верхними окнами по угожеству.
У красного крыльца во дворе он представил боярышне своих ближних:
- Дружинники! Верные боярские дети. Были со мной и под Угличем, и под Галичем. Самый юный - Володя Давыдов. Лука Подеиваев, умудрённый годами. Урядливый на послуги Парфён Бренко…
- Лик твой, боярин, чем-то мне памятен, - обратилась Всеволожа к последнему.
- Муром. Столовая палата воеводского дома. Оболенский и Ряполовские, - чётко, исчерпывающе напомнил Парфён.
- А, ты был послан князем Василием сообщить угрозы Шемяки, - вспомнила боярышня. - Благодаря тебе великокняжичи спасены.
- Малые государи Иван и Юрий спасены благодаря тебе, Всеволожа, - скромно отвёл похвалы Бренко.
Пошли в терем. Боярышне определили одрину, поел ужницу и всё, надобное после длительного пути.
Когда послужница Дарья ввела в трапезный покой, князь там был один. Гостье предложил:
- Дозволь призадержать трапезу? Представил тебе споспешников. Дозволь, представлю детей?
- Рада лицезреть и большого, и малых, - откликнулась всей душой Евфимия. - И супругу твою, княгинюшку…
Ярославич резко пошёл вперёд, повёл по переходам и пряслам.
В дальней боковуше постучал в дверь. Вошли. Пред боярышней будто из её детства вышел отрок, сын Ярослава Владимировича, вжимавший голову в плечи под указкой её отца…
- Поздравствуйся, сыне: боярышня Всеволожа. Другиня детства. Вместе учились грамоте, - представил гостью Боровский.
Отрок отвесил поясной поклон:
- Будь здрава, боярышня! По добру ли доехала?
- По добру, - залюбовалась им Всеволожа. - Ишь, рослый, весь в батюшку! - Взяв с поставца книгу, приблизила к свече. - Умник! «Пролог» читаешь…
- Перейдём к младшим, - предложил князь. - Их Дарья готовит на опочив.
В верхнем прясле дворца вошли в ложню с изображением лисицы и зайца на двери, вырезанных по дереву и раскрашенных.
Первой входила гостья.
Погодки, мальчик и девочка, стояли в маленьких ложах, держась за деревянные спинки. Обое воззрились на вошедшую. Глазки расширились. Девочка приоткрыла рот. Мальчик опередил её:
- Мама?
Всеволожа попятилась, выскочила за дверь. Услышала два детских голоска вместе:
- Мама?.. Мама?..
- Не ставь во грех, Евфимия Ивановна! Ой, не поставь во грех! - умолял трясущийся Ярославич. - Матерь два года тому преставилась. От деток скрываем: мол, отъехала до поры. Вот-вот-вот-вот воротится… Лушечка лучше помнит. Кснятка был ещё мал. Он первый и… Не обессудь деток!
Всеволожа без слов устремилась в ложню, крепко обняла Кснятку, а потом Лушечку. Два тельца прильнули к ней. Князь заглянул и вышел. Когда объявилась Дарья, боярышня удалилась.
Трапезовали вдвоём. Гостья спросила:
- Где же твои друзья?
- Отпустил, - сказал князь. - У каждого - жена, дети.
Сызнова молчание.
- Что глядишь столь пристально? - удивилась Евфимия.
Ярославич поднялся из-за стола. Клюквенный взвар с заедками - последняя перемена, трапезе конец. Гостья тоже поднялась.
- Гляжу, всё такая, - тихо сказал Василий. - Как и тогда, на занятиях с твоим батюшкой.
- Лестливые слова, - вздохнула Евфимия.
- Мыслишь, завтра - на Москву? - спросил князь, как бы страшась ответа.
- Дала слово свойственнице: вернусь. Задержалась вот… Известные тебе события! - ответила Всеволожа.
- Говорил ли я? Нет, запамятовал, - тянул речь Ярославич. И по кратком молчании объявил: - Вдова Владимира Васильевича отошла в мир горний.
- Как? - воскликнула Всеволожа. - Ульяна? Её больше нет?
- Два месяца, - поник князь.
От такого удара боярышня замерла. Привыкла: войдёт в старый дом, объяснится с Ульяной Михайловной, тяжело объяснится, а всё же благополучно. Заранее отложила в памяти пригожие, убедительные слова. И вдруг - нет княгини! Всю землю обойди - её нет.
Вдругожды осиротевшая спохватилась: надобно говорить с хозяином терема, держаться перед ним по достою. Взглянула: смотрит на неё тот самый маленький княжич, трущий перстами лоб, что на строгий вопрос учителя Ивана Дмитрича о значении «счастного колеса» робко отвечал: «Счастное колесо»?.. Его же латины нарицают «фатун» и «фуртуною»…»
Внезапь подошед, ведатель «фуртуны» подал ей руку:
- Евфимия Ивановна, выдь за меня! Ко времени не сказал сих слов. Ныне произношу. Коль тебе не противен…
Она мгновенно вернулась из детства в зрелость и приняла его руку:
- Ты? Мне? Противен? Вернейший из детских друзей! Единственный - без толики зла? Мне ль за тебя не выйти? И Кснятке с Лушей не понадобится сызнова сочинять про отлучку матери.
- А я страдал об этом, когда ты давеча вернулась к ним в ложню и приласкала сирот.
Князь трепетно припал губами к руке Евфимии.
10
В огороде у колыхалок боярышня сидела с отроком Иваном Васильичем, будущим своим пасынком. Кснятка и Луша покачивались на висячей доске. Князь отлучился в Москву обустроить кремлёвский дом для свадебной каши. Иван расспрашивал Всеволожу о рати с татарскими царевичами под Суздалем:
- Ужель ты скакала на боевом коне и ратовалась мечом?
- Так распорядилась судьба, - неохотно вспоминала Евфимия. - Возложила на меня мужескую обязанность.
- Страх и девицу может превратить в мужа, - пробормотал Иван.
Она видела его ревность к памяти матери, чувствовала истоки тех тугих отношений, что сложатся у княжича с мачехой. И смолчала, ища пригожие подступы к насторожённому юноше. Знала: между отрочеством и юностью человек проходит тонкою коркой льда. Бережно надо его поддерживать, дабы лёд не сломался, идущий не рухнул в непоправимое.
- Мама, прими к себе, устал на доске сидеть, - попросился на колени Кснятка.
И Луша следом тянула руки. Иван хмуро встал со скамьи. Тут же лик его прояснился:
- Батюшка воротился! Вон, яблоко достал с верхней ветки. Жуёт, а хмурится.
- Должно, попался плод кислый, - предположила Евфимия.
Подошёл князь, коснулся невестина лба губами, приобнял сына.
- Отведи детей в терем, Иване, оставь нас на малое время.
Когда княжич с детьми ушёл, Василий, подсев к боярышне, понуро признался:
- Не так всё гладко, как мыслилось. Надобно переменить кое-что. - Всеволожа ожидала, не понимая. Он объяснил спокойнее: - Был у Василиуса. Государь подтвердил новой грамотой свои мне пожалования: Боровск, Серпухов, Лужу, Хотунь, Радонеж. Присовокупил Перемышль. Грамоту скрепил своей подписью митрополит Иона.
- Так слава Богу! - оживилась Евфимия. - Что мрачит твою радость?
- Государев отказ, - совсем понурился Ярославич.
- В чём отказ? - допытывалась боярышня.
- Эх, - сжал кулак Василий. - Не велит жениться на тебе. Кричит, умом тронутый. Слов, как в перине перьев, смысла, как в огне воды. Я сестру Марью позвал в споспешницы. Всуе! Обоих выставил. Властодержец!
Всеволожа задумалась.
- Его прихотью ты явилась под Суздаль, - неукротимо гневался князь. - Той же прихотью должна от меня отъехать.
- Отъеду, - согласилась боярышня. Князь глянул испытующе. Евфимия поспешила договорить:
- Волей твоего властелина.
- Пусть властвует в думе государевой да на поле брани, а не в чужих домах, - с сердцем молвил князь.
Всеволожа успокоительно провела перстами по его руке.
- Удалюсь в девичий Вознесенский монастырь, построенный Евдокией, государевой бабкой. Покойная Ульяна Михайловна говорила, как завещала: «Дщерь Христова, пострижися во святый ангельский иноческий образ, девою суща».
- Девою? - переспросил Ярославич. Она, острожив лицом, поднялась.
- Прости, мой друг. Благодарна за всё. Дозволь попрощаться с детками. Отпусти. Ко обоюдному благу нашему.
Князь встал, крепко обнял её.
- Не пущу! Согласилась стать мне подружней, значит, приняла крест моей воли над собой. А моя воля в том, чтобы нам обвенчаться. Немедля. Здесь. Без суетной каши. Явлюсь в дому кремлёвском с благозаконной женой! Кто посягнёт на освящённых венцом? Ни даже самовластец! Отринь помыслы о трудностях. Готовься к венчанию. А тягот мы отроду не пугались, верно?
Евфимия улыбнулась:
- Как скажешь, господине мой. Как велишь…
И оживился княж терем. Дохнули хладом погреба, из коих выносили снедь. Кухарный жар поднялся чуть не до сеней. Челядь суетилась по пряслам и переходам: мела, тёрла, мыла до лепоты…
В невестиной ложне камнеликая Дарья, что слова не вымолвит без нужды, обряжала деву к венцу и вдруг, будто на девичнике, запела высоко, тонко, с плакучей радостью:
Помогай тебе Господи Нынче выйти да выступить На мосток на калиновый, На широку дороженьку! Помогай тебе в лес войти, Сгаркнуть заенька белого Да отдать ему, заеньке, Все девичьи белилышки. Повстречаться с лисицею, С вертихвосткой бурластою, Подарить ей, прелестнице, Все девичьи мазилышки. Встретить нежить-кикимору, Передать страховидине В чистоте сбережённую Красоту свою девичью…- Приумолкни, Дарьица, - взмолилась невеста. От последних слов песни повеяло на неё дурными предчувствиями.
Повечер свадебный поезд выехал нечетом. К той самой кирпичной церкви, что видела боярышня на Торгу. Поезжжанами - дружинники княжьи, верные дети боярские: Лука Подеиваев, Парфён Бренко, Володя Давыдов и ещё дворский Астафий Коротонос. Двигались медленно, ибо пришлось останавливаться перед каждым встречным, будь то купец или нищеброд. Всем свадебщики отвешивали равный поклон, дабы ни от кого молодым порчи не было.
Начался чин венчания. Обмирая от неожиданной перемены жизни, Евфимия слушала, как во сне, молитву священника:
- …венчай я во плоть едину, даруй им плод чрева, благочадия восприятие…
Дружка, Володя Давыдов, держал венец над невестой, а над головой жениха - Лука Подеиваев.
Поочерёдно с Василием отпивала Евфимия вино из одной чаши, что служит знамением нераздельного их соединения в сожитии, общего владения и пользования стяжанием. Тихо и благоговейно пошли они образом круга. Хор пел «Исайе, ликуй». Священник, взяв за руки, подвёл молодых к алтарю и ещё сделал круг, творя с хором молитву о святых мучениках, что победили, ратуя за Христа, приняли неувядаемые венцы славы в Небесном Царствии. Церковь же, возлагая на брачущихся венцы тленные, уповает на то, что они, подражая святым, отразят все дьявольские искушения в своей жизни, победят их и удостоятся наконец венцов нетленных.
Когда покидали храм, Евфимия услыхала, как случайные свидетели их торжества приговаривали:
- Молодая княгинюшка, что взошедшее солнышко!
- А кафтан-то на князеньке! Пуговицы серебряны, золочёны, колесчаты…
Прибыв к венчанию порознь, новобрачные возвращались в одной карете. Осыпанная на паперти хмелем, как и её супруг, уже не боярышня Всеволожа, а княгиня Боровская и Серпуховская, смотрела на Ярославича смеющимися глазами.
- Открою тебе, мой друг: рада, что обвенчались здесь, не в Кремле.
- И я рад сверх меры, - взял её руки князь. - Лишний день ожидания показался бы годом.
- А я, - запнулась Евфимия и призналась: - Я боялась встретить Витовтовну!
- Поздние страхи! - молвил Василий. - Великая княгиня-мать в ином мире. Не ведаю, в лучшем ли. Как раз перед нашей встречей в обители вернулся я из Москвы. Был на погребении Софьи.
Евфимия помолчала и призналась в ином:
- Осудишь ли? Душа не скорбит по её кончине.
- Ох! - отозвался князь. - Я больше скорбел при прощании с простым воином, нежели со столь великой особой. Веришь ли, прощаясь с Василием Кожей, даже не сдержал слёз.
- С Василием Кожей? - высвободила Евфимия руки и прижала к груди. - Нет Василия Кожи?
- Тебе он ведом? - удивился Боровский.
- Он многажды выручал меня. Перед битвою под Скорятиным если бы не он…
Ярославич обнял жену:
- Мы совсем не ко времени отдались кручине. Свадьбы - предвестницы новых рождений, а не смертей.
- Твоя правда, друг, - прильнула Евфимия к мужу. - Скажи только: где Кожа кончил жизнь?
- Под Галичем, когда от подножья горы шли на приступ…
Ей представился ад, узренный в трубу Феогноста с крепостной стены. Вспомнилось, что предрёк отшельник Макарий: по смерти Кожи следом уйдут из жизни его жена с молодой снохой, сын же скроется в пустынь, там создаст монастырь в угодьях раскаявшегося грехотворца Каляги и город возникнет - Калязин. Муж тем временем поведывал свои планы, как повезёт её из Москвы в Серпухов, Радонеж, Перемышль и прочие их владения.
Сошли у ворот. Поднялись в княж терем, где встречала вся челядь. Прежде чем вступить в пиршественную палату, Евфимия поменяла головной убор. Отныне мужатица, она вместо девичьего повенца под тонким убрусом возложила на главу кику с зубчатой коруною и височными украшеньями: рясами с яхонтами - бахромой из нанизанных на нити жемчужин. К кике же прикрепила полые золотые колты. С помощью Дарьицы возложила на рамёна воротник-ожерелье.
- С передцы вязано жемчугом, - похвалила Дарья наряд, привезённый из Москвы князем. - С утра считала: три тысячи сто девяносто зёрен!
Выйдя из ложни, княгиня встретила пасынка, ждавшего в переходе.
- Дозволь поздравить, любезная Евфимия, с благо-законным браком, преподнесть мой поминок, - поклонился Иван и подал нагрудную золотую привеску в виде конька с вытянутыми ушками и загнутым в кольцо хвостом. - Прими сей символ добра и счастья!
На груди новобрачной висела подаренная женихом крестчатая золотая цепь. Сие дорогое украшение ценой в два рубля видела Всеволожа в красных рядах на Софийской стороне Новгорода Великого. Богатый гость выхвалялся, что приобрёл его за четыреста беличьих шкурок. В те дни боярышня и мечтать не смела о подобном богатстве. Теперь же обочь цепи привесила и пасынкова конька, хотя остудило сердце обращение «любезная Евфимия». Чутье подсказало: так будет её называть Иван ещё долго, а может быть, и всегда.
На брачном пиру молодые были во главе стола. За них воздымали кубки с выспренними, однако идущими от сердец, пожеланиями. Постепенно речи с нынешнего торжества низошли к взволновавшим умы вчерашним событиям. Во время странствия от Новгорода к Боровску Всеволожа отстала от новостей. С любопытством слушала мужнин рассказ о том, что Василиус назвал юного наследника своим соправителем. Теперь и Иоанн стал великим князем, дабы удельные князья и бояре, все россияне заблаговременно привыкали видеть в нём будущего своего государя. Сие новшество на Руси вызвало одобрение дочери Всеволожского, в нём надеялась она обрести ручательство от возможных будущих смут.
- Дорогая наша княгинюшка! - обратился Парфён Бренко. - От князей Ряполовских, потом от Андрея Фёдорыча Голтяева, да и от нашего господина довелось слышать о твоём мужестве и достойном Ивана Дмитрича разуме. Любопытно спросить: как мыслишь, коснётся ли нас и детей наших страшное для равнодушного мира событие - падение Царя Града?
- Что? - переспросила Евфимия, думая: не ослышалась ли? - Ты произнёс: Царьград пал?
- Взят османским завоевателем Магометом Вторым, - подтвердил Боровский.
- Мне это вневеды, - повела головой княгиня. - Преосвященный Евфимии в храме святой Софии новгородцам не объявил, - удивилась она.
- Объявил без тебя, должно быть, - вразумил муж. - Известие нас достигло буквально днями.
- Горько услышать, - затучился взор Евфимии. - Торки, наши старые киевские совсельники, превратились в грозных османов. И вот братственная держава обернулась враждебственной. Не один век пройдёт, пока эта брань иссякнет.
- К месту ли речь ведём? - Охмелевший Володя Давыдов поднял переполненный кубок. - Пьём здоровье молодых!..
Приближался конец застолью, и тягостней делалось новобрачной. Её пугала предстоящая ночь. При мысли разделить ложе с мужем Евфимия холодела, сердце сжималось, как перед неотвратимым событием, коего желательно избежать, но не должно. Корила, стыдила себя, а всуе. Не в ложню шла, на заклание. Вспомнила, как с Дмитрием Красным ещё до несбывшегося их брака едва не случилось на её ложе то, что нынче случится. И страх был не тот, и она не та.
Вошла Дарьица, освободила от верхней сряды. Сухое лицо чужой женщины на миг обернулось лицом подруги.
- Сладких радостей тебе, милая! Евфимия ещё пуще сжалась.
- Выдь, Дарьица, доразденусь сама…
Сняла панёву из шерстяной волны, расстегнула вязаный пояс, осталась в шёлковой красной сорочице.
Двенадцать свечей в подсвечнике освещало её. В зерцале узрела испуганный лик.
Вошёл Ярославич в белой до пят рубашке. Одну за другой загасил все свечи…
- Радость неизречённая! - припал он губами к её губам.
Прикосновенья князя живо напомнили злую ночь в Костроме, когда Василий Косой насилком одолевал её и свеча, павшая со стола, погасла… Этот тоже Василий… Но не насилком… Благозаконный муж!.. Отчего же всё естество повелевает противиться, биться за себя до конца? Беззастыдчивые руки… Тошнотная алкота… Колющие уста… Нет нужды поединствовать. Князь отпрянул от неё тут же.
- Что с тобою, душа моя? Как врагу противишься! Отчего трясовица бьёт?
- О, прости! - стонала, съёживаясь в комок, Евфимия. - Твои братние лобзания мне приятны. К мужним ласкам… никак… не могу… никак…
- Нужды нет убиваться, Офимушка! - гладил князь обнажённые плечи жены. - Моя к тебе любовь - жаркий костёр, жжёт меня всю жизнь. Твои же чувства ко мне - светец обнадёживающий. Ему время надобно разгореться. Успокойся, усни. Верь, не потревожу, пока, привыкнув, не пожалуешь большей близостью.
Князь поднялся с ложа, дабы уйти. Евфимия удержала мужнину руку:
- Не покинь дурную жену. Пусто мне теперь одной. Винюсь: всё не так. Брачную ночь испортила… А боюсь одна!
- Будь покойна, - прилёг рядом Ярославич. - Нет твоей вины. Ведь мы, почитай, с детства порознь. Ты дева, я зрелый муж. Буду осторожнее. Главное, ты - моя!
- Я всё равно твоя, - прильнула к мужу новобрачная. И, ощущая братнее тепло, предалась слабости, истоме, забытью…
Видела себя в скрипучем старом доме вместе с мужем. Всюду свечи. Принялась считать, не сочла. Вдруг некто незримый начал их валить: одну, другую… Как она гасила! Посрывала покрывала на огонь, попирала пламя буйными стопами… Тщетно! Дом горел. А кто-то всё внушал: побеги, побеги! Стояла перед пожаром в ночи, чуть живая. А дом догорел дотла… Муж не вышел! Она брела берегом реки в тяжком одиночестве. Увидела посеребрённые луной нагие спины женщин в воде по пояс. Спросила: «Кто вы?» Услыхала: «Русалки». Дюжина покрытых власяною бахромой спин. Вдруг обернулись разом. Узнала Гориславу, Богумилу, Агафоклию, Раину, амму Гневу… Не было среди них Фотиньи, тринадцатой. «Поди к нам!» - велела Гнева. Евфимия сказала твёрдое «нет». И громко закричала: «Нет, нет, нет!» Тут Агафоклия своим низким суровым голосом сказала, как говорят тем, у кого есть и дом, и семья, и всё, что имеют благополучные люди: «Ступай до дому, Евфимия. Тебе уж пора!» Сии слова она услыхала, пожалуй, позже, нежели проснулась от крика: «Нет, нет, нет!»…
11
Между Дьячими палатами и бывшим Шемякиным двором переулок шириною в три сажени вёл от Соборной площади к Подолу, к Тайницким воротам. По нему два раза в год шли крестные ходы к Москве-реке для водосвятия, шестого января в Крещение и первого августа в день Преполовения. Бывшая Шемякина усадьба соседствовала с двором Василья Ярославича Боровского. Бабушка последнего, вдова Храброго, по смерти всех сыновей оставила сей двор единственному внуку, продолжателю рода. Сестра же его Марья Ярославна наследовала старый бабкин двор, что простирается ниже. Между этими дворами две церкви - святого Афанасия (ибо отец Марьи и Василья Ярослав крещён был Афанасием) и Трёх исповедников, где обычно отпевались наивящие из обитателей Кремля.
Прибывшие из-под венца в Боровске князь и княгиня с дороги отдыхали в тенистом огороде под наливными яблоками.
- Зело душисто! - похвалила плод Евфимия.
Андрей Фёдорыч Голтяев, принёсший первым поздравления племяннику и давешней знакомке, удоволенно смотрел, как молодые любуются его поминком - ожерельем с жемчужным саженьем и яхонтами великими: перебрала дар в тонких перстах Евфимия, передала супругу. Приняв от молодых все изъявленья благодарности, «дядя Голтяй», как с детства звал его Василий, поведывал потонку придворные, кремлёвские и прочие иные новости. Великая княгиня Марья запрошлый год родила сына Бориса и снова на сносях. Казначей Владимир Ховрин построил каменную церковь Воздвиженья взамен такой же каменной, распавшейся в пожаре, что объял Москву тотчас после пленения Василиуса при Суздалыцине. Митрополит Иона заложил в своём дворе палату каменную, в ней церковь Ризопо-ложения. Третьего дня надвинулась на Кремль чёрная туча, гром поразил кровлю собора Архангела Михаила, буря поломала крест…
- Андрей Фёдорыч! - уныло прервала Евфимия. - Не мучь нас тучами и бурями, взгляни, как рассиялось солнышко!
- И вправду, дядюшка Голтяй, - сказал Боровский, - уважь приятным…
- Извольте! - поднял руки Андрей Фёдорыч. - В Троицко-Сергиевом монастыре - новый игумен по великокняжьему прошению он принят братией.
- Кто? - украсил шею своей любавы яхонтовым ожерельем Ярославич.
- Из Ферапонтовой обители, именем Мартиниан, - сказал Голтяев.
- Мартиниан? - покинула скамью Евфимия. - Благая новость!
- Что знаешь ты о нём? - спросил Голтяев.
- О, многое! - воскликнула княгиня. - Сопровождая сверженного венценосца в Белозерский монастырь, я удостоилась беседы двух игумнов, тамошнего Трифона и Ферапонтова Мартиниана. Оба, на себя взяв грех, разрешили ослеплённого от клятвы, данной Шемяке. Этим и вернули стол Василиусу.
- Благодарность наш великий князь блюдёт, - отметил Андрей Фёдорыч. - Что ж, Трифон стар. Мартиниан же полон сил, вот и возвышен на великое служение в Дом Сергия. Сейчас он в Чудовом монастыре, митрополичий гость. Не ранее, спустя седмицу, возвратится к Троице. Так говорят духовные… А впрочем, - перебил себя «дядя Голтяй», - совсем забыл порадовать внучатого племянничка Ивана. Литовский посол Гарман по моему заказу получил из земли фрягов чудную музикию. Вчера доставили с великим бережением. Нельзя в пути стряхнуть! Вот ждал приезда Ванечки, чтоб в вашем тереме сия музикия играла.
Иван, Евфимьин пасынок, как раз был тут как тут. Пришёл к отцу, по всему видно, с делом, да заслушался. Не перебил, пока всё не дослушал о фряжском чуде. Потом оповестил:
- Явился государев позовник. Тебя, батюшка, ждут срочно во дворце.
- Придётся отложить семейное застолье, - виновато посмотрел Василий на Голтяева.
- Что ж, мы ведь друг от друга не за тридевять земель, - ответил Андрей Фёдорыч. - Позов властителя не терпит с исполнением. Воротишься, дай знать. Я тут же буду.
- Батюшка! - взмолился княжич. - Дозволь поехать с дедом, посмотреть диковину?
Князь колебался.
- Не смущайся, - замолвил слово за внучатого племянника бездетный дед. - Вернусь, и Ваню привезу.
Василий Ярославич кивнул согласно и сказал жене:
- Вели, Офимушка, пусть Дарьица при солнце погуляет с детками.
- Сама похожу с ними, - откликнулась Евфимия. Иван поспешил в терем опрянуться для гостевания. Гость и княгиня с князем вышли с огорода во двор. У красного крыльца к ним подступил кудлатый бородач:
- Конюшего не ищешь, господине? Княгиня просияла:
- Ядрейко! Как меня нашёл? Старый знакомец ухмыльнулся:
- Лишь заткнутым ушам не слышно на Москве, что ты жена Боровского.
Евфимия затеребила мужа:
- Друг мой…
- А мне как раз конюший нужен, - угодил ей Ярославич. - Готовь коня. Поеду во дворец.
- Добро, - расправил бороду Ядрейко и пошёл, как будто издавна был здесь своим.
Евфимия с Голтяевым остались у крыльца одни.
- Твой муж поступил смело, - отметил Андрей Фёдорович. - В прошлый свой приезд он мне открыл: Василиус грозит большими бедами, коль станешь ты княгинею Боровскою. Племянник мой не внял угрозам. Его любовь превыше страхов. Ответь и ты любовью.
- Отвечу, - молвила Евфимия. - Однако же в сей час меня заботит: не для худа ли его позвал Василиус?
Голтяев успокоил:
- Меж ними не быть худу. Государь шурину обязан многим. Ярославич для него и в ссылку шёл, и в бой. А благодарность наш великий князь блюдёт! - повторил потомственный вельможа недавние свои слова.
Пришёл Иван. И дедушка двоюродный с племянником внучатым укатили. Потом подвёл коня Ядрейко вышедшему Ярославичу и сам отправился сопровождать Боровского. Евфимия с крыльца махнула платчиком: до скорой встречи! Резво поднялась наверх, взяла у Дарьи Кснятку с Лушей.
- Ма-а-атунька! Выдь с нами за ворота. Надоело в огороде! - просилась Луша, соскакнув с крыльца.
Евфимия, взяв за руки детей, вышла в проулок. Решила прогуляться на Подол, к Тайницким воротам. Миновала церковку святого Афанасия. У паперти Трёх исповедников стояла пара вороных под чёрными попонами, запряжённая в кречел, погребальный одр. Вот вышли несколько скорбящих. Вынесли открытый гроб с телом седого мужа. Глаза - в тёмной повязке. Из-за неё не разобрать лица. За гробом… А за гробом-то… Евфимия похолодела: Устинья! Устя… Как переменилась!
Установили домовину на скамью. Устинья подошла, склонилась, дабы коснуться лба покойного. Больше никто не подошёл. Гроб стали подымать на погребальный одр. Устя отошла в сторонку, увидала тётку.
- Евфимьюшка?..
Не бросились в объятия друг другу. Смотрели молча. Евфимия обронила:
- Ты… была… с ним…
Спутница Косого вскинула восковой лик:
- Тотчас по ослеплении явилась. Служила до последни. Деток Бог не дал.
- Жила-то с ним по доброте или неволею? Племяшка закраснелась:
- Сперва по доброте, потом неволею… - И присовокупила: - Дмитрий Юрьевич Шемяка, будучи на государстве, хотел получшить наше житие, да не поспел.
- Кто здесь из близких? - показала взором на людей Евфимия.
- Челядь, - сказала Устя. И спросила, глядя на Кснятку с Лушей: - Твои детки?
- Мои.
- Вот погребу Василья Юрьича, - вздохнула Устя, - вернусь в Тверь к матушке и тётке, тут же постригусь. Освободил для иночества Васенька меня, несчастную…
Евфимия приблизилась, поцеловала в щёку. Устя ответила сухим холодным поцелуем. Словно перенесла со лба покойника прощальное его лобзание.
Евфимия поспешно пожелала:
- Храни тебя Господь! И отошла.
Кснятка и Луша ворковали перед нею, держась за руки.
- Вернемтесь, птенчики, в наш огород, - звала княгиня. - Каждому сорву по яблочку душистому.
- И по янтарной грушеньке! - сказала Луша.
В гору шли быстрей, чем под гору. Солнце никло к кровлям теремов. Вот-вот вернётся Ярославич.
У ворот стоял Ядрейко.
- Отведи, матушка, детей наверх да снизойди ко мне.
- Где князь? - обеспокоилась Евфимия.
- Тотчас узнаешь, - обещал конюший. Евфимия со сжатым сердцем взбежала на крыльцо и по ступеням - в сени, держа Кснятку на руке, другой рукой волоча Лушу. Передала малюток и снова - вниз опрометью…
Ядрейко был уж на крыльце.
- Дела свирепые, - изрёк он тихо. - А ты держись! Они - навал истей, а ты - упористей…
Княгиня перебила:
- Не томи!
- Ждал с конями у дворца, - начал Ядрейко. - Мыслил: время возвращаться - князя нет. Ну, думаю, беседа государственная! Гляжу, красуха шествует, под стать придворной бабе. Проходя, таимно говорит: «Ефимью упреди. Боровский государем взят. Сведён на караульню, посажен на чепь». Я, не рассуждая, отбыл.
Княгиня унимала дрожь.
- Не назвалась ли та, придворная? Ядрейко сморщил лоб:
- Меланьица. Евфимия велела:
- Езжай к Голтяеву. Немедля привези Ивана. Мне - кареть. Поеду к государю.
Спустя время она была в великокняжеской передней. Палата - стены голые. Жди, стоя. Рядом - иного. Для посещений неурочный час. Прошатаи приходят утром. Дворцовый человек - как канул. Впервые в шзни сучит жилы боль в ногах. Вдруг отворилась из рестовой дверь и вышел отрок Иоанн. С недавнего - тцовский соправитель. Тоже великий князь.
- Чего тебе, тётка Ефимья?
- Видеть государя! - растерялась посетительница.
- Перед тобой не государь ли? Назвалась княгинею юровскою. Просишь за мужа?
- Шла говорить с твоим родителем. - Евфимьин голос отвердел. - Сопроводи к нему.
- Батюшке не о чем с княгинею Боровской вести речи, - ещё твёрже отвечал Иван. - Супруг же твой оиман за большие вины. Дело разыщется, уведомят.
- Имею я возможность повидать супруга? - задала опрос княгиня.
- Нет, - помотал главою Иоанн. И строго наказал: - Не мысли обратиться к матушке. Великая княгиня нездорова.
Осталось обратиться к выходу.
- Поклон? - напомнил юный государь. Евфимия свирепо обернулась, однако скрыла чувства за улыбкою:
- Поклоны бьют по окончании дела. Мы же, мой великий господине, с тобой ещё не кончили.
И вышла. За ней не было послано. Её не взяли. Сходила с Красного крыльца - ни окликов, ни приставов.
Вознице повелела ехать в Чудов монастырь. Долго росила чернеца-привратника сказать гостящему здесь роицкому настоятелю Мартиниану, что ждёт его благословения на краткую беседу дочь Всеволожа.
Её ввели в пахнущие ладаном и деревянным маслом переходы. Мартиниан принял мирянку здесь же, под сводами. Потолок как бы придавливал к половым плиткам, выложенным крестом. Взор игумена был детски добр, как в Белозерье. Чёрную бороду уже делила надвое полоска седины.
- Мой муж Василий Ярославич князь Боровский взят великим государем, как преступник. - Евфимия старалась говорить спокойно. - Авва, ты со старцем Трифоном воспринял на себя грех клятвопреступления Василиуса. Воспримешь ли и этот грех?
- Не дело едкими речами излагать просьбы, дочь моя, - безгневно рек Мартиниан. - Тому ль учил тебя отец твой?
Всеволожа пала на колени:
- Прости, авва! Горести и беды, коим нет конца, затмили разум.
- Встань, - сказал игумен. - Уповай на Бога. Я приложу посильные старания, дабы утишить страсти властелина…
От Чудова вернулась в дом Боровского. Ворота - настежь. Челядь сгинула. Крыльцо затоптано. Взошла наверх. В сенях остановил истошный Дарьин рёв. Бросилась в детскую одрину. Послужница лежала на полу ничком, билась головой о доски. На спине зелёный сарафан разодран от шеи чуть не до пояса.
- Где дети? Дарья! - закричала в ужасе княгиня.
- Ой, о-о-ой! Пояты крохотки! Антихристовым именем! Будь проклят враг, любимец всенародный! Грызла горла извергам, не совладала. Искали Ваню. Слава Богу - нет. О-о!
Вошёл Ядрейко, не стуча.
- Выдь, госпожа. - Когда княгиня вышла, поведал: - Подъезжал с княжичем. Сердце не на месте.
Дай, думаю, взгляну допрежь. Пробрался с огорода. Пристава детей увозят! Я - назад. Княжича укрыл в надёжном месте.
Затукали шаги в сенях.
Княгиня с твёрдостью прошла туда. За ней - Ядрейко.
Первым увидала дьяка Василия Беду. Едва узнала сына Фёдора Беды. Встречала не однажды у Пречистой юного подьячего. Стоял недалеко от рундука Витовтовны. Ныне худыха, возвеличенный за весть о гибели Шемяки, раздобрел. Обочь его - два пристава.
- Где пасынок Иван? - спросил Беда.
- Где дети малые? - спросом на спрос ответила Евфимия.
- Пояты государем, как крамольниково семя, - объявил Беда. - Взрастят их попригожу. Где Иван?
- Не ведаю. - Евфимия взирала на Беду, не скрыв ни гнева, ни презрения, как будто перед ней не дьяк, а головник-разбойник.
- Кто сей человек? - метнул Беда взор на Ядрейку.
- Мой слуга.
- Слуг отпусти. Дом с завтрева отписан в государеву казну. Туда же взят удел и все пожалования. Где старший сын пойманного?
- Я сказала, - княгиня оперлась на изразцовый бок печи. - Он не малютка. Углядел шишей и сгинул.
- Мы не шиши! - взревел Беда. - За подлые хулы ответишь!
- Вяжи меня! - шагнула к бывшему подьячему Евфимия. - Ввергай в узилище с супругом и детьми.
- Ух, поймал бы! Нет наказа, - скреготал Беда. - Пристрастный учинил бы доиск о твоём присутствии в гнезде Шемяки в день его конца. Не велено и волоса на тебе тронуть. Тьфу! Чтоб духу твоего в сём доме не было к утру.
Он круто развернулся, удалился вместе с приставами.
Евфимия прошла в столовую палату. Уселась за пустым столом. Подпёрла голову рукой. Ядрейко ступью вошёл следом.
- Прости, Евфимия Ивановна: не оказал заступы. С великокняжьими людьми не совладать. Тебе ж и впредь понадобится моя сила.
Евфимия велела:
- Обожди.
Прошла в мужнин покой. Достала с поставца ларец и принесла Ядрейке.
- Вот деньги, что я знаю. Произведи с наймитами расчёт. Холопами распорядятся похитители. А Дарьицу укрой с Иваном и успокой, как сможешь. Ещё… - Евфимия сощурилась. - Ещё прошу не как Ядрейку, как атамана Взметня: разведай потаимнее, кто нынче главный в Житничных палатах. Я удалюсь к себе, сосну самую малость. Вернёшься, разбуди тотчас.
Ядрейко молча вышел с денежным ларцом. Евфимия отправилась в свою одрину, легла на ложе и оцепенела.
Вот уж она стоит, а не лежит. Над ней смурое небо. Не лето - осень. Ветер не тёплый, а знобящий. Вокруг - погост. За ним - кирпичная стена с тесовым заборолом. Евфимия не раз взводила на неё болящего отца и знала: глубоко внизу, у каменной стопы утёса, на коем зиждится труднодоступный кремник, сливаются две мощные реки. Их воды как бы заперли её с семьёй на этом диком камне. Теперь отца нет рядом. Пред ней кусок гранита, на нём выбито: «Раф Фёдор Всевотожский». И даты жизни, преждевременно оборванкой. На глыбе - крест. Евфимия упала на колени, уткнула лоб в бугор сырой земли, ещё травою не поросший, покрытый не взращёнными, а срезанными, принесёнными цветами. Убоги цветы северной земли! «Встань, дочка, - трогает плечо родительница. - Не дожил кормилец наш до счастья лицезреть родимый дом. А как мечтал! Сожгли мечты следы застенков царских. Пусть и не вечной ссылке обрёк его неправый зластодержец, да слуги рьяные перестарались. Преступно надломили жизнь. И упокоила несчастного не отчая земля - Сибирь. Пойдём, родная, подымись…» Евфимия сильнее приникла к дорогой могиле. «Нет, оставь, матушка, оставь!» - надрывно вскинулась она…
Вскинулась, тревожимая атамановой рукой.
- Исполнено, - сказал Ядрейко. - Наймиты разбрелись довольные. Дарья - с Иваном. В Житничных палатах главный - именем Осей. Он издавна там главный. При всех правителях целёхонек, как ворон на чубу.
Евфимия моргала, стряхивая сон.
- Постой за дверью. Опрянусь к пешему пути. Сопроводишь до Житничих палат.
- Ого! - воскликнул Взметень. Однако возражать не стал.
Он вёл княгиню без светца, в кромешной тьме. Как бы на ощупь знал дорогу. Не доходя железных врат, у тына затаился. Евфимия стучала долго. Семейным делом попросилась к старшому стражи, проживающему тут же. Назвалась свояченицей. Ждала, вооружась терпением. Без лишних спросов провели пришедшую под чёрной понкой родственницу в ту палату, где когда-то была с Бунко и говорила с Гориславой. Тот же Осей, обрюзгший и обвислый, встретил за тяжёлой дверью. Даже не вспомнился молодцеватый парень, что вдавни подвёл коня у врат Фроловских, когда бежала из дому. Бунко же вряд ли бы его сравнил с тем воином, что чуть ли не убил и тут же спас своего бывшего начальника в бою под Галичем. Стар стал Осей и неказист.
- Ты кто? У меня нет свояченицы! - грозно принял он ночную гостью.
Они были вдвоём за крепко притворенной дверью.
Она скинула понку и показалась в лёгкой шубке на беличьих чревах, из-под которой выступала телогрея, отделанная кружевом.
- Вспомни Бунко, что приводил меня к тебе, - истиха молвила Евфимия.
- А, голуба душа? - с трудом изобразил Осей улыбку на заплывшем лике. - Что привело в столь поздний час?
- Желанье видеть мужа.
- Кто муж?
- Василий Ярославич князь Боровский. Осей могуче задышал, как мех.
- Ступай домой. И не ходи с такими просьбами. Княгиня сняла с шеи ожерелье с жемчужным саженьем и яхонтами превеликими.
- Свояченицы нету, наверно, есть подружия? - и протянула дорогой голтяевский поминок.
В узких от жира глазах стража затеплился хороший огонёк.
Спрятав драгоценность на груди, он произнёс: - Главу сую под лезвие ради тебя. Пошли. - И громыхнул тяжёлым ожерельем из ключей.
При давешнем знакомстве с Житничной тюрьмой Евфимия под землю не спускалась. Теперь узрела то, о ем поведывала Богумила в Бутовом саду. По белокаменным ступеням тесным переходом прошли в подземную палату длиной и шириной в семь с небольшим аршин, а высотой в четыре. Сквозь малое отверстие виделась более нижняя палата глубиною в три сажени. Она разделена стеной. В одном из двух тёсанокаменных мешков в мерцании светца Евфимия узнала на лочке соломы супруга. Он при появлении её вскочил, закинул голову.
Евфимия потребовала от тюремщика:
- Оставь светец и нас.
Осей вытянул шею по-змеиному:
- Што-о?.. Шутишь, голуба душа? Пришлось упрямца уговаривать:
- Не трусь, колодника не выну. Дам додаток.
- Добро! Сочту до ста, вернусь…
Едва его шаги затихли, муж воззвал к жене:
- Офимушка!
Оба глядели друг на друга, ища слов.
- Не убивайся, - начал князь. - Государь принял меня ласково, поздравил. Провёл в палату, что именуется среди придворных «западня», ибо её оконца глядят на запад. Поговорили… Он ненадолго вышел рядом, в повалушу. И тут явился новоиспечённый дьяк еда с людьми и объявил: «Князь, пойман ты великим осударем Василием Васильичем всея Руси!» Я встал и отвечал: «В моём несчастье волен Бог да государь. А уд мне с ним пред Богом, что берет меня невинно»…
- Злосчастный друг мой! - Княгиня отирала их. - Ведь дети малые пояты следом за тобой!
- О Боже! - застонал Василий. - Мне их не показали… А Иван?
- Сокрыт надёжно.
- Всё - ошибка! Чей-то недоразум! - успокаивал Василий Ярославич. - Не знаю, на кого грешить. Не приобрёл врагов. Коль сами завелись, поплатятся! Всё станет на места… А ты пока беги, Офимушка, в Литву, спасай Ивана! Можайский получил от Казимира Брянск, затем Гомей и Стародуб. Шемячичу обещан Рыльск. Авось и мой Иван не будет без кормления. Василиус, я верю, всё поймёт. А ныне он в неведении.
Княгиня запротестовала:
- Он всё ведает. Меня не хотел видеть. Сына выслал, соправителя. Нивмолвить, нивпросить!
- Ну, значит, в одержании, - звенел железом князь. - Горит! Его остудят и сестра моя, великая княгиня Марья, и Голтяев, и Плещеевы, и наши богомольцы, святители Московские.
- Беседовала с Троицким игуменом Мартинианом, - вставила княгиня. - Преподобный обещал заступу.
- Надейся и беги, - настаивал супруг. - Можайский в Брянске или Стародубе. Недалече. Сумеешь вырваться?
- Сумею, - уверила Евфимия. И не сдержалась: - Из-за меня проклятый оборотень поймал тебя! Не зря допрежь грозил…
- Грозил, - припомнил князь. - Был против нашей свадьбы. А мы ведь не устраивали кашу…
Евфимия со вздохом перебила:
- С трубами свадьба и без труб свадьба!.. А я, виновница, на подвиг любящего не ответила на брачном ложе. Прокляни меня!
- Господь с тобой, Офимушка! - пытался утешать эоровский. - Ты непременно станешь мне женой не токмо перед аналоем, а и на брачном ложе. Не в сей жизни, так в будущей.
- Нет, - помотала головой Евфимия. - И в будущем не стану. Там мне быть порушенной невестой дарской, кончить дни опальною, за Камнем, в земле Огорской…
- Беги с Иваном, - положил предел невыносимой речи князь. - Храни его… Моё невремя минет. Вызволю себя, детей. Верну пожалования. Дам знать…
- Ну, будет, будет! - заскрипел в двери голос Эсея. - Отдай светец. Пошли!
Он вывел понурую Евфимию наверх и опустил в таинственные закрома тёмного платья додаток - золотую нагрудную привеску в виде длинноухого конька с загнутым в кольцо хвостом. Прощай, дар пасынка Ивана!
12
В перводекабрьский день на улице Богоявленской у рва притормозил каптанный поезд литовского посла Семена Едиголдова. Из третьей от хвоста каптаны сошли на наледь медвежья шуба с воротником на полспины и шубка «цини», сизая, из «дикого», а иначе сказать, из серо-голубого бархата и из «венедицкой», как называли на Руси венецианскую, камки.
Так возвратились из Литвы Евфимия Боровская с Володею Давыдовым. Он нёс, меняя руки, крупный короб. Она, жалеючи ношатая, спросила:
- Для чего сошли далече?
- Скрывал жилье, - ответил он.
Володя жил со старшею сестрой Натальей, вдовой, обременённой малыми детьми.
Прошли двор Весяковых. От церковки святого Иоанна свернули на Подол, к Васильевскому лугу. Улицей Большой попали на Вострой конец к самой реке. За церковью Косьмы и Домиана, миновав бревенчатые стены трёх амбаров, принялись стучать в дубовые ворота. Поочерёдно били колотушкой.
- Хто-о-о?
- Отопри, Доман.
- О, господин! Слав Бог, слав Бог! - возрадовался стариковский голос.
Запоры грохнули. Калитка распахнулась. Кирпичная тропа по чистому двору повела к терему на каменном подклете со столбами для крыльца. Доман сквозь слёзы созерцал хозяина, потом во все глаза глядел на гостью.
Наверху, в просторной повалуше, топилась печка в обливных зелёных изразцах.
- Наша горница с зимою спорница! - Старик разбил пылающие угли кочергой. - На улице студель, у нас тепель.
Юный хозяин разоблачил Евфимию, затеплил свечку, ибо в повалуше было сумрачно, оконца выходили к северу.
- Вот мы и на Москве, княгинюшка! Удачно твой знакомец Карион пристроил нас к литовскому посольнику.
- Он не хотел, - припомнила Евфимия. - Не отпускал меня. Вдвоём с Бонедей стращали чем-ничем. А пасынок был равнодушен: «Поезжай, любезная Евфимия!» Можайский тоже. С ним не лажу с того дня, как истребил Мамонов.
- Почто Бунко вернулся в службу к этакому мню? - ворчал Володя, вскрывая короб.
Евфимия остановила:
- Отложи труды. Он не послушал:
- Раскладу пока. Пусть всё проветрится с дороги. Она сказала благодарно:
- С той ночи, как Ядрейко переправил нас в Литву, ты - крепкая моя опора!
- А не брала с собой! - упрекнул младший из бояр юровского.
- Спрашиваешь, для чего вернулся Карион к Можайскому? - переменила речь княгиня. - По старой памяти. Служил ему перед отъездом из Москвы…
- Ой, что у тебя тут? - Давыдов перекинул через руку телогрею с длинными и узкими, как у мужских охабней, рукавами, свисающими до полу. Его персты ощупывали утолщение в суровой плотной ткани на юдоле.
- Это зелье, - не подумала скрывать Евфимия. - Дамон мне наказал пристроить ладанку к костру своей боярыни. Не преуспела! Вот и ношу упрёком на всю жизнь.
- Дозволь взглянуть? - полюбопытничал Володя.
- Нет, нет, - переняла она столь памятную сряду. - Бунко с Бонедей тоже обнаружили и тщились распороть. Я не дала. Сие не для смотрения, а для хранения.
- Хозяюшка Наталья скоро будет, - заглянул Додан.
Володя кончил с тканой и пушною рухлядью, присел на лавку.
- Не могла ждать дольше, - молвила Евфимия. - Три месяца безвестных! А увидала: два Ивана, мой и Можайский, малый и старый, пишут меж собой союз - не вынесла душа! Что же творится? Отец в темнице, сын, занявший место как бы мёртвого, вершит дела по-своему, вступает в договор с врагом. Ишь, грамотеи! Высказалась и решила спасать мужа. Пасынку-то я зачем? Есть опекун - Можайский, мамка - Дарья…
- Мне княжич дал для переписки сию грамоту, - достал Володя хартийку с груди. - Не поленился ночью, сделал список. Вот!
Княгиня поднесла бумажный лист к свече. Прочла, местами вслух:
- «Ты, князь Иван Андреевич, будешь мне старшим братом. Великий князь вероломно изгнал тебя из наследственной области, а моего отца безвинно держит в неволе. Пойдём искать управы… Будем одним человеком. Без меня не принимай никаких условий от Василия. Если он уморит отца моего в темнице, клянися мстить. Если освободит его, но с тобою не примирится, клянуся помогать тебе. Если Бог дарует нам счастье победить или выгнать Василия, будь великим князем, возврати моему отцу города его, а мне дай Дмитров и Суздаль… Что завоюем вместе… из того мне треть… А буде по грехам… останемся в изгнании… в какой земле найдёшь себе место, там и я с тобою». Боюсь, - примолвила Евфимия, - сбудется только последнее их чаяние…
Вошла Наталья, бросилась в объятья брата.
- Будь здрава, дорогая гостья! - склонилась поясно перед княгиней.
Евфимия облобызала тёплую со сна ланиту, высокий лоб, русую голову.
- Пошли Домана за Лукой Подеиваевым, Бренко Парфёном, - попросил сестру Володя.
- Послала. Кухарь затевает трапезу. Княгинюшка с дороги обновится в баенке, опрянется и - все за стол.
- Для баенки утомлена, - промолвила Евфимия. - До трапезы схожу в ближайший храм. Потщусь просить Владычицу о помощи.
- К Косьме и Домиану, - подсказал Володя. - Тут, у ворот. Сопроводить?
Княгиня покачала головой:
- Видела. Дойду одна.
Выйдя из дома, подставила лик яркому негреющему солнцу. Морозный воздух осязаем. Колющее осязание!
Ранняя служба кончилась. Двери не заперты ради молебнов, панихид. Евфимия в земных поклонах пред иконою Пречистой пыталась успокоиться. И всё же храм покинула в неиспокое.
- Боярыня, ради Христа!
- Княгиня, хоть толику благ!
Не глядя, опускала голые монеты в чёрные длани. Пошла нетвёрдо, опираясь на бревенчатые стены Давыдовских амбаров. Позади услышала:
- Добро идёт, держась за тын, а зло на коне скачет! Тотчас же обернулась:
- Максимушка!
Юродивый стоял в издирках, с непокрытой головой, на ногах рваные моршни.
- А я все деньги раздала на паперти, - страдальчески произнесла Евфимия.
- Иди, деньга, к деньге - разбогатеешь! Людина, не ходи к людине - согрешишь! - сказал юродивый не ей, а так кому-то.
- Тебе холодно, блаженный? - трепетала за него Евфимия.
- Нет, - отвечал Максим.
- А голодно?
Он опустил растрёпанную голову и, устыдясь, признался:
- Голодно.
Княгиня обняла худые плечи:
- Подь со мной!
Вошли в ворота, подступили к дому, что длинной стороною - к улице.
- Не сожалеешь? - спросил Максим. Евфимия взвела его наверх.
- Пожалуй к тра… - встретил в сенях Володя и осёкся, узрев блаженного. Смятения не выдал ни единым словом. Обоих проводил в столовую палату.
Евфимия всё объяснила по пути:
- Сей неимущий накормил и обогрел, когда страдала.
Давыдов коротко ответил:
- Бог воздаст.
Боровские бояре и княгиня поздравствовались по достою. Расселись дружно: по одну сторону - Бренко, Володя и Подеиваев, по другую - Наталья, Евфимия, Максим и ещё дворский из Боровска именем Астафий. Княгиня прозвище запомнила: Коротонос. Боровск - в казне, а дворский - на Москве.
Подали парную сельдь, пироги-пряженцы с сигами да с сомом, уху мешочком.
- Ну как, княгинюшка, жизнь иноземная? Как тебе Литва? - очесливо повёл застольную беседу Лука Подеиваев.
- Брянск разве иноземье?- ответила Евфимия. - Одно название - Литва! Всё та же Русь, да под чужой рукой. Узрела литвина в посольнике, что мимоездом был из Вильны, и то наших кровей.
Тут раздались слова Астафия Коротоноса:
- Блаженный ничего не ест.
Максим застыл, испуганно взирая на сидящих супротив него Бренко, Давыдова, Подеиваева. Потом вскочил из-за стола, закрыл лицо руками и, торопясь, покинул столовую палату.
Евфимия - за ним. Без верхней сряды - на крыльцо. Объятая морозом, догнала, остановила в воротах:
- Максимушка!
- Сробел! - поник блаженный. - Все люди, что насупротив сидели, вдруг узрелись обезглавленными…
- Боже! - уж не от мороза затряслась Евфимия. - Помержилось. Вернись!
- Нет, горемыка, не вернусь, - упорствовал Максим. - Не стану вкушать пищу с безголовыми.
И удалился.
Евфимия пошла обратно. Хозяева и гости утешали: юрод и есть юрод! С настойчивыми уговорами пришлось испить горячий взвар, хмельного мёду. Трясовица улеглась. Известия о вязне-князе разожгли, как раздуваемые угли, погасшую беседу. Занялись жаркие речи.
- Где князь, за что поят, дождётся ли исправы - всё это без тебя, княгиня, мы тужились разведать, - начал Бренко. - Темна вода во облацех!
- Единожды сподоблен был улицезреть Голтяева, - скривил уста Подеиваев. - Узнал: великая княгиня Марья в родах преуспела, разрешилась пятым сыном: Андрей Меньшой! А вот в заступе за родного брата не преуспела Ярославна. Государь бежал от её слёз, как от дождя. Не стал внимать и Троицкому настоятелю. Мартиниан ушёл ни с чем. В сердцах сложил игуменство, отъехал в Ферапонтов. Сын Юрья Патрикеича Иван пытался слово молвить за Боровского. Такой на себя вызвал гром - ушёл, крестясь. У соправителя, у голоуса, сердце - камень. Что отец, то он. Бояре позамкнули рты. Голтяев не велел мне больше приходить к нему. И никому из нас.
- Меня-то не прогонит Андрей Фёдорыч, - уверила княгиня.
Бренко промолвил:
- Не испытывай пределов чужой трусости. Не обрати её в предательство. Ведь нам ещё трудиться да трудиться ради Ярославича!
- В Житничных палатах, - встрял Коротонос, - мой сват охранышем. Доведал, что наш князь с детьми давно отослан в Углич, в ту же тесноту.
Весть обдала застолыциков, как шайка ледяной воды.
- Ах, в У-у-у-углич…
- В Углич?
- В Углич!
- С каких пор? - пришла в себя княгиня.
- Ещё с осенних, - напряг лоб Коротонос. - Когда старшому тамошнему именем Осей отсекли голову.
- Осею? - делала для себя страшное открытие Евфимия. - За что?
Астафий удивлённо вытаращился:
- Ты… меня… спрашиваешь? Мне ли знать да ведать?
- Однако же не станем падать духом, - предложил Володя. - Углич не Вологда. Чуть дальше Житничных палат, - шутя, подмигнул он. - А может, и удобнее оттуда доставать, не вдруг поймают за руку.
- Поймают за руку! - опасмурнел Коротонос.
- Не каркай! - повелел Бренко. - Давайте-ка, сообразим, кто что осилит. Я подыщу людей, чтоб овладеть углическою колодницей…
- Я вызнаю всю её внутренность, - пообещал Коротонос.
- Как? - вскинул бровь Подеиваев.
- А через свата. Пусть расспросит тех, кто ездил с князем.
Света из оконец стало мало. Доман внёс свечи. Первым встал из-за стола Бренко:
- Дни коротки. Смеркается. Дадим покой хозяевам. С утра сойдёмся здесь же, у Володи, и всё договорим до ясности.
Гости откланялись. Давыдов вышел проводить их до ворот. Наталья много прежде удалилась к детям. Княгиня одиноко прошла по переходу в повалушу, стала сбирать рухлядь в короб. Решила для выходов оставить шубку «цини», а после обнаружила, что в сумерках ошиблась, оставила ту телогрею, в коей присутствовала при последнем часе Андрея Дмитрича и аммы Гневы.
13
Утром после трапезы всё невозможное случилось очень быстро. Пришли Подеиваев и Бренко. Ждали в сенях: запаздывал Коротонос.
- Не нравится мне дворский, - перемолвилась Евфимия с Володей.
- Князь к нему благоволил, - откликнулся Давыдов.
Внизу раздался шум, похоже, многих ног. Вошёл один Астафий. Передал Парфёну зенденевый плат, сложенный вчетверо.
- Здесь изображена углическая колодница.
- Что был за шум? - спросил Володя.
- Обивал ноги о порог. Обледенели сапоги, - объяснил дворский.
Бренко с платом пошёл к свету, стал разворачивать…
И тут в спокойные, не ждущие напастей сени ввалились трое приставов. За ними - новый дьяк Беда. Никто и глазом не успел моргнуть, а у Бренко, Давыдова, Подеиваева уже и смыки на руках. Ни дьяк, ни приставы не удостоили вниманием княгиню, будто её тут не было.
- Опряньтесь, - приказал Беда.
На Вязников надели шубы. На Володю ту, в коей приехал из Литвы. Наталья выскочила с воплем. Её не подпустили к брату.
- Выводи!
В сенях остались женщины с Коротоносом.
- Тебя не взяли, - подозрительно смотрела на Астафия Евфимия.
- Ведь и тебя не взяли! - ухмыльнулся он и вышел.
Наталья запылала, глядя на княгиню:
- Ты… По твоей нужде… В несчастный час ты к нам явилась, горехватка!
Евфимия надела телогрею, что вчера не уложила в короб, и пошла из терема.
В воротах развязала старика Домана, стянутого кушаками.
Помолилась у Косьмы и Домиана, достояв обедню. Пошла берегом Неглинки к тому месту, откуда видно невдали большое каменное круглое строение с высокой деревянной шатровой крышей. Это литейные амбары. А низкие, продолговатые как бы конюшни с узкими оконцами огородили башню четырёхугольником. В них - кузницы. Евфимия направила стопы к распахнутым воротам. Было кстати, что день пасмурный и снежный. Зато мягкий, не морозный и не ветреный. Ведь телогрея не толста и не угревиста.
Опершись на верею, дремал бердышник.
- Покличь мне кузнеца Ядрейку, - потрогала его тулуп Евфимия.
- Уф! - ожил истый снеговик и обратился к людям во дворе: - Сгаркните в литейной Адриана!
Ждала недолго. Вон он, чумазый, борода торчком, вихры рожками… Прощаясь у границы, наказал: «Припечёт нужда, ищи на Пушечном дворе. Туда пойду за медной силою». И припекла нужда!
- Своячина пожаловала! - скалился Ядрейко. Полвека прожил - зубы целые! - Пожди ещё. Я мигом…
Привёл в избушку у моста через Неглинную. Здесь всюду жили кузнецы. Рубленные крестом дома лепились без дворов друг к другу, как овцы в стаде. Внутри дышалось горько. Потолок и стены - в копоти. Печь без трубы.
- Как ты живёшь, Ядрейко! - озиралась в полутьме княгиня.
Оконца чуть ли не в ладонь. Грязный пузырь не пропускал света, лишь обозначал его.
- Живу, лью пушки. Учусь. Подручничаю, - собирал на стол хозяин.
Подал таранчук белужий. Евфимия хлебала не горячую похлёбку, но и не остывшую ещё в печи.
- Много ль пушек сделал? - повела беседу.
- При моём пособе отлито четыре. - Ядрейко перечислил имена, будто его изделия - домашние животные: - Единорог, Кобчик, Медведь, Девка…
- Как льются? - любопытничала гостья.
- Ну, ложа делаем для воска, - пояснял подручный. - Вытапливаем воск, льём вместо него медь, бронзу… Сие тебя не очень-то займёт. Лучше меня займи своими бедами.
Евфимия рассказывала. Он молчал. Задумчиво ерошил кудри, будто занятый совсем иными мыслями.
- В лесу такое дело не наладишь, - сказал он наконец. - Главное-то - вызнать тайну сплава…
- О чём ты? - поднялась из-за стола княгиня. Хозяин тоже встал и принялся перестилать свой одр.
- О том, - ответил он, - что надобно бросать до времени пушкарные дела и отправляться за людьми в Шишовский лес. С кем вызволять нам князя с детушками? - Он снова помолчал. - А сразу не уйдёшь. Дня два буду искать заменщика… - И пригласил: - Придёт время опочиву, ляжь, княгиня, на перину. Я же, смерд, - на лавку…
Только на третий день она скакала с бывшим пушечным литцом по Дмитровской дороге. Поверх тонкой телогреи грел тулуп. Проехав поприще, Ядрейко стал придерживать коня. Княгиня поравнялась с ним.
- Что, засиделась в курной избе? Или давно верхом не ездила? - спросил он, стягивая зубами рукавицу.
Она не отвечала. От скачки захватило дух. Сердце выбивалось из груди.
- А я ведь дней не тратил понапрасну, - оправдывался старый выручатель Всеволожи.
Евфимия кивала, задыхаясь:
- Искал… заменщика…
- Само собой, - сказал Ядрейко. - Ещё разведал про Коротоноса. Нелёгкая задача! Твой дворский прежде служил ищиком в Дьячьих палатах. Излавливал нас, грешных. А ныне подноготную его я изловил доподлинно. Он был подсыльный к Ярославичу!
- Десятого чутья не слушалась! - расстроилась Евфимия. - Пропали княжьи вызволители!
Ядрейко приложил к устам два пальца и успел произнести:
- Эх, не пропал бы князь! Свищи хоть в ключ, коли замок в пустом амбаре.
Уши Евфимии под шапкой пронзил звук, острый и резкий.
- Ой-ёй! - вскрикнула она. - Мне показалось: сосны падают!
Ядрейко ухмыльнулся:
- С посвисту и леса кланяются!
Евфимия пыталась вторить атаману. Неудачно.
- Не всякая птица свистит, - молвил он. - Иная чирикает, а сова только пыхтит да щёлкает.
- Я, по-твоему, сова? - озлилась дева и прибавила: - Глупый свистнет, а умный смыслит.
- А ведь вокруг Шишовский лес! - сказал Ядрейко. - Вот, жду теперь своих.
Княгиня уважительно оглядывала сосны в белых рукавицах. Атаман развлёк беседой:
- Однажды возле себя слышу, стрела свищет! Я туда - свищет! Я сюда - свищет! Беда, думаю. Влез на берёзу, сижу - свищет! Ан, это у меня в носу…
- А не идут к тебе ватажники, - промолвила Евфимия.
- Пождём, - ответил он. - Скажется птица посвистом.
Из леса выскользнул на лыжах малый в куцем зипуне.
- Здорово, Парамша! - приветствовал его Ядрейко.
Тот склонил главу набок:
- Здравствуй, Взметень!
Спешились… А позади - такой же «парамша», постарше.
- Здорово, Онцифор! - сказал Ядрейко.
- Здравствуй, Взметень!
Былому атаману дали лыжи. Он спутницу взял на руки. Шиши вели коней. Снег был глубок и рыхл.
Петляли по лесу незримыми путями, ведомыми лишь проводникам. Вышли к поляне с несколькими землянками. Снег завалил их. По парным зевам только и определишь, что ходы ведут вниз, в подснежное жилье. Евфимии освободили всю землянку. А не очень-то общались. Взметень принёс мясо с кашей и ушёл. Сидела при светце одна. Когда надумала пройтись, куда князья ходят пешком, увидела над головою звёзды. Из землянки рядом вырывался хор жутких голосов. Песня отвращала и притягивала. Евфимия не слыхивала таких песен.
Ты взойди-тка, мать - солнца красная. Над горою-та над высокаю, Над палянай-та над широкою, Над дубравай-та над зелёною, Йыбыгрей ты нас, добрых моладцав! Мы не воры вить, ни разбойнички, А мы плотнички да топорнички. А срубили мы да построили Церковь Знаменья осьмиглавую. На осьмой главе - крест серебряной. Што на том кресту соловей сидить, Высоко сидить, далеко глядить. Он глядить: в лесу бел шатёр стоить, Под шатром лежить залата казна, На казне сидить краса-девица, Атаманова полюбовница. Приюснула та краса-девица, Приюснула, тут же проснулася, Нехорош-та сон ей привидился: Ей с казною-та быть пойманной, Атаману-та быть повешену…«Где я? - Княгиня, возвратясь к себе, прилегла на волчьи шкуры, коими застлан был жёсткий одр. - Куда судьба низвергла!»
Вошёл Взметень, принёс корец мёду с кипятком и хлеб.
- Дела такие, - присел он на низкий пень, заменявший стольце. - Они согласны перетряхнуть углическую колодницу, изъять князя. А дело кислое! Не разбой - мятеж! Схватят - виска с плахой, не схватят - шиш в мошне.
Княгиня сняла с шеи золотую крестчатую цепь, мужнин свадебный поминок.
- Отдай…
- Я гроша бы от тебя не взял, Евфимия Ивановна, - смутясь, принял цепь Ядрейко.
- Сумеют войти в колодницу? - спросила княгиня. - Запоры! Стража!
- Эх! - отмахнулся он. - Крюкастое узельчатое вервие на что?.. Спи спокойно.
И вновь гостья в одиночестве. Землянка пропахла зверем от волчьих и медвежьих шкур. Сон одолел без снов…
С утра шиши, став на лыжи, побежали своими тропами к Угличу. Ядрейко со спутницей продолжили путь верхами.
…Вот и повёртка, где она, наверное, сто лет назад покинула Чарторыйского и Шемяку…
Все постояния Ядрейко пролетал, как пустые места, да ещё опасные. Подменных коней взять было неоткуда. Он же спешил, боялся: Онцифор и Парамша со товарищи быстрее достигнут Углича. Путь их короче. Завзятые лыжеходы! А кони под вершниками уставали. Приходилось спешиваться, вести в поводу. Ночных костров у большой дороги не разводили. Спали самую малость в тепле сугробов, в кожухах, словно черви в коконах.
…Вот подберезье, где лесные девы вызволили её из-под стражи, связали Котова. Нет лесных дев. А Котов, как называл черноризцев Шемяка, «непогребённый мертвец»…
В подградии, не доезжая посада, Ядрейко постучал у хилых ворот.
- Что тут? - спросила Евфимия, ни рук, ни ног не чуя и языком едва шевеля.
- Тут у нас съезжий двор, - оповестил Взметень. Вышел татарин без шапки и без тулупа. Снег таял на его бритой башке.
- Прими, Обреим, ясырку, - указал на княгиню Взметень. - Оберегай как зеницу ока!
- Якши, - сказал Обреим.
- Почему я ясырка? - возмутилась Евфимия.
- Так будет надёжнее, - шепнул в ухо Ядрейко и удалился.
Татарин провёл в истобку. Взбил на одре перину с подушками. Принёс сухой сёмги, спинку белорыбицы, квасу. Оттулил-затулил задвижку в волоковом окне, успев ткнуть пальцем в дворовую сараюшку:
- Ходи туда.
И ушёл. Евфимия, насытясь, заснула…
А пробудилась в светёлке солнечной, в середине ле-га. Знобким ветром дышит окно. За ним - стена с заборолом. У одра - вдовая родительница, на этот раз - вся в улыбке. В ушах невзаправдашние слова: «О, дитятко! Радость нечаянная!» Неверящая дочь задаёт вопрос: «Какая может быть радость, матушка?»…
- Проснись! Эй, проснись! - тормошит Ядрейко. - Эк, тебя разморило!
- Мешаешь довидеть сон, - раздосадовалась Евфимия.
- Какие сны! Скверные вести! Князя с детками под охраной отослали намедни в Вологду.
Княгиня тут же окончательно пробудилась.
- Намедни? Отосланы? Вы попали в колодницу? Преодолели заплот? Узельчатое крюкастое вервие?
Ядрейко мрачно опустился на лавку.
- Обошлись и без вервия. Смотрителя поймали на пути к дому. Учинили допрос с пристрастием. Бедняга поклялся: из Москвы прибыл обыщик с приставами.
Власти вспугнул ваш заговор. Решили подальше упрятать вязников.
- Почему он бедняга? - княгиня, сбитая новостью, спрашивала совсем не о том.
- Почему смотритель - бедняга! - чесал в затылке Ядрейко. - Нет уже мужика. Чтобы от него о нас сказу не было.
Евфимия попросила:
- Выдь. Приопрянусь, поеду в Вологду. Спасибо тебе за всё.
Взметень встал.
- Не рано благодаришь? Сиди уж. Нагоним возок. Спрячем вяз ней в лесу. Вернусь за тобой. И - в Литву!
- Согласны ватажники? - обрадовалась княгиня.
- Согласны за великую мзду, - помрачнел Ядрейко.
Она с готовностью обещала:
- Из-под земли найду, сколько надо!
- Деньги им не нужны, - сморщился Ядрейко. - Нужен я! Требуют опять в атаманы. Обернусь Взметнём. Прощай, честная жизнь!
Евфимия не знала, что и ответить. Он вышел. Вскоре княгиня - следом. Взметень стоял у лестницы.
- Едем вместе, - решила она.
- Сказано - нет! - отрубил атаман. Глаза Евфимии засверкали:
- Я не подвластна твоим приказам! Спустились молча. Она вскочила в его седло. Он взял у Обреима вторую лошадь. Поскакали лесом, минуя Углич.
Скоро выбрались к Волге на торный путь. Волга скрыта под снегом. Белая дорога пуста. Проехали лесную повёртку. Вдруг вдогон - стая всадников. Первым нагнал Онцифор:
- Пошто взял бабу? Взметень не отвечал.
Скачка длилась всю ночь, весь день. Постояний не пропускали. На каждом становище меняли коней. Хозяин ахал и охал. Постояльцы жались к углам.
Вновь для княгини - время без сна. Ватажники не увядали в бессонье, как нелюди. Скачут лешаками из небывальщины! Сама она, как лешачка: чело без мыслей, сердце без чувств. Одна понуда - вперёд!
Парамша был первбней в скачке. Он первый и крикнул:
- Вона!
Глазастая Евфимия узрела чёрную точку. Вот уж и не одну, а несколько. Малые движутся вокруг крупной.
- Езжай навыпередки! - приказал Взметень. - Федько, Степко! Обтекайте! Судак, Ших, - со мной! Онцифор, не подпускай княгиню!
Онцифор стал впереди Евфимии. Попытки обойти его были тщетны.
А возок уже ясно виден. Охраныши вскинули бердыши. Завязалась схватка.
- Онцифор! - Евфимия поравнялась с ним. Он взял под уздцы её воронка. Вершница возмутилась:
- Отдай поводья! В ответ - ни слова.
Однако чем долее длилась схватка, тем Онцифор был разговорчивее:
- Свибло свалился! - скрежетал он. - Судак выбит из седла!.. Ших упал!
За Онцифоровым источнем торчал топор. Евфимия сторожко извлекла топорище, ударила своего стража обухом по руке. Он выронил повод её коня.
- Ястребица!
Она уже была у возка. С той стороны, где тихо. Ратились с другой. Выскочил жердяй-пристав. Обрушила на него топор. Повалился. Из дверцы выюркнул другой. Не пристав, крючок мозглявый. Припустил к лесу. Метнула топором… Есть! Спешившись, пошла к нему.
Разглядела и укорила себя: Астафий! Подсыльный, доводчик, но какими судьбами здесь? Взяла свой платчик, отёрла кровь, стянула на челе рану. Он остался лежать обмершим подранком. Она поторопилась к возку.
Там уже всё было кончено. Взметень стоял у открытой дверцы.
- Что князь?
- Он мёртв.
Княгиня кинулась к мёртвому.
Из другой дверцы вытаскивали крупный свёрток в овечьих шкурах.
Василий Ярославич завалился на заднем сиденье: на ногах колодки, на руках смыки. Она припала к голове мужа. Узрела рану. Вспомнила, как Яропка доложил Ивану Можайскому о стражнике, убитом Фотиньей: «На левом виску выше брови - пятенцо».
Взметень выволок её из возка. Княгиня оглядывалась:
- Где дети?
Онцифор показал глазами на большой куль из овечьих шкур. Бросилась к нему. Взметень удержал:
- Не ходи!
Вырывалась, обезумев. Зажав руками его десницу, изо всех сил сдавила с противоположных сторон. Он крякнул:
- И-и-их ты, как научилась! - Завернул её руку… Она со стоном упала в снег.
Взметень к ней наклонился:
- Не взыщи, Евфимия Ивановна, за погрубину. Не след тебе детушек глядеть. Нету их…
Помог подняться, отвёл к сторонке.
Парамша мрачно его осведомил, плюясь кровью:
- Потеряли двоих: Свибла с Шихом. Судак ранен в стегно. Климок - в темя. Стражников завалили всех. Остался один. Тот, коего она, - кивок на Евфимию, - топором достала. Привели в чувства. Открылся: послал его дьяк прозвищем Беда, вывезти вязней в Вологду. Чуть что на пути - убить. Вот… убил. Что его теперь?
Взметень почесал щёку, глянул на княгиню. Евфимия отвернулась:
- Порешите Коротоноса.
Вернулась было к возку. Онцифор преградил путь. Зашагала по ходу возка вперёд. Никто не остановил. Шла и шла… Руки голые стали зябнуть. Когда утеряла вареги? И кожаные рукавицы, что на них надеваются, тоже посеяла. Присела растереть персты снегом. Он валил щедро, спеша скрыть содеянное на большой дороге…
- Встань, госпожа, - прозвучал над ней зов Ядрейки. - Братья тут пособоровали. Вот решенье ватаги: детей с князем сопроводим через границу до Брянска.
Сын Иван Васильевич погребёт батюшку по достою. И сестру с братом. Ты куда? На чужбину? Евфимия потрясла головой:
- На Москву.
- Тогда забери коня. Степко с Федьком проводят тебя. - Атаман помолчал и прибавил: - Сам бы сопроводил, да не волен теперь в себе. Принадлежу им, - кивнул в сторону ватаги. - А цепь крестчатую вернули братья. Прими.
Она убрала руки:
- Не приму.
Он по-отечески коснулся её лба, перекрестил:
- Бывай благополучна, госпожа. Помни Ядрейку. Молись за Взметня.
Она скрыла лик на атамановой груди и отстранилась:
- Будь Бог милостив к тебе!
Ей подвели коня. Ватага с атаманом Взметнём и возком отправилась в сторону Углича. Евфимия же и Степко с Федьком погнали коней к Ростову.
14
Ясным зимним утром шагах в двухстах от Покровской заставы Степко с Федьком остановили коней. Смурые, необщительные, они глянули на Евфимию исподлобья, как на виновницу обременительного для них пути.
- Дальше не идём, - объявил Степко. Федько спросил:
- Коня возьмёшь или нам отдашь? Евфимия спешилась, отдала поводья.
Шиши ускакали с поводным конём. Она вошла в город, заставщики не остановили её.
Чем ближе к Торгу и кремнику, тем гуще двигались сани - дроги, пошевни и возки, - прижимая прохожих к тынам.
У Живого москворецкого моста чернела толпа. Евфимия подошла, спросила молодайку в убрусе:
- Что здесь?
Та отвечала, не оборачиваясь:
- Людей казнят.
- Когда же Бог спасет нас от всего этого? - не кому-нибудь, а скорее самой себе вслух произнесла Евфимия.
Тут же к ней подкатился с двумя сумами через плечо старенький нищеброд, охотник порассуждать.
- Бог хочет, чтоб все спаслись, - изрёк он. - Овогда человеколюбие своё и милость являет, овогда же казня, беды дая, насылает глады, бездождье, смерть, тучи тяжкие, поганых нахождения…
Душераздирающие крики пронеслись над толпой, и толпа затихла. Нищеброд так и остался с открытым ртом.
- Что там? Что там? - спрашивали задние у передних.
Люди стояли плотно, протиснуться не было никакой возможности.
Передние отвечали задним:
- Овому носы среза, овому очи выима… Как князя Василья на зло навели!.. Всяк бо зол зле погибнет!
Толпу вновь заставили стихнуть уже не крики, а стоны.
- Что там?
- Прокололи бока, захватили за ребра, подымают на виселицу…
Евфимия, пошарив в многолюдстве глазами, нашла монашествующего в скуфейке с глиняной чернильницей на животе, с пером за ухом. Сразу скажешь: пишет челобитные на Торгу за добрую мзду. Лик важный, борода - надвое.
- Не ведаешь ли, учёный муж, кого и за что казнят?
Писец снизошёл взором к любопытной.
- Изменников государевых. Замысливали неладно. И для того они за такие свои проклятые дела и вымыслы вящим мучением колесованы.
- А допрежь кнутом биты, - вставила всеведущая торговка.
Толпа всколыхнулась, стала редеть. Из гущи выпихнулся дородный гость, охабень распахнут, бобровая шапка набекрень. Чем-то он напомнил ушкуйников, наблюдённых в Новгороде Великом.
- Нецего тут смотреть. Концено. Целовеков зарезали, мясо режут.
- Переказнили всех, - вторила ему щепетуха, выплывавшая следом, как лодка за кораблём.
Евфимия подступила к явному новгородцу:
- Имён не помнишь, добр человек?
- Отцего ж? Помню. Объявляли. - Он смерил взором странную жёнку с подозрительностью, полной беззлобия. Мол, не злодейского ли поля ягода? Ну да Бог с ней! Начал перечислять имена: - Подеиваев Лука, Бренн Парфён, Давыдов Владимир… Иных не упомню. - И размашисто зашагал к питейному заведению на мосту.
Евфимия шла за ним. С трудом из-за толчеи миновала мост. Пересекла Торг. Вошла, крестясь, во Фроловские врата. Свернула вправо, направилась вдоль стены. Вот и женская обитель, учреждённая великой княгиней Евдокией, вдовой Донского. Церковь Воскресения никак не достроят. Стоит без верха. Стены и воды подведены по кольцо, где быть верху. Он ещё не сведён.
Евфимия остановилась у привратной калитки. Остоялась. Потом решительно пошла внутрь Кремля, к двору Ховрина, где возвышалась каменная церковь юз движенья. Когда-то входила сюда с отцом. Памятны его слова: «Моё решение несовратно!» Храм и тот, да не тот. Выстроен заново взамен распавшегося в пожаре, при коем Марья-разлучница вызволила её из пылающего дворца. Новый храм величественнее, просторнее. Не пожалел Ховрин средств!
Взяв свечу в ящике на последнюю денежку, она медленно прошествовала на середину, стала пред аналоем, приложилась к праздничной иконе и…
Свеча была поставлена комлем вверх. Обидящая веча! Ставится от обиженного на погибель обидевшему. И не оказалось никого рядом, кто бы видел это, нал молитву от обидящей свечи и произнёс трижды: На зло молящему несть услышания!..»
Сотворив крестное знамение, Евфимия попятилась к выходу. А спустя время постучалась в калитку у врат вознесенской женской обители. Здесь настоятельствовала матушка Марионилла, что, будучи в миру, среди жён боярских, несомненно, знала её отца, а значит, и её самое.
Отворила инокиня-привратница. Пришелица оглянулась на глухие заплоты кремлёвской улицы, скаты крыш, теремные закоморы в виде опрокинутых сердец, карету, разбрызгивающую рыжую снежную жижу. Не жаль было покидать всё это, только день выдался слишком солнечный.
КОНЧИНЫ
В келье старицы Харитины послушница в подоткнутой ряске, согнувшись в три погибели, оттирала камнем некрашеный деревянный пол. Мысли были о завтрашнем дне, когда, босая и непокрытая, станет она пред дверьми из притвора в храм, как покаянница перед раем и Небом, моля о входе. Потом её проведут к алтарю и настоятельница спросит: «Что пришла еси, сестра?» И нужно будет отречься от всех страстей и благ мирских, не только от жизни в миру, но и от самого воображения оной. Белица распрямилась, вздохнула. Благ мирских не сподобилась, сызнова воображать пережитое не хочет. И произнесёт она три обета: девства, послушания, нищеты. Девство соблюдено и в миру. С послушанием потруднее: предстоит подавить своволю, каждую из сестёр почесть старшей. Нищета же понудит переносить жёсткую и трудную тесноту. К этому она подготовлена своей предыдущей жизнью. С бестрепетным сердцем трижды подаст ножницы настоятельнице. И произойдёт крестообразное пострижение власов. Положится зачин пребыванию в ангельском образе…
- Сестра Евфимия, мать Марионилла зовёт! - просунулась в дверь голова монашки.
Евфимия одёрнула ряску, омыла руки, пошла в покой настоятельницы. Внезапный, непонятный позов удивил её.
Игуменья Вознесенского монастыря хладноликая Марионилла встретила новоначальную не по обычаю строго, а скорее взволнованно:
- Четвёртый месяц ты с нами. Каково можется в иноческой одежде?
- Молюсь, матушка, пощусь, готовлюсь к завтрашнему постригу.
- К завтрашнему, - склонила клобук Марионилла. - Сегодня же тебя сызнова требует этот мир на малое время.
Белица смотрела, не понимая.
- Государь наш Василь Васильич, - начала пояснять игуменья, - вот уже третий месяц как занемог. Отощал безмерно, изнурился до страсти. Сухотка у него.
Марионилла прервала речь, глядя на Евфимию. Как бы раздумывала: продолжить ли?
- Насколько мне ведомо, малоедение вызывает сухотную болезнь, - истиха вымолвила Евфимия.
Игуменья возразила:
- Нападёт сухотка, так не отъешься. - И досказана: - Лечцы прикладывали горящий трут к телу, да, видно, перестарались: сделались язвы, начали гнить. Умирает наш государь Василий Васильевич! - дрогнула каменным ликом Марионилла.
Евфимия ждала молча.
- Дьяк Василий Беда прислал человека, - повышенным гласом продолжала игуменья. - Великий князь повелел отыскать тебя. Хочет видеть перед кончиной. Человек ждёт в сенях.
- Василий Беда? - испуганно переспросила Евфимия.
- Не он, а его посыльный, - с досадой поправила Марионилла и приказала: - Исполни государеву волю.
Она возвратилась в келью старицы Харитины, в послушание коей была поставлена. Подсыхающий пол желтел, как свежевыструганный. Старуха будет довольна. Евфимия извлекла из короба единственную свою мирскую сряду: телогрею, бывшую на ней в день казни Мамонов. Середина марта хотя и не морозна, а ветрена.
В сенях рядом с княж человеком ждала игуменья. С молитвой благословила послушницу. Выйдя из ворот, Евфимия, скрепя сердце, оглянулась на монастырь.
Давно не возникало нужды выходить в застенье обители. В тонкой обуви, что не для слякотных улиц, быстро зазябли ноги. Поскорей бы дойти! Она облегчённо отёрла их у порога, когда с чёрного хода вошли в великокняжеский терем.
Сопровождающий, молчавший в пути, так же безмолвно провёл её по переходам в переднюю и остался за дверью.
А здесь стояли бояре, и люди духовные, и послы иноземные. Гнилостный дух тяжелил дыхание, будто властитель, с коим ждали прощания, уж не живой, а тленный. Евфимия остоялась в свободном углу у окна. Услышала тихую перемолвку двух архиереев: «Идуще же от ран его нежид смертный!» Иноземцы, не опасаясь быть понятыми, обменивались мыслями по-немецки. Евфимии достигли два слова: «Тиран смердит!»
Из государева покоя высунулся Василий Беда и остановился на ней глазами. Занявший место почтенного своего батюшки Фёдора Беды, Василий, будто меж ним и завтрашней инокиней не было ничего худого, очесливо произнёс:
- Взойди, Евфимия Ивановна.
Она вошла, стараясь унять дыхание, ибо смрад был невыносим. Стала у двери. Увидела одр, окружённый светильниками, столпившихся вкруг него чернецов и вельмож, а главное - лик Василиуса, беззенотный, утерявший человеческий образ.
Ближе всего были к государю Иван Иванович Ряполовский и Иван Юрьевич Патрикеев.
- Скажи, князь, - глухо обратился Василиус к Ряполовскому. - Нельзя ли приложить что-нибудь, дабы уничтожить дух?
- Государь! - отвечал Ряполовский. - Как тебе полегчает, тогда бы в рану водки пустить бы…
- Еремей! - плачно позвал Василиус придворного лечца Германа. - Ты пришёл ко мне из своей земли и видел моё великое к тебе жалование. Можно ли что-либо сделать, дабы облегчить болезнь?
Герман подошёл и деловито сказал:
- Видел, государь, большое твоё жалование ко мне и ласку. Помню твои хлеб-соль. А могу ли, не будучи Богом, сделать мёртвого живым?
Василиус повёл челом, как бы обвёл беззенотным взором присутствующих:
- Братья, я уж не ваш!
Подошли Спасский архимандрит Трифон и Симоновский Афанасий. Поднесли схимнические одежды: куколь великой схимы и кожаный наплечник - аналав, четвероугольный плат со шнурами. Такой порамник, опускаясь сверху, от шеи, и разделяясь на стороны, обнимает подручье и крестообразно располагается на груди и раменах. Шнуры же обвивают и стягивают тело схимника.
Тут Иван Юрьевич Патрикеев углядел Евфимию у двери и склонился к Василиусу. Потом подал знак деве подойти.
Она стала над отходящим, замерев духом.
- Евушка! - позвал он.
- Вот я перед тобой.
- Подай утешение, не оставь непрощённым. Она молчала.
- Скажи слово! - умолял умирающий. Она склонилась над ним:
- Не схимься. Грех тебе схиму на себя возлагать.
- Что? Как? - не понял великий князь. - Я хочу принять схиму.
- Бог накажет за святотатство, - ещё ниже наклонилась Евфимия. - Внемли последнему моему совету: не принимай схиму!
- Что эта женщина говорит? - возмутился архимандрит Афанасий.
- Евфимия Ивановна! - образумливал Василий Беда.
- А дочь Иван Дмитрича-то права, - истиха прозвучал голос Ряполовского на ухо Патрикееву.
Беда схватил Евфимию за руку, прошипел:
- Поди прочь!
Василиус из последних сил произнёс:
- Пусть будет по её. Дьяк оставил деву в покое. Бояре заговорили:
- Государь может превозмочь болезнь.
- Не дело богопомазаннику покидать мир допрежь смерти.
- Не даём воли схимиться.
Архимандриты Трифон и Афанасий со схимническими одеждами отошли.
За плечом Всеволожи прозвучал жёсткий сказ младшего великого князя, юного соправителя, завтрашнего самодержца Иоанна Третьего:
- Тётка Ефимья, тебе пора!
Голос напомнил девий бас Агафоклии на реке, в русалочьем сборище, что явилось во сне. Да и слова были те же.
Покорная Евфимия удалилась из великокняжеской ложни.
В передней услышала иноземцев:
- Опять юноша на престоле!
- Понаблюдаем новые смуты… Она, проходя, молвила по-немецки же:
- Этот юноша вразумит стариков. Не смуту увидите, а победы.
Невнятное для окружающих алалыканье иноземцев оборвалось, как отрезалось.
Тишина и зловоние проводили её из передней.
Не чёрным ходом, а с Красного крыльца покинула Евфимия государев терем.
Сразу же на площади у Пречистой узрела юродивого Максима с метлой в руках. Он тщательно, хотя бесполезно, мел рыжую жижу мартовской слякоти, приговаривая во всеуслышание:
- Государство ещё не совсем очищено. Пришла пора выместь последний сор!
Евфимия подошла к блаженному:
- Здравствуй, Максимушка!
Он оглядел её с высочайшим почтением.
- Была у великих мира сего? Ну, как они там?
- Государь наш Василь Васильевич умирает от сухотной болезни, - сообщила Евфимия.
- В кармане чахотка, в сундуке сухотка, - забормотал Максим, беря её за руку и уводя за собой.
- Куда ты снова ведёшь меня? - упёрлась она. - Опять к мельнице, что на Яузе?
- Нет, - не отпускал её руку блаженный. - Мельник меня прогнал. Лишил убогого кельицы. Отныне небо - мои стены и потолок…
Они прошли на Подол, вышли через Чешковые ворота к Москве-реке.
- Мне в обитель пора, - сопротивлялась Евфимия. - Завтра ухожу от этого мира. Готовлюсь…
- Завтра, завтра! - перебил, передразнивая, Максим. - Сегодня! Сегодня! И уж готова ты, давно уж готова…
- Ой, ноги промочила, совсем зазябли! - жаловалась пленница юрода, не решаясь выдернуть руку.
- А мы погреем. Сейчас погреем. - Он вытоптал на берегу пятачок.
Одесную - тонкий москворецкий лёд, ошуюю - стена чьего-то огорода… Максим изломал метлу. Огляделся. Отыскал взором кучу мусора у стены. Отпустив руку спутницы, стал таскать на пятачок доски ящиков, звенья бочек, всё, что могло гореть.
Евфимия с любопытством наблюдала за ним. Вот он вынул из-за пазухи трут, использовал прутья метлы, как растопку, вздул огонь…
- Погреемся! - пригласил Максим к занимавшемуся костру.
«Дзын-н-н! Дзын-н-н!» - долетел до них плачный колокольный звон из Кремля. Колокол-голодарь извещал о кончине великого князя, государя всея Руси, Василия Второго.
Завтрашняя монахиня осенилась крестом. Максим, занятый костром, на заупокойный звон не откликнулся.
Евфимии не хватало духу покинуть блаженного. Разрешила себе побыть с ним малое время. Подошла к огню ближе, чтоб согреть ноги.
- Сверху-то ты боярышня, а внутри-то инока, - потрогал сидящий на корточках юрод сперва телогрею, расстегнувшуюся у подола, а под ней ряску. - Близко-то, близко-то не подступай к пламени, не то сожжёшь свою сряду, - предупредил он, да поздно.
И она поздно вспомнила, что вшито в телогрею…
Воздух сделался внезапь зрим. Он стал красен. Всё очервлёнело вокруг. Снизу - как будто лёгкий толчок… Испугалась на миг. Тут же и успокоилась: вот чудо в первую седмицу поста! Хмарь рассеялась, объявилось солнце в полном блеске. Оттого всё красно…
Слава Создателю: она и Максим живы! Вон он стоит, руками взмахивает по-птичьи. Костер сгинул, будто его и не было, будто горсть сухой пеньки пыхнула и исчезла. Нету на пятачке костра. А блаженный здесь. И она жива. Ощущает существование всем своим чувствилищем. Каково легко, радостно!
- Максимушка!
Не отвечает. Оглох ли?.. Пошёл куда-то. Идёт от реки прямо на стену. Обезумел?
- Блаженный, пред тобою заплот!
Прошёл сквозь него, как дух. Взмахивает руками на чужом огороде…
Вот тут и уразумела Евфимия: оба они мертвы! Узрела: её стопы не досягают земли, зависли…
А боли нет. Не вдруг и приметила своё кружение в необжигающе огненном бесконечном столпе. Всё быстрее, быстрее… Голова пошла кружно. Сама вращалась веретеном. Или весь мир до незримости быстро вращался вокруг неё? Вспомнила сказочное поведывание поднятого смерчем Мамона. Зажмурилась! Пугалась открыть глаза. Казалось, откроет - увидит себя и безногою, и безрукою… Как долго длится эта кружба!
* * *
Она открыла глаза… Лежала в яркой светёлке. Вовсе и не весна - середина лета. А ветер не тёплый, знобкий проник в раскрытое окно. В окне - стена с заборолом. Евфимия знает: внизу, под стеной, сливаются две реки. Она ими заперта. Не пропускают к родному дому. А дом далече, там, где заходит солнце. Над нею у одра - вдовая изгнанница мать со счастливой улыбкой. До чего же вся светится! Давно не видела её такой. С тех пор, как после горестного обручения в Золотой палате выслана была со всей семьёю за Камень.
- Дитятко, радость у нас нечаянная!
Евфимия не в силах откликнуться. Её, привыкшую к опальной жизни, к беспросветности, но тишине, незыблемости, покою, нечаянная радость перепугала.
- Что, матушка, что? - наконец вымолвила она.
- Нарочный прибыл из Москвы. Здешний воевода объявил: мы свободны! Царской милостью возвращаемся в свой уезд. Вспомнил государь Алексей Михайлович о несчастной былой невесте! Разрешил поселиться в самой дальней нашей деревне. Приписал, правда: «А из деревни их к Москве и никуда отпускати не велено». Да Бог с ней, с Москвой! Всё-таки - дома, дома! Стряхни же послеобеденный сон! Очнись же для новой жизни!
Евфимия обняла родительницу. И не открыла, что мыслила: к этой неволе притерпелась, привыкла, а к новой ещё ой как надобно привыкать, себя уродуя, переламывая…
- Я рада, матушка! Я так счастлива!
385
1
Двоих детей Витовта задушили немецкие рыцари Маркварт Зальцбак и Шомберг в Крулевце (Кенигсберг).
(обратно)2
В первой половине XV века Великое княжество Владимирское (Московское) соседи именовали Суздальской землёй.
(обратно)3
Дневные часы считались от восхода и до заката солнца. В конце августа одиннадцатый час соответствовал примерно шестому часу вечера.
(обратно)4
Ямской гон - особо быстрая передача вестей, как при эстафете.
(обратно)5
Одерноватый - находящийся в полной, бессрочной кабале.
(обратно)6
Вятская республика была взята войсками Василия II и обложена данью в 1459 году (через шестнадцать лет после описываемых событий).
(обратно)7
Хлынов - главный город Вятской республики. Позднее - Вятка, Киров.
(обратно)8
Костры - здесь крепостные сооружения, род башен.
(обратно)9
Позднее Горбатый и Перхушков были посланы на Вятку, но, приняв взятку, отступили.
(обратно)10
Речь идёт о короле Людовике Одиннадцатом.
(обратно)11
Спустя тридцать лет А.Ф.Плещеев стал окольничим, а ещё через четыре года боярином.
(обратно)12
14 июля 1445 года в одном из крупнейших московских пожаров по свидетельству летописца сгорело около 3000 человек.
(обратно)13
Спустя полвека Семёну Ряполовскому по указу Ивана Третьего отсекли голову на Москве-реке за «высокоумие» по государеву выражению.
(обратно)14
Сорока шести лет Андрей Большой, ссорившийся с Иваном Третьим из-за уделов, был коварно схвачен, заключён в темницу, где через два года умер, прозванный Горяем.
(обратно)





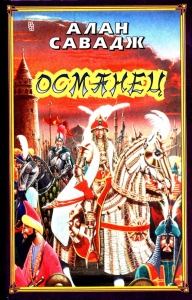


Комментарии к книге «Ослепительный нож», Вадим Петрович Полуян
Всего 0 комментариев