Великий раскол
Михаил Филиппов Патриарх Никон
Том первый
I Мордовский шаман
В 90 верстах от Нижнего Новгорода, в теперешнем Княгининском уезде, в 1605 году стояло село Вельманово, или Вильдеманово, а по раскольничьим источникам — Курмыши. Местность эта была трущобная, и село раскинулось в сторонке от дорог, в лесу. Все представляло в нем бедность, если не прямо нищету населения — старые избы, ветхая церковь.
Все постройки, потемневшие от времени, как-то теснились друг к другу, как бы из опасения не устоять одним.
Был прекрасный майский полдень. Деревья оделись уже листвой, запахло елью, сосною и березою, а певчие птички заголосили и защелкали на тысячи ладов.
Из одной из самых бедных изб вышел в это время крестьянин. Роста он был большого, мускулистый, плечистый, с светло-русою бородою; но голубые глаза богатыря светились такою добротою, а все лицо таким добродушием, что казалось, будто голова на этом туловище чужая.
Крестьянин с озабоченным и оторопелыми видом, без шапки выйдя из избы, взглянул в ту сторону, где была церковь, и, перекрестясь, направил туда шаги свои.
Он подошел к небольшой, но чистой избушке священника и остановился у ворот; черная мохнатая жучка было облаяла его, но, узнав мужика, стала к нему ласкаться.
На лай собаки вышел сам батюшка — невысокий человек, с редкою бородою и умными глазами.
— А, Минин, это ты, сердечный… что скажешь? Аль жена родила?
— Бог сподобил, — осклабил белые зубы мужичок, целуя руку батюшке, — сына дал и имя ему нареки, отче. Благослови, отец Василий, молитву прочитай над младенцем.
— Сейчас… сейчас, — засуетился отец Василий.
Несколько минут спустя он вышел в эпитрахили, с крестом и молитвенником. По дороге он заговорил, обращаясь к Минину:
— Сегодня память мучеников Исидора и Максима, св. Исидора юродивого; а также преподобных Никиты и Серапиона, — выбирай имена, все Божьи угодники[1]…
Минин призадумался и мысль ему пришла: один Исидор был великомученик, другой юродивый, уж будет ли хорошо назвать так и моего единородного; уж лучше назову его именем одного из подвижников Христовых — аль Никитой, аль Серапионом… И в этих мыслях он отвечал батюшке.
— Женка что скажет… дело женское… она назовет, а батюшка благословит.
— Пущай так.
Пришли они в избу. Внутри чистота, а на полатях сидит молодая женщина, белолицая, с добрыми темно-серыми глазами, да держит младенца в пеленах.
В парадном углу образ Божьей Матери, весь в шитых полотенцах, да лампадка горит, а тут же стол и на нем хлеб-соль да три свечки восковые.
Стал батюшка у образа, а Минин в это время подошел к жене и перешептывался об имени, какое нужно дать новорожденному, и жена его остановилась на Никите.
— Никой буду звать, — пояснила она.
Минин передал батюшке желание жены, чтобы младенца наречь Никитой.
Батюшка совершил благословение и, когда кончил, сказал хозяйке:
— Ну-ка, Марианна, теперь похвались ребенком…
Та раскрыла младенца, он был необыкновенно крупен.
— Экий богатырь, — невольно воскликнул батюшка, — а родить-то каково было!
— Три дня мучилась, — застонала родильница.
— И Бог воскресе в третий день, а в сороковой вознесся в славе одесную Отца, — произнес вдохновенно священник. — Благодать Божья да почиет на младенце, и да будет он подвижником Христа, как святой Никита…
И пока Минин стал готовить угощение батюшке, тот обратился к хозяйке:
— Дед мой. — так рассказывал он, — умер очень стар и помнил многих царей; а отцу моему рассказывал об опричнине, и о казнях лютых. Бысть глад, — присовокупил он, — по всей земле русской, а больше в Заволжье: во время жатвы дожди были великие, а за Волгой мороз хлеб побил, и люди помроша; а зима студена и снега паче меры. Тут игумен спасский, Маркел, Хутынского монастыря, оставя игуменство, жил в Антоновом монастыре, да сотворив житие Никите, епископу новгородскому, и канон, поехал к Москве… А после святой, гляди, и обрели мощи св. Никиты и перевезли их в Москву… И стал св. Никита чудо творить, что и словами не опишешь… Великий чудотворец!
Священник набожно перекрестился, примеру его последовали и хозяева.
Помолчавши немного, батюшка продолжал:
— Был еще св. столпник Никита, игумен переяславский… Великий чудотворец… Жил он в столпе… то было в княжение Всеволода III. Юный князь Михаил, сын Всеволода Чермного, немощен был и, услышав о чудесах столпника, поехал к нему в Переяславль. Принесли недужного к столпу, он пал ниц и рек: «Св. отче, прости мои согрешения и исцели мя недостойного раба Божьего». Поднял тогда свой жезл столпник и рече: «Господь Бог прощает кающихся, и имя его исцеляет недужных», — прикоснулся он жезлом к Михаилу и крикнул: «Христос воскресе, встань и ты». Князь встал, исцеленный и радостный; а бояре срубили крест и надписали на нем 6694 год (1186). Паломники и теперь ходят туда и приносят оттуда по кусочку креста.
Едва отец Василий кончил рассказ, как появился на пороге шаман мордовский из ближайшего мордовского селения. Каждое лето он нанимал на сенокос Минина.
Увидев батюшку и новорожденного, он догадался, в чем дело, и спросил:
— Сына Бог дал?
— Сына, — отвечал хозяин.
Тогда шаман пошептал какую-то молитву и, подойдя к хозяйке, сказал:
— Покажи сына, не сглажу; отплюешь три раза, а я скажу, чем он будет.
Мать неохотно раскрыла младенца. Взглянув на него, шаман затрепетал, упал на колени, стал бормотать какие-то молитвы, потом произнес восторженно по-мордовски:
— Будет он царь не царь, а выше царей, князей и бояр; будет он и богат, и нищ, и знатен, и убог; выстроит он не то города, не то монастыри; будут туда ездить и цари, и бояре, и князья, будут за него молиться и будут проклинать; будут люди злобствовать, что царь и великий дух его взыскал, но он победит всех врагов; блажен он будет, как ни один из живущих здесь, и землю он прославит, на которой он родился и где будет погребен…
С этими словами шаман сорвал с своего ожерелья одну золотую монету и, кладя ему в пеленки, поцеловал его, со словами:
— Пусть это золото умостит тебе дорогу, какую уготовал тебе сам великий дух.
На хозяев эта восторженность подействовала неприятно, и на лицах их выразилось не то недоумение, не то страх.
— Что ты, что ты, — заметил скромно Минин. — Мы люди простые, а изба наша и ветха и холодна, да и не за что Богу взыскать нас и сына нашего милостью своею.
— Не говори это, Минин, — серьезно и строго произнес батюшка, — коли Бог захочет взыскать своей милостью кого, то и взыщет, хоша ты и крестьянин, и в убожестве. Родился Христос Бог наш в яслях, да на поклонение пришли к нему и волхвы и цари языческие, — и младенцу сему дано знамение — привел к нему Сам Господь на поклонение шамана языческого… Да будет же знамение это и путем Господним. Пью здравицу за новорожденного! — И с этими словами батюшка осушил стоявший на столе сосуд с пенным вином.
II Мне путь — один лишь монастырь
Когда Ника стал сознавать все окружающее, ему было так хорошо и привольно. Мать так нежно с ним обращалась, да и отец, как возвратился из города, куда он часто ездил по извозу и со своими хлебушком, или пряников, или орехов навезет, а иногда и сапожки, и ситцу на праздничную рубашонку. И выйдет Ника из избы на улицу, и весело ему там щеголем поиграть с детьми: зимою в снежки да в салазки, а летом — в прятки в ближайшей лесной гуще.
Но слегла однажды зимою мать, застонала и более не вставала, даже Нику не узнавала, а к Рождеству перестала она говорить, обмыли ее и положили на стол, потом явился священник, читал что-то, кадил, потом простились все с его матерью и его заставили поцеловать ее. Когда он приложился к ней и почувствовал холодное ее тело, да увидел закрытые ее глаза, — он испуганно зарыдал и обмер.
Когда он очнулся, он увидел возле люльки своей какую-то чужую женщину с заплетенными косами.
— Мама! — стал он кричать.
— Мамы твоей нет…
— Где мама? — неистово заревел Ника.
— Я буду тебе мамой, — сердито закричала на него сидевшая близ него женщина.
Ника испуганно сдержал свой крик и, оглядев крикнувшую на него женщину, узнал в ней соседку, ходившую часто к ним и через которую мама нередко бранилась с отцом.
Ника приподнялся из люльки и увидел сидевшего на скамье у образов отца; он что-то делал.
— Где мама? — отчаянно крикнул Ника.
Отец вздрогнул, подошел к нему и, обняв его, кротко сказал:
— Маму твою Бог принял.
И Ника повис у отца на шее.
— Полно-то баловать парня, — озлобилась сидевшая здесь женщина; вскочила со своего места, насильно оторвала его от отца и, ударив его несколько раз, бросила обратно в люльку.
Больше Ника ничего не помнил; когда же вновь очнулся, то увидел ту же женщину, только с платком на голове.
Ника испуганно на нее взглянул, вспомнил, как она оторвала его руки от шеи отца и как она больно него била.
— А паренек-то очнулся, — послышался ее резкий голос. — Неча сказать — живуч, точно котенок…
На это замечание отец подошел к люльке и нагнулся к Нике; тот боялся его обнять, но поцеловал его горячо. При этом он почувствовал, что горячая слеза отца капнула ему на лицо. Эта капля была чудодейственна — Нике сделалось так легко и так захотелось ему жить; а тут, как нарочно, солнышко-ведрышко заглянуло в окно…
С этого дня Нике становилось все лучше и лучше, и он вскоре встал из своей люльки, а матери все нет как нет, спросить же не смеет, — еще сердитая новая мать прибьет.
Растет Ника не по дням, а по часам, мачеха поэтому и злобствует — то нужно другие сапоги купить, то рубашонку новую шить, а не то Ника много ест, Ника не там сидит, не там стоит.
И все это говорится с бранью и ему, и отцу, а зачастую ни за что вихры натянет, уши нарвет или чем ни на есть отколотит да накажет — отцу-де ни гугу! Иначе со света сживу…
Была осень; отец и мачеха куда-то ушли и дома не ночевали. В избе было холодно, и Ника со страху и с холоду забрался в печь и сладко в самой глубине ее заснул, свернувшись, как котенок. Спит он, и снится ему его мама: в белой она одежде, светлая, ясная такая и как будто свет от нее исходит. Простирает он ей свои худенькие ручки, хочет ее обнять и кричит:
— Мама, возьми меня от злой мачехи… отчего ты ушла?..
Но та глядит только на него любовно, ничего не отвечает, а тут что-то жмет его голову и что-то душит: он вскрикивает и просыпается… Оглядывается он, силится вспомнить, где он, и видит, что он в печи, а тут кто-то наложил в печку дров и подложил уже огонь, дрова чуть-чуть еще тлеют, и дым выносится в трубу, но через несколько минут или дым его задушит, или он сжарится. Он силится выбросить дрова, но дым его потухших головен душит его страшно. Начинает он вопить, и, к счастью, кто-то входит в избу, выбрасывает дрова и вытаскивает его из русской печи.
Ника от страха и удушья падает в обморок: спасительница его обливает ему голову водою и приводит его в чувство; он узнает одну из деревенских вдов Ксенью.
В это время входит мачеха и, узнав в чем дело, бьет его жестоко и вопит: — Вот что вздумал, в печи спать? Да хоша б и сгорело зелье…
Вдову возмутило это, и она начала умолять мачеху отдать ей Нику на воспитанье.
— Возьми, корми и одевай его, да с тем, пущай мне служит.
Согласилась на это вдова и взяла к себе ребенка да стала ходить за ним, как родная мать…
Проходит так время, а он все растет да растет, так что мачеха сначала гусенят заставляла его пасти, потом свиней, а там и скотинку загнать в хлевок и дров аль воды принести.
Той порой и родись у его мачехи девочка; вначале ему весело было видеть живое существо, которое ему улыбалось, но на другой годок мать стала заставлять его носить ее по целым дням. Измается Ника своею ношею и посадит под дерево свою сестренку, а сам глядит, как муравьи тащут разные разности в гнездо свое; и диву он дивится, как такое маленькое существо имеет такую сметку: обойдет и камушек, и лужицу; и думает Ника: как буду большой, все это узнаю, обо всем проведаю, порасспрошу больших; спросил бы маму — прибьет, отца спрошу, а тот — «так Бог дал». Кто же тот Бог? Спроси, говорит, батюшку, тот больше меня знает.
И сделался батюшка идолом Ники, потому что о чем бы он ни спросил отца, тот все на батюшку указывает.
И вот Ника зачастую носит сестренку к избе батюшки и ждет по целым часам, чтобы увидеть его, а тот, как, бывало, выйдет из избы, непременно погладит его по головке и замолвит к нему несколько ласковых слов да скажет:
— Расти, расти, богатырь мой, выйдет из тебя человек. А «Отче наш» помнишь?
— Помню, батюшка.
— Так научу тебя «Богородицу».
И сядет батюшка на скамью у избы своей, и учит он терпеливо Нику «Богородицу», и дивится он его смышлености и памяти.
Так за лето батюшка выучил его многим молитвам, кондакам, ирмосам и акафистам, а как настала зима, упросил он вдовушку Ксению и Минина, чтобы они посылали к нему Нику для изучения грамоты.
За одну зиму Ника уже бойко читал и выводил довольно правильно каракульки тогдашней письменности. Между тем жизнь его сделалась невыносима, мачеха давала ему непосильные работы, подымала его с петухами и позволяла ему идти спать к Ксении, когда ей уже самой невмоготу вынести.
И чего Ника не делал? И работу жнеца, и работу швеи. И корову выдой, и лошадь убери; сапоги почини и рубаху аль кафтан заплатай.
Всему этому он не перечил и все делал с улыбкой, и работа у него шла исправно, да мачеха всегда бывала недовольна, и вместо поощрения на него сыпались лишь тумаки куда и чем ни попало.
Злобило это Нику и думал он думу:
«Господь, говорит батюшка, милосерд, всепрощающий, всеблагий, а людей зачем он создал такими злыми, неправедными…»
И заходит однажды Ника к батюшке, чтобы и тот разъяснил ему это: мысль эта мучит и жжет его, она требует ответа.
На вопрос Ники батюшка задумался и, вздохнув, сказал:
— Не создал Бог людей злыми, а люди сами делают себя такими, они не хотят учиться слову Божьему, а оно говорит только о любви. Видишь ли, Ника, одним крещением человек не делается добрее, а нужно еще крещение духовное.
— Что такое крещение духовное? — спросил Ника.
— Крещение духовное — это слушание и усвоение себе слова Божьего; ибо оно одно только ведет к царствию небесному и к богоугодной жизни, ко всякому благу и душе спасению.
— Батюшка, — воскликнул тогда Ника, — дай же и мне услышать это слово Божье, чтобы спастись и попасть в царствие небесное.
— От тебя это зависит, Ника, я уговорю отца твоего, чтобы он отдал тебя ко мне, с тем, что я выучу тебя и священному писанию, и поучениям св. отцов и разным житиям святых угодников и подвижников. Выучу я тебя, как служить обедню, вечерню, заутреню, молебны и другим службам и всяким дьяконским обязанностям. И будешь ты со временем аль дьякон, а может быть, и повыше. А ты это и мне сослужишь службу: я без дьякона, и ты будешь помогать мне в церкви.
— Батька и мама не отпустят меня, — сказал Ника.
— Отпустят, коли скажу, что заработки твои пойдут к ним.
Ника схватил руку батюшки, поцеловал ее и прослезился.
— Да только поскорее, — всхлипывал он.
На другой день батюшка зашел к Минину и представил ему такую блестящую будущность для Ники, что у самой мачехи глаза разбежались, и они отпустили его к священнику.
Отец Василий, как малоросс, воспитывался в Киеве и был для того времени очень просвещенный человек; он не только изучил всю тогдашнюю богословскую литературу, но знал почти наизусть все летописи и греческий язык; притом он обладал светлым природным умом.
На Нику он имел огромное влияние своею добротою — тот терпеливо слушал его и в несколько лет изучил все то, что сам батюшка знал, а церковную службу он изучил всю наизусть.
Кроме батюшки, в доме было еще одно существо: это девочка, дочь священника, тремя годами моложе Ники.
Последний вообще любил детей и в сестренке своей души не слышал и часто носил ей гостинцы, то со свадьбы, то с крестин, на которых он служил с батюшкой. О дочери же священника и говорить нечего: он по целым часам просиживал с нею и рассказывал ей о божьих людях, угодниках, подвижниках, о народах и землях; только один греческий язык был выше ее понятий.
Так они росли вместе и жить не могли друг без друга; горе и радость одного были горем и радостью другого.
Мачеха заметила это, и сделалось ей и больно, и досадно, что Ника отдает предпочтенье пред ее дочерью дочери священника, и вот зашла она однажды к батюшке и наговорила ему с три короба: что он-де не глядит за своею дочерью, а люди смеются, что они с Никой точно жених с невестой. Озлился батюшка и на Минишу и на дурные толки, выругал доносчицу, но с этого времени он удалял Нику от своей Паши. Молодые люди это заметили и им сделалось обидно и больно, но в угождение отцу они начали при других удаляться друг от друга и втихомолку перешептывались.
Таинственность и запрет расшевелили кипучую и нежную натуру Ники, и он однажды поцеловал девушку… Всю ту ночь он не спал, плакал и молился; вспомнил он об угодниках, умерщвлявших плоть свою, и о дьяволе, принимающем различные образы для искушения человека, и сделалось ему страшно и за грех свой, и за свой поступок. Хотел он ночью же разбудить батюшку, броситься к его ногам, исповедаться и просить прощения его согрешениям.
Он уже поднялся со своего ложа, вот уж он у постели старика, но из другой комнаты слышится голос девушки: она бредит во сне: «Ника, — говорит сладкий голосок, — Ника, люблю тебя… Люблю, мой сокол»…
Вне себя Ника идет в другую комнату, не помня себя, обнимает спящую и горячо… горячо целует ее.
Очнувшись, он одним скачком вернулся к своему ложу, бросается на постель и, уткнув лицо в подушку, рыдает и шепчет:
— В монастырь… мне путь — один лишь монастырь…
III Макарьевская обитель
На другой день Ника избегал встречи и с батюшкой, и с его дочерью, забравшись в гущу леса. Он написал священнику письмо, в котором, изложив свое желание посвятить себя служению Богу, извещал его, что он удаляется в монастырь св. Макария.
Положив письмо это на столик, Ника ночью поднялся тихо со своего ложа, вышел из избы и, взяв на дворе из повозки приготовленный им днем посох и котомку с хлебом, упал на колени, помолился и вышел за ворота.
Тихою поступью направился он из села. Ночь была лунная, летняя, и вся окрестность живописно рисовалась в его глазах. Ему сделалось жаль того места, где так много он страдал и где вместе с тем он был так счастлив. Сделалось ему жаль даже ветхой их церкви, развалившихся заборов, деревенских собак и всей неприглядной здешней обстановки.
Сердце у него сжалось, слезы полились из глаз, и он хотел было уж вернуться в село, но что-то как будто шепнуло ему: «Это плоть говорит в тебе — не станешь подвижником, коли не будешь умерщвлять плоти своей».
При одной этой мысли Ника стал читать «Помилуй мя Боже» и, перекрестясь три раза, пустился в дальнейший путь к Унже.
Чтобы рассеять свои грустные мысли, стал Ника вспоминать, что рассказывал ему батюшка о св. Макарье, которого называли Желтоводским.
Этот великий подвижник основал монастырь на берегу Унжи, вблизи черемисов, мордвы и казанских татар, чтобы внести туда свет Христов. У этого-то монастыря раскинулся маленький городок Макарий. Во времена княжения Василия Темного монастырь был сожжен казанскими татарами, а монахи или перерезаны, или полонены; горожане же разбежались, но потом место это немного населилось, так как торговый путь чрез него шел в Казань.
Но Бог судил этому месту иное; при отце Ивана Грозного казанский царь перерезал у себя без причины всех московских купцов и посла государева Василья Юрьева (одного из предков ныне царствующего дома). Великий князь Василий Васильевич пришел в великий гнев и, отправившись в Нижний Новгород, послал царя Шиг-Алея, князя Василия Шуйского — с судовою, а князя Бориса Горбатого с конною ратью.
Военачальники резали и истребляли все на пути, а при устье Суры основали крепость; оставив здесь гарнизон, Алей и Шуйский возвратились в Нижний.
Весною полки, гораздо многочисленнейшие, выступили в Казань, чтобы завоевать это царство.
Войско простиралось до ста пятидесяти тысяч человек, в числе их были наемники из литовцев и немцев.
Войсками командовали Шиг-Алей, князь Иван Бельский и Горбатый, Захарьин (тоже один из предков царствующего ныне дома), Симеон Курбский и Иван Лятцкий. Царь казанский Саип Гирей, узнав об этом, бежал в Крым, оставив в Казани 13-летнего племянника своего Сафа Гирея.
Татары, черемисы и мордва присягнули мальчику и готовились к обороне.
Главный воевода Иван Бельский 7 июля высадил за Казанью пред Гостиным островом судовую рать и, расположив войска на берегу реки, двадцать дней бездействовал.
Между тем казанцы вышли из крепости, расположились тоже лагерем и не только беспокоили, но истребляли и травы, и хлеба, чтобы оставить нас без припасов.
Воеводы наши почему-то глядели на это хладнокровно, и когда в Казани сгорела крепостная деревянная стена, то на глазах наших войск казанцы построили новую.
Вдруг разнеслась весть, что наша конница перерезана; войсками нашими овладел такой страх, что они чуть-чуть не разбежались; но оказалось, что только один отряд уничтожен черемисами; другой же, напротив, на берегу Свияги одержал над черемисами и казанцами победу.
Войска ждали, между прочим, из Нижнего подвоза пушек и припасов, которые князь Иван Палецкий должен был доставить на судах.
Но с ним случилось несчастье: в том месте Волги, где имеются острова, черемисы запрудили ее каменьями и деревьями. Когда суда князя Палецкого подошли к этому месту, они, вследствие сильного течения реки, разбились о камни, а черемисы с высокого берега бросали в русских бревна и каменья.
Несколько тысяч людей были убиты или утонули, и князь, оставив в реке большую часть военных снарядов, лишь с немногими судами достиг стана. Отсюда и пошла в народе поговорка:
С одной стороны черемисы, А с другой — берегися.Медлить дальше нельзя было, и Иван Бельский наступил на Казань. Казанцы, черемисы и мордва заперлись в крепости.
Началась осада, и Казань едва бы выдержала ее, тем более что немцы и литвины жаждали штурмовать крепость, но воеводы предпочли взять с Казани подарки и под предлогом, что казанцы пошлют в Москву послов с повинною, — отступили. Но их ожидала Божья кара — они заразились в Казанской области какою-то болезнью, и более половины рати, т. е. около ста тысяч воинов, умерла на пути отступления.
После этого бесславного похода было заключено с казанцами пятилетнее перемирие; но государь запретил русским купцам ездить для торговли в Казань, а для этого назначил город Макарьев.
Так возникла знаменитая ярмарка Макарьевская, впоследствии перенесенная в Нижний Новгород, монастырь же св. Макария усердием купцов вновь отстроен.
В эту-то св. обитель Ника устремился, чтобы сподобиться подвижничества на пути просветления татар, черемис и мордвы.
Шел он в таких думах три дня, и на четвертый, голодный, весь в пыли, он приблизился к монастырю.
Было послеобеденное время, и колокола монастыря звали к вечерне. Не встречая никого на дворе монастырском, Ника подошел к колокольне, чтобы послушать музыкальный перезвон и дождаться, когда звонарь, окончив его, сойдет вниз.
— Единогласие, — подумал Ника, — производит такое успокоение, и у своего батюшки я ввел это при богослужении, а то в других приходах: иерей читает одно, дьяк другое, клир третье, а народ бормочет на разные лады, кто «Отче наш», кто «Богородицу».
Мысль эту перебил сошедший с колокольни низенький подслеповатый иеромонах. Он был в одном подряснике и в шапочке. Увидев высокого, почти трехаршинного статного крестьянина, с палкою и котомкою на плечах, он принял его за паломника.
— Откелева? — осклабил он желтые свои зубы.
— Издалека.
— Паломничаешь?.. Богоугодное дело… богоугодное…
— Не паломничаю, а поклониться пришел св. мощам Макария, поклониться и молить его заступничества у игумена сей святой обители, и да причислит он меня в виде послушника к святой вашей братии.
Иеромонах поднял вверх голову, взглянул на Нику и произнес полушутя:
— Да тебе в княжескую рать, а не в послушки; здесь тоже солоно хлебать — день-деньской в работе, а ночью на страже. И коли не грамотен, то век промаешься в послушках.
— Грамоте обучен и службу всякую церковную знаю; евангелие, писание святых отец и правила и греческую мудрость изучал…
Иеромонах прищурил глазки и сказал:
— Всякая ложь и гордость — бесовское наваждение… Откуда ты, паренек, мог у отца своего научиться так, да в такие годы… чай и двадцати нет.
— Без малого.
— Видишь, а наговорил с три короба; да вот мне с полвека, а дальше псалтыри не пошел… Иди со мною в братскую трапезу, там повечеряешь, а я схожу к отцу игумену, порасскажу о сказке твой. Вишь, и двадцати нет, а греческую мудрость изучил.
С этими словами иеромонах поплелся вперед. Ника последовал за ним. Вечерня, между тем, отошла, и в обширную трапезную собралась вся братия.
Братия дали гостю почетное место и накормили его.
После трапезы иеромонах повел Нику к игумену.
Последний принял его в своей келье. Это был добродушный, ласковый старичок.
Игумен расспросил подробно, откуда он, где и чему учился. Старика удивила обширность его знаний и его природный ум. Красноречие же Ники привело его в восторг.
Побеседовав с ним более часу, он вдохновенно сказал:
— Да будет благословен приход твой в сию обитель, стезя твоя — стезя св. Макария, и да почиет на тебе, сын мой, благодать Божия и мое благословение. Аминь. Ступай с миром — тебе я назначил келью, отдохни с пути, а завтра, после заутрени, зайди ко мне для беседы.
Так водворился Ника в монастыре св. Макария.
IV Сын Козьмы Минина Сухорукого
Ника сделался вскоре в монастыре Никитой Миничем — все стали его уважать и любить.
Удаляясь от всех дрязг и сплетен и занимаясь или делом монастырским, или же изучением богослужебных книг, чтением святых отцов и греческих писателей, Никита Минич образовал свой ум, и многое из тогдашних порядков и в монастыре, и в церковной иерархии стало ему не нравиться.
Восстал он против непорядков и, к его счастию, нашел сочувствие в просвещенном игумене — в монастырскую службу введено единогласие и стройный порядок.
Дошло об этом в город Нижний, и оттуда стекались богомольцы в монастырь, в особенности в дни праздничные.
Однажды вечером, пред каким-то праздником, соборная церковь монастыря была особенно полна.
Монахи на клиросе пели, а громовый голос Никиты Минина раскатами разносился по сводам храма и производил неизъяснимое религиозное впечатление, — вдруг к клиросу подошел высокий, плечистый боярин.
Остановись у клироса, он благоговейно молился, а когда кончилась вечерня, он, приложившись ко кресту и иконам, подошел к Никите Минину.
— Пожил я много на веку своем, много слышал, но такого благолепия не видел, и все говорят, дело то твоих рук; исполать тебе и слава и честь, батюшка, соколик, уж не побрезгай, приезжай ко мне в Нижний хлеба-соли откушать.
Никита Минин стал отказываться. Боярин настаивал.
Старик разобиделся и сказал:
— Ну, коли не хочешь, Бог тебя прости, а я, многогрешный раб Божий, думный дворянин Нефед Козьмич Сухорукий, — подавно.
Едва послышал дорогое тогда для каждого русского и в особенности для нижегородца имя, как Никита Минин схватил руку боярина, поцеловал ее и восторженно произнес:
— Не заслужил я еще чести великой сидеть за столом именитейшего думного боярина, прости меня, непременно приду когда-нибудь, и накорми хоть с челядью.
— Скромен ты, и тебе за это и честь, и слава, но св. евангелие гласит: последние да будут первыми. Будешь ты как мой гость сидеть на самом почетном месте. Простой был человек отец мой, по кличке Минин… мясник… прасол, а видишь, как взыскал меня своею милостью царь, ясный сокол мой, красное солнышко, — в думные дворяне пожаловал отца моего и меня. Теперь не побрезгай хлебом-солью; бывают у меня люди торговые, гости из Москвы, а ты человек молодой, почет и знакомство тебе не повредят.
С этими словами Козьма Минич простился с Никитою Миничем и вышел из монастыря — последний проводил его до Макария.
Спустя неделю из монастыря послали Никиту в Нижний. С трепещущим сердцем приближался он к терему Сухорукого, где временно остановился сын Минина, так как бывший терем его уступлен им был для невесты царя Хлоповой. У ворот стояло много троек, с бубенчиками, — лошади все кровные и охотницкие. Кучера в поярковых шляпах с павлиньими перьями да в армяках суконных с серебряными казанскими пуговицами. Все это были приезжие гости.
Когда скромный послушник, оставив лошадку у ворот, приблизился к сеням, навстречу вышел к нему Нефед Козьмич с хозяйкою дома, Марьею Ивановною Хлоповою; Нефед поцеловался с ним, взял от него просфору и ввел его в трапезную. По дороге Нефед скороговоркой сказал:
— Вот уже девятый годок, как схоронил я в Спасопреображенском соборе отца моего Минина, а теперь в поминальный день я там панихиду служил… Теперь у меня поминальная трапеза. Зайди… милости просим…
Они вошли в столовую.
Гости сидели уж чинно за столом. Сухорукий ввел туда Никиту Минича, и когда тот помолился пред иконой, он указал ему место под образами.
Послушник оробел, сконфузился и не хотел идти.
— Ступай, — сказал ему Нефед, — тебе, быть может, и повыше придется сидеть. Гляди, уж теперь благодать Божия на тебе. Коли б у отца моего таких молодцов была хоша бы только сотня, то весь мир был бы в полону у батюшки царя. Вот и я хоть недостойный раб, а сидел с батюшкою царем да именитыми боярами за одним столом… Теперь за молитву и трапезу.
Настоятель собора, присутствовавший здесь как единственный представитель духовенства на обеде, прочитал своим ясным и громким голосом молитву, и все взялись за трапезу.
— А расскажи-ка, Нефед Козьмич, — сказал вдруг один из гостей, — как сподобился ты сидеть с батюшкою царем да с именитыми боярами за одним столом?
— Длинно и долго рассказывать…
— Рассказывай, и трапеза слаще будет, коли услышим разумное твое слово, Нефед Козьмич, — заметил один гость.
— Не буду, — начал Сухорукий, — рассказывать то, что вам ведомо, а лишь то, как Бог сподобил узреть нам на царском пресветлом престоле красное солнышко Михаила Федоровича. Было то постом: собор в Москве избрал на царство отрока Михаила Федоровича, но не знал, где он пребывает; люди же сказывали, что он аль в Ярославле, аль в Ипатьевской обители с матерью-монахиней. Вот и избраны в челобитчики к нему Феодорит, архиепископ рязанский, три архимандрита, три протопопа, да бояре Федор Иванович Шереметьев (родич царский) и князь ростовский, да окольничий Головин, со стольниками, стряпчими, приказными людьми, жильцами и выборными людьми из городов. В день св. угодников тверских Саввы и Варсонофия, Савватия и Ефросина от собора все эти челобитчики с соборною грамотою уехали после молебна из Москвы. На десятый день они прибыли в Кострому по вечерне и послали от себя в Ипатьевскую обитель просить отрока Михаила Федоровича назначить день, когда они смогут представиться пред его светлые очи. Ответ был: на другой день. После оповестили об этом костромского воеводу и всех горожан, а на другой день, поднявши иконы, пошли все крестным ходом в Ипатьевский монастырь. Инокиня Марфа и отрок встретили за монастырем послов, приложились ко кресту и к святым иконам, но когда архиепископ вручил царю соборную грамоту и провозгласил об его избрании собором на царство, отрок заплакал и сказал: «Не хочу быть царем!» — «И я не благословляю его на царство!» — возопияла инокиня-мать. И оба не восхотели идти в церковь. Тогда епископ упросил их войти хотя в храм и принять грамоту. Тогда инокиня-матерь стала говорить послам: «У сына-де ее и в мыслях нет на таких великих преславных государствах быть государем, он-де не в совершенных летах, а Московского государства всяких чинов люди по грехам измалодушествовались, дав свои души прежним государям, не прямо служили…» Инокиня-мать заплакала и укоряла послов и в измене Годунову, и в убийстве лже-Дмитрия, в сведении с престола и выдаче ляхам Шуйского… Послы же со слезами молили и били челом Михаилу, но тот не соглашался. Тогда послы пригрозили ему, что Бог изыщет на нем конечное разорение государства. Инокиня-мать тогда лишь стала благословлять сына, приговаривая со слезами: «Надо положиться на праведные и непостижимые судьбы Божии». После того Михаил, крестясь, плача и прижимаясь к матери, взял из рук архиепископа царский посох.
Но юный царь медлил с выездом в Москву, и костромские воровские казаки (а не поляки) хотели его полонить в обители; Сусанин из села Домнино дал знать о том царю, и тот удалился в Кострому, а потом выехал спустя несколько дней… Поднялись в Москве всяких чинов люди и вышли навстречу царю, плакали, целовались друг с другом, как в праздник Христов, и отвели царя в Успенский собор. Здесь все духовенство с казанским митрополитом Ефремом отслужили молебен, и когда царь приложился к кресту, то все подходили и целовали у него руки. Из собора царь уехал в Грановитую палату, а инокиня-мать в Вознесенский монастырь. Хоромы же, которые желал иметь царь, золотую палату царицы Ирины с мастерскими палатами и сенями, а для матери деревянные хоромы жены царя Василия Шуйского, были без кровель, мостов, лавок, дверей и окошек, а в казне денег не было, да и плотников достать негде было. В день св.
Ольги было свершено св. венчание царя митрополитом Ефремом. При венчании Гаврила Пушкин бил челом, что князь Пожарский пожалован царем в бояре, а он, Пушкин только думный дворянин, что ему неуместно. Князь же Трубецкой бил челом на дядю царя, Ивана Никитича Романова, что тот-де будет при венчании шапку держать, а он, Трубецкой, только скипетр. Тогда царь велел записать в разряд, что для царского венчания во всяких чинах быть без места. На другой день праздновались царские именины. Зашел отец мой к князю Дмитрию Михайловичу Пожарскому до обедни, поздравил его с царскою милостью и поднес ему хлеб-соль на блюде; а он, сердечный, обняв, расцеловал отца и заплакал: «Не тебе поздравлять бы меня с боярством, а мне тебя, и не Ивану Никитичу Романову поднести было нужно шапку царю, а тебе, Козьме Миничу: коли б не ты, не быть бы и царю в Москве. Иду я теперь к обедне, и коли после службы царь пройдет мимо меня, — уж пущай не взыщут ни князь Трубецкой, ни Пушкин, сослужу им службу». — «Полно бога-то гневить, — возговорил отец мой, — из-за меня ссоры не подымай, пойду восвояси и поклонюсь св. Макарию, да сподобит меня сыном Божьим наречься, ведь сказано в св. писании, блажени миротворцы»… А князь Дмитрий поклонился отцу моему и вышел. Остался отец мой у него; а князь подождал, когда после обедни стал царь принимать поздравления и допускать всех к руке своей, да и подойди к нему и стал на колени. «Я к тебе с челобитною, великий государь», — молвил он. «На кого, — нахмурил брови ясное солнышко наше, — да еще в церкви и в праздник наш». — «На твоего вновь пожалованного боярина князя Дмитрия Андреевича Пожарского, — молвил князь. — Не местно ему быть боярином, коли Козьма Минич Сухорукий простой купецкий сын, не местно ему, князю, сидеть за царской трапезой, коли Козьма Минич будет сидеть с челядью». — «Прав и не прав ты, князь Дмитрий, — молвил тогда царь. — Мы из-за венчанья забыли свои обязанности, но поправить можно: с тобою местничал Гаврила Пушкин, а он думный дворянин; вот мы и по царской нашей милости жалуем Козьму Минича Сухорукова в дворяне думные, и будет он сегодня же с сыном за трапезою сидеть наряду с Гаврилою, а как он считает себя выше тебя, вот и Козьма твой Минич будет с ним сидеть выше тебя; а посему челобитную твою на меня и на князя Дмитрия возьми назад, а указ мой вели занести в разряд»… И сел отец мой и я за трапезой по указу государеву выше князя Пожарского… и… и… ясный соколик так любовно глядел на меня и напоминал романеей не обносить.
Нефед Козьмич заплакал.
Никто так внимательно не слушал этот рассказ, как Никита Минин: он, казалось, обратился весь в слух, и когда тот кончил, он поднялся с места и вдохновенно сказал:
— Вознес отца твоего, Козьму Минина, государь наш батюшка, светлейший царь, высоко, но сам он вознес себя еще выше: вся русская земля знает его имя, и перейдет оно во веки веков во все уста и будет имя его славнее имен царей и князей земных, и прославится он как Маккавеи, погибшие за свою святую землю, и поставят ему праправнуки памятники, как некогда ставили их своим героям греки и римляне, и будет гордиться им не только Нижний. Новгород, но и вся русская земля. Аминь.
Речь эта произвела сильное впечатление на всех присутствующих, и все как бы оцепенели; но Нефед Козьмич, привыкший говорить в народе, не остался в долгу.
— Спасибо за честь, — сказал он тоже восторженно. — Но коль имя наше превознесется за то только, что мы уничтожили воров, то твое имя еще выше превознесется, ты будущий устроитель нашей церкви. Благодать Божья снизошла, и дух Божий почиет на тя.
— Аминь, — произнесли единогласно все присутствующие.
V Суженого конем не объедешь
В Древней Руси монастыри наши, в особенности на бойких местах, были очень богаты и по составу своему имели настолько же духовный, как и мирской элемент. Источником их богатства было то, что и князья, и бояре дарили их своими вотчинами, что и они, и крестьяне их пользовались различными льготами. Притом в смутные времена в монастыри, имевшие крепкие стены и большие хлебные и иные запасы, стекались со своею движимостью знатные и богатые люди. Самый состав братии обновлялся и пополнялся знатными и богатыми: совершая в продолжение всей жизни своей разные неправды, те приходили к концу дней своих отмаливать грехи свои. Поминовение усопших было тоже одною из причин обогащения церквей и монастырей — богатые грешники их поминали или поминали тех, кого они погубили.
Народная былина о Василии Буслаеве говорит, что Василий, пережив первую молодость в удальстве, вспоминает прокаченную буйную жизнь, много грехов у него на душе, надобно отмолить, и вот:
Приходит Василий Буслаевич Ко своей государыне матушке: Как вьюн около нее увивается, Просит благословеньице велико: Идти мне, Василью, в Ерусалим-град, Со своею дружиною храброю Мне ко Господу помолитися, Святой Святыни приложитися, Во Ердане реке искупатися…Такими Буслаевичами были переполнены монастыри, а потому в них нельзя было искать ни знания, ни учености, ни подвижничества, и последнее было исключением из общего правила. В некоторых монастырях поэтому этот сброд вносил непорядок и даже разврат, в других же они вели себя благообразно и исполняли монастырский устав.
Монастырь св. Макария принадлежал к последним, и Никита Минич, резко отличавшийся от остальной братии, не мог не повлиять на них сильно, тем более что юный послушник не проповедовал в то время аскетизм, а требовал только благолепия в церковном служении и восставал против разных суеверий, предрассудков и языческих обычаев. Подобная проповедь, очевидно, должна была иметь успех в монастыре, куда удалялись лишь или для безопасности, или же для проведения в мире старости; вот почему монастырь принял охотно его новшества, так как они разгоняли их скуку и однообразную жизнь.
Но настала Макарьевская ярмарка, и она разнесла весть об единогласии и согласии в пении и в церковном служении по целой русской земле. Услышал об этом и старец, митрополит казанский Ефрем, венчавший царя Михаила Федоровича на царство, и почтенный иерарх, проездом в Москву, остановился в монастыре, чтобы самому убедиться в новых монастырских порядках.
Выслушал митрополит вечерню, на другой день заутреню и обедню и по окончании церковного служения вышел из царских ворот и сказал со слезами умиления слово, сущность которого была следующая: он-де считает себя счастливым, что на закате дней своих он наконец услышал истинное боголепное церковное служение; затем он обратился к Никите Миничу и сказал: «Когда ты, юноша, богом посланный и Богом избранный, читал, то, казалось, ангелы с небес восхваляют Божью славу».
После же того, как митрополита разоблачили, и он удалился в келью, где он поселился, он призвал к себе Никиту Минича и долго с ним разговаривал, удивляясь его мудрости и знаниям.
На прощанье митрополит сказал:
— Сын мой, ты достоин быть служителем алтаря, выбирай, что хочешь: или быть иереем, или принять ангельский лик. Ты молод и, быть может, захочешь вкусить брачную жизнь; я не мешаю тебе, делай как знаешь и как тебе сердце и дух твой говорят… Я еще неделю здесь пробуду, ты сходи домой и поговори с отцом твоим. Помнишь заповедь: чти отца твоего и матерь твою и благо ти будет на земле. Без благословения родителя несть спасения.
Никита Минич, бросившись к ногам митрополита, произнес растроганным и взволнованным голосом:
— Твое веленье, владыка, веленье Божье… Я сегодня попрощаюсь с братией, а там с Мининым и пойду просить благословения отца.
Братия, услышав о милости митрополита, советовала послушнику принять монашество. «Скоро будешь игуменом», — пророчили они.
Не так взглянул на это Нефед Козьмич, когда Никита Минич, придя к нему пешком из Макария, сообщил ему о решении митрополита. Он задумался и сказал:
— Митрополит прав, твори, что сердце тебе говорит. Но помни одно: ты молод и не должен зарывать в землю, что Бог тебе дал для его прославления. Погляди на себя, ты богатырь, каких мало; от работы не отказываешься, схимничаешь, а кровь так и бьет ключом в твоих щеках. Жениться нужно, народу нужны и богатыри, а в монахи постричься всегда успеешь. Время не уйдет, и ты отдашь земле земное, а Богу — Божье. Христос простил у кладезя грешницу и открыл ей царствие небесное… Вот мой сказ тебе, а там твори, что сердце и собственный разум скажут, — ведь он твой царь в твоей голове.
После того Нефед Козьмич дал ему на дорогу всякие запасы и предложил ему любого коня из своей конюшни. Последнее было для Никиты Минича истинным благодеянием, он оседлал лошадь, набрал на несколько дней овса с собой, простился с покровителем и уехал к отцу своему, в село Курмыши.
Село это с уходом Никиты Минича как будто еще более обеднело, как будто оно лишилось души своей.
На самом деле это было так: Никита Минин своей нервною натурою, своею энергиею, своею неутомимостью был образцом для всех; притом он безразлично помогал всем соседям, кому в поле, кому около дома — то забор поставит, то кровлю залатает, то подпоры поставит, где уж очень ветхо. И работа спорилась у всех, и весело было так, в особенности парням да девицам.
И в доме священника за его уходом было точно после покойника; батюшка ни с кем слова не молвил, да в церкви с причетником точно после тяжкой болезни едва слышным голосом читает.
Дочь батюшки, Паша, бледная и худая, точно тень ходит, и все из рук у нее валится, так что в доме по хозяйству запустение. Подумал-подумал отец Василий да съездил в Княгинин и привез оттуда вдову — тетку свою, чтобы хоть хозяйство приглядела, да и стряпней занялась.
По приезде бабушка допытывала Пашу, уж не зазнобушка ли у нее на сердце, что красавица измаялась. Но Паша молчит, только иной раз расплачется и уйдет под образа, пригорюнится и думу думает.
Вот сидят они однажды вдвоем, и бабушка болтает без умолку о разных разностях, чтобы рассеять Пашу; и чего-чего нет у нее: и о самозванце, и о колдунах, и о ведьмах, и об оборотнях, и невольно увлекается Паша этими сказками и начинает вслушиваться в болтовню бабушки.
— И Гришка, — бормочет старушка, — поженился на проклятой на литвинке, на еретнице, безбожнице; сыграна была свадьба в Николин день в пятницу; когда Гришка пошел в баню с женой — бояре пошли к заутрени. После бани Гришка вышел на красное крыльцо и закричал: «Гой еси ключники мои, приспешники! Приспевайте кушанье разное, и постное и скоромное; завтра будет ко мне гость дорогой, Юрья пан с паньею!». А в те поры стрельцы догадалися, за то-то слово спохватилися. Стрельцы бросились к царице-матери, та отреклася от лже-Димитрия, и рать христианская взбунтовалася. Маринка-безбожница сорокою обернулася, из палат вон она вылетела, а Гришка-засстрига в те поры догадлив был, с чердаков да на копья острые к тем стрельцам — удалым молодцам, и тут ему такова смерть и случилася…
Но, видя, что это не берет и кручину девичью не разгоняет, старушка продолжала шамкать:
— И пса слушают, и кошки мявкают, аль гусь гогочет, аль утица крякнет, и петел поет, и курица поет — худо будет; конь ржет, вол ревет, и мышь нарты грызет, и хорь нарты портит, и тараканов много — богату быти и сверьщков такожде; кости болят и подколенки скорбят — путь будет; и длани свербят — пенязи имать; очи свербят — плаката будешь…
— У меня день-деньской, бабушка, очи свербят. Ах! не дождусь, — невольно проговорилась Паша.
— Дождешься, дождешься, кот Васька моется, да, слышишь, и конь ржет… Чуют гостей…
В это время петух пропел; старушка набожно перекрестилась и стала шептать:
— Когда же двинут ангелы Господни одежду и венец от престола Господня, тогда пробуждается петел, поднимает глас свой и плещет крылами своими…
— Бабушка, бабушка, поворожи… погадай… уж больно соскучилась…
Старуха ушла в сени, принесли оттуда ведро с водой, прошептала над ним какую-то молитву и, осветив воду лучиной, сказала:
— Гляди, Паша, теперь в воду: что увидишь, то и сбудется.
— Вижу его на коне, он скачет! — воскликнула Паша.
— Видишь, суженого и конем не объедешь, — торжествовала старушка.
В это время послышался топот копыт, у Паши замерло сердце, она бросилась из избы на двор: это приехал из Нижнего Никита Минич.
Увидя на нем одежду послушника, Паша остановилась и побледнела.
Привязав лошадь к крыльцу, Никита Минич подошел к ней, обнял ее и поцеловал несколько раз.
— Видишь, ни к отцу, ни к матери, а к тебе заехал я… Отец Василий дома?
— Сейчас будет, он на крестинах. Зайди, Ника… что я!.. Никита Минич…
— Называй меня Никой, так называла меня и покойная мать… Но как ты похудела?..
— Тосковала по тебе, противный, а ты, чай, нагляделся на красавиц и в церкви, и на ярманке?
— Молился Богу, — серьезно возразил Никита Минич, — да о тебе, грешный, думал… Думал, думал и вот приехал… Где батюшка, пущай решает судьбу нашу…
В это время показался и батюшка, ему кто-то сообщил о приезде гостя.
Отец Василий, увидя Никиту Минича, бросился к нему на шею и не знал на радостях, что говорить.
Он ввел его в избу, посадил в углу под образа, любовался им и только приговаривал:
— Ну, спасибо… не ожидал… потешил старика… Паша… тетушка… что в печи, на стол мечи… чай, голоден… на коне приехал… где взял…
Между тем Паша и бабушка засуетились, накрыли на стол и действительно подали все, что у них имелось.
Когда старик немного успокоился, Никита Минич стал рассказывать ему о том, какие порядки он ввел в Макарьевском монастыре и как митрополит Ефрем взыскал его; в конце же своего рассказа он присовокупил:
— Теперь, батюшка, от тебя зависит: аль принять мне лик ангельский, аль быть иереем…
— Как от меня? — спросил отец Василий удивленно.
— Так, коли отдашь мне Пашу, тогда я иерей; коли нет — я чернец.
— А я тут при чем? — бормотал несвязно старик. — Погляди на голубицу, измаялась… Ты уж с нею поговори… а мне что?.. Ведь тебе жить с нею, а я на старости полюбуюсь вами… будьте счастливы, дети…
Старик заплакал. Паша не выдержала и бросилась к нему на шею; Никита Минич стала на колени, а догадливая бабушка сняла со стены благословенный образ матери Паши и подала его батюшке. Паша стала тоже на колени.
Отец Василий благословил детей, поцеловался с ними и велел им тоже поцеловаться.
Радостная семья после уселась за стол, и за чаркой пенного пошли расспросы и рассказы.
Никита Минич объявил, что митрополит долго не может оставаться в Нижнем и что желает рукоположить его у Макарья во дьяконы, а на другой день, после обедни, в старой церкви рукоположить в иереи. Нужно поэтому торопиться и назавтра обвенчаться, а на послезавтра ехать в Нижний одному; потом он приедет за женой.
Как ни была грустна такая торопливость, однако ж семейство отца Василия согласилось на это, и долго за полночь они толковали о том, как что устроить.
На другой день рано утром Никита Минич взял с собою Пашу и они отправились к отцу своему, чтобы попросить благословения.
Отец обрадовался его приезду и, когда узнал о милости к нему митрополита, пришел в восторг и тут же благословил его и Пашу. Сестренка Никиты Минича была тоже довольна его счастьем; одна только мачеха надулась, и когда они ушли, свирепо сказала, как-то злобно искривив рот: «Ведь дуракам всегда счастье».
Минин озлился в первый раз в жизни и возразил:
— Уж неча сказать — ты умница; погляди-ка на свое-то рыло, коли б умнее была, то не была бы Минишна… голь одна непрокатная… А он, гляди, — точно боярский сын: и зипунишка и порты суконные; да на лошади охотницкой, да на седле стремянном, да уздечка наборная… И помянешь ты мое слово, будет он не иереем, а архиереем, и подойдешь ты тогда сама к нему к ручке… значит, под благословение… вот-те тогда ты будешь дура.
— Уж и дура, — захныкала и заголосила баба, — из-за щенка.
— Ну, уж завела, — и с этими словами Минин махнул рукой и вышел из избы.
VI Царская невеста
Никита Минич после рукоположения его в иереи назначен был священником в Нижний Новгород, в небольшой приход[2], но слава о нем распространилась быстро между жителями города и между гостями, так что в воскресенье и в праздничные дни церковь наполнялась многочисленными богомольными, в особенности послушать его нововведения, т. е. единогласие в пении, согласие в службе и, наконец, проповедь его, которая была тоже новшеством.
С завистью глядели на него его собраты, остальные священники, и в особенности на последнее.
— Это латынство, — говорили одни.
— Это еретичество, — стали распространять другие.
Народ же приходил в умиление и от согласной службы, и от стройного пения на клиросе, и от превосходной его проповеди.
Говорил Никита Минич кратко, сжато и вразумительно; проповеди его касались земной жизни Христа, апостолов и угодников, и неоднократно он вызывал слезы умиления из глаз слушателей.
После одной из таких проповедей к нему после службы подошла бывшая царская невеста Марья Ивановна Хлопова. Она просила его и жену его Прасковью Васильевну хлеба-соли откушать.
Отец Никита поблагодарил ее и вдвоем с женою проводил ее домой.
За трапезой разговорились они о том о сем, и Хлопова рассказала свою странную судьбу.
— Взята я была годков девять тому назад, — говорила она, — в царский терем как невеста царя Михаила Федоровича и назвали меня Марьей-Настасьей и стали чествовать царицей и ожидали только возвращения из пленения польского святейшего митрополита Филарета, чтобы обвенчать меня с царем. И жених и царица-матушка любили меня… Но приключилась со мною беда: есть перестала, и так смутно сделалось. Михаил Михайлович Салтыков, племянник царицы, дал мне лекарство, а сам отправился к царю и объявил, что я испорчена, неизлечима… Посадили меня и всех моих родных в кибитки и отвезли в Тобольск; с возвращением из пленения святейшего Филарета меня перевезли с родственниками Желябужскими в Верхотурье, а год спустя — сюда, в Нижний… Живу я здесь и горе мыкаю, а царь доселе еще не женат.
— Царица небесная, да не дали ли тебе, боярышня, зелья? — всплеснула руками жена отца Никиты.
— Был у тебя Нефед, сын Минина, — вставил отец Никита, — ты бы ему порассказала. Он человек ближний и у царя, и у святейшего патриарха Филарета. Святейший человек, правдивый, он бы и сыск учинил.
— Салтыковы — люди знатные, сильные, им и вера… Говорят люди: с богатым не тягайся, с сильным не борись, — вздохнула Хлопова. — Рады мы, что из Сибири нас возвратили. Да и как доказать поклеп Салтыкова, и коли не докажу, выдадут меня ему головой, тогда и кнут, и снова Сибирь.
— Не страшись, боярышня! Коли будет кнут, то не тебе, а мне, — возразил горячо отец Никита. — Будешь ты в стороне, скажу, дескать, на духу баяла мне Марья Ивановна правду… А я расскажу патриарху.
— Как знаешь, отец Никита, ты умнее нас… Но гляди, тебе бы не пострадать. Молод ты, да и жена у тебя распрекрасная, — и при этих словах Хлопова поцеловала Прасковью Васильевну.
Последняя прослезилась и обратилась к мужу:
— Горяч и молод ты, Никита Минич, а там, на Москве, народ лукавый.
— Небось, молод я годами, а не духом. Поеду я к Нефеду Козьмичу Сухорукому, он меня наставит, и с Божьей помощью, если мы не низложим врагов, то дела не испортим и Марью Ивановну не погубим.
— В таком разе поезжай, отец Никита… Я тебе на дорогу дам.
— На дорогу и у меня станет; сколотили мы с женой кое-какую копейку бережливостью, а там, коли Бог и царь тебя, Марья Ивановна, взыщут, и нас не забудешь.
После этой беседы жена отца Никиты стала посещать ежедневно бывшую царскую невесту, а муж ее испросил у местного благочинного разрешение съездить на месяц в Москву и готовился к дороге.
Купили пару лошадей, телегу, наняли черемиса в кучера, уложили вещи отца Никиты, и после молебна у Марьи Ивановны, с благословениями жены, отец Никита уехал в Москву.
Тащился отец Никита по ухабистым дорогам медленно, без приключений, а недостатка в еде не было, — наложили ему и жена и царская невеста всего вдоволь, не только на путь в Москву, но и на край света.
Скучно ехать так долго отцу Никите, и заводит он с черемисом зачастую разговоры и шутит с ним.
— В первый раз, — спрашивает он своего возницу, — ты едешь в Москву?
— В первый, батюшка, в первый, а во второй еще не был.
— Понимаю, что во второй еще не был; да вот что, любезный, коли ты впервой въезжаешь в Москву, у ворот стоит старая-престарая баба, по прозвищу баба-яга, костяная нога, ни одного зуба; нужно ее поцеловать да в жены взять…
— Ай! ай! ай! — завопил черемис и ударил по лошадям.
— А кони-то чем провинились? — продолжал Никита.
— А ты, батюшка, впервой в Москве?
— Впервой.
— И ты, значит, поцелуешь бабу и женишься на ней.
— Я женат, а ты вот не женатый…
— Ай! ай! ай! — снова закричал черемис. — А моя Катька что скажет? Сказывала, заработаешь от батюшки, вернешься из Москвы и свадьба…
— Ничего, — успокаивал его Никита. — Царь на свой счет справит свадьбу твою в Москве.
Разговор этим кончился, и Никита забыл о нем.
Но вот и Москва белокаменная с златоглавыми храмами. Затрепетало сердце отца Никиты и замер дух. «Вот тут поистине место, где русским царям жить», — подумал он.
Но возница его останавливает вдруг лошадей и сходит поспешно с козел:
— Батюшка, рассчитай, — говорит он.
Отец Никита не понимает, в чем дело.
— Как рассчитай? — спрашивает он удивленно.
— Я домой, назад, к Катьке…
— Да как к Катьке?
— Да так, не хочу старой бабы.
Никон расхохотался.
— Чудак, — сказал он, — да я шутил…
— Нет, это правда. Спрашивал я по дороге во всех заездах и трактирах, и все говорят: правда…
— Да над тобою смеялись.
— Тебе-то смешки, а мне слезки…
— Полно дурить, садись и поезжай.
— Не хочу…
— Убедишься ли ты, коли я тебя наряжу в рясу, а сам сяду на козлы в твоем армяке, так и въедем в ворота Москвы.
— Ладно, садись.
Отец Никита уступил ему свое место и сделался возницей.
Когда они подъехали к заставе, черемис стал робко озираться и высматривать старую бабу; на беду у караулки стояла какая-то старая женщина.
Как выскочит из телеги черемис и как побежит назад; пришлось отцу Никите повернуть в обратную и догнать труса.
— Гляди, — успокаивал он его, — вот баба и уходит.
— И взаправду уходит, — успокоился черемис.
Сел он вновь в телегу, и они благополучно проехали заставу, и тогда лишь возница поверил и пересел вновь на козлы.
Едут они по великой Москве более часу, и все нет конца, а им-то нужно в Китай-город, и это, бают, сердце Москвы. Наконец и Китай-город показался, и указывают им дом Нефеда Козьмича Минина.
Палаты большие со службами и с садом; подъезжает отец Никита к терему, останавливается на улице, сходит с телеги и идет во двор.
Встречается служка и, узнав, что батюшка из Нижнего, бежит к дворецкому, а тот докладывает окольничему.
Выходит поспешно Нефед Козьмич на крыльцо, встречает дорогого гостя, обнимает и целует его, вводит в свои хоромы, а лошадей и телегу велит убрать в сарай и конюшни, а кучера в людскую.
Не знает Нефед, куда посадить отца Никиту, и расспросам нет конца: и о Нижнем, и о Марье Ивановне Хлоповой.
Сразу не говорит отец Никита, зачем приехал-де в Москву, а объясняет свой приезд тем, что хотелось-де поглядеть матушку Москву, людей посмотреть, уму-разуму набраться.
— Умно ты сделал, отец Никита, что приехал сюда в мире пожить, с людьми побывать едино, чтоб многое знать. Покажу тебе все храмы и монастыри Божьи, пушечный дом, печатное и иное дело да ряды немцев гостей.
Обрадовался отец Никита несказанно и благодарил Нефеда Козьмича за ласку и милость.
За гостинцы же, привезенные отцом Никитой, хозяин был ему обратно благодарен. Гостинцы же были: от Марьи Ивановны — водка малиновка в бочонках, а от жены отца Никиты свиные колбасы, изготовленные по-малороссийски, так как отец ее был хохол.
— Ну, — говорил хозяин, — подарок дорогой, завтра же покличу гостей, попотчую этим добром, да и тобой похвалюсь, какого друга нажил… Врагов, — продолжал он добродушно, — скоро наживешь, а друзей… ой! ой! как трудно.
И с этими словами он обнял и расцеловал Никиту.
Отвели гостю хорошенькую светелку, с кроватью, чистым бельем, да снесли сюда и сундучок его с бельем и платьем, а его черемис возгордел и баранью шапку свою начал носить набекрень, для придачи себе важности, а о бабе-яге забыл.
На другой день наехало много гостей к Нефеду — или бояре, или окольничие.
Напросил этих гостей Нефед на малороссийские колбасы, и ради них жарились к трапезе чуть ли не целые быки, целые боровы и сотни разной птицы, да целый десяток похлебок и ухи.
Отец Никита был им представлен как нижегородец и друг хозяина, причем Нефед рассказал о новшествах, какие введены им в Макарьевской обители и теперь в приходской церкви.
Родственники царя: Шереметьев, князь Черкасский и Иван Никитич Романов, присутствовавшие здесь, просили отца Никиту к себе.
— Видишь, — говорил гостю на другой день Нефед Козьмич, — вот и познакомился с людьми именитыми, ужо мы с тобою у них побываем.
— Благодарствую, и они понадобятся по делу Марьи Ивановны, — сказал вскользь отец Никита.
— По какому ее делу? Ты не говорил мне.
— Не смел… Видишь, Нефед Козьмич, баяли, она порченая, а это неправда.
— Все так бают, да и они, в Нижнем-то, говорили тоже.
— А мне, вишь, на духу она другое молвила: я-де не порченая… боюсь Салтыковых… так и не перечу…
— То-то и я у Хлоповой прожил больше трех месяцев, да порчи в ней не заметил; румяная, белая, точно кровь с молоком, и умница такая… Но баяли люди — порченая… А наше дело сторона… Да за что же боярин-то кравчий, Михаил-то Михайлович Салтыков, на них взъелся?
— Бают так: ходил царь с приближенными в оружейной палате, здесь был и Салтыков, и дядя невесты, Гаврила Хлопов. Поднесли царю турецкую саблю, и все ее хвалили. Салтыкова взяла злоба, и он сказал: «Вот невидаль! И на Москве государевы мастера такую сделают!» Тогда государь обратился к Гавриле Хлопову и спросил: «Как думаешь, сделают ли такую саблю в Москве?» — «Сделать-то сделают, да только не такую», — отвечал Хлопов. Вот и взъелись на них оба Салтыкова — Борис и Михаил, да и дали ей, невесте-то, какой-то водки из аптеки, значит, чтобы лучше ела, а та и заболела… Салтыковы и наговорили, что она порченая.
— Вот как дело было, — произнес задумчиво Нефед, — и это она говорила тебе на духу?
— Говорила, но так как здесь царское дело, я и открыл тебе правду, да и патриарху тоже скажу.
— Побываю у патриарха и скажу, что ты духовник Марьи Ивановны и что она сказала такое слово, что можешь ты передать ему лишь одному. Однако прежде, нежели у него побываю, я повезу тебя к Шереметьеву, Черкасскому и Романову, пущай они прежде скажут патриарху ласковое об тебе слово. Тогда и дело будет сделано — патриарх человек прямой, честный и правдивый: каждому он воздает за заслуги. У него все одинаковы, и бояре-то ближние не очень-то и жалуют его, а многие не желали его возврата в Москву. При митрополите Иове ближние бояре делали что хотели, а инокиня-мать из Вознесенского монастыря с Грамотным дьяком управляла царством. А святейший патриарх Филарет, как приехал, взял все в руки — управлять-де из кельи да женщине не подобает. Да и царь-то иной раз получает родительский выговор. Увидишь сам старца, полюбишь, как и я люблю… Завтра утром я тебя повезу по Москве.
На другой день ранним утром представил Нефед Козьмич отца Никиту к царским родственникам, и те пришли в восторг от ума молодого священника и обещались о нем поговорить с патриархом. Несколько дней спустя они встретились с Нефедом Козьмичем в боярской думе и объявили ему, что патриарх желает, чтобы ему представили двадцатилетнего мудреца.
На другой же день после того Нефед повез отца Никиту к царскому отцу Филарету Никитичу, жившему в Новоспасском монастыре.
Оставив отца Никиту в сенях, Нефед вошел вовнутрь хором и вскоре вышел оттуда с патриаршим окольничим Стрешневым.
— Патриарх требует тебя к себе, тебя проводит к нему окольничий, а я тебя подожду здесь. Да благословит и поможет тебе Царица Небесная в твоем добром начинании.
Отец Никита мужественно пошел вперед, но когда он был уж у дверей, завешанных ковром, где находился, патриарх, ему сделалось страшно и сердце замерло, — о Филарете говорили так много злого.
Стрешнев откинул полог и впустил отца Никиту в рабочую патриарха.
Войдя туда, поп распростерся на полу и, подымаясь, сделал то же самое трижды.
Когда он поднялся, то увидел себя в небольшой комнате, устланной коврами; у окна стоял небольшой стол, заваленный книгами и бумагами; пред ним как будто вырос из земли среднего роста красивый старик, с сильною проседью в бороде. На нем был простой серый подрясник, припоясанный золотым кушаком, а темно-русая голова его, с сильною проседью, не была ничем покрыта.
Отец Никита подошел под его благословение.
— Благословен приход твой, — сказал патриарх, крестя его двуперстно. Полюбовавшись затем с минуту на двадцатилетнего красавца и атлета[3], патриарх милостиво продолжал: — Коль не сказали бы мне бояре и Нефед Козьмич, что ты разума полный и устроитель церковного благолепия, я бы предложил тебе, сын моя, расстричься и идти в передовой царский полк. Но, говорят, ты полон премудрости… Откуда ты взял это? Нефед говорит, что ты и по-гречески знаешь.
И при этом патриарх заговорил по-гречески:
— Я изучил греческий и латинский языки в неволе… Папа готовил вместе с моим освобождением и унию, но он ошибся: от веры своей мы, русские, не отречемся. Правда, знание — свет, а невежество — тьма, я поэтому и печатное дело вновь завел, и в Чудовом монастыре учат по-латыни и по-гречески.
— Изучил я греческий язык, — сказал отец Никита по-гречески, — у тестя своего, в селении Вельманове… Потом в Макарьевской обители.
— Вельманово — это поместье бывшего воеводы царя Ивана Грозного. Ты из крестьян?
— Из крестьян, отец мой, Минин.
— Носишь ты отчество знаменитое, Козьма Минич Сухорукий, отец Нефеда, носил это имя. Сын мой, носи его высоко — и Бог тебя вознесет. И апостолы были простые рыбаки. Наше святительское призванье тоже апостольское, и многие из крестьянства были великие святители, у нас, правда, не столько, как в Малой Руси. Учись всегда и постоянно, — видишь, какой я старец, а все еще учусь. Теперь скажи, в чем твое дело?
Отец Никита передал, как на духу ему созналась царская невеста, что она испорчена Салтыковыми и за что именно.
Патриарх пришел в сильное негодование.
— А если это будет не доказано? — воскликнул он сурово. — Знаешь ли, думские бояре и окольничьи сидят и гниют у меня в тюрьме за ябеды и недоказанные изветы. Я хочу вывести кляузу…
— Велишь меня, святейший патриарх и великий государь, тогда казнить, — отвечал бесстрашно отец Никита.
С минуту патриарх глядел прямо и пристально в глаза молодого священника и еще суровее произнес:
— Да, знаешь ли ты, извет твой на племянников царицы? Возьми лучше назад свое слово.
— Я духовный пастырь, — с жаром возразил отец Никита, — а пастырь должен положить душу свою за овцы. Готов пострадать на кресте правды ради, хоша бы пришлось осудить и саму царицу. Целовал я крест царю и повинен говорить правду без лицемерия.
— Прав ты, сын мой, ступай с миром, а я учиню сыск и кару, хоша бы не токмо племянники инокини царицы, но и родная моя дочь, Татьяна Михайловна, повинилась в сем деле.
Отец Никита вновь распростерся трижды перед патриархом и поцеловал его руку.
— А ты, — продолжал патриарх, — пока пойдет сыск и суд, заезжай в Чудов монастырь, там увидишь, как учат по-гречески и по-латыни; да в печатню мою загляни.
Было это сказано очень милостиво и сердечно.
Отец Никита вновь поклонился и вышел.
Услышав подробности этой беседы, Нефед Козьмич воскликнул, садясь с отцом Никитой в свою колымагу:
— Умные люди друг друга скоро понимают. Патриарх — великий святитель, а ты хоть из крестьян, но коли захочешь, то не будешь менее святейшего. Исполать тебе и слава, сын крестьянский, Никита Минич; недаром носишь ты отчество великого моего отца, — сказал патриарх, — да это и мой сказ. Сегодня была встреча двух великих святителей, и мы отслужим сегодня же молебен после обедни, а там зададим пир.
Нефед велел кучеру остановиться у Успенского собора и приказал отслужить молебен за рабов Божьих Филарета и Никиту.
Царь Михаил Федорович продолжал в это время жить в грановитой палате, и очень просто: все было бедно и скромно. В то время больше думали о войне, о борьбе с внутренней крамолой, чем о роскоши и пышности.
Самая палата не столько была занята царскими покоями и комнатами, как битком набита была придворными, приживалками и приживалами, скоморохами, бахарями, дураками, домрачеями, цимбалистами, карлами и иным потешным людом. Пока же Филарета Никитича, отца царского, не было, все это сплетничало, интриговало и своевольничало и более было хозяином во дворце, чем сам юный царь Михаил. Загнанный с детства и воспитанный среди женщин и в женском монастыре, напуганный тогдашними событиями, страданиями всех своих родных и отца, наконец, слыша с детства о страшной смерти Дмитрия-царевича, всех родственников и ближних бояр царя Ивана, слыша о трагической смерти лже-Дмитрия и падении Василия Шуйского и о других ужасах того времени, царь Михаил сделался робок, неразговорчив и уступчив при настойчивости кого-либо.
До возвращения Филарета из Польши им владела поэтому мать-инокиня, а когда возвратился отец, то Михаил был рад, что тот захватил все в руки, так как его самого перестали тревожить и нарушать его покой.
Весь день Михаил поэтому проводил или в церкви, или ездил на поклон к матери в Вознесенский монастырь, или же к отцу в патриаршие палаты, а у себя дома он принимал бояр и окольничих и слушал городские новости и сплетни, иногда выезжал на соколиную охоту и в окрестные монастыри.
Но больше всего он любил потешное общество, и разновременно у него перебывали: бахари — Клим Орефин, Петрушка Тарасьев, Сапогов и Богдашка; стомрачеи — Богдан Путята, Гаврилка Слепой, Янка, Лукашка, Наум и Петр; гусельники — Уезда, Богдашка Окатьев, Власьев и Немов; скрыпачники — Богдашка Окатьев, Иванов, Онашка, немчин Арманка.
Постельничий царский управлял этим людом, и часть царицыной золотой палаты занята была для потех.
Хоромы же царя были скорее похожи на дворец зажиточного боярина, чем на царские палаты; только выезды его, с боярами, окольничими, конюхами и скороходами, напоминали Москве, что в грановитой палате живет царь.
Выехал Михаил Федорович после обедни в тот день, когда отец Никита представлялся патриарху, сначала к инокине-матери, а потом к отцу.
Патриарх принял сына в той же комнате, в который мы видели отца Никиту.
Он обнял его и поцеловался с ним, а тот потом поцеловал у отца руку.
Патриарх сам сел у стола, а сын поместился на стуле против него.
— Недобрые вести, — начал патриарх, — от свейского короля Густава-Адольфа; отказывается он сватать за тебя сестру своего шурина курфюрста Бранденбургского, Екатерину… Пишет он, что ее княжеская милость для царства не отступит от своей христианской веры, не откажется от своего душевного спасения.
— И бог с нею, — отвечал царь Михаил.
— Это все, — продолжал патриарх, — мутят поляки. Дать нам сродниться со шведами не хотят они, боятся, что будут они нам союзниками, да, породнившись с царскими домами немцев, мы поспорим тогда и о польской короне.
— Но ведь насильно ничего не сделаешь, — вздохнул царь Михаил Федорович, — а жениться пора, все бояре да и все родственники так говорят… Годы мои уже такие.
— Была у тебя, сын мой, невеста, и богобоязненная, и добрая, и почтительная, Марья Ивановна Хлопова.
— Да, была она мила моему сердцу: жила во дворце под одною кровлею со мною; дружила с сестрицею моею царевною Татьяною Михайловною, да вот лихая болезнь приключилась, навек испорчена…
— И царица мать-инокиня любила и жаловала ее, царицей нарекла, Анастасьей именовала, в память бабки твоей Анастасии Романовны, жены царя Ивана Грозного, — продолжал патриарх.
— Такова воля Божья, — смиренно произнес царь Михаил.
— А коли б Марья Ивановна была не испорчена, женился бы ты и теперь на ней, мой сын?
— Уж очинно мила она была моему сердцу, — произнес, опустив глаза, царь Михаил.
— Что же скажешь ты, коль окажется, что она николи испорчена не была, да и теперь жива?
— На то будет соизволение и твое, и матушки-инокини, я всякое родительское благословение приму с благодарностью.
— Ладно, сын мой, сегодня же соберу синклит родственный, бояр: Ивана Никитича Романова, Ивана Борисыча Черкасского, Федора Ивановича Шереметьева, и коль ты соизволишь заехать ко мне, то мы совершим сыск с божьей помощью. Только никому не говори, а наипаче матери, пока дела не соорудуем.
— Беспременно приеду ужо, опосля вечерни, — обрадовался царь, простился с отцом и вышел. После царского ухода патриарх послал тотчас за родственниками и велел быть к себе кравчему Михаилу Салтыкову и придворным врачам: доктору Валентину Бильсу и лекарю Бальцеру.
Все эти лица съехались вечером к патриарху и оставались в сенях, пока не появился царь; когда же тот вышел из колымаги, родственники его пошлина ним в патриаршую переднюю к заседанию: стол со скамьями, а для царя и патриарха кресла; горели люстры с восковыми свечами. Патриарх принял царя посередине передней и, поцеловавшись с ним, повел его к креслу; бояре разместились за столом. Потребовал патриарх, чтобы окольничий Стрешнев ввел Салтыкова.
Вошел Салтыков, поклонился образам, потом в ноги царю, патриарху и синклиту и, поднявшись, остановился против царя.
Начал патриарх:
— Расскажи-ка, боярин Михайло, как невеста царя заболела болестию неизлечимою.
Салтыков стал рассказывать, как это прежде он делал, что невеста царская страдает болезнею прирожденною, колики в животе схватывают, а там с нею обмороки, точно болезнь черная.
— Как же, — спросил патриарх, — ты узнал это?
Салтыков рассказал, что со времени переезда Марьи Ивановны во дворец часто с нею случались эти боли, а потом она попросила лекарства, и он взял его от доктора Бильса и лекаря Бальцера.
Патриарх велел позвать врачей. Оба вошли. Доктор был высокий, сухопар, с желтым лицом, а второй — толстенький, с жирными щеками и маленькими глазками.
Войдя, оба иностранца поклонились низко, дотрагиваясь руками до земли.
Патриарх обратился к доктору:
— Расскажи-ка нам, что за болесть была у бывшей царской невесты Марьи Ивановны?
— Болесть?.. — Он вынул носовой платок, вытер нос и пот и произнес протяжно — Dispepsia.
— Dispepsia, — вторил ему помощник его, причем облизал губы, как будто он что-то проглотил очень вкусное.
— Dispepsia, — сказал патриарх, — это по-латыни значит расстройство желудка.
— Да, да, святейший патриарх, расстройство на желудка и на кишка. Бывает иногда и disenteria, а иногда и febris gastrica, но я дал… о что, гер Бельцер, мы дали тогда?.
— Ревень.
— Да, да, ревень… на водка настой… Хорошо… очень хорошо… и на кишка… и на желудок…
— Один порций довольно, — поддержал его товарищ, — маленка стаканчик… у… у… очистит…
— А вы же много отпустили из аптеки? — продолжал допрашивать патриарх.
— Одна стеклянка большой, чего жалеть; на дворце мы не жалей, — произнес с достоинством толстый лекарь.
— А ты по скольку давал Марье Ивановне? — обратился к Салтыкову патриарх.
— Не помню, давно уже то было.
— Говори, — грозно произнес патриарх, — иначе допрос будет с испытом и со стряской.
— Три раза в день: натощак, пред обедом и вечером.
— И сколько времени? — изумился патриарх.
— Более месяца.
— Для какой же надобности взял у вас целую стеклянку большую, коли довольно маленькой чарки? — обратился патриарх к врачам.
— Боярин сказайт, много на дворец больной на живот, — отвечал доктор.
— И на кишки, — дополнил толстяк.
— Довольно, все сказали, теперь идите, гг. лекаря, с миром, а Салтыкова в темницу до окончания суда над ним, — обратился он к стоявшему у дверей залы Стрешневу.
— Помилуйте! — завопил Салтыков, бросаясь на колени.
Царь Михаил Федорович с беспокойством завертелся уж на стуле и хотел было изречь прощение, да патриарх взял его за руку, а сам, поднявшись на ноги, произнес грозно:
— Государской радости и женитьбе учинили вы, Салтыковы, помешку и сделали это изменою, забыв государево крестное целование и государскую великую милость; и государская милость была к вам и к матери вашей не по вашей мере; пожалованы вы были честью и приближеньем больше всей братии своей и вы-то поставили ни во что, ходили не за государевым здоровьем, только и делали, что себя богатели, домы свои и племя свое полнили, земли крали, и во всяких делах делали неправду; промышляли тем, чтобы вам при государской милости, кроме себя, никого не видеть, а доброхотства и службы к государю не показали. Веди его, окольничий, прочь от царских очей, и в темнице пущай ждет свою кару.
Стрешнев вывел Салтыкова, и тогда семейный совет решил: отправить кого-нибудь за отцом и дядей Марьи Ивановны, Иваном и Гаврилою Хлоповыми, проживавшими в какой-то ничтожной своей вотчине.
Неделю спустя привезли их к патриарху, и те передали о своей ссоре из-за турецкой сабли и как с того дня оба Салтыковых, Михаил и Борис, сделались их врагами.
Отец бывшей невесты при этом объяснил болезнь дочери отравой, а брат его Гаврила утверждал, что, не привыкши к сладостям, она объедалась ими во дворце[4].
Патриарх и царь решились тогда отправить боярина Федора Ивановича Шереметьева в Нижний Новгород к бывшей царской невесте, вместе с придворными врачами и чудовским архимандритом Иосифом.
Узнав об этом от Нефеда Козьмича, о. Никита тотчас выехал обратно домой.
VII Не судьба
Поздняя ночь. В Нижнем Новгороде зима еще не настала, а только сиверка стоит на дворе: снег падает хлопьями и тут же тает. Ветер стучит наружными ставнями терема Хлоповой и завывает в трубах.
В опочивальне Хлоповой горит восковая свеча, а печь топится ярко, и березовые дрова трещат в ней.
Около столика на мягком топчане сидит Хлопова и жена отца Никиты, Прасковья Васильевна. Обе в сильной тревоге: вот уж более месяца, как уехал священник, и о нем ни слуху ни духу.
Жена затосковала по нем и совсем отбилась от дому, сидит сиднем у Хлоповой, и высказывают они друг другу свои чувства.
— Эка ночка, — говорит Прасковья Васильевна. — Чай, проезжему путнику не сладко. А мой-то Ника где теперь?
— Бог даст, приедет живехонек и здоровехонек. Надысь проходила цыганка, гадала она мне; баит, гости будут и радость… но…
— Что же дальше?
— Что ни на есть, какая-то злодейка мешает моей судьбе; а про твоего Никиту Минича сказывала все хороше, — много, говорит, будет у него горя, но и слава будет, и казны всякой, да сколько бы народу ни было, будут всего его слушать. Да вот и ты-то погадай мне аль себе. Я и бобы твои спрятала.
— Не мои, а тетушки покойной моей. Царство ей небесное, и любила, и умела гадать.
Марья Ивановна достала из шкафика завернутые в тряпицу бобы и подала их попадье.
Та встряхнула в руке бобы, потом, выкинув их себе на руку, сказала:
— Странно, мой как будто в пути и спешит к нам. Постой, боярышня, как будто кто-то подъехал к твоему терему… погляжу…
И с быстротою молнии она бросилась в переднюю, а оттуда на крыльцо, — она попала в объятия мужа: он заехал домой и, узнав, что жена его у Хлоповой, прямо и поехал туда.
Радость была невообразимая, когда отец Никита рассказал об успехе своем в Москве и о предполагаемом приезде Шереметьева с врачами в Нижний Новгород.
— По дороге, — заключил священник, — уже готовят для посольства лошадей и ямских, и земских, и шереметьевских.
Хозяйка была вне себя от радости и велела тотчас накормить гостя; все, что было в доме, появилось на столе, и отец Никита, редко употреблявший напитки, стал пить здравицы и за хозяйку, и за жену, так что он так подвыпил, что целовался и с женой, и с Хлоповой.
Оставила Хлопова ночевать гостей у себя во флигеле, и отец Никита не давал всю ночь спать жене, рассказывая ей о разных диковинках, виденных им в Москве и у бояр.
На другой день Никита Минич и жена его принялись за устройство приема московских гостей.
Город же всполошился: пушки заржавевшие вычищены, воеводская канцелярия и избы, губные и земские, вымыты, у дома воеводского и у терема Хлоповой поставлено по одному фонарю.
Хоромы Хлоповой приготовлены для боярина Шереметьева; хозяйка же сама перешла в пристройку, а соседние к ней дома очищены для свиты вельможи.
Наконец после трехдневного трепетного ожидания явился поезд Шереметьева.
Впереди скакали гонцы, рейтары и казаки, за ними колымага Шереметьева, которую тащили восемь лошадей: четыре в дышле и по две с ездовыми; за ним мчалась колымага архимандрита Иосифа; потом следовали колымаги лекарей, свиты боярина и несколько крытых телег с поварами и дворовою челядью.
Все это остановилось у терема Хлоповой.
На крыльце встречен боярин воеводою, а в сенях приняли его Марья Ивановна с приставленною для наблюдения за нею старухою, вдовою стольника Стряпухиною и с родственниками Желябужскими.
Боярин с почтением отдал царской невесте поклон и жалованное слово царя, патриарха и царицы, спросил от их имени об ее здоровье; потом вошел в переднюю, поклонился и перекрестился образам и снова обратился к хозяйке с вопросом о здоровье, причем принял от нее хлеб-соль.
После того боярин сел в почетном месте у икон, и дворецкий его стал вносить подарки царские: соболя, разные материи на платья.
Марья Ивановна ничего не брала в руки, а только восхищалась и за каждую вещь кланялась низко, с пожеланиями царю и его семейству здравия и многие лета.
После этой церемонии хозяйка просила гостя и приближенных к нему хлеба-соли откушать — только хозяйка сама, по обычаю, за обедом не присутствовала, а вместо нее хозяйничал воевода.
Со следующего дня началось духовное и врачебное исследование — не больна ли чем ни на есть Хлопова.
Начал исследование архимандрит Иосиф: он приказал Марье Ивановне целую неделю поститься, слушать заутрени, вечерни, часы и обедни в Спасском соборе, в воскресенье же исповедаться и приобщаться. Сделано было это для того, чтобы убедиться: как она выдержит «Херувимскую» и нет ли в ней нечисти духовной.
Все шло в порядке, а потому в субботу Шереметьев призвал врачей и сказал, что и они должны сделать опыт в воскресенье насчет желудка, который и погубил царскую невесту.
Доктор Бильс вынул носовой платок, высморкал нос и, положив его в карман, произнес с расстановкой и медленно:
— Марья Ивановна постил… сколько дней?..
— Неделю.
— Ух, ух! На посна масла?
— Да.
— Ух! Ух!
— А я, — продолжал боярин, — велю на воскресенье изготовить кулебяку, кислые щи с салом свинины, бараний бок с кашей, гуся жареного с кислою капустою и яблоками, поросенка жареного с кашей, и если Марье Ивановне будет ничего, то и слава Богу, значит, русский человек, и желудок ничего.
— Я не позволяй, — завопил доктор, — мой опыт на медицын…
— Проваливай со своею медицын и со своей аптекой, испортили ее аптекой.
— После пост да такой кушанья, помрет фрейлейн…
Бильс при одной мысли о таком ужасном событии вынул платок и вытер слезы.
— Пропал девка, — говорил он, — можно ль, постный желудка… постна масла… а тут каша… гуська… поросенка… барашка… кулебяка… Уф! Уф!
Холодный пот выступил на лице Бильса; товарищ его, Бальцер, однако ж, не возражал, а только сильно облизывался, как будто он все эти блюда перепробовал.
Шереметьев исполнил в точности опыт свой: все, что он сказал, было заказано, и Хлопова в присутствии нескольких сторонних свидетельниц должна была разговеться таким обедом, но каждая порция, назначенная Марье Ивановне, должна была быть предъявлена прежде всему посольству.
Окончилась обедня, Хлопова приобщилась и приехала домой.
Боярин поздравил ее со всеми его приближенными, и Марью Ивановну повела жена воеводы к трапезе.
Приставленная к ней Стряпухина должна была каждую порцию Хлоповой приносить в столовую, где обедал Шереметьев со свитою.
Каждая порция была двойная, то есть миска с верхом, обратно она возвращалась пустая.
— Мм… — мычал каждый раз доктор Бильс и спрашивал: — А чем фрейлен запивал?
— Полкружки квасу, — докладывала Стряпухина.
Когда после поросенка с кашей принесли половину жирного гуся с кашей и огромными антоновскими яблоками, доктор протестовал.
— Не позволяй, — воскликнул он горячо, — лопнет на живот…
— Что немцу смерть, то русскому здорово, — расхохотался боярин.
Стряпухина ушла и через четверть часа возвратилась с пустою посудою.
— Гер Бальцер, — крикнул своему толстенькому товарищу доктор: Эс вирд гешеен ейн гросер унглюк, их кан нихт аусгалтен.
— Чем запила? — спросил боярин.
— Кружкою квасу, — отвечала Стряпухина.
— Гер Бальцер, умрет… — закричал доктор.
И Бальцера начал даже прошибать пот, но и их обед окончился, а между тем никто не давал знать, чтобы с Хлоповой случилось несчастье.
На другой день посольство зашло в комнаты Марьи Ивановны, врачи осмотрели ее, ее пульс и язык и нашли, что она здоровехонька.
Осталось посольство после того еще два дня в Нижнем Новгороде, чтобы убедиться в аппетите Хлоповой, и врачи-немцы дали ей аттестат, что она может быть истинной царской невестой, так как после каждого подобного обеда она еще с большим аппетитом забавлялась: рожками, яблочками мочеными, сушеными грушами и сливами, винными ягодами, изюмом, орехами и пряниками различнейших сортов и величин, и все это запивалось квасом: хлебным, клюквенным, яблочным, и заедалось вареньем: малиновым, вишневым, смородинным и крыжовником; пастилы же разных сортов шли не в зачет.
Все это было так убедительно для немцев-врачей, что они, возвращаясь с Шереметьевым, твердили.
— Ах! Мейн Гот!
Тотчас по возвращении в Москву боярин Шереметьев отправился с докладной к патриарху.
Выслушав подробно, какие опыты были сделаны насчет Марьи Ивановны, Филарет Никитич назначил на другой же день боярскую даму.
В заседание были потребованы оба Салтыковых, отец и дядя Хлоповой и все посольство боярина Шереметьева. Выслушав дело, боярская дума присудила Салтыкова к ссылке и к конфискации всей их недвижимости в казну.
По окончании суда патриарх отправился с окольничим Стрешневым к царю.
Он застал того играющим в передней в шашки с одним из придворных.
Придворный тотчас удалился, а патриарх объяснил сыну, какое решение состоялось в думе, и при этом предъявил ему протокол, или, как он тогда назывался, запись.
— Да как же без царицы-матушки? — вспыхнул царь. — Салтыковы ее племянники, мои двоюродные, и я к ним привык. Михайло кравчий мой, а без него-то ни меду не будет, ни вин заморских, ни романеи.
— Сто кравчих найду тебе, — утешал его отец, — а ворам, изменникам поблажки нельзя дать, хотя бы были не токма двоюродные, а родные братья.
— А инокиня-мать! — стоял на своем Михаил.
— Пущай она повесит себе на шею всех Салтыковых и их воровские дела, — разгорячился патриарх, — узнает она о них тогда, когда они будут далеко от Москвы, — пущай тогда за ними едет, коли ей будет их жаль. Подпиши, говорю тебе; коли воров и крамолу не собьем, не усидишь ты на престоле и будет смута такая, как при Шуйском. Самозванцы, что день — нарождаются, а польский король что день — воду мутит; он и теперь всякие книги выпустил и на тебя, и на меня. Оставишь Салтыковых, они первые тебе изменят. И теперь уж они своевольничали и знать тебя не хотели. Выбирай аль Салтыковых, аль меня.
Михаил с трепетом слушал отца и, взяв перо со стола, утвердил приговор бояр, не читая записи. Совершив это, он тяжко вздохнул, утер пот, катившийся с его лица, и в изнеможении сел на стул. Патриарх поцеловал его, простился с ним и вышел.
В сенях, передавая окольничьему Стрешневу приговор думы, он произнес тихо:
— Передай тотчас думному дьяку: Салтыковых чтобы не было в Москве через час.
Царица-инокиня не знала вовсе о происходившем, а осведомилась об этом тогда лишь, когда Салтыковых сослали и когда вся родня ее поднялась на ноги.
Царица тотчас послала за царем и за патриархом.
Зная, что будет буря, он несколько дней пред тем под разными предлогами не пускал царя Михаила к матери, а когда та прислала за ними, то он царю Михаилу велел лечь в кровать и прикинуться больным, пока гроза не пройдет, а он-де сам уж все уладит ко всеобщему благополучию.
Царица инокиня-мать занимала под свои службы и под свою свиту половину Вознесенского монастыря; но собственно ее жилье состояло из двух комнат: одна из них, обставленная мягкою мебелью, коврами и со стенами множеством старинных образов в драгоценных ризах, была ее приемная; вторая — ее спальня.
Ходит по этой передней инокиня-мать, и взоры ее бросают молнии, а губы судорожно сжимаются — она ждет свидания с мужем-патриархом и с сыном-царем.
Инокиня не высока ростом, средней полноты, хорошо сохранившаяся женщина; бела она лицом, темные брови в струнку, как у молодой особы, глаза немного впавши, но прекрасны, хотя выражение их недоброе, и вообще лицо гордое, мужественное и повелительное.
Одежда на ней инокини, но воротник на шее из драгоценных кружев и на груди ее алмазный большой крест, в руках же янтарные четки.
Входит в ее комнату, робко озираясь, девица за двадцать лет, удивительно похожая на нее; на ней сарафан, белая голландская рубаха, дорогие кружева, на голове драгоценный венец, и на шее жемчуг высокой цены с алмазным крестом.
— Таня! Слава Богу, хотя тебя отпустили ко мне. Теперь сына не дозовешься! — восклицает мать, обнимая и целуя дочь.
— Царь заболел и меня послал к тебе, царица-матушка, — произнесла та робко, целуя у матери руку.
— Заболел! — рассердилась царица. — Коли чувствует вину пред матерью, тотчас и болен.
— Нет, взаправду болен; заходила я к нему, у него лекаря, а он, сердечный, лежит в постели, желтый, а зуб на зуб не попадает, дрожит, точно осиновый лист.
— О Салтыковых он ничего тебе не баил?
— Ничего.
— А патриарх заезжал к нему?
— Нет.
Инокиня опустилась на стул.
— Они уморят меня, — произнесла она, задыхаясь, — отцу ничего, коли сын болен… Танюшка, да ведь коли он, сохрани Господь, умрет, мы с тобой сиротами останемся. Никита Иванович Романов будет тогда царем, а мы-то что?., затворницы… схимницы… будем…
Постучался кто-то в дверь.
— Гряди во имя Господне, — произнесла громко инокиня.
Дверь отворилась, и на пороге появился патриарх Филарет: на его голове, на белом клобуке, сиял большой алмазный крест, на груди две драгоценные панагии, в руках же иерусалимские четки.
Инокиня и дочь ее распростерлись пред ним трижды; патриарх благословил их, и после того, как те поцеловали у него руку, и он обнял и поцеловал их.
Поговорив о здоровье, патриарх попросил дочь свою, царевну Татьяну Федоровну, отправиться к матери-игуменье этого монастыря и передать ей от него поклон.
Царевна удалилась. С минуту супруги молчали.
— Да… хотела поговорить с вами, с тобою и с сыном. От приезда твоего сын ставит меня в ничто, да и ты только и думаешь, как бы мне сделать досаду… Людей моих прогоняете, родственников в ссылку ссылаете, грабите их…
— Награбленное ими неправо возвращается в казну или лицам ограбленным, — пояснил патриарх.
— Вам обоим дела нет, — горячилась инокиня, — ни до заслуг сосланных или томящихся в темницах лиц, ни до слез их семейств и родственников, ни до народного говора и негодования…
— Так тебе кажется в келии, царица; мы с сыном все это принимаем во внимание; а потому, чтобы утереть народные слезы, унять народное негодование, народную молву и говор, мы сослали думного дьяка Грамотина и его единомышленных бояр окольничьих и думных дворян, — все это крамольники, воры, изменники и грабители… Вот на кого ты намекаешь…
— Грамотин честно и верно служил мне и сыну моему.
— Тебе, царица, быть может, но не сыну твоему, Грамотин дерзал даже ссылаться с поляками, чтобы меня из пленения не отпущали, грозя им большой бедой.
— Это поклеп, неправда…
— Такая же святая правда, как то, что он целовал крест Шуйскому и Сигизмунду, и Тушинскому вору, и Владиславу, и, наконец, моему сыну Михаилу.
— Пущай Грамотин тебе стал не люб из-за ревности.
— Царица-инокиня, не срами ни себя, ни меня. Не вызывай моего гнева! Ты забыла, с кем говоришь, с патриархом всероссийским, а патриарх не может иметь ревности к женщине. Я весь предался служению царству и пастве: здесь все мои помышления, все мои думы, здесь же, коли встречается враг или царя, или земли русской, — у меня пощады нет.
— Громко ты говоришь, святейший, а словом не испугаешь… Что сделали царю или земле русской Салтыковы? Они служили верой и правдой им и Тушинскому вору крест не целовали, — злобствовала инокиня.
— Бросаешь ты, инокиня, камушки в мой огород. Но забываешь ты, что я сослан вором Годуновым в Ростов, лже-Дмитрия не знал, а Тушинский вор вызвал меня оттуда, возвеличил, обращался со мной как с отцом, — я и принял его за настоящего Дмитрия. А когда он пал, целовал я крест со всей Москвой Владиславу; потом терзали, мучили, чтобы я целовал крест отцу его, хотели сделать униатским архиепископом, первым лицом в государстве, примасом, — я отказал: веры своей не переменю.
— Теперь сам латинство вводишь в Чудовом монастыре, — прошипела инокиня.
— Дуришь ты, царица, — волос долог, да ум короток. Просвещаю я невежд, а без греческого и латинского языка книги порядочной не прочитаешь — все на этих языках… Да и свет Христов, просвещающий всех, исходит из книг на этих языках. Слышала ты звон, да не знаешь, в какой церкви, и тоже туда ж.
— Ладно, пущай Грамотин вор, зачем сослал Салтыковых?
— За их воровство, зачем своевольничали, грабили царские земли, зачем творили иные бесчинства, зачем разрушили царское счастье с Хлоповой.
— Машка не была его судьба — она испорчена.
— Все это ложь и неправда, а знаю я лучше, почему им не по сердцу была царская невеста. Боялись они возвышения Ивана и Бориса Хлоповых, боялись, что будут у царя дети, и коли я умру в пленении, в неволе, а царь будет без детей, то царством будешь править ты, да с ними да с Грамотиным. Знамо куда оно шло! А Хлопова — девица прекрасная, богобоязненная, разумная и будет она добрая жена мужу…
— Не будет холопка да сибирная женою моего сына! — топнула ногами инокиня. — Из-за нее, из-за холопки, воровки, сослали моих племянников… Ни за что! Ни за что!..
— Царица, губишь ты и царство, и юного царя! Гляди, ходит он точно сонный; взрастила ты его в монастыре, а потом здесь, точно бабу какую; не имеет он ни воли своей, ни разума…
— Он дурак, по-твоему?
— Не говорю я это, а кровавые слезы лью, как вспомню, что будет с ним и с царством, коль я умру. Кругом враги: шведы, ливонцы, поляки, татары, — да нас растерзают на части. А тут Михаил беспотомственен. Бога ты не боишься: ему уж скоро-третий десяток пойдет, и не женат… Посылали мы к королям датскому и шведскому взять оттуда невесту, да поляки губят дело. Мы-де варвары, людоеды, а жены наши-де пьяницы.
— Нужно взять чужеземку, своих не хочу. Наши холопки… презренная тварь… сволочь…
— Иноземки веры не хотят нашей принять; так возьми себе в невестки Хлопову, царь Михаил говорил: она ему-де сердечна, убеждал патриарх.
— Да мне не по сердцу. Коли затеешь сватовство — благословения не дам.
— Прошу, умоляю тебя, царица, — и патриарх поцеловал у нее руку.
— Понимаю теперь все… все так ясно; тебе Хлопова Машка дорога… очень дорога… Отписывал ты грамоту из пленения; взять Машку ко дворцу как царскую невесту, Хлоповы-де в Тушине были верными мне слугами и в болезни моей жена Ивана, Ирина, ходила за мною, как за братом, а дочь ее Марья радовала мои очи, и вспоминал я дочь мою дорогую Татьяну… Так описывал ты, а теперь хочешь, чтобы дочь полюбовницы твоей была моей невесткой… Николи… скорее смерть, чем грех такой…
— Царица, гнев безумен, опомнись, что говоришь ты. Ирина давно умерла, и не черни ее памяти без причины — это грех великий. Но коли ты сказала уж такое слово, так не быть ей моею дорогою дочерью, не быть ей царицей… А сына все женить надоть. У князя Владимира Долгорукова дочь Марья; люди бают, она умна, хороша, богобоязненна, да и именитого она рода.
— Не будет она женою моего сына, — князь Владимир враг моему роду, — вспылила царица-инокиня.
— Полно дурить, — рассердился патриарх, — твой род не царский дом; дом этот — дом Романовых, и коли Долгорукие князьи этого дома, так ты со своим-то не суйся.
— Не дам благословения, — упорствовала инокиня.
— Нет, дашь! — вскочив с места, воскликнул патриарх, весь дрожа от гнева. — Вступлю я в права мужа и патриарха, не спросясь царя, возьму тебя в пытку и всех твоих бояр. Повинитесь вы тогда во всех своих неправдах, кознях, крамолах и воровствах, и тогда — горе вам! И Грамотин и многие иные всплывут наружу, и будет казнь вам так страшна, что сам царь Иван Грозный с Малютой да Вяземским дрогнут в гробу. Завтра, инокиня, приедет к тебе сын твой, царь Михаил, и уповаю, ты дашь ему свое благословение. Клянись перед иконой.
Во все время этой речи царица бледнела и трепетала, и когда патриарх кончил, она упала на колени и произнесла:
— Клянусь!.. Ладно…
Филарет посмотрел на нее с минуту сурово, потом тихо и величественно вышел из ее келии.
— Не судьба моему сыну Хлопова, — вздохнул он, садясь в колымагу.
VIII Переезд отца Никиты в Москву
С отъездом боярина Шереметьева в Москву страшное предчувствие овладело и Хлоповой, и отцом Никитою, и его женою. Злодейка, о которой говорила цыганка, не выходила у первой из головы, и она смущала ею своих друзей. Священник сколько мог утешал и успокаивал ее, но вскоре была получена воеводою грамота — удвоить кормы бывшей царской невесты, без всяких дальнейших пояснений причин.
Друзья ее поняли, что это начало царской милости и что впереди остальное; но проходит еще один томительный месяц, и из Москвы нет никаких вестей.
Хлопова просто изнывает. Поговорили между собою ее друзья и отец Никита вновь пускается в путь: второй нижегородский воевода едет туда по делам своим и берет его с собою. Приехав в Москву, священник останавливается в каком-то подворье и идет к Нефеду Козьмичу.
Нефед встречает его радостно, обнимает и целует, но когда тот нетерпеливо спрашивает его, как решена судьба Хлоповой, Нефед смущенно садится и говорит:
— Патриарх сказал «не судьба»! Царица-де мать не дала благословения за ссылку Салтыковых.
— И что же дальше?
— Царь обручен с княжной Марьей Владимировной Долгорукой, и я, увы и ах[5], должен в церкви при венчании держать фонарь — вот все, что могу передать. Патриарх сам и огорчен, и озлоблен: сходи к нему, он рад будет тебя видеть.
С этими словами священник простился с Нефедом Козьмичем и ушел.
Неделю спустя отец Никита сидел уже в Нижнем со своею женою, в своем домике.
Он только что возвратился из Москвы, и супруги толковали, как предупредить Хлопову о постигшем ее несчастий.
Слезы лились у них из глаз; но вот обрадовала его жена: она почувствовала ребенка, она — мать…
В этот миг вошла к ним Марья Ивановна. Увидав священника, у нее замерло сердце; по условию, он должен был из Москвы прямо заехать к ней.
— Говори скорей, отец Никита, что царь, — произнесла она, задыхаясь и опускаясь на ближайший стул.
Прасковья Васильевна бросилась к ней и, обнимая и целуя ее, со слезами произнесла:
— Не судьба, видно, твоя царь…
— Кто ж мешает моему счастию?
— Не патриарх и не царь…
— Догадываюсь… царица…
— Да, царица…
— Недаром, хотя она меня миловала, а сердце мое не лежало к ней. Царь женится?
— Женится, на Долгорукой, княжне Марье Владимировне.
— И скоро свадьба? — как-то бессознательно и безумно спросила Хлопова.
— Скоро, после Филипповского поста.
Хлопова упала без чувств на пол.
Священник позвал людей, перенес ее в ожидавший ее возок и отвез домой.
Заболела Хлопова горячкой, пролежала почти всю зиму, а на весну хотя и встала с постели, но ее узнать нельзя было: из прежней здоровой и свежей девицы сделалась тень. Ходит она молчаливая, и только кашель прерывает тишину ее уединения; никто от нее никогда не слышит жалобы, как будто все прошлое умерло.
Часто посещают ее отец Никита и его жена; она принимает их с явною радостью, но в разговор с ними не вступает, а отвечает только: да или нет.
Но вот наступает светлый праздник. Для Хлоповой это был прежде великий день: ее весь Нижний Новгород очень любил и являлся с поздравлением. Поэтому вся страстная неделя, бывало проходила у нее в приготовлении к приему гостей. Большие столы нагромождались разным вареньем, печеньями и напитками; а теперь хотя о чем-то хлопочет и что-то делает Стряпухина, но хозяйка совершенно безучастна.
Гости, однако же, в первый день праздника посещают ее по-старинному, поздравляют, а она сидит у окна, покашливает, отмалчивается и как будто кого-то ждет.
В таком состоянии застал ее и отец Никита. Он подошел к ней — она его узнала, приняла от него просфору, похристосовалась и улыбнулась, что она давно уже не делала.
Она указала ему место близ себя.
— Не простудиться бы тебе, боярышня, у окна? — сказал он.
Та махнула рукой.
— Скорей конец придет. Все разошлись, никого нетути, а я хотела с тобою, отец Никита, поговорить. У меня лежит на душе одно: не знает царь Михаил, как я его любила… как любила; знала я его любовь ко мне. Знаю, кто наговорил на меня и кто сослан…
И он-то в своем царстве да и в своем доме в неволе… Сколько раз говорил он мне. «Не хотел я царствовать, но меня приневолили, грозили и карой неба, и карой народа; заставили меня сесть на престол, и жду не дождусь возврата отца, передать ему и царство и бояр. Бояре заели меня, а матушка-инокиня не меньше их. Люблю я тебя, Машенька, люблю больше жизни, и за тебя бросил бы царство и уехал бы на край, конец света; но мать не дает благословения, а без ее благословения какая жизнь будет». Вот что говорил сердечный на прощанье со мною, когда меня проволокли в Тобольск. И ехала я туда радостная, как и на пир, и любовь его сияла мне, как ясное солнышко, и было мне весело так переносить трудности пути и недостатка… Теперь здесь и хоромы хороши, и наполнил царь мой терем, как чашу, но любовь его погасла и погасла моя жизнь…
Отец Никита стал ее утешать. Она взяла его руку и приложила к своему сердцу.
— Видишь, как оно бьется при одной думе о нем, как бы оно билось, коли б он был близок от меня, коли б мне позволили лишь взглянуть на моего ясного сокола!.. И неужели ты думаешь, что это сердце не вещун? Оно чует, что нет более любви ко мне царя. Если бы он меня любил, как прежде, он бы заставил мать дать свое благословенье аль не женился бы на другой. Чем дальше, бают люди, от глаз, тем дальше от сердца — меня и упрятали сначала в Тобольск, потом в Верхотурье, а теперь сюда… И ушла я из его сердца и уйду в могилу.
Она сильно раскашлялась, и кровь пошла у нее из горла.
Отец Никита позвал Стряпухину; та вошли и перевела больную в ее опочивальню.
Ночью потребовали к ней священника для исповеди, причастия и соборования, тот собрал тотчас других окрестных священников и явился к ней.
Хлопова как будто очнулась, когда священники к ней зашли. Сначала отец Никита исповедал ее, потом приобщил, и наконец ее торжественно пособоровали.
Она как будто успокоилась, но полчаса спустя с нею сделалась агония и ее не стало.
Ее торжественно похоронили на местном кладбище, и ежедневно отец Никита и его жена стали посещать ее могилку и украшать ее цветами.
Вскоре жена отца Никиты родила, но не благополучно: дело Хлоповой и ее кончина сильно на нее повлияли.
Муж ее тоже затосковал; чтобы рассеяться и убить печаль, он еще усерднее взялся за поучение своей паствы.
Но на это его товарищи, священники, глядели как на еретичество и латинство и подбивали фанатиков прихожан говорить ему дерзости на улице и чуть ли не хотели побить его каменьями.
Однажды он даже получил подобную письменную угрозу.
Жена посоветовала ему ехать в Москву.
Он отписал об этом грамотку Нефеду Козьмичу, и вскоре был получен патриарший указ о переводе его туда.
IX Хоть тресни, да женись
Переехал отец Никита в Москву и думал: вот где я отдохну душой, да и жена моя оживет.
Вначале и казалось, что оно так будет: он устроился в церковном своем домике скромно, но уютно и рад был, что Нефед Козьмич был от него недалеко.
Почти ежедневно он захаживал к нему, и они вдвоем как бы слились душой.
Не была ни у одного, ни у другого в утайке ни одна мысль, ни одно чувство.
Часто говорили они о несчастной Хлоповой и об ее смерти; но Нефед Козьмич утешал его тем, что для счастия Руси, быть может, и лучше, что царь женился на Марье Владимировне Долгорукой, так как и по красоте, и величью, и по уму — это истинная царица.
— Притом, — прибавлял Нефед, — коли, да сохрани Господь, умрет патриарх, Долгорукие не позволят наступить себе на ногу и в царской думе будут не последние. Не дадут они в обиду ни земли русской, ни царя.
Несколько дней спустя после этого Нефед возвратился торопливо домой и был необыкновенно пасмурен.
В сильном волнении ходил он взад и вперед по передней в ожидании прихода отца Никиты, за которым он послал.
Когда священник вошел, он испугался; как говорится, на Нефеде не было видно лица.
— Что случилось? — спросил он.
— Идем куда-нибудь, чтобы нас челядь не могла услышать: случилось большое несчастье…
Он отвел его в свою опочивальню, осмотрел ее, как бы боясь, что кто-нибудь не спрятался ли их подслушать.
— Несчастье, и несчастье такое, что и сказать нельзя… Я только что от патриарха — он в отчаянии… Невестка, невестка, на которую он возлагал для русской земли столько надежд, сильно захворала… и… и нет никакого спасения…
Отец Никита побледнел и задрожал — так известие это поразило его.
— Кто же окружал царицу? — воскликнул он.
— Все ее, царицы-инокини, родственники. Давно уже они сплетничали патриарху, что она-де испорченная: то смеется, то плачет; что она нежного сложения, а тут вдруг заболела, нельзя добиться от нее, от чего она захворала; может быть, она скажет духовнику, но теперешний ее духовник — друг царицы-инокини, и если даже та скажет ему что-либо, то он утаит правду… Мне и пришла мысль предложить патриарху тебя, отец Никита, в духовники, согласишься ли ты на это тяжелое дело?
— Соглашаюсь и готов жизнь отдать за правду! — воскликнул священник.
— Иного ответа от тебя и не ждал. Едем к патриарху.
Приехав к отцу царя, Нефед прямо повел без доклада отца Никиту в комнату, в которой патриарх принимал его уже единожды.
Филарет явно их ожидал, и после обычных земных поклонов их он обратился прямо к священнику:
— Рад тебя вновь видеть у себя. Тебе уж, вероятно, передал Нефед Козьмич о постигшем царя, меня и землю русскую горе. Царица сильно захворала, на духу она, быть может, сознается, в чем ее болезнь. Нужен человек, который бы заставил ее-сказать правду. Нефед Козьмич и я находим, что ты лишь один способен это сделать.
— Благодарю святейшего патриарха за доверие ко мне, но не слишком ли много возлагает на меня патриарх?
— Нет, не много. Ты красноречив и сумеешь ее убедить на духу.
— Быть может, с помощью Божьею…
— Но помни — все, что она скажет тебе, ты должен без всякой утайки передать мне как патриарху.
— Само собою разумеется, я обязан святейшему патриарху передать все, что он требует.
— Этого мало — обещаешь ли ты подтвердить все то, что услышишь на духу, даже и под пыткой?
— Обещаюсь.
— В таком разе сейчас я поеду к царю, а ты поедешь с моею свитою.
— Слушаюсь.
Священник и Нефед Козьмич вышли в сени, в ожидании Филарета.
Экипажи подали, Нефед, получив благословение патриарха, уехал домой, а патриарший поезд, в котором находился и отец Никита, двинулся к грановитой палате[6].
Оставив свиту в сенях, патриарх вошел в переднюю; там толпились бояре; они все пали ниц перед святейшим, и тот, благословив их, пошел вперед к царю, который находился в своей опочивальне.
Здесь он застал обоих придворных лекарей: Бильса и Бальцера.
Царь дал им знак выйти; он поцеловался с отцом и потом приложился к его руке.
— Что больная? — спросил патриарх.
— Лекаря говорят — нет надежды, — ломал руки царь и горько зарыдал.
— Что за болесть у нее? Что бают лекаря?
— Ничего, говорят, должно быть, во внутренности что ни на есть испорчено, аль печень, аль селезенка, аль почки, аль кровь, аль желудок, аль легкие; да сглаз, аль наговор, аль волшебство.
— А царица сама что баит?
— Ничего, стонет, кряхтит аль закричит: «Горит голова, в животе точно жжет что, ой! моя смерть пришла».
— Кто при ней?
— Боярыни, все от матушки.
— Заходил ты к ней?
— Заходил, да боярыни бают, не пригоже-де мужчине быть, коли баба в болести, — болесть-де сильнее становится… Хотел бы поглядеть на нее, хотел бы поговорить с нею, те не пущают, говорят: инокиня-царица под страхом страшной кары им наказала.
— А царица требует тебя?
— Как не требует — плачет, мечется, зовет к себе на помощь. «Ратуй, соколик ясный, красный, красное мое солнышко, покинул ты меня», — кричит она.
— В таком разе идем к ней.
— А матушка-царица? — затруднялся царь Михаил.
— Иди за мною — один я буду в ответе.
Он взял его за руку, и они, пройдя ряд комнат и коридоров, очутились в передней молодой царицы.
Она была битком набита боярынями и придворными дамами.
Патриарх благословил их и хотел войти в спальню царицы. Боярыни стали на дороге, и одна из них сказала:
— Царица-инокиня наказала не пущать-де.
— Вон! Чтобы и духом вашим не пахло во дворце впредь до царского указа.
В секунду все боярыни окаменели, но повелительный жест и вид патриарха заставил их обратиться в бегство.
Патриарх и царь очутились в опочивальне царицы.
Опочивальня была устлана коврами, по углам множество образов в драгоценных ризах, комната заставлена стульями, топчанами и низенькими татарскими столами в виде табуреток с перламутровою инкрустацией. Массивная кровать с перинами и множество подушек высились посреди опочивальни. На одном из столиков виднелся драгоценный золотой рукомойник и такая же чашка.
В комнате было несколько женщин-боярынь, боярская-боярыня, постельничья и несколько других.
Царица была на ногах, а не в постели и одета, как обыкновенно она одевалась в будни, т. е. на ней был из толстой парчовой материи сарафан, а поверх него расписная кофта.
Глаза ее горели лихорадочным огнем, чудные темно-русые ее кудри немного выгладывали из-за парчового платка, украшавшего ее голову; лицо горело, а глаза немного впали. Увидя царя и патриарха, она сделала шаг вперед, упала на колени и закричала:
— Спасите… спасите… никто не хочет мне помочь… Лекарство врачей противно… омерзительно… оно еще хуже жжет мне внутренность, а боярыни вливают его мне насильно в рот… Прошу воздуха, света… прошу, чтобы меня пустили домой, к родителям… не пущают… Прошу, допустите моего соколика… моего мужа… хочу проститься, не пущают… А все-то боярыни так и лезут из другой комнаты: дескать, царица их умирает, подели при жизни свое добро… Где тут делить, коли все нутро горит и печет огнем…
— Идите прочь отсюда, людоеды, и ждите в передней! — крикнул патриарх.
Боярыни удалились поспешно.
Филарет поднял стоявшую на коленях и рыдавшую царицу.
— Что тебе, дочь моя? — говорил он нежно. — Какая лихая беда тебе приключилась?
— Сама не знаю, святой отец… Вот уже второй день… схватило что нутро… жжет, печет.
— Не дал ли кто тебе зелье какое ни на есть? Не имеешь на кого сумления?
— Ни на кого, — только прошу льду… льду дайте… проглочу, быть может, не так жечь будет…
— Льду! — крикнул бледный и дрожащий царь, взглянув в дверь передней. Потом он подошел к царице и обнял ее; она повисла у него на шее.
— Давно… давно бы так… и легче мне как будто при тебе… и не так страшно… да и умирать легче будет… Не оставляй… не оставляй меня, соколик.
— Мы с тобою останемся… с тобою… не покину я тебя, голубку мою, — успокаивал ее царь.
— Не желаешь ли исповедоваться и приобщиться? — спросил патриарх. — Может быть, получишь облегчение от благодати Божьей.
— Желаю… желаю… только прежде льду… льду давайте…
Одна из боярынь принесли на тарелке лед в кусочках и ушла.
Царица стала глотать жадно лед.
— Как будто легче, — произнесла она тихо, — только силы оставляют меня… Священника… Тоже хочу проститься с царевной Татьяной Федоровной да с родителями моими. Пошлите, пошлите поскорей… да моего духовника не хочу, он прежде все порасспросит, потом идет к царице-инокине и наговорит… Дайте другого, да только не его…
Патриарх вышел распорядиться, а царь остался с женой. Он хотел поцеловать ее в губы.
— Что ты делаешь? — крикнула она, отталкивая его. — Коли во мне зелье, то и ты отравишься. Лучше пущай я одна умру за любовь мою к тебе. Не знаешь ты, мой царь, мой соколик, мой муж, как любит тебя твоя Маша, и жаль мне так молоду умереть, но еще жальче — умрет со мною и дитя наше… А я его уже так горячо люблю… так люблю… как будто оно на руках у меня… улыбается ко мне… и ручки протягивает… Миша! — крикнула она, обняв его горячо и целуя его щеку, — в первый раз я тебя, царь, осмеливаюсь так назвать и прошу позволить тебя называть так до кончины моей! Ты не казнишь меня, итак меня уж казнили за любовь мою. А Мишей я тебя называла всегда в моих думах, и коли б родился сын, и его назвала бы Мишей… Да, Миша, никто на свете так не любил тебя и не будет любить, как я… Ведь мои-то думы и помышления все были о тебе.
В это время возвратился патриарх с отцом Никитой.
Высокий рост, темно-карие умные глаза, красивая бородка и представительный, добродушный вид отца Никиты произвели приятное впечатление на царицу.
— Благодарствую, — сказала она.
Царь и патриарх удалились.
Царица поглядела с минуту на отца Никиту, потом опустилась на колени перед иконами и стала тихо шептать молитвы, потом священник накинул на голову ее эпитрахиль и начал с нею духовную беседу…
Царь и патриарх удалились в опочивальню царя и приказали, когда исповедь и причастие окончатся, велеть священнику прийти к ним.
Оба были очень встревожены, а потому у них разговор не клеился.
Раздались вдруг поспешные шаги и вбежал священник.
— Царица умирает! — крикнул он.
Патриарх и царь бросились в опочивальню царицы: они застали ее в агонии на одном из топчанов. Вокруг нее толкались уже боярыни — они укладывали ее в кровать.
Несколько минут спустя она, как мраморная, лежала уж в постели, и чрез некоторое время лицо ее начало покрываться черными пятнами.
Царь и патриарх в различных углах неутешно рыдали…
Усопшую выставили на несколько дней на поклонение народа в приемной грановитой, потом в Успенском соборе и похоронили.
Все это было роскошно, пышно и трогательно, но царицу этим не воскресили.
После похорон и поминального обеда патриарх потребовал к себе отца Никиту.
— Я так огорчен и убит смертью царицы, — сказал он, — что потерял голову и не имел даже времени порасспросить тебя, что говорила она тебе на исповеди.
Отец Никита прослезился и произнес с волнением:
— Это был ангел… и царь, и ты лишились его. Она говорила мне о любви своей к царю и к вам, святейший отец… Говорила, как благодарна вам, хотя она никогда об этом вам не высказывала. Скорбела, что с нею умирает и дитя ее во чреве. Говорила она о своих грехах, но грехи у нее ангельские. Простила она свою убийцу… и молилась за нее.
— Убийцу! — вздрогнул патриарх. — И произнесла она имя убийцы? — прошептал он, сжав кулаки.
— После долгого увещевания произнесла, для того чтобы я молился о ней.
— И кто убийца?
Отец Никита медлил.
— Говори, кто убийца, или под пыткой скажешь! — крикнул патриарх.
— Не боюсь я пытки; щажу твое и царя сердце.
— Говори, коль я был бы убийцей, то и меня не жалей… не щади… говори правду… как и где ей дали зелья?
— В Вознесенском монастыре.
— У царицы-инокини? Боже, я предчувствовал… Как же это было?
— Был праздник; почившая царица заехала к царице-инокине, захотелось ей пить, и инокиня повела ее в свою опочивальню и налила ей квасу в золотую чару… Та выпила, и по дороге она почувствовала что-то неладно… потом хуже и хуже…
— И почившая думала…
— Что царица-инокиня дала ей…
— Что, говори?
— Зелья, от которого она умерла.
— Убийца… инокиня… царица-мать, — как безумный ходил по комнате и, потирая лоб, твердил патриарх. — Невероятно… как будто сон… Слушай, — остановился он пред священником, — и ты будешь свидетельствовать и под пыткой?
— Хоша жгите.
— Нет, не годится, ты клянись лучше, что никому, никому не скажешь, — это убьет царя; да и народ что скажет? в царском-де доме друг друга заедают, убивают, точно звери лютые. Нет, не говори никому, а коли скажешь кому ни на есть, то нет пытки, нет казни, которая не постигла бы тебя. Помни: тогда лишь смей произнести имя убийцы, коли я тебе прикажу. Теперь ступай с миром, спасибо за верность и правду. Но повторю снова: помни, что и во сне нельзя проговориться, не спи ни с кем даже в одной комнате и знай, что и стены имеют уши… Клянись, что это сделаешь?
— Клянусь.
— Теперь ступай и знай — милость моя тебе на век.
Когда священник удалился, Филарет бросился вон из маленькой своей комнаты и заходил быстрыми шагами по своим обширным палатам; он просто задыхался от волнения.
Множество мыслей мелькали у него в голове, и вдруг, остановившись, он крикнул окольничего Стрешнева.
Окольничий ждал всегда его приказаний в передней.
Лукьян Стрешнев тотчас явился на зов владыки.
— Лукьян, — сказал он, — несколько раз я хотел спросить, как зовут твою дочь?
— У меня две.
— Да ту, знаешь, когда я был у тебя в последний раз… такая нежненькая, белая, с темно-синими глазами… с ямочками на щеках… ты еще подводил ее под мое благословение.
— Авдотья, — обрадовался Стрешнев, что владыка обратил внимание на его дочь.
— Евдокия, — поправил его Филарет и продолжал лихорадочно: — Тотчас беги домой… окружи ее близкими родственниками… не дай ее извести…
— Святейший патриарх, ты пугаешь меня… Разве семье моей грозит опасность или — ей?
— Беги, говорю тебе, тотчас… береги ее… ты головой отвечаешь за единый ее волос… и ко мне не показывайся… дома сиди и береги свою дочь, пока я не позову тебя… Слушайся же, коли я приказываю.
Стрешнев побежал опрометью домой и по дороге думал:
— Уж не испорчен и не рехнулся ли святейший? Но как сказать жене о приказании патриарха?
Он заблагорассудил лучше заболеть, лечь в кровать и под предлогом, что ему скучно и чтобы дочь за ним ухаживала, он задержал ее близ себя, в своей опочивальне, а вечером, отпуская от себя, он просил, чтобы жена брала ее на ночь с собою в кровать.
Прошло между тем сорок дней траура, который тогда существовал при дворе на случай смерти царя или царицы. Отслужены были панихиды по умершей и после поминального обеда патриарх поехал навестить царицу-инокиню в Вознесенский монастырь.
Царица после смерти ее невестки Марьи Владимировны или прикинулась, или была в действительности больна, но встретила она мужа кряхтя, охая и жалуясь на разные недуги.
Патриарх выслушал это снисходительно, но с нетерпением. Когда же она кончила, он обратился к ней:
— Царица, ты все говоришь о болести телесной, а о душевной не упоминаешь: разве не болеет твоя душа, что Бог прибрал нашего ангела Марью Владимировну?
— То воля Божья, — вздохнула инокиня, подняв вверх глаза.
— Воля-то воля Божья, но разве не скорбит твоя душа, что ангела не стало, что царь Михаил вновь без жены, да и без потомства?
— Жен не стать искать: их много на свете, а вот матерь едина, — бросила ему шпильку инокиня.
— Так нужно искать ему жену и ищи, — произнес сдержанно патриарх.
— Уж ты ищи… Ты отыскал и Машку Долгорукую, заставил дать свое благословение, вот и покарал Господь за обиду матери.
Патриарх вспылил, но удержался.
— Царица, — произнес он спокойно, — я взаправду думаю день-деньской о сыне; не хочешь ты, чтобы у него было потомство, — я это понимаю… понимаю и цели твои, но этого не будет… я снова женю сына.
— И без моего благословения?
— Хоша бы и без твоего благословения.
— Кто же будет моею царицей, — рассердилась инокиня.
— Твоей и моей царицей будет Евдокия Лукьяновна Стрешнева, дочь моего окольничего.
— Авдотька! — вспылила инокиня. — Да это будет на смех курам! Щуплая… две помойные ямы среди щек… Да и Стрешневы… хамы… Не будет моего благословения… и поглядишь, и она околеет вон как та… ну, покойная Машка.
— Полно, баба, дурить-то, — вышел из себя патриарх. — Коли будет она царицей, поклонишься ты ей в ноги, как царице, и не будет она порченая: я окружу ее Стрешневыми, и будут они отвечать мне за нее головой, а к тебе, царица, не будет она ездить и пить квас.
Инокиня бросила на Филарета быстрый взгляд — лицо его было спокойно, но грозно.
— Да, — продолжал он. — Стрешневы будут отвечать за нее головой своей, и всех твоих боярынь я выгоню из дворца, а родственников и всех твоих слуг я и на глаза царицы не пущу. Я буду бодрствовать за нею и за ее детьми, коли Бог их даст, как за зеницу своего ока, и коли ее изведут, как в бозе почившую, то… то…
— Кто же извел ту? Она сама извела себя, — прошипела инокиня.
— Кто извел ее? А вот что я тебе скажу: коль Стрешнева будет изведена, так я знаю, за кого взяться… Но вместо ссоры ты скажи, дашь ли благословие царю, коли он женится на Стрешневой?
— Не дам.
— И это последнее твое слово?
— По… последнее…
— Так вот тоже мой сказ: возьму я тебя с собой, повезу в Новоспасский монастырь, буду тебя пытать, пока не повинишься во всех твоих грехах… Вспомню я многое… вспомню я тебе и квас, которым ты угораздила покойную царицу, и многое, многое иное… Повинишься ты тогда и примешь ты схиму, и сошлю я тебя вновь в Ипатиевскую обитель до скончания твоей жизни. Вот тебе, инокиня, и мое то последнее слово. Кайся и скажи: дашь ли слово, что не будешь перечить браку сына?
— Делай что хочешь… Я ничего… Бог да благословит его… мое материнское сердце истерзано… Убивалась я за ним… за сыном-то, а ты угрозы свои напущаешь… Господь с тобой… я больна… и конец-то мой близок… а ты еще… да Бог с тобой.
— То-то, ты помни только — я все знаю и прощаю… прощаю, ибо ты родила царя Руси Михаила Федоровича Романова, Богом избранного, Богом венчанного… Не подобает по этой причине ставить тебя на позор. Но коли ты не покаешься, так глаголю тебе: горе тебе будет и фарисеям твоим… Теперь еду к царю.
Не дав даже ей благословения, Филарет поехал к сыну.
Царь Михаил после смерти жены совсем раскис: он весь день ходил, как шальной, и то плакал, то хохотал без причины. Называли эту болезнь Бильс и Бальцер, придворные врачи, флуксус церебралис, сиречь, приливом крови в голове, вследствие плача и множества поклонов, которые делал по нескольку раз в день царь.
Патриарх застал его за этим же занятием в его опочивальне.
— Полно те убиваться. — сказал он, — молод ты, да и царствовать нужно. Назавтра боярская дума — ты и приезжай.
— Да уж очень, очень сердце болит за покойницу… так и стоит в очах моих.
— Полно, говорю тебе, сын мой, убиваться-то. Была то воля Божья, а не наша… Да к слову, вот тебе и жениться снова надоть… невеста уж ждет тебя.
— Как жениться? Коли я не хочу… Да как же после-то Марьи Владимировны, да жениться? — недоумевал царь Михаил Федорович.
— Да так и женишься.
— А коли я не хочу?
— Царь не может, не смеет этого сказать; хоть тресни, да женись — тебе и царству нужен наследник.
— Да как же? Любил одну, та умерла, теперь женись на другой, а та еще снова помрет: плачь, убивайся, да хорони, да поминки справляй, уж лучше не женюсь: уж прошу, святейший отец, не жени. А матушка благословение дает?
— Дает.
— Ну, коли дает, так и я… благослови.
— Спасибо, я знал, что не откажешь.
Патриарх благословил его, поцеловал и хотел уйти, да вспомнил.
— Эх! Да я и забыл-то тебе сказать, кто невеста.
— А кто?
Обрадовался царь, что, по-крайней мере, узнает кто невеста.
— Дочь Стрешнева, Евдокия Лукьяновна: девица богобоязненная, прекрасная, будет отличная тебе жена, а нам и земле русской царица.
— Евдокия, Авдотьюшка… ничего… спасибо, святейший отец, что радеешь обо мне, а уж я думал, вовек не женюсь.
— Женим, — проговорил патриарх, уходя поспешно.
— Отец сказал мой: коли царь, так женись, хоть тресни… Этого-то не знал, да и матушка не говорила, — бормотал царь себе под нос.
Возвратясь к себе, патриарх послал за Стрешневым. Тот вскоре явился.
Патриарх испугался, взглянув на его постное, исхудалое лицо.
— Ты болен? — спросил он.
— Здоров, святейший патриарх, да вот лежал в постели.
— Чего же лежал?
— Наказывал ты, дескать, сиди дома, хоша прикинься в болести, я и прикинулся, а дочь-то от себя не отпущал, — все у кровати сидит, а жена на ночь к себе брала… Все сумление что ни на есть…
— Чудак ты, — улыбнулся Филарет. — Да ты, чай, и дочь-то заморил?
— Уморить-то не уморил, а оченно было — не выпущал со двора.
— Так беги же, выпусти ее на воздух, только береги ее пуще прежнего, береги ее… Я прошу тебя, сват.
— Кум, — подсказал Стрешнев.
— Нет, — сват… ведь мы теперь сваты; ты не окольничий, а уж боярин, настоящий царский тесть, а дочь твоя невеста царская.
Стрешнев точно обезумел — он пощупал себя за лоб, а потом прослезился:
— За верную-то мою службу не заслужил я глумления, святейший отец.
— Полно-то дурить… Шутки не шутит патриарх всея Руси, да еще с кем, с верным царским холопом. А вот ты подь, да оповести жену и дочь-то свою, Евдокию Лукьяновну, да за попом, да молебен… а девичник мы завтра справим в грановитой, в царских палатах… а там с Богом и за свадьбу… на то воля царя и благословение наше и материнское.
Стрешнев тогда бросился к ногам патриарха, но тот поднял его и поцеловался с ним.
— Ну, сват Гаврилыч, коли Бог благословит нас и мы отпразднуем свадьбу твоей дочери, так уж и ты, жена твоя, и дети твои должны будут не отходить от царицы, — такова воля и царя, и моя. Теперь ступай с миром, порадуй семью и помни: за Богом молитва, а за царем служба не пропадают.
Несколько месяцев спустя свадьба царская состоялась еще с большею пышностью и великолепием, чем первая.
X Боярин Шеин
После десятилетнего разумного управления царством патриарх Филарет, успокоенный насчет престолонаследия, так как Бог даровал царя Михаилу прекрасного мальчика Алексея, возымел желание возвратить из владения поляков Смоленск и Дорогобуж, составлявших ключ в Россию.
Притом притязания польских королей на русское царство не прекращалось: король Сигизмунд III, умирая, велел себе надеть шапку Мономаха, украденную поляками в Москве, когда они ею владели. Умирая в этой шапке и лежа в ней в гробу, он этим как бы завещал Польше не оставлять его притязаний. Притом сына его Владислава избрали в короли Польши единственно потому, что ему когда-то целовала крест Москва.
Патриарх стал поэтому готовиться энергично к войне.
Более шестидесяти шести тысяч иноземцев были наняты в войска и по всему государству объявлен добровольный сбор, который должен был производить знаменитый князь Димитрий Михайлович Пожарский, архимандрит Левкий и, Моисей Глебов.
Царские грамоты разбросаны были по государству. Русь откликнулась со свойственный ей патриотизмом: потекли в Москву и деньги и двинулись ратные люди.
Но не радовали последние Филарета; боярские дети и вообще дворянство были хорошо вооружены и пришли лучшие люди, но из крестьянства они навезли и навели что ни на есть худшее, пьяное, воровское и бессильное, и о нем справедливо выражался боярин Шеин и его родственники: плюгавенькое[7]. Сформировали армию в тридцать две тысячи человек при ста пятидесяти орудиях.
Тут пошли споры — кому начальствовать.
Людей боевых было тогда между боярами много, но выдающихся мало.
Предложили начальство князю Димитрию Черкасскому по настоянию патриарха и других царских родственников, так как он был тоже в родстве с царским домом; но по его молодости в товарищи к нему назначили старого воина, князя Бориса Михайловича Лыкова.
Лыков был в хороших отношениях с инокиней-матерью, и та, узнав об этом, тотчас послала за ним. Князь явился к ней.
— Князь Борис, — сказала она после обычного приветствия и дав ему поцеловать свою руку, — прошу, не езди на войну, откажись.
— Отказывался, великая государыня. Ходил к патриарху, говорил, что у князя Димитрия Черкасского нрав тяжелый и прибыли я не чаю от того, что быть мне вместе с ним в государевом деле… Святейший патриарх побранил и велел на войне быть без мест.
— Это он хотел тебя унизить оттого, что в родстве ты со мной; да ты сорок лет на службе, а у того на губах еще молоко не обсохло. На войне быть без места — так пущай он князя… татарина… Мамстрюковича тебе даст в товарищи, — ты русский князь, именитый боярин, и род твой… да что и говорить, — пущай татарин сам ведет рать.
— Царица, уж ты окажи Божью милость, не дай бесчестить меня…
— С ним-то, с святейшим, я и не поделаю ничего; сына коли увижу — скажу… Ты правь местничество, а я с боярами потолкую.
Князь Лыков вышел от нее и подал чрез боярина большого дворца царю челобитную, в которой говорил: «Я пред князем Димитрием стар, служу государю сорок лет, лет тридцать хожу своим набатом (т. е. командую самостоятельно), а не за чужим набатом и не в товарищах».
Князь же Черкасский бил челом: что князь Лыков ему говорил, что он-де потому не хочет быть ему товарищем, что люди им владеют.
Царь поручил князю Хилкову и дьяку Дашкову расследовать дело и доложить боярской думе.
В ней были горячие споры и кончились они тем, что Черкасскому командование не дали, но присудили ему 1200 руб. за бесчестие от князя Лыкова.
Два месяца раздумывали, кого же назначить туда, и патриарху пришла мысль пригласить в главные воеводы знаменитого боярина Шеина Михаила Борисовича, защищавшего некогда так геройски Смоленск и разделявшего с ним, патриархом, плен в Варшаве.
Он послал за ним.
Боярин жил на покое и посещал лишь боярскую думу, где голос его был влиятелен, но его не любили за солдатскую резкость и прямоту, а в те времена любили ходить во всех делах вокруг да около, да чтоб овцы были целы и волки сыты.
Явился по зову патриарха боярин и, поклонившись ему в ноги и приняв от него благословение, спросил, что причина чести, которой он удостоился.
Патриарх передал ему свою мысль и выразился, что он не находит более достойного человека принять начальство над войском, как его.
Шеин помолчал немного и сказал:
— Прискорбно, святейший патриарх, что ты избрал меня в старшие воеводы. Положить живот свой за царя я никогда не отказывался, но вспомни: я целовал крест королевичу Владиславу, а он теперь королем Польши, — как же я буду теперь против него сражаться?
— Сердце твое благородно; помню, сказывали мне, что ты с одним ляхом дрался под Смоленском и чуть-чуть друг друга не порезали, потом встретились вы в лагере Владислава и сделались друзьями. Оба вы рыцари чести, и теперь ты рыцарь. Но коли речь идет о счастии твоего народа, тут всякое рыцарство в сторону. И я, по изволению Москвы и земли русской, ездил в Варшаву, с извещением королевичу об его избрании на царство, и целовал ему крест, а теперь и я пойду на него войной.
— Святейший патриарх и отец, ты присягал ему на верность, коли он будет царствовать, теперь ты сам царствуешь с сыном…
— Сам Господь разрешил меня от, клятвы: по воле земли русской, а не моей, избран Михаил, а затем и я, и глас народа, глас Божий… Так и ты, Тебя избирают от имени земли русской в воеводы, и ты не в праве отказаться, а я, как патриарх, тебя от клятвы твоей освобождаю. Теперь избери себе товарища.
— Коли я пойду в воеводы, то пущай выйдет указ: во время войны быть без места. А ты дай мне, святейший, храброго Измайлова в товарищи: и я и он — мы пойдем с детьми.
— Ладно. Кстати, ты вспомнил мне о нем; он имеет при себе боярского сына Бориса Морозова… Уж очень полюбил я его, когда был в пленении и возвращался. Хочу его сделать дядькой внука моего, Алексея… Знаю, он убережет его от всякой скверны. Это человек разума и чести.
— Коли прикажешь, Измайлов приведет его к тебе, святейший патриарх. Я и Измайлов, и дети наши, и все навеки у ног твоих. Но вот, святейший отец, пущай дума боярская попросит меня, пущая не от тебя… Вместе мы были с тобою в пленении… скажут — кумовство. Пущай будет от них. Да прошу дозволить мне потолковать с друзьями да с семьей и с Измайловым.
— Ладно, только не медли, — завтра ответ…
Боярин Шеин заехал к Измайлову, и тот предоставил ему: решиться или не решаться.
Заехал он от него к Нефеду Козьмичу, и тот благословил его на путь грядущий.
Осталось еще одно: отец Никита был его духовником, и ему нужно было с ним потолковать еще о данной им королевичу Владиславу клятве.
Вопрос был затруднителен к решению, но присяга дана при известных условиях, чтобы Владислав царствовал; раз же он отказался от этого, признав Михаила царем, очевидно, клятва сама собою уничтожалась.
Так объяснил ему и отец Никита, причем присовокупил, что если патриарх затем снимает эту клятву, то очевидно, что и сомнения не может быть, что боярин может сражаться против Владислава, так как он будет сражаться против него не как против царя русского, а как против короля Польши.
Шеин продолжал сомневаться; тогда священник обратился к его патриотизму и доказывал, что возвращение Смоленска и Дорогобужа так важны для Руси, что мы без них останемся всегда в руках Польши.
Это поколебало боярина, и он решился не отказываться от начальствования армиею.
Когда же отец Никита ушел, им овладело какое-то тягостное чувство, и он, бросившись на колени пред образами, долго молился.
На другой день боярин объявил патриарху свое согласие и тот велел ему явиться назавтра в боярскую думу.
В думе заседали патриарх и царь; первый сидел посреди стола — по правой стороне, а другой рядом с ним — по левой. Духовные лица занимали места сбоку по стороне патриарха, а бояре в черных соболях и думные дворяне — по стороне царя.
Шеин был с боярами. Заговорил патриарх о том, что нужно назначить главного воеводу, и обратился к боярам, спрашивая их мнения.
Один из них, вероятно по наущению патриарха, предложил Шеина.
Партия Князя Черкасского протестовала; она находила, что Шеин уж устарел и от ратного дела отстал.
Пошло на голосование, и большинство, вместе с царем и патриархом, оказалось на стороне Шеина.
Боярин благодарил думу за оказанную ему честь и в несколько дней приготовился в поход.
Нужно было в грановитой палате торжественно проститься с царем и с патриархом в присутствии всего двора и боярской думы. При этом Шеин сделал ошибку: рассердясь, что об его боевой деятельности отзывались в думе с неуважением, он в прощальной речи исчислил все свои заслуги, превосходившие заслуги остальных бояр, и закончил, что в то время, как он-де служил, многие за печью сидели и сыскать их было нельзя…
Речь эта хотя была правдива, но сделала ему много врагов.
В тот же день Шеин отправился в поход, другие воеводы выступили из Ржева, Калуги и Севска.
В несколько месяцев войска наши возвратили почти все уступленные Польше города, а Шеин с Измайловым осадили Смоленск.
XI Под Смоленском
Вот уж восемь месяцев стоит наша рать под Смоленском; делать она все, что только искусство и человеческие силы могут совершить.
Крепость, несмотря на обширность, тесно обложена; всюду окружена она теми земляными работами, которые и ныне употребляются, а из этих насыпей и редутов сыплется град каленых ядер на крепостные стены и картечь на тех, которые дерзают выйти из них, стены во многих местах сильно повреждены минами.
Губернатор Воеводский готов уж со дня на день сдать крепость русским.
Вдруг получается весть с юга России, что татары и казаки ворвались в наши украинские области; панических страх овладевает ратниками, и они бегут ежедневно из лагеря, чтобы защитить дома свои и семейства. В таком положении были дела, как 25 августа, ночью, Измайлов разбудил Шеина.
— Что случилось? — спросил боярин.
— Лазутчики и шиши[8],— отвечал Измайлов, — доносят, что король Владислав приближается лесами с большим войском к Смоленску: идет он с Севера.
— Друг Артемий, — крикнул Шеин, — в таком случае возьми один или два полка и займи московскую дорогу, чтобы ляхи не могли отрезать нам путь, а там уж как-нибудь я с ними справлюсь, или будем держаться до помощи из Москвы. Пошли тотчас в Москву нарочного.
Шеин поскакал тотчас по укрепленной нами линии, и оказалось, что поляки с нескольких сторон уж наступили на нас, то есть в 7 верстах от Смоленска, у речки Боровой, они стали разбивать лагерь.
На третий день своего прихода король ночью пробрался по Покровской горе в Смоленск и, сделав оттуда вылазку, напал на редуты наши, находившиеся на той же Покровской горе. Редутом командовал наш полковник-иностранец Маттисон. Король овладел было нашими шанцами, но князья Белосельский и Прозоровский, находившиеся недалеко от редута, послали Маттисону помощь, и воины наши выбили поляков из этой позиции. Король отступил с большим уроном.
Тоже не удалась попытка коронному гетману литовскому Радзивиллу зайти к этим редутам с другой стороны. Встреченный здесь нашею ратью, он был разбит и отступил с большим уроном.
11 сентября последовало новое нападение на эту местность, и бой длился два дня и две ночи; с обеих сторон много погибло, но русские не могли удержаться, и на совете в лагере нашем решено: полковнику Маттисону отступить; но при этом огромная часть иноземцев, бывших на этом редуте, бежала в Смоленск к польскому королю. Об этом донесено было Шеиным тотчас в Москву и получен оттуда приказ: со всех отдельных редутов и крепостей созвать ратников в общий лагерь, и обещано, что со всех сторон будут прибывать войска, а из Москвы поведут войска князья Черкасский и Пожарский, и потому велено стоять крепко и мужественно.
Обещания эти оказались лишь на бумаге — московские бояре с умыслом медлили, чтобы поставить Шеина в затруднительное положение.
Положение действительно было отчаянное: поляки овладели в тылу русских Дорогобужем и всеми нашими запасами; король же 6 октября чрез Покровскую гору перешел на Богдановку и отрезал нашим дорогу от Москвы.
Шеин спустя три дня выступил против них; польская конница бросилась на наши колонны и разбила их, но подоспевший резерв наш расстроил конницу; наступившая ночь прекратила этот страшный и неравный бой.
Шеин оказался окруженным со всех сторон, а пробиться не было возможности. Держался он мужественно целый месяц. Холода между тем наступали, и мы сидели без дров и припасов; особенно лошади падали по недостатку пищи.
Перестрелка орудиями шла с обеих сторон, но поляки имели в руках своих Скавронковую гору, откуда их редут командовал местностью, и он причинял нам страшный вред.
Только наши бомбы, наполненные картечью, достигали королевских редутов[9].
Положение было критическое. Стоял уже конце ноября, и зима была в разгаре.
Созвал Шеин военный совет.
— Полковник, — обратился он к командующему иноземными полками шотландцу Лесли, — что делать: люди и лошади мрут, есть нечего…
— Думаю, пока у нас имеются силы, пока имеются еще хлеб и порох, мы должны с оружием в руках пробиться и уйти или же умереть с оружием в руках, — сказал благородный шотландец.
— Это шотландская дурь! — воскликнул полковник-англичанин Сандерсон. — Нам нужно только подождать немного — и помощь придет… Царь обещался прислать ратников и припасов. Зачем жертвовать людьми, коли можно достигнуть того же с меньшими потерями?
— О помощи мы слышим уж с августа, — заметил Лесли, — а ее нет… Притом все иноземцы и русские ратники ропщут, что ты морозишь их здесь… Декабрь уж на дворе.
— Я своих по крайней мере не поведу на верную гибель! — крикнул Сандерсон.
— Англичане известные трусы и изменники! — разгорячился шотландец.
Сандерсон обнажил шпагу и хотел броситься на Лесли.
Шеин и Измайлов насилу их розняли.
Начали голосовать оба предложения, и перевес взял шотландец. Решено выждать момент и пробиться сквозь неприятеля.
Но дров не было: вызвали охотников прокрасться ночью через неприятельскую цепь и из ближайшего леса привезти дрова.
Охотники отправились туда 2 декабря, но дали знать Шеину, что поляки напали на дровосеков и убито пятьдесят человек.
При этом донесении англичанин утверждал, что это неправда, там-де погибло только несколько десятков.
— Коли ты утверждаешь так несправедливо, — воскликнул шотландец, — то я прошу воеводу ехать с тобой и со мною в лес, и мы пересчитаем убитых… Там же я скажу, чья эта работа.
Воевода тотчас туда отправился с ними и действительно увидел, что убитых несколько сот. Тогда он обратился к Лесли и сказал:
— Ты в лесу обещался сказать, кто был причиною этой резни.
— Этот изменник, вот этот англичанин! — воскликнул Лесли, указывая на Сандерсона. — Он дал знать королю о дровосеках.
— Врешь! — завопил Сандерсон.
Но в этот миг Лесли выхватил из-за пояса пистолет и выстрелом положил его на месте.
— Что сделал ты! — воскликнул тогда Шеин. — По нашим законам я должен тебя казнить, а ты так мне нужен для предстоящей битвы…
— Судить, воевода, ты не имеешь права: шотландец убил англичанина, и не на русской, а на польской земле, и за это может его судить один лишь шотландский суд; но меня присяжные наши не осудят за убийство изменника, погубившего невинно столько душ… Пущай теперь вороны растерзают его труп.
Но случай пробиться и не представлялся; провизии не было, холода увеличились, и прошел еще целый томительный месяц ожидания и борьбы с польскими войсками.
Наступил в лагере нашем голод и большая смертность.
Шеин вступил в переговоры, но тянул их до 12 февраля следующего года, ожидая из Москвы помощи.
XII Смерть патриарха Филарета
В день Покрова, 1633 года, патриарх Филарет возвратился в полдень в Новоспасский монастырь из Успенского собора сильно разогорченный; вести от Шеина были неблагоприятные: король тесно окружал его своими войсками, а тут ни денег, ни ратников, чтобы послать ему скорую помощь.
В Москве же кричали со всех сторон, что войну затеял патриарх, да послали войско с выжившим из ума Шеиным и под Смоленском погубят цвет нашего дворянства, да и король Владислав вновь будет осаждать Москву.
Слухи об этих толках доходили до него, но он вынужден был молчать, потому что под наущением инокини-матери в таком же смысле выражался сам царь и высказал ему это в тот день прямо в глаза.
Больно и жаль ему стало и Шеина, и войска, и он ходил по своим хоромам большими шагами и думал думу, как пособить делу.
— Я сам поеду в войска, я их одушевлю своим приездом, — подумал он, — и мы пробьемся к Москве… А Владислав к зиме не посмеет сюда прийти и зазимовать… Завтра же поговорю с царем и с боярской думой и — в путь… Гей! Воронец! — крикнул он служке своему, литвину.
Явился литвин. В память своего плена патриарх одевал его в польский армяк с кушаком.
— Дай мне воды напиться, я жажду, — сказал патриарх.
Литвин исчез.
— Да, — продолжал размышлять патриарх, — зимой он не прийдет сюда, а я отступлю из Смоленска не на Москву, а на Калугу… Там я крикну клич на всю Русь, и мы растерзаем ляхов…
Вошел литвин с золотою чаркою с водою. Патриарх выпил залпом воду, почувствовал какую-то горечь, но подумал:
— Я всегда чувствую горечь на языке, когда сержусь, а сержусь я уж несколько дней… Великая черница не оставляет меня во покое: пилит и сына, и меня… Собирает боярынь к себе, и они, как по покойникам, воют о мужьях и детях, ушедших на войну… Проклятия их и на Шеина, и на попустителя… Но что это? Голова у меня кружится… Гей! Воронец… Воронец… кто-нибудь.
Начинает патриарх стучать ногами и хлопать в ладоши.
Является сват его, Стрешнев.
— Ты здесь, сват… кстати… хотелось пить… я позвал Воронца… он принес мне чарку воды… я выпил… теперь что-то сам не свой… Зови сюда Воронца…
Стрешнев выбежал и несколько минут спустя возвратился.
— Литвин бежал… скрылся, — произнес он, задыхаясь. — В отсутствии твоем, святейший патриарх, я хотел было отправить его в темницу: мне донесли, что с пленными ляхами он ведет тайно переговоры… что вчера ночью он разносил в боярские дома, гостям и жильцам грамоты короля Владислава: что Шеин-де в осаде и сдается, а король-де идет войною не на русскую землю, а на Романовых — они-де похитители его престола и что ему-де и Романовы, и вся земля русская целовала крест…
— Где ж литвин… ищи его… постой… постой… за царем… за Морозовым… за Нефедом Козьмичем…
— Боярин Нефед Козьмич оттяжкой болести вчера скончался, — заметил Стрешнев.
— Умер… и я его недолго переживу… да, духовника… моего не хочу… ты мне приведи отца Никиту… да скорей… скорей… силы мне изменяют… я слабею… спеши… я уж здесь посижу и подожду…
Он находился в это время в своей передней, то есть приемной, которая имела нечто вроде трона для торжественных случаев.
Стрешнев побежал и, разослав верховых для исполнения приказаний патриарха, вернулся к святейшему.
Тот как будто дремал, но с приходом свата он с четверть часа спустя очнулся.
— Сват, — сказал он, — коли умру, служи верой и правдой царю, дочери твоей и внуку, а я тебя и всех вас благословляю.
В это время вбежал царь Михаил с огромною свитою, так как это был час обеденный, и он захватил с собою всех гостей.
Патриарх объявил царю, что он подозревает себя отравленным и что кончина его близка.
Увидев при этом придворных врачей Бильса и Бальцера, он сказал им благосклонно:
— Совершается воля Божья и супротив Промысла нет лекарства.
— Сын мой и царь, — обратился после того он к сыну, — завещаю тебе сражаться с королем Владиславом до последних сил. Коль вздумает он прийти в Москву, отдай ему город после сильного боя, рубись до последнего; а коль невмоготу будет — уходи в понизовье; где только бьется русское сердце, везде тебе будет приют, и там будет и крепость твоя… и так врага одолеешь. Не влагай меча, пока Владислав не отречется от царства. Помни мой завет: рано или поздно не шапка Мономаха будет на главе Ягеллонов, а корона польская ляжет на голову Романовых… Завещай это сыну, внукам и потомству. Также и путь нужен нам к морю, бедствие наше под Смоленском оттого, что и оружие, и порох, и иноземные ратники идут к нам чрез Архангельск, а этот путь и далекий, и дорогой… Вам, бояре, и земле русской держаться моего дома… Вижу видение… — Он приподнялся и, глядя в пространство, продолжал: — Море кроется нашими кораблями… пустыни населены… крестьяне бодры, сыты и веселы: скирдами наполнены их токи и закрома полны хлеба… Царство грозно и могущественно.
Он помолчал несколько минут и обратился к боярам:
— Служите верою и правдою моему сыну, и моя надежда на вас; продолжайте бодрствовать над ним, над его наследником и над царством. Сын мой, твердо держи бразды правления и не щади никого, хоша бы то была моя кровь… Смерть мою не ставь никому в вину, на то воля Божья… Не смею винить в ней короля Владислава: и своих воров, злодеев и убийц довольно…
Царь подошел к нему, стал на колени и, рыдая, произнес:
— Святейший отец мой и великий государь, благослови меня!
Патриарх как будто стал засыпать. Он превозмог себя и, положивши руку на голову его, прошептал:
— Благословение мое навсегда да почиет на тя и благодать Божья да снизойдет на тя вместе с любовью моею… Жене, детям твоим и сестре передай тоже мое прости и благословение…
— А великой чернице-инокине? — спросил царь.
— Ей… ей… мое прощение… Духовника!.. духовника!.. скорей!..
Вошел отец Никита с св. дарами.
Все удалились. Патриарх исповедался, приобщился и пособоровался.
После того он обратился к отцу Никите:
— Не удивляйся, сын мой, — произнес он тихо, — что я тебя не взыскал своими милостями… Я ждал ежечасно развязки… свой конец… а мои милости были бы тебе гибелью… Иди в монастырь… иди, говорю тебе… и Бог тебя возвеличит высоко: превыше всех здешних пастырей… сделаешься святителем, великим, Богом избранным, Богом венчанным… Есть у нас обитель великая… Соловки… откуда и св. Филипп митрополит… но чувствую: конец мой приходит… хочу посхимиться… зови сюда синклит…
Отец Никита устремился в соседние комнаты, где ждали царь, бояре и собор духовенства.
Вошли все в зал, где, сидя на трое, умирал патриарх.
Началось печальное служение и пение: все предстоящие, стоя на коленях, рыдали.
Едва посхимился патриарх, как его не стало. Царя без чувств унесли из зала и увезли в грановитую палату.
Царь-колокол возвестил печальным ударом о кончине патриарха, и все сорок сороков московских глухо вторили ему.
Москва вся всполошилась. Недавно она видела святейшего цветущим, в Успенском соборе, а тут вдруг скоропостижная смерть.
Напал на всех страх, и при дурных вестях из-под Смоленска всем казалось, что враг уже у стен Москвы…
Потек народ к Новоспасскому монастырю, чтобы хоть у трупа великого святителя почерпнуть утешение и бодрость духа.
Весь народ, без различия званий и пола, рыдал, и когда несколько дней спустя его выставили в Успенском соборе, наехало и пришло в Москву из окрестных городов и сел столько народу, что весь кремль наполнился людом.
Тогда и враги Филарета поняли, чего лишилась в нем Русь.
XIII Казнь боярина Шеина и окольничего Измайлова
Великая черница ждет в своей келье царя Михаила. Умер патриарх, и теперь можно ей вступить вновь в прежние свои права — руководительницы сына и управительницы царством.
Так все предполагали, и вся ее клика тайком радовалась, ликовала и явно ее поздравляла.
Вознесенский монастырь вновь наводнился разным людом, ожидавшим взгляда, слова или поклона царицы-инокини.
Накопилось у нее поэтому много вопросов и много челобитен к царю, и она ходит в сильном возбуждении в своей приемной.
Наконец, царь приехал и входит к ней; лицо его печально и бледно.
— Уж не болен ли ты? — спрашивает царица.
— Сильно болен. Не ем, не сплю… все отец пред глазами… и все-то хочется к нему идти… поговорить с ним… послушать его разговора… а он в могиле…
И царь зарыдал.
— То воля Божья! — произнесла набожно инокиня, подняв глаза вверх и утирая глаза платком. — Да,— продолжала она, — потеряли мы друга, отца.
— Великого радетеля государского дела! — воскликнул царь.
— Да, но Бог милосердный оставил тебе еще мать, жену, сына… Утешь свою печаль, ты должен жить для них и для великой земли русской.
— Не хочу я царствовать… не хочу я жить!..
— Почему?
— Тяжело, очень тяжело…
— Я тебе буду помогать советами, мы с тобою царствовали без отца и Москву спасли от королевича, когда он нас осаждал здесь несколько месяцев… И дальше дело государское пойдет…
— Сказал, умирая, в бозе почивший святейший патриарх: пущай бояре держат бразды правления, ну и пущай…
Великая черница вышла из себя. До приезда Филарета в Россию имя ее стояло рядом с именем царя, а теперь как будто ее не существовало.
Она, однако ж, удержалась и, несколько минут помолчав, обратилась к нему со смиренным видом:
— Я хотела просить тебя о Салтыковых и Грамотине.
— Скажу боярам, и что они скажут.
— У меня, гляди, сколько челобитен, — она подала ему целый сверток жалоб.
— Дай, ужо отдам боярам.
— Кого же ты думаешь избрать в патриархи?
— Что скажет собор. Я перечить не буду.
Черница почувствовала себя во всех пунктах разбитою, и она собиралась сделать ему длиннейшую сцену с обмороками и рыданиями, как он поднялся с места, поцеловал ее руку и хотел идти.
— Куда ж? С матерью не посидишь? Утри ее слезу, утешь ее печаль, ты видишь, как я убита смертью отца.
— Меня ждет жена и дети с обедом, — и с этими словами царь вышел.
Великая черница упала на близстоящий стул, и много лет уже она так сильно не плакала и не убивалась, как теперь.
Попробовала она составить сильную партию в боярской думе чрез Грамотина, но и тут ее постигла неудача: перевес был на стороне сына, все перешли в его лагерь, даже все прихлебники и прихлебницы царицы-матери.
Обо всех этих событиях и переменах боярин Шеин не знал. Он был так тесно обложен поляками, что и птица, по выражению ратников, не могла к нему перелететь.
Но русский человек, если исполняет долг, то для него нет преград. Один стрелецкий юный ратник взялся доставить ему весть из Москвы о случившемся и в ночь с 18 на 19 февраля явился в его шатер.
Он передал ему о смерти Филарета. Шеин понял, что не стала патриарха, значит, и помощи нечего ждать, и ни хлеба, ни снарядов, а больных более двух тысяч человек.
Послал он к королю Владиславу предложение, что он сдаст ему лагерь с орудиями, но с тем, чтобы: 1) все ратники отпущены были с оружием в Москву и с 21 пушкой; 2) что все русские ратники, находящиеся при нем, обещаются четыре месяца не сражаться против поляков; 3) иностранцы же могут делать что хотят.
Предложение было почетное. Зная храбрость и самоотвержение Шеина, король Владислав, как рыцарь, согласился на это.
19 февраля наши выступили из укрепленного своего лагеря со свернутыми знаменами, с погашенными фитилями, тихо, без барабанного боя, музыки и, поровнявшись с тем местом, где сидел на лошади, окруженный сенаторами и людьми ратными король, ратники клали знамена на землю и знаменосцы должны были, отступив на три шага назад, ждать, пока гетман именем королевским не велит им их поднять. При этой команде ратники наши подняли знамена, запалили фитили и, ударив в барабан, двинулись по московской дороге.
Шеин и другие воеводы были на конях, но когда проезжали мимо короля, сошли с лошадей и, низко поклонившись Владиславу, сели опять на лошадей и продолжали печальный путь.
Случись подобное в нынешнее время, после почти четырехмесячной борьбы с сильным неприятелем без хлеба, оружия и пороха, подобного героя возвысили бы на пьедестал бессмертия, как это сделали с Османом-пашею под Плевной, когда наши войска аплодировали его героизму.
Но в те времена глядели на дело иначе, и боярская дума была озлоблена против Шеина, да и царица-мать его не жаловала.
Еще до сдачи своего лагеря, 1 февраля, Шеин отправил дворянина Сатина в Москву.
Тот каким-то чудом прошел ночью чрез польский лагерь и явился к царю. Последний соглашался на то, чтобы войска наши и польские разошлись полюбовно, впредь до мира, и вместе с тем князь Волконский отправлен в Можайск к князьям Черкасскому и Пожарскому для совещания, как подать помощь Шеину.
Во время этих переговоров князь Черкасский получил вдруг 3 марта известие, что Шеин отпущен королем в Москву, о чем он и донес царю.
Из Москвы тотчас отправили дьяка Моисея Глебова навстречу Шеину с требованием отчета, на каких условиях он с королем примирился.
Оказалось, что поляки за разный мусор, оставленный в русском лагере, взяли еще на попечение свое две тысячи четырех человек больных и раненых.
И это поставили в вину Шеину.
Тотчас по приезде в Москву его посадили в темницу; то же самое сделали и с Измайловым. Кроме того, арестованы были все родственники того и другого.
Судили, рядили в боярской думе, обвинили его в небывалых преступлениях, а всю его деятельность приписали измене и осудили его и Измайлова к смертной казни.
Старый солдат, чувствуя свою правоту и что он, по его выражению, бился, не щадя головы, выслушал хладнокровно приговоров в боярской думе и, осведомясь, что на другой день казнь совершится на лобном месте, просил только, чтобы ему прислали для исповеди и для препровождения на эшафот его духовника, отца Никиту.
Царь согласился на это.
На другой день после заутрени, на рассвете, должна была совершиться казнь Шеина и Измайлова.
После заутрени отец Никита явился к узнику в темницу со святыми дарами.
Он был в тяжелых цепях.
Священник, исповедав и приобщив его, поставил св. дары на стол и бросился к его ногам.
— Боярин, — сказал он, рыдая, — это я невольная причина твоей казни, твоего позора. Ты не хотел идти на войну — я уговаривал тебя.
— То Божья воля, — отвечал боярин, подымая и целуя его. — Молись обо мне грешном, — произнес он спокойно, но со слезами на глазах. — Жаль мне только семьи моей — и она погибнет, да Измайловых я погубил… Отец Никита, коль ты когда-нибудь будешь мочь — не забудь ни Шеиных, ни Измайловых, они стоят этого: они честные люди, и Бог тебя не взыщет. Передай когда-нибудь царю, что погибаю я от злобы и зависти людской; передай тоже, что я люблю своего царя и люблю его после Бога больше всего.
Вошли тюремщик, стража, думный дьяк, долженствовавший читать приговор, и монашествующая братия. Сняли с Шеина цепи; он перекрестился и вышел из тюрьмы твердыми шагами.
Его и Измайлова повезли окруженных войсками, а музыка била на барабанах и играла в рожки поход.
Это отдавали последнюю честь полководцам.
Ввел на эшафот Шеина отец Никита, и тот обратился к народу:
— Православные христиане, — произнес он громким голосом. — Каждому суждено умереть, и мне за верность мою царю и русской земле суждено лишь положить голову на плаху. Кладу ее безропотно, и да простит Господь моих судей и палачей.
Он поцеловал крест, поданный ему отцом Никитой, поцеловался с ним, поклонился народу во все стороны и просил прощения, коль провинился он в чем пред кем-либо, и положил голову на плаху…
После него такую же казнь понес и Артемий Измайлов.
Обрызганный кровью этих двух невинных жертв, заслуживающих со стороны нашего народа памятников, отец Никита прибежал домой, и жена не узнала его: глаза его блистали и ему мерещились призраки.
Он заболел и несколько месяцев был между жизнию и смертию.
По выздоровлении он перестал посещать бояр: так опротивела ему боярская дума, и посвятил себя только церковным требам.
Так он прожил несколько лет, удаляясь от общественных дел.
Но жизнь эта была монотонна и не по сердцу ему, и он вновь попробовал посещать людей.
Купеческие и боярские дома, куда его приглашали, были до крайности невежественны и суеверны; а вся литература их вращалась на книгах: сонник, волховник, о птице-чарове, чаромерие, стенем знаменье, зелейник, колядник, громник и тому подобное. Ходили тоже по рукам чисто еретического содержания рукописи, евангелие от Варнавы, Никодима и Фомы. Кроме этого, сильно распространены были псалмы Соломона и песни Давида и множество других нелепых вещей, вроде сказания о том, как рыбы посуху ходили.
Книги эти еще в XIV веке были осуждены и признаны еретическими, и в Москве они составляли принадлежность многих библиотек. Восстал Никита Минич против всего этого в проповедях, и Москва несколько стала к нему остывать, но против него самого раздаваясь голоса о латинстве и еретичестве. Он-де отрицал, что на Тивериадском озере имеются двадцать шесть китов и что на одном из них стоит земля, а про святой Иерусалим-град он отрицал, что он пуп земли.
Да и житье тогдашних священников на Москве показалось Никите Миничу не по нутру: повсюду корысть, унижение, лихоимство, потворство мамону и чревоугождение, а тут, на беду, жена хворает, да одного за другим двух детей похоронили, а третий родился слабым, таким вздутым, точно пузырь.
Сделался Никита Минич мрачен и перестал в церкви проповеди говорить, а коли домой придет, то на ребенка даже не взглянет и только думу думает.
Коли и этого Бог приберет и он отойдет к ангелам, значит, не угодно Ему, чтобы я жил в брачной жизни, значит, не будет благодати на моем потомстве.
Мысль эта грызет его, не дает ему покоя ни днем, ни ночью, и снятся ему страшные сны, и душит его часто домовой…
— Дьявольская сила одолевает, — говорил он себе по пробуждении, — а все это за великие мои грехи, что вкусил брачную жизнь, что плоть свою не умертвил.
Схимническая и аскетическая идея сделалась у него преобладающею.
Смерть третьего сына, воспоследовавшая вскоре, окончательно свела счеты его со светом: последний скончался на Фоминой.
С кладбища отец Никита возвратился домой совершенно убитый и перестал посещать свою церковь; жена тоже сделалась молчалива, и однажды, подойдя к нему, она с сдержанным от рыдания голосом сказала:
— Ника, мы вместе с маленьким Никой (и тот назывался Никитой) похоронили нашу брачную жизнь; хочу поступить в обитель, благослови меня… Женился ты, чтобы иметь детей… потомство… но сам видишь, Бог их прибирает, зачем же мне мешать твоему подвижничеству… Ступай в монахи и будешь ты великим святителем: должно сбыться пророчеству.
— Спасибо, Паша… Нам нужно разойтись, Бог не благословляет нашей брачной жизни… Пойду и я в чернецы… Уйду в Соловки… Имущество раздадим нищей братии, а что имеем в деньгах, отдадим вкладом в Алексеевский монастырь — там тебе и келью дадут.
— А ты же, Ника?
— Я заработаю себе кусок хлеба трудом.
И с этого дня они раздавали свое имущество нуждающимся; когда же приход узнал об их решении, стали собираться всякого звания люди: дни благословляли их на грядущий путь, другие отговаривали. Вообще сочувствие к ним Москвы показало, что большинство было за них.
Но раз решившись, они не покидались своего намерения. В первое же воскресенье, распростившись с знакомыми, они пошли к Алексеевскому монастырю. Паша была одета черницей, только без клобука, отец Никита был одет простым крестьянином — за поясом у него виднелся топор, а на плечах пила вместе с котомкой, в которой имелась отпускная грамота из патриаршего приказа и хлеб.
У ворот обители супруги присели, поговорили в последний раз, обнялись крепко и продолжительно поцеловались… Когда же ворота закрылись за Пашей, с отцом Никитой сделалось дурно. Не помня себя, он бросился бежать вон из города.
XIV Соловки
В 1429 году инок Савватий, ища спасения в подвижничестве, переплыл на ладье на остров в Белом море, водрузил там крест и поставил уединенную келью.
Несколько лет спустя св. Зосима привлек сюда иноков, устроил общежительство, соорудил церковь Преображения.
Святая жизнь этой обители, пребывание и смерть в ней знаменитого московского иерея Сильвестра и могила митрополита всей Руси Филиппа сделали его знаменитейшим духовным местом на Руси.
Благочестивые мечты отца Никиты были давно уже обращены туда, и там-то, в богатейшем ее книгохранилище, хотелось ему окончательно образовать свой ум, чтобы приготовиться к дальнейшей деятельности в подвижничестве.
Притом на Соловецкий монастырь были обращены тогда глаза всей России и оттуда вернее всего были надежды разнести свет духовного просвещения.
Но как добраться туда?
Отец Никита пошел в Новгород в надежде найти там промышленников, имеющих связь с Архангельском.
Надежды его оправдались. В Новгороде он нанялся простым рабочим к одному купцу, ведшему соляную торговлю с севером России и отправлявшему на промыслы своего приказчика.
После многих странствований они прибыли в Архангельск, и, чтобы отделаться от приказчика, отец Никита отдал все свое жалованье какому-то заезжему туда работнику, который охотно согласился вместо него возвратиться обратно в Новгород.
Сам же отец Никита, воспользовавшись отходом судна с богомольцами в Соловки, отъехал туда.
При приближении же к Соловецким островам стал он расспрашивать о них шкипера, и тот ответил:
— Всех-то их здесь шесть, да наибольший, Соловки, имеет 25 верст в длину да 16 в ширину. Два из них называются Муксальскими, а два Заячьими, а шестой большой, что поменьше Соловок, то Анжерский. На последнем подвижничал первый Елиазар-схимник, подвижничал он на самой-то вершине горы, что посреди озера, которую и назвал Голгофораспятскою.
Неизъяснимым религиозным восторгом наполнилось сердце отца Никиты, когда глазам их представилась св. обитель Соловок.
Ее твердыни, и величественно возвышающиеся купола церкви, и монастырь, утопающий в зелени кедров и елей, а на другой стороне, в пятиверстном расстоянии через пролив, Анжерский пустынный скит, напоминающий человеку, что можно и в уединении совершать великие дела, — все это сильно подействовало на воображение молодого человека[10].
— Вот где истинное благочестие; вот где истинное подвижничество, — подумал он. — Вдали от мира, от суеты человек может в созерцании жить и вызывать из них великие сокровищницы духа и благодати…
Но когда он вступил на землю Соловок, он был поражен. Митрополит Филипп, когда был игуменом, средствами одного монастыря очистил лес, проложил дороги, осушил болота каналами, и завел оленей, домашний скот, рыбные ловли, соляные варницы. А там, вдали, между мускальскими островами, клокочет водопадом пролив, и в узком его месте св. Филипп перекинул мост для перехода оленей и скота с одного острова на другой.
Услышав обо всем этом, Иван Грозный одарил монастырь драгоценными сосудами, жемчугами, богатыми тканями, землями, деревнями; помогал Филиппу деньгами в строении каменных церквей, пристаней, гостиниц, плотин.
Все это рассказывал ему старый монах, встретивший их на пристани и поведший их к мощам святых Савватия и Зосимы.
Благоговейно поклонился отец Никита мощам св. угодников, но над могилами иерея Сильвестра и митрополита Филиппа он долго стоял и проливал обильные слезы, в особенности над последним.
Так прошел почти весь день, а после вечерни встретивший его монах повел его в гостиницу; здесь накормили его и других богомольцев, и старик монах после вечери отвел ему келию.
Отец Никита жаждал узнать многое, и поэтому он обратился к нему с следующими словами:
— Отец Пармен, если не устал ты, посиди со мною и побеседуем.
Отец Пармен обрадовался, как обыкновенно радуются люди, живущие в отдалении от света: они всегда рады всякому приезжему, чтобы поболтать и услышать новости.
Усевшись на скамьях у стола, они при свете лампады, висевшей у иконы св. Савватия и Зосимы, повели беседу.
Отец Пармен расспрашивал о новостях новгородских и московских, а отец Никита жаждал узнать что-нибудь о последних минутах митрополита Филиппа.
Отец Пармен много лет жил в монастыре, и потому он мог даже знать о сподвижниках митрополита.
Монах удовлетворил его любопытство.
— Ты уже знаешь, — говорил он, — что благолепие этого монастыря и его богатство приобретены преподобным Филиппом, когда он был здесь игуменом. Сын боярский, именитого рода Колычова, он в юности возненавидел мир и удалился сюда. Подвигами добродетели, любви и трудолюбия он снискал любовь братии и возведен в игумены. Слава о нем дошла до Москвы, и царь Иван Грозный стал одаривать его и монастырь. Но вдруг получается грамота — игумен вызван для совета духовного в Москву. Отслужив литургию, преподобный причастил всю братию, перецеловался со всеми и со слезами покинул обитель. На Москве царь встретил его с большими почестями, посадил с собою обедать и после трапезы самолично, без собора, провозгласил его митрополитом всея Руси. Филипп отказывался и требовал уничтожения опричнины. Царь разгневался и прогнал его от себя, но прислал к нему архиереев, чтобы они уговорили его принять паству. Преподобный согласился и сказал тогда: «Да будет что угодно государю и церковным пастырям». Написали грамоту, в которой сказано, что митрополит дал слово архиепископам и епископам не вступаться в опричнину государеву. Несмотря на это, митрополит при первой же архиерейской службе сказал слово, полное любви к правде и ненависти к неправде. Первые дни и месяцы протекли в мире, в надеждах для столицы. Затихли жалобы на кромешников: чудовище издремало, и преподобный стал на Москве строить церковь святых Савватия и Зосимы. Тишь предвещала бурю. На Москве жил старец, боярин Федоров, муж доблестный, знаменитый, старых обычаев, украшенный воинскою славою. Опричники его оклеветали, что он хочет свергнуть царя с престола и властвовать в России. Призвал Иван к себе Федорова, надел на него царскую одежду и венец, посадил его на трон, дал ему державу в руку, снял с себя шапку, низко поклонился и сказал: «Здрав буди, великий царь земли русския! Се принял ты от меня честь, тобою желаемую! Но, имея власть сделать тебя царем, могу и низвергнуть с престола!» Сказав это, ударил его в сердце ножом. Опричники дорезали его и потом жену его Марию. Затем пошла гулять опричнина: зарезаны и четвертованы князья Булгаков, Ряповский, три Ростовских, Щенятев и Пронский. Многих убивали в приказах или когда они шли в церковь. Бояре и народ умоляли митрополита заступиться за них, и тот дал слово не щадить своей жизни для спасения людей. Вскоре представился случай. Царь явился в одно воскресенье в собор, окруженный боярами и опричниками. Преподобный Филипп обратился к нему со словом: описывая все ужасы, совершаемые им в государстве, он напомнил ему о суде Божием. Иван затрепетал от гнева, ударил жезлом о камень и зашипел голосом страшным: «Чернец! Я излишне щадил вас, мятежников, отныне буду, каковым меня нарицаете», — и вышел с угрозою. На другой день были новые казни.
— А летом, — продолжал уж отец Никита, — пишут очевидцы, в полночь любимцы Ивановы — князь Вяземский, Малюта Скуратов и Василий Грязный с опричниками ворвались и вломились в домы ко многим знатным людям, дьякам и купцам, взяли их жен, известных красотою, и вывезли из города. Светом сам царь, окруженный кромешниками, выехал за город. На первом ночлеге ему представили жен: он избрал некоторых для себя, других уступил любимцам. На другой день он велел развезти их по домам — многие из них со стыда и страха или убились, или умерли. Но рассказывай дальше, отец Пармен, о преподобном Филиппе.
— В день св. апостолов Петра и Павла преподобный служил в Новодевичьем монастыре и ходил по стене с крестами. Тут был и царь с опричниками, из коих один шел за ним в тафье. Митрополит остановился и указал царю на бесчиние; но виновный успел снять тафью и царя уверили, что это выдумка митрополита. Тогда царь озлился и стал ругать митрополита лжецом, мятежником, злодеем и клялся, что уличит его. В обители нашей ничего не знали об этом, как однажды явились сюда епископ Пафнутий и князь Темкин. Лаской и угрозой требовали они, чтобы братия свидетельствовала о Филиппе недоброе; но братия отказалась единогласно: лучше смерть, чем ложь, отвечала она. Один лишь игумен Паисий согласился и уехал в Москву. Нарядили суд, и на суде преподобный сказал: «Лучше умереть невинным мучеником, нежели в сане митрополита безмолвно терпеть ужасы и беззакония сего времени. Твори, царь, что тебе угодно», — и с этими словами митрополит снял свой белый клобук и мантию. Но царь велел ему взять назад то и другое, и когда митрополит в день св. архангела Михаила стоял в Успенском соборе в алтаре во всем облачении, явился Басманов с опричниками, прочитал грамоту о низложении митрополита собором, сорвал с него облачение, одел его в бедную рясу, выгнал из церкви метлами и затем повез на дровнях в обитель Богоявления. На другой день преподобного привезли на тех же дровнях в судную палату, где пред царем ему прочитали об его винах и волшебстве и о том, что он приговорен к вечному заточению. Тут он простился с умилением с миром и напомнил снова царю, что он правит народом неправо. Иван гневно заставил мановением руки вывести его. Опричники схватили митрополита и повезли в темницу, где его заковали в железо. Дней через восемь его отвезли в обитель св. Николая Старого, на берегу реки Москвы. Сюда несколько дней спустя царь прислал ему голову племянника его, Ивана Борисовича Колычова. Митрополит, благословив ее, возвратил ее принесшему, не говоря ни слова. Между тем народ возмущался, слыша об этом; тогда Филиппа перевезли в Тверской Отрочин монастырь. Сюда явился злодей Малюта Скуратов и задушил старца; но, боясь огласки, тело его отослали в Соловки. Когда привезли его сюда, братия постилась, молилась и плакала целую неделю. Затем облачили его в митрополичью одежду и предали земле по чину архиерейскому.
На отца Никиту рассказ этот произвел сильное впечатление, и когда чернец Пармен ушел от него, он долго не мог заснуть.
В особенности его потрясла сцена, когда с митрополита срывали святительское облачение.
На другой день отец Никита явился к игумену, предъявил ему патриаршую отпускную и объявил желание свое постричься в монахи.
Игумен, узнав об его знаниях, обрадовался, тем более что знающих и грамотных в то время было очень мало, и пострижение назначил на первое же воскресенье.
Между тем отец Никита все это время проводил в посте и молитве и к пострижению явился как на праздник.
Когда он воспринял пострижение, он молился о преподобном Филиппе и дал клятву, что если Бог вознесет его, то он перевезет его прах в Москву; когда же его спросили, какое имя желает принять он по пострижении, в ушах его прозвучало имя Ника, которым называли его так нежно мать и жена, и он произнес: «Никон!»
XV Анжерский скит
Поселился и жил уже несколько лет бывший отец Никита, а теперь Никон, в Анжерском ските, который был тогда у подошвы горы, и вел жизнь труженическую. Братия была немногочисленна, а остров обширен и пустынен. Голгофа, вся обросшая вековыми кедрами, соснами и елями, высилась гигантом посреди острова, а озера, полные разных пород северных рыб, хотя и мелкой, но обильной, блестели средь зелени у самой подошвы горы. Работы поэтому небольшому кружку братии было много. Ни от чего, однако ж, Никон не отказался: и на рыбную ловлю ходил, и дрова рубил, плотничью работу производил, и на службу в церковь на лодке переезжал в Соловки, и времени еще у него ставало на то, чтобы почитать из соловецкого книгохранилища то ту, то другую книгу или свиток.
Братия возгордилась им вскоре и решилась отправить его со скитским игуменом Елеазаром в Москву для сбора денег на сооружение храма на Анжеро-Голгофской горе. Снарядили обоих в путь. Елеазар с Никоном отправились в Москву, и здесь благодаря связям и знакомству последнего они собрали пятьсот рублей, что по тогдашнему времени составляло большую сумму. Когда же они возвратились домой, Елеазар приписал себе всю честь этого сбора, а на Никона не только стал клеветать и поносить его, но даже сочинил, что Бог послал ему, игумену, видение в виде предостережения для братии. Снился-де ему Никон, обвитый-де змеем, т. е., другими словами, древний змей, сиречь дьявол, овладел им.
Возненавидела братия его поэтому за все: и за богатырскую его силу, и за его ум, и за его знания, и за трезвую его жизнь, и за строгое исполнение им монастырского устава.
Обратно и Никон, узнав близко жизнь братии, ее дрязги и ее сокровенные стороны, потерял к ней всякое уважение. Вздумал было он с кафедры обличать ее, да ему не позволили и объявили, что проповедь — латинство и что такой соблазн они не допустят в обители Савватия и Зосимы.
Это заставило его говорить с монахами отдельно или в небольших группах, но те тотчас поднимут такой шум, что хоть вон беги из монастыря.
— В чужой монастырь с своим уставом не ходи, — был ему ответ и от игумена Соловок, когда он вздумал заикнуться ему о замеченных им беспорядках.
Когда же он, бывало, заговорит об единогласии в пении и согласии в службе, то это новшество называлось латинством и еретичеством.
Углубился в самого себя Никон и понял, что народ прав, когда говорил, что «славны бубны за горами». Спасаться и подвижничать можно и дома и нечего ходить на край света, как называл преподобный Филипп свои Соловки. Видно, подумал он, при Савватии и Зосиме и Филиппе были иные порядки и иные люди.
При этих мыслях Никон стал избегать братии, делал свое дело, глядел сквозь пальцы на ее проделки; но братия не давала ему покоя: то она доносила в Соловки об его еретичестве и непристойных речах, и Никон получал или строгие замечания, или эпитимии; или они не оставляли ему пищи, когда он запаздывал к трапезе по монастырскому же делу.
Все это Никон терпеливо переносил; но однажды один из послушек начал к нему придираться и бесчестить его. Никон вспылил и оттузил его.
Вся братия взбунтовалась, пошла жаловаться скитскому игумену Елеазару, и тот посадил его в подземелье на хлеб и на воду на целую неделю.
Сидя в сыром и холодном погребе, Никон размышлениями пришел к заключению, что при такой обстановке и отношении к целой братии добра не будет и лучше уйти от греха.
Но как уйти?
Раз попав в монастырь, он становился совершенным его рабом и уйти оттуда он мог только бегством.
При переходе же в другой монастырь, если последний был сильнее первого или по крайней мере в равной с ним силе, то могла еще быть надежда, что он не будет выдан; если же после бегства он попадет в слабый монастырь, то Соловки потребуют его выдачи.
Положение его было отчаянное и он не знал на что решиться.
Случай развязал ему руки.
Летом ежегодно отправлялись из Соловок монахи и служки-рыболовы на острова у устья Онеги, чтобы наготовить соленой крупной рыбы про запас на целый год.
И год спустя после прибытия Никона в Соловки снастили судно для этой цели.
Монахи уговаривали его, чтобы и он ехал.
У Никона запало подозрение и он не давал решительного ответа.
Нужно было посоветоваться с кем-нибудь и он, переехав на лодке в Соловки, отправился к отцу Пармену, когда его зачем-то послали из скита в обитель.
Отец Пармен был постоянно занят монастырским хозяйством и поэтому они редко виделись с Никоном; когда же встречались, он душевно скорбел, что тот не сошелся с братиею.
— У нас так, — сказал он в заключение, — братия кого не взлюбит, готова извести его и мухомором угостить или утопить…
— Господи! — воскликнул с ужасом Никон, — и это творят отшельники, преемники Елеазара.
— Разве скитские — отшельники? Здесь что ни на есть грешные из нашей братии, все туда попадают, и кто уж после этого искуса выйдет чист, тот поистине благочестив.
— Так для искушения я туда попал? Но пока кончится искус, меня на свете не будет.
— Верю, верю, — многозначительно произнес отец Пармен и вдруг, как бы что вспомнив, обратился к нему со словами: — Они уговаривают тебя ехать на рыболовство?
— Упрашивают.
— Теперь ясно, берегись, брат, у них злой умысел. Это не первина. Рыболовы наловят рыбы и оставят тебя на пустынном острове. Видишь, они всегда свою ладью нагрузят рыбою и увезут в Архангельск. Продадут там товар купцу, накупят водки, разных сластей и возвращаются для второго улова. Второй уж улов лишь везется сюда. Теперь понимаешь, откуда пьянство?
— Да как же водку и сласти они везут сюда?
— Ночью несколько лодок едут к ним навстречу и провезут так, что никто не увидит. А наши Соловки дремучи и они в подземельях запрячут так, что не отыщешь.
— Так, по-твоему, дорогой отец Пармен, не ехать?
— Это как знаешь, сам обдумай: не попасться бы тебе в западню. На то Бог дал тебе разум. Только помни одно: коль после отъезда твоего через неделю рыболовы не возвратятся, так из скита пойдет к Онеге новая ладья.
Намотал себе это на ус Никон, простился он с ним с чувством, молвя на прощанье:
— Не поминай лихом, — и поплелся по направлению к своей лодке, чтобы переехать к скиту.
Прибыл он туда к трапезе и весело обратился к братии:
— Когда же рыболовы выезжают? — спросил он.
— Завтра до света, — сказал один.
— А меня возьмут?
— Коли охотишься, поезжай.
— Как не охотиться, — возразил он, расхохотавшись. — Может быть кит проглотит меня и будет он носить меня во чреве своем три дня и три ночи.
— Не кощунствуй, да здесь и китов-то нетути, — озлился Пафнутий, который должен был ехать начальником на рыболовню.
— Если Бог захочет совершить чудо, так Он совершит его, и хотя здесь нет китов, так они могут появиться. Знаешь ли, отец Пафнутий, Бог коли захочет, так из меня, червя, сделает нечто, а из иного сделает ничто. Еду с вами — во мне найдете работника.
Отец Пафнутий злобно на него покосился, пошептался с теми монахами и служками, которые должны были ему сопутствовать, и сказал:
— Мы берем тебя, но гляди: слушаться и не шуметь. Рыба не любит шума, а потому без ссор.
— Честное слово.
Никону не долго было собираться, он всю одежду монастырскую сдал в кладовую, сам нарядился в свое крестьянское платье, только захватив топор, пилу, котомку и посох.
— А это на что тебе?
— Может быть потреба: будет что ни на есть поправить в ладье, — хладнокровно отвечал Никон.
В котомку же Никон наложил порядочный запас хлеба и соленой рыбы, а отцу Пафнутию сказал, что это он взял с собою священные книги для чтения, которые подарил ему отец игумен.
С рассветом другого дня большая ладья, приспособленная для морского плаванья, подняла на мачте парус, и они тронулись в путь. Ладья была нагружена солью, сетями, провизиею и имела за собою две маленькие лодки для завозки сетей. На лодке были монах Пафнутий, еще четыре чернеца, двое служек и Никон.
Ветер был попутный, свежий, но море не особенно волновалось, и они шли шибко.
Рулем управляли попеременно все монахи и Никон.
Последний присматривался к действию паруса и руля и вскоре понял искусство управлению и тем, и другим.
Провизии и питья монахи набрали вдоволь и угощались попеременно: то Пафнутий потчевал Ивана и Петра, то Иван потчевал Пафнутия и Петра, то Петр потчевал Ивана и Пафнутия. Служек тоже не обходили; один Никон ничего не пил, кроме воды из бочонка.
За день рыболовы наугощались-таки порядком, и когда к вечеру стали приближаться к одному из островов у устья Онеги, Никон бросил якорь и убрал паруса.
По условию, рыболовы должны были съехать на лодках на берег, раскинуть там привезенный шатер, свезти туда провизию, котлы и оленьи кожи для постели; но монахи и служки были так пьяны, что остались на ладье.
Все были погружены в глубокий сон, лишь один Никон бодрствовал.
Ночи не существовало, было совершенно светло, и он ждал только восхода солнца, которое в одном месте моря должно было только окунуться в морскую даль и тут же выплыть оттуда.
Но в то время, когда солнце совершало этот путь, тучки покрыли то место, где было солнце, и в разных местах на небе появились облака; и тучи, и облака мгновенно стали переливать в разные цвета и, отражаясь в море, представляли дивную красоту.
Все море в это время ожило: маленькие рыбки точно искры вылетали из воды, а там шум обнаруживал движение целого стада больших рыб; в ином месте показывалась голова или тюленя, или моржа; в другом — всплеснет вода и покажется голова рыбы, дотоль им не виданной. А на острове гогочут, крякают и щелкают тысячи разных птиц.
С глубоким благоговением созерцал это Никон и тем более он озлоблялся против монахов-спутников своих, которые, уткнув носы в палубу, неистово храпели.
Так проспали рыболовы почти до полудня, а когда проснулись, свезли на берег припасы, шатер, котлы и заварили пищу.
Насытившись, они снова стали угощаться, только в меру и начали готовить сети для ловли.
День прошел в этой работе; потом, заснув немного, они с новым восходом солнца выехали на лодках в море на работу. Никон действовал как искусный рыболов — в Макарьевском монастыре он часто этим упражнялся.
Улов рыбы был велик, запас соли достаточен и работы было много на берегу после улова, соленую же рыбу тотчас клали в бочонки и отвозили на судно.
Так проработали они два дня и на третий Никон, видя, что нагрузка на судно идет к концу, смекнул, что вероятно монахи захотят сняться в Архангельск и тогда они совершат над ним какое-нибудь злодеяние, а потому он твердо решился их предупредить.
Отвезши с одним из служек последний бочонок на судно, Никон обратился к отцу Пафнутию:
— Святой отче, сегодня я наработался и по трудах хотел бы чарку пенного.
— Можно, можно; да ведь ты, Никон, никогда не пьешь.
— Не пью и не пил, а сегодня, как мы работу кончили, так и я выпью до положения риз, как братия баит.
— Вот как! Пей, пей, — обрадовался Пафнутий и переглянулся с другими монахами.
Те насмешливо улыбнулись.
— Позволь, — воскликнул тогда Никон, — мне взять бочонок с пенным и обойти братию, а себя не обойду.
Он взял ковш и бочонок и стал потчевать всех.
Каждый получал один ковш, а он пил по два и совершенно охмелел.
Монахи, видя его совершенно пьяным и лежащим без сознания, перешептывались о том, что нужно-де ждать попутку, а тем временем можно бы еще выпить и соснуть. Они и служки вновь употчевались, затем забрались в шатер и вскоре их носы возвестили, что они спят непробудно.
Как только это долетело до слуха Никона, как он тихо приподнялся, без шума добрался до одной лодки, отвязал от колышка и другую и, прицепив последнюю к корме первой, вскочил в первую лодку и веслами стал тихо грести к ладье.
Забрался он на ладью и стал поднимать якорь, бросив в море лодку.
Якорь был невелик, но все же требовалось по крайней мере два человека, чтобы поднять его. Но богатырство Никона и желание спастись удвоили его силы, и с трудом, но все же якорь был поднят. Тогда Никон распустил паруса, взялся за руль, и ладья его стройно поплыла к устью Онеги, тем более, что ветер засвежел и сделался попутным. Зорко высматривал Никон приближающиеся к нему берега и по цвету воды искал глубину реки.
К счастью Никона, заря была во всю ночь и вода в устье не волновалась и поэтому он шел безустанно не только во всю ночь, но и следующие дни. На третий день, сидя на руле, так как он три ночи не спал, взял его сон и он заснул. Сильный толчок и затем удары пробудили его. Проснувшись, он сразу не понял, что с ним такое: бочонки с селедками лежали на нем, ладья была на боку. Он высвободился из-под бочонков и взглянул за борт. Оказалось, что он врезался с судном в самый берег какого-то острова и что судно накренило так на бок, что вода начала заливать его. Никон собрал свой скарб и провизию, бросился в реку и переплыл на остров. Он не знал, где находится, но помолилися Богу, что Бог не дал ему утонуть. Поевши немного, он стал обходить остров и в одном месте, глядя на противоположный берег реки, он увидел деревушку и крестьян. Начал Никон делать им знаки, чтобы они перевезли его к себе; но они не хотели, боясь, что уж не морской ли разбойник это. Тогда какая-то женщина отделилась от толпы, побежала в село и привела двух молодцов: это была вдова и два ее сына. Молодые люди отвязали свою лодку от пристани и причалили к острову. Здесь они помогли Никону снять лодку с мели, бочонки с рыбой, выброшенные в воду, они тоже подобрали и уложили на месте и спустили якорь. Потом они пригласили Никона на свой берег. Никон тогда взял топор и пилу, срубил дерево, сделал большой крест и водрузил его на том месте, где его выбросила река.
— Пущай сие место будет свято и именуется крестовым; а коль буду я благословен и взыскан Богом, сооружу здесь святую обитель, — произнес Никон набожно, совершив молитвы. После того он сел в лодку и переехал на ночлег ко вдове.
У гостеприимных хозяев он прожил несколько дней и, расспросив дорогу в Кожеезерскую обитель, он направил туда путь.
Вдова с детьми со слезами проводила его несколько верст; но Никон, выйдя на большую дорогу, простился с ними и благословил их.
XVI Свет не без добрых людей
Три недели тащился Никон к Кожеезерской святой обители.
Монастырь этот славился своим общежитием и строгостью правил и нередко московское правительство отправляло туда в ссылку опальных бояр. Так, Годунов в июле 1601 года отправил туда князя Ивана Васильевича Ситцкого и с того времени знатнейшие княжеские и боярские роды навещали монастырь, делали богатые вклады, и он, таким образом, составил связи с Москвою. Многие, приходя в глубокую старость, удалялись сюда на покой, умирали и оставляли монастырю и движимое имущество свое, и вотчины. Многие же просто искали здесь убежища и защиту в смутные времена, и обитель не только процветала, но прославилась по всей Руси.
Шел туда Никон по двум причинам: это была ближайшая уединенная обитель, притом Кожеезерский монастырь, если только примет его, то не выдаст его Соловкам.
Притом в этой обители родной брат его тестя, отца Василия, был протопопом.
Отец Василий и брат его Прокопий были киевляне и, окончив там учение, оба приехали в Москву; но младший, Василий, далее прихода в Вельманове не пошел; а старший попал в Новгород, где занимал небольшой приход. В смутное время, когда шведы овладели городом, жители оказали сильное сопротивление, и неприятель, ворвавшись в город, грабил и перерезал тогда много жителей, и в числе их находилась и его семья: жена и несколько детей.
Отец Прокопий спасся чудом: он служил в церкви, и когда шведы ворвались туда, он вышел к ним во всем облачении.
Воины остановились, поговорили между собою и разошлись, приставив к церкви стражу, чтобы защитить храм от грабежа. Но когда иерей возвратился домой и увидел всю семью убитою и дом ограбленным, он обезумел и бежал из города.
Очнувшись, он узнал, что его нашли кожеезерские монахи по дороге из Новгорода и, положив его в телегу, привезли к себе.
Начиная сознавать себя и окружающее его, отец Прокопий припомнил новгородские события и не хотел более туда возвратиться. Братия оставила его у себя, и так как он был ученый, то вскоре сделали его своим иереем.
Когда Никон был еще простым причетником у отца Василия, отец Прокопий по каким-то делам монастыря отправился к Макарию и заехал погостить на несколько дней к брату своему.
Здесь он познакомился с Никоном, шутил и подтрунивал над ним, не предвидя, что он сделается мужем его племянницы.
Отец Прокопий любил говорить по-малороссийски кстати и некстати, и когда он в первый раз увидел трехаршинного Никона, он прищурил один глаз и, поглаживая свою реденькую бородку, пробасил:
— Звиткиль взялись вы?
— Я здешний.
— Тутейшний? Ого!.. И усе здись верзилы?
— Все…
— И батка твий? И маты?
— Да.
— Людей не едите? — продолжал батюшка.
Никон разозлился и ответил:
— Не звери же мы.
— Не кажу я, хлопец, що звири, а нагодувать такого хлопця, як ты, треба под борошна (муки), поду огиркив, три пуда яловичины (мяса).
— Полно дурить, — остановил его брат. — Ты лучше поговори с ним, ума палата.
Отец Прокопий снова прищурил глаз и заговорил:
— А що там на неби?
— Господь Бог Отец и Сын и Св. Дух и тысячи там ангелов, — отвечал Никон.
— А що в земле? — продолжал он допрашивать.
— Земля, — отвечал Никон, — ибо во св. писании сказано: земля еси и в землю отыдеши.
— Добре, хлопец, добре. А скилько рошей можешь переличить?
— Сколько, батюшка, у вас никогда не бывало.
— Ого! — осклабил зубы батюшка. — Да ты, як бачу, до страхова добираешься… Выпьем же по чарце и будем в ладу.
Таково было первое их знакомство, и к этому-то дядьке шел теперь Никон. Он пришел во время вечерни. Отец Прокопий был уже очень стар, но не был еще дряхл, силы его не покидали.
Когда Никон вошел в церковь, он оставил котомку, пилу и топор у дверей храма; и едва он показался у алтаря, как батюшка его узнал.
Окончив службу, он поспешно вышел к племяннику и не мог не пошутить:
— Шкода, что нема драбины, — сказал он, — влиз бы поцеловаться.
Никон нагнулся к старику и они продолжительно поцеловались.
— Идем ко мне в хату, — торопил его старик. — Порасскажешь все… Племянница отписала мне из монастыря и о себе, и о тебе.
— Она здорова и жива? — обрадовался Никон.
— Скучает, пишет она, не по миру, а по тебе и не знает, где ты.
В этой беседе они пришли в келью батюшки; она была обставлена не по-монастырски, а по-светски.
Батюшка кликнул служку и велел подать вечерять, и Никон за ужином рассказал свою историю, начиная от посвящения его в священники до прибытия его в монастырь.
— Сам Господь Бог спас тебя от рук злодеев, — вознегодовал тогда отец Прокопий, — и надоумил тебя идти сюда. Наш отец игумен Никодим в большой чести и у патриарха, и у царя: ни один синклит, ни один Собор без него не обходится, а когда он на Москве, так живет в патриаршей палате. Он тебя не выдаст и все порасскажет патриарху. Он очень стар и любит молодых и удалых. Завтра я с ним поговорю о тебе, а теперь на покой, стар стал и тяжело становится каждый день к заутрени вставать.
Никону от этого приема сделалось так легко на сердце, что он лег на приготовленное им ложе и вскоре заснул таким богатырским сном, что проспал бы не только заутреню, но и обедню, если бы голос дяди не разбудил его.
— Вставай, — говорил дядя, толкая его, — видишь, какая тебе честь, отец игумен сам зашел навестить тебя.
Никон вскочил с своего ложа, бросился к ногам игумена и поклонами стал молить о прощении и благословении.
Старец умилился и сказал:
— Встань, мой сын, да будет благословен приход твой в дом Господний.
Когда же Никон встал и выпрямился, игумен был поражен его богатырской красотой.
— Ты подобен Пересвету и Ослябе, посланным св. Сергием к великому князю Дмитрию на погибель татар, и если явится врагом сей обители новый печенег, то ты тоже сразишь его, как сразил того Пересвет. Но богатырь по телу, ты богатырь и по духу. Сказывал мне патриарх Иосаф о новшествах твоих в монастыре Макария и о благолепии служения и песнопения… Дядя твой, отец протопоп Прокопий, уж много сделал здесь.
— Да, очень уж стар, — докончил его дядя.
— Старость не грех, не порок, — перебил его игумен, — но для твоих новшеств нужны силы молодые, твой Никон тебе и поможет. Рассказал мне твой дядя о Соловках, и невероятно, и страшно за них. Будет борьба с ними трудная, но Бог и св. Богородица будут стоять за правое дело. А ты оставайся у нас и служи Богу, как служил доселе. Братия у нас добрая, покладистая, послушная, она полюбит тебя. У нас не то; в Соловках всякого сброду люди; здесь все аль из бояр, аль из боярских детей, аль из приказных, все больше люди служилые и на старости ищущие покоя и прощения грехов. Велю я тебе принести одежду чернецкую, и приходи к обедне, отец Прокопий отслужит молебен о благополучном окончании твоих бед; потом я отведу тебя в братскую трапезную, и ты порасскажи братии о Соловках.
Тогда Никон попросил разрешения игумена после обедни сказать слово братии.
— Это тоже новшество, — сказал игумен, — и многие восстают против этой новизны; видишь, сказать умное слово труднее, чем молчать; разрешаю тебе, сын мой, говорить всегда, когда Св. Дух найдет на тя.
С этими словами игумен удалился, и несколько минут спустя принесена была черницкая одежда для Никона; но вместе с тем ему принесли наперстный драгоценный крест от игумена с его благословением, причем принесший этот крест чернец от имени Никодима передал ему, чтобы он воздвиг на Руси этот крест превыше всех сущих пастырей церкви.
Никон при этих словах призадумался, но объяснил их необыкновенно высоким своим ростом.
Во время обедни Никон пел на клиросе, но когда после службы начался молебен о нем, он стал пред алтарем на колени; когда же молебен кончился и хор запел «многая лета», он обратился к братии и смиренно склонил голову. С окончанием Никон начал говорить свое слово.
Говорил он о служении Господу и о долге служителей церкви.
Речь его была сжатая, резкая, но голос чудодействен: он то уподоблялся нежному голосу матери, говорящей с ребенком, то был грозен и повелителен, так что оратор овладевал толпою, заставляя ее то умиляться, то плакать, то трепетать.
И в тот миг, когда Никон взывал к нечестивым, грозя им вечным судьею, блеснула молния, грянул гром и колокола церковные затрезвонили.
Монахи со страху попадали на колени; но Никон не растерялся, сняв наперсный крест с шеи, он поднял его высоко над головою своею и, призывая Господа сил и благословляя братию, изрек всепрощение всем предстоящим.
— Знамение великое, — шептались между собою монахи…
Знамение так сильно подействовало на всех, что монахи встали и бросились под его благословение; Никон со всеми лобызался.
После того братия повела его в трапезную, и Никон рассказал им о похождениях своих в Соловках.
Братия с негодованием слушала рассказ Никона и многие из именитейших монахов обещались отписать обо всем в Москву.
— Мир не без добрых людей, — сказал Никон, возвращаясь в келью своего дяди.
Дядя же молвил:
— То св. Илья пророк, которого на Украине зовут «паликопы», благовествовал, что благодать Божья осенила тебя, и он трезвонил, слушая твое слово.
И с этими словами всегда шутливый и насмешливый его дядя обнял его и крепко поцеловал:
— Аминь, аминь глаголю, св. Дух найдет на тя, и будешь ты благовествовать премудрость пред царями, князьями и народами, и будешь ты превыше всех предстоящих в сей обители. Аминь.
XVII Черница
В тереме царском, на женской половине, в одной из уединенных спален, сидит дочь царя Михаила Феодоровича, Татьяна. Она очень опечалена: много свах было прислано к матери ее Евдокии Лукьяновне, и знатнейшие боярские роды били челом, чтобы осчастливить их и отдать руку сестры ее Ирины, но все получали отказ.
— Я, — говорила царица, — не была бы сама женою царя, если бы князь Львов и Шипов успели уговорить короля датского отдать за царя племянницу свою; но тот отказал, так как царь требовал, чтобы невеста приняла наш закон. Потом отправили послов к королю шведскому Густаву-Адольфу, чтобы он высватал царю сестру курфирста Бранденбургского (прусского) Екатерину, но и та не хотела принять православия; тогда царь женился на княжне Марье Владимировне Долгорукой, но та вскоре умерла, и тогда лишь царь женился на ней, Евдокии Лукьяновне Стрешневой. Но она сама сознает ошибку царя, и потому впредь царские дочери будут выданы лишь за иностранных королевичей.
Отказ этот опечалил Татьяну, так как она чувствовала зазнобушку к князю Ситцкому, сыну того, который был заточен в монастыре Кожеезерском Годуновым, поэтому не было никакой надежды когда-нибудь выйти замуж.
В печали за себя и за сестру царевна Татьяна Михайловна послала за черницей Алексееве кого монастыря Натальей, имевшей большое влияние на царицу.
Теперь она ожидала ее и была в тревоге, как примет еще черница, эта схимница и строгая подвижница, ее просьбу уговорить царицу, чтобы она и царь отменили свое решение.
Но вот кто-то идет; вошла сенная девушка и черничка.
Монахиня перекрестилась пред образами и остановилась почтительно у двери.
Татьяна Михайловна подошла под ее благословение и, взяв ее за обе руки, усадила под образа на мягкий татарский топчан, устланный персидским ковром.
— Матушка, — сказала она, — я в большой горести и печали, матушка царица и батюшка царь порешили выдать нас за королевичей.
— Что ж, и с Божьей помощью, — заметила черничка.
— Да где же взять-то королевичей?… Не народятся же они для нас и будем мы невесты Христовы… А здесь разве мало именитых боярских и княжеских родов, да все своего закона.
Черничка молчала.
— Есть Воротынские… Голицыны… Ситцкие.
Последнюю фамилию она произнесла заикаясь и шепотом.
Монахиня глубоко вздохнула и, обняв ее, произнесла с чувством:
— Я поговорю с великой государыней, матушкой царицей, но едва ли будет толк: царь и бояре и весь синклит так порешили; а батюшка царь не изменяет слово свое и будет стоять на своем.
Татьяна Михайловна зарыдала.
— Не плачь, — говорила нежно монашка, — нужно покориться воле Божьей; гляди и на меня, — она откинула черное покрывало, скрывавшее ее лицо; царевна увидела пред собою дивную красавицу, — и я еще молода и была хороша, любила своего мужа, но Богу угодно было сделать его сподвижником своим, и мы расстались… оба поступили в монастырь, и я не жалею: в мире столько горестей, столько печали, а в обители святой мирно текут мои дни.
— И я поступлю в монастырь.
— Зачем? Приедет королевич, выйдешь замуж… дети твои будут царствовать.
— Не приедут королевичи, не изменят своего закона.
— Будешь тогда невеста Христова и в царском тереме, здесь тебе и почет, и уважение.
— Но разве тебе не жаль было покинуть мира? — прервала ее царевна. — Расскажи свою жизнь, как сама отреклась от счастья, и тогда и я поверю.
Подумав немного, монашка сказала:
— Изволь, лишь ради твоего счастья раскрою тебе тайники своего сердца; они же только ведомы были Царю Небесному.
Долго она рассказывала царевне о своей жизни, — это была жена Никона, — и когда она кончила последним прощаньем в Алексеевском монастыре, и она, и царевна разрыдались.
Величественная личность Никона ярко и живо обрисовалась в воображении царевны, и она почувствовала к нему глубокую симпатию.
— Где же он теперь? — спросила она.
— В Соловках, — отвечала монашка. — Где он теперь и постригся ли в монахи и какое имя принял — ничего не знаю.
Тогда царевна рассказала ей, что она несколько дней пред этим была у родственника Шереметьева и встретила там князя Мещерского и Вяземского из патриаршей палаты, и те рассказали, что Соловки уж много лет ведут переписку с патриархом о том, что поп Никита, принявший ангельский лик под именем Никона, бежал из монастыря, обокрав монастырскую казну, а князь Ситцкий говорил, что это неправда, что Кожеезерский монастырь, где теперь Никон, пишет, что это ложь и что Никон бежал оттуда, чтобы не видеть их воровства и злодейства.
Услышав это, черница обрадовалась и сказала:
— Это должно быть он, я все узнаю и тогда расскажу все царице, а тебя, царевна, умоляю поговорить с патриаршими боярами и с патриархом… Я выйду завтра по обету на подаяние для св. обители, а когда возвращусь, зайду к тебе, царевна многомилостивая.
С этими словами монашка вышла из горницы царевны и ушла в свой монастырь.
На другой день рано утром, с посохом в руках, черница и служки вышли с кружкой из монастыря и поспешно пошли по направлению к Каргополю.
Недель через шесть обе сборщицы вошли в ворота Кожеезерского монастыря, чтобы поклониться там мощам и св. угодникам. Самые разнообразные чувства и мысли волновали монахиню, и вопрос, говорить ли с Никоном или нет, терзал ее душу.
Человечность говорила ей: говори с ним, а грозный долг твердил: ты отказалась и от мира, и от него.
В таком нерешительном состоянии вошли они в церковь. Шла воскресная литургия, и церковь была полна монахов и богомольцев, пришедших из окрестных и дальних мест.
Наталья с служанкой вошли незаметно и поместились так, чтобы видеть хоть издали Никона.
Его могучий голос раздавался с клироса, и когда она увидела его в чернецкой одежде с наперсным крестом на шее, он показался ей еще милее, еще прекраснее прежнего. Лицо же его было сурово и величественно.
После причастия он вышел на амвон и сказал народу вдохновенное слово; братия и народ толпились к нему, слушая его с умилением и слезами.
Наталья плакала и подумала: лучше мне не видеться с ним; не утерплю, брошусь ему на шею, а это грех. И себя только искушу, и его… Ему большая дорога в епископы, а я останусь черницей. Буду ему полезна и так… Нечего заходить и к дяде, это и его и меня только расстроит.
С этими мыслями, по окончании слова Никоном, она еще гуще закрыла лицо свое и, выйдя из церкви, остановила одного монаха и просила его рассказать ей подробно, как и почему Никон бежал из Соловок.
Монах повел ее в церковную ограду и рассказал ей все подробности дела; монашка внимательно выслушала его, поблагодарила за рассказ и ушла из монастыря.
Когда черница возвратилась в свою обитель, ей передали, что царица и царевна Татьяна Михайловна несколько раз присылали за нею.
Та пошла в баню и, вымывшись и приодевшись, отправилась в царский терем.
В те времена был обычай, что звание и бывшее имя монахов и монахинь было строжайшим секретом, вот почему царица не знала, кто черница Наталья, которую она так любила; знала об этом одна только царевна Татьяна Михайловна, и потому жена Никона зашла прежде всего к ней.
Она рассказала ей о посещении ею монастыря и о том, что она там видела и слышала и просила царевну, чтобы та не передавала царице, что Наталья бывшая жена Никона, так как она желает как совершенно чужая явиться за него ходатаем пред патриархом.
Царевна дала ей слово, и она отправилась к царице.
Евдокия Лукьяновна приняла радушно монашку, она ее любила за подвижническую ее жизнь и за ум. Вот почему, когда Наталья вошла к ней и поцеловала у нее руку, она обратно просила ее благословить и просила рассказать, что она видела и слышала во время ее странствования при сборе Христа ради на монастырь святой.
Говорила ей много хорошего и много дурного черница, но когда дошла до посещения ею Кожеезерского монастыря, царица стала слушать с большим вниманием. Новшества в церкви были тогда большой заботой правительства и светского и духовного, и шли тогда сильные толки и за и против них во всем царстве. Кожеезерский монастырь стоял тогда высоко и считался хранителем православия, а потому рассказ монашки был особенно любопытен для ее слушательницы.
Когда же Наталья описала то впечатление, какое произвел на братию и на народ Никон своим словом, и когда она передала царице подробности рассказанного ей старым монахом о бегстве из Соловок, царица пришла в негодование и потребовала, чтобы она, Наталья, отправилась тотчас от ее имени к патриарху, чтобы он велел сыскать это дело, т. е. обследовать его, тем более, что она слышала от патриарха, что Соловки жалуются на Никона и зовут его вором.
Черница поцеловала руку царицы и пошла в патриаршую палату.
Окольничий патриарха, князь Вяземский, узнав, что черница от царицы, тотчас доложил о ней патриарху и тот велел ввести ее к себе.
Монашка упала к ногам патриарха, прося его благословения и прощения грехов.
Патриарх Иосиф был немного полный, но очень симпатичный старик; уважаемый и любимый патриархами Филаретом и Иосафом, он поэтому после Иосафа избран в патриархи, как естественный их преемник, продолжавший их новшества.
Поэтому патриарх, зная уже по слухам о святости жизни монахини Натальи и об ее благочестии, сильно заинтересовался, узнав, что царица прислала ее порассказать ему, что она видела и слышала в Кожеезерском монастыре.
Выслушав черницу, патриарх велел передать царице, что он давно уж слышал о безобразиях Соловок и что не только не выдаст им головой Никона, но распорядится о сыске этого дела через верного человека. О Никоне же пишет не только игумен кожеезерский, святой муж Никодим, но и вся братия, что это достойнейший человек, а потому он, патриарх, утвердил пожалованный ему игуменом наперсный крест, со своим благословением.
С этими словами патриарх отпустил черницу.
Не прошло и полгода, как патриарх, розыскав тайно дело Никона, послал Соловецкому монастырю следующую грамоту[11].
«Ведомо учинилось, что в Соловецкий монастырь к берегу привозят вино горячее и всякое красное немецкое питье и мед пресный и держат это всякое питье старцы по кельям, а на погребе не ставят, келарей и казначеев выбирают без соборных старцев и без черного собора те старцы, которые пьяное вино пьют; на черных соборах они смуту чинят и выбирают потаковников, которые им бы молчали, в смиренье не посылали, на погребе беспрестанно квас поддельный давали, а которые старцы постриженники старые, житием искусивы, предания великих чудотворцев Зосимы и Савватия хранят, тех старцев бесчестят и на соборе им говорить не дают; келари, казначеи и соборные старцы держат у себя учеников многих и т. д.».
И в заключение грамота оканчивалась: «И другие многие статьи теперь в Соловецком монастыре делаются не по-прежнему, чему прежде не бывало и чему быть негодно».
Эта грамота есть начало разрыва между Москвою и Соловками, разрыва, поведшего в последствии к гибели монастыря.
XVIII Кончина царя Михаила Федоровича
Несколько лет спустя царь Михаил в течение трех месяцев потерял двух сыновей: Ивана и Василия Михайловичей.
Кроме этого горя приключилось еще одно несчастье: призван был на Москву королевич датский Вольдемар как жених старшей его дочери Ирины, но тот заупрямился — не хотел принять православия и требовал возвращения в свое отечество.
Так как государь считал, по русскому обычаю, этим поступком себя и дочь свою обесчещенными, потому что королевич был торжественно в государстве и на Москве объявлен женихом царевны, то начались бесконечные переговоры с королевичем и угрозы, чтобы убедить его согласиться на требование царя. Но тот упорствовал и производил бесчинства, в которых, впрочем, и ему доставалось порядком.
Но это бы не сломило здоровье царя, если бы не его три царевны, Ирина, Анна и Татьяна, не обливались день и ночь слезами, что им придется умереть Христовыми невестами.
Царь, не имевший еще и пятидесяти лет, совершенно поседел, стал угрюм, необщителен.
Всенощную на Пасхе хотя он слушал в Успенском соборе и христосовался с патриархом и со своим семейством, но после разговенья слег, и по городу пошел слух, что он тяжко болен.
Собрался совет тогдашних иноземных врачей (знакомцев наших Бильса и Бальцера уж не было в живых), проживавших в Москве; Вейделин, Сибелисти, Иоган Белоу и Артман Граман; осмотрев царя, они нашли, что его желудок, печень, селезенка, по причине накопившихся в них слизей, лишены природной теплоты и оттого понемногу кровь водянеет и холод бывает; оттого же цинга и другие мокроты родятся. Дали царю пургацию и предписали ему воздержание в питие и еде.
Лечение не помогло.
Тогда начали служить по церквам и монастырям молебны и вызвали всех архимандритов и игуменов окрестных монастырей, чтобы был постоянный собор при патриархе, на случай внезапной кончины царя.
По этому случаю и Никон, в течение десяти лет возвысившийся в своем Кожеезерском монастыре до игуменства, прибыл в Москву[12].
Состояние здоровья царя между тем ухудшалось; тогда прописали ему, в мае, другой чистительный состав и, осмотрев его вновь, нашли, что желудок, печень и селезенка бессильны от многого сиденья, от холодных напитков и от кручины. Прописали ему пургацию и велели лечить желудок бальзамом. 5-го июня государь жаловался на головную боль.
Доктора собрались, осмотрели его и дали ему какой-то порошок.
Царь почувствовал себя лучше и в день своих именин, 12 июня, т. е. в день Михаила Малеина, он решился идти в придворную церковь св. Евдокии на заутреню.
В заутреню собрался поэтому весь двор и патриарх со всеми епископами и архимандритами и игуменами, чтобы служить соборне.
Михаил Федорович в царской одежде, поддерживаемый родственниками, боярами Шереметьевым и Стрешневым, вошел в церковь, приложился к святым иконам и объявил, что прежде, нежели он станет слушать службу, он должен исполнить долг, налагаемый ему божественным словом.
— Сегодня, — сказал он, — день моего ангела, и я, по обычаю, прощаю всех обидчиков моих, прощаю всем согрешившим против меня и освобождаю всех; колодников (преступников), всех стоящих на правеже и вообще всех заключенных, за какую бы провинность они ни были содержимы; всем же служащим жалую полугодовой оклад, да радуются они, что Бог сподобил меня узреть сей день.
После того он отслушал церковную службу.
Вдруг ему сделалось дурно и его перенесли в царские хоромы.
Весь день он был слаб, но не жаловался на боль в теле, и доктора, хотя прописывали ему лекарства, но ни чем не помогли, — к вечеру ему сделалось дурно и он начал стонать и вопить, что внутренности его терзают. Он приказал поэтому окольничьим призвать царицу-мать, шестнадцатилетнего сына Алексея, патриарха Иосифа и дядьку сына, Бориса Ивановича Морозова. Простился он с женою умиленно, а сына благословил на царство, завещая ему быть мудрым, твердым, благочестивым, слушаться пастырей церковных и любить Бога и правду выше всего.
— А тебе, боярин, — обратился он к дядьке наследника, — поручаю сына и со слезами это говорю: как нам ты служил и работал с великим веселием и радостью, оставя дом, имение и покой, пекся о его здравье и научении страху Божию и всякой премудрости, жил в нашем доме безотступно в терпении и беспокойстве тринадцать лет и соблюл его как зеницу ока, так и теперь служи.
Царю после того сделалось легче и он потребовал к себе дочерей. Особенно нежно говорил он с Ириной, считая как бы виновным себя пред нею за те огорчения, которые он причинил ей вызовом королевича Вольдемара в Москву, но о королевиче не упомянул ни словом. Анне и Татьяне он только наставительно сказал, чтобы они слушались и берегли мать свою.
Беседы эти сильно утомили царя, и к полночи, почувствовав крайнюю слабость, он потребовал, чтобы его исповедали и причастили святых тайн.
Явился царский духовник; все удалились; когда же кончился обряд и все вошли, царь лежал с закрытыми глазами и никого не узнавал.
В начале третьего часа ночи его не стало.
Все московские сорок сороков начали печальный погребальный перезвон, и вся Москва в неизъяснимом горе поднялась, чтобы отдать последний долг усопшему.
Панихиды пошли не только по церквам и монастырям, но и в частных домах, а царь высился в хоромах своих, в золоченом гробе на столе, покрытый порфирой, и на порфире лежала шапка, скипетр и держава. Народ шел к нему на поклонение и горько плакал о нем, вспоминая его доброту, простоту, доступность и милосердие к народу.
На третий день печальная процессия потянулась к царской усыпальнице; впереди шло духовенство с хоругвями, а позади молодой царь, дума боярская, придворные и народ.
Когда опускали царя в могилу, и царица с детьми давали ему последнее лобзание, с ней сделалось дурно, вслед за нею упала в обморок Татьяна.
Когда последняя очнулась, она увидела, что ее поддерживает обративший ее внимание на похоронах необыкновенно высокий и красивый игумен, находившийся в процессии. Царевна поблагодарила его и подошла к матери — та тоже уже очнулась.
Поддерживая мать, она двинулась к аналою, так как должны были отслужить вновь панихиду.
Все это происходило очень быстро, но тем не менее черница, стоявшая в это время на хорах церковных, заметила все и сказала:
— Он еще прекраснее сделался. Не игуменом бы ему быть, а женихом…
После этого на нее нашел припадок ревности.
— Никому его не уступлю, — подумала она и, сорвав с головы клобук, бросила его на землю. — Никому… он мой по всему… по закону.
Порыв этот был мгновенен: она упала на колени, стала бить поклоны и тихо произносила про себя:
— Нетто я не отреклась от него для его же счастья, и коли для его счастья нужно бы было влюбить в него не только царевну, но и царицу, и всю вселенную, то разве я бы этого не сделала? Господи, ты простишь мне мои согрешения, — ведь это бесконечная любовь.
Панихиду начал между тем служить патриарх соборне со всем духовенством.
Голос молодого игумена преобладал в пении, в особенности когда раздалась «вечная память».
Многие стали в это время рыдать, и царица, и дочери ее невольно обращали внимание на монаха.
После заупокойной трапезы духовенство разъехалось, а Никон отправился на кожеезерское подворье и тотчас уехал в свой монастырь, о чем он испрашивал еще раньше разрешение патриарха.
— Жаль царских сестер, все такие прекрасные, а обречены быть Христовыми невестами.
Потом, как бы отгоняя грешные мысли, он сказал про себя:
— Эта Москва — Новый Вавилон: только грешишь в ней, Господи прости. Да дьявол не искусит меня. Гей, Трофим, — крикнул он на своего кучера, — пристегни-ка лошадей… лезешь черепахой.
— Гей! Детки! — раздался голос кучера, и лошади пошли крупной рысью.
XIX Тяжба монастыря
Не прошло и года со времени смерти царя Михаила, как большая беда стряслась над Кожеезерском монастырем: князь Юрий Ситцкий начал с ним тяжбу о вотчине, которую завещал его отец обители.
Нечего делать, пришлось ехать Никону на Москву самому.
Он готовился бороться с князем, как говорится, не на жизнь, а на смерть; вот почему он простился с братией, захватив с собою богатую казну и подарки.
Сохранился образчик тогдашнего правосудия в инструкции, которую давало не простое лицо, а стольник Колонтаев своему слуге: «Сходить бы тебе к Петру Ильичу, и если тот скажет, то идти тебе к дьяку Василию Сычину, — пришедши к дьяку, в хоромы не входи, побей челом крепко и грамотку отдай; примет дьяк грамоту прилежно, то дай ему три рубля да обещай еще, а кур, пива и ветчины самому дьяку не отдавай, а стряпухе. За Прошкиным делом сходи к подьячему Степке Ремезову и проси его, чтобы сделал, а к Кирилле Семенову не ходи: тот проклятый Степка все себе в лапы забрал; от моего имени Степки не проси, я его, подлого вора, чествовать не хочу, но неси ему три алтына денег, рыбы сушеной да вина, а он, Степка, жаждущая рожа и пьяная».
При таком состоянии правосудия неудивительно, что Никон забрал много денег и подарков для Москвы, тем более что соперник его был очень сильный боярин.
По прибытии в Москву Никон остановился на подворье своего монастыря и делал объезды с подарками.
Последнее — великая сила, об нем заговорила вся столица; заговорила даже при царском дворе.
Недели две спустя после приезда он возвращался после странствования по разным монастырям в свое подворье и у ворот встретил старуху монашку. Она его остановила, низко поклонилась, назвала себя паломницей какого-то очень отдаленного монастыря и просила пристанища в его подворье; только желала очень уединенную келью и если возможно — особняк.
Никон, всегда радушный и гостеприимный, ввел ее в подворье и исполнил ее желание: ей отведена особая келья, совершенно уединенная, и предложено столоваться безвозмездно.
Исполнив долг гостеприимства и пристроив ее, Никон о ней забыл.
Несколько дней спустя, возвратясь откуда-то, он увидел на столе записку. Он прочел: «Не беспокойся неудачей твоего дела с Ситцким; тяжба начата лишь для того, чтобы ты жил в Москве; дело затянется для твоего же блага: об тебе заботятся сильные люди. Завтра тебя встретит на патриаршем дворе, куда ты собираешься, князь Юрий Ситцкий и сам первый с тобою заговорит: будь с ним ласков, все к твоему же благу».
Прочитав записку, Никон был удивлен: о том, что он собирается на патриарший двор, знал только окольничий патриарший, князь Вяземский.
Игумен позвал всех служек подворья, расспрашивал: кто приходил и положил грамотку, никто никого не видел.
На другой день Никон только что вошел в патриарший двор, как навстречу ему показался князь Юрий Ситцкий: он подошел под благословение игумена, расспрашивал его о Кожеезерском монастыре, о новых заведенных там порядках и обо всем говорил с необыкновенным сочувствием. Никон благодарил его, пригласил его приехать в монастырь и, таким образом, они расстались почти друзьями. У патриарха Никон хотел было говорить о монастырском деле, но после любезной встречи с князем Ситцким у него и язык не повернулся, так что он просил только у патриарха разрешения говорить по церквам в воскресные дни слово. Патриарх разрешил в первое же воскресенье говорить проповедь в присутствии юного царя в Успенском соборе.
Радостный Никон ушел домой и, войдя в свою келью, нашел на столе записку: «Говори, — писал ему неизвестный, — о подвижничестве и о Христовых невестах; говори смело и гляди на царскую семью. Ты будешь приглашен царем служить у него заутреню в дворцовой церкви по пятницам».
Никон был удивлен, тем более что прямо от патриарха он возвратился к себе, и откуда неизвестный мог узнать, о чем он будет с тем говорить?
Снова он призвал всех служек, и те клятвенно уверяли, что никого не было и никого они не видели.
С некоторою робостью ожидал Никон воскресного дня и все время приготовлялся к проповеди; но чем более он повторял и исправлял речь свою, тем хуже у него выходило…
В такой тревоге проходило время, и наконец настало воскресенье.
В соборе собралось много народу, сам царь и двор, за ними приехал патриарх.
После архиерейского торжественного служения вышел на амвон Никон с крестом в руках, перекрестился, поклонился царю, духовенству и народу. Он заговорил: голос его вначале как будто был робок и нерешителен, но мало-помалу воодушевился, и могучие звуки стали разливаться по церкви, овладевая не только слухом слушателей, но их чувствами и всеми нервами.
Когда он кончил, вся царская семья подошла под его благословение, и юный царь попросил его служить у него во дворце по пятницам заутреню; а патриарх подошел к нему и объявил, что в Новоспасском московском монастыре его архимандрит и игумен будет в следующее воскресенье поставлен во епископы, а он, Никон, будет посвящен в архимандриты и назначен игуменом этого монастыря.
Это были все милости, которых удостаивались старцы, а он, Никон, имел в это время всего сорок один год.
Голова у него закружилась от такого счастья, и он не знал, что молвить патриарху, но упал только на колени и трижды поклонился в ноги почтенному церковному сановнику.
Патриарх, растроганный этим, нагнулся, помог ему встать и облобызался с ним.
Это произвело сильное впечатление и на царскую семью, и на народ.
Едва сделался Никон игуменом Новоспасопреображенского монастыря, как ежедневно являлись к нему просители, и он сделался ходатаем и у бояр, и у царя за сирых, обиженных и убогих. Слава о нем так пошла по Москве, что знали путь, по которому он идет во дворец, и, несмотря на раннюю пору, его ловили на улице, чтобы поговорить с ним или передать ему челобитную.
Само собою разумеется, что, сделавшись приближенным к царю, он тотчас выхлопотал прощение царя всем Хлоповым, Шеиным и Измайловым.
XX Московский мятеж
Не прошло и трех лет со времени вступления на престол Алексея Михайловича, как при дворе и на Москве совершились большие перемены. Царица Евдокия Лукьяновна месяц спустя после смерти мужа умерла, и дети ее остались без надежного руководителя. Королевич датский Вольдемар возвратился восвояси, оставив неутешную царевну Ирину и двух других царевич оплакивать свою девичью неволю. Юный царь выбрал из двухсот девиц дочь Федора Всеволожского, но она упала в обморок и ее обвинили в падучей болезни; невесту сослали вместе с родными в Сибирь, а год спустя царь женился на Марье Ильиничне Милославской; через десять же дней Борис Иванович Морозов, несмотря на преклонные свои годы, женился на ее сестре.
Морозов управлял в это время государством, и вся родня Милославских, судья земского приказа Леонтий Плещеев и боярин пушкарского приказа Траханиотов, также думный дьяк Чистов производили поборы, теснили и грабили народ.
Недовольных на Москве было много и без того: бояре завидовали Милославским за то, что они попали в царское родство; народ был недоволен за то, что табак, за который резали в прошлое царствование носы, разрешен и сделался царскою монополиею. Морозов сократил дворцовые расходы, оставив большое число придворных слуг и уменьшив жалованье у остальных.
Но хуже всего было то, что всем безусловно лицам, занимающимся торговлей, повелено было быть в посаде, в службе и в тягле наравне с посадскими людьми. В отношении же служилых было сказано, что если они торгуют свыше, нежели 50 руб., то не производить им жалованья.
Притом Морозов вел открытую дружбу с иностранцем Виниусом, хвалил все иностранное, а русское хулил, так что на Москве шли слухи, что он кальвинист и что даже при царском дворе хотел-де ввести иностранные порядки. Доказывали это тем, что царь после смерти отца своего вместо сорокадневного траура наложил годовой, по иноземному обычаю, и что органная игра сделалась любимою у царя, так что в оружейной палате даже начали делать органы и распространять их. Обстановка в доме Морозова была тоже на европейский лад.
Все это волновало народ, а новшества, которые вводил Иосиф в церкви, пугали тоже невежественную массу.
Но это не повело бы к мятежу, если бы не следующая случайность: судья земского приказа Леонтий Плещеев судил какого-то именитого купца Москвы с пристрастием, встрясками и тому подобное, и тот повинился в деле, в котором вся Москва считала его невинным.
Купца казнили, тогда народ 25 мая 1648 года, когда юный царь возвращался из Тройцы в кремль, схватил царскую лошадь за узду и почтительно, на коленях, умолял отрешить Плещеева от должности судьи и поставить на его место человека доброго.
Услышав из уст народа о жестокостях судьи, царь с большою ласкою и со слезами на глазах обещал народу исполнить его требование. Тогда народ проводил царя до крыльца, целуя его руки и стремя его седла.
На крыльце царь простился с народом и вошел в хоромы.
Едва он скрылся, как из свиты провожавших его верхом несколько придворных, в угождение Плещееву, стали ругать народ, бить и разгонять его нагайками.
Толпа пришла в ярость, разобрала мостовую и бросала в них каменьями; те спаслись во дворце вместе с Плещеевым, который находился в царской свите.
Народ окружил дворец, требуя выдачи Плещеева.
У царя собрался совет провожавших его бояр: судили, рядили, спорили и решили: для успокоения народа отправить судью на казнь.
Послали за палачом.
Окруженного стрельцами Плещеева вывели из дворца и повезли на лобное место. Рассвирепевший же народ вырвал его из рук палача и, умертвив, повлек его в Москву-реку.
Но толпа после того не разошлась, а ударила в колокола: весь кремль наполнился мятежным народом.
Тогда, окруженный боярами и стрельцами, Борис Иванович Морозов мужественно вышел на красное крыльцо.
Обратился он к народу с речью, обещаясь именем царя рассмотреть все их обиды: но народ стал грозить и ему, и в толпе раздались крики: «Долой бояр! Смерть боярам!»
Морозов с ужасом должен был скрываться во дворце и защищать все входы.
Вдруг в толпе послышались голоса: «Идем к князьям Одоевскому и Львову»; а с другой стороны послышалось: «К дьяку Чистову»; «К боярам», — раздавалось со всех сторон.
Огромная народная масса разбилась на несколько частей и под руководством коноводов двинулась в разные стороны для расправы с ненавистными своими притеснителями: убили дьяка Чистова и бросились грабить боярские дома.
Между тем дворец осаждала огромная толпа; вскоре она усилилась еще возмутившимися стрелецкими слободами, так как те, участвуя в торге, подверглись всей силе закона о торговых людях, и притом они имели особую злобу на Морозова за его скупость и обсчет.
Окружив дворец, народ потребовал его выдачи, но там были закрыты все двери и выходы и в хоромах как будто все вымерли.
Наступила ночь. Народ расположился вокруг дворца. Явились котлы, дрова, и многие заварили себе пищу; а из разграбленных лавок и погребов подвозили сюда и пенного, и заморского вина, и пива, и меда бочками.
В народе появилось уже и оружие, и бивуак походил на военную осаду.
Часов в десять ночью у одного костра посредине площади сидело человек десять мужиков, напоминавших купеческую артель; ели они из одного котла и, окончив трапезу, запивали ее вином из ограбленной бочки, которую они завладели на площади.
Артель эта более всех шумела, что необходимо заставить дворец выдать Морозова, и поэтому она заняла на бивуаке самое почетное место и предводительствовала толпой, а наистарший в артели был высокий трехаршинный богатырь с подстриженной по-купечески бородой; за поясом у него торчали ярко сверкающий топор и татарский кинжал. Звали этого богатыря дядей Никитой, и народ уже успел узнать его имя, и поминутно являлись к нему посланники с докладом то из одной, то из другой группы народа, то о том, то о другом.
Но вот, едва артель окончила трапезу и огонь потух в ее костре, к ней как тень скользнула монашка и, нагнувшись к дяде Никите, шепнула ему на ухо:
— Я из дворца; царь в ужасе: царица и царевны полумертвые; бояре и стража до того оробели, что хотят выдать Морозова. Что делать?
— Я тотчас вломлюсь во дворец: народ туда не войдет, и все будет улажено. Доложи царю, пущай, как стану вламываться, впустят меня… Морозов пущай идет к царевне Татьяне Михайловне.
Монашка исчезла. С полчаса спустя дядя Никита ударил тревогу.
Народ окружил его.
Зычным своим голосом он закричал:
— Что мы будем здесь сидеть, как куры на яйцах; идем ко дворцу; коли не выдадут добром Морозова, вломимся в хоромы; а коли впустят, так вы останетесь с ребятами у дворца, а я один его разыщу и приведу к вам.
— Умные речи! — раздались голоса.
Дядя Никита бросился вперед к красному крыльцу, а народ ревел, и он стал ломиться в дверь.
Дверь открылась изнутри; народ хотел туда вломиться.
— Стой! Ни с места! — крикнул дядя Никита. — По изволению мира я один туда войду; мои ребята станут у двери, чтобы никто туда не вломился; а я вора Морозова найду и выдам его вам головой.
— Умные речи! — крикнули стрельцы и оттеснили народ от крыльца. Тогда дядя Никита вошел в открытую дверь и, войдя туда, запер ее с внутренней стороны.
При появлении его и царская стража, и придворные разбежались.
Дядя Никита пошел разными ходами в горницы царевны Татьяны Михайловны.
Едва он появился в ее сенях, сенные девицы, взглянув на его топорище и кинжал, на его богатырский рост, чуть-чуть не перемерли: они подняли такой визг и крик, как будто их режут на части.
— Вон! — крикнул на них грозно Никита, и они вмиг исчезли.
Он постучался к царевне.
— Это ты, дядя Никита? — спросил голос монахини.
— Я.
Черница отворила дверь; Никита увидел царевну, желтую, как воск, и едва дышащую; а на топчане сидел Морозов: на нем лица не было, и он за один день поседел.
— Боярин Борис Иванович, — воскрикнул вошедший, — для спасения твоего и царя я срезал свою бороду, сбросил иноческую одежду и облекся в купеческого приказчика, и тебе, боярин, чтобы спасти свою жизнь, нужно тоже срезать бороду и облечься в одежду твоего служки-немца.
— Что ты… что ты… отец архимандрит, лучше смерть, чем резать бороду.
— Боярин! Именем Бога, именем царя умоляю, бери с меня пример, — я архимандрит и то подрезал бороду.
— Это ты, отец архимандрит, сделал для спасения другого человека, а я должен это делать лишь для своего спасения… Ни за что.
— Теперь дело идет не о твоем лишь спасении, а о жизни царя. Он тебя не выдаст, а раз народ вломится сюда, не ручаюсь, чтобы обошлось без несчастия. Подумай об этом ангеле? Разве тебе не жаль его? Разве забыл ты, что завещал тебе царь Михаил? И что будет делать народ без царя?… Снова смуты… самозванцы… поляки… шведы… страшно подумать… Решайся, боярин. Дайте ножницы.
Царевна принесла ножницы.
— Ни за что! — крикнул Морозов.
Никон бросился к нему и одним ударом ножниц срезал ему часть бороды.
— Теперь, — сказал он, — подайте воды и мыла. Не упрямься, боярин, ведь насильно срежу бороду.
Морозов повиновался. Никон срезал ему всю бороду, потом намылил ему лицо, вынул кинжал из-за пояса и сбрил ему гладко лицо, оставив только усы.
При всей этой операции ему светила царевна, а черница ушла за одеждой его служки-немца; когда же она возвратилась, бороды Морозова уж не было. Женщины вышли, и Морозов переоделся.
Тогда Никон, помолившись у иконы и благословив царевну и монашку, удалился с Морозовым; черница пошла за ним, чтобы затворить дверь.
Подойдя к дверям красного крыльца, он шепнул Морозову:
— Что бы ты ни видел, ты только мычи и болтай вздор, аль говори по-немецки. Никон отворил дверь, за ним монашка затворила ее.
Таща за ворот Морозова, он неистово закричал:
— Обыскал все хоромы. Вор бежал, а его служка повинился. Байт: Морозов-де теперь у себя дома… Он, значит, укажет, где можно его отыскать… Стрельцы пущай здесь на страже… остальные за мной… казним вора… Ну, немец, веди нас.
И волоча за ворота Морозова, Никон пошел вперед.
— К Морозову… к вору! — раздались голоса.
Огромная толпа последовала за Никоном и за его артелью.
Жена Морозова, Анна Ильинишна, была в тот день тоже у Тройцы и уехала к себе домой, ожидая к обеду мужа и гостей.
Никто, однако ж, не возвращался, а набат колокольный, движенье и шум народа ее испугали, и она, не раздеваясь, как была нарядная, ожидала в тревоге мужа.
Но вот прислуги известили ее о мятеже и говорили, что творится около дворца неладное; потом вести пришли еще тревожнее и вся челядь разбежалась.
Осталась она во всем доме одна со старым слугою Морозовым.
Ночью поднялся на улице страшный шум, и огромная толпа народа обступила дом, неистово крича и стуча в ворота.
Слуга подошел к воротам и закричал, чтобы они не вламывались, так как первый, кто войдет, тот мертв ляжет.
Толпа разъярилась, натиснула на ворота — они отворились, и в тот миг, когда холоп Морозов хотел сразить входившего, раздался выстрел из пищали и тот упал, сраженный пулей.
Никон едва-едва удержал Морозова: тот хотел вцепиться в убийцу.
— Ну, немец, теперь показывай, где вор спрятался.
Толпа стала обходить и дом, и чердак, и погреба; в последних она разбила бочки и, напившись вина, совсем охмелела и ошалела.
— Вора нет, так разграбим дом! — крикнул кто-то.
Народ бросился грабить хоромы, и с жены Морозова сорвали все драгоценности; ее же хотели убить.
— Зачем убивать, она все же царская золовка, — крикнул Никон, — лучше без одежды выгоните ее на улицу, пущай как нищенка болтается в народе… А дом сожгите: если вор в нем, так он сгорит.
— Умные речи! — заголосил народ.
Анну Ильинишну вытолкали на улицу, и дом подожгли.
— А немца, — сказал он, — я не выпущу. Молодцы, — обратился он к одному из своей артели, — отведите его ко мне, а завтра, коли он не разыщет нам вора, мы его повесим.
— Ладно! — крикнула толпа.
Никон скрутил кушаком руки Морозову, отдал его одному из своих молодцов и шепнул ему:
— Сейчас же лихих коней и в Белоозерский Кирилловский монастырь.
Сдав Морозова, Никон обратился к толпе:
— Теперь по домам… Завтра снова сюда.
— По домам… по домам! — крикнула толпа и разошлась.
XXI Собинный друг царя
Едва только толпа удалилась, как к горящему дому Морозова возвратилась его жена.
В одной юбке, с распущенными волосами села она у ворот и сильно зарыдала; но вот к ней приблизилась с одной стороны черница, а с другой — показался высокий предводитель мятежников.
Анна Ильинишна вскочила в ужасе и хотела бежать.
Монашка остановила ее:
— Боярыня, — сказала она, — мы друзья, я схимница Наталья, а этот, — прибавила она, указывая на подошедшего приказчика, — отец архимандрит Никон.
— Как же он главенствовал в шайке? — недоверчиво покачала она головой. — И, кажись, он же приказал поджечь мои хоромы?
— Для того, — возразил подошедший Никон, — чтобы спасти твоего мужа. Ведь служка немец, которого тащил я за ворот, был он.
— Как, боярин? Я его не узнала.
— И хорошо, боярыня, что не узнала, — ты бы и его, и меня выдала. Оголил я ему бороду, и народ его не узнал, теперь он у меня в Спасском монастыре и тотчас его увезут в Кирилловский. Ты же, боярыня, иди куда-нибудь в женский монастырь, пока смута не смолкнет.
— Пожалуй ко мне, в Алексеевскую обитель, — закончила схимница, еще гуще закрывая свое лицо.
— А дом-то мой?
— Пущай сгорит, деньги вещь наживная: царь не покинет тебя.
Анна Ильинишна поплакала и поплелась за черницей, а Никон, постояв немного, пошел по направлению к своему монастырю. Придя к себе, Никон узнал, что Морозов повезен на монастырских лошадях в Кирилловскую обитель. Усталый и измученный этим днем, он лег немного отдохнуть. Но не прошло и двух часов, как сильный набат по Москве поднял его. Он вскочил с места и позвал служку: тот объявил, что красный петух пущен по всей Москве. Единовременно запылали: Петровка, Дмитровка, Тверская, Никитская, Арбат, Чертолье и все посады.
Никон забрал большинство своих монахов и бросился тушить пожар.
Явившись в народ, он объяснил ему все неблагоразумие сжигать имущество, тем более, что в этом случае страдают невинные, и притом он объяснил им, что при всеобщей нищете народу будет грозить и голод, и мор.
Народ испугался, увлекся его примером и бросился тушить пожар. Но это стоило нескольких дней труда. Горели целые улицы и части; над Москвою стоял густой дым и ночью зарево сияло над большею частью города.
Много народу сгорело, много имущества, добра и припасов, и когда большая часть домов лежала в развалинах и огонь прекратился, тут-то тысячи семейств оказались без крова и без пищи. Раздался вновь страшный набат и вновь смута началась: народ потребовал хлеба.
Голодные матери ревели, голодные дети сновали по улицам, умоляя христа ради хоть кусочка хлеба.
Монастыри и дворец выслали народу хлеба, но голодная толпа росла и росла, и весь Кремль был вновь занят мятежным и голодным народом.
Никон бросился тогда к иностранцам, и те взялись за оружие: голландцы и англичане, вооруженные с ног до головы, в шлемах, с огнестрельным оружием, с распущенными знаменами и барабанным боем двинулись к Кремлю.
Народ расступался всюду и дал им свободно пройти; многие кричали:
— Немцы люди честные, обманов и притеснений боярских не хвалят.
Немцы же отвечали:
— Мы идем защищать царя и все ляжем за него костьми.
Вступив в Кремль, они расположились в боевом порядке у дворца, но не вступали в битву с народом, так как тот только облагал миролюбиво дворец, требуя выдачи вора Морозова.
Когда немцы появились в Кремле, во дворце состоялся совет и решено — выйти к народу деду царя, Ивану Никитичу Романову, не делавшему ему обид, не домогавшемуся власти; старца поэтому любила вся Москва.
Отворилась дверь дворцовая, и вышел Романов на красное крыльцо.
Народ хлынул к нему; боярин снял свою боярскую соболью шапку, чего не делали никогда бояре, так как в этих черных шапках они при царе даже сидели, поклонился низко народу три раза и заговорил, что царь-де шлет миру свой поклон и жалованное слово благоволения, но что он скорбит, что Москва сожжена и в ней творятся бесчиния, убийства и грабежи; сам даже царь не безопасен в собственных своих хоромах, и, к стыду православного народа, немцы пришли защищать царские палаты, а потому он, боярин, просит именем царя народ разойтись по домам, а сам царь сделает сыск о ворах и все-де будут казнены.
Вышел тогда один из народа и отвечал, что они не нападают на царя своего, ясного соколика и красное солнышко, а требуют выдачи лишь Морозова и Траханиотова, которые воруют его именем.
Романов тогда объявил, что во дворце ни Морозова, ни Траханиотова нет, и если они будут сысканы, то царь велит их казнить; о том же, что он говорит правду, он дал клятвенное обещание.
— В таком разе, — кликнул дядя Никита, находившийся в это время в толпе, — мы сами разыщем воров и казним их. Что стоять здесь, идем на розыски.
Толпа загалдела, неистово заревела и двинулась из Кремля.
Едва только они очистили Кремль, как явился Никон и его артель. Они поспешно затворили кремлевские ворота и просили немцев никого не впускать более в Кремль без особого разрешения от дворца.
После этого распоряжения Никон пошел ко дворцу и, оставя свою артель на красном крыльце, постучался.
Страж, стоявший за дверью, узнав кто пришел, отворил ее и изумился, так как он с первого взгляда не узнал архимандрита.
Но тот заговорил к нему:
— Не удивляйся, — сказал он, — теперь времена такие, — на улице чуть не разбойник, а в монастыре — архимандрит. Я пойду к государю.
— Он в думе бояр: собрались Шереметьев, Иван Никитич Романов, Трубецкой и Стрешнев, да царский духовник.
Никон отправился в совещание. Поклонившись низко царю и боярам, он рассказал, как он спас Морозова и его жену и как теперь же необходимо принять решительные меры: или потушить мятеж, или же организовать сильное правительство.
Для этого он предлагал две меры: потребовать пушки в Кремль с благонадежными пушкарями, призвать всех ратных людей, бояр, боярских детей, преданных правительству, и вообще всех, кто только желает иметь убежище.
— Теперь, — закончил он, — лето, и народ может расположиться на площадях и улицах внутри Кремля, а запасы я приготовлю. Но я надеюсь, что смута утихнет: едва народ и стрельцы увидят, что мы снова сильны, они пойдут на уступки и подчинятся.
Когда Никон окончил, царь поднялся с места, обнял и поцеловал его, назвав собинным, т. е. особенным другом своим, причем присовокупил, что он просит его не покидать дворца, пока смута не прекратится.
Бояре поднялись с места, поклонились ему и объявили, что собинному другу царя они готовы во всем подчиниться.
— В таком случае, — сказал Никон, — пишите теперь же грамоту в пушкарский приказ, я туда пошлю одного из молодцов моих. Нужно, чтобы наискорее все пушки, которые в Москве, и все снаряды были бы здесь. Остальное я сделаю и без приказа; бояре же Шереметьев и Трубецкой любимы ратниками и стрельцами, им бы не мешало поехать по Москве и собрать верных и благонадежных между ними.
В тот же день вся имевшаяся артиллерия была уже в Кремле, и благонадежные пушкари ходили у пушек; а на другой день со всех концов Москвы стали стекаться и бояре, и дети боярские, и дворяне, и жильцы, и стряпчие, многие с семействами, с провизиею и необходимым скарбом.
Кремль обратился в шумный город. Никон вышел к ним, выбрал начальников, ввел порядок. Имевшие оружие тотчас были разбиты на сотни, а не имевшие его должны были отбывать другие повинности.
В один лишь день Кремль представлял уж сильную крепость, командующую над городом.
Из города же слухи шли неблагоприятные. Траханиотова встретил народ по пути в Троицкий монастырь и там зверски его умертвил.
Этой жертвой как бы он насытился, или же то обстоятельство, что Кремль принял на другой день грозный вид, имело на него влияние, но набаты прекратились, и народ перестал собираться большими толпами.
Между стрельцами пошли тоже толки, что не пригоже все делается без приговора боярского и царского указа; дворец этим воспользовался и вызвал к Кремлю стрельцов. Они собрались пред Кремлем. Царь вышел к ним с духовенством и ближними боярами, говорил с ними милостиво, обещался удовлетворить их требования об уничтожении торгового закона и просил стрельцов водворить порядок в Москве. После того он угостил их вином и медом. Стрельцы ушли и дали слово привести все в порядок. По этому примеру Милославский, тесть царя, пригласил из Москвы из каждой сотни по одному человеку, угощал их три дня, обещаясь, что царь назначит на место убитых бояр тех, кого народ желает.
Москва стала успокаиваться мало-помалу. Кремль очистился от лишнего люда, и он имел уж вид укрепленного лагеря; царь поэтому решился 28 июля явиться на крестный ход.
Узнав об этом, на крестный ход собралась вся Москва. Впустили народ в Кремль, царь вышел на красное крыльцо и обратился к народу со следующими словами:
— Очень я жалел, узнавши о бесчинствах Плещеева и Траханиотова, сделанных моим именем, но против моей воли; на их места теперь определены люди честные и приятные миру, — они будут чинить суд и расправу без посул и всем одинаково, за чем я сам буду строго смотреть.
Царь при этом обещал понизить цену на соль и уничтожить казенные монополии.
Народ упал на колени и благодарил его восторженно.
Воспользовавшись этим, он обратился вновь к народу:
— Я, — произнес он со слезами, — обещал выдать вам Морозова… Я не оправдываю его… Но выдать его вам я не вправе: он с детства мне дядька и второй мне отец. Когда в Бозе почивший царь Михаил умирал, он отдал меня на его попечение; притом, как я его выдам, царица, жена моя, умрет от печали, он ведь женат на ее сестре.
Царь сильно зарыдал.
Многие из народа закричали:
— Многие лета царю!
— Да будет воля Божья и государя!
— Возвратить Морозова… довольно душегубства.
Но Морозов сошел с политического поприща и в Москву не скоро возвратился.
6-го августа писал царь игумену Кирилловского монастыря грамоту о том, чтобы на случай ярмарки Морозов оттуда удалился, так как может быть возмущение и он может пострадать. Сам же царь сделал собственноручные приписки со всех сторон, и мы сохраняем орфографию подлинника.
«И вам бы сей грамоте верить и сделать бы и уберечь от всякого дурна, с ним поговоря против сей грамоты, да отнут бы нихто не ведал, хотя и выедет куды; а естли сведают и я сведаю, и вам быть кажненным, а естли убережете его, так как и мне добро ему сделаете, и я вас пожалую так, чево от зачяла светя такой милости не видали; а грамотку сию покажите ему, приятелю моему».
Но такой безграмотности нечего удивляться, грамота и наука в тот век были почти синонимы; так царь Михаил Феодорович дал знаменитому «ученому» гольштинцу, Адаму Олеарию, опасную (пропускную) грамоту, которая гласила: «Ведомо нам учинилось, что ты гораздо (очень) научен и навычен астроломии, и географус, и небесного бегу, и землемерию, и иным многим надобным мастерствам и мудростям, а нам, великому государю, таков мастер годен».
Впрочем, тот же царь Михаил в Чудовом монастыре основал греко-латинское училище, так что литературы греческая и латинская были уже доступны обществу.
Что же получил за свои подвиги собинный друг царя Никон?
В очень непродолжительном времени его поставили во епископы, когда престарелый Аффоний отошел на покой в Хутынскую обитель, и хиротонисан в новгородские митрополиты.
Когда в Успенском соборе, в присутствии царя и многочисленного народа, патриарх совершал посвящение, в уединенном уголке одна монашка, проливая слезы умиления, молилась горячо «о Нике и о преосвященнейшем Никоне».
XXII Никон, митрополит Новгородский
Вскоре после московского мятежа, несмотря на то, что царь Алексей Михайлович имел всего 19 лет, он приступил, для успокоения народа, к составлению уложения и для этой цели созвал собор; в том же году он снова запретил продажу ненавистного староверам табаку, а год спустя он изгнал из Москвы англичан, причем указ мотивировал следующим: «Государя своего Карлуса короля вы убили до смерти, — за такое злое дело в Московском государстве вам быть не довелось».
Народ поэтому должен был бы быть доволен, тем более, что государь оказывал большую любовь к науке: при нем находился постельничий Федор Михайлович Ртищев, один из первых просветителей России.
Недалеко от Москвы, в прекрасной местности, он выстроил Андреевский монастырь, вызвал сюда из малороссийских монастырей тридцать образованных монахов, в обязанности которых было учить всех желающих славянской и греческой грамматике, риторике и философии; кроме того, они обязаны были заниматься переводами.
Это был первообраз университета, а между тем в народе это было понято за еретичество, и благовещенскому протопопу, царскому духовнику, стали наговаривать и на Ртищева, и на Морозова.
Вообще имя последнего сделалось ненавистно; во многих местах России оно вызвало мятежи или, как тогда их называли, гили. Но самые серьезные из них были в Пскове и Новгороде: кроме воевод пострадали в обоих митрополиты: в первом Макарий, во втором Никон.
Неудовольствие народа было не столько возбуждено этими святителями и воеводами, как всеми тогдашними порядками, а правительство московское было крайне слабо и боязливо, в особенности после сделанных уступок черни в Москве.
Пример, вообще, заразителен, и безнаказанность в Москве, обнаруженная в отношении убийц Плещеева, Чистова и Траханиотова, не могла не вызвать самоуправства в областях, и народ в этом случае шел вовсе не против царя, а во имя его интересов.
Царь, говорили в провинции, молод, и бояре его обманывают и продают нас немцам.
Это был девиз мятежников.
При таких обстоятельствах Никон торжественно въехал в Новгород; встретил его в Софийском собор воевода князь Федор Андреевич Хилков со всем духовенством, народом и сотенными головами.
Митрополит сказал слово, в котором он призывал всех исполнять свой долг, причем он объявил, что он для всех одинаково будет доступен и что каждый найдет в нем заступника и защитника.
После того митрополит с крестами и хоругвями препровожден из собора на митрополичий двор.
Так водворился Никон в Новгороде и, исполняя высокое свое назначение, взялся с обычною энергией за устроение своей паствы.
На другой же день он сидел уж в своей рабочей комнате и вел такой разговор с митрополичьим казначеем, старцем Никандром.
— Отец Никандр, — говорил он, — так в митрополичьей казне ничего нет? Медной деньги нетути?
— Нет, святейший архипастырь, да откуда им и взяться? Предшественник все-то дело судное отдал приказному Ивану Жеглову, а дело вотчинное и поместное, да разное иное, мытное и неокладное — детям боярским Макару и Федору Негодяевым. Делали они обиды всяческие челобитчикам, а приказный Жеглов — тот и попов, и протопопов ставил, кто, значит, больше даст.
Ужаснулся Никон и велел их привести к себе.
— Где, Ванька, казна митрополита? — спросил Никон строго.
— Не могим знать, на то казначей митрополичий — он и голова всему.
— Но деньги собирал ты.
— Нет, не собирал, а коли принесут дар, то и Бог велел брать, всяк дар совершен, — начал было он.
— Не богохульствуй, всуе не употребляй Его имя, хищник… Ставил ты во попы и протопопы.
— Не я ставил, а преосвященнейший Аффоний.
— Без посул ты не ставил?
— Посул не брал, а дары, отчего же, и сам Бог велел.
— Я донесу об этом царю.
— Знаем мы сами, что у царя и у короля в палатах творится — все едино, что и у нас, — возразил дерзко Жеглов.
— Покайся, — произнес сдержанно Никон, — еще время есть. Вершил ты дела без сыска, пытал челобитчиков, держал колодников в заточенье по году и, более того, грабил митрополичью казну — тебе плахи мало… Но, говорю, покайся, и все простится тебе, — только возврати награбленное, утри слезы вдов и сирот[13], которых обобрал ты.
— Ничего не ведаю и не знаю — все один поклеп, святейший архипастырь.
Это нахальство вывело Никона из терпения — он засвистал в свисток, заменявший тогда колокольчик.
Вошел служка.
— Позови дьяка! — крикнул он.
— Дьяк ждет в передней, да там же боярские дети Негодяевы.
— Пущай все зайдут сюда.
Требуемые лица появились.
Никон с минуту помолчал и потом обратился к Негодяевым:
— Вместо келаря вы, кажись, заведывали монастырскими землями.
— Не мы, а митрополит Аффоний, — возразил Макар Негодяев.
— Как не вы? Вы ездили по деревням, собирали дань и оброк, угодья и пустоши сдавали гостям и мужикам, где же деньги?
— Сдавали мы, — отвечал другой Негодяев, Феодор, — все митрополиту.
— Отчего вы не сдавали все это казначею Никандру?
— На то не было приказу митрополичьего.
— Крестьяне черных земель[14] приносят челобитные, что их-де обирают, земли от них отнимают, скотину и иную живность отбирают, подати правят без меры.
— Один лишь поклеп, святейший архипастырь.
— Без вины, — продолжал Никон, — на правеж[15] ставят.
— Все единый поклеп, — стояли на своем Негодяевы.
— Покайтесь, и я прощу вас, — обратился к ним и к Жеглову Никон.
— Не в чем и каяться — на исповеди были у духовного отца: согрешения наши он простил, мы приобщались, неча дважды каяться: разбойник на кресте, да и тот покаялся единожды, — пустился в рассуждения Жеглов.
— Дьяк, — сказал тогда Никон, — посади в темницу их до царского указа и сыска.
Жеглов и Негодяевы с мнимым смирением и покорностью последовали за дьяком.
* * *
В это время на базарной площади совершалось другое. Приехал из Швеции новгородский купец Никитин и начал к народу речь:
— Был я в свейских (шведских) землях, там новый король Карлус, готовит он ратных людей на нашу землю, то есть на Новгород Великий. А царские бояре отпустили свейцам и казну богатую, да видимо-невидимо хлеба из царских житниц во Пскове. Проведали и псковичи, да свейского посла исколотили: во Пскове гиль и сбор.
— И на Москве, — сказал находившийся здесь купеческий приказчик, занимавшийся покупкой в Новгороде хлеба для своего хозяина, — люди земские и стрельцы изрезали бояр, да один Морозов-вор спасся. Царь-то юн, а бояре вороваты и продали нас немцам. Теперь как немцы получат богатую казну и хлеба, они и пойдут на нас войной и снова в лютерский закон. Я-то из таковских: множество народу православного свейцы в свою веру окрестили, а теперь все оттуда сбежали; да и я сбежал на Москву — теперь приказчиком.
— Вся святая правда, — подтвердил подошедший в это время пристав Гаврилка Нестеров. — Да с боярами за одно и митрополиты — Макарий Псковский и наш — Никон. Только что я из темницы — туда велел он отвести приказного Жеглова и боярских детей Негодяевых: вы-де боярских указов не слушаете, немцам не хотите помочь. А те: греха-де на душу не возьмем, мы-де не басурманы, хлебушка своего и царскую казну отпущать немцам не будем… А Никон-то их в колоды, да в темницу. Жалость берет, а жены и детки малые ревма ревут.
— А вот, поглядим, коль немцы прибудут к нам, уважим, довольны останутся; хлеба нашего святого к немцам отпущать не станем, да и царская казна здесь останется. Пущай батюшка царь учинит сыск, — раздались голоса со всех сторон.
Народ разошелся, и пристав Гаврила Нестеров отправился домой, зайдя по дороге в кабак, где он наугостился.
Из кабака Гаврила пошел, пошатываясь, домой и у ворот увидел свою жену Марфу.
— Чаво здесь! аль молодцев выжидаешь?
— Не греши пред Господом-то Богом. Батька наказал: гляди, коль Гаврюшка на улице, скажи-де ему: митрополит Никон кличет.
— Не пойду я к зверю-то, а ты гляди мне!
И с этими словами Гаврила схватил Марфу за косу и потащил в избу.
Унимал его отец, площадной подьячий, да тот и на него напал.
— Не наводи ты меня на грех, — ревел Гаврила, как зверь.
— За что ее бьешь? — спросил отец.
— На это она в законе моем: пущай и покоряется, и кается.
— Да в чем? — вопила жена.
— В чем?.. Да в том… Никон митрополит знаешь для чего кличет?
— Не знаю, — плакала Марфа.
— Если не знаешь, так я знаю… Значит, зачем с приказным Жегловым посулы брал, на правеж ставил без вины.
И с этими словами схватил он вновь ее за косы, избил лицо в кровь и вытолкал на улицу.
Марфа, как была, опростоволосена и в крови, так и побежала на митрополичий двор.
Совершив это, Гаврила ушел в опочивальню, бросился на постель и заснул. Спал он несколько часов и проснулся не в хмелю. Отец передал ему, что избитая им жена убежала с жалобою к митрополиту и что тот присылал уж за ним. Тот понял, что справедливый и строгий Никон, вероятно, строго отнесется к нему и велит отодрать его не на шутку: благо, если только плетью, а то, пожалуй, и кнутом.
Обратился он к отцу:
— Ты, ведь, подьячий — всякие порядки знаешь! Ну, вот, вызволи таперь… по гроб доски не забуду.
— Вызволить!.. Да кабы моя сила… Всяку что ни на есть ябеду настрочу и челобитную, а тут как? Улики на лицо… А там, гляди, отведут в сарай, да так отжарят, что и душу в пятки упрячут.
— Родимый, уж подумай, — молил Гаврила.
— Ну, уж, да в последний… Как выпьешь, точно зверь какой. Поставь банки и пиявки на спину-то, вот митрополит и смилует — скажешь вся-то спина изломана: дескать, жена ухватом ударила.
Обрадовался сильно этому совету Гаврила, оделся и пошел к цирюльнику-еврею и велел себе поставить пиявки на спину, а потом и банки.
И хорошо он сделал, что поторопился. Как только он возвратился в избу, посланные митрополита арестовали его и повели на митрополичий двор.
* * *
Вечером того же дня в Новгород входила иноземная рать с обозом.
Едва она, по направлению из Москвы, вошла в ворота, как на улице послышались крики:
— Вот и немцы пришли с царской казной и за хлебом.
Понесся этот клич по городу, а посадский Трофим Волк, услышав шум и крики на улице, вышел из своего дома.
Видит, движутся немцы на конях и в латах и при шпагах, за ними обоз, и впереди на коне наш русский.
— Ты кто? — спросил его Волк.
— Из посольского приказа, толмач Нечай Дрябин, а караван немцев датских, значит, посланник их Граб.
— А куда? — допрашивал Волк.
— На Ригу, а там я назад, в Москву.
— В обозе что?
— Знать, царские дары и казна.
И с этими словами толмач двинулся дальше[16].
— A-а… знамо, — сердито произнес Волк.
Выглянул из ворот сосед его Лисица.
— А что, Волк? — спросил он.
— Лисинька, то немцы с царской казной из Москвы прут, а там и к нам в гости пожалуют.
— Ей-ей, Волк, не смолчу… Гость-то Стоянов что ни на есть кажинный день то мясо, то хлеб прет к немцам, а этот с казной… Не будь я Лисицей, коли пущу немцев из града.
Он опрометью побежал к земской избе и по дороге сзывал туда народ и единомышленникам велел бегать по улицам и кричать: «Ратуйте, батюшки! Измена! В избу земскую!»
Побежал народ по улицам, и не более как в четверть часа у земской избы собралась большая толпа народа.
Лисица неистово кричал ей:
— Гость Стоянов наш хлеб и мясо увозит немцам, а те везут из Москвы казну, а там немцы сюда пожалуют да полонят и нас, и жен наших, и деток.
В этот миг показался из земской избы рослый, плечистый богатырь Андрей Гаврилов.
— Отец родной, — крикнул ему Лисица, — не дай нас погубить, не дай нас продать немцам.
— Где? Где немцы? — спросил голова спросонья.
— А вот к Софии потянулись… Выедут, вывезут они нашу казну! — крикнул Волк, появившийся тоже у избы.
— Того не можно, — заревел Андрей Гаврилов. — Батюшке царю измена, то бояре воровские озорничают. Идем, молодцы, — я вперед…
Колосс этот двинулся вперед; рядом с ним шли Волк и Лисица; вся толпа ринулась за ними.
Они пошли переулками, чтобы отрезать путь датскому послу.
Не более как через двадцать минут они достигли цели: выйдя из боковой улицы, они очутились прямо против поезда посланника.
Посланник, видя впереди большую толпу, обратился к толмачу Нечаю Дрябину:
— Спросите, — сказал он по-датски, — что нужно им?
Вопрос этот повторил Дрябин земскому голове Андрею Гаврилову.
— А ты что за указчик мне? — крикнул Гаврилов. — Сходи-ка, немец, с коня, да все твои прихлебники, да ко мне в земскую избу…
— Вот охранная грамота: на ней подпись боярина Ильи Даниловича Милославского, — струсил Дрябин.
— Плевать нам на охранную боярскую грамоту. Коли сам царь подписал, ино дело…
— Царь не подписывает охранной грамоты, — объявил Дрябин.
— Коль не подписывает — значит, не его воля. А бояре воры… Ну, немец, слезай-ка…
Дрябин передал разговор посланнику.
— Объясните им, — разгорячился тот, — что послы во всех странах пользуются почетом и уважением и что за остановку меня им грозит смертная казнь, а я добровольно с коня не сойду, пока шпага у меня в руках.
Дрябин передал это толпе.
— Он грозит еще! Долой его с коня! — крикнул зычным голосом Гаврилов.
В один миг стоявший недалеко от посланника Волк вскочил сзади на его коня и, обхватив его обеими руками, не дал обнажить ему шпагу.
Толпа бросилась точно так же и на его свиту.
В борьбе с Волком посланник упал с лошади: тогда Волк насел на него, бил его по щекам, разбил нос, и когда тот уж был в обмороке, он его ограбил, т. е. снял все, что на нем и в карманах его было ценного…
Народ поступил точно так с его свитой…
Бросив ограбленных и избитых датчан на произвол судьбы, народ устремился к обозу: людей смял, а лошадей повернул к пушечному двору, где поставил стражу, так как казна-де царская.
— Теперь, — крикнул Андрей Гаврилов, — к гостям Стоянову, Никифорову, Проезжапову, Вязьме, Тетерину, Земскому — все это воры: мясо и хлеб немцам возят… Пообщиплем их, наставим и вразумим…
В это время многие мятежники бросились к Каменному городу, сбили и скрутили веревками стоявших у ворот сторожей и ударили в непрерывный набат.
Поднялся почти весь город, и толпа бросилась неистово ко всем намеченным Гавриловым гостям, и, несмотря на позднюю ночь, разбили у них окна и ворота, вламывались в хоромы, всех в доме избивали, все громоздкое ломали и выбрасывали в окна, а что можно было, расхищали.
Перины, подушки, одеяла (пуховые) и даже святые иконы — все это летало в окна, а в теремах раздавались вопли и неистовые крики терзаемых.
Натешившись над своими и московскими гостями, торговавшими мясом, скотиной и хлебом, народ бросился к Любскому двору, где останавливались приезжие немцы, обобрал их и потащил избитых и израненных в земскую избу.
Услышав этот гул и шум, воевода новгородский, князь Хилков, тотчас поскакал к митрополиту Никону.
— Что делать, святой владыка? — спросил он, дрожа от гнева и волнения.
— Что случилось, князь Федор Андреевич? Ночью вдруг гиль и сбор. Уж не враг ли вступил?
— Ничего нельзя разобрать. Говорят, немцы вступили в город, стали рубить и колоть народ…
Но, говорят, и в городе гостей грабят, мучат, жгут, это уж не на врагов идет сбор[17] и гиль.
— Святейший архипастырь, я и явился за твоими приказаниями. Дай своих детей боярских, а я своих стрельцов, и я пойду к народу.
— Не ходи, князь, теперь ночь, а люди рассвирепели. Пошлю я тотчас к царю грамоту, а ты прикажи стрелецкому сотнику Марку Басенкову выйти с ратными людьми, твоими и моими, — пущай разгоняют толпу.
— А коль потреба будет обнажить меч?
— Бог помилуй, не обнажай меч, погибнешь от меча, — набожно перекрестился Никон. — Пущай он духовным мечом уймет неистовство; на это мое благословение. Пущай он заберет всех ратных моих людей. А мы с тобою, князь, останемся здесь, в святом дворе, и коль они придут к нам, я выйду с крестом. Когда св. Константин Багрянородный собирался в поход на гонителей подвижников Христовых, явилось ему знаменье, на небе большой крест и на нем сияло: «in hoc vince», т. е. «сим побеждай…». И я только крестом могу побеждать, и в нем моя вера, мое утешение и мощь. Иди же, князь, распорядись, не мешкай, а я буду молиться Господу сил.
Князь Хилков удалился. На софийском дворе собрались уж все наличные стрельцы и митрополичьи боярские дети; все были вооружены, но получили приказ: оружия не употреблять и быть в подчинении стрелецкого сотника Марка Басенкова.
Под его предводительством ратники тихо выступили из митрополичьего двора, ворота за ними закрылись, и они тихо двинулись вперед.
В городе слышались неистовые крики, вопли, брань, кулачный бой: кабаки были все открыты, и народ пьянствовал там, расплачиваясь только что награбленным добром.
Марк Басенков начал закрывать один кабак за другим и, таким образом, очистил несколько улиц, но засевшая там пьяная сволочь бросалась по всем улицам и сзывала народ для защиты от ратников.
Не более как через полчаса огромные толпы народа со всех сторон окружили предводительствуемую Басенковым рать.
Сотник обратился к народу и именем царя, митрополита и воеводы уговаривал их разойтись.
— Изменник, вор! — крикнул кто-то в толпе.
Сотня человек бросилась на него, вмиг его окружили.
— Изменника в Волхов с моста! — крикнул кто-то в толпе. — Изменников искони бросал так народ… В Волхов.
— Это грех. Умрет без покаянья… Лучше к Евфимию, а оттуда с башни… Я оттелева с Лисицей., нужно вновь туда… нужно набатить…
— Ладно! — крикнула толпа.
Волк схватил скрученного по рукам Басенкова и вместе с Лисицей повлекли его.
Толпа хотела за ними последовать.
— Не нужно, — крикнул Волк, — мы и вдвоем с ним справимся, а вы остальных воров поразгоняйте.
— Ладно, — отвечала толпа и бросилась бить ратников и боярских детей.
Волк и Лисица потащили стрелецкого голову на башню; вначале он хотел было бороться, но видя, что сила на их стороне, он пошел за ними, творя усердно молитвы и призывая на помощь Богородицу и Спасителя.
Наконец, вот уж и колокольня. Повели они по ступенькам вверх.
— А что, Волк, с какого: с первого, аль со второго, аль с третьего? — спросил Лисица.
— С третьего, — отвечал тот.
Взошли они на первый ярус, потом стали толкать вперед жертву свою на второй и наконец забрались в третий.
Ночь была темная, и только знающему можно было карабкаться по узким лесенкам Евфимиевой башни.
— Ну, вот мы и здесь… Молись… кайся, — завопил Болида спешней, нужно набатить.
— Господи помилуй, — вопиет сотник, — помилуй и спаси!..
Но при этих словах Волк чувствует страшный удар кулаком в лицо и падает на пол: Лисице достается то же самое.
Потом один катится по лестнице во второй ярус, и вслед за ним другой.
Это необыкновенное путешествие отрезвляет их, и оба вскакивают на ноги и бегут к лестнице, ведущей вниз к выходу; но чья-то необыкновенная сила вновь бьет их, и они катятся вновь вниз и друг друга душат и бьют.
— Чур! Сам дьявол! — вопиет Волк, вспомнив, что это совершается при начатом ими преступлении.
— Чур! Шайтан… черт! — вскричал Лисица.
Оба вскочили на ноги и бросились бежать.
Когда они скрылись, к Марку Басенкову явился его спаситель: он развязал ему руки и сказал:
— Поспешим отсюда в митрополичий двор… Ты вел себя богатырем…
— Да кто ты, как чествовать тебя?
— Я пришел сюда с двора митрополичьего посмотреть на гиль и не горит ли где… Боюсь красного петуха.
— Да кто ты? — повторил сотник.
— Митрополит Никон, — отвечал тот.
XXIII Новгородская гиль
С рассвета на другой день ударили вновь сплошной набат.
Воевода князь Хилков, ночевавший в митрополичьем дворе, зашел к Никону.
От него он узнал о вчерашнем посещении им Евфимиевской башни и о спасении от смерти несчастного и ни в чем неповинного стрелецкого сотника.
Воевода был огорчен, что архипастырь так рисковал своею жизнью и сожалел, что он не взял его с собою.
— Я заходил к тебе, да ты спал так сладко в своей келье, что и жаль было будить.
— Что ж дальше делать? Ратные люди наши избиты и измучены, — спросил воевода. — Народ бегает по улицам и кричит уж на царя: «Государь об нас не радеет, — вопиет он, — деньгами помогает и хлебом кормит немецкие земли».
— Безумцы! — ужаснулся Никон.
Вошел при этих словах служка Иван Кузьмич.
— От земской избы, — докладывал он, — пришел служка софийский. Люди бают, земский голова, Андрей Гаврилов, скрылся.
— Значит все теперь без головы, — улыбнулся Никон. — Видишь, воевода, Бог за нас; вишь — говорят, коли Бог хочет кого наказать, так отнимает у него разум. Отнял он его и у Андрюшки Гаврилова, а как протрезвился, да проснулся он, и давай Бог ноги. Может и другие очнутся. Вели, Ванюха, звонить в софийской к обедне, — мы с воеводой туда поедем.
— Как, в такой сбор и гиль?
— Когда овцы, воевода, заблудились, добрый пастырь должен навести их на правый путь, и мой долг ехать в Софию. Там издревле архипастыри поучали народ, там св. Никита проповедовал братскую любовь. Зачем царь Иоанн Грозный св. мощи его перевез в Москву, теперь у раки святого я призвал бы заблудших к покаянию и умиротворению.
— Святейший архипастырь, позволь хоша проводить тебя для твоей безопасности с ратниками.
— Митрополита новгородского должен быть охранителем весь народ. Ты можешь туда прибыть, но поеду я к моей пастве один.
Воевода пожал только плечами и пошел распорядиться, чтобы все ратные люди собрались к Софии.
Час спустя Никон в своей колымаге подъехал к собору. Народ в большой массе толпился там и встретил митрополита с благоговением.
Служба шла стройно и чинно — ничто не нарушало церковного благолепия.
Но это была кажущаяся тишь: гилевщики в это время бегали по городу, разыскивая земского голову, Андрея Гаврилова.
В особенности в этом усердствовали Волк и Лисица.
Они розыски свои простерли даже за город и явились в земскую избу с решительным ответом: голова-де скрылся.
В это время в избе находились: Молодожников, Хамов, Трегуб, Шмара[18], Оловьяничник и изменившие правительству: подьячий Гришка Аханатков и стрелецкий пятидесятник Кирша Дьяколов.
— Коли нет его, так нам нужен будет голова! — воскрикнул Молодожников.
— Без головы невозможно, — поддерживал его подьячий, — и руку-то прилагать нетути кому.
— Да и кто поведет гилевщиков в битву, коли немец придет? — подхватил стрелецкий пятисотник.
— Выбирать голову! — крикнули все.
— Кого ж? — спросил Лисица.
— Жеглова! — крикнул Волк. — То человек приказный, — всякие порядки знает.
— Да ведь он в темнике, митрополит посадил, — объяснил Лисица.
— Так что ж, можно и ослобонить! — крикнул Молодожников.
— Да там с ним и братья Негодяевы, боярские дети; то люди ратные, они и советом и мечом сподручны, — молвил Лисица.
— В софийский двор, в темник, за Жегловым и Негодяевыми! — крикнул Волк.
Гилевщики бросились из земской избы, загудел набат, собралось много народу, и пошел он в софийский двор.
Митрополичий двор был открыт и беззащитен. Народ, явясь туда, приказал стражникам тотчас вывести из темника узников.
Те повиновались им.
Когда колодники появились, народ тотчас снял с ног их колоды и с радостными восклицаниями отвел их в земскую избу, где под главенством Жеглова они образовали новое правительство, объявив воеводу, князя Хилкова, изменником.
Узнав об этом, Никон поторопился на митрополичий двор, но было уже поздно: узники были уже освобождены.
Тогда митрополит решился на более чем смелую меру: другой день был праздник Алексея Божьего человека и вместе с тем именины царя; Никон на утрени и на обедне поименно проклял главарей гилевщиков.
Распространилась об этом весть по целому городу, и гилевщики, чтобы оправдать себя и снять с себя пятно проклятия, которое в то время было сильнее позорного клейма, рассыпались по всем улицам и кричали, что в день именин царя освобождают преступников, а тут митрополит проклял весь народ.
Новгород впал в страшное уныние, люди верующие пришли в отчаянье; но не этого домогались гилевщики, они бы желали разделаться с митрополитом.
Ломали себе головы гилевщики, как бы поднять против него народ; выпито было при этом страшное количество водки, так как и их начинало разбирать сомнение в справедливости их дела, но ничего они не могли выдумать.
Так прошел весь другой день после страшного проклятия митрополита, и вечером в земской избе собравшиеся гилевщики размышляли, что вот-де есть у них две умные головы: это площадной подьячий Нестеров, да сын ею, пристав Кольча, да что-то во время гили ни одного, ни другого не видать.
— Уж ты бы, подьячий Гришка, — обратился Жеглов к Аханаткову, — услужил нам не службу, а дружбу, пошел бы к площадному подьячему Нестерову, да попросил бы его совета. Знает он всякие неправды митрополита, да притом и в огне-то он не горит, да и в воде не тонет. Бит уже он с десяток раз кнутом за ябеды; у иного уже давным давно вышибло бы дух, да угнало бы душу в пятки, а он ничего — цветет, как маков цвет. Да и пристав, сын-то его, что ни на есть разгильдяй, а в гили-то его нетути. Порасспроси, да разузнай, да завтра нам скажи.
Гилевщики после того разошлись, а подьячий Гришка, переминая спьяна ноги, побрел к усадьбе сотоварища своего, площадного подьячего Нестерова.
Старик подьячий где-то в кабаках строчил народу грамотки, челобитни и иную письменность и крепости и, возвратясь усталый, собирался уже спать.
Вдруг стук в калитку, и затем на пороге комнаты, где он сидел, появилась его невестка Марфа.
— Где пропадала, где пропадала Марфуша? — обрадовался тесть.
— У матушки сидела, где же быть, как не у родимой, да такое сумление взяло, да тоска под сердце подступила, что хошь иди да утопись.
— Небось совесть мучила, челом ты била у владыки на мужа, вот и совесть заела. Челобитню, да на законного… Вот митрополит да каждый день что ни на есть утреню отслужит, а Гаврюшку в сарай — плетьми; вечерню отслужит, а Гаврюшку в сарай — кнутами.
— Матерь Божья! — всплеснула Марфа руками, — да ведь он его измучает, истерзает, и это все мой грех; недаром лежу и сплю аль не сплю, а он-то, Гаврюшка, бедный, весь-то в крови, кровь со спины так и льется.
— Видел я служку митрополичьего, Ивана Кузьмина, он и приходил-то за Гаврюшкой; а я его: уж помилосердствуй, скажи, что Гаврюшка? А тот махнул рукою: весь-то истерзанный, молвил.
— Весь-то истерзанный, — голосит Марфа.
— Весь-то, точно банки и пиявки были на спине.
— Точно банки и пиявки были на спине, — повторяет с ужасом Марфа.
— Весь-то в крови, точно резаный поросенок, — говорит служка.
— Точно резаный поросенок, — вторит Марфа.
В этот миг слышен сильный стук в калитке, потом входит подьячий Гришка Аханатков.
Перекрестясь иконам и сделав низкий поклон, он произносит:
— А я-то, дядушка Федор, к тебе зашел от земских-то людей, уж больно все в сумлении насчет тебя и сына твоего, Гаврюшки.
— Уж и сумление! Мы-то черви и куды нам с тобой; ты, вишь, в земской избе, настоящий подьячий, а мы што! Мыто, площадные подьячие, иной раз и в кабаке строчишь; ты вот рублями… а мы и денежкой рады.
— Курочка по зернышку клюет и сыта бывает, — утешал его гость.
— Ну, было то, да сплыло в сторону. Гей, Марфутка, угости-ка гостя, вина да хлеба-соли, а ты, кум, садись.
— От хлеба-соли не отказываюсь, куманек. А вот гилевщиков и сбор да в митрополичий двор. Как твоя думка, куманек? Порядки ты митрополичьи знаешь и разум-то у тебя — царь.
— А что дашь? — Сухая ложка глотку дерет.
— Не я, а люди земские наградят так, что и сказать нельзя, ты только сделай.
— Полно-то, Гришка, дурака строить, а еще подьячий. Коль сделаю, шишь получишь. Не первина: все на шаромыгу. Теперь не то, что встарь; бывало гостю напишешь цидулку, аль грамотку, даст рубль, поклонится в ноги и по гроб доски благодарствует то хлебом, то пенной. Теперь, коли хочешь получить что ни на есть, напредки бери. Давай напредки три рубля, да две меры хлеба, да три пенного, да…
— Полно, полно, эк разобрало его!..
— Погоди и ты: да поросенка, да пару кур, да сотню яиц…
— Еще чего?
— Будет, ведь то земские люди, с мира по нитке, а убогому рубаха, понимаешь…
— Понять-то понял, а собрать-то это и за две недели не сделаешь, дело спешное.
— Знамо спешное, ну вот ты и грамотку дай, дескать, должен я такому-то вот то да это.
С этими словами площадной подьячий подал гостю перо, чернильницу и кусок очень грязной бумаги.
— Неча с тобою делать, — выпив стаканчик пенного и утерев бороду рукавом, произнес сердито гость и стал строчить расписку.
— Теперь ты говори, как заваришь кашу? — сказал подьячий.
— Кашу-то мы заварим, но гляди, как то расхлебать, — заметил хозяин. Но ему представилось в таком пленительном виде все то, что значилось в расписке, что он приободрился и продолжал: — Уж коли Нестеров возьмется, так он и научит. Дай грамотку, я спрячу, там развесь только уши да слушай.
— А не обманешь?
— Бог помиловал. Слушай: пристав Гаврюшка, сын-то мой, надысь зашел к владыке и баит: мир-то толкует про всякую измену бояр батюшке-царю; продают они-де нас немцам. А преосвященнейший аки зверь лютый на него накинулся, посадил его в темник и там кнутует, кнутует, кнутует…
— Ахти! Господи, смилуйся! — завопила Марфа.
— Видишь, гость-то дорогой, Марфутка ревма ревела, как ты вошел. Завтра собери мир у избы, а я с нею приду, а там увидишь, что будет.
— Истерзанный… точно пиявки и банки… весь в крови, — заголосила баба.
— Ах ты умница, шельмец, — восхитился подьячий и бросился целовать товарища. — Да мир тебя озолотит, уважишь, уважишь земских-то голов; завтра опосля заутрени явитесь вдвоем. Теперь оставайтесь с миром, а мне пора домой, старуха ждет, да и детки.
Перекрестился он, поклонился низко хозяевам и ушел.
— Ложись-ка, Марфутка, спать, завтра будет работа, а слезы и глотку береги назавтра пред миром.
— Уж как буду голосить… уж как голосить.
И, утерев подолом платья слезы, Марфа отправилась в кухню, залезла на печку и заснула.
На другой день десятские подняли народ и погнали его к земской избе, будто бы для веча; земские головы вышли и говорили мятежные речи о митрополите и воеводе. В это время является к народу площадной подьячий и его невестка.
Отец плачет, а та ревет и вопиет, что митрополит без вины кнутует трижды в день ее мужа и жжет огнем.
— Жгут огнем! И взаправду это? — занеистовствовала толпа и бросилась к митрополичьему двору.
Ворота были заперты, народ начал шуметь, кричать и неистовствовать.
Услышав это, митрополит и воевода князь Хилков пошли к воротам.
Воевода хотел употребить оружие против гилевщиков, но Никон воспротивился.
— Что вам нужно, — крикнул он.
— Выпустите из темницы Гаврилу Нестерова! — раздались голоса.
— Мы за него не стоим, что хотите, то и делайте с ним, — отвечал воевода.
Гаврюшку Нестерова освободили из тюрьмы, привели к калитке и выпустили.
Едва он появился, как народ бросился к нему и стал расспрашивать его, что делал с ним митрополит.
Отец Нестерова не дал ему отвечать, а содрал с него окровавленную рубаху и показал его спину народу.
Гилевщики обезумели: увидев на нем кровь, они стали ломать дверь митрополичьего двора; притащил кто-то бревно, и в несколько минут калитка была выломана.
Мятежники, предводительствуемые земскими людьми, очутились у дверей митрополичьих палат и выломали ее. Пройдя несколько комнат, они попали в крестовую; здесь они нашли воеводу, князя Хилкова.
— Зачем ты нас бегаешь? — Нам до тебя дела нет, а вот нам подавай Никона для расправы.
— Никона в Волхов! — крикнул Лисица.
— Никона с башни! — раздался голос Волка. — Это он стрелецкого голову вора вызволил. Пущай теперь себя спасает.
В этот миг дверь в крестовую отворилась, и Никон, сопровождаемый старцем, софийским казначеем, появился на пороге с крестом в руке.
— Безбожники, от сотворения земли не было еретиков, нарушающих святую обитель владык… Вы пришли за мною… вы хотите меня умертвить… сбросить с колокольни, аль бросить с моста в Волхов… Я помолился, приобщился и иду на смерть… Расступитесь…
Толпа расступилась, и митрополит двинулся вперед; но когда за ним последовали Никандр, князь Хилков и следовавшие за ним боярские дети, кто-то крикнул:
— В земскую избу!
Народ наступил на безоружных, и начали бить чем ни попало и Никона, и боярских детей, и старца Никандра, и Хилкова.
Видя, что толпа обезумела, бывшие здесь же боярские дети, братья Нечаевы, бросились к церквам и вызвали священников с крестами и хоругвями; а стрельцы-гилевщики, братья Меркурьевы, стали защищать митрополита и воеводу.
Народ тогда повлек лишь Никона вперед к земской избе; на пути им встретилась церковь. Никон хотел туда войти, но народ вступил с ним в борьбу и не пускал его. Здесь вновь Меркурьевы не дали его убить.
— Дайте мне хоть сесть у святых дверей… дайте отдохнуть… или отпустите душу мою с верою и покаянием… Не язычники же вы… не звери, не дьяволы…
Когда он это говорил, священники со всех соседних церквей с крестами, иконами и пением появились и окружили народ.
— Идемте к знаменью Пресвятой Богородицы молиться, да образумит она народ и простит ему его согрешения… Приблизьтесь с хоругвями, крестами и иконами, — крикнул Никон.
Пред святынями народ расступился, и митрополита окружило все духовенство.
— Идите, братия, в св. церковь, храм Божий… Отслужим там соборне св. литургию, я приобщусь и пособоруюсь, а там и дух испущу, — произнес слабым голосом Никон.
Святители взяли его под руки и повели тихо.
В церкви начали благовест, и все церкви стали ему вторить.
После службы духовенство усадило разбитого Никона в сани и отвезло на митрополичий двор.
В тот же день Никон написал письмо к царю, в котором, рассказав вкратце дело, закончил его следующими словами: «чая себе скорой смерти, маслом я соборовался, а если не будет легче, пожалуйте меня, богомольца своего, простите и велите мне посхимиться».
XXIV Царский посол
Нападение на Никона было последнею вспышкою мятежа; народ протрезвился и ужаснулся, вспомнив о страшных последствиях гили. Легко мятежу было сладить с воеводою и митрополитом, но Москва была грозна. Стали гилевщики рядить да судить: крест целовать-де на том, что если государь пришлет в Новгород сыскивать и казнить смертию, то всем стоять заодно и на казнь никого не выдавать: казнить, так казнить всех, а жаловать — всех же.
Думали и во Псков послать лучших людей, чтоб обоим городам стоять заодно.
По всем улицам поставили сторожей от гилевщиков, чтобы ничьих дворов больше не грабили; жалели, что и в первый день позволили грабить дворы, а грабили их-де ярыжки и кабацкие голыши и стрельцы.
Лучшие люди говорили друг другу со слезами на глазах:
— Навести нам на себя за нынешнюю смуту такую же беду, как была при царе Иване.
Жеглов понимал это тоже, но сам был у вооруженной толпы возмутившихся стрельцов.
20 марта, в среду, вечером набат ударил в Каменном городе, и десятники забегали по нем, сзывая дворян и боярских детей на вече в земскую избу.
Нехотя и мрачно потянулось туда дворянство, и когда собралось оно туда, оно объявило, что готово царю подписать челобитню о том, чтобы хлеба и денег немцам не отпущать, но записи стоять друг за друга они дать не хотели и разошлись.
Узнав об этом, стрельцы, казаки и голыши побежали за дворянами, чтобы не впустить их в Каменный город.
— Переймем дворян!
— Прибежим прежде них в Каменный город.
— Запрем решетку на мосту.
— Дворян в город не пущать.
— Выбьем их за город.
Неистовствовали гилевщики.
У Рыбной, близ моста, встретились им стрельцы и многие земские головы.
— Куда? — крикнули те.
— Бить изменников дворян, — отвечали гилевщики.
— Назад! — крикнули стрельцы. — Надобно и ту беду утушить, которую завели, а не вновь воровство заводить… А кто нас не послушает, того в Волхов с моста. Ступайте лучше в земскую избу, нужно к царю выборных послать.
Все поплелись назад к земской избе; выборные головы были уж налицо. Здесь и порешили: отправить в Москву с дарами и челобитней трех посадских, двух стрельцов и одного казака.
Главным же посадским был в посольстве Сидор Исаков.
Но прежде, нежели это посольство попало в Москву, там переполошились, когда было получено царем письмо от Никона, и немедленно же выслан туда послом дворянин Соловцев.
Соловцев торжественно въехал в Новгород и отправился прямо на митрополичий двор.
Воевода тотчас оповестил по городу, что приехал царский посол и чтобы собраться гилевщикам в земской избе для выслушания царской грамоты.
Жеглов собрал товарищей и главных гилевщиков в земской избе; первый приехал воевода, князь Хилков, но его хотя и впустили туда, но заставили стоять.
Соловцева встретили с почетом, усадили под образа.
Соловцев поклонился во все стороны и, стоя, передал миру царский поклон и вопрос о здоровье и жалованное слово; потом он прямо приступил к делу и объяснил всю предосудительность смуты.
Затем он прочитал вслух царскую грамоту. Когда он кончил, и гилевщики увидели, что на словах Соловцев передал только то, что было уж написано в грамоте, они зашумели и стали придираться. Раздались голоса:
— Ты почему ведаешь, что в государевой грамоте написано?
— Грамота воровская!
— У нас воров нет, все добрые люди, а стоять будем заодно, за государя…
— Грамота не государева, вольно вам написать хоть сто столбцов.
Воевода Хилков тогда обратился к Соловцеву:
— Батюшка-кормилец, когда они государевым грамотам не верят, то чему же больше-то верить? Нам здесь неуместно и идем к преосвященнейшему, он в Софии.
Соловцев отправился в Софию к Никону.
Никон потребовал в собор всех гилевщиков.
Они явились в церковь. Никон вышел к ним в полном облачении и с крестом и начал уговаривать мятежников слушаться царского указа и его посла и повиниться в своих винах.
Гилевщики закричали:
— У нас никаких воров нет…
— Государю не виноваты и вины нам государю приносить не в чем.
И с этими словами гилевщики ушли из церкви.
— Грамота воровская.
— Соловцев не дворянин думный, а человек боярина Морозова.
— Надобно его задержать до тех пор, пока наши челобитчики из Москвы поедут поздорову.
Жеглов отрядил несколько стрельцов задержать Соловцева и с другими гилевщиками отправился в земскую избу. Здесь составлена была запись: против государева указа стоять заодно. Силою, побоями и заключением в тюрьму начали заставлять гилевщики руку прикладывать всем новгородским жителям.
Смута явно приняла вид мятежа против правительства. Пошел клич по Новгороду:
— Воевода, князь Хилков, изменник, хочет Новгород сдать немцам по приказу Морозовых; взял посул у шведского посланника четвертную бочку золотых, из пороховой казны зелье все выдал немцам, надобно у него новгородскую печать и казенные ключи взять, земскую казну осмотреть и по Каменному городу пушки расставить на случай прихода шведов.
Но этот клич не производил уже того действия, как того ожидали гилевщики; мужество Никона и его проповедь расположили к нему сердца всех благомыслящих людей, а Каменный город, в котором жили лучшие люди Новгорода, готов был умереть за него.
Увидели гилевщики, что с каждым днем дело их слабеет и что даже без царских ратных Никон и воевода сделаются вскоре настолько сильными в народе, что дело их погибнет.
Нужно было принять какие-нибудь решительные меры.
Собрал Жеглов всех голов земских и стрелецких, призвал тоже площадного подьячего Нестерова и его сына Кольча.
Стали рассуждать, как бы выдумать что-нибудь такое, что бы вовлекло в гиль весь Новгород.
— Выдумал же ты, — обратился к подьячему Жеглов, — как устроить первый сбор, устрой снова смуту. А от мира будет тебе вновь милость и награда.
— А что дадите? — спросил подьячий.
— Что спросишь, только по-Божьему.
— А то, что за первую гиль.
— Хорошо, только говори скорей… Видишь, мир в сумлений.
— Повезу я ночью тридцать бочек золы, с сыном-то Гаврюшкой, в лес, за Новгород. А после Благовещения, на третий день, мы и закричим на площади у земской избы: Морозов селитру немцам отпустил и спрятал в лесу, а там немцы приедут и заберут. Вот гиль готова.
— Ай да молодчина, площадной! — заголосили гилевщики.
— Тащите ночью каждый по мешку, аль по два, ко мне на двор, да подводы свои доставьте и бочки, дело наладим.
— Ладно! — крикнули мятежники и разошлись.
Ночь была темная, и возили гилевщики к Нестерову золу и бочонки.
На другой же день, незаметно для горожан, воспользовавшись темнотою ночи, бочки свезены в ближайший от Новгорода лес и уложены на полянке.
На третий день раздался кличь у земской избы об измене Морозовых и о селитре.
Гилевщики бросились к церковным колокольням, и начался сплошной набат. Народ побежал к земской избе и, услышав об измене и селитре, забрал обывательские подводы и огромной толпой отправился за бочонками селитры.
Забрав бочонки, толпа при набате вступила в город, все улицы были наполнены негодующим народом, и бочки с торжеством отвезены на пушечный двор. Здесь главари мятежа, воспользовавшись смутой, забирали пушки, чтобы везти их для укрепления Каменного города. Мысль была — овладеть крепостью, чтобы можно было дать отпор войскам, коли они придут из Москвы.
Вдруг среди этой сумятицы раздались голоса:
— Воевода! Митрополит!..
Оба они явились на пушечный двор узнать в чем дело.
Волк закричал:
— Теперь уж улика налицо… порох, аль селитра от Морозова к свейцам.
Никон вышел из экипажа и подошел к бочонкам, лежавшим на пушечном дворе.
— Топор! — крикнул он.
Кто-то из толпы подал топор.
— Рубите один бочонок, — обратился он к народу.
Выступили Волк, Лисица, Жеглов и Нестеровы.
— Рубить нельзя, — закричал Волк, — взорвет.
— Рубите, — внушительно обратился вновь Никон к толпе.
— Всем жизнь-то дорога, — раздались голоса.
— Так я сам бочонок разрублю! — крикнул Никон, — схватил топор и направился к бочонкам.
Народ отхлынул от бочонков на огромное расстояние.
И воеводу взяло сомнение.
— Святейший архипастырь, а коли взорвет? — сказал он, дрожа от ужаса.
— Уйди, князь, а я помолюсь Богу, раскрою бочку и ложь!.. Отойди, пока я тебя не покличу.
Воевода удалился на довольно большое расстояние.
Никон разрубил дно одного бочонка и высыпал оттуда золу.
Он начал делать знаки, чтобы воевода приблизился.
Князь Хилков утвердил, что в бочонках зола, а не порох и не селитра.
— Это крамольники, воры, гилевщики сделали, — заметил Никон, — чтобы раздуть смуту. Теперь идем к народу и разоблачим их.
Гилевщики же, видя, что их выдумка не удалась, начали в народе мутить, и раздались голоса:
— Чародейство.
— Волшебство.
Вот почему, когда к народу приблизились Никон и воевода, многие в толпе шептались:
— В Волхов, с моста.
— С башни.
Но гилевщики уж значительно потеряли в доверии массы, и многие из народа бросились к бочонкам. Удостоверясь, что там зола, они начали разбивать и другие бочонки и, таким образом, в полчаса, не более, все они были раскрыты, при громком смехе большинства народа.
— Это обман…
— Злой умысел.
— Переполох гнусный.
Раздались грозные голоса:
— Долой гилевщиков… Все один обман.
При этих криках главные гилевщики заблагорассудили поспешно удалиться.
Несколько дней спустя Никон потребовал к себе главарей мятежа, — те значительно присмирели, и он посоветовал отпустить Соловцева в Москву.
Гилевщики согласились, и Жеглов отъезжающему сказал:
— Это дело не я затеял, я сижу в земской избе неволею, взяли меня из цепей миром; а если бы меня земские люди не взяли, то было бы еще хуже: я унял смертное убийство и грабеж и датского посланника не дал до смерти убить.
XXV Грозная кара
В половине апреля по московской дороге к Новгороду двигалась небольшая рать, предводительствуемая князем Хованским.
Князь остановился у Спаса на Хутыне, разбил шатры, расставил часовых и послал в Новгород стрельца в земскую избу, с объявлением, чтобы все ратные новгородские люди явились к нему, а город сдался бы ему беспрекословно.
Едва посол уехал, как к князю от Жеглова подали письмо, в котором он уведомлял, что гилевщики готовы встретить его, князя, хлебом и солью, но с тем, чтобы впредь в Новгород присылались новгородцы, знающие их обычаи. Письмо он заключил: «Никон и Хилков в мире пускали слухи, будто царь послал вешать и пластать без сыску и очных ставок и теми речами в миру чинят великое сумнение и смуту».
В тот же день явился в стан князя Федька Негодяев и упросил отправить его в Москву, для объявления от Новгорода покорности.
Между тем, узнав о прибытии от царя рати, стрельцы и другие гилевщики собрались в земской избе.
Мятежники потеряли головы: они поняли, что гибель их неизбежна.
Все собирались уж идти с повинною к князю, но выступил Лисица; он обратился к мятежникам:
— Мы должны стоять за свои обычаи; не нужно нам чужих воевод и митрополитов; вольности Великого Новгорода пущай возвратят нам. Пущай будут наши посадники, наши головы!.. Коли не наша сила идти против царской рати, заберем наше добро, народ, оружие, распустим знамена, ударим в барабаны и пойдем во Псков — там тоже гиль и смута, будем там биться за свои вольности; лучше смерть, чем позорно быть рабами бояр и боярской расправы…
— Идем во Псков!.. Лучше смерть!.. — раздались голоса, но один из стрелецких голов выступил и крикнул:
— Полно мутить мир, и так уж довольно мы нагрешили… будут нас теперь только кнутовать, а тогда и вешать и пластать. Не слушайтесь Лисицы и Волка — это воры и им мало виселицы… Кто верит в Бога — за мной с повинной к Хованскому с хлебом и солью, а остальные делайте, что хотите.
Стрелецкий голова вышел из земской избы; большинство гилевщиков за ним последовало.
На другой день князь Хованский, при колокольном звоне, с барабанным боем вступил в Новгород и отправился к Софии. На паперти церкви Никон со всем духовенством, с воеводою и с новгородскими выборными встретил его с крестом и святою водою, а новгородцы поднесли ему хлеба и соли.
Из Софии Хованский отправился в митрополичий двор и тотчас разослал своих ратников овладеть пушечным двором, земскою избою, а там распорядился об аресте главных мятежников.
Оговорено более двухсот человек, и не только все тюрьмы были наполнены, но и другие занятые для этого помещения.
На другой день весь митрополичий двор наполнился семействами, т.е. женами, отцами и детьми арестованных, и плач был невообразимый. Они требовали митрополита; Никон вышел к народу; тот стал умолять, чтобы узников выпустили из тюрем на его поруки.
Никон обещался просить об этом князя и спустя несколько минут вышел вновь и объявил, что князь на это согласился, но с тем, чтобы главные несколько зачинщиков остались под стражей.
Народ пал ниц, целовал руки, ноги и одежду митрополита.
Новгород, впавший было в уныние и отчаяние, ожил, и тут злоба на главарей-гилевщиков разразилась во всей силе, только и слышно было в городе:
— Им мало плахи…
— Четвертовать их…
— Жечь живьем…
В тот же день Хованский в земской избе, в присутствии воеводы, князя Хилкова, приступил к сыску или к следствию.
На почетном месте сидел датский посол, рядом с ним находившийся при нем толмач, он должен был обвинять Волка.
Князь приказал ввести его.
Два стрельца, в полном вооружении, ввели подсудимого: это был высокий, плечистый, белолицый блондин с прекрасными голубыми добрыми глазами. Русые его волосы большими прядями падали на лоб. Он был в красной рубахе, припоясанный, и поверх нее висел на плечах из тонкого светло-коричневого сукна кафтан с золотыми пуговицами. На руках и на ногах у него звенели цепи.
Войдя в избу, он тряхнул русою головою, перекрестился образу и поклонился с уважением, но с достоинством присутствующим.
— Повинись, Волк, во грехах своих и в воровстве, — обратился к нему князь Хованский.
— Во грехах покаюсь, а воров здесь нетути: новгородцы честные христиане и ворам николи не были, — возразил Волк.
— Одначе, посла датского ты избил и ограбил, — заметил князь.
— Каюсь… пьян был; все возвратил на другой день послу.
— Кажись, ты начал смуту? — продолжал допрос Хованский.
— Хоша бы и я… На Никитской я остановил толмача, а у креста я ссадил посла с коня, да и я его оттузил знатно.
— За что, разве тебе что ни на есть злого сказал посол?
— Эх князь, зачем такой спрос? Знаешь и ты, что посланник здесь не при чем, а смуту, гиль, сбор вызвали все те ваши боярские порядки, да горе Великого Новгорода.
— Ты говоришь горе Великого Новгорода? Был у вас воевода князь Урусов, послали вы челобитную царю, и он дал вам князя Хилкова, чего же вы еще хотите? К тому за вас же и псковичей царь уплачивает свейцам: обратили они многих из посадских ваших людей в лютерство и требует их теперь свейский король. Велел царь выплатить за этих людей сто девяносто тысяч рублей: двадцать деньгами, а остальное хлебом. А вы производите смуту и воровство.
— Эх, боярин, не тебе говорить, не мне слушать… Благодарны мы за это, но оно вольности нам не дает. Великий Новгород искони имел и своих посадников, и своих выборных владык. Наш владыка был такой же, как московский патриарх, а все северные страны были наши до Соловок. И пока были мы слободны, вели мы свою рать и на ливонцев и свейцев, и трепетали нехристи при имени нашем, а ладьи наши шли по морю, как по Белоозеру. Пришел царь Иван Грозный, разрушил нашу вольность, снял вечевой колокол и посадских людей, гостей и жильцов наших или перерезал, или разослал по чужим областям, а земли и дома наши роздал своим боярам, дворянам и боярским детям. Плакали и стонали мы в неволе, пресмыкались и нищенствовали на чужбине. При Годунове и самозванцах мы возвратились восвояси, стали править свои земли и дома, и все заграбленное нам возвращено, а тут пришли свейцы и забрали нашу землю, и в пленении была наша великая мать — земля до вечного докончания[19] столбовского. Возрадовались мы, что царь православный будет нашим царем, что вновь мы станем на страже у царя супротив ливонцев и свейцев. А тут нам наслали из Москвы и воеводу, и боярских детей: приказные стольники стали чинить суд и расправу… стрельцы и казаки наводнили все города наши, а земские и посадские люди и наши головы сделались только мытарями: ставьте-де на правеж наш же народ. Было скверно при свейцах, но те наших вольностей не трогали, — только в веру свою крестили; а теперь бояре нас и перекрещивают[20], да и св. Софию хотели разрушить.
— Не разрушить, — прервал его Хованский, — а святейший ваш владыко хотел лишь поправить храм.
— Храм по благовестию ангела сооружен, — воскликнул Волк, — и все в нем свято: и стены, и образа, и столбы. Ведь из всей-то жисти Великого Новгорода осталась одна лишь св. София. И не тронь ее, — скорее нашу голову руби. Нам все это в обиду, накипело у нас на сердце все это десятки лет и сорвалось. Ведь тут и обиды, и позор наших пращуров и прадедов, и дедов, и отцов. Ведь кровью они плакали в неволе, а мы и теперь плачем о них и о Великом Новгороде.
Он зарыдал и, утерев подолом слезу, продолжал:
— Князь! Скорбь моя — скорбь Великого Новгорода. Придет время, князь, когда ты или быть может, сын или внук твой, или кто-либо Из Хованских будет плакать еще более кровавыми слезами, чем я, когда пойдет, как и я теперь, положить голову свою за веру и за земское дело.
При этих словах князь невольно вздрогнул[21], но оправился и сказал:
— Кайся, может быть и посол, и царь смилуются, и если не простят тебя, то облегчат твою участь.
— У посла я прошу прощения, — продолжал Волк, опускаясь на колени и поклонившись до земли, — помилования не хочу ни твоего, ни царского. Я виноват, смута от меня: вели меня, боярин, казнить, — я пойду на плаху как на праздник. За Великий Новгород и св. Софию я положу голову с веселием, а Бог простит мои согрешения — он же простил разбойника на кресте.
— Я отпишу в Москву, царь, быть может… — бормотал Хованский.
— Вели вести меня на казнь, да поскорей. Никакого прощения не хочу и не приму, — Волк отвернулся от князя и подошел к страже. — Ведите меня! — крикнул он стрельцам.
— Да будет воля Божья, — произнес дрожащим голосом князь Хованский. — Произношу приговор не свой, а твой: ты будешь казнен за свои вины и воровство смертною казнию, чрез отсечение головы; приговор будет завтра с рассветом исполнен на Торговой площади. Можешь сегодня исповедаться и приобщаться; а коли имеешь что-нибудь передать царю, — во всякое время я посещу тебя в твоей темнице.
Волк перекрестился, низко всем поклонился и вышел из земской избы.
Несколько часов спустя князь Хованский выпроводил датского посла из Новгорода и дал ему сильной конвой до самой Риги, где он должен был сесть на ожидавшее его датское судно.
Когда по Новгороду разнеслась весть о приговоре, произнесенном над Волком, посадские замерли — плахи они не видели уж несколько десятков лет.
Ночью на Торговой площади устраивали эшафот и плаху; а к Волку, по обычаю того времени, были допущены все, желавшие с ним проститься.
Волк был хладнокровен и прощался со всеми, как бы собираясь в дальний путь. Имущество его не было конфисковано судом, а потому он сделал распоряжение, что кому, и не забыл и св. Софии — он пожертвовал туда образа и деньги для поминовения его по синодику.
В полночь он лег немного заснуть, но вскоре вскочил на ноги и потребовал священника. Он исповедался, приобщился и велел просить прощения у св. владыки и у всех, кого он когда-либо обидел, и послал за князем Хованским.
Бледный и расстроенный вошел к нему Хованский.
— Я могу приостановить казнь, — сказал он, — и пошлю в Москву к царю.
— Не для этого я просил тебя, князь, сюда. На небесах должно быть мне определено быть распластанным; в святом писании сказано: кто подымает меч, тот и погибнет от меча. Прошу за семью — они не повинны в моих грехах, пущай батюшка царь смилуется, перед ним вором не был, но ты, боярин, передай ему слова новгородского посадника, отходящего к Судии нелицеприятному: пущай земского и посадского дела не разрушает; земцы — это народ, а глас народа — глас божий. Не в боярах, не в боярских детях, не в окольничих, стольниках, подьячих и стряпчих мощь царя, а в нас, земцах и посадских. Он наш царь и многомилостив, а народ-то наш милостивее, сердечнее его. Мое благословение и на него, помазанника, и на народ. А владыке скажи: я его богомолец… Коли бы он был новгородец, то я верую, что и он плакал бы кровавыми слезами о Новгороде и он бы пошел со мною на плаху. Теперь вели вести меня на казнь, — зачем мучить напрасно.
— Прости, — произнес, рыдая, князь Хованский, — что мне выпала доля отправить тебя на казнь.
— Не ты, боярин, закон и наши порядки меня казнят…
Князь вышел.
Не прошло и четверти часа, в темницу вошли палач, стрельцы, священник в черном облачении и множество монашествующий братии.
Волка посадили, по обычаю того времени, в тележку вместе с палачом и повезли на Торговую площадь. Процессия монахов предшествовала тележке, а за нею следовали стрельцы и толпа разного люда. Площадь была тоже залита народом.
На эшафот взошел Волк твердым шагом и, обратясь к народу, зычным и твердым голосом произнес:
— Новгородцы, дорогие братья! Кладу я свою бесталанную голову на плаху, и с нею падет навсегда вольность Великого Новгорода. Аминь, аминь, глаголю вам: николи во веки веков больше не встанет ни сей град, ни слава его. Молю Господа сил, чтобы он и св. София не зрели более ни плах, ни палачей, и чтоб Матерь Божья возвестила граду сему мир и веселье… чтоб он, как матерь российских городов, напоминал только братьям своим, что он погиб, защищая Русь и вольность своих сынов. Отхожу в небо с любовью, а не с ненавистию к Москве, не ведят бо, что творят; но прийдет время, когда Новгород и его сыны будут славимы и чтимы, как Маккавеи. Прощайте, не поминайте лихом и молитесь за грешного раба Божьего.
Он стал на колени, поцеловал крест у священника, поклонился народу и безропотно положил голову на плаху.
Его не стало, и народ несколько минут стоял, как окаменелый.
Монахи положили труп казненного в гроб и, сопровождаемые народом и предводительствуемые священником с крестом, понесли усопшего с пением на кладбище.
В это время в Софии митрополит Никон весь в слезах пел соборне со всех духовенством:
— Упокой, Господи, раба Божьего Трофима и вечная ему память.
Вскоре суд и над остальными преступниками состоялся, и из них пятеро приговорены были к смертной казни. Жеглов, Гаврилов, Лисица, Молодожников и Шмара. Хованский и митрополит ходатайствовали о помиловании, т. е. о замене этого наказания другим.
Весь Новгород замер в ожидании ответа из Москвы; сам Никон заперся в митрополичьем доме.
Получен, наконец, из Москвы указ: пятерых все же казнить смертию, остальных — кого кнутом, кого плетьми.
Остановил исполнение приговора Никон и вновь ходатайствовал о помиловании, но получил в отношении первых отказ, а в отношении остальных легкое смягчение их участи.
Никон увидел тогда, что его голос в Москве сделался слаб, и казнь такого множества людей до того его огорчила, что он заболел.
В Москве в действительности бояре хотели всю вину взвалить на него.
Когда князь Хованский подступил к городу, мы уже видели, один из главарей, Федька Негодяев, вышел к нему навстречу и, сдавшись, просил отправить его в Москву объяснить все царю.
По прибытии туда, Негодяев добился царского приема и выставил все дело так, что весь мятеж произвели воевода князь Хилков и митрополит Никон.
Негодяев поэтому отправлен к новгородцам с ответом, что воевода Хилков отрешается, на место его назначается князь Буйнов-Ростовский, в отношении же Никона, хотя грамота его оправдывает, на присовокупляет: «Да если бы он что иное учинил и не по делу, то об этом наше государское рассмотрение вперед будет».
Последнее в особенности оскорбило митрополита, тем более, что в письме к нему государь упрекнул его, зачем де он Софийский собор хотел перестроить, между тем как Никон хотел лишь его поправить. Никон отвечал царю жалобою, в которой подробно описал о случившемся и о том, какие меры он употребил, чтобы как можно меньше было жертв мятежа. Между прочим он рассказывает, что 18 марта 1650 года на заутрени в соборе он говорил эксапсалмы, а после того тайно про себя стал читать канон Иисусу Сладкому на первой кафизме, а поселе первой статьи, на другой кафизме, стал он глядеть на Спасов образ. И вот внезапно он увидел венец царский золотой на воздухе над Спасовою головою, и мало-помалу венец этот стал приближаться к нему.
— Я от великого страха, — говорит в письме Никон, — точно обеспамятел, глазами на венец смотрю и свечу перед Спасовым образом, как горит, вижу, а венец пришел и стал на моей голове грешной, я обеими руками его на своей голове осязал, и вдруг венец стал невидим.
Явление это Никон приписал не к добру, т. е. к мятежу новгородскому.
В ответ на это письмо царь сравнил Никона с Гермогеном, признанным тогда собором исповедником и, титулуя его великим государем, просил его и вперед действовать так, как он прежде действовал.
Но по обычаю того времени в Новгороде все же много голов слетело, много бито было кнутом, много сослано, и Никон, чувствуя все же, что влияние его в Москве ослабело, под каким-то предлогом поехал к царю.
Приезд его имел огромное значение: патриарх Иосиф не был любим Москвою, — она обвиняла его не только в новшествах, но что он более занят мирскими делами, чем церковью. Был даже образован особый монастырский приказ, где должны были ведаться все дела монастырей. Кроме того в Москве перестали говорить проповеди и поучать народ, а Ртищева Андреевский монастырь обвинял прямо в еретичестве.
Поэтому с приездом Никона в Москву народ поговаривал, что будто бы государь хочет удалить Иосифа и что на его месте будет Никон.
Слухи эти были неосновательны, но в действительности Никон появлялся всюду и при отсутствии патриарха занимал его место; а проповеди его повсюду, где только ни собирался в монастырях и церквах народ в большой массе, возбудили в Москве сильное религиозное движение.
Особенно много и красноречиво говорил Никон о патриархах: Гермогене, Иове и митрополите Филиппе.
И решено было: в Успенский собор перенести Гермогена из Чудова монастыря, Иова — из Старицы, и мощи Филиппа из Соловок.
Перенесение первых двух совершилось большою торжественностью и возбудило в москвичах такое настроение и единение, что забыты были все споры разных толков; а Никон, виновник этого торжества, стал обожаем народом.
Последнему казалось, что вместе с перенесением останков любимых им исповедников все горести, печали и болезни более никогда не посетят их.
Религиозное чувство приняло высшее выражение и у Никона: он вспомнил обеты свои о том, что он построит монастыри: Крестовый на месте, где его ладья села на мель, Иверский — на том месте, куда нетленным привлекло по реке младенца на иконе Иверской Божьей Матери, и наконец, обет, данный им, когда он был в Соловках, что если Господь даст ему когда-либо возможность, то он перевезет св. останки Филиппа в Москву, и ему казалось, что время к тому наступило.
Он упросил государя разрешить перенесение этих мощей, с тем, что он лично поедет в Соловки; в провожатые же ему царь дал боярина Князя Ивана Никитича Хованского и Василья Отяева.
Монастыри же начали сооружаться.
XXVI Обретение мощей св. Филиппа
В полдень, в один из весенних дней 1651 года, в Соловецком монастыре шла к концу обедня. Паломников в тот день прибыло довольно много, и церковь была полна. Вдруг дали знать, что воеводская ладья идет из Архангельска. Кончив службу, все бросились на берег, к пристани, чтобы узнать в чем дело.
Ладья быстро приближалась, и на ней не видно было много народу, только виднелось несколько стрельцов, воевода и какой-то боярин с ними.
Келарь монастыря и отец Пармен, бывший еще в живых, встретили воеводу.
Воевода и гость его Василий Отяев подошли под благословение келаря, и воевода объявил, что царь Алексей Михайлович послал монастырю за его подвижничество дары и грамоту; что все это везет с собою сам митрополит новгородский Никон с боярином; что царь прислал тоже грамоту митрополиту Филиппу; что Никон остался в Архангельске и ждет, чтобы соловецкая братия прислала к нему своих выборных с приветствием и приглашением в монастырь.
Келарь тотчас побежал к игумену: ударили в набат, и братия собралась в церкви; назначили в Архангельск игумена и двух старцев-монахов, а келарь и отец Пармен остались дома, чтобы приготовить достойную встречу паломнику митрополиту. Выборные уехали тотчас с воеводою и с Отяевым.
На другой день та же ладья вечером возвратилась в монастырь, и игумен показал братии драгоценный наперстный крест, привезенный ему Никоном, старцы же тоже показывали драгоценные подарки.
Братия была в восторге и приготовилась встретить восторженно митрополита. Угощение выбрано царское и в большом обилии, так как игумен объявил, что сотни ладей, как видно, привезут весь город Архангельск.
На другой день вечером сторожа из Унжеской Голгофской горы, переехав на остров Соловки, дали знать, что целый флот ладей идет к монастырю. Тотчас зазвонили в колокола, и монахи, забрав иконы и хоругви, а также положив хлеб-соль на тарелку, заняли пристань.
Впереди на всех парусах шла ладья, убранная коврами: она была разукрашена хоругвями и иконами. На ней ехал митрополит со всем духовенством Архангельска и на ней же была вся свита Никона. На второй ладье были подарки монастырю; на остальных ладьях — стрельцы с боевыми снарядами и с припасами.
Когда митрополит подъехал к пристани, все бывшее духовенство с ним запело «Спаси, Господи, люди Твоя», монахи отвечали «Исполла эти деспота».
Митрополит показался на выступе и стал благословлять двуперстно братию; вся она пала ниц; Никон тогда сошел на берег, ведомый под руки боярами: князем Хованским и Отяевым, и обратился с речью к монахам. Он говорил, что явился простым паломником в те места, где начал свое подвижничество. Вкратце он передал о том, как он ушел из Анжерского скита, что он себя не оправдывает и притом просит у братии прощения и любви; что врагам своим, если они еще в живых, он прощает и привез дары, а друзей, которые еще остались в живых, он просит дать ему братское лобзание.
Многие из монахов тогда встали и подошли к нему. Он всех узнал, называл по имени и целовался, а отца Пармена он долго держал в своих объятиях, благословляя его и прося его благословения, так как тот имел уже более восьмидесяти лет.
После того шествие тронулось к соборной церкви, и здесь, поклонившись мощам св. Зосима и Савватия, Никон молился долго над могилой митрополита Филиппа.
В это время шла вечерня и потом благодарственный молебен за царя и за Никона.
Когда служба окончилась, Никон обратился к братии и объявил, что царь прислал грамоту митрополиту Филиппу и поэтому он, Никон, три дня будет поститься и молиться; затем братия вскроет могилу, откроет гроб усопшего, и боярин князь Хованский прочтет грамоту от имени царя.
Соловецкие монахи сильно были опечалены, что Никон избегает угощения, но приехавшие стрельцы и другие лица, окружавшие Никона, от этого угощения не отказались.
Монахов одно только удивило, зачем столько стрельцов наехало. Но воевода объяснил это тем, что слухи носятся, что будто бы несколько шведских морских разбойников показались у берегов Белого моря, и поэтому он советовал и им быть настороже, когда они уедут.
Три дня Никон пребывал в посте и молитве и за это время только переехал в Анжерский скит с отцом Парменом. На острове он обходил все любимые им места и забрался на Голгофскую гору.
— Здесь, — подумал он, — построить бы церковь, да теперь денег нет в царской казне.
Глядя на необозримое море, глядя на вид Соловецкого монастыря, он вздохнул и подумал: зачем эта страна не там, где Москва, с ее теплотой? Да это был бы рай земной.
Обошел он также скиты, и в одном из них ему сказали, что там содержится присланный патриархом в заточение печатник иеромонах Арсений.
Никон пожелал его видеть, и его впустили в келию.
Едва митрополит вступил в сырое подземелье, как из угла, где валялось на соломе какое-то живое существо, загремели цепи и оттуда раздался голос:
— Благословен приход твой, великий государь и архипастырь всея Руси… Будешь ты превыше всех пастырей наших и пасти будешь стадо Христово с такою славою, которая превзойдет славу всех архиереев…
— В чем твоя вина? — смущенно произнес Никон.
— Был я при печатном деле на Москве, и корректурные листы поставили мне за опечатки в богохуление и еретичество, исказил-де многие слова священного писания, наругался-де над церковью…
— Освободить его тотчас, — произнес Никон в сильном волнении. — Коль прибуду в Москву, я тотчас умолю патриарха простить его и вызвать вновь туда.
С Арсения тотчас сняли кандалы и вывели на воздух. Никон вздохнул, увидев его при свете: это был красивый грек, с черными волосами и глазами, но был он так худ, что лицо казалось состоящим из одной лишь кости, а черные глаза его из углублений лихорадочно сверкали. Когда он почувствовал воздух, ему сделалось дурно: ноги подкосились, и он чуть-чуть не упал.
Никон поддержал его и посадил на близ стоявшую скамью.
— Отныне отпускать ему кормы, как и всей братии, на мой счет, — обратился он к Пармену, благословил Арсения и удалился.
— Господи, — подумал он, — и это называется духовная кара? Одна лишь медленная, томительная казнь.
После того он возвратился в Соловецкую обитель и еще теплее стал молиться.
На четвертый день Никон объявил, что он готов после вскрытия могилы митрополита Филиппа участвовать в братской трапезе, так как она будет заупокойная.
В соборе приготовлен был помост, покрытый парчами, и отслужена обедня; после того братия приступила к вскрытию могилы. Когда показался гроб, несколько монахов опустились туда и он был поднят на холстах вверх всем предстоящим высшим духовенством и перенесен на помост. Тогда, помолившись, Никон попросил братию вскрыть крышку гроба. Едва только это сделали, как Никон и вся братия пали ниц: митрополит Филипп лежал в гробу как только почивший.
Рыдания огласили церковь, и все запели, что кому пришло на память.
С полчаса продолжался этот религиозный восторг. Никон первый пришел в себя и стал соборне служить панихиду, причем называл Филиппа св. угодником, св. исповедником и св. мучеником. Потом, приложившись к св. мощам, объявил братии, что царь прислал угоднику новое митрополичье облачение, которое нужно надеть св. Филиппу по чину митрополичьему, и что потом князь прочтет царскую грамоту.
Братия с благоговением и с молитвами исполнила требование Никона, так как одежда св. угодника вся истлела, но митроличьи ризы были надеты поверх нее.
Когда это было окончено, тогда боярин князь Хованский, поклонившись трижды св. угоднику и став на колени, развернул царскую грамоту и прочитал именем царя: «Молю тебя и желаю пришествия твоего в Москву, чтобы разрешить согрешение прадеда нашего, царя Иоанна, совершенное против тебя нерассудно, завистию и несдержанием ярости. Хотя я и неповинен в досаждении твоем, однако гроб прадеда постоянно убеждает меня и в жалость приводит, ибо вследствие того изгнания и до сего времени царствующий град лишается твоей святительской паствы. Потому преклоняю сан свой царский за прадеда моего, против тебя согрешившего, да оставиши ему согрешение его своим к нам пришествием, да упразднится поношение, которое лежит на нем за твое изгнание, пусть все уверятся, что ты помирился с ним: он раскаялся тогда в своем грехе и за это покаяние и по нашему приношению приди к нам, св. владыка. Оправдался евангельский глагол, за который ты пострадал: «всяко царство раздельшееся на ся, не станет», и нет более теперь у нас прекословящего твоим глаголам, благодать Божия теперь в твоей пастве изобилует, нет уже более в твоей пастве никакого разделения: все единомысленно молим тебя, даруй себя желающим тебя, приди с миром восвояси, и свои тебя с миром примут».
Вся соловецкая братия пришла в смущение; она поняла тогда, для чего приехал Никон, но было поздно и рассуждать, и волноваться, и не соглашаться — стрельцы наполняли церковь и заняли все места до самой пристани.
Едва окончил чтение боярин, как Никон и все приехавшее с ним духовенство из Архангельска подняло гроб и с пением «Святый Боже» понесли св. мощи к пристани.
Некоторые монахи хотели было заговорить, но князь Хованский и Отяев оттиснули их и, окружив гроб стрельцами, двинулись к ладьям.
У самой пристани стояло судно, на котором приехал Никон: туда поставлены св. мощи, и когда вся свита Никона взошла в ладью, она тотчас отчалила и подняла паруса. После того стрельцы взошли на другие суда и весь флот тронулся за св. Филиппом.
Долго переносились из Архангельска до Москвы останки великого святителя, и Никон измучил своим аскетизмом и князя Хованского, и Отяева, так что они с дороги жаловались на это даже царю, но в Москве совершилось событие, которое окончательно возвысило Никона.
XXVII Богом избранный
Патриарх Иосиф встал со сна в великий четверток 1652 года в сильном нерасположении духа, всю ночь он не спал, и Бог весть что приходило в голову.
Вот почему, как только он проснулся, он тотчас послал служку за любимцем своим новинским игуменом.
Игумен, живший вместе с патриархом в Спасском монастыре, тотчас явился.
— Сын мой, — обратился к нем патриарх, — сегодня я должен быть на омовении ног, но ночь такую я провел, так много грешил, что недостоин совершить этот священный обряд.
Игумен стал уговаривать его ехать в Успенский собор, но патриарх печально возразил:
— Я теперь никому не нужный, — винят меня и в еретичестве, и Бог знает в чем, уж лучше отказаться самому от своего сана, хуже будет, коль велят уйти. Собрал я немного денег — станет на мой век, скажусь больным, пущай казанский митрополит, он теперь здесь, сделается мои заместителем. Поезжай к нему, проси его быть сегодня вместо меня на омовении ног.
Игумен Новинский вздумал было снова отговаривать патриарха, но тот повелительно приказал ему выйти.
Вместо того чтобы ехать к казанскому митрополиту, игумен отправился к старому князю Трубецкому, к князю Михайле Одоевскому, к Федору Ртищеву и к Василию Бутурлину и просил приехать к патриарху и успокоить его.
Все они тотчас съехались к нему.
Патриарха они застали усердно молящегося.
Увидев любимых своих бояр, он благословил их и спросил, что их привело к нему так рано.
Старшие бояре, Трубецкой, Одоевский и Бутурлин, объявили, что они слышали о желании его отказаться от патриаршества, но это-де не в обычае у нас, притом нет поводов к этому отказу, потому что царь его, патриарха, любит, а если наушничают на него, то на это нечего обращать внимания.
Выслушав друзей своих, патриарх печально возразил:
— Не сержусь я, коль на меня клевещут, но больно мне, когда на этого (он указал на Ртищева) они нападают. Творит он дело Божье — по целым ночам работает с чернецами в Андреевском монастыре, не доспит, не доест, чтобы сотворить святое дело, а его обзывают еще за это еретиком.
Ртищев поклонился тогда в ноги патриарху и сказал:
— Работа моя не для сегодняшнего или завтрашнего дня, а для будущности. Никакого еретичества не творим мы, переводим лишь с латинского и греческого св. отцов, читаем на латинском и греческом книги мудрецов, учимся, чтобы других учить. Ходим мы и почти весь народ в страшной тьме, страдаем суеверием и предрассудками; не хотим знать, чему учат мудрецы. Нужно поэтому нам просветить свой разум, чтобы научить чему-нибудь народ. Теперь имеются хорошие книги только на греческом и латинском языках, а потому, научив кого-нибудь этим языкам, открываешь им самую премудрость.
— Слышите, — обратился патриарх к боярам, — что говорит сей юный мудрец, а меня и боярина Морозова чуть ли не каменьями хотят закидать за эту премудрость.
Патриарх при последних словах почувствовал себя нехорошо и присел.
* * *
В это время в дворцовой церкви шла обедня, и когда запели «Вечери твоея тайные», прибежал келарь Спасского монастыря и, обратясь к царю, произнес взволнованно и торжественно: — Патриарха не стало!..
В этот миг царь-колокол ударил три раза; все предстоявшие в церкви пришли в ужас и от неожиданности, и от смерти, постигшей высшего иерарха в такие великие дни.
«Как овцы, — писал потом Никону царь, — без пастуха не ведают, где деться, так и мы, грешные, не ведаем, где главы преклонить, потому что прежнего отца и пастыря лишились, а нового нет».
После обедни царь поехал к покойнику; тот лежал уже на столе, как живой и, помолившись над ним и поцеловав его руку, уехал к обряду омовения ног, который совершал уж митрополит Казанский.
В пятницу патриарх в гробу перенесен в Ризположение.
Вечером царь отправился туда один и, войдя к покойнику, удивился: все игумены и дети боярские, которые должны были при нем находиться, разошлись и один только священник выкрикивал над ним псалтирь.
Царь созвал детей боярских и сделал им выговор, а впоследствии митрополита Казанского он просил сделать выговор игуменам.
Когда он спросил священника, почему он кричит так над патриархом, тот отвечал:
— Прости, государь, страх нашел великий, — в утробе у него, святителя, безмерно шумело, так меня и страх взял; вдруг взнесло живот у него, государь, и лицо в ту же пору стало пухнуть: меня и страх взял, думал, что ожил, для того и двери отворил — хотел бежать.
При этом рассказе суеверный Алексей Михайлович струсил и ноги у него подкосились, так что он едва устоял; на беду в утробе покойного вновь сильно зашумело.
— От земли создан, — подумал царь, — и в землю идет, чего бояться?
И стал целовать руку усопшего, а в этот миг как выстрелит что-то из его уст…
Алексей Михайлович окончательно растерялся и обратился в бегство[22].
В субботу, оплакиваемый и царем, и ближними боярами, патриарх Иосиф предан земле в Успенском соборе с большой торжественностью.
Но царь, Москва и двор были сильно опечалены, — им не был предстоявший светлый праздник праздником без патриарха.
Озабоченный этим, царь после похорон патриарха думал сильно о том, кого избрать в патриархи. Сердце его было за митрополита Никона, которого он считал и святым, и мудрейшим святителем, но по суеверию он хотел еще погадать, то есть узнать по священным книгам, чье имя Богу угодно. Он взял святцы и первое имя ему попалось: Феогност.
— Да у нас нет такого святителя, — подумал царь. — Феогност, — твердил он вслух. В это время вошел постельничий его Ртищев и, услыша слово Феогност, произнес:
— Великий государь, Феогност по-гречески: «Богом избранный».
Царь сказал ему тогда, что он гадал, кого избрать в патриархи и вышло: Феогност.
— Значит, — заметил Ртищев, — кого ты, великий государь, изберешь, тот будет и избранником Божьим.
Но этот ответ не удовлетворил царя, он поехал в Алексеевский монастырь к схимнице Наталье; с детства он любил с нею советоваться и называл ее «мамой Натей».
Схимница, со времени выезда Никона в Новгород, никуда не выходила и не покидала своей кельи; принимала она только царскую семьи и служку.
Узнав о смерти и похоронах патриарха, она в тот день пребывала во слезах и молитве, и когда служка объявила о приезде царя, она как будто чего-то обрадовалась.
Царь, войдя в ее келью и перекрестясь несколько раз, подошел к ней, обнял ее и поцеловал; схимница благословила его испросила сесть.
— Я к тебе за советом, мама Натя, — сказал он. — Патриарх умер…
— Слышала и, грешная, молилась за упокой души святителя, плакала, видишь, еще слезы не высохли.
— Не кручинься, мама Натя, Бог даст нам нового пастыря, Божьего избранника Феогноста.
— Феогноста! — испугалась схимница.
— Да, такого святителя у нас нетути, но Феогност значит по-гречески Богом избранный.
— Кого же ты, государь, бояре и собор думаете избрать?
— Ты же у нас пророчица, мама Натя, Дух Святой тебе подскажет.
— Дай прежде помолюсь Богу; если он сподобит меня, я, быть может, и нареку его имя, а если не нареку, значит избранный не от Бога.
Она распростерлась у иконы, несколько минут била поклоны и, поднявшись, вдохновенно воскликнула:
— Идет из дальней северной стороны подвижник великий; идет он среди лесов, болот и степей; не имеет он отдыха ни днем, ни ночью; окружен он великой стражей, а с ним великий святитель почиет в гробу, и несет подвижник на плечах своих этого святителя, и имя почившего «св. угодник и чудотворец митрополит Филипп», и вижу я, вот, вот, св.
Филипп из гроба восстает в светлом сиянии и благословляет несущего его великого святителя.
— И как имя этого подвижника?
— Дай вслушаюсь, св. Филипп что-то молвил, произнес он имя… имя… Никон!
С последними словами схимница упала без сознания.
Царь позвал служку, и когда схимница приведена была в чувство, он простился с нею и вышел.
— Итак, Феогност — Никон, — подумал он, уходя.
Затворив за ним дверь своей кельи, схимница бросилась на колени и, молясь о Нике и о патриархе Никоне, благодарила Господа сил, что вновь он будет безвыездно находиться в Москве.
— Его видеть, его слышать для меня бесконечное блаженство, — лепетала она. — И если это грех, то прости мне, Господь Бог милосердный. И ты, долготерпеливый, когда явилась тебе чаша, молил же Бога Отца, да минет она тебя.
XXVIII Великий государь патриарх Никон
Летний июльский день, солнце знойно, но вся Москва в движеньи: она убралась, как на пир, как на праздник великий. Дома выбелены или окрашены вновь, улицы подметены, и народ огромной толпой валил к Успенскому собору; туда же со всех московских сорок сороков спешат с иконами и хоругвями.
Но вот сам юный царь со всеми боярами появился на красном крыльце и после народного приветствия отправился к Успенскому собору.
Помолившись там, царь с духовенством, с боярами, стрельцами, служилым людом, народом и духовенством, при пении «Спаси Господи люди Твоя», двинулись из Москвы.
Рядом с царем несут в кресле митрополита Ростовского Варлаама.
В версте от города верховой посланец дал знать, что св. Филипп недалеко уже; несколько минут спустя показались передовые стрельцы, после того заблистали в отдалении хоругви, иконы и народ.
По дороге тысячи людей — светских и духовных — присоединились к священному шествию и образовали страшную массу.
Обе толпы остановились друг против друга, и тогда москвичи увидели гроб св. митрополита, несомый епископами и архимандритами, съехавшимися еще по дороге, чтобы участвовать в торжественном внесении мощей в Москву.
Впереди шествия ярко выдвигался митрополит Никон, с крестом в руках.
Москвичи в один миг пали ниц, а за ним и вся толпа, сопровождавшая Никона.
Никон благословил царя и народ и, подняв первого, облобызал его; то же самое он сделал с царской семьей и с высшими святителями.
Подошел он тоже к митрополиту Варлааму и хотел его облобызать, но тот от радости, что сподобился встретить св. мощи Филиппа, отдал Богу душу.
Все были поражены этим событием, но Никон нашелся: он велел усопшего присоединить к процессии.
После того все двинулись к Москве; она встретила их трезвоном во все свои колокола, а народ и все духовенство пели «Исполла эти деспота» и «Достойно».
Когда св. мощи были внесены в Успенский собор, там готов уж был помост, покрытый драгоценной парчой. Духовенство поставило туда мощи. После молитвы, произнесенной Никоном, крышка гроба снята, и св. Филипп явился лежащий в гробу в митрополичьей митре, с лицом спокойным, как будто он только что почил.
Трудно описать чувства, овладевшие народом; это были и рыдания, и радостные, и неистовые восклицания и вместе с тем благоговейное созерцание св. угодника и великомученика.
Первый приложился к мощам царь, потом Никон с остальным духовенством и народом.
Начали служить благодарственный молебен, и после него царь взял Никона и других сановников церкви во дворец: там была приготовлена трапеза.
На обеде были Милославский и Морозов; оба они выказали Никону свое уважение, и он за столом занимал патриаршее место.
За обедом Никон рассказал, какую хитрость нужно было употребить, чтобы обрести св. мощи, потому что если бы в Соловках узнали о цели его приезда, то монахи мощей не выдали бы, а оставить в их руках св. Филиппа было просто грех.
После того царь расспрашивал вообще о путевых его впечатлениях, и тот сказал, что всюду народ добрый, богобоязненный, но жалуются на поборы: дьяки и приказные жестоко его обирают.
— Мы ждали только тебя, великий государь и пресветлый богомолец наш, чтобы заняться устроением нашего царства, и ты, как добрый пастырь, научи и настави нас. Церковь наша осиротела без отца, и мы молим тебя, не откажи сделаться нашим отцом, — сказал государь.
Царь, духовенство и бояре поднялись с мест, низко кланяясь Никону.
Никон тогда поднялся, поклонился царю в ноги, а боярам и духовенству низко до пояса и произнес взволнованным голосом:
— Я крестьянский сын из Вельманова… Чернец и простой богомолец ваш и не могу я принять поэтому ангельского лика патриарха и сделаться отцом вашим и всего народа… Изберите достойнее меня… Имеете вы святителей и старее и просвещеннее меня… Имеете вы святителей, которые более подвизались, чем я, в премудрости. Отпустите меня в Спасов монастырь, там бы я желал сделаться схимником, и все, чего только я желаю, это служить первую обедню у мощей святого Филиппа.
— Ты устал с дороги, великий государь, — возразил царь, — и тебе нужен покой. Я провожу тебя в Спасов монастырь.
И с этими словами царь велел приготовить колымагу и после трапезы отвез с огромной свитой митрополита в монастырь; прощаясь там, он облобызался с ним.
На другой день к обедне приехал царь со всеми боярами, все духовенство собралось служить соборне с Никоном.
Митрополита встретило духовенство с колокольным звоном и с иконами.
Никон совершил службу с большою торжественностью, и когда был прочитан акафист митрополиту Филиппу, он обратился к царю и к народу со словом. Он говорил об унижении, которому подвергся митрополит всея Руси св. Филипп при Иване Грозном, и что Годунов, Василий Шуйский хотя и чтили патриархов, но истинное значение получил только блаженной памяти патриарх Филарет. В Бозе почившие же патриархи Иоасаф и Иосиф уронили значение святителей, и вот он, митрополит Никон, и митрополит Макарий псковский, оба обесчещены в своих паствах, и все от того, что нет благочестия, нет богобоязни в народе и нет ни премудрости, ни добродетели в священнослужителях и в монастырях; что первые грубы и невежественны, а последние живут не по уставу, а думают лишь, как бы угодить мамоне и своим страстям. Судьи и правители областей угнетают народ и больше о себе думают, чем об отечестве и царе; самая паства церковная разделяется заблуждениями и еретичеством, поэтому нужна твердая воля, которая привела бы все в порядок без всякого прекословия и помешательства со стороны светской власти, и что только такой святитель, если он найдется, может устроить церковь Божию, то есть народ. Он же, Никон, ничтожный раб Божий и царя, не чувствует в себе столько сил, чтобы сделаться этим святителем, и если бы он решился на это, то лишь под условием, чтобы без всякого с чьей-либо стороны вмешательства ему предоставлено было устроение церкви по тому наитию, какое он будет иметь от Св. Духа при посвящении его в патриархи.
На эти слова царь отвечал:
— Я и мы, все предстоящие здесь, всегда почитали тебя как архипастыря и отца.
Царь упал на колени и начал умолять Никона не отказываться от патриаршества.
Тогда Никон обратился к боярам, духовенству и народу и торжественно спросил:
— Будете ли почитать меня как архипастыря и отца и дадите ли мне устроить церковь? Клянитесь.
Все подняли руки и поклялись.
Никон, растроганный такою любовью к нему, молвил тогда:
— Видно на го воля Божия, не смею ослушаться божественного промысла. Да будет так: принимаю на себя тяжелое бремя патриаршего святительства.
Царь обнял и поцеловал его, и Никон перецеловался со всеми в церкви.
Народ, толпившийся на площади церковной, приветствовал это согласие Никона восторженно.
25 июля 47-летний Никон был посвящен в патриархи и наречен великим государем. Но в это время, когда, упоенный счастьем и величием, Никон принимал в патриаршей палате поздравления от высших святителей и сановников царства, в это время в Алексеевском монастыря инокиня Наталья зажгла в своей келье три восковые свечи у иконы, что она делала в высокоторжественные дни, и отправилась в общую трапезу, где она разрешила себе елей.
В ту ночь ей снился страшный сон: к ней пришел Никон, бледный, старый, худой, в простой монашеской одежде.
Схимница вскрикнула и проснулась — в келье никого не было.
Она упала на колени и, молясь, горько плакала.
XXIX Первая мысль об исправлении церковных книг
В восемь часов вечера, вскоре после вступления на патриарший престол Никона, царь Алексей Михайлович сидел со своею семьею за ужином.
За столом находился и тесть его Илья Милославский.
Разговор шел о политике: жаловался Милославский, что Польша не хочет наказать виновных в изменении в грамотах царского титула и сочинителей пасквилей на Россию.
Царь зевнул и велел ему обратиться к патриарху.
Переменил Милославский разговор; он начал жаловаться на то, что он, Милославский, чтобы не вызывать местничества, вместо боярских детей начал определять детей дьяков и стряпчих, но, к ужасу его, и те затеяли тоже местничество.
Царь еще пуще зевнул и отправил его для совета к Никону.
Между тем ужин кончился, царь помолился Богу, допустил к руке всю семью и отправился в свою опочивальню.
Здесь ожидал его постельничий Федор Михайлович Ртищев.
Он раздел царя, и когда тот стал на колени у ризницы и начал молиться, Ртищев тихо вышел и удалился из дворца.
Шаги свои он направил к патриаршим хоромам.
Стража и служители патриарха пропустили его, и он отправился в рабочую комнату Никона.
В подряснике, заваленный у огромного стола кипами бумаг и книг, Никон сидел и писал, когда появился Ртищев.
— Рад тебя видеть, Федор Михайлович, — с веселым лицом заговорил к нему Никон.
Ртищев остановился в почтительном отдалении.
— Иди поближе, — продолжал он, — садись вот сюда, к столу, поговорим… отведу немного душу.
Ртищев подошел тогда под его благословение и сел на стул, которые имели тогда вид табуреток.
— Как у тебя в Андреевском монастыре, Федор Михайлович, идут переводы?
— С Божьей помощью, хорошо.
— А я, видишь, сколько получил богослужебных книг, не апокрифических, а настоящих, канонических… Необходимо взяться за исправление наших… Согрешил царь Иван Грозный во многом, но грех великий сотворил он своим Стоглавом… Василий Шуйский и отпечатай многие книги с поправками Стоглава. Троицкая лавра взялась за исправление требника, но этим дело кончилось, и блаженной памяти мой предместник, патриарх Иосиф, назначил исправителями иереев: Степана Вонифатьева, Ивана Неронова, Аввакума, Лазаря, Никиту, Логгина, Данилу и дьякона Федора и ни одного из монашествующих. Попы-то и внесли сугубое аллилуя и двуперстное знамение, чтобы угодить купечеству… Теперь приходится все это поисправлять.
— Думаю я, святейший патриарх, хорошо ли будет теперь это сделать? При патриархе Иосифе, за год до его смерти, я завел здесь певчих из Малороссии и стал приучать из моего Андреевского монастыря молодых попов говорить проповеди, а патриарх окружной грамотою дал знать, чтобы в церковном пении было единогласие, — так сделалась смута, и многие попы в тиунской избе кричали: «А нам хоть умереть, а к выбору о единогласии рук не прикладывать». С тем же гавриловским попом заспорил Никольский поп Прокофий и сказал: «Заводите вы, ханжи, ересь новую, единогласное пение, да людей в церкви учите, а мы прежде людей в церкви не учивали, учили их втайне; беса вы имате в себе, все ханжи, и протопоп благовещенский такой же ханжа». Так они честили духовника царского Степана Вонифатьева.
— Они нас называют, — улыбнулся Никон, — и ханжами, и еретиками. Поделом царскому духовнику, зачем он дал им поблажку и ввел двуперстное знаменье и сугубое аллилуя… Середины не может быть: коли признавать, то нужно признать все или ничего.
— Да, — заметил Ртищев, — но святейший патриарх не знает, сколько выстрадал знаменитый защитник сергиевской лавры архимандрит Дионисий за вычеркнутые им слова «и огнем» в молитве водоосвещения. Отец мой сказывал, что митрополит Иона[23] вызвал архимандрита в Москву, четыре дня приводили его на патриарший двор к допросу с бесчестием и позором, т. е. в оковах, и его били, плевали на него за то, что он не хотел выкупиться.
— Какой же ответ был Дионисия? — задумчиво произнес Никон.
— Денег у меня нет, да и дать не за что: плохо чернецу, когда его расстричь велят, а достричь — так ему венец и радость. Сибирью и Соловками грозите мне, но я этому и рад — это мне и жизнь.
— Так говорят все те, — восхитился патриарх, — кто верит в правду и святость своего дела. Что же было дальше?..
— За Дионисием посылали нарочно в праздничные и торговые дни, когда было много народа, приводили его пешком или привозили на ключах без седла, в цепях, в рубище, на позор толпе, и кидали на него грязью и песком.
— Слышал, слышал об этих безобразиях, — вознегодовал Никон. — Распустили враги его слухи, что явились такие еретики, которые огонь хотят в мире вывести, — вот и взволновались ремесленники: как же мы без огня-то?., и стали выходить с каменьями и дрекольями на Дионисия.
— Вот этот-то и самое страшное, — заметил Ртищев… — и враги наши и ваши распустят о нас такие слухи.
— Да, — задумался патриарх, — мы должны исправление книг сделать собором.
В это время вошел Епифаний Славенецкий. Он был красив и представителен, говорил красноречиво, с сознанием своего достоинства и знаний.
По обычаю того времени, он патриарху поклонился трижды в ноги прежде, нежели подошел к его благословению; патриарх просил его сесть и обратился к нему:
— Федор Михайлович напугал меня, — сказал он. — Рассказывал про страдания архимандрита Дионисия… И это за два слова: «и огнем». А вы, отец Епифаний, домогались исправления всех богослужебных книг. Многие я просмотрел сам и, соглашаясь с вами и отцом Арсением, я готов на необходимые изменения, но боюсь раскола… народ и духовенство так невежественны.
— Святейший патриарх, — произнес торжественным тоном Епифаний, — дело исправления книг настоятельно, его отложить нельзя. Малороссия просится давно под руку (в подданство) русского царя, и если книги не будут исправлены и будут держаться заблуждений и ересей, то митрополит киевский останется под паствою патриарха константинопольского, а при этой религиозной розни братья одною и того же народа могут стать в такие же отношения, в каких стоят православные в Малороссии к униатам и католикам; поэтому и слияния этих двух народов никогда не будет. Если же, ты патриарх, желаешь знать, как бедствует теперь народ малороссийский, то спроси Матвеева, он в посольском приказе получил гонцов из Киева и от царского посланца Унковского.
Едва это произнес Епифаний, как вошел Матвеев со связкою бумаг и тюков.
Поклонившись в ноги патриарху, Матвеев сказал:
— Светлейший патриарх, я от боярина Ильи Даниловича Милославского, по царскому приказу… Два года тому назад были посланы в Варшаву боярин Гаврила Пушкин, окольничий Степан Пушкин и дьяк Гаврила Леонтьев с жалобою на отпечатанные в Польше книги, в которых поносилось Московское царство и блаженной памяти царь Михаил Федорович, и патриарх Филарет… Тогда король Ян-Казимир велел вырвать из книг бесчествовавшие нас листы и сжечь их на площади, а самые книги велено изъять из обращения. Теперь доносят, что не только в царстве Польском, в Литве и Белоруссии ходят эти книги, но их много привезено к нам. Король Ян-Казимир явно ищет с нами разрыва.
— А что гонцы от украинских воевод и от Унковского бают? — прервал его Никон.
— Доносят, в Малороссии-де всяких чинов люди говорят, что они от войны с ляхами и разорения погибают, кровь льется беспрестанно; за войной хлеба пахать и сена косить им стало некогда; помирают они голодною смертью и молят Бога, чтоб великий государь был над ними государем, а ляхам веры нельзя дать, они-де, казаки, знают заподлинно, что ляхи против московского царя войну начнут.
— А из Киева что пишут? — спросил задумчиво Никон.
— Литовский гетман Радзивил занял его, — продолжал Матвеев. — Соборную церковь Богородицы, каменную, на Пост де, ляхи разграбили всю, образа пожгли, церковь вся выгорела, одни стены остались, а в церкви лошадей своих жиды и ляхи оставили; деревянный церквей сгорело пять, а которых не жгли, то все разорили, образа дорогие окладные себе взяли, а иные поисщепали; колокола у всех церквей взяли к в струги поклали; но из этих стругов шесть казаки отгромили. В монастыре Печерском казну также всю взяли и паникадило, посланное нами туда у св. Софии взяли тоже всю казну, ризу, сосуды, всю утварь, образ св. Софии; все монастыри разорены…
— Господи, помилуй нас грешных, — воскликнул невольно Никон.
— Унковский, — продолжал Матвеев, — доносит, что Виговский, писарь Богдана Хмельницкого, говорил ему, что если великий государь наш не возьмет его под свою высокую руку, то Малая Русь отдастся под руку турского царя. Казаки не хотят быть холопами ляхов и бегут к нам тысячами.
— Завтра собрать боярскую думу, — возразил на это Никон, — и ты, Артамон Сергеевич, расскажешь это боярам и царю.
Матвеев вышел.
— Вы слышали, — воскликнул после его ухода Епифаний Славенецкий, — светлейший патриарх, как бедствует малороссийский народ, а Москва не дает ему помощи… Уж сколько раз гетман Богдан простирал сюда руки, ища защиты своему народу, монастырям и церквам Божьим, но вопли эти тщетны. И чего боятся бояре?.. Теперь время слить все разрозненные части Руси… Не только Малая, но и Белая Русь, и Литва, и галичане — все стонет под игом ляхов, и русский царь одним ударом уничтожит вражью силу, соединит под одним скипетром и под одним патриаршеством всех членов одной и той же православной русской семьи… Если один Богдан Хмельницкий, без денег, оружия и пороха, мог приводить в трепет Варшаву, то что будет, если соединится с ним русский царь?
— Святая правда, — сказал Никон. — Да, в прошлое царствование мы потеряли через войну с Польшей Смоленск, и мы так напуганы, что боимся новой войны. Но возможно ли, — продолжал он после некоторого молчания, — подчинить московскому патриарху и митрополии киевскую и литовскую?
— Можно и должно, светлейший патриарх; а для этого необходимо только исправление ваших книг богослужебных, иначе слияние народов Великой, Малой, Белой Руси, Литвы и Галичины будет непрочно, непрочен союз, не связанный узами одной веры. Говорю святую истину пред вами, святейший патриарх: если вы не исправите книг, не присоединятся к вам другие русские митрополии, и будет русская церковь всегда в кабале у константинопольского патриарха и турского султана.
— Об этом нужно подумать и поговорить, — заметил Никон. — Что ты сказал, почти теперь оправдывается; из Белой Руси и Литвы множество дьяконов православных ездят ко мне в Москву, чтобы я их рукополагал в иереи. Ты прав, нужно соединить всю русскую православную церковь воедино, и тогда будет един пастырь, едино стадо.
— Аминь! — произнесли торжественно Ртищев и Епифаний и удалились.
Когда они вышли, Никон стал прохаживаться по своей рабочей горнице и потом, вдруг остановившись пред иконой Спасителя, висевшей в углу, произнес набожно:
— Исправление книг нужно для прославления Твоего же имени, Сладкий Иисус, Сын Божий, и если бы мне пришлось, подобно Дионисию, пострадать за истину, так я приму это как милость Божию. Русскую церковь нужно соединить воедино, и как Иерусалим соединяет всех христиан всех толков, так да сделается Русь новым Иерусалимом для воссоединения всего русского народа под одною державою и единым патриархом.
В этот миг вошел монах и остановился у двери.
Никон оглянулся: это был греческий монах Арсений.
— Отец Арсений, — сказал Никон, — я назначил тебя старшиною печатного дела, а исполнил ли ты мой приказ об иконах?
— Исполнил, святейший патриарх; латинские печатные иконы отбираются; тоже всех трехруких Богородиц, страшный суд разбойника и другие еретичные.
— Что же народ?
— Смущается, говорит, иконоборство… ханжество.
— Непостижимо… Продолжай свое дело… ответ мы дадим Господу Богу нашему, и он не осудит нас.
И с этими словами патриарх удалился.
XXX Схимница
У Благовещенской церкви в Москве стоял красивый дом с большим садом; здесь жил протопоп и ее настоятель, отец Степан Вонифатьев, царский духовник.
Дом был как полная чаша; в нем громоздились подарки царя, царской семьи, бояр и московских гостей; поэтому в хоромах виднелись не только дорогие образа, но и драгоценные сосуды и утварь.
Был воскресный день. Обедня в Благовещенской церкви только что отошла, и отец Степан возвращался домой и, подходя к своему двору, увидел, что к нему направляется колымага патриарха с обыкновенной патриаршей свитой: скороходов, дворян, боярских детей, окольничих и бояр верховых и пеших.
Отец Степан поспешно вошел в свой дом и, оставив в сенях посох, вышел на порог сеней, чтобы встретить Никона.
По обычаю того времени, он трижды пал на колени, но Никон поднял его и поцеловался с ним.
Еще будучи игуменом Спасопреображенского монастыря, Никон часто у него бывал и проводил в его семействе по целым часам, но с того времени, как его избрали в патриархи, он теперь в первый лишь раз заехал к отцу Степану.
Патриарха хозяин ввел в хоромы, а вся свита его осталась в сенях.
Когда хозяин посадил Никона в углу, под образами, гость поблагодарил царского духовника за то, что он держал сторону его при избрании его в патриархи, и выразил ему свою бесконечную признательность, не знает только, чем и как отблагодарить его.
Отец Степан поклонился тогда в ноги патриарху и сказал:
— Я и так взыскан царскою милостью, а потому, святейший патриарх и великий государь наш, ты меня осчастливишь, когда наградишь наперсными крестами Неронова, Аввакума, Лазаря, Никиту, Логгина и Данила; дьякона же Федора рукоположишь в иереи. Они, пояснил отец Степан, восстановили древлезаветное двуперстное знаменье и сугубое аллилуйя.
Никон вспыхнул и сказал, что от награждения честных деятелей и тружеников никогда не отказывался и готов наградить тех лиц, за которых хлопочет отец Степан; но упомянуть, за что именно он наградил их, он не может, потому что, по его мнению, двуперстное знамение и сугубое аллилуйя — заблуждение.
Отец Степан, в свою очередь, вспыхнул:
— Ведь ты, святейший патриарх, сам благословляешь народ двуперстно, — воскликнул он.
— Это святая правда, но если и я заблуждаюсь, и собор это скажет, то я начну и креститься, и благословлять троеперстно.
— Не я один, — обиделся отец Степан, — ввел это, а великие святители наши Филипп, Гермоген и Иов, они крестились двуперстно и спасались же. А при составлении Стоглава участвовали святые Гурий и Варсонофий и прокляли троеперстие.
— Но ты, отец Степан, забыл, что я ученик и последователь св. Никодима Кожеезерского, который в новшествах находит залог истинного благочестия, и кабы он жил теперь, и он бы принял троеперстие.
— Да, — усомнился царский духовник, — коль оно истинное.
Тогда Никон стал красноречиво доказывать царскому духовнику, что нашей церкви необходимо держаться строго того, что признается греческою церковью: иначе не будет церковного единения с церквами Малой, Белой Руси и Литвы, а в таком случае не будет и политического единства.
На это духовник резко ответил:
— Царство Иисуса Христа несть от мира сего, нечего поэтому приплетать к вере земные дела.
Никон с этим не соглашался и доказывал, что церковь Христова не может отделяться от мира, что она должна соединять, а не разделять народы, и тем паче один и тот же народ; что поправки, сделанные духовником, ошибочны, и не только будут отвергнуты восточными патриархами, но даже и у нас, если будет созван собор, а потому он как патриарх всея Руси, не может допустить, чтобы из-за такого разногласия было пожертвовано слиянием всего русского народа. Что же касается исправления вообще церковных книг, то он решился выписать от всех восточных патриархов рукописи и, сличив их с нашими переводами, собрать собор и указать, какие поправки необходимы. Сделает он это для того, чтобы снова возвратиться в лоно восточной церкви.
Сказав это, Никон поднялся с места и, благословляя отца Степана, просил его содействовать ему. так как он содействовал ему к устроению единогласия в церковном служении. Отец Степан ничего не ответил, но только почтительно проводил патриарха до колымаги.
От царского духовника Никон поехал прямо во дворец царя к обеду.
Государь принял его ласково и с почетом. Он встретил его с боярами и окольничими на красном крыльце; Милославский и Морозов взяли его под руки и повели в трапезную.
За трапезой, по этикету, разговора не было, а были только общие места, пожелания и здравицы; после обеда почти все разъехались или разошлись, лишь патриарх с царем удалились в его опочивальню.
Царь усадил Никона на топчан и сел сам на стул против него.
Никон передал ему о тех неправильностях, какие встречаются в богослужебных книгах, и о тех исправлениях, какие в них следует сделать.
Выслушав его внимательно, царь сказал:
— Великий — наш государь святейший патриарх, ты наш Богом избранный и наш отец, как ты и святители решите, на то и я буду согласен. Собери в начале будущего года синклит и тогда изобличи все неправды. Теперь же ты бы обратился к маме Нате, она даст тебе ответ по внушению Духа Святого.
О схимнице Никон давно слышал и от бояр, и от царя, но не виделся с нею до сих пор: она никого не принимала и попытку в этом смысле предшественника его, патриарха Иосифа, она отклоняла не раз.
Никон высказал свои опасения царю.
Алексей Михайлович задумался и сказал:
— Пойди от моего имени, и она тебя примет, святейший отец… Притом…
Он хотел было сказать, что она изрекла ему по вдохновению и его имя, но воздержался и, помедлив присовокупил:
— Ты ей скажи, что Бог ее молитвами взыскал меня, и жена моя в надежде… Пущай она молится за нас грешных.
Патриарх благословил царя, простился с ним и уехал.
Народ по улицам встречал Никона восторженно и падал ниц, когда он благословлял его, и с таким торжеством ехал Никон до Алексеевского монастыря, а сам думал:
— Когда я прощался здесь с женой и ушел в Соловки, полагал ли я, что в каких-нибудь два десятка лет я возвращусь сюда, к этому монастырю, патриархом всея Руси… и жива ли моя жена?.. И где она?.. Никогда никто не слышал, чтобы поповская жена Парасковия поступила даже сюда.
В это время показалось мрачное здание обители, и Никону сильно взгрустнулось.
Между тем женский монастырь не зная об ожидавшем его посещении, но когда ему дали знать, что поезд патриарший приближается, все монашки с игуменьею высыпали навстречу патриарху, а на колокольне затрезвонили во все колокола.
Когда патриарх появился на монастырском дворе, монашки пали ниц, и Никон сказал им краткое слово любви и утешения. После того он обратился к игуменье с повелением царя допустить его видеть схимницу Наталью.
Игуменья тотчас послала к ней, а сама при пении монахинь повела патриарха в церковь, чтобы показать ему церковные святости и богатства.
Поклонившись мощам и осмотрев церковь, Никон спросил, какой ответ схимницы.
— Она просит святейшего патриарха пожаловать, — поклонилась ему в ноги служка.
Сердце мужественного Никона, которое усиленно не стучало ни в московской смуте, ни в новгородской гиле, вдруг затрепетало и замерло.
Игуменья повела его в монастырь и, остановившись пред дверью кельи схимницы, указала ему, куда он должен войти, и, поклонившись удалилась.
Без обычного монастырского стука патриарх отворил дверь.
Белый его клобук с огромным алмазным крестом и две панагии, осыпанные драгоценными каменьями на груди, придавали ему, при высоком его росте и его мужественном лице, особый величественный вид.
Никон вступил в келью истинным патриархом всея Руси, и взорам его представилась небольшая комната в одно окно, простой образ с лампадкой, ложе без подушки и покрывала, небольшой столик у окна и деревянные два стула.
Схимница с густо закрытым покрывалом стояла посреди кельи, и когда он появился в дверях, распростерлась по земле, сделала три поклона и подошла под его благословение.
— Не тебе, моя дочь, — сказал Никон, — подходить под мое благословение, а мне под твое.
— Я ничтожная раба и богомолка твоя, святейший патриарх; что за причина твоего пришествия ко мне?.. Я давно отказалась от мира.
Патриарх благодарил ее за то, что она допустила его в свою келью, причем передал ей поклон царя.
Услышав, что царица в надежде, Наталья обратилась к образу, сделала несколько поклонов и, поднявшись, произнесла вдохновенно:
— Родится у царицы дочь…
Сказав это, она как бы от усталости и волнения присела, указав патриарху другой стул.
Никон передал ей свой разговор с царем о тех исправлениях в церковных книгах, какие он предполагает сделать, причем он присовокупил, что царь послал его спросить ее совета и благословения.
— Святейший патриарх, — воскликнула схимница, — не тебе у меня поучиться, а мне у тебя и искать твоего благословения. Истину ты говоришь, нам нужно возвратиться к евангельской истине, и тогда мы будем вновь православными. Делай, что Св. Дух и Божья благодать говорят тебе. Но на пол пути не остановись… поступи как Лютер.
— О чем ты говоришь, я тебя не понимаю?
— Я хочу сказать: женись…
— Разве патриарх может жениться? — обиделся Никон.
— И Лютер, как монах, не мог жениться, однако же женился.
Никон был поражен этим ответом, а потому, помолчав немного и желая получить разъяснение загадочных слов схимницы, он сбросил свою обычную серьезность и полушутя сказал:
— Схимница Наталья, сестра святейшая, если мне, патриарху всея Руси, жениться и поступить как Лютер, то я должен избрать подобную ему и жену монашку, уж тогда в законный брак я попрошу схимницу Наталью, и будут держать над нашими головами венцы архиереи.
— Сказала я тебе не в шутку: женись, исправление книг равносильно женитьбе патриарха, и если тебе Дух Св. говорит: исправляй книги, то он же должен тебе подсказать: женись, и женись не на монашке!.. Выше бей. Ты ведь… патриарх!.. Тогда сила будет у тебя в руках, и неужели ты думаешь, что тебя проклинать будут менее за одно «аз», которое ты выбросишь из книг, чем за женитьбу. Лютер понял это, а потому он пошел дальше: монах женился на монашке. И у них епископы теперь женаты, наши попы тоже женаты: они и спорить не станут. Коль идти уж против порядков и старины, так ломай все, — вот тебе мой сказ.
Несколько минут сидел Никон как ошеломленный. Схимница, известная святостью своей жизни и строгостью правил, говорит так резко с главою русской иерархии. Он строго произнес:
— Отрекся я от мира, подвижничал, страдал, оставался целомудрен, и Бог взыскал меня — я Богом избранный патриарх всея Руси… кто же ты, сестра Наталья? И почему я слышу такие речи и такие дерзкие, такие недостойные речи от тебя?.. От схимницы!..
— Глаголю я тебе истину, святейший патриарх. Нет человека в мире, который бы тебя любил так сильно, как я; нет человека во всей вселенной, который бы тебя так чтил, уважал и боготворил, как я, и нет человека, который бы лучше знал тебя, чем я. Чтобы сделаться патриархом, ты должен был сделаться монахом, — это поняла твоя жена и пошла в монастырь.
— Разве ты «знала» ее? — воскликнул невольно Никон.
— Кабы ты «знал», как она любила тебя и что она жертвовала, удалившись в монастырь! Теперь ты, патриарх, достиг того, чего домогался. А мне нечего больше говорить… удались, удались! — вскрикнула нервно схимница.
— Не удалюсь; ты, схимница, столько мне сказала, что должна явить мне свое мирское имя. Если не скажешь, я прокляну тебя!..
— Проклянешь? — Нет, не могу, не заставляй.
— Я требую! — грозно поднялся с места Никон.
— Ты требуешь… вот… гляди… узнай… — я… я… твоя жена, Паша, — теперь инокиня Наталья. Ника… Ника..
Схимница откинула свое покрывало; пред Никоном явилась бледная, исхудалая его жена, но все же прекрасная и величественная.
Слова схимницы произвели на патриарха потрясающее впечатление…
Оба умолкли, но схимница прервала молчание, накинула на себя вновь покрывало и, рыдая, произнесла:
— Святейший патриарх! тебе не место здесь, удались.
И Никон очнулся, он тихо пошел к двери, но вдруг остановился, упал на колени и сказал сквозь слезы:
— Благослови, не отпускай меня без своего благословения, святая женщина.
— Бог благослови…
Когда за Никоном затворилась дверь, инокиня упала без чувства на пол.
На другой день царю донесли из Алексеевского монастыря, что схимница Наталья куда-то ушла и пропала без вести. Все розыски оказались тщетны, и царь затосковал по ней: ему очень дорога была мама Натя.
XXXI Раскольничий вертеп
Лишь только Никон вышел от отца Степана, как к нему вошел дьякон его Федор.
Он был правою его рукою, и если Федор не заложит ему место в требнике и в евангелии, то он не знает, где и что нужно читать во время служения.
Поэтому его сильно огорчило, что патриарх не дал ему ответа о рукоположении в иереи его любимца.
— Мы с тобою в опале, любезный браг Федор, — произнес он недовольным тоном, когда тот появился к нему.
— У кого? Уж не у царя ли, или у Милославского? — испуганно произнес дьякон.
— Бери повыше.
— Как повыше? — недоумевал дьякон.
— У вновь рожденного, вознесенного владыки, святейшего патриарха Никона, великого государя.
— Вот как! У милейшего; это не страшно.
— Он, видишь, отец дьякон, хочет четвертовать нас за сугубое аллилуия и за двуперстное знаменье.
— Когда он был попом, он сам пел сугубое аллилуия, да с клироса он в Кожеезерском монастыре, когда он был горланником и уставником, тоже пел, а двуперстно он и теперь крестится.
— Сказывал я ему, что за восстановление этого древлеосвященного обычая тебя бы, дьякона, следовало в иереи, а протопопов наградить наперсными. А он: награжу, только не упомяну за что: ваш древлеосвященный обычай я, дескать, признаю за заблуждение.
— Блудит он сам, — рассердился дьякон. — Слыханное ли дело — выезжать патриарху да без белого духовенства и клира; еретик, лютеранин, а сила-то у нас вся — у дьяконов и попов; коли не захотим что читать, то и не прочитаем. Не монахи службу правят и всякие требы. Как же он заставит нас читать, как он хочет? Да я ему ни одного аза не уступлю из книги-то моей; выбросить одну букву из слова Божьего — значит отречься от самого Господа Бога. Да пущай он голову рубит мне, не отрекусь от сугубого аллилуия, а коли с греком Арсением поисправит он книги, — пущай сам и читает, — ему только и сидеть на клиросе.
В это время вошел отец Неронов, протопоп Успенского собора.
Эго был отголосок царского духовника. Слыша протесты Федора, ом понял, что отец Степан, вероятно, недоволен патриаршими новшествами, а потому пробасил:
— Один только соблазн, отец Степан. Выходит он, патриарх, в прошлое воскресенье на амвон и показывает грамоту в Бозе почившего патриарха Иосифа к белому духовенству; вот, говорит, прошло двадцать лет с того времени и разве сделалось лучше? В царствующем граде Москве, в соборных и приходских церквах чинится мятеж, соблазн и нарушение веры; служба Божия совершается скоро, говорят голосов в пять и в шесть и больше, со всяким чреувоугодию своему последуя и пьянству повинуясь, обедни служат без часов. Пономари по церквам молодые без жен; поповы и мирских людей дети во время службы в алтаре бесчинствуют.
— Вот страмота. — поразился отец Степан. — Патриарх Иосиф грамоту разослал келейно, а этот на весь народ.
— И не упомню, что дальше говорил, — продолжал Неронов, — но страмотно было выйти из собора, так и указывают на тебя пальцами, пьяницами обзывают мальчишки.
— Поистине соблазн, — воскликнул отец Степан.
— Говорю еретик, Лютер, — подтвердил Федор, съежив нос и поглаживая редкую свою бородку. — Учился я в Сергиевской лавре у уставщика чернеца Логгина, был он при Шуйском царе у печатного дела, и как, бывало, пропустишь слово или аз, а он: «куй ты мне только гласные, согласные, аль всякие иные буквы», да так при этом за вихры отдерет, что искры из глаз сыплются. Натерпелся я мук из-за каждой буквы требника и псалтиря, а теперь хотят вновь, чтоб учился. Помню, вышел в Сергиевском сам архимандрит Дионисий посеред церкви и хотел читать, а Логгин как подскочит к нему, да как толкнет его в бок, а тот и книгу уронил; вот тебе и читай без уставщика. Нет, святейший, не на таких напал, будешь ты плясать по нашей дудке.
На эту речь отец Степан ответил благосклонно:
— Монахи только мутят православный люд. Вот взялись тоже за иконы; не нужно, говорят они, вместо у трех ручьев, треруких Богородиц; не нужно, горланят они, «благоразумного разбойника». А об аде кромешном они говорят, то еретичество.
— Как! — озлобился Федор: — Да священное писание говорит:
Иным будет грешникам, Мужам беззаконным, Иным будет грешницам, Женам беззаконницам И младенческим душегубицам, Котлы им будут медные, Огни разноличные, Змеи груди их высосаемы И сердце вытягаемо: То им мука вечная. Житие бесконечное.— Полно, полно, отец дьякон; то калики перехожие поют, а не святое писание, — заметил царский духовник.
— Все едино, — авторитетно произнес дьякон, — и калики Божьи люди.
— Вот и икона об аде уместна в церкви Божьей… и зачем нет? На страх грешникам.
— Да, — покачал сомнительно головой Неронов, — но не покаяться же ни разбойникам, ни аду.
Хотел было заспорить с ним дьякон, но вдруг, как бы что-то вспомнив, он взял свой посох, шляпу, поклонился хозяину и гостю и поспешно вышел.
Пошел он прямо к стрелецким слободам и там остановился у одного небольшого домика, на воротах которого красовалось метло, т. е. что здесь, дескать, подворье для приезжих.
Он постучал в ворота. Отворили ему дверь старая баба и хромой рыжий горбунок.
— Здесь подворье Настасьи Калужской? — спросил дьякон.
— Здесь, здесь, батюшка, кормилец… — Я-то она самая — хозяйка, а это — братишка мой, Терешка… Что же это ты, озорник, благословение-то отца дьякона не возьмешь?
— Благословите, батюшка, — прошепелявил Терешка.
— Господи благослови. Что, приезжие попы еще здесь? — прокозлил дьякон.
— Здесь, здесь, батюшка, пожалуй в избу.
Дьякон пошел за старухой. Она ввела его в обширную горницу; в углу ее висело множество старинных образов — и все из запрещенных Никоном; посреди комнаты стоял стол, на нем миска, и из нее деревянными ложками, сидя на скамьях, хлебали щи несколько священников в подрясниках.
— Хлеб да соль, — сказал дьякон.
— Милости просим, — произнес приветливо старший из них.
Это были все сотрудники отца Василия по изданию требника; они приехали к избранию патриарха и их не отпускали домой под разными предлогами.
— Вести недобрые, — сказал дьякон. — Был милейший у царского духовника и тот сказал: надоть наперсные пожаловать отцам протопопам за восстановление древлеобычного двуперстного знамения, а тот как раскричится: надо исправить все заблуждения в требниках собором!
— Созови он хотя сто соборов, всех изобличу в ереси, — воскликнул протопоп Аввакум, поднявшись с места и ударив кулаком по столу.
При высоком его росте, щетинистой бороде и малочесанной голове его резкий и басовой голос имел потрясающее действие, в особенности когда его глаза блистали негодованием и злобой.
— Нам, — продолжал он, — попам из других мест: я — из Юрьевца Повольского, Лазарь — из Романовки, Никита — из Суздаля, Логгин — из Мурома, Данила — из Костромы, — нам-де на нашего милейшего плевать… Имеем мы своего епископа, свою паству. Читать мы и будем по своим книгам древлезаветным… Молиться будем своим иконам и креститься будем двуперстно.
— Правда! Во истину он говорит! — крикнули голоса.
— У нас на Москве он точно топор, аль секира на вашей шее, — продолжал Аввакум. — Вы и разделывайтесь с ним, а мы на воеводствах да по областям сами господа, люди вольные. А коли после собора не захочет он ставить из нашей братии, на то есть Киев аль Царьград: оттелева будут ставленные грамоты нашим епископам и попам.
— Да скажи, — прервал его Никита, — и отец-то Василий ханжа и еретичествует: единогласие и согласие сочинил в церковном служении, проповеди, на смех курам и на соблазн народа говорит… Уж умнее не скажешь слова Божьего и евангелия. Все это латинство и стряпня киевлян, андреевских старцев.
— Горе нам, горе! По словам апостола, времена антихриста пришли, — заревел Аввакум. — Будут лживые знаменья… Будут лжепророки… сиречь проповедники… Вот и милейший, а не светлейший, сонмы проповедников-юнцов выпустил, и те ходят в народ, исцеляют снадобьями и волшебством недуги и призывают к покаянию. Бают они: старики-де чревоугодники, пьяницы, безобразники, и говорят они, что грешным иереям геэнна огненная, а в предании сказано:
Погреба им будут глыбокие Мразы им будут лютые.— Неронов. — прервал его дьякон Федор, — баит, что это сказ калик перехожих.
— Калик перехожих, — стукнул Аввакум вновь о стол рукой. — А это нешто нелюди Божьи?.. Сам Иван Грозный, и тот Василия Блаженного нес на своих раменах, когда воздвиг его имени церковь. Мы от древнего сказания и свычая не откажемся, пущай нас распинают, пущай жгут на огне… не нужно нам новшеств — жили без них наши деды и мы проживем.
— Аминь, — воскликнула вся братия.
— Так и передай, отец дьякон, своему батюшке — царскому духовнику. Мы здесь синклитом говорим: не нужно и собора, все это смута и мятеж в церкви Христовой; хотим жить по старине, желаем молиться по тем книгам и тем иконам, по которым спасались наши деды и святители Петр, Филипп, Гермоген и Иов. Пущай тако доложит царю; мы же, богомольцы его, будем вечными его рабами… Не нужно нам тож святейшего, а нужен раб Божий патриарх… Не по чину тож и непригоже церковному и царскому рабу именоваться великим государем… Да, и это порасскажи ему.
Аввакум повел дьякона в соседнюю комнату — она вся завалена была старыми образами.
— Это все, — сказал он, — Никон хотел предать сожжению, мы спасли святыни и сложили здесь, а коли грех продлится, мы разошлем их по монастырям и скитам.
— Господи помилуй… Господи помилуй, — шептал Феодор и, уходя, произнес громко, чтобы слышала вся братия: — Беспременно передам батюшке… Пущай тишайший сыщет сие безобразие и кощунство.
XXXII Цыганка
Цари наши жили в старину патриархально и просто. Вся семья, из скольких бы членов она ни состояла, громоздилась в одном и том же дворце, со всем своим огромным штатом…
Так было и при Алексее Михайловиче; после смерти его отца с ним оставались и три его сестры, Ирина, Анна и Татьяна.
Все они, после неудачного сватовства старшей к королевичу датскому Вольдемару, оставались Христовыми невестами и, по тогдашнему этикету, не оставляли царского терема и жили в нем со всем большим своим штатом.
Между тем царица Марья Ильинична, жена Алексея Михайловича, имела год от году детей, и ее собственная семья разрослась; Бог ей дал трех сыновей и шестерых дочерей: Софию, Евдокию, Марфу, Екатерину, Марию, Феодосию и Наталию.
Все эти дети имели дядек, нянек, постельничьих, служек, сенных девушек; кроме того, при дворе жило множество приживалок и дальних свойственников и родственников царских, так что во дворе стало тесно, когда вступил на патриарший престол Никон.
Царь посоветовался с ним и с боярской думой, и решили царских сестер временно, до перестройки терема, перевести в женские московские монастыри и дать им приличный штат и содержание или, как тогда говорили, «кормы».
Этому переселению в особенности сочувствовали Милославский и Морозов, так как при царевнах родственники их, Стрешневы, наводняли дворец, а с их удалением окончательно дворец должен был оказаться в руках Милославских. Так как Алексей Михайлович находился под решительным влиянием царицы, и хотя он в письме своем к Никону и уверял того, «что слово его теперь во дворце добре страшно и делается все без замедления», но это было маленькое хвастовство со стороны его, а всем во дворце заправляла царица Марья Ильинична; поэтому царевны были для нее и для Милославских лишним бременем.
Царевны же обрадовались этому событию, так как это делало их, некоторым образом, самостоятельными: они должны жить вперед на своем хозяйстве, да хоть в монастыре, но не под строгим глазом всей придворной прислуги и челяди.
Татьяна Михайловна избрала временно Алексеевский монастырь, и частью из царской казны, частью из монастырского приказа стали делать необходимые пристройки и отделки, чтобы привести хоромы в приличный для царевны вид.
Сам патриарх приехал в монастырь осмотреть, как все делается, и когда затем царевна должна была туда переехать, он лично освятил ее помещение.
Помещение царевны было так устроено, что ее горницы были отдельно от прислуги и служб ее, и к ней можно было попасть прямо из сада, минуя монастырь; это давало ей возможность и принимать и выезжать без контроля со стороны обители и даже собственной прислуги.
Притом царевна сократила свой штат, что очень понравилось Милославским: расходы-де уменьшились значительно, а царевне это было на руку — она избавлялась от шпионства челяди, что было тогда между дворовыми в большом ходу.
Поселилась царевна в монастыре уютно и с большим удобством. Не стесняясь больше ни придворным этикетом, ни празднествами, она проводила все время или в чтении церковных книг, или в поездках по монастырям и церквам, или в посещениях дворца и боярских именитых людей и родственников.
Пылкая и энергичная ее натура нашла какую-нибудь пищу, и она повеселела и как будто вновь родилась: ей на свободе показался и мир Божий прекрасней, и сделалось ей так легко и радостно на сердце, и захотелось ей еще пуще прежнего любить кого-нибудь.
Но кого любить? Князя Ситцкова? Но тот давно женился, разжирел и уехал воеводою, а из тех, кого она знала и с кем могла по этикету двора говорить, были близкие родственники. Когда она ходила однажды с такими мыслями по саду обители, в ее воображении вырос величественный образ Никона.
Давно уж запал он в ее мысли, но она обожала его как идеал прекрасного, умного и честного.
Когда она так думала, неожиданно из соседней аллеи появилась цыганка.
Царевна вздрогнула; пред нею стояла женщина высокого роста, с блестящими черными глазами, в лохмотьях и с лицом, измазанным сажей.
— Ай да раскрасавица царевна, ай да распрекрасная… Позолоти ручку — всю правду скажу… жениха выгадаю, — заговорила она.
— Иди прочь, я не гадаю, кто впустил тебя…
— Не гони ты прочь счастья… позолоти ручку… дай ручку…
И, не ожидая ответа, она вынула из кармана несколько бобов, и с ними были и раковые жерновки, и раковинки, встряхнула она все это в закрытых руках и потом, отняв одну руку, стала болтать.
— Высок терем царский, да сокол летает выше… Любит он девицу красную, царевну Михайловну… любит и плачет он, что день, что ноченька… Молит он образа святые сподобить его узреть девицу, зорю свою распрекрасную… Говорю, позолоти ручку, больше скажу… не гони счастья…
— А когда я увижу сокола? — полюбопытствовала царевна.
— Отворишь окошечко створчатое, влетит и сокол… сними ты затворы крепкие, сними, не бойся… не съест сокол голубицу: сам станет голубем…
— Прочь иди, сатана!
И царевна бросила ей золотой.
Цыганка подняла монету и, сверкая глазами, удалилась.
— Странно, как будто ее лицо мне знакомо, как будто где-то я ее видела… Впрочем, цыгане так схожи друг на друга, — подумала царевна после ее ухода.
Пока так думала царевна, Никон был в сильных хлопотах. Из Малороссии получались каждый день сведения об ужасах, творимых поляками, Белоруссия волновалась, а Богдан Хмельницкий посылал гонцов каждый день, что он-де передастся султану.
Последняя угроза была в особенности страшна: увидеть святыню русскую в руках султана и турок на самой границе нашей — это было равносильно тому, что отдать себя в подданство вновь татарам и восстановить монгольское иго.
Ежедневно Никон поэтому собирал боярскую думу и в присутствии царя обсуждались меры к присоединению Малороссии и для объявления войны Польше.
Но государство было без денег и без ратных людей. Нужно было собирать войско и запастись, по тогдашнему выражению, пенязями. Гонцы полетели всюду, и ежедневно поэтому получались гонцы из окраин.
Патриарх был неутомим: он посещал все приказы, распоряжался о присылке денег и ратных людей, диктовал наставления и наказы воеводам и посланцам, осматривал склады оружия и людей, снаряжал за границу послов для покупки оружия и призыва ратников и мастеров. Эти хлопоты и разъезды заставили его выезжать уже не с патриаршею свитою, а как ездили вообще в то время знатные бояре — в колымаге с простежом.
И в этот день Никон не ранее вечера возвратился к себе, даже не пообедал нигде.
Дома ждали его дьяки разных ведомств с бумагами, и он озабоченно взобрался к себе по лестнице.
XXXIII Разрыв с Польшею
Зимою в том же году у Андреевского монастыря остановились дорожные сани. На козлах, на облучке и в санях сидели люди в малороссийских кожухах и бараньих шапках.
— Оце мы и приихалы, — заметил казак, сидевший на облучке.
— Добре, добре, — процедил барин, закутанный, в санях. — Сходишь, сердце, голубчик, пан Сидор, в монастырь. Колы отец Епифаний туточки, кажи: приихав от пана гетмана войсковой судья, Самойло Богданович.
Сидор зашел в обитель, и несколько минут спустя ворота монастыря раскрылись и въехали туда сани.
Епифаний встретил гостя радушно, обнял и расцеловал его, ввел в келию, где всегда принимала обитель гостей.
Служки тотчас убрали сани и коней, а хозяин велел накрыть на стол и подать господствовавшие в монастыре, хотя и постные, борщ и вареники (с кашей и грибами), да добрую фляжку старки.
С дороги пан судья и его казак добре поснидали, а после молитвы Самойло обратился к хозяину и стал ему объяснять цель своего приезда.
Рассказывал он, что казаки осаждают Каменец-Подольск.
Хмельницкий в Чигирине и собирает войско. Король польский созвал сейм, и там решено послать пятьдесят тысяч ратников на Малороссию.
— Минута, — закончил он, — решительная. Гетман Богдан отдает себя под высокую руку русского царя.
— Коли так, — разгорячился Епифаний, — едем тотчас к Артамону Сергеевичу Матвееву, дьяку посольского приказа.
В небольшом домике в приходе Николы в Столбах жил Матвеев.
Это был недюжинный человек и замечательный дипломат не только во внешних делах, но и в общественной жизни. Из маленьких людей он умом и силою воли выдвинулся вперед, несмотря на то, что местничество было в то время еще в большой силе и что Милославские и все их родственники — Соковнины, Хитрово, Урусовы — не давали никому ходу, а бояре Долгорукие, Ромодановские, Пушкины, Голицыны, Стрешневы, Ситцкие, Одоевские гордо держали боярское знамя.
Достиг же значения Матвеев единственно уменьем жить и ладить; вот почему посольский приказ был почти весь в его руках, хотя первенствующий голос имел во всех государственных делах Никон.
Матвеев принял радушно гостей, попотчевал их романеею и спросил, с чем приехал пан войсковой судья в Москву.
Тот рассказал о бедственном положении Малороссии и закончил, что гетман хочет отдать себя под высокую руку русского царя.
— Что значит, что гетману и всему войску запорожскому быть под царского величества высокую рукою?
Богданович объяснил, что он не получил по этому предмету подробных наставлений, но гетман просит только, чтобы царь полякам помощи на них не давал.
Матвеев возразил, что для этой цели нечего было ездить в Москву: православный царь и без того не будет сражаться против своих братьев по вере; в заключение же он присовокупил:
— Власть теперь в твердых руках: всеми государевыми делами ведает светлейший патриарх Никон, и если он скажет, чтобы принять под царскую высокую руку Малороссию, то тогда весь народ русский подымется, как один человек, и все пойдут на ляхов.
— Так что же нам делать? С чем ехать домой? — спросил судья.
— Едем сейчас к патриарху и услышишь, пан судья, его слово.
Втроем взгромоздились они на сани монастырские и тронулись к патриаршим палатам.
Никона они застали дома, и он тотчас их принял.
Выслушав благосклонно судью, патриарх сказал:
— Великий государь наш Алексей Михайлович не любит пустословить, как это прежде делала боярская дума: у нас слово и дело все едино. Принять мы примем Малороссию, но пущай присягает весь народ в подданстве, тогда мы и пойдем войной против ляхов. Но чтобы идти на них войной, нужно показать соседям, что это неспроста, а что ляхи вызвали нас на войну. Пущай пан гетман пришлет послов к нам и бьет с народом и с войском челом о присяге, тогда и мы пошлем послов в Польшу, и к соседям, что мы идем войной на ляхов.
После того, благословив Богдановича, патриарх продолжал:
— Мы готовимся день и ночь к войне: много казны и ратных людей собирается, но не сделаем мы ни шагу без присяги казаков и гетмана. Так передайте ему и великому войску запорожскому вместе с моим благословением и скажите им, что я молю Богородицу, да защитит она их, детей их, грады и веси Малой и Белой Руси от лихого супостата.
— Аминь, — произнесли присутствовавшие и удалились.
Судья Богданович на другой день выехал в обратную и передал гетману в Чигирине о той перемене, которая произошла в московской политике по милости Никона; из холодного и равнодушного бездействия Русь готовится к серьезной борьбе с Польшей.
Весть эта облетела всю Малую и Белую Русь, и гонцы за гонцом стали приезжать в Москву изо всех окраин, что Малая Русь как один человек вся желает поступить в подданство России, так как Никон человек разума, совета и дела.
Узнав об этом, поляки послали на Украину лучшего своего полководца Чарнецкого со значительным войском, а сами начали укрепляться и вооружаться.
Чарнецкий страшно опустошал Украину: всюду выжигал села и города, резал, топил и сжигал жителей, церкви и попов.
22 февраля 1653 года собрана по этому поводу Никоном боярская дума: он на ней говорил с обычным своим красноречием; бояре и царь хотя и соглашались на присоединение Малороссии, но, по обычаю, отложили окончательное решение до новых вестей.
Пришли новые вести, и Никон в понедельник, на третьей неделе поста, 14 марта, вновь собрал думу и говорил с таким вдохновением, что, по словам летописца, «совершася в тот день государская мысль в сем деле», т. е. решено принять Малороссию под высокую руку государя.
Дали об этом знать в Малороссию, и в апреле приехали в Москву от гетмана послы Бырляй и Мужиловский, прося от имени Малороссии принять ее в подданство.
Выслушав послов и не давая им прямого ответа, царь отправил в Польшу 24 апреля послов: князей Бориса Александровича Репнина и Федора Федоровича Волконского с дьяком Алмазом. Послы огромным поездом и с сильной стражей двинулись в путь, и когда прибыли на польскую границу, то с такой медленностью двигались вперед, что попали в галицийский Львов, где находился тогда польский король Ян Казимир, только 20 июля.
По всему пути русские послы имели различные встречи: Белая Русь и Литва, где было много православных, встречали их радушно и с любопытством, но галичане приняли их прямо восторженно. От границы до Львова народ встречал посольство со святыми иконами, хлебом и солью, и их удивляло, что, начиная с одежды, языка и веры, русские имели с ними все общее.
Но всюду слышались жалобы на угнетение русского народа жидами и панами; всюду глядели на русского царя как на спасителя, и слава о Никоне дошла до крайних пределов Руси.
Когда же посольство прибыло во Львов, его разместили в так называемой посольской избе, и пока шли переговоры о церемониале их приема Яном Казимиром, проживавшим в католическом монастыре, послы осматривали церкви Львова и принимали депутации разных русинских братств.
Тут-то князь Репнин понял впервые, как важно было присоединение Малороссии к России: киевский митрополит был митрополитом и галицким, так что от этого титула и ныне митрополия Киевская не отказывается, слияние же корон — польской и русской — показалось ему еще настоятельнее, так как огромное большинство Польского государства состояло из русских. Ян Казимир, спустя несколько дней после приезда послов, сделал им торжественный прием, и после того пошли переговоры о цели их приезда.
Князь Репнин и Волконский предъявили свои требования очень умеренно: они хлопотали, чтобы восстановлен был только Зборовский договор Польши с Хмельницким, по которому Малороссия, оставаясь в ее подданстве, получила только внутреннюю свободу, т. е. автономию и свободу вероисповедания.
Поляки решительно отказали в этом и требовали низложения Хмельницкого, равно совершенной его покорности Речи Посполитой.
Тогда послы предложили свое посредничество между панами и Хмельницким, но радные паны и в этом им отказали, причем потребовали голову Никона за то, что он позволяет себе ставить попов в местностях, уступленных Польше Русью в предшествовавшее царствование.
Между тем как шли так неуспешно мирные переговоры наши с панами, Богдан Хмельницкий дал знать в июле в Москву, что если царь будет медлить, то он отдается в подданство султану.
Никон отвечал именем царя: «Мы изволили принять вас под нашу высокую руку, да не будете врагом креста Христова в притчу и в поношение, а ратные наши люди собираются».
После того были вновь получены гонцы от гетмана, и Никон послал в Малороссию дьяка Фомина с дарами от царя и с царским словом, что он принимает гетмана и запорожское войско под свою защиту.
В сентябре же отправлены к гетману послами Стрешнев и Бредихин, но в это же время князь Репнин возвратился из Польши, и когда царь и дума узнали, что паны упорствуют не только в удовлетворении требования Москвы, но требуют даже головы Никона, то негодование всех было так сильно, что послано вслед Стрешневу и Бредихину, чтобы они объявили гетману, что царь принимает подданство Малороссии.
Но боясь начать войну с Польшей без общего согласия народа, Никон 1 октября собрал в Москве собор, на котором подробно доложено было все дело о Малороссии и вместе с тем о том, что Хмельницкий прислал посланца Капусту, что король Польши идет на Украину войной и казаки, «не хотя монастырей, церквей Божиих и христиан в мучительство выдать, бьют челом, чтобы государь прислал в Киев и в другие города своих воевод, а с ними ратных людей хоть 3000 человек».
Собор решил: принять Малороссию под высокую руку русского царя и объявить Польше войну.
В это время Богдан Хмельницкий после смерти сына его Тимофея, тяжело раненого в Сочаве, собрал огромное войско и вместе с татарским ханом двинулся на польского короля, который стоял на берегах Днепра у Жванца, в 15 верстах от Каменца.
Ян Казимир был окружен неприятелем и погиб бы, но крымские татары изменили Хмельницкому, и он отступил в Чигирин.
Поляки, за эту услугу татар, разрешили им в продолжение сорока дней грабить, разорять и уводить в плен русских жителей польских областей.
Это окончательно убедило Хмельницкого в необходимости докончить дело с Москвою.
В Чигирине Богдан застал царских послов Стрешнева и Бредихина, но вскоре после того гонец дал знать, что приехал от царя в Переяславль боярин Бутурлин для принятия присяги от Богдана и от Малороссии.
Гетман выехал туда.
8 января, после рады, войско запорожское и малороссийское приняло в соборе присягу.
В марте же месяце царь утвердил для Малороссии полное внутреннее самостоятельное управление.
XXXIV Собор
Когда собор одобрил войну с Польшей, Никон принял энергичные меры, чтобы не посрамить земли русской и быть готовым к сильной и продолжительной войне, — поэтому нужно было немного оттянуть войну, чтобы собраться с силами, и для этой цели он вновь послал князя Репнина в Польшу для последнего слова.
Но в этом случае Никон имел еще другие виды: он знал, что без исправления книг ему не подчинится киевская митрополия. Вот почему в то время, когда Малороссия присягала русскому царю, Никон в начале 1665 года собрал собор.
Накануне этого собора патриарх был в сильной тревоге и сомнении. Предложенное им исправление книг было важным шагом для тогдашнего времени, а общество и духовенство были еще так невежественны, что сомнительно было, чтобы они могли усвоить их без потрясения церкви, без раскола.
Это Никон отлично понимал, но без этого нельзя было соединить весь русский народ, что сделалось заветною его мыслью, в особенности после возвращения первого посольства князя Репнина и уверений его, что уния насильственно привита и в Белоруссии, и в Литве, и в Галиции.
Но Никон не был такой человек, чтобы остановиться пред какими бы то ни было препятствиями, и если он добился от собора — начать ожесточенную войну с сильною еще тогда Польшею, то борьба со староверами показалась ему, в сравнении с этим, ничтожною. Нужно было поэтому заручиться только большинством на соборе.
В этих мыслях он вызвал Епифания Славенецкого, и тот явился к нему накануне собора.
Когда Славенецкий вошел к нему, он застал патриарха, расхаживающего в волнении по рабочей своей горнице.
— Я насилу дождался тебя, — сказал он навстречу Епифанию.
— Я объездил, — отвечал тот, — всех митрополитов, архиереев и епископов; все согласны на исправление того, что собор найдет нужным, только один епископ Павел кричит: «По старине хочу жить!..»
— А отец Степан, царский духовник?
— Он на все согласен, только не трогайте его сугубого аллилуия и двухперстного знамения.
— А протопопы и попы что говорят?
— Молодые все стоят за исправление книг, а старики ничего и слышать не хотят…
— Очень жаль, а они ведь в церкви все: вся пастырская власть у них в руках. Между тем Куракин из Киева доносит, что он хотел близ Софиевского собора основать крепость, так митрополит Киевский запретил ему и велел сказать, что гетман с войском запорожским поддался государю московскому, но он, митрополит, со всем собором о том бить челом государю не посылал. Значит, он и меня не захочет знать, и предлог есть: патриарх молится и крестится не по-нашему. Но как уломать наших-то попов?…
Никон быстрыми шагами начал ходить по комнате.
— Вдвоем, светлейший патриарх, с Божьею помощью мы поборем врагов, и истина восторжествует. Мы же должны исповедовать греко-восточное православное учение как оно есть, а не так, как исказили его переписчики и горланники-уставщики.
— Однако ж, — прервал его Никон, — некоторые говорят, что если ломать что-нибудь, то ломать все, а не часть, т. е. нужно поступать подобно Лютеру: ведь и монашества не признает наша древняя церковь…
— Это, — возразил Епифаний, — можно бы было сделать, если бы весь русский народ был уже соединен; а теперь, для того чтобы соединить, нам нужно приблизиться только к учению православных церквей — малорусской и белорусской, которые сохранили в чистоте учение восточной церкви.
— Но если это у нас самих произведет распадение церкви? — заметил Никон.
— Едва ли это совершится, коли мы, нововводители, будем действовать братолюбиво; коли же отпадут сотни или тысячи, так все же вместо них мы приобретем во всероссийском патриаршестве миллионы нашей братии из Малой и Белой Руси, из Литвы и Галичины.
— Коль так, то да благословит тебя Господь Бог на путь грядущий.
С этими словами Никон отпустил Епифания, а сам стал на колени перед иконой Спасителя и горячо молился, чтобы Господь смягчил сердце его врагов, так как исправление книг нужно для блага целого русского народа, разрозненного и стонущего под игом ляхов, иезуитов и папы.
Когда так молился Никон, забывая в это время о собственной безопасности и готовясь самоотверженно вести борьбу с невежеством и предрассудками, в стрелецкой слободе, где мы уже видели в одном из его подворий синклит белого духовенства, и теперь собрался тот же собор, только с прибавкою новых двух лиц: чернеца Никиты и епископа Павла.
Первый был постник и благочестивый человек, но по невежеству фанатик Стоглава и полоумный аскет.
Собрание это было тайное, и потому все пришли с большими предосторожностями.
Попы были уже в соборе, когда вошел епископ с Никитою.
Попы поклонились в ноги епископу и усадили его на председательское место.
Начал говорить собору Аввакум; он подробно докладывал о новшествах в церкви: об иконоборстве, согласном служении и пении, о проповедях и, наконец, об исправлении книг и т. д. Все это, по его мнению, было еретичество, и больше ничего, и затея монахов унизить белое духовенство, чтобы изобличить его, что оно неправо служит и раскольничает.
Вопрос был поставлен им ребром: белое духовенство издревле владело правом совершения церковной службы и треб и правом быть духовными отцами; а тут являются вдруг монахи, дерзающие утверждать, что все их древлеобычное учение, их иконы, которым они поклонялись, и книги, по которым они молились, все это заблуждение. Нужно отстоять поэтому каждую букву каждой книги, каждую черточку их старых икон, а все новшества объявить еретичеством, а нововводителя антихристом.
Подымается с места Никита: его атлетический вид, хотя он и юноша, его резкий голос, его глаза горят лихорадочно. Он говорит:
— И я, — глаголет апостол Иоанн, — также свидетельствую всякому слышащему слова пророчества книги сей: если кто приложит что к ним, на того наложит Бог язвы, о которых написано в книге сей; и если кто отнимет что от слова книги пророчества сего, у того отнимет Бог участие в книге жизни и в святом граде, и в том, что написано в книге сей.
— Благодать Господа нашего со всеми вами, — произнес восторженно епископ Павел и присовокупил: — Как же мы можем прибавить или убавить хоть один аз из древлезаветных нам книг? Не поразит ли нас Господь Бог язвами и не лишит ли Он нас участия в книге жизни и царствия небесного?..
— Пущай сам Никон изыдет в ад, — воскликнул Аввакум, — со своим еретиком Епифанием и чернецом Арсением.
— Ты прав, отец Аввакум, — подхватил Никита, — апостол Павел глаголет: «Невозможно однажды просвещенных и вкусивших дара небесного и соделавшихся причастниками Духа Святого и вкусивших благо глагола Божья и сим будущего века и отпавших обновлять опять покаянием когда они снова распинают в себе Сына Божьего и ругаются ему» (Поел, к Евр., гл. 6).
Этот довод привел всех присутствовавших в какое-то неистовство: они начали ругать и Никона, и Епифания, и Арсения-грека и нарекли Никона антихристом. Когда же они немного поуспокоились, Аввакум объявил, что извергнуть Никона из церкви еще рано; он-де надеется еще на соборе и его привести к истине; а потому он, Аввакум, просит всех присутствующих только поддержать его.
Синклит разошелся. Епископа Павла пошел провожать чернец Никита до Спасского монастыря, где последний поселился.
Придя в свою келию, Павел был в сильно возбужденном состоянии, он ходил взад и вперед, сердился, кому-то грозит или хохотал безумно.
Долго не мог он угомониться, наконец лег, и снится ему апокалипсическое видение: видит он одного ангела, стоящего на солнце, и тот воскликнул громким голосом, говоря всем птицам, летающим посредине неба: летите, собирайтесь на великую вечерю Божию, чтобы собирать трупы царей, трупы сильных, трупы тысяченачальников, трупы коней и сидящих на них, трупы всех свободных и рабов, и малых и великих. И увидел он зверя и царей земных и воинства собранные, чтобы сразиться с сидящим на коне и с воинством его… Убиты все мечом сидящего на коне, исходящим из уст его, и все птицы напитались их трупами.
* * *
Утром другого дня удар колокола Ивана Великого сзывал духовенство в Успенский собор на обедню, а оттуда они должны были идти на собор в грановитую палату, где ожидали и царя.
Собрались в церковь не только все священство, но всяких чинов люди и боярская дума.
Светские люди явились не столько из религиозности, как по любопытству: послушать, как, дескать, монахи уличать будут попов в невежестве и ереси.
Это была битва на жизнь и смерть и тех и других, и исход борьбы был интересен и для обеих сторон, и для общества, тем более, что битва давалась с одной стороны царским духовником отцом Степаном и протопопом Успенского собора, с другой — патриархом.
После обедни и краткого молебна за паря, все отправились в грановитую палату; царь с патриархом поехали туда в колымаге.
Никон открыл собор кратким словом; начал докладывать о необходимых исправлениях Епифаний Славенецкий.
Когда он кончил, протопоп Аввакум стал его уличать в неправде в самых резких выражениях. Сподвижники его тоже заспорили с ним, а сугубое аллилуйя они основывали на апокалипсисе.
Спор был основан главным образом на предании и на том, что, по апокалипсису, нельзя изменить ни единой буквы из священного писания, на все же возражения Епифания о том, что речь идет именно о восстановлении правильного текста, раздавались голоса:
— Не хотим, не хотим, будем молиться по старым книгам, по старым иконам.
Стали баллотировать вопросы: держаться ли книг, отпечатанных царским духовником, или же греческих и старых наших книг.
Ответ был в пользу последнего, т. е. вставки, сделанные царским духовником и Аввакумом с братиею, отвергнуты во имя старопечатных книг до Шуйского.
Когда это было решено. Никон и царь благодарили собор за его разумное решение; но противники их, рассеявшись по городу, распространяли слухи, что Никон, под видом исправления книг по старопечатным, хочет ввести латинство.
Нужно было унять смуту, и Никон, по соизволению царя, велел посадить в Спасо-Каменный монастырь и епископа Павла, и Неронова, и всех протопопов (за исключением царского духовника), участвовавших в переделке требника и мутивших теперь народ.
Но вскоре все были освобождены, и при этом Никон сделал уступку: он разрешил и отцу Степану, и Неронову двуперстное знамение и сугубое аллилуия; тогда-то враги Никона ополчились на него еще ожесточеннее.
— Если, — вопияли они, — это грех, то не следует дозволять; если же не грех и можно спастись и старыми порядками, то следует оставить нас при старой вере.
С епископом Павлом случилось иное, что вызвало впоследствии на Никона целую бурю.
Чтобы епископ не мутил народ после собора, Никон велел его содержать в Спасском монастыре, но на того нашло бешенство и он стал кощунствовать над одеждой епископской.
Узнав об этом, Никон велел от него отнять церковное облачение и принадлежности епископского сана.
Коломенская его епархия упразднена и все имущества, принадлежавшие к епископии, присоединены к будущему «Новому Иерусалиму». Епископ же Павел отправлен в Хутынский монастырь Новгородской губернии.
В монастыре, по случаю его болезни, дали ему простое монашеское облачение.
Епископ окончательно с ума сошел и в один прекрасный день бежал из монастыря; след его с того времени простыл; вероятно, он или утонул где-нибудь, или съеден зверями в тогдашних непроходимых лесах России.
Сочинили по этому поводу, что Никон его заточил где-то и держит это в тайне.
Раскольники же распустили слухи, что Никон сжег его в срубе; если бы это была правда, то собор, низложивший Никона, вообще, возбудив вопрос о Павле, не преминул бы воспользоваться этим фактом.
Аввакума же взяли в Андреевский монастырь и по случаю лета поместили его даже для прохлады в палатке; но он сочинил, что будто бы его не кормили, а потому ему явился ангел и поднес ему щец. Аввакум из монастыря этого действовал пропагандой, а потому его выслали в Тобольск и здесь он, заняв священническую должность, свирепствовал против Никона до самого его удаления из Москвы.
Раскольники же распускали слухи о Никоне как об инквизиторе.
Он, однако же, не обращал внимания на эти толки и шел вперед: патриарх послал Арсения Суханова на Афон и в другие места для собирания рукописей, и тот привез 500 экземпляров, и греческие архиереи прислали 200.
Эти рукописи дали возможность Никону окончательно исправить церковные книги.
Но Никон недаром так хлопотал об этом: в июле прибыл от митрополита Киевского архимандрит Гизель и требовал, чтобы митрополия Киевская оставалась в подчинении константинопольского патриарха. Никон дал уклончивый ответ: нужно-де ждать окончания предпринятого царем похода в Польшу; рассчитывал он, что к тому времени будут уже исправлены церковные книги и что тогда подчинение митрополии Киевской русскому патриарху сделается возможным.
XXXV Поход в Польшу
Русь поднялась, встрепенулась, раскрыла крылья, отострила когти — и могучий орел собирается на добычу.
То кликнул клич святейший патриарх Никон от имени батюшки царя, ясного сокола, красного солнышка Алексея Михайловича, за веру православную и за братьев единоверных, и поднялась, и ополчилась вся Русь, и убралась она точно на пир великий.
Спешат ратники со степей Донских, и с земель мордвы, и черемис, и из Казани; прибывают наемники из немецкой земли и оружие разное — и татарское, и турецкое, и немецкое.
Наполнилась Москва ратными людьми; обозы и пушки день-деньской прибывают со всех сторон, и шумит первопрестольная, точно улей пчел.
Умолкли и все шумные толки о неправдах Никона — все воодушевлены одною лишь мыслию: нужно сражаться за Русь православную, нужно рассчитываться с ляхами и за все прошлые обиды, и за кровь, пролитую во время смут и в прежнее царствование, нужно взять обратно ключ в Россию — Смоленск, нужно забрать всю Белую Русь, Литву и галичан. Царь, сокол, расцвел — ему двадцать пять лет, и идет он сам в поход сражаться с врагами; а кормило царства в твердых руках мужа мудрого — Никона.
И воодушевляет это и старцев, и юношей: препоясывают первые мечи свои, которыми они сражались и у Тройцы, и под Москвою, а юнцы слушают от старых ратников о Скопине Шуйском, о Ляпунове, о Минине и Пожарском, об этих сказочных богатырях, и глаза их пылают, а уста шепчут: раззудись плечо, размахнись рука.
Стрельцы же расхаживают по городу и поют песню о Скопине:
Ино что у нас в Москве учинилося: С полуночи у нас во колокол звонили… А расплачутся гости москвичи: А теперь наши головы загибли, Что не стало у нас воеводы, Васильевича князя Михаила… А съезжалися князья, бояре супротиво к ним, Мстиславский князь, Воротынский, И между собою они слово говорили; А говорили слово, усмехнулися, Высоко сокол поднялся И о сыру матеру землю ушибся…Движение, радость и веселье — что с юным царем Русь пойдет на исконных врагов православия и русской народности, сражаться за веру, честь свою и отечество.
Между этим народным движением и набором ратников в предшествовавшее царствование была огромная разница: прежде нужно было сзывать служилых людей насильно, под угрозой кнута и тюрьмы, а теперь все шли добровольно и охотно. Много к этому содействовало еще и то, что четыре года до смерти своей царь Михаил Федоровичи запретил к боярским и вообще дворянским дворам записывать бездомных и беспоместных боярских детей, а потому весь этот люд, желая выслужиться, явился добровольно на призыв; а между людьми служилыми тоже не оказалось так называемых в то время нетей, т. е. скрывшихся от ратного дела помещиков и крестьян.
Все ратные люди вступили в Москву в сбруях, латах, бехтерцах, панцирях, шеломах и в шапках — мисюрках; те, у которых имелись пистолеты, должны были еще иметь и карабины; кто носил пики (саадаки), те имели или пищали, или карабины; некоторые, не имевшие оружия, являлись с рогатиной, да и с топором.
Всех их нужно было распределить по полкам, имевшим капитанов, майоров и полковников, или из иностранцев, или из боярских детей, обучавшихся немцами ратному делу.
Работал Никон, и с ним все бояре, день и ночь над устройством этого воинства, и в июне царь осмотрел на Девичьем поле ратников и, оставшись ими доволен, велел думному дьяку прочитать приказ, в котором между прочим говорилось: «Когда же благоволит Бог, по Его святому смотрению супротивные воевать, и вам бы с таким же тщанием, как и ныне видим вас, с радостным усердием готовым быть, да не мимо идет и нас Христово веление: более сия любви нест, да кто душу свою положит за други своя. Воинствующие за святую, соборную и апостольскую церковь и за православную веру против своего достояния и от нашего царского величества милость получат и небесного царствия сподобятся, как и первые победоносцы, за православие пострадавшие».
После того, 23 октября, в Успенском соборе прочитан манифест: «Мы, великий государь, положив упования на Бога и на Пресвятую Богородицу и на московских чудотворцев, посоветовавшись с отцом своим, с великим государем святейшим Никоном патриархом, со всем освященным собором и с вами, боярами, окольничьими и думными людьми, приговорили и изволили идти на недруга своего, польского короля. Воеводам и всяких чинов ратным людям быть на нынешней службе без мест».
Последнее распоряжение дало возможность распорядиться правительству походом по своим соображениям.
Для защиты царя был сформирован особый полк, куда поступили дети лучших дворянских родов; в свиту его тоже примкнули царевичи грузинские и сибирские. Старшим воеводою назначен старик князь Трубецкой, а царь должен был главенствовать.
15 марта царь выехал с Никоном на Девичье поле и делали смотр рейторскому и солдатскому ученью и там он поздравил войска с походом; князь Алексей Никитич Трубецкой должен был 23 августа выступить в Брянск, о чем два дня спустя отдан царский приказ.
Был воскресный день. В Успенском соборе служил соборне патриарх Никон. Царь и вся семья его (царица за особой занавеской со всеми боярскими женами) слушали обедню.
Собор наполняли все стольники, дворяне, стряпчие, полковники и головы стрелецкие, сотники и подьячие, которые должны были идти в поход с воеводами.
По окончании обедни и молебна патриарх благословил всех отправлявшихся в поход, и те затем приложились к мощам и в иконам.
После того царь и патриарх подошли к образу Владимирской Богородицы; прочитав молитву и помянув имена идущих военачальников, патриарх положил поданный ему царем наказ воеводам в киот иконы; потом он вынул его и сказал краткое слово, которое он начал так: «Примите сей наказ от престола Господа Бога».
Князь Трубецкой принял наказ и поцеловал у патриарха руку.
При выходе из церкви, поддерживаемый князьями Трубецким и Куракиным, царь встал на возвышенность (рундук) у дверей храма и попросил бояр и воевод к себе хлеба-соли откушать.
Столбы были накрыты во дворце для начальных людей, а для остальных в грановитой палате.
За столом царь говорил боярам и воеводам речь, в которой он указывал им, как они должны вести себя во время войны.
После обеда царь встал из-за стола с правой стороны, и тогда ключарь с собором начал совершать хлеб Богородицын.
Обряд этот заключался в том, что царь и предстоящие должны были с панагии Богородицы взять хлеб и чашу; хлеб должен был быть съеден, а из чаши следовало испить три раза.
Государь хлеб съел и, испив из чаши трижды, подал ее боярам и воеводам по чину, и каждый, удостоенный этой чести, целовал царскую руку.
Отпустив панагию, царь сел на прежнее место, а бояре, воеводы, дьяки и полчане стояли; царь стал раздавать: боярам и воеводам водку и красный мед, дьякам красный и белый мед, полчанам — белый мед.
После этого царь вновь обратился к начальствующим и дал им завет, чтобы все воинство приобщалось святых тайн ежегодно.
В трогательных выражениях отвечал за это князь Трубецкой.
Началось прощание: первый подошел к царской руке князь Трубецкой; царь взял его голову обеими руками и прижал ее к своей груди.
Растроганный до слез, воевода начал кланяться в землю раз до тридцати. Отпустив начальников, царь пошел в грановитую палату, где обедали ополченцы, и там, раздавая им мед, сказал речь, в которой он объяснил им цель похода.
Ополчане отвечали, что они готовы за государя и за православных христиан без всякой пощады головы положить.
Царь тогда со слезами произнес:
— За это Бог даст вам жизнь, а я буду вас всякою милостью жаловать.
Через три дня войска выступили в Брянск. Они шли через Кремль, мимо дворца, под переходы, на которых сидели царь и патриарх. Никон кропил проходящее войско святою водою.
Когда подъехали к переходам бояре и воеводы, то сошли с лошадей и поклонились по обычаю; государь спросил их о здоровье, и они поклонились вновь до земли.
— Поезжайте да послужите, — сказал им царь. — Бог с вами: той вам поможет и вас соблюдет.
Бояре и воеводы вновь поклонились.
Тогда патриарх поднялся с места и вслед за ним и царь. Никон сказал краткое слово и благословил их.
Воеводы поклонились ему в землю и Трубецкой сказал ответную речь, в которой, титулуя его патриархом Великой и Малой Руси и обещаясь служить без хитростей, он заключил, что если бы по недоумению это и совершилось, то он просит от него и заступления, и помощи.
Несколько дней спустя царь с Никоном отправились в Сергиевскую Троицкую лавру и в Саввин монастырь. Поклонившись угодникам и мощам и отслужив там молебны, они возвратились в Москву, с тем, чтобы царь двинулся в поход с главным войском.
Первым делом был отправить с большим торжеством Иверскую икону Божьей Матери в Вязьму, а три дня спустя выступил сам царь.
Войска сначала собрались на Девичьем поле, оттуда они шли сотнями через дворец; здесь из окна столовой избы патриарх кропил их святою водою. В воротах, чрез которые шел государь, по обе стороны сделаны были большие рундуки со ступенями и обиты красным сукном, на рундуках стояло духовенство и кропило государя и ратных людей водою.
На царе была шапка Мономахова. Надета она была на нем для похода, потому что король польский Сигизмунд III присвоил ее себе и, умирая, велел надеть ее на себя, в знак того, что он умирает царем русским, а потому и его потомство должно царствовать в России; поэтому, в знак лживости этого права, Алексей Михайлович и надел эту шапку в поход, чтобы показать полякам, что он не державец[24], как они титуловали его, а самодержавен всея Руси.
Царь был верхом на белой лошади, с дорогим чепраком и седлом; опоясан он был дорогим кушаком и с ним пистолет, а при бедре драгоценный меч. В свите виднелись все начальники полков и дворовые воеводы: Борис Иванович Морозов и Илья Иванович Милославский.
Царица, дети царские и царевны провожали царя в колымагах, с придворной свитой, за город и простились там с большими рыданиями.
Войско выступало бодро и весело из города, по обычаю с песнями, но Москва была печальна: на улицах слышались рыдания женщин и детей; вообще же какое-то странное чувство овладело москвичами, как будто с выступлением рати с царем в поход должно было что-то случиться.
Такое же чувство овладело и Никоном, когда он последнюю сотню войска окропил и когда стоявший близ него монах взял из его рук чашу и кропилку. Никон набожно перекрестился, чтобы отогнать невольную и непонятную тоску, и тихо отправился к ожидавшей его у избы колымаге.
По случаю отъезда царя все государственное управление вверено Никону, а потому тотчас после отъезда царя он занялся усиленно снабжением армии и деньгами, и людьми, и провизиею, и пушками, и снарядами.
XXXVI Нет худа без добра
Князь Трубецкой, выступив в поход, поспешно двигался вперед через границу Польши в Белоруссию, разбрасывал всюду прокламации, взывая к православным и объявляя священную войну.
Крестьянство тотчас там восстало, а поляки очистили Дорогобуж и сдали Белую, и затем Полоцк и Рославль.
Царь же наступал с войском прямо на Смоленск, и 28 июня наша рать окружила крепость. 2 июля царь расположился уж на Девичьей горе, в двух верстах от Смоленска. В это время русские, упоенные успехом и бегством польских ратных людей при их пришествии, подступали к Орше, и недалеко от этого города расположился станом передовой наш отряд.
Лазутчики и вестовщики не давали знать о какой-либо опасности, а напротив того, сообщено, что литовский гетман Радзивил, услыша о приближении русских, выступил из Орши и двинулся в леса, чтобы там скрыться.
Передовой наш отряд поэтому, расположившись станом, разложил костры, заварил пищу, и так как ночь была очень темна, то все, утомленные дальним переходом, вскоре заснули.
Часовые, как видно, тоже задремали. В то время верстах в пяти от русского стана, в дремучем лесу, происходило что-то таинственное; на одной из полян был разбит шатер, и в нем шло совещание. За большим складным столом, на складном стуле, сидел высокого роста польский воин, на нем виднелись рыцарские доспехи, и воинственный его вид, также величественная осанка напоминали средневековых рыцарей; а гетманская булава или бунчук, красовавшийся на столе, обнаруживали его звание — это был литовский гетман Радзивил, неограниченный в то время распорядитель судеб Литвы и Белоруссии.
— Вы, паны радные, Сапега и Сангушко, ошибаетесь, как кажется, — сказал он, — если полагаете, что москали наступают большой силой на Оршу. Они упоены так успехом своим и хлопской революцией, что бросились сюда очертя голову. Я бьюсь с вами об заклад, радные паны, что они воображают, что и я бросил Оршу и бегу в литовские леса. Гей! Хлопец!.. — он ударил в ладоши.
Из-за дерева появился казачок.
— Поклич Цекаваго.
Появился воин в полных доспехах.
— Лазутчики возвратились? — спросил Радзивил.
— Возвратились.
— Что сообщают?
— Русские варили пищу, поели, выпили и легли спать; а часовые дремлют и, вероятно, тоже заснут. Лазутчики пробрались в самый лагерь и видели это собственными глазами.
— Видите ли, радные паны, моя правда, и нам нужно дать урок москалям. Распорядись, Цекавый, чтобы все воины наши двинулись без доспехов и без лошадей, т. е. так, чтобы не было шуму и стуку, — на русский лагерь. Сапега со своими будет наступать с правой стороны, Сангушко — с левой, а я прямо ворвусь в лагерь; мы окружим таким образом москалей и заберем их всех.
Цекавый удалился.
— А мы, паны радные, — воскликнул тогда Радзивил, — выпьем по чарке горилки, как подобает добрым шляхтичам, и двинемся в путь.
Он снова ударил в ладоши, и казачок появился.
— Дай по чарке, — скомандовал он.
В миг достал казак из-под огромного дерева, где он скрывался, огромную флягу и, налив старки из нея в большой золотой кубок, поднес его гетману.
Пожелав здравия радным панам, Радзивил выпил чарку, потом налил собственноручно полный бокал и подал его Сапеге.
Сапега пожелал ему и товарищу здравия и выпил тоже залпом; таким же образом поступил и Сангушко.
После этого Радзивил с товарищами вышел из шатра и они направились в лес. Здесь шли они на огонек костров и каждый из них прибыл к своей части.
Тихо, без шума, оставив у обоза и у шатров сторожей, тронулось все шляхетное войско с литовскими ратниками по разным направлениям…
Русский стан погружен в глубокий сон; вдруг послышался выстрел из пистолета. Сонными повскочили из своего ложа начальники в своих шатрах. Новые выстрелы из пищалей… Бросились все из шатров, лагерь зажжен со всех сторон. Неистовый крик сражающихся… Русские ратники, сонные, дерутся и умирают… Вопли, стоны, проклятия, кулачный бой, выстрелы… Но литвины и шляхта никого не щадят: как палачи, они рубят спящих… не щадят беззащитных, молящих о пощаде!.. С полчаса продолжалась эта бойня, и, наконец, все русское или плавает в луже крови — зарезанное, или вопиет — раненое…
Забирает литовский гетман обоз и лошадей, оружие и порох русский, захватывает несколько раненых и несколько уцелевших чудом русских и велит вести это в виде триумфа в Оршу.
На другой день Радзивил, верхом, в доспехах, окруженный радными панами и рыцарями шляхтичами, вступил при звуке труб и литавр и колокольном звоне в Оршу; причем в прокламации объявил, что отныне он будет так поступать со всеми русскими войсками, которые дерзнут приближаться к Орше.
После того шли несколько недель празднества, и польское рыцарство стало съезжаться со всех сторон с огромным количеством ратников, чтобы под начальством счастливца Радзивила истребить москалей, которые дерзнут подойти к Орше. Об осаде же Смоленска, затеянной главными силами царя, они говорили: пускай потешаются москали, скорее Днепр потечет вспять, чем они возьмут Смоленск.
Между тем слух о несчастной гибели передового нашего отряда под Оршей достиг царя и царского стана: Тишайший сильно было смутился. Вот уж две недели они стояли безуспешно под Смоленском, а между тем маменькины сынки, составлявшие его свиту, еще по пути к Смоленску нажужжали ему в уши, что война напрасна начата, что поляки сильны и что едва ли будет благоприятный исход этой войны.
Но благоприятные вести из лагеря князя Трубецкого, двигавшегося вместе с Шереметьевым и малороссийским наказным Золотаренко к Литве, немного воодушевили царя, а тут вдруг известие, что целый храбрый отряд из несколько тысяч человек погиб бесславно, и неприятель забрал и оружие, и порох, и весь обоз.
— Вот, — говорили недовольные войной, — наше предсказание сбылось: ляхи и литвины заманили нас и потом перерезали, как дураков.
Иначе думал царь. Это случилось, говорил он приближенным, и нужно почтить умерших.
Он велел передать во всем стане под Смоленском о судьбе погибших и приказал служить панихиду в разных местах своего лагеря, причем сам присутствовал при церковной службе и горько при этом плакал.
Все войско пришло в сильное негодование, узнав, как поляки резали сонных и беззащитных. Злоба и месть закипели в его груди.
— И мы никому не будем давать пощады, — кричали ратники, — пущай ведут нас на бой. На приступ! На крепость! Чего медлить, — нужно крепость взять, а там все пойдем на Радзивила…
Такое настроение было и в воинстве князя Трубецкого, который стоял не более как в семи верстах на пути к Орше.
Князь, видя воодушевление всего войска, готового сражаться и биться до последнего с ляхами за убитых братьев, двигался, однако, вперед медленно. А поляки приняли систему отступления: они очистили Дисну, Друю и стянулись в Орше под начальством Радзивила.
Узнав от вестовщиков, что князь Трубецкой имеет намерение осадить его и чрезвычайно медленно наступает, Радзивил решил с радными панами, что Орша так слабо укреплена, что не можно выдержать правильную осаду, а потому лучше выступить к Борисову и там, сделав укрепленный лагерь, дать битву русским. Этот план казался тем более целесообразным, что воинство русское будет под Борисовым еще более отдалено от главных своих сил, так что можно будет, по выражению гетмана, забрать их руками.
В конце июня, поэтому, польские войска выступили из Орши по дороге в Борисов и за ними потянулись огромные не только шляхетские обозы, но и горожан; к ужасу же их, москали из медленного своего движения перешли вдруг в быстрое наступление: летучие их отряды не только поспешно заняли Дисну и Друю, но почти на польских плечах вступили в Оршу и погнались за отступающей армией Радзивила.
Когда дали об этом знать Радзивилу и о том, что большинство обоза находится уже в руках русских, он собрал небольшую рать вокруг себя и, отдав приказ, отступил к Борисову, бросился защищать отступление своего войска.
Неожиданно он должен был дать сражение русским: заняв с отрядом сильные высоты, он думал удержать наступление наших ратников, но те двигались вперед и вперед… Радзивил храбро сражался со своим отрядом, но разбитый, он воспользовался наступившею ночью и отступил, хотя в беспорядке, но невредимый, к укрепленному лагерю в 15 верстах от Борисова, на берегах реки Шкловки.
Отсюда он разослал гонцов и к нему стала прибывать и артиллерия, и войска, так что многие ему советовали даже начать наступательное движение на Оршу, занятую князем Трубецким, тем более, что слухи носились, что он раздробил свои силы.
И действительно, Шереметьев со своим отрядом, вскоре после взятия Орши, овладел городами: Глубоким и Озерищем.
Но неожиданно, как снег на голову, появились войска князя Трубецкого на берегах Шкловки и окружили Радзивила.
Принимая их, по старинному предубеждению, за нестройные полчища, Радзивил бросился с сильным отрядом на главные силы Трубецкого, но был отброшен с большим уроном.
Наступила затем ночь. Русские стали окапываться, расставлять орудия.
Радзивил собрал совет — как и что делать.
Потерявши почти весь обоз, нельзя было в этом лагере долго держаться; поэтому нужно было дать сражение, с тем: или пан, или пропал.
Все были того же мнения, тем более, что русских было не больше чем поляков и литвинов.
На другой день еще до света все польские войска были уже наготове к выступлению, с тем, чтобы ударить русским в самое сердце и прорваться с честью.
Раздался со стороны поляков грохот выстрелов, и польские войска с неистовыми криками бросились на лагерь русских.
Но там было мертвое молчание: польских ратников не останавливал ни один выстрел; когда же они приблизились к сделанным ночью русскими окопам, тогда раздалась страшная пальба, из окопов повыскакивали казаки и ратники и пошли врукопашную.
Поляки рубились отчаянно, и им казалось уж, что они начинают одолевать, как услышали крики и выстрелы со всех сторон. Русские окружили их — и шла ожесточенная битва холодным оружием.
Сам гетман Радзивил, несмотря на бешеную свою храбрость, чуть-чуть — раненый — не попался в плен; но его вытащил из битвы верный его слуга, шляхтич Цекавый. Он схватил за узду его лошадь и потащил ее к речке Шкловке, с тем, чтобы, переплыв реку, спастись бегством.
Но на берегу реки конь гетмана пал; тогда, сняв с Радзивила доспехи и отняв у него гетманскую булаву, Цекавый отдал ему своего коня.
Радзивил бросился с ним в реку, переплыл ее и бежал.
Верный слуга, желая спасти дорогие доспехи и драгоценную гетманскую булаву, стал их погружать в воду, но налетели казаки.
Как лев, защищал Цекавый эти драгоценности, уложил на месте несколько казаков, но сила одолела: его убили и разрубили на части.
Гетманская булава и доспехи сделались русскими трофеями.
Почти все войска Радзивила пало, но взято еще много в плен: 12 полковников, знамена и литавры достались победителям, кроме обоза и лагеря.
XXXVII Чума в Москве
В то время как русская рать так победоносно шла вперед и царь осаждал Смоленск, в Москву вступал караван из дальних мест: то прибыли с Кавказа грузины с гостинцами к грузинским царевичам и царю!
Но не застали они их в Белокаменной, так как те недавно выступили в поход.
Отвели поэтому грузинам в одной из слобод помещение, и они пошли глазеть по Москве.
Но вот разнеслось по столице роковое:
— Мор!.. и привезли его грузины.
Но какой мор?
По сказанию летописи[25], куда Никон заглянул, он нашел, что в Новгороде был мор в 1354 году, но тогда, по сказанию летописи, харкнет человек кровью и до 3 дней быв да умрет?! О теперешней же болезни рассказывают иначе: заболеет человек, почернеет, умрет, а потом являются язвы, как болячки или как чирьи, под мышками.
— То моровая язва, — определяют иностранные гости и начинают выселяться из города.
Но Москва еще держится; правда, бояре и дворяне разъехались, кто на войну, кто в поместья, но все жильцы, гости и ремесленники все еще живут в городе и не покидают его. Слухи же о том, что моровая язва в Москве, растут с каждым днем, и к Никону доходят слухи, что мрут повально, кто лишь прикоснется к заболевшему, и косит поэтому целыми домами.
Разобщил Никон царский дворец от Москвы, установил карантин по дороге в Смоленск, чтобы к царю не занесли болезни, и отписал ему, что царицу он отправит в Калязин монастырь.
Царь отвечал ему, чтобы и он выехал туда с его семьей; причем он присовокупил, что он никого не неволит оставаться там.
Никон объявил это по городу и вместе с тем и боярам князьям Пронскому и Хилкову, управлявшим Москвою.
Оба отказались и остались блюсти столицу.
Никон изготовил подводы и, забрав царскую семью и весь двор со служками, так ровно весь штат дьяков и писцов, с которыми он управлял государством, огромным караваном двинулся в Калязин.
Обоз был бесконечен, так как он вмещал в себе не только одежду, но и необходимую мебель и утварь и царской семьи, и всего двора, и всех служек, кроме того везлись еще шатры, провизия и тому подобное.
Весь этот поезд должен был двигаться медленно за царскими колымагами, которые постоянно останавливались, так как с царицей были маленькие дети, да и царевны останавливали караван то за тем, то за другим.
С патриархом для письмоводства по делам духовным, кроме дьяков, имелся еще иеромонах Арсений, отлично говоривший по-русски и ведавший печатным делом в Москве. Никон его полюбил и приблизил к себе. Монах этот был истинным кладом в этом путешествии: когда маленький царевич и царевны, дети Алексея Михайловича, ревели благим матом, так как было очень жарко в колымагах и было скучно сидеть на одном месте, то Арсений тотчас являлся и выдумывал такие забавы, что они тотчас угомонятся.
Монах был средних лет, имел белое лицо, черную красивую бородку, блестящие черные глаза и говорил красиво, витиевато и восторженно.
По тогдашнему этикету ни царица, ни царевны, ни весь бывший с ними женский персонал не могли появиться без покрывала; но в пути разрешается отступление, и притом Арсений ангельского чина, а потому с разрешения патриарха можно и покрывало снять.
Спросила об этом царица Никона и тот разрешил; тогда и Арсений стал лицезреть и сестер царя и царицу; но всех прекраснее показалась ему последняя — ее умное лицо, немного гордое, было, однако ж, очень симпатично.
В течение дня успел наглядеться на царевен и Никон, в особенности на Татьяну Михайловну: каждый раз она краснела, когда он взглянет на нее.
Общий обед на вольном воздухе еще более сблизил всех, и смех царицы и сестер ее сделался непринужденным, в особенности когда они, бегая по лугу с детьми, собирали цветы для венков.
После обеда, когда лошади отдохнули, поезд вновь тронулся в путь.
Первая ночевка была станом в 15 вер. от Москвы.
На другой, третий и четвертый день было то же самое.
Ночевка на пятый назначена в вотчине боярина Боборыкина, в 50 верстах от Москвы.
Для царицы и ее семьи были отведены боярские хоромы, а для остальных разбиты шатры в месте, указанном боярином.
Приехал туда поезд еще спозаранку, и царевны объявили, что они не хотят ночевать в душных палатах у боярина и чтобы им разбили шатер вместе со всеми.
Царица согласилась на это.
Стан расположился на возвышенном месте, и, пока устанавливались шатры, царские сестры, Никон и Арсений пошли осматривать окрестности.
В одном месте Арсений остановился и сказал восторженно:
— Как эта местность напоминает Иерусалим: вон та река (Истра) — точно Иордан, вон те горы на запад — точно Фавор и Ермон; а вот ручей, текущий у подножия гор, — точно Кедрон; а вот, — продолжал он, — Иосафатова долина, а роща вот эта — Гефсиманская, не достает только храма Воскресения — и это был бы второй Иерусалим.
— Святейший патриарх, — опустив тогда глаза, с жаром сказала царевна Татьяна, — соизволь же на сооружение церкви Воскресения на сем месте и постройки монастыря, все, что я имею, я пожертвую на эту обитель, да и царя упрошу.
— Твое слово, — отвечал Никон, — для меня закон, многомилостивая царевна: попытаюсь купить эту землю у боярина Боборыкина, и коли он соизволит на это, тогда я сооружу здесь храм такой же, какой во Иерусалиме, и нареку место это «Новым Иерусалимом», и упокоятся когда-нибудь на сем месте мои бренныя кости.
После того почти до самого вечера они ходили по этой местности, любуясь и восхищаясь красотою вида.
— Никогда бы не поверил, — говорил Никон, — чтобы в пяти-десяти верстах от Москвы можно было отыскать то, что я искал когда-то на краю света, в Соловках. Здесь все: и вода, и горы, и лес — все есть, чтобы наслаждаться Божьим творением и умиляться. Завтра же переговорю с боярином и куплю это место.
Но настал вечер, патриарх и чернец сказали громко молитву и, простившись с царевнами, разошлись по своим шатрам.
* * *
Поспешный отъезд Никона с царской семьей из Москвы произвел в последней переполох, тем более, что москвичи узнали, что по распоряжению князя Пронского, все окна дворца забиты досками, замазаны глиной и вокруг него поставлена стража.
Оставшиеся в Москве бояре и боярские семьи, узнав об удалении двора из столицы, тоже потянулись вон.
Все же крестьяне подмосковных деревень, сел и городов перестали ездить в Москву, и всякий подвоз провизии приостановился, тем более, что заставы были сделаны на всех путях.
Смертность же стала страшно увеличиваться: прежде вымирали дворы, теперь целые улицы, а потом части.
Задвигался, забушевал народ: зачем-де царица уехала и патриарх. Зачем Иверскую Божью Матерь увезли под Смоленск.
Загудели колокола, ударили и в царь-колокол, и стал народ толпиться пред приказом, в котором заседал князь Пронский. Но его там не застали и народ разошелся.
Вечером того же дня, в стрелецкой слободе, в подворье Настасьи Калужской, где мы уже видели два раза синклит попов, собралось несколько купцов: Дмитрий Заика, Александр Баев, да кадышевец Иван Нагаев и тяглец новгородской сотни Софрон Лапотников.
Настасья Калужская и брат ее Терешка приняли гостей и, усадив их за стол, стали выносить старые иконы и показывать гостям.
— Страмота, — говорила Настасья, — Христовы люди молились им веками и не было моровой язвы; пришел антихрист и выбросил их… Видела я видение — Новый Иерусалим… в апокалипсисе сказано… и там — все эти иконы… — и обновленные да все святые угодники и ангелы им поклоняются. Восплакала я от радости и проснулася. А он, антихрист, так живьем и стоит предо мною и грозит ножом… вскрикнула я, а он яко дым исчез… Дьявольское наваждение… А ты, Терешка, расскажи-ка про Магдалину-то… Ведь она здесь, на Москве, многострадальная.
Терешка, рыжий горбунок, хромой на одну ногу, начал шепелявить:
— Иду я опомнясь по Кузнецкому и вижу — простоволосая, босая, с распущенной косой, бежит навстречу мне баба, а на руках у нее детеныш: голый и черный, точно земля… Кричит она неистово, и народ сторонится. Я-де Магдалина, голосит она, и как этот младенец, так и вы помрете: всех уморю, как его уморили… пожру я вас всех с телом, костями и душами вашими… и побежала, побежала…
Поднялся тогда с места Софрон Лапотников и вынул из кармана икону.
— Глядите, — сказал он, — взяли от меня сей нерукотворенный образ в тиунскую избу для переписки и возвратили с оскребленным лицом, а скребли образ по патриаршему указу.
— Вот, — воскликнула тогда Настасья Калужская, — и причина-то моровой язвы. Сказывал здесь и протопоп Аввакум, и Никита постник, и епископ Павел, что в откровении Иоанна сказано, что за одно слово, за одну черточку, что прибавляем или убавляем мы из священнописания или из иконы, будут язвы; вот и моровая язва, вот и Магдалина покарала нас.
— Не пригоже сему быть, — сказал один из гостей. — Завтра в Успенском соборе будет служба, мы все будем бить челом князю Пронскому.
На другой день в Успенском соборе собралось много народу, так как большей части церквей попы или перемерли или бежали из города.
Обедня шла печальная: почти весь народ плакал, так как у каждого была потеря, а были такие, которые остались совершенно одинокими.
По окончании церковной службы князь Пронский был остановлен народом на паперти.
Показывая ему икону Софрона Лапотникова, земские люди жаловались и на патриарха, и на чернеца Арсения, который печатает книги и портит иконы; а главнее всего им было обидно, что Никон в такие тяжелые минуты покинул Москву.
Пронский объявил, что Никон выехал по указу царскому и что он отпишет ему и царице; между тем он созвал представителей от купечества и те объявили, что они в смуте не участвовали и что лишь просят патриарха, чтобы тот назначил в церкви священников, потому что служба во многих прекратилась и некому отпевать мертвых. Последних в действительности таскали и хоронили, как собак; особая артель из общественных подонков, одетая через голову в кожаную одежду и рукавицы, являлась в дом, где были покойники, и крючьями таскали их на повозку и везли гуртом на погребение, без молитвы и обряда, а за городом все они бросались в большую могилу, и та засыпалась известью.
Но и эти люди мерли, как мухи, а потому погребение становилось затруднительным.
Поэтому, когда сотские головы узнают, что на доме каком-нибудь перемерли все, тотчас окна и ворота заколачиваются, ставится на воротах черный крест, и дом тот ждет очереди для очистки.
Такая смертность вызвала то, что под страхом смертной казни запрещено было сообщение между зараженными и незараженными деревнями, — вот откуда начало этого страшного карантинного закона, который в Одессе еще в 1837 году, во время чумы, был практикован: гам расстреляли еврея за то, что он спрятался в возе сена, желая избегнуть карантина на заставе… Но обратимся к царице. Последняя стоянка ее была на реке Нерпи, не доезжая Калязина монастыря, и в то время, когда стан должен был тронуться, дали знать, что через дорогу в Калязин привезено только что тело думной дворянки Гавленевой, умершей от заразы.
Никон тотчас распорядился, чтобы на дороге и по обе ее стороны, сажень по десяти и больше, накласть дров и сжечь их; потом уголь и пепел отвезены далеко, а на дорогу наложили новой земли… Грамоты, присланные ему из Москвы от бояр, переписывались и грамоты сжигались…
Царица так медленно подвигалась, что только два месяца после выезда из Москвы прибыла в Калязин монастырь. От Калязина же до Москвы всего только 332 версты.
Но вскоре после ее прибытия в обитель пришла из Москвы нерадостная весть: князья Пронский и Хилков сделались жертвой чумы.
Невольно и Никон, и чернец Арсений, получив все эти известия, возблагодарили небо за то, что они покинули ее.
— Если бы, — говорил Арсений, — мы избегли мировой язвы, то уж виселицы или топора — никак, в особенности я, как печатник книг. Невежды приписывают мне все исправления, а потому я, по слову апокалипсиса, навел-де язву.
XXXVIII Возвращение Смоленска
Стены Смоленска были растянуты на огромное пространство и имели тридцать шесть башен, и если осаждать было такую крепость трудно, то трудно было ее и защищать.
Защитники крепости были казаки и шляхта, а воеводою был Обухович и помощник его Корф.
Во главе шляхты стояли два Соколинских и пан Голимонт.
Со времени осады все эти лица собирались во дворце Обуховича и стояли на том: чтобы держаться до последнего.
Несмотря на тесную осаду крепости, город имел сообщение с Радзивилом, и тот писал: «Разбил-де русских под Оршей, теперь заманиваю старого дурака Трубецкого подальше и руками заберу». По случаю таких радостных вестей Обухович велел трезвонить во все колокола, и когда царь совершал панихиды и плакал по оршинским великомученикам, тот задавал пир за пиром, о чем он сообщал чрез лазутчиков в русский лагерь.
Вдруг он получает грамоту от Радзивила: «Развязка близится к концу: я получил известие, что крымский хан бросился на гетмана Богдана; значит тот сюда не придет, а я, как разобью и полоню старого Трубецкого, то приду к вам на помощь и, забрав русских руками, полоню их царя и повезу его в Краков. Слишком юн, чтобы бороться с гетманом Радзивилом».
Гетмана слова как будто и оправдываются: с крепостных стен ясно видно, что казачий полк, стоявший здесь, снялся и выступил в поход на Оршу, а под самой крепостью у царя ратники точно сырые яйца: не позволяет он охотникам лезть под пулю и коли потрафится раненый, он ухаживал за ним, точно за сыном родным. В таком разе будет он сиднем сидеть под Смоленском, пока Радзивил не нагрянет с литовцами и с коронным войском, — думают в крепости ляхи.
Но ошибались враги наши: не из трусости делал это Тишайший, а из человеколюбия и религиозности: смерть человека, без государственной потребности, он считал тяжким грехом. Притом, при всем своем мужестве, он был не воинствен и предпочитал тихую семейную жизнь бурному и шумному лагерному разгулу; поэтому он в стане сильно затосковал по семье и часто переписывался с нею; детей же страстно любил, и когда встретит какое-нибудь деревенское дитя, он не знал, как его обласкать. Но в стане он строго запретил, чтобы жены или сестры съезжались к мужьям и к братьям, так как это портило войско.
Вскоре, однако ж, ему пришлось сделать исключение: Артамон Сергеевич Морозов занял в его войске большую должность — он назначен стрелецким головой и сделался душою не только его армии, но и главным советником по делам военным.
Опечалился однажды Матвеев по получении из Смоленска грамотки от хорошего своего знакомого, Кирилла Полуехтовича Нарышкина. Как помещик-смоленчак, тот при приближении русских войск забрался в Смоленск с женою Анною Леонтьевною и с детьми, Иваном и Афанасием, да с маленькими дочерьми, Натальею и Авдотьей.
Вся эта семья умирала там с голоду, и Нарышкин умолял обменять на них несколько пленных поляков. Доложил об этом Матвеев царю, и тот разрешил обмен. Несколько дней спустя вся большая семья Нарышкина выведена из Смоленска и доставлена в лагерь.
Матвеев дал Нарышкину возможность выехать в свою вотчину, но девочка Наталья сильно заболела, и Матвеев упросил царя оставить ее в его, Матвеева, шатре.
Оставленная у него, она вскоре выздоровела и сделалась их утешением.
Это была черноглазая смуглянка, быстрая, проворная.
Царю она понравилась, и он для развлеченья часто захаживал в шатер Матвеева, чтобы поиграть с нею.
Та сначала его чуждалась, убегала и пряталась под свою кроватку, но потом привыкла к нему — только уж очень беспеременно обращалась с царским величеством: борода его неоднократно была взъерошена по милости ее маленьких ручек. Зато царь, как поймает ее и посадит на колени, то нацелует обе щечки докрасна.
Причем Тишайший приговаривает:
— Знал я другую Натю, и коли б я с той совершил, что с тобою, она бы мне нос откусила. Право слово.
Маленькая Натя сделалась, таким образом, предметом особой нежности и заботливости царя, и он готов бы был оставаться Бог знает сколько в качестве осаждающего Смоленскую крепость: без кровопролития, но рать вывела его из этого мирного покоя.
После оршинского погрома нашей рати войско прямо потребовало приступа к крепости, чтобы идти потом на Радзивила. Нечего было делать, вечером с 15 на 16 августа войскам отдан приказ: с рассветом, после всеобщего молебна, двинуться на приступ.
Возликовали воины, раздались веселые песни, но вечером все погрузилось в глубокий сон.
Не спал, однако ж, царь Алексей Михайлович: он долго молился и плакал, и когда все успокоились и в его шатре, он тихо вышел.
Ночь была лунная. Свет ее падал на белокаменные церкви Смоленска и на крепость, открывая чудный вид. В отдалении и как будто из крепости слышался отклик часового.
— Боже, — подумал он, — какая теперь тишь да гладь, а завтра что будет? Яростные крики, резня… Стоны и вопли умирающих… Страшно и подумать… И для чего это?… Пути твои, Боже, неисповедимы.
Едва это подумал он, как увидел приближающегося к нему человека. Несмотря на то, что царь был без оружия, он хладнокровно выждал, пока тот подошел к нему.
— Кто идет? — спросил он бестрепетно.
— Я, голова стрелецкий, великий государь. Напрасно по ночам трудишься, на то мы, твои рабы, чтобы бодрствовать.
— Спасибо, Артамон Сергеевич. Хорошо, что вижу тебя. Меня беспокоит одно: думаю я, что будет, коль мы понесем большие потери в приступе и вынуждены будем отступить… или, все в воле Божьей, — коль мы умрем… Что тогда будет с твоей Натей?
— На случай отступления, — сказал тогда Матвеев, — я распорядился: лошади и колымага готовы и повезет ее мой Афанасий в Тверь. А вот на случай смерти моей ничего сделать не могу — сам гол как сокол: окромя домишка я ведь ничего не имею.
— Об этом-то я и думал… Вот, возьми эту грамоту: коли меня не станет, она получит из вотчин моих село… будет это для нее хорошее приданое.
Царь вынул из кармана грамоту и передал ее Матвееву.
Это тронуло до слез стрелецкого голову: накануне приступа к Смоленску, когда царь был так озабочен, он не забыл его питомицу, маленькую Натю.
Принимая поэтому у царя грамотку, он поцеловал его руку и как бы пророчески сказал:
— Наташа моя никогда не забудет царской милости, и придет время, когда она отблагодарит тебя, великий государь, сторицею.
Чтобы прервать этот разговор, так как он не любил благодарностей, Алексей Михайлович вдруг спросил:
— Ведь Натя дочь Кирилла Нарышкина?
— Точно так.
— Отчего Нарышкины захудали?
— Один из Нарышкиных был воеводою при Иване Грозном; после него, известно, одни не хотели служить Годуновым, другие — самозванцам, третьи — Шуйскому, а при покойном отце вашем государство не установилось, все еще бродило, а вотчин у Нарышкиных было мало, и как пошло на дележ, то и захудали. От того, — заключил он, — и многие не только боярские дети, но и княжеские приписывались к боярским дворам, а там вышел указ, кто из них был женат на крепостных девках, так и тех закрепостили.
В это время в отдалении запели петухи.
— Пора, великий государь, на покой, завтра до свету приступ, — заметил Матвеев.
Царь простился с ним и ушел в свой шатер.
Матвеев пошел в стрелецкий лагерь, осмотрев, все ли в порядке и не спят ли часовые, и отправился в свой шатер.
После третьих петухов все ратники были уж на ногах и полковники повели их на приступ; многие из солдат несли с собою лестницы.
Едва забили барабаны в русском лагере, как поляки бросились на стены, чтобы отбить приступ. Но русские двигались вперед так, что нельзя было отгадать, где будет сосредоточено нападение.
Крепостные стены, как мы уже говорили, были растянуты на огромном пространстве, и поэтому полякам приходилось перебегать с одного места на другое, тем более, что фальшивое нападение было то с той, то с другой стороны.
После таких маневров огромная масса ратников бросилась вдруг с восточной стороны, т. е. где глядел с высоты сам царь на крепость, и тысячи лестниц сразу очутились у стен. Неприятель стрелял из пищалей, лил горячую смолу, бросал каменья, но ратники все шли вперед, карабкались по лестницам и, наконец, с криками ура и гиком они очутились на стенах. За первыми, как вода, потекли ратники, и не более как в четверть часа вся стена с той стороны покрылась сонмом воинов и царская хоругвь передового царского полка водрузилась на стене.
Но раздался вдруг страшный грохот, так что и царь, и окружающая его свита попадали, и над крепостною стеною поднялся столп дыма к небесам, и когда он рассеялся, то предстоящие и царь увидели вместо стен какие-то развалины и ни одного воина на них.
Ужас овладел всеми, и царь приказал бить отбой, чтобы собрать осаждающих.
Войска, наступавшие с других сторон, возвратились в целости, но из наступавших с восточной, по сказанию иностранцев, будто бы убито пятнадцать тысяч и ранено десять тысяч, а царь писал сестре, что убито пятьсот и ранено тысяча человек; причем он присовокупляет, что это поляки подложили под стены порох.
После отбоя царь послал объявить перемирие на неделю, чтобы собрать убитых и раненых; многие были если не ранены, то страшно опалены и умирали в муках; лекаря потребованы со всех городов белорусских, и тогда-то явились к царю крещеные евреи Данилов и Самойлов.
Оба действовали энергично и с самоотвержением: устроили для больных особые помещения, и под их руководством образовался огромный штат фельдшеров и аптекарей, все ухаживали день и ночь за больными.
Царь и все бояре посещали раненых и раздавали им деньги и пищу; воинство от этой неудачи не только не пришло в уныние, но горело нетерпением вновь идти на приступ крепости.
Пороховой взрыв, сделанный поляками, повредил сильно крепостные стены; они строились русскими многие годы и поляки еще более их расширили, и они были такой толщины, что огромным количеством пороха взорвало хотя часть стены, но ее трудно было восстановить в короткое время.
Русские могли бы поэтому со дня на день предпринять новый приступ, и тогда падение крепости было бы неминуемо.
Употребив много пороху на взрыв, у поляков оказалась недостача в нем, между тем воевода Обухович получил уведомление, что войска Радзивила у реки Шкловки разбиты и что Усвят и Шклов уже сдались русским, вся же Белоруссия до Могилева восстала против поляков.
Окруженный и отрезанный от Польского королевства, Обухович понял тогда, что крепость не может более держаться, а потому начались переговоры с русскими о том, чтобы сдать Смоленск, с тем, чтобы Обуховичу и Корфу разрешено было выехать в Литву, что представлено было на волю и остальным смоленцам.
Но окончанием этого дела поляки медлили, ожидая вестей от Радзивила.
Начал чувствоваться сильный недостаток в провизии, так как русские еще теснее обложили Смоленск и закрыли подвоз припасов по Днепру. В городе, как мы уже говорили, проживали пан Голимонт и два Соколинских.
Знатные и богатые шляхтичи и униаты сражались за Польшу, которой служили, так как стояли во главе белоруссов с Обуховичем. Нужда у этих бояр, проживавших в Смоленске с семействами, достигла крайних пределов, и они потребовали, чтобы Обухович сдал Смоленск, так как дольше держаться было равносильно тому, что обречь всех голодной смерти.
Обухович отказал.
Голимонт созвал сейчас всех наличных шляхтичей Смоленска и вместе с Соколинскими говорит так энергично, что шляхта согласилась на сдачу города.
Как только это совершилось, Голимонт, Соколинские и шляхта бросились к замковой пехоте, велели ударить тревогу, и, когда ратники собрались, они возмутили ее и отправились с барабанным боем к воеводскому дому.
Услышав шум, крик и стук оружия, Обухович с Корфом и еще с несколькими другими из свиты своей вышел на крыльцо.
Голимонт и Соколинские объяснили ему, что решение и шляхты, и войска — тотчас сдать крепость русским.
Обухович заплакал.
— Радные паны, шляхтичи и ратные люди, — воскликнул он, — в царствование Михаила Федоровича польская кровь лилась здесь реками, но еще при приснопамятном Иоанне Собеском здесь тысячи польских голов легли, и все эти кости умостили дорогу на Смоленск, так как это ключ в сердце России и ключ к Польше. Вот почему за невзятие Смоленска боярин Шеин лишился головы и он был в гораздо труднейшем положении, чем мы. И если он лишился головы за невзятие крепости, то нас придется четвертовать. Умываю себе руки от этого позорного дела: снимаю оружие — делайте со мною и с городом, что хотите. Но предупреждаю, если я медлю, то имею основания: мне в русском стане говорили положительно, что в Москве и в окрестностях ее страшная чума. Люди мрут, как мухи, и, несмотря на заставы, она легко может проникнуть в царский стан. А раз она проникнет сюда, царь тотчас снимет осаду и уйдет отсюда, — тогда вам вечная честь и слава будет.
— Не хотим больше ждать, наши семьи умирают с голоду, — крикнули шляхтичи.
— А мы жалованья не получаем, — заголосили ратники.
Толпа обступила Обуховича и Корфа и заставила их идти: те повиновались силе.
Многие ратники бросились на воеводскую крышу, сорвали оттуда хоругвь и бросились вперед. Барабаны ударили, и нестройной массою двинулась шляхта, воины, а за ними и народ к крепостным воротам. За ними тронулись с знаменами и барабанным боем остальные войска.
Ворота раскрылись, и все они вышли за город, послав вперед к царю Голимонта и Соколинских с изъявлением ему покорности.
Тотчас в русском лагере ударили тревогу, и весь стан поднялся. Войска собрались пред воротами Смоленска и тут-то, окруженный всеми боярами, воеводами и полковниками, царь Алексей Михайлович ожидал побежденных.
Литовские воеводы и полковники, выходя из Смоленска и проходя мимо него, били челом и клали знамена к его ногам: ратники делали то же самое и складывали в одно место оружие.
После этого царь отслужил благодарственный молебен и велел тотчас части войска занять Смоленск.
С распущенными знаменами, трубным звуком и барабанным боем вступили 23 сентября 1654 года вновь войска в Смоленск, т. е. ровно двадцать лет после неудачи Шеина.
Торжество было великое. Со Смоленском во власть нашу подпадала не только вся Белоруссия, но окончательно присоединилась и Малороссия, так как Киев и Смоленск командуют всем течением Днепра.
Празднование этого великого события началось на другой же день: бояре, окольничие, стольники, стряпчие и дворяне явились поздравить царя и подносили хлеб-соль и соболей; а царь в столовом шатре своем угостил обедом не только их, но и сотенных голов имени его полка. За обедом присутствовал тоже и наказный атаман Золотаренко, прибывший в это время к царю за приказанием. Несколько дней спустя царь угощал обедом есаулов своего полка и смоленскую шляхту. Но спустя несколько дней, получив известие о взятии города Гор, царь выступил в Вязьму.
XXXIX Возвращение царя в Москву
С осени моровая язва стала утихать, заболевшие люди начали выздоравливать, а к зиме она совсем прекратилась.
Но моровая язва захватила не одну Москву, а покосила много народу и в Нижнем Новгороде, Калуге, Троицком монастыре, Торжке, Звенигороде, Верее, Кашине, Твери, Туле, Переяславле Рязанском, Суздале, Переславле-Залесском. Обширный район захватила она и выморила почти половину народонаселения.
Когда же она утихла, радость была неимоверная; но царь перевез из Калязина в Вязьму семейство и Никона, так как в Тверской губернии было небезопасно. Он остался бы в Вязьме даже зимовать, да в Москве чума совсем прекратилась, а многие прямо затосковали по матушке-то своей.
И к царскому приезду убралась и нарядилась столица белокаменная, точно невеста для встречи жениха.
Церкви все выбелили снаружи и внутри, все дома обкурены внутри и вычищены, многие избы, где была большая смертность, снесены и новые воздвигнуты, улицы вычищены; а тут стала еще зима ранняя и крепкая — сначала снег, а потом трескучий мороз.
Дворец и палаты, и приказы, и избы тоже вновь отделаны, а бояре, их семьи, и гости иностранные, и свои, узнав о возвращении царя в столицу, тоже возвратились восвояси, а тут еще наехало много дворян, чтобы узнать о своих, бывших на войне.
Съезд сделался огромный, и закипела и зашумела белокаменная; а тут каждый день возвещают с красного крыльца: царь ночевал там-то и приедет в Москву тогда-то, а перво-наперво приедет патриарх Никон приготовить царскую встречу.
А гости московские, и жильцы, и дворяне готовят хлеба-соли царю и соболей дорогих с поздравлением о Смоленске.
Вот загудели 9 февраля все сорок сороков и появился Никон. Впереди него несут крест, а за ним все московское духовенство и монашествующие с хоругвями, образами и крестами; и пошли крестным ходом по Москве, а потом в Успенском служили молебен.
На другой день выехали московские ратные люди, воеводы, дворяне, гости и жильцы, все верхами, навстречу царю.
И видят они: идут впереди трубачи и литаврщики, за ними две сотни царского полка, потом две сотни стрельцов и далее две сотни казаков, за ними верхами дворцовые воеводы, а за этими царь-солнышко, на белой лошади, в горностаевой шубке, в шапке Мономаховой, со скипетром в руке. За ним бояре, окольничие, стольники и стряпчие. А там потянулись санные колымаги царя, царицы, царевичей, царевен и дворцовых бояр и боярынь, а вот и обоз.
Поднесли царю москвичи хлеба-соли на серебряном кованном блюде и соболей дорогих и присоединились к поезду.
Проезжают они по Москве к Успению, а народ так поклоны и бьет челом в землю и чуть не молится на батюшку царя, а Тишайший кланяется по всем сторонам.
У Успения слез царь с лошади и все поездные, а на паперти патриарх Никон со святою водою и крестом и со всем московским духовенством. Говорит он со слезами на глазах краткое слово царю, а тот обнимает и целует Никона, называет отцом своим и великим государем.
Служит патриарх соборне молебен и по окончании службы царь просит и патриарха, и всех бояр окольничьих, и стольников, и дьяков, и сотенных голов к себе хлеба-соли откушать.
Москва ликует, все сорок сороков гудят, народ кричит ура, а пищали или пушки стреляют, духовенство же всей Москвы поет: «Спаси, Господи, люди Твоя» и «Многая лета».
Ликует тоже юный царь и Никон. Хотя потеря под Смоленском велика, но великая твердыня вновь в руках, а Польша показала свое бессилие. Нужно за зиму приготовиться к новой борьбе на следующий год: он окончательно возмужал и сделался подвижен.
Ежедневно на прелестных резных санях, покрытых дорогими коврами и огромною медвежью полостью, тройкой с бубенчиками и наборными серебряными хомутами, в горностаевой шубке и собольей шапке начал он разъезжать но Москве.
Да и царица и царевны перестали прятаться от людей — начали выезжать они в возках, а дома давали вечеринки боярыням и их семьям.
Это оживило и воодушевило Москву. Только одно смущало всех — во время моровой язвы многие из дворян, купечества и мещан в ожидании неминучей смерти приняли схиму, а тут, как назло, они остались в живых, и стало им смутно и грустно, что они поторопились, да и монастырская жизнь не ахти как сладка. Вот порешили они меж собой вновь сойтись, как ни в чем не бывало.
Дошло это до Никона, собрал он собор, потолковали тайно, что делать?
Решили, что это большой соблазн, так как после схимы расстрижения нет; отнеслись поэтому строго и разлучили супругов.
Поднялась на ноги вся Москва. Это безбожно, кричали все: что Бог связал, того и схима не развяжет. Коли б сам патриарх был женат, то и тогда он мог бы жить со своею женой.
Но разлученные супруги, преследуемые духовенством, бежали из своих мест и, продолжая в глуши жить брачною жизнию, основали секту, отвергшую священство и брак как таинство.
Вспомнил тогда Никон схимницу Наталью и ее слова: разве исправление у нас книг не равносильно-де женитьбе патриарха: пожалуй, снисходительнее к последнему отнесутся, чем к первому.
Но Никон шел вперед. Он поручил Арсению Суханову не только собрать всевозможные рукописи в Греции, но посетить и Иерусалим и привезти оттуда точный снимок храма Воскресения на гробе Господнем.
Теперь тот привез все это, и необходимо было взяться за исправление книг, что и поручено Епифанию и Арсению.
Но не забыл Никон и мирских дел; ему доставил Епифаний из Киева карту всей Европы, и он по целым дням сидел над нею и, изучая ее составил целый план войны будущего года.
Над этой работой застали его однажды Морозов и Милославский.
Когда те вошли в его кабинет, или комнату, как тогда назывались кабинеты, Никон встал со своего места и благословил пришельцев.
— Дурные вести, — сказал он. — Поклонского нашего Радзивил осадил с двадцатитысячным войском в Могилеве и он изменил нам, но воевода Воейков с мещанами Могилева не сдают: а Золотаренко сидит в Старом Быхове: его отрезал от нас Гонсевский.
— Теперь зима, и зима крепкая, лютая… Велеть бы из Смоленска дать тому и другому помощь, да отсюда в Смоленск некого отправлять, да если бы и было, так зима сурова, — возразил Морозов.
— Если, — заметил Никон, — поляки могут осаждать зимою, то почему мы не можем делать передвиженья? Конечно, — прибавил он, — нужна при этом хорошая обувь, рукавицы и шубы… Все это я изготовил на собственные свои деньги… Теперь, бояре, от вас зависит послать туда ратных людей. Вы говорите, что здесь их нет в Москве, что нет их в Смоленске… Вот что мне пишет смоленский воевода Григорий Пушкин. «Хоша изменили нам Ляпуновы и молодой Соколинский, зато белорусы ежедневно являются в Смоленск и поступают в ратники; да и я велел всем ратникам в Москву не идти, — собираться украинским в Переяславле, а новгородским, калужским, тверским — в Смоленске».
— Что же гонцы бают из Малой Руси? — спросил Милославский.
— Митрополит киевский и попы мутят шляхту: они говорят, что хотим будто бы подчинить митрополита их московскому патриарху. Мы-де, кричат они, поэтому и унию не приняли, чтобы остаться за царьградским патриархом, а гетман Богдан нас продал. Все это наделало нам книжное дело, — горячился Никон, — со соизволения царя вызвал я сюда антиохийского патриарха Макария и многих восточных архиереев. Нужно и Малороссии, и Белоруссии доказать, что мы едины и но духу, и по вере. Но с Божьею помощью мы с этим делом сладим. Нужно же нам подумать, что делать с гетманом Богданом, — он не помог нам на Украине ничем, он-де будто боится татар. Теперь Василий Борисович Шереметьев доносит, что на него и на Богдана напали татары и поляки под Ахматовым; отбиваясь от них, он по страшному снегу и морозу отступил к Белой Церкви, где, впрочем, нашел и войска окольничьего Федора Васильевича Бутурлина. Татары и поляки, пишет он, страшно опустошали Украину. Вот тут что делать?
— Как ты, великий государь, на это соизволишь, — отвечал Милославский.
— Моего хотения тут мало, а думаю я своим слабым разумом, что гетман Богдан с Бутурлиным должен идти на Волынь, в Галицию и Краков.
— А с татарами кто справится? — спросил Морозов.
— Казаки донские доносят, что они ранней весной, как только размерзнутся реки и морс, поедут на ладьях в Крым, разорят татарские улусы: вот и будет им не до похода, — объяснил Никон.
Потом, поглядев на карту, он показал, каким путем пойдет царь на Вильно, Варшаву и Краков.
— Таким образом, — заключил он, — царь соединится с Бутурлиным и Хмельницким в Кракове, а мы посылать будем из Смоленска войска и в те места, которые уж заняты будут, и в те, где надобность укажет.
— Аминь, — произнесли Морозов и Милославский.
— Но разве мы можем окончить это за одно лето? — спросил после некоторого молчания Милославский.
— Нужно напрячь для этого все силы и старания. Нужно собрать большое ополчение к весне, нужно собрать казну, где только можно, и нужно двигаться вперед и вперед, пока вся Польша будет наша. Сила ее была в Малороссии и Белоруссии, откуда она получала свои полчища, и если мы захватим в начале года еще Подолию и Волынь, то едва ли с одной Литвой она выдержит с нами борьбу. Нам нужно только не медлить, чтобы не давать очнуться ни им, ни их соседям. Молдавский и волошский господари и венгры, вот пишет гетман, просятся тоже под высокую царскую руку; но Виговский называет их изменниками. И я-то им не верю, но послать им дары нужно — пущай не помогают врагу. А вот свейцы, те, как узнают, что Польше плохо, то они или нападут на нас, или на Польшу, чтобы забрать, что плохо лежит. По этой причине и я говорю: одним ударом нужно забрать Польшу, венчать царя Алексея Михайловича польским королем, а там уж будем разговаривать с соседями.
— План, — сказал Морозов, — хорош, и царь его одобрит, нет и сомнения, но откуда ты возьмешь и казны, и столько войска?
— Надеюсь я много и на то, — возразил Никон, — что все русские восстанут и в Подолии, и в Волынии, и в Галиции, но для этого нужно не притеснять их, не разорять, не бесчестить их семейств, как это делалось нашими ратниками до сих пор.
— Под страхом смертной казни можно это запретить, — воскликнул Милославский.
— Насчет же казны, — продолжал Никон, — то я отдаю все, что имею, и многие сделают тоже вклады, а там что Бог даст: свои подождут, а платить будем чужим. Да, поставщики, подрядчики и иноземцы тоже подождут за ставленные товары, пищали и порох. И с Божьею помощью и по соизволению Царицы Небесной двинемся мы на врагов и одолеем их и возвеличится наше царство. Вот пишут тоже нашим грекам, что все народы турского султана ждут не дождутся, когда мы перейдем Дунай, — все они пойдут с нами.
— Придет когда-нибудь время, — вставил задумчиво Морозов, — и все это исполнится, но теперь нам тяжело — моровая язва столько людей прибрала в Великой Руси.
— С Божьей помощью народ будет нарождаться, а мы должны свое дело делать. Чтобы достичь обетованной земли, Моисей сорок лет с целым народом блуждал в пустыне, неужели же нам тяжело поднять меч на год или другой? Только нужно решиться и не отступать — знамя наше должно быть: вперед и вперед! А Иверская Божья Матерь (она будет с царем) приведет нас и в Варшаву, и Краков. Мы избавились от ига ляхов и теперь должны избавить от них и наших братьев, — вся русская земля, как оно сказывается в летописях, собранных мною, должна быть единая. Так глядели предки наши, так и мы должны глядеть. Придя в Киев, Олег сказал Аскольду и Диру: «Вы не князья, не бояре», и велел их умертвить, давая этим знать, что Киев — Русь; а на врата Царьграда он прибил свой щит — вот де наша граница. Будем молить небо, чтобы оно дало нам силы, а теперь настало уж время сражаться за обетованную нам издревле землю. Аминь.
— Аминь, — произнесли набожно Милославский и Морозов и, подойдя к его благословению, отправились к царю.
Когда они передали разговор своей с патриархом, тот перекрестился и сказал:
— Куда Дух Божий устами патриарха направит нас, мы пойдем и готовы положить кости наши, да не посрамим земли русской.
XL Русские в Галиции и в Литве
11 марта 1654 года государь послал в Белую Церковь приказ Шереметьеву и Бутурлину возвратиться в Москву, а на их место приехали боярин Василий Васильевич Бутурлин и стольник князь Григорий Григорьевич Ромодановский, с тем чтобы идти с гетманом Богданом под литовские города.
Богдан долго медлил, но потом собрал большую силу и выступил в июле месяце в поход.
Еще до выступления он писал наказному атаману Золотаренко: «И прошлого года многого доброго бы сделалось, если бы около курятников (городков) не замешкались, а то только людей и наших, и московских потеряли».
В конце же письма он присовокупил: «Промышляйте над головой, а с хвостами после управитесь».
В походе своем с Бутурлиным он поступил точно так: как лава, войска их потекли массою, нигде не останавливаясь, и только на полпути один сильный отряд под начальством Петра Потемкина и Данилы Выговского отправлен в Люблин.
Несколько недель спустя главные наши силы были уж в Галиции. Галичане встретили русских восторженно — они выходили к ним на встречу с хлебом-солью и без выстрела сдавали города, как это делала, впрочем, по пути вся Волынь.
Узнав об этом вторжении, коронный гетман галицийский Потоцкий собрал огромные силы, вышел из Львова и укрепился в Гродке, или Грудке.
Позиция здесь очень сильна, и в случае неудачи Потоцкий мог отступить к Кракову.
Соединенные войска были под начальством опытных полководцев, а поэтому, не дав Потоцкому укрепиться и стянуть большие силы, они стремительно ударили на укрепленный лагерь: коронный гетман не выдержал натиска и, оставив весь обоз, много убитых и раненых, стремительно бежал в Краков, оставив беззащитною всю Галицию.
Победители пошли тогда на близлежащий Львов.
Оставленный здесь польский воевода не хотел сдавать города, и началось правильное обложение и осада.
Богдан Хмельницкий из стремительности перешел вдруг к медленности, и когда Бутурлин потребовал от него, чтобы разослать отряды для занятия и привода к присяге русскому царю всей страны, то он отговорился тем, что этого нет в инструкции и что сказано только идти им под литовские города, и что они в Галицию вошли лишь для того, чтобы разбить Потоцкого, который мог бы им вредить в Литве.
Дело, таким образом, клонилось лишь к тому, что Богдан вошел в переговоры с польским воеводою о контрибуции с города Львова.
Ошибка Бутурлина заключалась в том, что он должен был разойтись с Богданом и предоставить ему действовать по своему усмотрению, а самому оставаться в Галиции, как это сделал в Могилеве Воейков, когда разошелся с Поклонским, изменившим нам.
Из Галиции Бутурлину не нужна вовсе была помощь Богдана, в особенности после одержанной ими победы под Грудком, потому что в это время Ян Казимир, низложенный шведским королем Карлом X, бежал в Силезию, и Карл, провозгласив себя королем Польши, овладел всею старою Польшею и имел столько работы, что ему было не до Галиции и что почти вся Литва была в наших руках.
Люблин же присягнул России. Князь Семен Иванович Урусов и Барятинский были под Брестом; князь же Волконский, выехав на лодках из Киева, успел покорить все белорусские города по течению Днепра и его притоков — Прилети и Горыни.
Сама Галиция была тогда более русская, чем теперь — немцы, евреи и поляки наводнили ее уже впоследствии.
Минута тогда была самая благоприятная для воссоединения ее с остальною Россиею, так как в Галиции были тогда воспоминания об ее самостоятельности и язык был ближе к нам, чем язык Малой Руси.
Понял это хитрый и лукавый Богдан, понял, что если утвердится Бутурлин во Львове, то и Подолия, и Волынь будут его, и что тогда, быть может, и значение Малороссии как главной союзницы Руси потеряется, а поэтому заупрямился он и, взяв со Львова ничтожную контрибуцию в 60 тыс. злотых, т. е. девять тысяч рублей, отступил восвояси.
Выговский же прямо писал львовцам, чтобы они не отдавались в подданство русскому царю, так как Москва обманет их так, как обманула Малороссию. Бутурлин отступил с гетманом, и потом долго галицийские русины это отступление приписывали прямой измене обоих полководцев русскому делу.
И действительно, это отступление нанесло сильный удар всей тогдашней русской войне и русскому делу, так как при отступлении казаки и с легкой их руки и русские ограбили все города и деревни, через которые возвращались домой, так что долго галичане, Волынь и Подолия не могли после того поправиться.
В то время, когда успешно, но вместе с тем так вредно шли наши дела на западе, царь Алексей Михайловича в начале весны выехал в Смоленск и издал приказ по войскам или, как тогда называли его, «сказку», в которой он объявил, что если польский король не исполнит его требование, то он будет продолжать войну и зимою, причем под страхом строжайших наказаний он запретил жечь и истреблять имущество жителей и производить бесчинства.
24 мая выступил царь из Смоленска и в начале июля прибыл в Шклов; отсюда воинство разбилось на отряды: Поповича, Матвея Васильевича Шереметьева, Федора Юрьевича Хворостинина, Якова Черкасского и Золотаренко.
Узнав, что царь с главными силами своими движется на Вильно, Радзивил и Гонсевский стянули туда коронные и гетманские войска. За городом, в полумиле от него, устроили они сильный укрепленный лагерь, откуда могли действовать не только артиллерия и пехота, но и кавалерия.
Разъезды же их и пикеты шли верст на пятьдесят вперед, так что достигали деревни Крапивны.
Оттуда дали знать, что главные силы царя движутся на Крапивну, но к удивлению поляков, с двух совершенно противоположных сторон, 28 июля к вечеру появились князь Черкасский с русскими и Золотаренко с казаками. После ничтожной перестрелки, по случаю наступления темной ночи, войска наши заварили пищу.
Радзивил понял это так: дескать, пришли передовые отряды, с тем, чтобы дождаться главных сил, а потому нужно на них напасть и разбить.
С рассвета поляки открыли страшную канонаду по русскому лагерю; казаки испугались и, сев на коней, видимо, ушли, а русские начали тоже отступать.
Но, к ужасу поляков, они вдруг увидели к шести часам казаков в самом тылу своем за обозом.
С гиком казаки бросились на обоз и начали рубить обозную прислугу; в это время русские с Черкасским ударили во фланг.
Поляки смутились, но оба гетмана решились дорого рассчитаться с казаками и русскими. Огромное их войско дралось мужественно и сражение длилось до самой ночи. Одна ночь спасла их: небольшой остаток воинов переправился через реку Вилию и ушел в лес.
На другой день Золотаренко и князь Черкасский вступили в Вильно и заняли его именем царя.
Когда пришла эта весть, государь почти не верил такому счастью; он полагал, что будет лично иметь дело с петушившимися Радзивилом и Гонсевским или, как он их называл, с хвастунишками, которые отговаривали короля польского мириться, обещаясь или полонить юного царя, или сделать прогулку в Москву.
Царь тотчас отслужил молебен и принимал поздравления, а виленская шляхта и горожане, явясь с повинною, были угощаемы царем.
Государь послал в Москву гонца с извещением об этом радостном событии и испрашивал у патриарха разрешения прибавить к своему титулу «Великий князь литовский» и к слову самодержец присовокупить: «И Белыя Руси».
Когда была получена эта весь в Москве, все сорок сороков загудели и во всех церквах пошли молебны, в успенском соборе служил соборне патриарх.
В тот же день отправлен ответ патриарха, что он благословляет его принять титулы Великия, Малые, Белые России, Литвы, Волыни и Подолии Самодержец, но как будто предчувствуя этот успех еще в день битвы, он писал царю из Москвы и умолял его на этом не останавливаться, а взять Варшаву и Краков и провозгласить себя королем Польши.
Этому как будто все благоприятствовало: в течение августа сдались русским Ковно и Гродно.
Но едва заняли русские Вильно, как Гонсевский прислал к князю Черкасскому с вопросом: не желает ли царь мириться?
Узнав об этом, гетман Радзивил арестовал Гонсевского, а король польский отрешил гетмана Радзивила от должности и назначил на его место Павла Сапегу.
Но тут с Польшею случилось обстоятельство, которое в Европе до Наполеона совершалось только с Польским государством: придравшись к польскому королю Яну Казимиру за ошибку в титуле шведской короны, Карл, сын Христины, напал на него, выгнал в Силезию и, овладев старою Польшею и Варшавою, провозгласил себя королем польским.
Поляки не были довольны этим, так как они были католики, а тот — протестант; один только Радзивил, как кальвинист, был этим доволен и, признав его королем, принял титул гетмана литовского и шведского.
Очевидно, что при таких событиях царь должен был исполнить требование Никона, и немедля, после взятия Вильно, идти на Варшаву и Краков, т. е. не на поляков, а на шведов, так как поляки из одной ненависти к лютеранизму провозгласили бы русского царя, своего освободителя, королем польским.
Но Алексей Михайлович медлил, начал было переговоры с Сапегою, потом с Радзивилом и испортил этим все дело, между тем как патриарх предупреждал царя еще 19 июля: с Радзивилом никогда ни в какие соглашения не входить; «Радзивила-де не призывать, — писал он, — его и так Бог предаст».
Медленность царя наделала то, что шведы вскоре очутились в Гродно и затем в Друе и Дриссе, а известия получены еще, что шведский король переписывается и с Хмельницким, и Золотаренко об измене русским.
В это время, т. е. в октябре, приехали в Москву от германского императора послы как посредники для примирения воюющих.
Это заставило царя, в ноябре месяце, возвратиться в Москву.
Встреча была устроена на Лобном месте: здесь была вся Москва, патриарх и все духовенство.
Торжественно въехав при колокольном звоне верхом в сопровождении бояр, окольничьих, стольников и стряпчих, и сопровождаемый воинами, царь Алексей Михайлович прямо направился к Лобному месту и здесь, сойдя с лошади, поклонился образу, который был в руках патриарха, и, поцеловав крест, имевшийся у него в руках, указал спросить весь народ о здоровье. Весь народ пал на колени и запел: «Многая лета».
Две недели спустя царь принял германское посольство. Оно поднесло ему: две склянки св. мира Николая чудотворца, два золотых кувшинца, осыпанные жемчугом, две обьяри цветные, обьярь серебряную, часы золоченые, две коробки аромату, две коробки сахару составного, т. е. конфет.
Целую неделю вся Москва говорила о богатстве подарков, но этим дело и кончилось, вопрос о мире отложили в долгий ящик.
Между тем отступление Бутурлина и Богдана от Львова тотчас отразилось на ходе нашего дела в Польше: Ян Казимир явился во Львов, утвердил вновь Сапегу гетманом литовским и стал сражаться одновременно со шведами и с русскими…
Так застал русских 1655 год.
Никон выходил из себя: все планы, все усилия его рушились, несмотря на то, что все блаприятствовало делу, но на каждом шагу являлись непредвидимые препятствия, а неистовство князя Урусова, когда он занимал Луцк и Брест, до того озлобили против русских литовцев, что Сапега прямо заявил нашему посланнику, что нечего и думать о подданстве Литвы.
Никон тогда понял, что нужно победить Польшу не одною силою своего оружия, но и своим образованием, еще с большим усердием взялся он за исправление церковных книг и за образование народа.
Занятый этими мыслями и делами, он отправился в Андреевский монастырь. Федор Михайлович Ртищев было уже в это время окольничьим и в царской милости и продолжал дело просвещения народа. Монастырь его, вместе с Епифанием Славенецким, содействовал присоединению Малороссии к России, и переводу богослужебных книг, и введению у нас церковного пения.
Приехав в обитель, Никон не велел тревожить братию и отправился прямо в рабочую комнату Епифания. Он застал там и Ртищева. Никон повел беседу жалобою, что все его планы расстраиваются непредвиденными обстоятельствами, что самые благие его намерения истолковывают Бог знает как.
— Кто бы мог подумать, — воскликнул он, — что гетман Богдан выкинет такую штуку; пройдет с большим войском победоносно более тысячи верст для того, чтобы взять с Львова девять тысяч и отступить… Кто бы мог думать, что князь Урусов будет разорять литовские города хуже татарина… ведь это было запрещено под страхом смертной казни… А вот киевские чернецы, — обратился он к Епифанию, — отличились: пишут они к литовской братии, что будто бы я заставляю себе присягать как всемирному патриарху и что будто бы хочу всех перекрещивать… Что скажешь насчет этого, отец Епифаний?
— Остается только скорбеть, — заметил тот. — Но отчасти и наши бояре виноваты, они до грабежа повадны, и в войске нет строгости и послушания… Ведь в Малороссии они хотят устраивать московские порядки; то же самое и в занятых нами областях — Белоруссии и Литвы. Это невозможно — мы грубее и невежественнее тех.
— Да ведь с боярами ничего не поделаешь: велишь им делать одно, они делают другое, — горячился Никон. — Но это в сторону, — продолжал он, — твои старцы, Федор Михайлович, должны бы написать в Киев всю правду: что я-де не домогаюсь сделаться всемирным патриархом, а что желаю, чтобы восточное исповедание, в которое верует митрополит киевский, сделать всеобщим не силою оружия, а убеждения; что я не перекрещиваю, а напротив, хотел бы окрестить и себя, и церковь, пасомую мною, Св. духом, который имеется в преданиях св. киевской церкви. Объясни им это хорошенько и напиши, что у меня плохая надежда на силу нашего оружия — один в поле не воин, и что мы, духовные братия, должны составить свое духовное ополчение для того, чтобы соединить весь русский народ воедино, и для этой цели я с будущего года буду строить «Новый Иерусалим», в пятидесяти верстах от Москвы. Надобности тогда не будет именоваться мне патриархом Великой, Малой и Белой Руси, а буду я патриархом новоерусалимским, или проще «русским», и буду пасти духовное стадо мое братскою любовью и смирением. Царствие наше несть от мира сего и отделим мы, по святому евангелию и постановлению вселенских соборов, наши дела от дел мира и будем распространять свет христианского учения и любви.
— Аминь, — сказал Епифаний, — этим путем скорее достигнуть единения русского народа, чем оружием и насилием.
После того Никон встал и благословил присутствующих.
Епифаний и Ртищев проводили святейшего к его колымаге: он поехал в типографию Арсения Грека.
XLI Кулачный бой
На Ильинке стоит особняк, барский дом с обширным садом. Терем огромный, с большими пристройками и со службами, где живут дворецкие, шуты, приживалы и приживалки, конюхи, псари, сокольничьи, повара, хлебопеки, судомойки, постельничьи, прачки. С утра до вечера в этом боярском доме точно на рынке — то кони на выводке, то сокола и кречеты в упражнении, то собаки на выучке[26].
Уже с обеда ко дворцу съезжается вся знатная боярская молодежь: кто верхом, кто в таратайках, кони с дорогою упряжью, с драгоценными седлами, а конюхи в дорогих кафтанах, поярковых шляпах с павлиньими перьями, да и на упряжных лошадях на головах такие же перья.
Молодежь боярская в хоромах забавляется всякими играми и попойкой; а на дворе челядь с дворовой прислугой калякает разный вздор и сплетничает что ни есть и на господ, и на прислугу.
Чей же это боярский двор?
Это палаты племянника покойной царицы Евдокии Лукьяновны, матери царя Алексея Михайловича, окольничего Родиона Матвеевича Стрешнева.
Родион остался рано сиротою и воспитывался у царицы с Алексеем Михайловичем, а когда ему исполнилось шестнадцать лет, то он со своим дядькой переехал в родовой свой дом и там зажил на свободе.
Обладая большим состоянием, он жил на большую ногу, имел огромный штат и любил, что называется, покутить; но так как это дорого стоит, то казна его и порастряслась порядком, в особенности после чумы, когда пришлось пополнить весь штат.
Царь, сам юный, не имел на него сильного влияния, как товарищ детства; а Никона Стрешнев не жаловал и называл попом Берендеем, да и Никон в посторонние дела не любил мешаться, так как и дел государевых было довольно.
Жил таким образом Стрешнев на своей воле, делал что хотел и что вздумается, точно так, как и долги, а от царя если и брал поручения, то было Тишайшему и горе, и досада.
Так, царь было отправил его в Малороссию с дьяком Алмазом Ивановым, когда та поступала в подданство России, но он там закутил, забезобразничал и наделал долги, так что московское правительство вынуждено было послать им на смену Бутурлина.
Во время войны царь не мог ему тоже дать особую часть, так как он годился лишь быть при нем, при дворовых воеводах[27].
Теперь, по возвращении с войны, Стрешнев отдыхал на лаврах, т. е., как он сам говорил, он разминал после похода кости.
Любил он охоту всякую, и птичью, и звериную, и держал он для этого псарню и соколов.
А коли взгрустнет, тотчас песельники, гусляры, бахари, плясуны и шуты.
Не соскучивалась, как съедется, у него молодежь: песни, пляски, попойки, игры, шутки, остроты. Такому молодцу и при таком веселье и не до свадьбы было, хотя пошел ему третий десяток, и хотя царица не раз бралась быть его свахой, а он только поцелует у нее ручку и скажет:
— Дай, сестрица, еще побаловать — нужно выслужиться. Вишь, только окольничий, а коли сделаюсь боярином, тогда и шабаш кутежи, надоть окромя в думе посидеть да и делами помышлять. А тут дела не пойдут на ум, коли дума о соколах и борзых. Да вот и боярин Борис Иванович Морозов, — ведь он на сестре твоей, царица, на Анне-то Ильиничне, кажись, женился лишь опосля четвертого десятка, а счастлив; вот и я…
И замолчит при таких доказательствах царица, а Стрешнев пуще прежнего закутит…
Вот и теперь у него съезд неспроста: созвал он товарищей поглядеть ученого медведя, потом обед, после того в Сокольники, а там кто куцы горазд.
Гости собрались в передней (приемная) барича и сидят они кто на чем: здесь и скамьи, обложенные мягкими подушками, и татарские топчаны, покрытые дорогими коврами, и стулья с подушками, а сам хозяин с балалайкой в руке посреди горницы; затянет он песню, а те хором и подхватят.
Но вот кто-то подъехал к крыльцу.
— Думный дьяк Алмаз Иванов, — вскрикивает стоявший у окна молодец.
— Боярину Алмазу, слава! — затягивает Стрешнев, и все подхватывают.
— Ишь ты как разгорланились, — затыкая уши, говорил Алмаз, закадычный друг и собутыльник Стрешнева, отпуская низкий поклон всем присутствующим.
— Откелева? — спрашивает Стрешнев.
— Оттелева, — отвечает Алмаз.
— Знамо; а поп Берендяй? — продолжал Стрешнев.
— Байт, не должай, и нагородил батюшке всяку всячину из святых отец и из псалтири, и покончил притчей о блудном сыне.
— Ханжа, пустосвят! — процедил сквозь зубы Стрешнев и, ударив в балалайку, затянул:
Уж как на Москве, На Москве-то матушке, Ходит сын боярский, Ходит, ходит сын боярский Козырем да гоголем, Ловит, ловит он молодушек…— То-то люли, ай да люли, сын боярский, — подхватил хор.
— Таперя идем глядеть медведя, — сказал Стрешнев, бросая балалайку на стул.
Он направился на парадное крыльцо, выходившее в сад; там уж собралась вся дворня поглядеть на цыгана и цыганку, пришедших с медведем.
Поклонился цыган низко и произнес обычное:
— А ну-ка, Мишка, встань, подымись, с боку на бок перевались, боярам и дворянам поклонись.
После поклона Мишки велел он ему проделать разные штуки: как дети горох воруют; как бабы на барщину идут и возвращаются домой и тому подобное.
— Ну, — сказал тогда Стрешнев, — медведь-то у тебя редкостный. Я куплю его у тебя. А пса сумеешь научить?
— Сумею, — отвечал цыган, — только годика два, аль три придется с ним промаяться.
— Хорошо, ступай в людскую и оставайся у меня.
— Да я со старухой, — робко заметил цыган.
— Я пойду в другую сторону, — возразила старуха.
— Отчего, и ты оставайся, у нас и на тебя станет хлеба-соли, — обиделся Стрешнев.
— Напрасно серчаешь, боярин, а вот за ласку и милость твою дай погадаю, жалеть не будешь, всю жизнь вспомянешь.
И с этими словами цыганка взобралась на крыльцо и взяла Стрешнева руку.
— Много тебе счастья, — заболтала она, — много у тебя и золота, и добра всякого, но голубки Бог не дал, а тратишь только ты молодечество, и детей у тебя нетути и не будет их, коли не женишься… скоро не будет у тебя кому поминки по тебе справлять, и будешь ты на том свете, боярин, и томиться, и журиться — зачем-де не женился спозаранку, зачем и молодость, и молодецкую силу потратил, а пташечки златокрылышки, не то, что ласточки, касаточки домовитые. Прости, боярин, не я, а судьба твоя говорит, и на руке твоей Бог начертал твои дела и твою будущность: судьбы не минешь и конем не объедешь.
Окончив этим, цыганка низко поклонилась господам и сошла с крыльца. Она простилась с цыганом и торопливо ушла, а товарищ ее повел медведя на барскую дворню.
Слова цыганки смутили Стрешнева, — она как будто отгадала все его мысли, терзавшие его неоднократно. Заметив это, Алмаз Иванов весело произнес:
— У меня петухи поют уж не впервой…
— Прикажи, любезный друг, дворецкому подать обед, — отвечал Стрешнев, направляясь в хоромы.
Обед шел весело и шумно; шутили, острили, говорили здравицы, но, по русскому исконному обычаю, песни не пелись.
После обеда лошади хозяина и гостей были поданы, и они огромным поездом полетели по Москве; в Сокольниках они пошли смотреть кулачный бой.
Собралось много люду и дворянского, и купеческого, и жильцов.
На бой вышли богатыри Иван Митяев и Василий Парфенов, купеческие дети.
Стал на бой глядеть и Стрешнев со своими молодцами.
Поборол и сбил Иван Митяев своего противника и выступил точно петухом и молвил народу:
— А давайте, господа честные, еще кого ни на есть, богатыря, молодчика, купеческого сынка аль дворянчика, и его скручу в три погибели, изогну из него дугу для мово коня.
— Скрути-ка, купец-молодец, да не сына купеческого, а дворянского, — выступил Стрешнев.
У его товарищей руки опустились.
Царь не жаловал кулачных боев, и патриарх Иоасаф запретил их, а тут царский троюродный брат, да с кем, с купеческим сыном.
Хотел было Алмаз Иванов заговорить, да царский окольничий успел уж сбросить опашень и начал готовиться к бою.
Стали бойцы друг против друга и, по обычаю боя, Митяев, как вызвавший, должен был первый подвергнуться удару, а там уже действовать.
Стрешнев наступил на него и ударил в грудь; Митяев пошатнулся, но собрался с силами и вместо того, чтобы ударить в грудь, ударил его немного в сторону от виска: повалился Стрешнев с ног без чувств, да и противник его постоял с минуту и грохнулся мертвый оземь.
— Боярину Стрешневу слава! — закричали было его товарищи.
— Исполать деспота, — пропищал кто-то в народе.
Да дело плохо, — один лежал мертвым, другой — без чувств, да в присутствии думного дьяка Алмаза, и этот совершенно растерялся.
— Лошадей! — крикнул он. — Но куда вести? — спросил он самого себя.
Подошел в это время незнакомый молодой священник и сказал:
— Не знаю, как вас чествовать, боярин, но коль хотите везти богатыря куда ни на есть поблизости, так — в мой дом. Отсюда он близехонек, а я одинок, от моровой язвы вся-то семья, и жена, и дети, перемерли.
В это время подали таратайку Стрешнева, подняли его с земли, уложили в экипаж и повезли к батюшке.
В доме попа тотчас обложили его голову намоченными тряпками, и Алмаз поскакал доложить обо всем царю.
Царь тотчас поскакал к Стрешнему с лекарем Даниловым.
Тот, по обычаю того времени, бросил больному кровь и обложил голову льдом.
Недолго царь пробыл здесь: он оставил Данилова, а сам уехал домой успокоить царицу.
— Ну, что? — спросила та.
— Данилов говорит, что может выздороветь, что может умереть.
— Тотчас сама поеду туда… горе великое, — говорила со слезами царица. — Сами мы виноваты, — бросили на произвол судьбы сироту, вот и дождались.
— Я тоже остался сиротой в шестнадцать лет, — возразил было царь.
— Да ты, великий государь, рано женился, — вот и его нужно было женить.
— Так жени его, — попробуй.
— Женю, беспременно женю.
И с этими словами царица велела заложить колымагу, взяла с собою несколько приближенных женщин и уехала в поповский дом к Стрешневу.
На пороге своего дома встретил поп царицу.
Он низко до земли ей поклонился, поцеловал у нее руку и ввел в свой дом.
— Как больной?
— Как будто приходит в себя, но все же плох. Лекарь и аптекарь при нем.
Царица вошла к больному: он лежал еще без сознанья.
Данилов сказал ей шепотом, что если ночью он не очнется, то едва ли он проживет до утра.
Голова больного была обложена льдом.
Царица приказала подать стул, уселась у кровати и велела одной лишь женщине остаться, остальным же ехать домой и сказать, что она возвратится тогда лишь, когда троюродный брат царя очнется.
Боярыни и служки уехали, и с царицей осталась только одна старая ее няня. Последняя ушла в поповскую кухню.
Царица с Даниловым, его аптекарем и священником оставались при больном: не прошло и полчаса со времени приезда царицы, Стрешнев из бесчувственного состояния как будто начал переходить в другое: он застонал и зашевелился.
— Будет, кажется, хорошо, — обрадовался Данилов, — он придет в себя. Пущай стонет…
Прошло еще некоторое время, и Стрешнев еще более застонал и беспокойно ворочался и вдруг открыл глаза.
— Где я? — спросил он и хотел было встать.
— Лежи… лежи… потом расскажем, — молвила царица.
Стрешнев с удивлением взглянул на нее, потом, как бы узнав ее, он взял ее руку и поцеловал.
Царица встала и, взяв Данилова за руку, вывела его в другую комнату.
— Как находишь его? — спросила она.
— Ладно, и, царица, напрасно беспокоиться изволишь, — ты бы уехала, а мы останемся здесь. Хозяин хороший человек, гостеприимный.
— Ты разве не перевезешь его сегодня?
— Нельзя, ему нужно оставаться здесь денька два-три. В голове неладно.
— Так я завтра сюда заеду.
— Одного лишь боюсь, — как он очнется, тотчас гляди и потребует везти себя домой.
— Так я уйду теперь с батюшкой в другую комнату, и коли он очнется совершенно, позови меня, я ему прикажу остаться и он послушается.
Царица ушла с попом в другую комнату и затворила дверь.
Начала разговор царица: расспрашивала она его об его семействе и делах, и узнав, что он остался круглым сиротою, очень соболезновала и посоветовала ему пойти в монахи, с тем, чтобы выдвинуться в церковной иерархии.
Священник отвечал, что для этого нужно знакомство с патриархом.
Царица милостливо разрешила ему обратиться к Никону от ее имени и присовокупила, что по случаю смерти во время чумы царского духовника отца Степана он взял другого — отца Лукьяна, но что наставником к ее детям никто не назначен, а потому она попросит царя, чтобы к старшему сыну ее, Алексею, сделан был бы духовным отцом он.
Поп[28] едва успел поцеловать царице руку в благодарность за ее милость к нему, как из соседней комнаты, где лежал Стрешнев, послышались голоса:
— А ты, собака, жид, чего не пущаешь домой? Да вот я тебя, пса…
— Смилуйтесь… на это царский приказ…
— Вот я тебя, царский указ… хочу домой. Где я?
— У отца… отца.
— Какого отца?
Поп открыл дверь и вошел в комнату, где лежал Стрешнев.
— У меня, — сказал он, — боярин, ты в доме, я здешний приходский священник.
— А! Это тебя подкупил поп Берендяй держать меня у себя, да и этого жида Данилку, — заревел Стрешнев.
— Не знаю я никакого попа Берендяя.
— Какой же ты поп, коли не знаешь своего наистаршего… попа и из попов!
— Да таких у нас и нетути… есть только попы и протопопы.
— Совсем ты дурак, и не поп, наистаршего, наисветлейшего не знаешь.
Священник догадался о ком речь, но прикинулся непонимающим.
— И светлейших попов не знаю, но могу уверить боярина: мы с лекарем по указу царя и царицы.
— И царицы! — удивлялся Стрешнев и, спустя минуту, продолжал. — И царицы! Так это не был сон?.. Так это она, милосердная, сидела здесь и брала меня за руку…
— Да, это была я, — сказала царица, входя к нему. — Надеюсь, упрямое дитя, ты полежишь здесь до утра?
— Не могу, милостивая царица, вели перевезти сегодня же. Здесь я еще пуще заболею с тоски.
— Коли так ты желаешь — нечего делать: я сама довезу тебя, да вот и колымага моя приехала.
Царица вышла, Данилов, священник и аптекарь одели Стрешнева, и через четверть часа они вывели его на двор и усадили вместе с царицею в экипаж.
Данилов, священник и аптекарь взобрались на стоявшую здесь же таратайку Стрешнева, и поезд тронулся к дому окольничьего.
XLII Сватовство
Прошло две недели после кулачного боя, и Стрешнев, совершенно выздоровев, сидел в своей опочивальне у окна и близ него на стуле виднелись приятели его: думный дьяк Алмаз Иванов и Богдан Хитрово.
— Плохо, плохо, — говорил Стрешнев, — казны нетути и дело с концом!.. Царь не дает, говорит: война и на ратных людей надоть, а царская казна почти пустая.
— Народу-то у тебя, боярин, много, — заметил Алмаз.
— Много-то много, да нельзя же жить иначе: люди что скажут… Никита Иванович Романов живет не так, как я.
— Так женись на богатой, — заметил Хитрово.
— На богатой? — удивился Стрешнев. — Да где же они теперь?.. На Трубецкой? — Да ведь он скареда: за дочь даст медный грош.
— Есть невеста богатая, — улыбнулся Алмаз, — да не знаю, что дашь за сватовство, а мы с Хитрово дело-то свахляем…
— Говори, а за подарком дело не станет: любого коня… любое оружие выбирай… — обрадовался Стрешнев.
— Ишь ты расходился: любого коня… аль меч кладенец… Дашь ты не то, коли высватаем, — расхохотался Алмаз, осклабив белые свои зубы.
— Ну, говори, не мучь… говори… кто ж невеста?..
— А царевна Татьяна Михайловна…
— Да ведь она мне троюродная… Правда, невеста хоть куда… Но царь что скажет, а поп Берендяй…
— Да, лакомый кусок, — заметил Алмаз. — Ведь царевна Татьяна Федоровна, сестра царя Михаила, все оставила ей: и вотчины, и села[29], и всю-то богатую свою движимость, да и отец, и царь наградили ее, что станет не только на ее век, но и на век ее детей.
— Оно-то вальяжно, — заметил Стрешнев. — Но доселе я называл ее: сестрица Таня, а тут вдруг «жена»… Люблю-то очень сестрицу… да и прекрасна она… но увы и ах, выйдет ли за меня? Ведь меня-то она не раз за уши драла, как, бывало, я ненароком в их девичью попаду, покалякать с сенными девчонками… аль за вихры отдерет… а теперь вдруг жена… Полно, Алмаз, шутки ты шутишь…
— Не шучу я шутки, не оставаться же такой красавице, да с состояньицем, да царской сестрице, в Христовых невестах. Не хочет царь родниться больше с рабами… так ты же сам из царских, — отец-то твой дядя царю Михаилу.
— Оно-то так… ну вот и высватай… А красавица Татьяна Михайловна первая в Москве, да умница какая… Да только страшно, откажет… тогда ведь посрамление одно.
— Нужно так с боку… не прямо… Вот попроси Хитрово, он с тетушкою Анной Петровной своею, а ты с царицей… Коли возьмется царица, все пойдет как по писаному… И умница царица, и знает норов царевен, как с кем что нужно… А царевна уж в таких годках, что и пора… ты же, боярин, первый здесь жених: и молод, и казист, да вотчин и поместьев видимо-невидимо. Поклонись же Хитрово.
— Отчего же, — сказал Хитрово, — коли можно удружить и службу сослужить, так я и в огонь и в воду. Еду теперь же домой и тетушке скажу, недаром же она и первая сваха, она и с Анной Ильинишной Морозовой покалякает, а там и с царицей.
Когда тетушка Хитрово узнала, что забубенный Стрешнев желает жениться, да еще на царевне, она тотчас велела заложить свой рыдван и поехала к Анне Ильиничне.
Анна Ильинична немедленно поехала с нею к царице, так как она слышала от нее, что нужно Стрешнева женить, да поскорее.
Явились свахи к царице, и та обрадовалась приезду сестры и свояченицы. Усадила она их в своей опочивальне, велела принести меду и романеи и давай с ними калякать.
— А что твой Борис Иванович? — спросила она сестру.
— Скрипит, — молвила та. — Опосля, значит, похода кости не на месте… старенек стал… кряхтит, что ни на есть, точно баба.
— Старость не радость, — поддержала ее Хитрово.
— А что князь-то Семен Андреевич Урусов, да князь Никита Иванович Одоевский?
— Живы-живехоньки и богомольцы твои, царица милостивая, — сказала сестра ее. — Князь Никита Иванович с твоею помощью оправился; умерло-то у него от моровой из дворни 295, а осталось 15…
— Да, — вставила царица, — нагнали ему вновь из дворцовых сел триста душ, да царь поместьями пожаловал во вновь-то присоединенных областях: в Малой и Белой Руси.
— А князь Семен Андреевич уж очинно обижен… обойден, — заметила Хитрово.
— Царь-то им не совсем… Ведь, дорогая свояченица, новгородские дворяне и дети боярские били на него челом, что он бил их булавою и ослопьем до умертвия, а иных велел бить плетью и кнутом на козле без пощади… иных собирали вешать… Нужна ему рыба, выпустит у дворян-литвян пруды и берет рыбу руками. В церквах позабирали утварь, снимали колокола, иконы, а в костелах — срывали ризы с образом, у помещиков позабирали лошадей и кареты[30], и коляски. Царь на него и осерчал. Да и гетман Сапега отписал царю: дескать, коли б не князя Урусова погромы, под высокую царскую руку пошла бы вся Литва.
— Нечто это взаправду, царица милостивая, — скривила от злобы рот Хитрово. — Родич он наш, вот и поклепы на него святейшего.
— Бога не гневи, свояченица ты моя, весь свет это баит, да и самому царю новгородцы били челом о сыске. Правда, святейший в думе перечит, говорит: довольно-де и Хитрово, и Одоевские, и Урусовы царем одарены, но о поклепах и слыхом не слыхала, и видом не видала. Что же, по-твоему и то хорошо, что он-то, Урусов, в посте мясо жрет? — Говори, говори…
— Ахти! — ужаснулась Хитрово.
— Да, да, жрал и не околел…
— Коли так… так бы и сказала, царица многомилостивая.
— Но довольно об этом, — торжествовала царица. — Слыхали ли вы, родненькие, об Родивонушке-то?
— О каком? — прикинулась Хитрово ничего не ведающей…
— Да об озорнике-то… троюродном… Стрешневе… Да ведь и твой-то сынок был с ним на кулачном… Срамота одна: окольничий и в кулачный, и с кем? С сыном купецким…
— Женить надоть. — вставила Хитрово.
— Женить… знамо… да невесты не валяются, ведь царский он троюродный… Где же ему и невеста здесь под стать? Нужно, чтобы и род был, да и приданое по-царски.
— Таких здесь и нетути, — заметила сестра царицы.
— А отыскать бы можно, — как бы про себя произнесла Хитрово.
— Говори, говори, милая свояченица; да мы уж и с княгиней Долгоруковой, и с княгиней Черкасской перебрали всех и ни одна не подходяща: одна стара, другая молода, одна хороша, да без приданого, одна с приданым, да не хороша, как темная ночь: аль горбата, аль курноса, аль ряба. Вот вам, родненькие и все-то московские невесты.
— А все отыскать можно, — стояла на своем Хитрово.
— Коли можно, так говори и не мучь ты мое сердце.
— А коли скажу, не осерчаешь?
— Да уж говори, хоша бы и на меня, Господи прости, а озорника надоть женить: пропадет ни за что… склалдыжник он, и больше ничего.
— Хоша бы на царевне, да на Татьяне Михайловне. Чем не невеста? Не Христовой же ей невестой быть, не поразмыкать же ей и добра-то своего по монастырям, да по церквам. А Стрешнев, Родивон Матвеевич, свой же человек и своим останется, значит в нашей же семье, — единым духом произнесла Хитрово.
Царица опешила: с этой стороны она не ожидала быть разбитой.
— А троюродство? — сказала она, одумавшись и спохватившись.
— Троюродство? — заметила Анна Ильинична Морозова, — можно обойти, царя ты убеди, сестрица, а он святейшего.
Царица покачала головой и произнесла:
— Да это будет грех, а мой-то в грех не вступится.
— Попробуй, сестрица, — уговаривала ее Морозова.
Подумав немного, царица умилилась:
— Парочка была бы знатная и завидная. Поговорю сначала со святейшим и коли тот благословит, тогда я с царем побалакаю.
Гости поднялись со своих мест, довольные своим успехом у царицы.
Когда они ушли, царицу взяло сильное раздумье: устроить этот брак нужно во что бы то ни стало.
Она позвала свою боярыню и велела ей тотчас ехать за патриархом.
Никон немедленно явился на ее зов. Царица встретила его приветливо, с высоким уважением и спросила, как по церковным правилам: могут ли троюродные брат и сестра быть обвенчаны?
— Нет, — отвечал патриарх, — по кормчей только можно венчать после четвертого рождения, а здесь только третье.
При этом патриарх стал объяснять ей это наглядно.
— А с благословения патриарха? — спросила она.
— Можно, — отвечал он, — только по свойству и разрешать даже во второй степени, т. е. при втором рождении. О ком же, великая государыня, ты хлопочешь? — спросил он.
— Хочу женить Родивона Матвеевича Стрешнева на Татьяне Михайловне.
Никон вспыхнул, но овладел собою и произнес взволнованным голосом.
— Можно созвать собор, я ничего не имею, но прежде всего нужно согласие жениха и невесты, иначе потом будет от них духовное нарекание, скажут: собор ввел нас в грех. Пущай они бьют челом собору.
— Они, я полагаю, будут согласны, лишь бы было твое благословение, святейший патриарх, и лишь бы царь на это соизволил… Я поговорю с царем.
Никон благословил царицу и уехал.
Не прошло и получаса, как царь зашел к ней.
Марья Ильинична объявила ему о мысли ее женить Стрешнева на Татьяне Михайловне, причем сообщила ему и ответ святейшего.
— И я, — сказал царь, — согласен на то, что говорил святейший; греха на душу не возьму, — пущай сами бьют челом собору, чтобы потом не плакаться на нас, а мое соизволение будет после собора.
Услышав это решение царя и зная его набожность, царица более не распространялась; а думала только думу, чтобы или царевна, или Стрешнев не заупрямились.
Более всего она боялась последнего, а потому послала за боярыней Хитрово.
Свояченица тотчас явилась. Царица поручила ей через сына узнать мысль Стрешнева.
— Я уже узнала, прежде чем говорила с тобой, царица, — сказала та, — он обеими руками возьмет ее, лишь бы та не заупрямилась.
— Да как та может и как посмеет… да ведь она Христова невеста навек, коли теперь не возьмет судьбу.
— Позволишь, великая государыня, быть у нее — я и поеду.
Царица разрешила ей. Она поднялась с места, поцеловала руку Марьи Ильиничны и ушла.
Когда она приехала к царевне Татьяне Михайловне, та тотчас ее приняла: она только что пришла от вечерни и переодевалась. Она обняла родственницу и, поцеловавшись с нею, усадила ее на мягкий топчан.
Хитрово политично начала ей говорить о скуке одиночной жизни, о необходимости каждому человеку составить семью, иметь детей.
Царевна на это отвечала, что в ее возрасте — ей слишком за двадцать — пора уж и не думать об этом. Дни ее молодости прошли; при покойном отце, когда князь Ситцкий к ней сватался, его прогнали; а после она никого не любила и любить не желала. Да женихов для себя она не видит из своей молодежи, которую она знает.
Хитрово указала ей тогда на Родиона Стрешнева.
Царевна вспыхнула.
— Не я буду ему жена, а мои вотчины, поместья и мое добро и злато. Почему он не сватался ко мне, когда казна у него была богата? Притом он мне троюродный, и я за него замуж не пойду — греха на душу свою и на детей и внуков не возьму.
Хитрово объяснила ей тогда, что она получит разрешение собора и патриарха Никона.
Царевна рассердилась и взволнованным голосом произнесла:
— Не может быть… Патриарх не примет на свою душу такой грех… К тому же собор не может меня приневолить ко греху.
— Видишь ли, — возразила боярыня, — они и не будут приневоливать, патриарх сказал только царице: я-де не буду перечить, коль молодые подадут мне и собору челобитню… пущай грех будет на них.
— Он и прав, можно нешто кого-либо принудить ко греху, да еще кто? Священный собор. А я челобитню не подам — мне вера моя дорога, и я не басурманка, не татарка, не лютеранка — за родича не выйду, пущай хоша и голову рубят… Пущай выдает меня царь за немца, крещеного жида аль татарина, но не за родича. Тут кровь одна — что брат, что сестра; да в сотом колене она отзовется за грехи родителей и не будет мне покоя ни на этом, ни на том свете, и буду я видеть в аду мучения своих детей и внуков: будет эта мука вечная, безысходная, лютая… Нет, не могу и не хочу, так и скажи, боярыня, царице.
— И не смею, родненькая, да она с глаз меня прогонит… Уж прошу я тебя… не отказывайся… ведь молодец-то Родивон Матвеевич, богатырь…
— Пущай богатырь для других, не для меня.
— Красавец…
— Пущай красавец для другой.
— Так твой ответ?
— Слышала, боярыня…
С этими словами царевна поднялась с места.
Хитрово злобно поцеловалась, как-то дико оглядела ее комнату — не заметит ли она чего-либо подозрительного, чтобы у царицы почесать на ее счет язычок, и поспешно удалилась.
Едва она ушла, как царевна заплакала, бросилась на колени и начала молиться, чтобы чаша сия миновала ее.
XLIII Царевна Татьяна
На дворе стоит майский день. Московские сады, или, как их тогда называли, огороды, которые были там обильны в то время, в цвету, и аромат идет от них по улицам.
В саду Алексеевского монастыря в это время тоже прекрасно, и царевна Татьяна, большая любительница цветов, ухаживала в небольшом своем садике за незатейливыми своими гвоздиками, ноготками, вдовушками, левкоями и васильками.
Поливает она свои цветочки, вырывает из кустов сорные травки, а мысли ее далеко: она думает о том, который составляет все ее помышления, всю ее жизнь. И тот, кого она обожает, не только не может принадлежать ей, но страшно даже сказать кому-нибудь, кто он… Между тем он у всех на устах, все говорят об его уме и способностях, об его честности и бескорыстии; имеет он и врагов, и завистников, но и те сознают, что одному ему обязана Русь своим возвеличением, славою и присоединением Малороссии, и завоеванием Белоруссии. Даже и видится она с ним редко, а если это случится, то так таинственно, с такою опасностью, что каждый раз сердце ее замирает, и она умоляет его более не посещать ее; а когда он на несколько минут потом опоздает, сердце у нее разрывается на части и минуты ожидания точно ад кромешный.
Думает так царевна и вдруг слышит голос:
— Прекрасная царевна.
Голос знакомый; царевна вздрагивает и оглядывается, перед нею стоит черничка.
— Не узнаешь меня, царевна?
И с этими словами черница откидывает свое покрывало.
— Мама Натя! — вскрикивает царевна, обнимая и целуя ее горячо. — Где была, где пропадала… Мы тебя давно уж оплакиваем… Идем ко мне в хоромы… расскажешь все.
— По монастырям… по скитам ходила.
Она вошла в хоромы, царевна усадила гостью в своей опочивальне и не могла на нее наглядеться.
Та немного загорела, и лицо от воздуха огрубело, но та же энергия, тот же ум в лице и в глазах.
— А я у тебя уж была раз, — говорит мама Натя.
— Когда?
— Да вот цыганка, что ворожила тебе… Помнишь, когда только что хоромы эти были готовы?
— Отчего же ты тогда не призналась?
— Не могла.
— Почему?
— Не могла… Вишь, ушла я из монастыря и прямо к Насте Калужской… в раскольничий вертеп… Сказала, что троеперстно не хочу креститься да старым иконам желаю молиться, — они меня и приютили… Пожила я у нее с месяц, да снарядила меня она в Нижний Новгород… Достала и охранную грамоту… и поехала я к Макарию с товарами из гостиного… Приехала так я в свое село Вельманово… Отец мой умер и оставил мне все добро свое. Остановилась я у нового попа, и он отдал мне все отцовское, и деньги, и вещи. Распродала я вещи, и у меня набралось порядочно денег. Думаю, пойду по монастырям да в Кожеезерский монастырь — там с дядей увижусь. Поехала туда, а келарь монастырский встречает меня и говорит: дядя твой давно умер и оставил много добра, вещей, денег — и все тебе, хранится это у нашего казначея. Повел он меня к казначею, а тот все мне отдал, многое я монастырю оставила, а золото, серебро и деньги в поклажу отдала в монастырскую казну и уехала в Киев, искать родственников: оттуда ведь дед мой, отец и дядя. В Киеве один поп сказал, что дед мой был очень богат, имел и вотчины, и поместья; что был он из казаков, но ляхи-де его ограбили, а теперь гетман Богдан все награбленное возвращает… Поехала я в Чигирин к гетману, и тот велел мне все возвратить, когда я показала ему грамоту из Кожеезерского монастыря, что я дочь попа Василия… Началась там тяжба… Затянулась… Мне скучно было… Взяла я охранную там грамоту, как цыганка… и поплелась к Москве… Пришла сюда да поселилась в вертепе раскольничьем у Насти Калужской… и к тебе приходила… и к святейшему. А там зашла в Кожеезерскую обитель, взяла немного денег и уехала вновь в Киев. Кончила там тяжбу: много вотчин мне досталось… теперь пришла сюда как цыганка… по дороге встретила цыгана с медведем и наняла его ходить со мною… Теперь он у Стрешнева, а я снова в раскольничьем вертепе у Насти.
— Да ты бы, мама Натя, просила царя и патриарха, и они позволят тебе не быть схимницей.
— Нельзя, царевна, схимница не может покинуть монастыря, и в том-то и горе, коли узнают, что я здесь, да ходила по монастырям, да была в миру, — меня в заточенье сошлют.
— Дурно, скверно…
— Сама жалею, грамотку имею радостную от гетмана Богдана к святейшему, да и то не самой придется передать ему.
— Что пишет гетман?
— Отдала я, значит, на случай смерти моей все свои маетности и вотчины на монастыри и церкви и сказала в духовной: коли митрополит Киевский будет рукополагаться патриархом Московским и будет под его высокой рукой…
— Что ж, согласился митрополит?
— Вот со мною и грамота гетмана Богдана к патриарху.
— Вечером патриарх у меня будет; коль хочешь, я передам ему.
— Нет, подожди, нужно предупредить патриарха — не пригоже ему быть сегодня у тебя. Цыган, сказывала я тебе, живет у Стрешнева, и холопы бают, что Стрешнев подстерегает патриарха и хочет напасть на него сегодня у монастыря, понимаешь? Потому я и здесь.
— Надоть предупредить патриарха! — воскликнула Татьяна Михайловна.
— А как предупредить? Теперь иль в думе, али у царя. Уж ты позволь, царевна, мне остаться вечор у себя, а там что Бог даст, — произнесла в раздумье черница.
XLIV Коли не мытьем, так катаньем!
Часов в девять вечера, когда ночь своею темною пеленою покрыла матушку Москву и когда по случаю отсутствия фонарей и луны можно было на каждом шагу нос разбить или попасть в какой-нибудь ров, из патриарших палат вышел высокий человек и поспешно принял направление к Алексеевскому монастырю.
Едва он вышел оттуда, как три человека, скрывавшиеся близ палат, тоже двинулись за ним, но в довольно далеком расстоянии.
— Это он, — сказал Алмаз.
— И мы узнаем его, — прошептал Стрешнев и Хитрово.
Все трое были, что называется, выпивши.
— Ну, поп Берендяй, не выкрутишься, теперь ты наш, — шептал Стрешнев.
— А коли хочешь, я им порешу, — молвил Алмаз.
— Как порешишь?
— Ножом в бок, и был таков: пущай по ночам не шляется.
— Порешишь! С ума ты, что ли, спятил? Враг он мне, правда, да на безоружного, из-за угла… не воры, разбойники мы: вот коли б с ним подраться, ино дело, — возразил Стрешнев.
— Правду он баит, — поддержал его Хитрово.
— Коли так, я сам-друг его порешу, — рассердился Алмаз.
— Немытое ты рыло, не дадим мы его порешить, а тебя порешим, — разгорячился Стрешнев.
— А вот что я скажу, — молвил Хитрово, — пойдем мы скоро мимо моего-то дома, и я зайду да тетушку свою и пошлю к царице: дескать, поп Берендяй поплелся в Алексеевский, а вы тем часом за ним идите да ждите у Алексеевской: тетушка туда зайдет за вами.
* * *
Несмотря на то что был поздний вечер, встревоженный гнусным доносом царь и царица подъехали к Алексеевскому монастырю, вышли из экипажа и прямо пошли к Татьяне Михайловне. Дверь с лестницы, ведшей к ней, была открыта, а сама лестница освещена.
Они вбежали по ней и постучали в дверь: отворила ее служка царевны.
Марья Ильинична побежала вперед, за нею Алексей Михайлович, и когда первая отворила дверь, они увидели в приемной маму Натю и патриарха Никона.
— Матушка Наталья! — вскрикнула удивленная царица.
— Мама Натя! — обрадовался царь.
— Это я, — сказала та, бросившись в ноги царю.
Он поднял ее и поцеловался с нею.
То же самое сделала и царица со своею любимицей, когда та поклонилась ей в ноги.
Во все это время патриарх стоял с выражением строгим и величественным.
— Где ж ты была, а мы плакали по тебе, мама Натя? — молвил Алексей Михайлович.
— Ходила по монастырям и скитам, была и в Киеве в пещерах и теперь оттуда.
— Она привезла грамоту от гетмана Богдана — он винится в своих грехах и отписывает, что митрополит Киевский хочет быть рукоположен мною и соединить обе церкви Великой и Малой Руси.
— Слава те Господи, — крестясь набожно, воскликнули вместе и царь и царица.
— Завтра я буду служить соборне в Успенском молебен, да испошлет Господь Бог благодать свою на киевскую церковь. Я думал, что и тебя, великий государь, оповестила царевна Татьяна Михайловна о радостном пришествии к нам черницы Натальи.
— Нет, мы так… к царевне… Прости, великий государь и святейший патриарх… Мы с женою обрадовались чернице и забыли идти под твое благословение.
Царь и царица подошли под его благословение и поцеловали его руку.
— Великий государь и царица, — воскликнул патриарх, — сегодня один из радостнейших дней в моей жизни. Я страшился, что гетман Богдан пишет в грамоте своей об отказе митрополита, и боялся уйти отсюда развенчанным патриархом Малой Руси. Я и пришел сюда в одежде простого чернеца, чтобы не было срамотно патриарху Великой Руси. Теперь простой чернец выйдет отсюда патриархом Малой Руси. Отныне Великая и Малая Русь будут одно тело и одна душа, в вере наше единство и наша сила.
— Аминь! — произнесли царь и царица.
— А царевна Татьяна как поживает? — обратилась к инокине Наталье царица.
— Она почивает в своей опочивальне.
Раздался стук подъехавшего к монастырю экипажа.
— Это моя колымага и моя свита, — сказал патриарх. — Великий государь приехал в чем? — продолжал он.
— Мы с женой в колымаге одной боярыни. Поезжай с царицей в моей, а я хочу пройтись пешком: не подобает патриарху Малой Руси выехать отсюда в колымаге, коли пришел сюда пешком патриарх Великой Руси.
Царь и царица простились с инокиней, а патриарх, проводив их до колымаги, направил шаги к своим палатам.
Хитрово и Стрешнев получили нагоняй и от царя, и от царицы.
На другой день патриарх Никон соборне служил молебен в Успенском соборе в присутствии царя, боярской думы и огромной массы народа за благоденствие соединенных церквей — Великой и Малой Руси; а на эктении провозглашен был этот новый титул патриарха.
XLV Никону возлагает митру Восточный патриарх
Никон сидит в своей рабочей комнате с Матвеевым. Они озабочены внешними делами.
Приехали и польские и шведские послы.
— Да, — говорит Никон, — мы много потеряли с изменой гетмана Богдана; возьми он Львов и овладей всею Галицею, Яну Казимиру не было бы где укрепиться и откуда воевать. Теперь все почти города Волыни и много литовских городов отпали от нас. Придется удовольствоваться одною Белою Русью, да не удастся ли захватить реку Неву и Ладожское озеро — нам море нужно.
— Да, без моря, — поддержал его Матвеев, — мы как без глаз. От голландских немцев и от англичан мы можем получать товар лишь через Архангельск, а это дорого, да и мешкотно. Иное дело, кабы море да наше. Потеряли мы много в войне с Польшей, что море не наше… После столбовского мира король свейский Густав-Адольф докладывал сейму: русские — опасные соседи; границы земли их простираются до Северного, Каспийского и Черного морей; у них могущественное дворянство; многочисленное крестьянство; многолюдные города, они могут выставить в поле большое войско, а теперь этот враг без нашего позволения не может ни одно судно спустить в Балтийское море. Большие озера, Ладожское и Пейпус, Нарвская область, тридцать миль обширных болот и сильные крепости отделяют нас от него; у Руси отнято море и, Бог даст, теперь русским трудно будет перепрыгнуть через этот ручеек…
— Да, — воскликнул Никон, — не отдал бы моря блаженный Филарет, коли б он не был в плену… Это все Грамонин-дьяк… да и мы теперь будем сражаться за море.
— А столбовский мир или вечное докончание, как называют его свейцы?..
— Будет тогда вечное докончание, коли мы будем у моря, — произнес решительно Никон.
— Но царь и бояре хотят брать Ригу, — заметил Матвеев.
— А я стою за Орешков и за Кексгольм. Коль река и Ладожское озеро будут наши — и море будет наше; там мы соорудим города и ладьи, как было при новгородцах. Брать же Ригу тяжело: там Дела-Гарди, старый воин, и трудно с ним совладеть; из-за моря у него будут и ратники, и пушки, и хлеб, и порох, и все, что нужно, а нам — подвози еще из Москвы… И Иван Грозный чуть-чуть не положил там кости.
— Царь говорит: Рига готовый город…
— Близок локоть, да не укусишь… Было бы болото, а кулики заведутся: нам нужны Нева и Ладожское озеро.
Несколько минут он ходил в раздумье и, остановившись, с неудовольствием переменил разговор; он знал, что вопреки его желанию поход под Ригу состоится и будет неудачен.
— Батюшка царь, наш благодетель, сказывал, — обратился он к Матвееву, — что был он в твоей избенке у Николы и стало царю больно, что ты, Артамон Сергеевич, и местечко-то неважное имеешь, и домишко ветхий. Я и сказывал царю: есть пустошь дворцовая, там и терем можно поставить, и огород развести, и сад, да и службы возвести.
— Благодарствуем, великий государь и отец наш, за заботы о наших нуждах, вечный богомолец твой. Где же взять казну на обзаведение? Нужно и того и сего; собрались ко мне сотенные гости с хлебом с солью и поклоном, дескать, мы сами соорудим домишко… А я поблагодарил, посул отродясь не брал…
— Царь и пенязи даст, и людей, и всего, что нужно… камень, лес…
— Благодарствуем… не заслужил… А коли батюшка царь уж так милостив ко мне, так от царской милости грех отказываться: ведь милость от Бога, аль от царя.
Матвеев при этом низко поклонился патриарху до земли.
— Я чувствую себя сегодня не так хорошо, — сказал вдруг патриарх.
— Много работаешь, великий государь и святейший отец наш.
— Что ж делать! Царь все взвалил на меня; ни от кого не хочет слушать докладов по делам, окромя меня. Да, хочу тебе показать митру… Я изготовил ее ко дню приезда антиохийского патриарха Макария — я жду его с часу на час: митра стоит пять тысяч. Очень она красива. Погляди.
Патриарх открыл ящик, вынул митру и показал ее Матвееву.
Тот пришел в восхищенье: работа была действительно изящная: драгоценные камни, жемчуг и финифть были с большим вкусом распределены на ней.
— Патриарх антиохийский, — сказал Никон, — возложит на меня эту митру, и тогда лишь я буду настоящим патриархом.
— Отчего же, святейший отец, ты сам не возложишь ее на главу свою — ты же такой святейший, как и антиохийский Макарий.
— Это так, Артамон Сергеевич; но как молитва к царю небесному не лишня, так и благословение и рукоположение никогда не бывают лишними, и благодать Божья снизойдет на меня и наставит меня, как дальше пасти стадо Христово. Притом это нужно для киевского митрополита. Велики были святители, мои предшественники, но они не понимали, что для соединения церквей нужно единство, а не рознь в обрядах и богослужебных книгах. В 1620 году на соборе великий Филарет решил, что кто не крестился погружением, тот должен быть перекрещен, — это теперь препятствует к переходу к нам из других христианских исповеданий, — мы, говорят они, не язычники… а расколоучители погружение отрицают; ну пойди ты… Да, Артамон Сергеевич, много хлопот и забот наделали церкви митрополит Иов и патриархи Филарет и Иосиф. Испортили они книги церковные и ввели соблазн и раскол. Нельзя же оставить это так; при этих порядках ни Белая, ни Малая Русь не будут с нами дети одной и той же церкви. Наши же попы упрямы и только мятеж производят — ничего не хотят знать и слышать.
Когда так говорил Никон, вбежал впопыхах служка и объявил, что дали знать по пути из Киева, что патриарх антиохийский Макарий приближается к Москве.
Никон велел заложить свою колымагу, приказал всему двору своему ехать с ним, распорядился, чтобы начали звон во всех церквах и чтобы все митрополиты, архиереи и архимандриты, находившиеся в то время на Москве, явились в Успенский собор для встречи патриарха. Послал он тоже оповестить об этом царя.
С крестом и евангелием встретил Никон патриарха, облобызался с ним и взял его в свою колымагу.
Москва, услышав трезвон, высыпала на улицу и народ закипел в Кремле у Успенского собора. Царь с боярами явились тоже туда, чтобы встретить гостя и везти его оттуда к царской трапезе.
Едва показалась на площади патриаршая карета, как весь народ пал ниц, а патриархи Макарий и Никон благословляли троеперстно народ.
Это было полное торжество православия, т. е. греко-восточного исповедания.
Другой день был воскресный. Оба патриарха служили, и когда литургия отошла, патриарх антиохийский, благословив Никона, возложил на него патриаршую митру. После возложения патриарх Макарий смиренно пал ниц и поклонился в ноги Никону; Никон сделал то же самое, и они оба поцеловались и прослезились.
Царь и народ в этот миг пали ниц, чтобы принять благословение обоих архипастырей, и когда они оба вышли со светильниками и благословляли народ, то многие в народе рыдали от умиления.
Возложением этим Никон хотел показать и боярам, и народу, и духовенству, что он сидит на патриаршем престоле не только по избранию российского духовенства, но и по венчанию восточной церкви.
Цель была достигнута: все присутствовавшие при этом были сильно поражены, в особенности когда патриархи сели в карету, а царь впереди их верхом указывал им путь ко дворцу, где ожидала их трапеза.
При трапезе царь сидел посередине, а патриархи по бокам.
Высшие сановники царства подносили блюда обедавшим.
За ум и гений большего величия худородному сыну села Вельманова и курмышанину, как называли его раскольники, не могло, кажется, выпасть на земле.
Том второй
I Новый Иерусалим
Стоят прекрасные весенние дни 1656 года. Москва в большом движении: колымаги, рыдваны, кибитки, возы, верховые и пешеходы движутся уже несколько дней на новгородскую дорогу. У всех запасы провизии. Проезжают по той же дороге и гости (купцы) с обозами разного съестного и пития. Туда же направляются и множество духовных особ: белого и черного духовенства — кто в чем.
Вот и сам царь со всем двором, окруженный огромной свитой и рейтарами, выезжает туда же.
По всей дороге, как видно, ожидали такое всеобщее движенье: повсюду вновь возникшие трактиры, заезды, распродажа съестного и пития.
Едет этой дорогой и царь Алексей Михайлович и на пятидесятой версте от Москвы сворачивает в сторону и видит, неожиданно, над рекой Истрой, на горе, обширный стан.
— Это Новый Иерусалим! — восклицает он набожно и выходит из своего экипажа. — Нас, — продолжает он, — встретит, верно, святейший патриарх.
Все спешиваются, окружают царя и движутся вперед.
У подножия горы встречает царя патриарх Никон, окруженный сонмом духовенства, хоругвями и иконами, а впереди его несут животворящий крест.
И царь, и двор, и народ — все падают ниц, патриарх благословляет всех и целуется с царем.
— Великий государь, — говорит он, — да будет приход твой на это место, где сподобил меня Господь Бог воздвигнуть обитель и храм Воскресения, великим знамением, что цари российские вовеки будут посещать сей храм. Чтобы благодать Царя царствующих на них снизошла и спасала от врагов… Я и все российское духовенство приветствуем и благословляем тебя. Теперь грядем на место, где предположено сооружение храма и обители: помолимся Господу сил, освятим это место и назовем его «Новый Иерусалим»…
С этими словами Никон двинулся вперед с животворящим крестом, а за ним царь и народ, и все запели единогласно: «Тебе Бога хвалим»…
Местность была восхитительная: волнистая и в рощах, а у подошвы река Истра живописно извивалась. Приехавшие москвичи расположились по горе шатрами, и посреди их высились шатры — царский и патриарший. Трапеза готовилась и для царя, и для народа.
Отслужил Никон молебен на реке, освятил воду, и потом набрали ее в ковши, и патриарх пошел окроплять все места, где предполагались сооружения.
На том же месте, где предположено было заложить храм Воскресения, были уже выкопаны рвы и приготовлены камни и монеты.
Здесь Никон остановился, и начался вновь молебен и водосвятие, после чего царь положил в ров первый камень и монету; то же самое сделал и Никон.
Все духовенство и народ запели: «Тебе Бога хвалим», а потом «Спаси Господи люди твоя».
По окончании этого обряда царь и бояре приложились ко кресту, и тогда патриарх, скинув облачение, повел их к обеденному столу.
За обедом царь обратился к Никону:
— Великий государь, святейший отец и богомолец наш! поведай и нам: почему ты нарек место сие «Новым Иерусалимом»?
— Великому и благоверному государю моему и предстоящим боярам, окольничьим и думным дворянам небезведомо, что церковь восточная и св. Иерусалим в полону у султана… Патриархи восточные: Антиохийский, Александрийский, Иерусалимский и Царьградский в полону турском. Не может быть по этой причине и церковной свободы паломникам нашим; ходящим ко гробу Господню чинят там всякие неправды. Вдохновил меня Святой Дух соорудить на сем месте храм Воскресения по образу и по подобию храма Иерусалимского. Да имеют благочестивые и верующие место безопасного поклонения; а святая Восточная церковь со своими блаженными патриархами да имеет убежище и приют на случай турского гонения.
Помолчав немного, он продолжал:
— Латинство тем и сильно, что папа в Риме независим и един на Западе; а наша Греко-Восточная церковь тем и слаба, что она разрознена на многие патриаршества. Молю Господа сил, да соединит Он, в грядущем, всю Восточную церковь в сем «Новом Иерусалиме». Без этого не может быть единения и всех славянских народов, указанных преподобным Нестором. Мы с тобой, великий государь, положили первый камень этому единению: к нам присоединена Малая Русь, и под высокую твою руку скоро станет и Белая. С подчинением моему патриаршеству киевской митрополии присоединяется и епископство галицийское, и тебе, мой великий государь, придется его присоединить к своему царству. Но стонут еще под игом турок и немцев иные православные народы: болгаре, сербы, словенцы, моравы, герцеговинцы, босняки, черногорцы… Все они пишут и молят, чтобы ты взял их под свою высокую руку… Тогда и место сие, как пребывание их патриарха, сделается для них «Новым Иерусалимом». Вот почему я и нарек сие место этим именем.
Речь эта произвела на царя благоприятное впечатление: он понял политический смысл нового храма, но боярам она не понравилась:
— Вишь, куда залетает, — зашептались они меж собою. — Хочет сделаться всемирным и новым папою… Восточные патриаршества учреждены вселенским собором, а он, как папа, хочет быть одним… это — латинство… еретичество… Еще и Белая-то Русь не наша… да и Малая может улыбнуться, а он метнул уж в Галицию, да и немцев, и турского султана полонил… Блажной, а не блаженный…
Окончился обед, и патриарх повел царя и всю его свиту на место сооружения и показывал, как и что где будет.
Царь остался всем доволен и тут же пожертвовал на сооружение храма, обители и их содержание множество деревень бывшего коломенского епископства.
Вся его свита стала тоже жертвовать, и набралось так много, что патриарх мог тотчас же приступить к постройке, тем более, что планы Иерусалимского храма были уже доставлены иеромонахом Арсением, а строителем взялся быть архимандрит Аарон и один из лучших в то время архитекторов.
Несмотря, однако ж, на обилие пожертвований со стороны бояр, что они делали лишь в подражание царю, они были этим очень недовольны, что видно было по общему их недовольному виду и перешептываньям.
Одним же из самых недовольных был Стрешнев; казна его была пуста, а тут царскому родственнику стыдно-де отстать от других, и он, хотя и сделал крупное пожертвование, но в душе злобствовал на Никона.
В таком настроении он незаметно удалился от царской свиты и побрел в свой шатер.
Он застал там Хитрово, Алмаза и архимандрита Чудовского монастыря Павла.
— А! Вы, друзья, собрались… Ну, поп Берендяй задал нам тоску… Заставил раскошелиться и царя, и бояр… Царь-то ничего… а вот бояре — унеси ты мое горе, точно полыни облопались… Держался я за животики — князь-то Трубецкой, скареда, и тот вотчину отдал… т. е. после своей смерти… А Одоевский, Урусов, Лыков, Романовский… Ха! ха! ха! Один лишь Шереметьев, тот и пенязями, и лесом, и камнем, и землями.
— А ты что дал? — прервал его Алмаз.
— Я?., да что лучшую вотчину-то свою подмосковную, — вздохнул Стрешнев.
— А чем будешь теперь жить? — озлобился Алмаз.
— Положу зубы на полку, — улыбнулся Стрешнев.
— Зубы-то не положишь, — обиделся за него же Хитрово, — ты пойди-ка на войну да отличись, как сделали Урусов и Одоевские, и царь тебя взыщет. Не поскупится он тебе дать тогда и десяток поместьев с угодьями, пашнями и пущами.
— Держи карман пошире, — расхохотался Алмаз, — кому служба мать, кому мачеха.
— А впрямь, пойду в рать, — вздохнул Стрешнев.
— Да ведь купецкие-то дочери и молодоженки поиздыхают на Москве, — подшутил архимандрит Павел.
— Ты останешься, — засмеялся Стрешнев.
— Шутки в сторону, — серьезно возразил архимандрит, — окромя нужно ножку подставить святейшему… а коли он долой, то и монастыря, и храма Воскресенья не будет, — вот и вотчины вновь отойдут назад к жертвователям.
— Оно-то так, — возразил Стрешнев, — да пойди ты с ним, потягайся… сегодня он нагородил с три короба, а царь-то и рот раскрыл, и уши-то развесил, точно сам Иоанн Златоуст с амвона глаголет. Я, говорит… и того… и сего… и патриархи-то плевка не стоют, и вот-де папа… тот и такой и сякой распрекрасный… и будет сие место точно Рим… а я, дескать, новый папа… и все придут ко мне на поклонение… и будут-де целовать они не туфлю мою, а сапог.
— Смазной, — расхохотался Алмаз.
— Позволь, не то он говорил, — прервал Стрешнева Хитрово.
— Все едино, так я и рассказывать то буду, коли возвращусь в Москву, — рассердился Стрешнев.
— Вот за это — люблю! — восхитился архимандрит.
II Никон стремится прорубить окно в Европу
В начале XIV века, т. е. в 1323 году, на месте нынешнего Шлиссельбурга, у истока Невы из Ладожского озера новгородцы заложили крепость Орешков.
Цель ее была не только защитить свои владения от шведов и финнов, но это был порт, по которому их торговый флот вел свои операции с Европой, а морской флот, который был довольно силен, действовал в случае надобности против шведов.
Но во время междуцарствия и смут в России в начале XVII века шведы вторглись в Новгородскую область, овладели ею и вместе с тем захватили на Ладожском озере Кексгольм, или Кареллу, и Орешков.
Карелла была сильною крепостью и господствовала над западным берегом Ладожского озера, и шведы взяли ее с большим трудом: гарнизон наш бился до последнего и почти весь погиб. Овладев этими двумя пунктами, шведы отрезали нас совершенно и от Балтийского моря, и от Европы. По Столбовскому договору после тяжкой войны царь Михаил Федорович заставил шведов возвратить нам новгородские земли, но граница наша отодвинута от Ладожского озера и Невы, так что мы остались все же без моря и без порта. Факт этот был так многозначителен, что тогдашний шведский король Густав-Адольф на сейме говорил, что он не столько сожалеет о возвращении новгородских земель России, как радуется тому, что мы отодвинуты от моря: так как эта варварская страна владеет землями, дворянством и естественными богатствами, и если она получит порт в Балтийском море, то сделается страшною для Швеции соседкою.
После этого и поход именно под Смоленск, и война наша с Польшей при Алексее Михайловиче показали, что мы без порта не можем политически существовать.
Вот причина, почему тотчас после возложения на себя патриаршей митры Никон снарядил Петра Потемкина для занятия берегов Финского залива; а 25 мая он отправил к нему донских казаков, которых он благословил идти даже на Стокгольм.
Пошли эти войска на Новгород и двинулись к берегам Ладожского озера. По пути попадались Потемкину одни лишь финны; они принимали его радушно, с хлебом и солью, и указали на одни лишь шанцы, занятые шведами.
Войска наши двигались очень медленно, и потому казаки нагнали их, и они вместе обложили эту крепостцу.
Шведы отчаянно защищались, но должны были уступить силе и сдались.
Дальнейшая судьба этого похода неизвестна, но из жалоб тогдашних шведских послов видно, что он был успешен, что захвачена вся местность Финского залива и вместе с нею множество пленных и добра.
Этот первый поход московских царей к берегам Невы и Ладожского озера не мог остаться бесследным в истории нашей, и поход Петра Великого туда же есть только продолжение начатого Никоном.
Но в то время как Потемкин прокладывал нам путь к Финскому заливу, царь, торжественно въехав в Полоцк 5 июля, через десять дней выступил в Ливонию против шведов.
Ночью через дремучие леса Ливонии по пути к Динабургу движутся пешие ратники с небольшим обозом; они идут без устали и роздыха и спешат как бы на пир. Впереди рати двое: один средних лет, другой помоложе.
— Боярин, — говорит младший, — не осерчает царь?.. Ведь мы на разведку лишь посланы, а ты хочешь ударить на Динабург.
— И ударим, Родивон Матвеевич! Что же мешкать-то? Царь-батюшка за нами идет, и не ему же драться?.. Коли удастся, спасибо скажет; коли нет — сам пойдет с главными силами. Авось и удастся — тогда нам слава.
— Слава-то слава, боярин, а коли головы мы там сложим?
— Двум смертям не бывать, одной не миновать.
— Это-то правда.
Предводители были князь Урусов и Родивон Матвеевич Стрешнев.
Когда этот отряд, имевший три тысячи четыреста ратников, приблизился к Динабургу, шведам и в голову не приходило, что он решится на что-нибудь серьезное, и полагали, как это было в действительности, что он будет ждать главные силы с царем.
Но вышло иначе: придя до света часа за два и отдохнув немного, войска наши бросились на большой город и в течение одного часа заняли его после ожесточенного боя.
Шведы отступили и заперлись в верхнем городе. Русские бросились на приступ и, хотя несколько раз были отбиваемы, но наконец одолели врагов; шведы, однако же, не хотели сдаваться и все до единого погибли.
Урусов и Стрешнев всюду были впереди и только геройству своему обязаны были успехом; в особенности Стрешнев содействовал много победе.
Обладая отличным оружием и богатырской силой, он прямо косил шведских тяжелых и неповоротливых латников: у кого руку, у кого ногу, у кого голову снесет.
— Перкеле! — кричали ратники-финны.
— Фан[31]! — вопили шведы.
В тот же день и главные наши силы приблизились к Динабургу, и к удивлению царя посланец от Урусова и Стрешнева доложил ему через Богдана Хитрово, что город уж взят.
Царь очень сожалел, что Динабург не сдался, а взят с бою, и на другой день присутствовал при закладке храма во имя Бориса и Глеба, а город велел назвать — Борисоглебском[32].
После того все русские силы двинулись к Кукойносу. Город укреплен был так сильно, что царь писал о нем сестрам, что он может сравняться со Смоленском и окружен рвом, напоминающим ров вокруг Московского Кремля. Крепость не хотела сдаться, и Алексей Михайлович взял ее штурмом. «67 убито и 430 ранено наших», — отписывал царь в Москву, но, вероятно, потери были более значительные, и царь не хотел тревожить ни семью, ни Москву дурными вестями.
Зато крепость сильно пострадала: наши вырезали весь гарнизон, а город сожгли.
После того, собравшись с силами, царь в конце августа приблизился к Риге и осадил ее.
1 сентября, в день Нового года, после молебна, шесть наших батарей открыли огонь по городу, и стрельба продолжалась безостановочно день и ночь.
Но успеха нельзя было ожидать: море для осажденных было открыто, и шведский флот подвозил им и провизию, и ратников, и оружие, и порох.
Мы же, напротив того, имели во всем затруднения: подвозы были почти невозможны, а местные жители не только не снабжали нас необходимым, но еще вели против нас партизанскую войну и уничтожали наших фуражиров.
Положение царя под Ригою становилось незавидным тем более, что там командовал шведами храбрый воин и отличный генерал граф Делла-Гарди.
Но царь окопался, вел правильную осаду и ждал подкреплений…
1 октября, в день Покрова, войска наши торжествовали праздник молебном и усиленными порциями пищи и вина. После вечерни и трапезы царь зашел в свою опочивальню.
Ставка его была из избы, собственно, для него срубленной, и довольно теплая: печи русские и стены, завешенные коврами, давали большое тепло.
В опочивальню царскую зашли Матвеев, Хитрово и Стрешнев за приказаниями.
— Дела плохи, — сказал царь. — Только что получил гонца от патриарха Никона; он пишет: повсюду распутица, слякоть; поэтому подвоз пороха, орудий и хлеба будет возможен только тогда, когда установится зима… но дожидаться здесь зимы невозможно: и люди, и лошади не выдержат голодухи… будет с нами то, что было с Шеиным под Смоленском: из осаждающих мы обратимся в осажденных. Тем более это вероятно, что пленные шведы говорят, что Делла-Гарди ждет короля свейского Карла с большим войском и разными снарядами.
— Что же ты, великий государь, хочешь сделать? — спросил Матвеев.
— Пока у нас имеются еще люди, лошади и порох, отступить к Полоцку и на пути захватить Юрьев (Дерпт). Ты как думаешь, Богдан? — обратился он к Хитрово.
— Я давно уж стою на том же самом. Да вот что, великий государь, позволь правду сказать, как пред Богом: думаю я, что и войну со свейцами не след было начинать: король напал на Польшу, и это было нам на руку: пущай бы он с одной стороны душил ляхов, а мы с другой. Потом ляхи одолели бы свейцев и выгнали бы их из Польши, а мы остались бы в Литве. Патриарх же затеял теперь войну со свейцами, и те оттянут свои войска от Польши, а поляки, коли кончится годичное перемирие, разобьют нас у себя, так как большая часть нашего войска здесь.
— Пойми, Богдан, мы без моря совсем войны не можем вести. Притом патриарх был только за поход Потемкина, а не на Ливонию и не за перемирие с Польшею; он осерчал, когда мы застряли в Вильне, и кричал: нужно-де идти на Варшаву и Краков. А бояре стояли на своем: на перемирии с поляками и на походе в Ригу.
— Без моря взаправду нельзя и быть; так снова взять Орешков (теперь Нотенбург) и Кексгольм, а там мы можем иметь свою крепость и свои суда, а для этого нужно послать только побольше ратников Петру Потемкину. Теперь мы погнались за двумя зайцами и ни одного не поймаем… Ригу трудно взять.
— Одначе нам Рига нужна, и Иван Грозный был здесь. Коли мы ее возьмем, к нам на помощь приведут суда и датчан, и голландцев, а в Ладожское озеро им не пройти — с берегов Невы не пустят их ни финны, ни свейцы.
— Дай-то Господи, великий государь, взять Ригу, — возразил Стрешнев, — но взять-то невмоготу.
— А ты как мыслишь, Артамон Матвеевич?
— Я, великий государь, что и боярин Богдан, думаю думу: коли мы возьмем Орешек, то на острове Котлине (Кронштадт) мы устроим пристань — туда-то и пожалуют к нам и голландцы, и датчане.
— Там нужно еще все устроить, Артамон Матвеевич, а в Риге все готово — облупленное яичко.
— Да вот в рот-то оно не дается, — вздохнул Хитрово.
— Но что это, кажись, выстрелы, — стал прислушиваться Стрешнев.
— Я отправлюсь к своим стрельцам, — встревожился Матвеев.
— А я пойду узнаю, что в стане и в окопах, и донесу тебе, великий государь… как прикажешь? — спросил Стрешнев.
— Ступай.
Стрешнев вышел. Ночь была темна. Ветер шумел, снег большими хлопьями падал.
Выстрелы из орудий и из ружей раздавались во многих пунктах окопов; ясно было, что шведы сделали вылазку из крепости в нескольких местах.
Стрешнев сел на своего коня, стоявшего у царской ставки, и с конюхом своим Федькою помчался по направлению ближайших выстрелов. Когда он примчался к окопам, он увидел зарево от зажженного неприятелем нашего лагеря, в котором ратники наши бились с ожесточением со шведскими латниками. Стрешнев бросился было рубиться со шведами, но вдруг ему пришли мысль: если шведы победят в этом месте, то меньше чем в полчаса они будут у ставки царя и полонят его или убьют.
Эта мысль ужаснула Стрешнева.
— Федька! — крикнул он конюху. — Скачи к Матвееву; пущай со всеми стрельцами идет к царю, а я помчусь к Урусову… да по дороге заверни к царской ставке и скажи Хитрово: пущай-де держится крепко у ставки, помощь-де будет.
С этими словами Стрешнев пришпорил коня и помчался на другой конец лагеря, где не было слышно выстрелов. Когда он прибыл к отряду Урусова, оказалось, что тот небольшую лишь часть отряда оставил на этом месте, а с остальною по первой же тревоге он бросился отстаивать наши редуты.
Стрешнев забрал остальную рать и повел ее к царской ставке. Подходя к ней, он увидел, при усиливающемся зареве в лагере, что они уже атакованы шведами.
Хитрово с небольшою частью царского полка дрался здесь отчаянно, и шведы готовы были их подавить своею многочисленностью, тем более что впереди их граф Делла-Гарди рубил наших налево и направо.
— Вперед, ребятушки, на выручку царя, с нами Богородица-воительница! — крикнул Стрешнев и ударил в тыл шведам.
Неприятель, не ожидавший нападения с этой стороны, немного смешался, но храбрый Делла-Гарди, оставив одного рыцаря сражаться с Хитрово, ударил на Стрешнева.
Оба противника сошлись и оба сыпали удары друг другу: вдруг крик «ура!» раздался с третьей стороны — это Матвеев врубился со стрельцами в шведскую рать.
Шведы дрогнули и рассыпались, а Делла-Гарди пришпорил коня и стал отступать, призывая громко свою рать.
Русские начали на него сильно наступать и много положили на месте латников, Делла-Гарди же с небольшими остатками отступил за окопы наши в крепость.
Во всю ночь и почти до полудня 2 октября шла ожесточенная борьба со шведами, так как они пытались несколько раз врываться в наш лагерь.
Мы от них насилу отбились, и хотя много их пало, но и с нашей стороны потеря была велика; в особенности нам была чувствительна потеря жилых помещений и укладов, сожженных неприятелем; также уничтожено им много наших запасов и заклепано несколько орудий.
Многие же из наших укреплений взорваны ими на воздух.
Дольше, таким образом, оставаться было невозможно, и царь, рассчитывая на то, что шведы слишком много потеряли людей и не могут его преследовать, велел собраться к отступлению; забрав все осадные орудия, лагерь и обоз, он отступил к Полоцку и по дороге захватил Юрьев (Дерпт), где и оставил сильный гарнизон.
Матвеев, Хитрово и Стрешнев за подвиги их получили большие награды, и с того времени в особенности Богдан Хитрово сделался одним из самых близких людей к царю.
Не более месяца спустя царь отправил Матвеева под Вильно, так как там шли неуспешно переговоры наших послов с поляками о мире. Послы наши получили уполномочие приостановить в Литве военные действия с тем, чтобы нам разрешено было обратить оружие в Малороссию.
III Ян Казимир и Мария Людвика
Что же делалось во время годового перемирия в Польше?
Она сбросила с себя ненавистное иго шведов. Ненавистным было оно потому, что Польша была преимущественно страна католическая, а шведы, или, лучше сказать, немецкие войска, пришедшие с Карлом X, были фанатичные протестанты: они грабили католические костелы, православные и униатские церкви, резали и вешали попов и ксендзов. Всеобщий энтузиазм овладел страною, и пример тому подал Ченстохов: патриоты там собрались, призвали к себе знаменитого воина Чарнецкого, и не более как через год шведы были изгнаны или перерезаны, а Краков и Варшава очутились вновь в руках Яна Казимира.
После того как Ян Казимир был разбит шведами, 16 сентября 1654 года под Страшовою Волею, он уехал было с женою в Малый Глогов, в Силезию, и жил почти изгнанником. Но польские патриоты, изгнав шведов, послали за ним депутатов, и тот возвратился в Краков с большим торжеством.
Месяц спустя после прибытия его туда в кабинет к нему вошла однажды утром жена его Мария Людвика. Это была женщина лет под тридцать, статная, высокая, с черными огненными глазами, типа более итальянского, чем французского, хотя она была из королевского французского дома.
Она была в первом браке за королем польским Владиславом, родным братом Яна Казимира, но, овдовев, она упросила папу разрешить ей выйти замуж за родного брата покойного ее мужа.
Впрочем, тогдашний папа был очень податлив: не надеясь когда-либо сесть на какой-либо престол, Ян Казимир за пять лет до вступления на престол брата своего, т. е. в 1638 г., отправился путешествовать в Италию. Там прельстился он иезуитами, вступил в их орден и рукоположен даже папою в кардиналы.
Это кардинальство не помешало ему после смерти брата своего вступить 10 января 1644 года на польский престол и потом жениться на своей невестке.
К этому-то женатому иезуиту — кардиналу — королю вошла его жена и невестка.
Король, имея в это время лет за сорок, был, однако же, очень хил и, страдая подагрою, сидел в мягком кресле, а ноги его, укрытые шалью, покоились на мягкой скамеечке.
Войдя к нему, королева поцеловала его в лоб, опустилась на стул и, подняв набожно глаза к небу, произнесла восторженно:
— Благодаря Ченстоховской Божьей матери, нашей заступнице, дела наши идут недурно. Москали сидят под Ригой… наши комиссары дурачат под Вильной князя Одоевского — они все поддерживают в нем надежду, что царь Алексей Михайлович будет избран в короли… но это ведь невозможно: у поляков избирательное начало, и они никогда не согласятся на наследственное избрание. Притом царь не изменит своей вере и не признает папы, а без этого ему и не быть избранным: по этой самой причине и царь Иван Грозный не был избран сеймом.
— Это-то так, — заметил Ян Казимир, — но вести я получил из Москвы, что патриарх Никон исправил книги церковные и внес в постановление собора Сардикийского правило, что в случае разногласия на соборах обращаться к посредничеству папы. Этим и признано главенство папы. Исправил он также книги так, чтобы быть в единогласии с киевскою церковью. Когда он сделал этот шаг, есть надежда, что он пойдет и дальше.
— Говорят, — прервала его Мария Людвика, — что он основал Новый Иерусалим, а тайно говорит, что это новый Рим… и желает он сделаться в славянстве и на Востоке новым папою; притом говорят, что он очень светский человек, точь-в-точь кардиналы Ришелье и Мазарини, и что в случае прекращения мужского рода Романовых он готов даже жениться на сестре царя Алексея Татьяне, очень красивой и умной женщине. Но как патриарх — да женится?
— Я же кардинал, однако же это не мешало мне жениться, да и Мазарини был женат на Анне Австрийской. При вступлении кого-либо на престол церковь католическая все разрешает, ну и Никону собор разрешил бы.
— Но русские что скажут?
— Что бы они ни сказали, но согласись, что, по их понятиям, престол не может не быть наследственным — вот почему они и все простят своему избраннику. Так они искали для царя Михаила невест в Швеции и Бранденбургии. Да и теперь они домогаются, чтобы царь их был избран в короли Польши. Но разве это возможно?
— Я-то стою за племянника своего, принца Энгиенского, но в том лишь случае, если племянница наша, дочь твоего брата Александра, будет отвергнута царем русским как невеста его сына. Но послать дочь нашу к этим варварам тоже невозможно. Охотно я бы усыновила царевича Алексея Алексеевича, да он теперь пока еще единственный у своего отца и русские не отпустят его к нам. К несчастию, Бог не дал нам детей: будь у нас сын — другое дело, мы бы его женили на одной из дочерей Алексея, и тогда, в случае прекращения мужского колена Романовых, он сел бы на оба престола: на польский и на русский. Скажи, когда брат твой, Владислав, был избран на русский престол, было ли обусловлено, что он должен принять православную веру?
— Видишь ли, дело было так: после низложения в Москве царя Василия Шуйского бояре решили избрать одного из трех: Михаила Романова, Василия Голицына или Владислава. Большинство стало на стороне Владислава, так как он хотя был еще юн, но был образован и мог бы быть не только польским, но и шведским королем. При подобном избрании русские надеялись покончить вражду со шведами и поляками и возвеличить этим свое государство. Но отец мой был упрям. Вместо того чтобы отпустить сына в Москву, он сам надел на себя шапку Мономаха и, напав на Русь, осадил Смоленск и взял его, а Гонсевский потом сжег Москву. Это озлобило русских, и они избрали на престол Михаила Федоровича. Теперь, как ты видишь, мы расплачиваемся за грехи отца моего — русские, если бы не заключили с нами годового перемирия и не бросились бы на шведов, то едва ли мы сидели бы теперь в Кракове.
— Что же их вынудило оказать нам эту помощь?
— Трудность вести войну без моря. Шведы овладели при отце моем Ливониею и берегами Балтийского моря; теперь русские домогаются отнять у шведов Балтийское море, и это только и причиною, что они так уступчивы в отношении нас. Я надеюсь, что они скоро заключат с нами выгодный мир. Богдану Хмельницкому, хотя он присягал на подданство России, царь теперь не верит: тот сносится со шведским королем и списался с семиградским князем Рагоци, чтобы избрали его после моей смерти на польский престол.
— При таких обстоятельствах, — покачала сомнительно головою Мария Людвика, — сомнительно, чтобы русские заключили с нами скоро мир. Как только они увидят, что мы усиливаемся, они покончат со шведами и будут упорно с нами драться. А это для Польши разорение, да и кровь невинных льется без конца. Господи… Матерь Божья, нельзя ли найти другого исхода?
— Королева, какой может быть тут исход?.. Единственное, что можно было предложить, — это соединение обоих государств: польского и русского. Здесь еще в отношении династическом можно было бы кое-как примириться с домом Романовых. Но общественный строй наш неодинаков: главное — так это разность религии, но тут патриарх Никон и наш примас сошлись бы; важнее же то: что сделаешь ты с нашим выборным правом в короли? Тут-то мы с русскими окончательно расходимся: они за наследственность, мы против нее, как же слиться?
— Нельзя ли и у нас установить наследственность престола?
— Видишь ли, двоюродный братец мой, шведский король Карл XI, когда овладел в прошлом году всею Польшею, так ему тотчас поляки заявили: собери сейм и объяви, чтобы тебя избрали, а он показал на свой меч и воскликнул: «Я Польшу завоевал и не нуждаюсь в избрании — меня мой меч провозгласит королем»… Что же? Поляки восстали и изгнали его из Польши. О наследственности же престола, если заикнуться, то обзовут нас изменниками и изгонят из Польши. Нужно покориться силе и обычаю: поляк без сеймика, сейма и посольской палаты не считает себя безопасным и счастливым, а русские обратно: без самодержавного царя они не видят возможности существовать.
— В таком случае…
— В таком случае нужно положиться на Бога и, придерживаясь правила «laissez faire», надеяться, что все, что ни делается, то воля Божья, и стараться помириться с русскими и жить с ними в ладу, пока оба народа не сблизятся и в своих верованиях, и в понятиях. Тогда самое слияние сделается неизбежным во имя общих интересов и благополучия.
— Прав ты: против исторического хода народной жизни ничего не сделаешь, — вздохнула королева, поднялась с места и отправилась в свое отделение.
IV Смерть Богдана Хмельницкого
В Чигирине, во дворце гетмана Богдана Хмельницкого сидят две женщины: одна в одежде инокини, другая — в малорусском платье, т. е. в юбке, кофте, обложенной мехом, а на голове ее турецкий платок, на шее дорогие монисты, в ушах — бриллиантовые серьги. Малороссиянке лет под сорок, и она во всем блеске красоты: глаза блестящие черные, цвет лица свежий, но с загаром, черты лица тонки, брови густые.
Это жена гетмана — Анна, а собеседница ее — мама Натя, бывшая жена Никона.
Разговор идет на малороссийском языке:
— Ты видела, матушка, моего мужа — так говори, как по твоему разумению: не опасен ли он?
— Болезнь пана гетмана сильная, нужно тебе принять меры, чтобы сын твой Юрий был признан еще при жизни отца гетманом, потом это невозможно будет сделать… У гетмана столько врагов, а Юрий юн.
— Правду ты говоришь — ведь Юрию только шестнадцатый годок пошел. Писал недавно гетман с посланцем Коробкою к царю, что он сдал за старостью и за болезнию гетманство Юрию, за радою полковников и всего войска, и умолял царя прислать в Киев святейшего Никона-патриарха, и тот бы митрополита на митрополию, а гетманского сына на гетманство поставил и благословил. Царь же о Никоне ни слова, а лишь отписал: «Вам бы, гетману, сыну своему приказать, чтобы он нам, великому государю, служил верой и правдой, как вы, гетман, служили; а мы, увидя его верную службу и в целости сохранную присягу, станем держать его на милостивом жалованье».
— Слышала… слышала, как узнал о таком ответе миргородский полковник Грицко Лесницкий, он и стал прочить в гетманы войскового писаря Выговского.
— Да, а муж мой, как узнал об этом, так Лесницкого хотел казнить, Выговского же держал пригнетенного лицом к земле целый день, да я упросила отпустить и того и другого.
— Напрасно он это сделал, а Никона едва ли выпустят из Москвы; у царя теперь в милости Хитрово и Стрешнев, а те враги святейшего.
— Знаем это и мы, и все войско, да когда бы Никон был здесь, все было бы иное; был бы он здесь и патриархом, и главным над всеми; и тогда не нужно бы было быть нам под рукой (в подданстве) московского государя, и св. град Киев был бы, быть может, новым Римом, не только для нас, малоруссов, но и для других. Как в войске узнали, что царь не отпущает к нам Никона, — все плакали.
— А на Москве, — воскликнула инокиня с сверкающими глазами, — ругают его, называют еретиком, за чем-де исправил книги и ввел единогласие в пении в церкви, как это и у вас. А за государевым делом он не имеет покоя ни днем ни ночью, не доест, не доспит, а от бояр одна честь — зависть одна подлая да и подкапываются под него. Взяли мы, говорят они, и Белоруссию, и Малороссию, и довольно… значит, больше он нам не нужен, теперь разделим меж собою добычу; а он не дает, говорит: все-де государское… и увидишь, гетманша, — не отпустят они его сюда, да и самого заточат.
— Крий[33] Боже! — воскликнула с ужасом Анна. — Да, чтоб такого умного извели! Уж Богдан, гетман, какой умный, аль Выговский… да и те говорят: куда нам до Никона. Такого человека и не было второго на свете. Да признаться, если бы не Никон, то Богдан не сдался бы царю, и, коли были у нас какие обиды от воевод, так Никон, как узнает, всегда просит прощения и взыщет. Без него же, увидишь, матушка инокиня, снова мы будем или с ляхами, или с турками. Никон знал, кого карать, кого жаловать, умел ладить с людьми, а коли бояре начнут жить своим умом, то ладу не будет: вооружат они против царя и войско, и народ.
Вошел в этот миг молодой человек, безбородый, но с мужественным лицом, хотя скромного вида: на нем был казакин, припоясанный серебряным кушаком, с боку которого висела драгоценная турецкая сабля. Поцеловав руку гетманше, он торопливо сказал:
— К нам, матушка, гости приехали… из Киева воевода Бутурлин… Говорят, от царя. Он уж в лагере наказного атамана.
— А отец-то твой болен… Захочет ли он принять его и говорить с ним?
— Зайди к нему, матушка, ведь он, коли болен, так не любит, чтобы к нему заходили, кроме тебя.
— Идем к гетману вместе, послушаем, что он скажет.
Они прошли коридор и очутились в обширном зале, это была и приемная, и столовая гетмана. Посредине этой огромной комнаты с большими окнами стояли дубовые столы, и по бокам виднелись дубовые скамьи. Стены столовой были украшены оружием, отнятым у неприятелей, знаменами, бунчуками, и здесь же виднелись головы лосей, оленей, кабанов и медведей, добытых Богданом на охоте.
Отсюда они вошли в другую комнату: это была рабочая гетмана.
Устланная дорогими коврами, она имела в углу у большого топчана небольшой стол, на котором стояла чернильница и лежали в порядке бумаги. Над топчаном висели хорошей немецкой работы масляными красками портреты — его и жены его. На противоположной стене виднелись портреты покойного приемного его сына, убитого в Румынии, и родного его сына Юрия.
В комнате этой они застали войскового писаря Выговского; он сидел на топчане в ожидании приказаний гетмана.
Поклонившись с сыном Выговскому, который поцеловал им руки, они подошли к завешенной большим ковром двери, ведшей в опочивальню Богдана. Стоявший у двери казачок отдернул ковер и впустил туда Анну и ее сына.
Опочивальня Богдана была большая комната, уставленная мягкими топчанами; пол и стены были завешены и закрыты дорогими коврами.
В турецком халате, в малороссийской барашковой шапке гетман полулежал на топчане против икон. Ноги его были укрыты парчовым одеялом, а в изголовье у него виднелись подушки, покрытые наволочками из тонкого полотна.
Увидев входящих к нему жену и сына, гетман, видимо, обрадовался: страдальческое лицо его повеселело. Анна и сын ее поцеловали у него руку.
— Рад вас видеть, — закряхтел Богдан от боли в ногах, опухших от водянки. — Кажется, — продолжал он, — лисица Выговский ждет, чтобы я его позвал. Слышал я от людей, что отец его побратался с москалями…
— Бутурлин Федор Васильевич из Киева приехал, — перебила его Анна. — Значит, он вовсе не на стороне Выговского.
— Они уже успели прежде в Гоголеве повидаться с ним, но обманет их эта лисица. А Бутурлин сюда приехал знаешь зачем? Чует-де ворон падаль. Ох! Лышенько мне, конец настал Богдану: не ест, не пьет, а горше всего — горилка опротивела. Прежде, бывало, подока (бутылка) на снеданье да око на обед, а теперь и чарка противна. А человек коли не ест, значит смерть пришла.
— Не первина это, — утешала его жена, — и с Божьею помощью поправишься. Теперь, одначе, нужно подумать, как принять московских гостей.
— Принять! — закипятился Богдан. — Да лучше бы они прислали ко мне Никона. Приезжай сюда Никон, другое бы дело: мы бы с ним все вверх дном поставили: перенесли бы московскую столицу в Киев, завоевали бы Польшу, уничтожили бы и татарву, и турского султана. Да и сын мой имел бы дядьку такого, какого на целом свете нет и не было. Гляди, ведь счастье же московскому царю — народился же у него, да из крестьянства, из черных-то людей, такой человек, а здесь коли кто умен, то плутоват и продажен как иуда, хотя бы вот и писарь наш войсковой — Выговский. А Никон как пес верен своему царю и не только ничего от него не берет, но всю церковную свою казну ему отдал; теперь, говорят, нечем ему даже достраивать свой Новый Иерусалим.
— Я еще лучшее слышала от инокини Наталии, — понизила голос Анна. — Она боится, что бояре низложат и заточат Никона, так как они перестали в нем нуждаться и он мешает им только грабить завоеванные им земли Белоруссии и занятую им Малороссию.
— Если это правда и если они заточат его — я примирюсь с татарами, и мы пойдем на Москву… дорого им будет это стоить — я разорю всю Великую Русь и сожгу Москву… Нет, пока жив Богдан, волос с головы святейшего патриарха не упадет. И если я согласился быть под высокою рукою русского царя, так лишь потому, что царством правит этот великий разум, эта правдивая и честная душа. Что бы я дал, если бы возможно было его перетащить сюда!.. Я бы посадил его гетманствовать, а сам был бы у него простым наказным атаманом.
— Что же делать, коли царь не отпускает его теперь. Но вот гонец от наказного атамана Лесницкого прибыл из нашего Чигиринского лагеря, и он пишет, что Бутурлин уже у него, а это всего десять верст — нужно бы послать кого-нибудь к нему навстречу.
— Черта я ему послал бы, — вспылил Богдан. Потом, помолчав немного, он продолжал: — Покличьте писаря Выговского.
Сын его Юрий исполнил его приказание. Выговский Иван, войдя к гетману, низко ему поклонился, подошел к нему, поцеловал у него руку и остановился у двери.
— Иван, получен гонец наказного атамана; он пишет, что у него уже боярин Федор Васильевич Бутурлин. Возьми двести казаков, сына моего и есаула Ивана Ковалевского и поезжай к нему навстречу. Сын мой Юрий поклонится ему и меня и скажет, что я болен.
Посольство это тотчас уехало навстречу царскому послу и встретило его в пяти верстах от Чигирина.
— Не погневайтесь, — сказал Бутурлину Юрий, — что отец мой сам не выехал к вам навстречу: он очень болен.
— Очень жаль, что отец ваш болен, я к нему с великими государевыми делами.
После того малороссы торжественно въехали с Бутурлиным в Чигирин при колокольном звоне.
На другой день Бутурлин отправился рано утром к гетману. Богдан принял его в своей опочивальне, и, когда тот заговорил было о предмете своего посольства, гетман отказался его слушать по причине болезни и просил отложить разговор до другого раза.
Бутурлин рассердился и хотел уехать, но Богдан объявил ему, что он примет это за прямой разрыв с царем. Это заставило Бутурлина и его свиту остаться обедать.
За обед сели: жена Богдана Анна, дочь Катерина, другая дочь — жена Данилы Выговского, писарь Иван Выговский и есаул Иван Ковалевский. Гетмана вынесли с кроватью в столовую, и он во время обеда лежал там, но в половине стола он велел налить себе кубок венгерского, встал и, поддерживаемый слугами, пил за здоровье царя и его семейства. Потом он провозгласил тост:
— За здоровье святейшего патриарха Никона, милостивого заступника и ходатая!
Неизвестно, понравилось ли последнее Бутурлину, но об этом официально донесено было в Москву.
Несколько дней спустя после этого Богдан пригласил к себе Бутурлина для выслушания государева дела.
Бутурлин, как видно из его донесения в Москву, говорил с Богданом даже не как с вассалом, а как с простым воеводою: он упрекал его чуть ли не в измене и клятвопреступлении.
Богдан вспыхнул и обратно доказывал, что бояре при виленском перемирии продали Малороссию ляхам; наконец он воскликнул:
— Когда еще мы не были у царского величества в подданстве, великому государю служили, крымского хана воевать московские украйны не пускали девять лет… и теперь мы от царской высокой руки неотступны и идем воевать с неприятелями (крымским ханом) царского величия, хотя бы от нынешней моей болезни и смерть приключилась… для того и везем с собою гроб.
— Последнее правда, я в лагере наказного атамана видел десять тысяч ратников, готовых в поход против крымских татар, но сможешь ли ты, гетман, с ними выступить?
— Как Бог даст, а разорителем веры христианской я никогда не буду… были с нами в союзе и бусурманы — крымские татары, и меня слушали, бились за церкви Божии и за веру православную. Великому государю во всем воля: только мне диво, что бояре ему ничего доброго не советуют: короною польскою еще не овладели и мира в совершение еще не привели, а уже с другим государством, со шведами, начали войну. Пришлось мне заключать союз со шведами, венграми, молдаванами и волохами; если бы я этого не сделал, то сделали бы это ляхи и нас всех в Малой Руси вырубили бы и выжгли.
Бутурлин тогда возразил, что по милости семиградского князя Рагоци и шведского короля мы, русские, потеряли много городов в Польше. Потом он укорял его за резкую речь.
— Когда вам от неприятелей было тесно, — говорил Бутурлин, — так ты бы, гетман, с послами великого государя говаривал поласковее; а теперь ты говоришь с большими пыхами[34], неведомо, по какой мере. Тебе самому памятно, как приходил я со многими ратными людьми тебе на помощь против поляков и крымских татар; в то время ты был очень низок (скромен) и к нам держал любовь большую. Носи платье разноцветное, а слово держи одинаков.
Потом он начал оправдывать войну нашу со шведами и заключил, что царь не изменяет ни своего расположения, ни милостей своих к нему, Богдану, и что все остальное поклеп.
— Я верный подданный царского величества, — возразил тогда гетман, — и никогда от его высокой руки не отлучусь.
Царского величества милость и оборона нам памятны, а за то готовы мы также царскому величеству служить и голов своих не щадить. Только теперь дайте мне покой; подумавши обо всем, вам ответ учиним в другое время: теперь я страдаю от тяжкой болезни, не могу говорить.
После того Богдан велел тут же накрыть на стол и просить Бутурлина по-приятельски отобедать у него чем Бог послал.
Жена и дочь его Катерина сели за стол и потчевали гостя.
На другой день гетман послал писаря Ивана Выговского к Бутурлину извиниться, что по случаю болезни он резко говорил с ним о государевых делах.
Два дня спустя приехали к гетману шведские и венгерские послы.
Бутурлин встревожился и сделал запрос: что это значит?
В ответ на это гетман на другой день пригласил к себе русских послов и уверил их, что он ищет союза со шведами и венграми, чтобы уничтожить Польшу, и в заключение присовокупил:
— Теперь бы начатое дело с ляхами к концу привесть, чтобы всеми великими потугами с обеих сторон ляхов бить, до конца искоренить и с другими государствами соединиться не дать; а мы знаем наверное, что словом ляхи великого государя на корону избрали, а делом никак не сталось, как видно из грамоты их к султану, которую я отослал к царскому величеству.
Великую правду, сказанную гетманом, Бутурлин обошел молчанием, придирался только к мелочам и предъявил разные претензии, между прочим, чтобы сын гетмана, Юрий, присягнул России на подданство. На это Богдан справедливо возразил, что требования русских будут удовлетворены; что же касается сына его, то необходимо прежде, чтобы он, гетман, умер и чтобы войско поставило сына его в гетманы, и тогда, вероятнее всего, он и присягнет царю.
Это была последняя беседа Богдана с русским посольством: ежедневно ему становилось все хуже и хуже, и 27 июля, во вторник утром, он почувствовал себя так дурно, что пригласил духовника: исповедался, приобщился и соборовался. После того ему сделалось как будто легче, и он велел вынести себя с кроватью на террасу, ведшую в сад. К полудню он сделался тревожен:
— Что пишет из Москвы Тетеря? — спросил он жену.
— Мы от него писем еще не получили, — сказала она.
— Я его просил, чтобы он повидался с патриархом Никоном и бил бы челом: не только я и войско, но теперь и все наше духовенство молит его приехать сюда, поставить митрополита… Господи! А он не едет… если выздоровею, я сам поеду в Москву, я упрошу царя отпустить его сюда. Бояре с ума спятили: чего они режутся со шведами под Ригой — им бы ляхов добить.
Он замолчал, но заметался на постели и жаловался на стеснение в груди и на то, что от лежания у него болит то там, то сям. Жена его Анна, дочь Катерина и Юрий помогали ему поворачиваться с боку на бок и подавали ему воду, так как он жаловался на жажду.
Часа в четыре он заснул на несколько минут, но вдруг проснулся и крикнул:
— Ганна, Катя, поглядите, Никон не приехал ли?.. Мне казалось, точно он подъехал к крыльцу.
— Никто не приезжал, — ответила жена его.
— Никто? Так это был сон… сон… а я как будто его видел, он так кланялся мне, благословлял… да и Юрия… Где Юрий?.. Где Катя?.. Где ты, Ганна?.. Я вас не вижу. Где мое войско?.. Разве оно пошло на татар? Да, пошло… пошло… слышишь?.. Да, я слышу — пушки палят, сабли стучат, кровь рекою. Села и города горят. Коня! Коня! Как же без коня? Коня! Наших бьют…
Он умолк и больше не говорил: к пяти часам великого человека не стало.
V Первая размолвка Никона с царем
После свидания с Бутурлиным и крупного разговора с ним Богдан Хмельницкий отправил послом в Москву одного из приближенных своих, Павла Тетерю.
Прибыв в Москву, Тетеря насилу добился официального приема царем 4 августа. Царь принял его торжественно, и Павел Тетеря сказал витиеватую речь, очень длинную и составляющую набор фраз.
Вот ее начало:
«Егда благодарованную пресветлейшего вашего царского величества державу нынешними времяны над малороссийским племенем нашим утвержденну и укрепленну внутренними созираю очима, привожду собе в память реченное царствующим пророком» и т. д.
После этой речи, не откладывая в долгий ящик, бояре задали посланнику вопросы, относящиеся до утверждения воеводской системы управления Малороссиею.
Оратор давал уклончивые ответы, а по политическим вопросам прямо сказал, что гетман постарается склонить к миру шведов и будет поддерживать в Польше домогательство царя, чтобы после смерти Яна Казимира избрали его в короли.
Этим переговоры посла ограничились с боярами, но вовсе не для этого приехал Павел Тетеря в Москву, у него была совершено иная цель: он рассчитывал возвратиться в Киев с патриархом Никоном.
Но как это устроить?
Он отправился в Андреевский монастырь к Епифанию Славенецкому.
Ученый монах принял соотечественника своего радушно, угостил его варениками с гречневою кашею, пампушками с чесноком, гороховым супом, причем не была забыта и чарка.
После нескольких возлияний обе стороны сделались откровенны:
— Да ведь я, отец Епифаний, собственно, за вашим Никоном приехал, — молвил Тетеря.
— Напрасные разговоры, — махнул рукою Епифаний. — Бояре Никона из Москвы не выпустят, в особенности в Малороссию. Он теперь уже пишется: великий государь и патриарх Великой, Малой и Белой Руси. Так коли он поедет в Киев да засядет там, то будут два великих государя; один в Киеве, другой в Москве. Лучше, таким образом, держать его в Москве, так, знаешь, под рукою.
— И в плену? — подсказал Тетеря.
— Отгадали, земляк. Впрочем, заезжайте к патриарху и поговорите с ним. Быть может, он уговорит царя и бояр отпустить его в Киев. Болезнь Богдана, желание его, чтобы избрали сына его в гетманы, и необходимость поставить туда митрополита — быть может, и заставят их склониться на просьбу малороссов.
— Когда же можно видеть патриарха?
— Поедем туда хоть тотчас.
— Едем на моих лошадях.
Они вышли, сели в коляску Тетери и помчались в Москву.
Патриарх, если он был только в своих палатах, всегда сидел в своей комнате за работой.
Епифаний без доклада повел к нему малороссийского посла.
После обычного в то время поклона до земли Епифаний и Тетеря подошли к патриаршему благословению, причем Епифаний представил Тетерю как посла от гетмана.
— Слышал я, почтенный посол, — начал Никон, — что тебя приняли очень ласково и с почетом у царя, и что от тебя потребовали объяснения о малороссийских неправдах… и воровствах.
— Я бы дал ответ — о неправдах воевод, а от нас не было ничего не по-Божьему; мы теперь готовим на крымского хана большую рать и ждем только ваших бояр.
— Бояре Ромодановский и Шереметьев идут к вам.
— И с Божьей помощью, святейший патриарх. Но кабы ты смиловался на наше слезное моление и приехал в Киев, то поставил бы и нового митрополита и утвердил бы гетманского сына Юрия.
— Говорил я с царем, да он не пущает.
— Прежде гетман Богдан был немного нездоров, а теперь на смертном одре.
— Я этого не знал, почтенный посол. Нужно сообщить об этом царю — быть может, он и отпустит меня в Киев. Я тотчас же к нему поеду.
Патриарх благословил пришедших, и те вышли.
Никон только что начал одеваться, как появился у дверей строитель Нового Иерусалима, архимандрит Аарон.
— Что скажешь, отец архимандрит? — спросил Никон благосклонно.
— Был я, святейший патриарх, по твоему приказу во всех приказах, чтобы откуда-нибудь достать хотя несколько денег; у нас рабочие наняты, время летнее, камень, доски и иной лес подвозятся. Теперь ограда уже готова, башня тоже, церковь заложена, нужно бы подогнать стены до крыши, а тут денег ниоткуда. В приказах всюду один ответ: без царского указа серебра не выдадим — на войну нужно.
— Да ведь я-то расплачивался на приказные нужды своими деньгами, так пущай хоть часть возвратят… притом разве мой указ не одинаков с царским? Кто же осмелился это говорить?
— В дворцовом: Милославский и Морозовы, в других: бояре — Романов, Черкасские, Трубецкой и другие.
— Странно, — воскликнул патриарх, — прежде без моего указа не отпущали деньги, а теперь без царского. Прежде царь велел ослушников моего указа судить, а теперь он велел моего указа не слушать… притом я не прошу их казны, прошу немного лишь, чтобы возвратили мое. Не могу же я в монастыре не кормить людей и не платить рабочим. Еду я сейчас к царю, а ты подожди.
Никон вышел и с большою свитою уехал к царским палатам. Было время обеденное, и царь принял его милостиво в своей комнате и велел принести обед, желая с ним разделить трапезу.
По обычаю за обедом о делах не было говорено, а по окончании трапезы и молитвы, когда со стола убрали, Никон обратился к царю:
— Слышал ты, великий государь, гетман Богдан при смерти, болен.
— Мне говорили, что он не так здоров, да это не впервое.
— Это так: но теперь Малороссия без митрополита, а там она будет и без гетмана.
— Того и другого они избирают, и это не наше дело, кого они посадят. Нам лишь бы они остались верны и лишь бы присягнули под нашу высокую руку.
— Не говори, великий государь! Важно нам, чтобы гетман и митрополит были бы нашими. Не так тебе докладывали; есть там много врагов наших: и Выговский писарь, и те, которые с ним, все это — враги наши. А Богдан и духовенство за нас. Было бы хорошо, великий государь, если бы ты отпустил меня в Киев: я бы там поставил им митрополита и настоял бы на избрании сына гетмана.
— Он еще молод, ему всего шестнадцать лет.
— Великий государь, и ты имел шестнадцать лет, когда вступил на царство.
— От того-то и смуты были в начале моего царствования.
— От того, великий государь, что ты не имел добрых советников… а Юрию ты можешь дать советников пожилых из их рады и из бояр.
— Разве Борис Иванович, — вспыхнул царь, — и Илья Данилович не радели о государевом деле?.. А потому лишь, что я был юн, их и осуждали.
— Великий государь, не сказал я в укор боярам Морозовым и Милославскому, а так лишь — к слову. Малороссия не наша страна: меж полковниками и судьями есть люди с высоким разумом, люди ученые.
— Уж будто у нас все люди без ума, без знания, — обиделся вновь царь.
— Есть и у нас люди со знанием, но меньше, чем там, да не в этом дело, а то хотел я сказать, что к юному царю можно поставить целую думу или, по их выражению, раду, которая заправлять будет всем государским делом.
— А мне бояре говорили: коли умрет Богдан, так пущай кого захотят избирают, а мы туда воевод своих по городам назначим.
— Воевод можно назначить, — заметил Никон. — Малороссы, одначе, к тому непривычны, и воеводы будут их обижать. Притом, — присовокупил он после некоторого молчания, — нужно еще нам укрепить за собою, миром с Польшею, и Малороссию, и Белую Русь; потом мы должны держаться их порядков и обычаев.
— Бояре говорят иное: воеводство соединило-де всю Русь, начиная с удельных князей до Новгорода, Пскова, Казани и Астрахани; воеводство соединит нас и с Малою, и Белою Русью, и я стою за это.
— Великий государь, не смею ослушаться твоей воли, одно только скажу: введи в Малую Русь воеводство, да тогда лишь, когда со свейским королем и с Польшей будет мир. Так ты, великий государь, не отпустишь меня в Киев?
— Бояре бают, не пригоже-де святейшему патриарху ехать в Киев ставить митрополита: пущай-де духовенство Малой Руси изберет кого хочет и сюда пришлет. Не нам-де кланяться им, а они должны нам поклониться в Москве.
— Великий государь, — сказал горячо Никон, — царьградские патриархи не раз приезжали в Киев ставить митрополитов и благословить паству. Отчего бы и мне не поехать благословить свою паству?
— Ты сам говоришь, до мира с Польшею мы не можем считать Малую Русь своею.
— Это правда, да дело церкви иное: это не зависит от мира.
— Да; но бояре бают: без утверждения царьградского патриарха ты-де не в праве присоединить к себе митрополию Киевскую: за это, по соборным уложениям, извержение из церкви.
— Это правда, когда присоединение насильственное, а не добровольное. Притом, коли царьградский патриарх стал бы жаловаться: пущай тогда разберет нас вселенский собор, но не бояре — это не их дело. Рассудить двух патриархов может или собор патриарший, или же, по соборному уложению сардикийскому, папа.
— Разве ты, святейший патриарх, признаешь этого еретика за патриарха?
— Не могу не признать — отлучена не церковь римская и ее первосвященники, а отлучены и проклинаются еретики папы. Церковь, водворенная апостолами Петром и Павлом, не может быть отлучена, а отлучаем и проклинаем мы тех пап, которые не следуют божественному евангелию и писанию святых апостолов и отец… теперь же у меня пока первенствующий патриарх аль папа — константинопольский.
— Пущай будет по-твоему, святейший патриарх, — уж больно ты научен во всякой мудрости… все же в Киев не пущу, — пущай митрополит едет сюда.
— Еще я по другому делу к тебе, великий государь. Был и ты при закладке Нового Иерусалима и обещал ты дать и волости, и села, пенязи, и начал я строить и обитель, и св. церковь Воскресения Христова. Тогда и бояре сделали много пожертвований. Потом… потом никто ничего не дал, видит Господь Бог: тащу и я, и братия на себе и камень, и всякое дерево, усердствуем мы, да без казны ничего не сделаешь: нужно и хлеба купить, и того, и другого, и рабочих рассчитать.
— Обещал я тебе, правда, да видишь сам, война, а денег в казне нет, а бояре бают, здесь хлеба нужно войскам, пороху, оружия, а тут патриарх затеял монастырь строить.
— Кесарю Кесарево и Божие Богови, — вспылил патриарх. — Строю я монастырь на свои деньги и прошу теперь не царскую аль боярскую казну, а свои собственные деньги: более десяти тысяч я дал из патриаршей казны, а тут такая обида: приказы говорят, указов-де моих не следует слушать — ты-де запретил, великий государь.
— Не запрещал я, а они указов и моих нее слушают: серебряных денег совсем нет, а медных рублей бери сколько хочешь.
— Наделают бед, великий государь, эти медные рубли… говорил я, меня не слушали. Давал и снабжал я не медными рублями приказы, а серебряными… пущай дадут хоша немного: нужно обитель и церковь кончить.
— Ничего не могу дать — войну нужно вести.
— Великий государь, знаешь ты, что я был против осады Риги и стоял я за то, чтобы забрать Новгородские прибрежные земли — Орешков и Кексгольм. На это было достаточно и Петра Потемкина с казаками. А бояре настояли в Вильне на годовое перемирие да на осаду Риги; это было на руку ляхам. В год они укрепились и вытеснили свейского короля из Польши; вытесняли и выбьют они и нас из Литвы. А коли мы не устроимся в Малой Руси, так будет нам очень трудно.
— Видишь, святейший патриарх, а ты говоришь, нужно-де строить монастырь.
— Великий государь, строил я обитель «Новый Иерусалим» так, что станет он оплотом и против врагов: и ляхов, и татар, коли они придут.
— Разве ты опасаешься?
— Не опасаюсь, да все в воле Божией, прошу поэтому, дай мне средства исполнить обет мой и воздвигнуть святую обитель.
— Я тебе говорил уже, нет у меня средств.
Никон постоял в недоумении: в первый раз за время его святительства он получил отказ от царя, притом он считал свое дело совершенно правым.
— Как, — воскликнул он, — твоему царскому величеству жаль нескольких сот серебряных рублей и не жаль плеч моих… погляди, гноятся они от ран, при переноске каменьев… тебе жаль этих нескольких сот рублей, когда Хитрово и Стрешнев проигрывают тысячи в карты, аль бросают тысячи на псов и аргамаков… Что же?.. Значит, я последний здесь… указов моих не велено слушать… Собственную казну мою мне не возвращают… в Киев, где бы я мог собрать милостыню на Божий храм, меня не отпущают, — так я отряхаю прах моих ног… и даю слово: никогда не есть более в сей трапезной…[35].
— Святейший патриарх, благослови, — переконфуженно произнес государь.
— Господи благослови, — торопливо произнес патриарх и вышел.
После этого ухода Алексей Михайлович потребовал к себе Богдана Матвеевича Хитрово — этот был уже при нем окольничьим.
Царь передал ему сущность ссоры своей с патриархом.
— Уж много ты, великий государь, воли-то дал ему… все ему не ладно, и глупы-де наши бояре, неучи, а он лишь один умница.
— Надоел он и мне, признаться тебе, Богдан, пуще редьки в пост… да ничего не поделаешь: патриарх он и терпи… Патриарх, что отец, все едино… иной раз и от отца, бывало, терпишь обиды, да ничего: помолишься Богу и стерпишь… и Бог благословит за это.
— Да и поделать-то с ним что мудрено, и много бояр за ним… А уж народ — точно молится на него…
— Видишь, Богдан, коли б он да сам ушел: иное дело… тогда и Бог простит: сам-де не схотел, а принудить-де нельзя…
— Уйдет он… уйдет, великий государь, по своей воле… только ты не серчай… увидишь…
— Лишь бы я в стороне, и его-то жаль… да ведь святитель… богомолец наш, — вот и грех пред Богом. Да, вот скажи: коли гетман Богдан умрет, что тогда делать?..
— Меня, великий государь, пошли туда, и без патриарха дела оборудуем… и без святейшего обойдемся, — изберут там и гетмана, и митрополита, и будут они под твоей высокой рукой, а там мы воеводства учиним. Русская земля должна быть едина, что в Москве, что в Киеве… С патриархом, одначе, теперь рано ссориться: нужно дать ему несколько сот, чтоб умилостивить; а коли я возвращусь из Киева, и все там устроится по его благословению, тогда мы уж, — позволь, великий государь, — и дело сладим к добру… отделаемся мы от святейшего.
— Делай, Богдан, как знаешь, а я в стороне.
— Будет он клясть меня и Стрешнева, а нам что? Лишь бы тебе служить. Теперь позволь идти к патриарху — все улажу…
— Ступай да только знай: коли царевны, сестрицы, узнают что-либо, они меня заплачут и покоя не дадут… выживут они меня из Москвы.
— О размолвке твоей с ним, великий государь, патриарх никому не расскажет, а я подавно болтать не стану… уж коли я возьмусь, я и дам ответ.
— Поезжай к патриарху и уладь все, а я пойду к деткам… да к царице… ждет она… и поглядишь, вновь дочь… я ее Софией нареку… дескать пора царице поумнеть и дать сына… а то Алексей-то мой и хил, и болезнен… Ну, пока ступай к патриарху, пущай не сердится и молится: да дарует нам Господь Бог сына…
Хитрово поцеловал у царя руку и удалился.
— Пущай, — подумал после его ухода Алексей Михайлович, — патриарх молится, авось с его молитвой и сын родится. Сказывают, как женился царь Иван III на Софии Палеолог, не была она чадородною, вот и пошла на богомолье в Троицко-Сергиевскую лавру; на дороге у самой обители встретился ей ангел во образе инока и на руках его был младенец; бросил он на нее младенца, а тот прямо во утробу, и народился у нее сын Василий, отец Ивана Грозного. Да уж не гневить теперь святейшего, а то через месяц не сын, а дочь родится.
Он набожно перекрестился.
VI Малороссийская смута, или рокош
Страх и неизвестность, что будет, задержали погребение Богдана Хмельницкого почти на целый месяц; притом в Чигирине ждали, чтобы съехались туда, и печальная процессия, сопровождаемая тысячами верховых и пеших, двинулась в Субботово, где останки его погребены.
Многие из патриотов, несмотря на то, что Богдан своевольничал и не слушался рады, вместе с погребением его тела как будто погребали и вольности, и права Малороссии, которые так оберегал и защищал гетман.
И замечательно то, что его оплакивали обе партии: шляхетская, стоявшая под главенством Ивана Выговского, и народная, или черная, имевшая во главе своей полтавского полковника Мартына Пушкаря.
Два дня после этой печальной церемонии справлялись по покойнику поминки, и на третий день собралась рада, но она состояла тогда из одних начальников войсковых, т. е. из партии шляхетской, и, вопреки ожиданиям народа и даже самого Ивана Выговского, рада вручила ему гетманскую булаву.
Но имя и воля Богдана были так сильны, что Выговский писал в Москву, что покойный Богдан сына своего и все войско запорожское ему в обереганье отдал, а теперь вся страна и чернь старшинство над войсками ему же вручили, и он царскому величеству верно служить будет.
Узнав о смерти Богдана, из Москвы тотчас отправили в Малороссию Матвеева.
Прибыв к Выговскому, Артамон Сергеевич потребовал, чтобы новый гетман отправил в Швецию посла — уговорить короля Карла примириться с нами.
Гетман исполнил требование Матвеева, и тот возвратился в Москву с уверениями в верноподданстве Выговского, так что царь отправил к нему даже стряпчего Рагозина с извещением о рождении царевны Софии Алексеевны.
Немедленно же после отъезда Матвеева гетман собрал в Корсуне раду.
Все же землевладельцы к тому времени были уж наэлектризованы двумя прокламациями миргородского полковника Лесницкого.
Прокламации говорили об уничтожении русскими прав малоруссов и о закрепощении народа.
Когда же в поле собралась вся рада, т. е. несколько тысяч человек, гетман явился туда, отдал им булаву и сказал:
— Не хочу быть у вас гетманом: царь прежние вольности у нас отнимает, и я в неволе быть не хочу.
— За вольности, — отвечала рада, — будем стоять все вместе.
Тут же она постановила: послать к царю бить челом, чтобы все было по-старому.
Тогда Выговский воскликнул:
— Вы, полковники, должны мне присягать, а я государю не присягал, присягал Хмельницкий.
— Неправда, — крикнул полковник Мартын Пушкарь, — все войско запорожское присягнуло великому государю. А ты чему присягал: сабле или пищали?
— Так что же, по-твоему, и это хорошо: хочет нам царь московский давать жалованье медными рублями… как их брать?
— Хотя бы, — возразил Пушкарь, — великий государь изволил нарезать бумажных денег и прислать, а на них будет великого государя имя, то и я рад его государево жалованье принимать.
— Ничего ты, пан полковник, не понимаешь, — рассердился гетман, — под царский квиток (расписку) дадут и мильон, а медные рубли не стоят более того, что медь.
Шумно сделалось после того на раде: одни стояли за гетмана, другие — за Пушкаря, и стороны разъехались со взаимными проклятиями и угрозами.
Не испугался Выговский прокламаций Грицка Лесницкого и, возвратясь в Чигирин, он созвал на раду полковников.
— Ведомо нам, — сказал он, — что покойный Богдан назначил в поход против татар Грицка Лесницкого и дал ему булаву и бунчук наказного атамана, а теперь уехал он в Миргород, булавы и бунчука не возвращает и мутит чернь. Посылал я к нему Юрия Хмельницкого, да и тому не отдал. Что делать?
— А то, — отвечали полковники, — что пойдем к нему с войском и силой отберем.
Взяли полковники несколько тысяч казаков, нагрянули на Лесницкого в Миргороде, отняли силой булаву и бунчук и в наказанье заставили его кормить все войско несколько дней да и дать корм на обратный путь.
Но хуже всего было то, что запорожцы стали тоже волноваться, но в пользу лишь Москвы: они отправили туда послов бить челом, чтобы избрание в гетманы было совершено вновь.
В Москве назначили собраться раде в Переяславле и отправлен туда Богдан Хитрово.
Собраться там раде было для нас выгодно, князь Григорий Григорьевич Ромодановский стоял здесь с сильным войском.
Когда Хитрово приехал в Переяславль, его встретили как царского посла с большим почетом, и войска наши и малороссийские вышли к нему навстречу, а святители киевские встретили его с иконами и крестами.
Хитрово, подъехавший было верхом к встречающему его народу, сошел с лошади и, поклонившись святым иконам, объявил духовенству, что царь жалует его своим словом и предоставляет ему право избрать кого угодно, а патриарх Никон благословляет их на это. Полковникам и радным людям Малороссии он объявил, что царь не стесняет их в выборе и, кого они излюбят, тот будет излюблен и царю; и что он приехал лишь для того, чтобы видеть их свободное избрание.
Восторженное духовенство тотчас уехало в Киев и избрало в митрополиты архимандрита киево-печерского Дионисия Балабана.
Осталось избрание гетмана. Ожидали прибытия на раду полковника Пушкаря из Полтавы, но он медлил.
Тогда разнеслись слухи, что Пушкарь идет в Переяславль с войском, чтобы принудить раду не избирать Выговского.
Хитрово испугался и решился ускорить избрание, не желая внести в раду междоусобицу: он назначил день сбора.
На соборной площади собрались все наши войска, и в середину их без оружия были впущены все радные люди. Там стоял стол с Евангелием, иконой и крестом, священник во всем облачении находился у стола в ожидании, кого изберут.
На столе лежала булава гетманская, вперед возвращенная Выговским.
Когда все собрались, появился Хитрово; он объявил: чтобы все войско выбирало себе гетмана кого хочет, по своей воле.
Все единогласно крикнули:
— Желаем Ивана Выговского, он люб нам всем.
Тогда Хитрово подошел к столу, взял булаву и передал ее Выговскому.
Но Выговский возвратил ее назад Хитрово и громко произнес:
— Не хочу я гетманства, многие люди в черни говорят, будто я на гетманство сам захотел и будто выбрали меня друзья.
Обозный, судья, полковники и вся чернь стали его упрашивать и наконец умолили его.
Он принял тогда булаву и присягнул в верности царю — последнее, конечно, произошло без помех, потому что князь Ромодановский стоял здесь с внушительными силами.
Не успела кончиться церемония избрания и присяги, как явился от Пушкаря гонец из Полтавы. Он уведомлял Хитрово, что он и его единомышленники просят назначить раду в Лубнах.
Хитрово дал ему ответ, что выборы уже состоялись.
Несколько дней потом шли пиршества: то русские угощали малороссов, то они — наших.
Казалось, что установился вечный мир и согласие, но на одном из пиршеств Хитрово замолвил гетману о том, что необходимо-де в Малороссии устроить воеводства. Это огорошило Выговского, и он ответил, что он поедет в Москву повидать светлые царские очи и тогда поговорить можно будет и о воеводстве.
Ответ этот совершенно удовлетворил Хитрово, и он выехал обратно в Москву, где и уверил царя, что и без Никона он устроил дела малороссийские: митрополит-де избран и новый гетман присягал царю.
Враги Никона успели раздуть услугу Хитрово так, что царь осыпал своего любимца милостями, и с того времени Хитрово сделался главным советником и докладчиком царя.
Между тем как дела Хитрово имели такой успех в Москве, гетман Выговский резался в Малороссии с полковником Пушкарем. Последний по этому поводу прислал послов просить приезда в Киев царя и Никона; митрополит же киевский предал Пушкаря анафеме, а Выговский собирался изменить царю и передаться вновь Польше.
Сумятица и чепуха сделалась невообразимая, и русские поплатились бы очень дорого, если бы Шереметьев в Киеве не отстоял русского дела.
Дела под Ригой шли тоже неудачно: моровая язва посетила этот город, и жертвою ее сделался знаменитый шведский генерал Магнус Делла-Гарди и все наши города, прилегающие к Ливонии. Мы не должны были чрез язву прекратить военные действия. Никон из себя выходил. Он видел, что все планы его рушились по милости бояр: множество народу и денег погибло, и от нас не только ускользнула Литва, но и Белоруссия была на волоске, а Малороссию пришлось брать вновь с оружием в руках.
Медные же рубли совершенно нас разорили: явилась масса подделывателей на окраинах и в самой Москве.
Никон громко жаловался на эти беспорядки и в особенности осуждал погоню за польской короной, что он считал химерой.
— Доиграемся, — говорил он, — что в одно прекрасное утро явятся в Москву и ляхи, и шведы, и татары, и казаки.
Его враги передавали речи эти царю, и тот охладел к нему, и зимою 1657 на 1658 год они уже виделись с патриархом только в Успенском соборе и в боярской думе. По государственным же делам доклады производили: по внешним — Матвеев, по внутренним — Хитрово.
Морозов Борис Иванович был в это время сильно занят изменою своей жены и судом над англичанином Барнсли; а Илья Данилович Милославский со второю своею женою, Аксиньею Ивановною, — имел тоже много горя, и поэтому оба охотно уступили государственные дела Хитрово и Матвееву.
VII Немилость терема к Никону
Анна Петровна Хитрово встала в отличном расположении духа; с вечера легла она спать, и при этом дурка Дунька чесала ей подошвы и рассказывала приятные сказки, ласкающие слух. И заснула она так сладостно… Снился ей поэтому отличный сон: состоит она у царицы первой боярыней и глядят ей все в глаза, ищут ее милостивого слова, а она только выступает гордо, павой, и еле-еле кивает в ответ головой.
— И за что мне такая милость? — спрашивает она.
— Оттого, — отвечает толпа боярынь, — что умом-то тебя Господь не обидел.
Откуда ни возьмись и архимандрит Павел тут как тут — руки у нее целует и говорит.
— Уж ты, моя благодетельница, не покидай меня… видишь, и тебе, и царице я всякое угодное творю, а уж вы-то крутицкого митрополита — в новгородские, а меня — в Крутицкие…
— Беспременно будешь, — только ты вымоли у Бога-то сына царице… помнишь ты царицу Софию и инока.
— Как же то не помнить, уж как буду молить, поститься сорок дней буду, сегодня же начну: елей и рыбу лишь в праздники.
При этом проснулась Анна Петровна и очень приятно сделалось ей на душе, обещался святитель, что у царицы будет сын, а это все тогдашнее ее желание, — бояре-де бают: коли не родит сына, нужен развод, пока царь-де еще не стар. Нужен-де сын непременно, во что бы то ни стало, а святитель Павел так сладко говорил с нею во сне, что и она даже сама разохотилась на сына.
— Беспременно будешь митрополитом, — повторяет она наяву тоже самое, что говорила ему во сне. Эй! Акулька…
Является барская-боярыня; кланяется она низко и подходит уж к ручке барыни.
— Который час?
— Восьмой.
— Как восьмой? Зачем не будила?
— Заходила, кашляла.
— Так заутреня отошла?
— Отошла, боярыня.
— Ах ты, мерзкая…
Две звонкие оплеухи оглушают опочивальню.
— А архимандрит здесь?
— Здесь.
— Давно ждет? — Говори, мерзкая.
— Давно.
Новые две оплеухи звенят, и платок летит с головы барской-боярыни.
Акулька подбирает платок и надевает его на голову с таким видом, как будто это дело привычное и обычное.
— Умыться и одеваться скорей! — вопит боярыня.
Барская-боярыня начинает метаться, зовет постельничью, сенных девушек, все суетятся, а дело как-то подвигается медленно: то вода слишком холодна, то слишком тепла, то мыло не так мылит, и слышны звонкие оплеухи, то из прелестных ручек барыни, то из жилистых рук барской-боярыни.
Кончилось умыванье, началось натиранье. То слишком много набелили, то слишком мало; с румянами то же самое. А с бровями — горе одно: то наведут в палец ширины, то сузят. А там пошло одеванье. Начали с головы — украсили по случаю зимы каптурой, которую носили преимущественно вдовы. Потом надели на нее верхние два платья темного цвета, но отделанные кружевами, а рукава были вышиты шелками и серебром.
Анна Петровна имела более сорока лет, но, принарядившись и подштукатурившись, она поспорила бы с молодой, так как имела прекрасные черные глаза, а на зубы тогда не обращали внимания, потому что мода требовала окраску зубов в коричневый цвет.
Приняв вид святости, боярыня в сопровождении всего штата прислуги тронулась в крестовую комнату, т. е. молельню.
Архимандрит Павел, красный, чернобородый и черноглазый монах, с белыми женскими руками, встретил ее с благословением и просфорой, так как он успел уж отслужить у себя в Чудовском монастыре обедню, но был он в епитрахили, чтобы отслужить молебен за здравие царицы и хозяйки дома.
Анна Петровна благодарила его за внимание, и тот начал службу.
В те времени каждый не только боярский, но и зажиточный дом был тот же монастырь.
Тотчас по вступлении своем на престол царь Алексей Михайлович после неудачного обручения своего с Евфимиею Всеволожскою получил отвращение к музыке, пляске, светскому пению и ко всяким играм; все это было формально запрещено, и господствовавшая при царе Михаиле Федоровиче потешная палата с органами, домрами, цимбалами заменена каликами перехожими и обращена в приют нищих. Прежние бахари, гусельники, потешники, домрачеи, шуты-скоморохи исчезли, и во дворце можно было слушать лишь духовные песни. Царю подражало боярство, и каждый дом представлял собою собрание калик, монахов, монахинь; все это дисциплинировалось домостроем знаменитого Сильвестра и имело наружный вид обители.
Вследствие этого терем, в котором господствовал женский пол, получил вид женского монастыря, и женщины, казалось, совершенно изолировались от света и мира; даже в церкви они стояли под покрывалами с левой стороны и скрывались от мужчин особым занавесом.
Без покрывала женщина являлась только пред мужем или когда хотела чествовать особенно дорогого гостя; одни лишь вдовы имели право принимать без покрывала. Но вся эта изолированность была кажущаяся. Терем имел между собою тесную связь и составлял нечто цельное, правильно организованное и, можно сказать без преувеличения, управлявшее целым государством. Все терема имели между собою связь и группировались у лиц женского пола, бывших близкими к царице. Поэтому, что затевалось в теремах, то получало отголосок и в царской палате, и в боярской думе. Действовал здесь терем или чрез мужей, или чрез духовенство.
Белое духовенство в этот период достигло высшего могущества в государстве: каждый дом имел своего духовного отца, который владел умами и хозяина, и хозяйки; и обратно — терем был силен, потому что в его распоряжении было все белое духовенство; независимо от этого, каждый боярский и зажиточный дом, имея вид монастыря, был тесно связан с монастырями и, одаривая их, он имел в ополчении своем всех, начиная иноками и кончая патриархом.
Заняв такую позицию, в особенности при исключительном праве проникать даже в терем, духовенство стало само понимать, что красота, чистоплотность и тонкость обращения должны быть его принадлежностью, и тогда-то начали цениться и приятный голос, и красота рук и лица святителей — так как все это вело и к карьере, и к обогащению.
Архимандрит Павел понял это тоже и, обладая замечательною красотою, он на первых же порах после своего пострижения сразу занял важный пост в Чудовском монастыре.
И теперешний его приезд к Анне Петровне был не бесцелен: ему передал Стрешнев, что царица так чтит Анну Петровну, что просила государя назначить ее к приезду ко двору первой боярыней.
Пост этот бы так высок, что за обедом и во всех торжественных выходах она после царевен должна была занимать первое место.
Отслужив поэтому молебен, архимандрит Павел поздравил ее с царской милостью.
— Ты, отец архимандрит, просто пророк! — воскликнула удивленно Анна Петровна. — Ты знаешь больше, чем я сама. К тому же удивительный сон снился мне сегодня: снится мне, что возвеличена я царицей… Да и ты приснился… Вот сон и в руку. Да откуда ты узнал — я-то и сама не знаю.
— Стрешнев сказывал.
— А! Спасибо, добрый вестник… Теперь пойдем, благослови трапезу, коли обедня отошла… — Она повела его в столовую.
Весь завтрак состоял из вареных и жареных рыб, пирогов и тому подобного, и все было хотя постное, но прекрасно приготовленное и роскошно обставленное.
Водка, романея и венгерское не были забыты.
Отец Павел скромно ел и скромно пил, оставляя остальной аппетит для Стрешнева, который пригласил его на свой обед к двенадцати часам.
После обеда, помолившись набожно, хозяйка отпустила всех присутствовавших на трапезе и пригласила архимандрита в комнату, т. е. в ее рабочую, для душеспасительной и тайной беседы.
В подобных случаях никто уж не смел заглянуть туда, разве хозяйка сама потребует.
Рабочая комната боярыни благоухала духами, и все призывало более к неге, чем к труду: топчаны, мягкие ковры, скамеечки для ног, кушетки и мягкие стулья так и приглашали понежиться. Правда, в нескольких местах виднелись пяльцы с начатою работою: вышитые ширинки, церковные принадлежности, начиная с икон… Но это было скорее украшение, чем орудие труда.
По обычаю, гость должен был все это смотреть и похвалить хозяйку за искусство, прилежание и усердие к церкви.
После того хозяйка, усевшись и выставив, как бы нечаянно, свою ножку, обутую в бархатный башмачок, украшенный жемчугом, пригласила отца архимандрита сесть.
— А терем, — сказала она, — недоволен патриархом Никоном.
— Почему?
— Как же быть-то им довольным… Никакого уважения к царским сродственникам: знаешь, жена Глеба Ивановича Морозова, боярыня Федосья Прокофьевна, да родная сестра ее Евдокия Урусова уж как просили за протопопа Аввакума, а тот его в ссылке держит… А ведь того не знает патриарх, что сам-то Борис Иванович иначе не говорит невестке, как: приди, друг ты мой духовный… Пойди ты, радость моя душевна.
— Ахти! Какие страсти, — удивился отец Павел.
— Вот ты пойди с ним… А за что? Зачем, дескать, Аввакум двуперстно крестится… Зачем-де написал «слово плачевно» и ответ на «крестоборную ересь». А сам-то клобук-то надел двурогий, точно у греков… Вместо «Микола» исправил в требнике «Николай»… А иконы велит в оружейной будто живые писать.
— Ахти, какие страсти! — воскликнул вновь отец Павел, забыв, что он сам говорил в Чудовом монастыре проповеди в уличении раскола.
— Вот видишь, и тебя это дивует… А уж о попах и не подходи к нему… Скажет ему аль боярыня, аль иная особа: уж ты смилуйся, святейший, дай местечко моему духовнику… а он: «Нет у меня мест для кукол… он, матушка боярыня, не токмо службы не знает, да и читать-то не умеет…». Да и отметит у себя, а там гляди, духовника подальше от Москвы, да в дальнюю деревню… И плач, и рыдание, и недовольство всякое… Не то что при Иосифе: коли боярыня придет к нему, тот всякие угождения учинит и не откажет.
— Тот был патриарх как патриарх! — воскликнул одобрительно отец архимандрит.
— Да и в царском-то тереме Никону нет уже веры… Молился он… молился, да дарует Господь Бог царице сына… ан у нее дочь родилась, а царь и назови ее Софиею, тоись премудрость; значит, поумней, царица, и роди сына.
— Не усердствовал в молитве, значит, — подсказал ей архимандрит.
— Какое там усердие… Вот, как пошла София царица в Сергиевскую-то обитель да поусердствовала, так и сын родился… отец Иоанна Грозного.
— Пущай и царица поусердствует.
— Поусердствует-то она, да вот что… Нужно усердного богомольца… а в Никона веры нет, все-де дочери нарождаются… Правда, с его благословения Алексей Алексеевич народился… да ведь не ровен час… Нужен, значит, еще сын.
— Это можно, только поусерднее молиться… Сорок дней поститься… а там молебен… да потом накрыть эпитрахилем… да прочитать молитву.
— Праздничный сон до обеда в руку, — бают люди, — ведь снилось мне, что ты то ж самое говоришь мне и во сне, святой отец, уж ты поусердствуй да молись.
— Приготовлюсь я постом и молитвой, — поднял отец Павел набожно глаза к небу, — с сегодняшнего же дня.
Отец Павел простился с хозяйкой и вышел, сопровождаемый ее благодарностями.
VIII Триумвират
У Стрешнева сидят Алмаз Иванов и Богдан Матвеевич Хитрово.
Они сильно озабочены. Достигли они того, что к Никону новые дела государевы не поступают, а к нему обращаются только по тем, которые начаты им, и больше для разъяснений, нежели для решения. Явно идет упразднение его государственной деятельности. Патриарха Никона это нисколько не печалит — у него слишком много дум и забот по делам патриаршим и по печатному делу. Но в правительстве чувствуется его отсутствие: нет того решительного голоса, который руководил всем, которого слушались все безусловно и который приводил все к единству стремлений и действий. Приказы начали действовать врознь, и сила, и власть их стали определяться степенью влиятельности и силы боярина, который заправлял ими. В провинции степень власти и значения воеводы стали определяться тем же самым. Очевидно, что одних приказов воеводы слушали, других — нет. Испытали это на первых же порах люди, устранившие Никона, да с этим они еще мирились. Но было зло еще худшее: церковь была в то время одним из самых крупных собственников, выставляла она поэтому много ратных людей и давала много сборов на военные надобности, и при Никоне все шло в порядке, так как монастыри и церкви не смели ослушиваться его распоряжений; а когда заговорили с ними непосредственно приказы, они стали отвиливать, ссылались на разные льготы, привилегии.
Самое же главное было то, что перестали чувствоваться система и единство действий. Как думного дьяка, начали обеспокоивать Алмаза Иванова и Хитрово; последний в особенности не знал зачастую, что и как докладывать царю.
Собрались они теперь поэтому к Стрешневу, чтобы потолковать между собою: как быть? на чем остановиться?
— Что же, — сказал Стрешнев, — коли вы без попа Берендяя не можете жить, целуйтесь с ним.
— Ты все в шутку обращаешь, Родивон, — заметил Алмаз, — а здесь так: аль Никона нужно слушаться, аль он должен уйти из патриаршества. Без головы патриарха мы бессильны в боярской думе и в других делах. Куда ни кинь, везде клин: везде, гляди, аль церковь, аль монастырь замешан. Вот и отправляй дело в монастырский приказ, а тот без патриаршего благословения ничего не делает.
— Сделай так: пущай Никон оставит сам патриаршество.
— Да как же это сделать? — заметил Хитрово. — Я и сам говорил об этом царскому величеству, да сделать-то это не так легко.
— Вот я начну, а там ты доканчивай… Кстати пожаловал к нам и отец Павел.
Вошел отец архимандрит, триумвират встретил его радостно.
— Я только что от тетушки твоей, — обратился он к Хитрово.
— А? — расхохотался Богдан Матвеевич. — Насчет… понимаю… она у меня умница, она хочет тебя — в митрополиты… держись ее и будешь — ведь она теперь первая боярыня. А терем, известно, и в патриархи возводил.
— Уж, боярин, не откажись замолвить словечко царю, коли ослободится митрополичья кафедра.
— Скоро, скоро ослободится — пущай Никон лишь уйдет.
— А вот и гости приехали — воскликнул Стрешнев.
Сразу подкатило множество саней; это была вся почти знатная московская молодежь.
Дворецкий Стрешнева, высокий, широкоплечий боярский сын, в обшитом галунами армяке принимал на крыльце гостей и вводил их в хоромы.
Стрешнев с друзьями своими перешел в переднюю и там принимал приезжающих.
Молодежь шумно повела беседу о городских сплетнях: все вращалось на лошадях, попойках, выигрышах и проигрышах, охотах и травлях, так как с запрещением публичного пенья, игрищ и зрелищ молодежь бросилась в разные другие потехи…
IX Кровная обида
Сплетни, кляузы и доходившие ежедневно до Никона слухи о волнении в народе по поводу исправленных им книг и икон, волнения в Соловках и Макарьевско-Унженском монастыре сильно тревожили и огорчали его.
Искал он поэтому уединения и еженедельно дня на два уезжал в свой «Новый Иерусалим». Были уже воздвигнуты у него и стены, и часть монастыря, но сооружение главного храма шло медленно.
Как только приедет туда патриарх, он тотчас разоблачается и вместе с монахами, которых насчитывали до тысячи человек, работает то каменщиком, то плотником, то столяром, и спорится как-то у всех работа, и, точно муравьи в своем гнезде, копошится этот люд, руководимый своим великим подвижником.
И гляди, несмотря на скудость средств, поставлена вокруг монастыря ограда в четыре с половиною сажени в вышину с амбразурами и навесными бойницами для того, чтобы отбиваться от врага, коли он пожалует: стена имеет вид шестиугольника с 8 башнями.
Вокруг ограды разведена широкая аллея, и с ее сторон имеются обрывы, поросшие лесом.
Внизу с северной стороны виднеются две часовни с колодцами: первая названа колодцем Самарянки, вторая Силоамская купель.
С западной стороны от аллеи лестница, ведущая в другую аллею, идущую к никоновскому скиту.
Так как Никон имел при рождении имя Никиты Столпника, то он построил себе скит в виде башни. Это узкое каменное трехъярусное здание. В первом этаже имеется место для церкви (уж не во имя ли Никиты хотел он ее сделать?), комната для служителей, кухня и маленькая келья. Во втором этаже — трапезная с окном в стене, в которое подавали пищу из кухни. В этом же этаже две кельи для служащих. Из трапезной ведет узкая винтообразная лестница в третий ярус. Этот этаж занят печами: хлебной и просфорной, а влево виднеется келья, за нею приемная патриарха и рядом другая келья. В келье этой висел портрет патриарха; рядом с нею крошечная церковь Богоявления Господня.
На плоской крыше скита, имеющей перила, находилась летняя келья патриарха; каменное ложе этой кельи было скорее скамьею, так как оно имело всего полтора аршина, а настилка на ней была тростниковая.
Против кельи на крыше маленькая церковь во имя св. апостолов Петра и Павла и позади нее стол с одним колоколом.
В этой-то башне поселялся Никон, когда приезжал в монастырь, и отсюда он отправлялся на работу, которая шла неустанно весь день с небольшими перерывами для отдыха.
Затеи же Никона была грандиозны: строился, кроме обширного монастыря на тысячу человек и кроме храма Воскресения, еще и зимний храм во имя Рождества Христова.
При скудных средствах Никона работа еще шла довольно успешно; правда, нужно отдать справедливость царевне Татьяне Михайловне: кроме того, что она перенесла в Новый Иерусалим нетленную руку св. Татьяны, но она присылала патриарху и деньги, и хлеб, и утварь.
Летом 1658 года в этом же ските ночевал Никон. Еще до света он проснулся, умылся, помолился и на крыше скита любовался восходом солнца и окружающими его видами.
— Вот мой Иордан, — подумал он, глядя на извивающуюся вдали реку Истру, — и вот этот ручей, обтекающий с трех сторон монастырь, поток Кедронской, а вот и Иосафатова долина… а это сад Гефсиманский… а вон в саду мой дуб Мамврийский.
Он любовно осмотрел вновь всю окрестность и по узкой лесенке спустился в третий этаж, а потом — в трапезную. Здесь он застал послушника: тот пал ниц перед патриархом. Никон благословил его и сел к деревянному столу.
Послушник взял у стоявшего по ту сторону окна монаха деревянную миску щей, деревянную ложку, кусок черного хлеба и поставил все это перед патриархом. Никон помолился, съев полмиски, снова помолился, поблагодарил послушника и спустился вниз. Там ждал его архимандрит Аарон, строитель монастыря.
Это был небольшого роста худощавый монах с острым носом и чрезвычайно умными глазами.
Благословив Аарона, Никон обратился к нему:
— Я слышал ночью шум и стук колос — уж не привезли ли нам материала?
— Прислала царевна Татьяна Михайловна и камня, и лесу.
— Да благословит ее Господь Бог, значит, у нас работа подвинется… Пойдем, Аарон, и я сегодня помогу братии.
— О, святейший патриарх, уж ты бы не трудился, и без тебя здесь много рабочих.
— Чего жалеть свою плоть, — усмехнулся Никон. — Не жалею я своего тела, лишь бы свершить Божье дело… Мы строим здесь не на один день, а будут стекаться сюда тысячи и будут благословлять наш труд, и вспомянут потомки и мое, и твое имя, Аарон, как строителей сей обители и храма.
Они пошли по аллее, потом по лестнице и забрались в другую, ведшую вокруг церковной ограды.
Никон осматривал по дороге каждое дерево, как бы ведя с своими питомцами беседу; когда же они вошли в монастырские ворота, все, не останавливаясь, только снимали свои шапки.
Они пошли в мастерские: в столярной и слесарной работа шла оживленно для украшения и сооружения монастыря и храмов; имелась даже иконописная мастерская, где под наблюдением и руководством самого Никона приготовлялись иконы. Существовали еще мастерские для удовлетворения монастырской братии обувью и одеждою. Повсюду был образцовый порядок и шла оживленная работа. Везде патриарх делал замечания, наставлял, указывал и учил. Несколько часов шел это осмотр; потом Никон вышел на работы по сооружению храма. Здесь он сбросил рясу и взялся совместно с другими тащить на носилках камень на леса.
Несколько часов проработавши так, он по обеденному звону колокола оставил работу, накинул на себя рясу и побрел в свой скит для трапезы.
С ним был и архимандрит Аарон. Забравшись в ските во второй этаж в трапезную, они уселись за деревянный стол, и подано им послушником чрез окно по миске щей, по миске гречневой каши да по два жареных лещика при зеленых огурцах, а на питье поставлено по кружке квасу и пива.
После этого скромного обеда собеседники разошлись. Архимандрит ушел к себе в монастырь, а патриарх забрался на верх крыши в свою келью, где он присел отдохнуть.
Свежий воздух, утомление и спокойствие в этом уединении подействовали на него благотворно, и он сидя заснул.
Снится ему странный сон: он окружен какими-то гадами, змеями, пиявками; все это ползет к нему, хочет вцепиться в него; он душит и давит их тысячами, но те являются еще в большем количестве, впиваются в его тело… он наконец начинает изнемогать… он чувствует, что они одолеют его…
Он просыпается, пред ним стоит послушник.
— Святейший патриарх, — говорит он, — из Москвы из Чудова монастыря архимандрит Павел…
— Павел?., а!., хорошо… проси его в приемную.
Патриарх оправляется и спускается в приемную.
При его появлении отец Павел распростерся, потом подошел к его благословению.
— Уж не пожаловал ли ты сюда посмотреть мое хозяйство? — спросил благосклонно Никон.
— Нет, святейший патриарх, за недосугом — в иной раз… а я вот с патриаршим делом.
И при этом он подробно рассказал, как при собрании детей именитейших бояр Стрешнев заставил собаку подражать, как патриарх молится и благословляет народ.
— И ты можешь это подтвердить под пыткой?..
— Как и где угодно. Да вот моя грамотка за моим рукоприкладством, да и список всех присутствовавших при этом.
Дрожащими от гнева руками Никон взял из рук его бумагу, прочитал ее и обратился к нему:
— Возвращайся тотчас в Москву и вели благовестить в Успенском соборе… я поспею к вечерне… а назавтра вели из патриарших палат дать знать во дворец и боярам: будет-де завтра, в воскресенье, патриаршее служение соборне…
Отец Павел простился и тотчас возвратился обратно в Москву.
Гнев Никона не имел границы и меры.
— Эти издевки неспроста, — говорил он сам с собою, — кабы это было кем-нибудь иным, сказал бы: безумен он, не ведает, что творит… А то Стрешнев? Царский сродственник… да при ком?.. При детях и сродственниках бояр и царского дома… Смолчать нельзя… опозорено не только патриаршество, да и все духовенство… все святители… опозорена церковь… Я должен снять позор… дерзкого я должен наказать… и накажу… всенародно покараю…
Он ударил в ладоши, явился послушник.
— Лошадей… в Москву… сейчас…
Послушник побежал исполнить приказание Никона.
Патриарх поспешно умылся, оделся и спустился из своего скита в аллею, шедшую мимо ограды.
Его коляска и небольшой штат, сопровождавший его, были уже готовы.
Патриарх помчался в Москву.
Он успел к вечерне; Иван-колокол загудел, когда он въезжал в Кремль.
Никон прямо подъехал к Успенскому собору, и народ восторженно его принял. В это время Никон сделался всеобщим любимцем — Москва им гордилась, как гордилась она впоследствии митрополитом Филаретом. Да и было им чем гордиться: такого святителя после митрополитов Петра и Филиппа Москва не имела. Доступный народу, он держал себя в отношении бояр гордо и недоступно и не делал никому никаких поблажек. Справедливый и строгий, он был единственный человек в целом государстве, не делавший поборов и не бравший взяток, а между тем для нуждающихся и бедных его казна была открыта.
Имя Никона поэтому гремело по всей Руси, и чтилось оно не только в дворцах, хоромах и теремах, но даже и в отдаленных избах захолустий.
Неудивительно после того, что звон, возвещавший вечерню, на которую прибудет патриарх, означал, что он будет служить и на другой день, и поэтому в воскресенье для слушания обедни собралась в Успенский масса народа.
Прибыл в собор и царь, а с ним и двор, и боярская дума, и царица с детьми и родственниками.
Началось архиерейское служение, и Никон показался всем необычайно бледным и болезненным. В том месте, где провозглашается: «изыдите оглашеннии», патриарх вышел на амвон и начал говорить на тему «о грехе издеваться над служителями алтаря». Слово его было полно достоинства и негодования; доказывая на основании святого Евангелия всю непристойность и греховность этого безобразия, он прямо указал на неприличную выходку Стрешнева, причем он провозгласил, что он по архипастырской своей обязанности не может оставить это безнаказанным и потому предает его проклятию.
Едва он кончил, как протодьякон, выйдя посреди церкви, торжественно предал боярина Симеона Стрешнева проклятию.
Неожиданность эта страшно смутила всех, в особенности, когда ближний боярский сын патриарха князь Вяземский подошел к Стрешневу и велел ему, как оглашенному, выйти из церкви.
После того служба пошла своим порядком, но вся царская семья была в неописанном смущении, и, когда кончилась служба и они приложились к животворящему кресту, все тотчас уехали.
Никон торжествовал: он видел смущение двора и бояр, и это его радовало; за публичное оскорбление он отвечал тем же и показал, что патриарха оскорблять нельзя безнаказанно и что он не пощадит никого, как бы высоко ни стояло это лицо. Предал он проклятию родного брата царицы…
Стрешнев и его партия, т. е. враги Никона, воображали, что он начнет против него суд и оскандалится, а тот неожиданно распорядился по-своему и сделал им публичный скандал.
Прогремевшая в Успенском соборе «анафема» произвела поэтому двоякое действие: народ весь стоял на стороне патриарха и говорил об его справедливости и беспристрастии.
Зато двор и боярство сильно восстали против него и обвиняли его в своеволии: «Без суда-де патриарх не в праве был этого сделать».
Сторону Никона приняла, однако ж, Татьяна Михайловна. В это время она перебралась в терем, так как тот был отстроен, и она по уму, по богатству своему и по влиянию на царя господствовала там.
Она помнила, как Стрешнев устроил было скандал ей самой и душевно радовалась, что Никон нашел случай ему отплатить.
Но царь разгневался не на шутку на патриарха за неожиданное для него проклятие дядюшки, тем более что Богдан Хитрово и Матвеев подбивали его «за самоволие патриарха предать его суду».
— Но какому суду? — спрашивал царь.
— Суду митрополитов и архиереев.
— Не знаешь ты, Богдан, церковных правил, — молвил царь, — патриарха может судить лишь вселенский собор.
Во время этой беседы в Покровском селе, где теперь жил весь двор, явился стольник и доложил, что царское величество приглашается царевною Татьяною Михайловною в терем.
Царь был с сестрами своими очень вежлив и ласков: он всегда являлся к ним по первому же их зову.
Татьяна была его любимица: игривая, ласковая, любящая до обожания брата, она глубоко ему сочувствовала, и он от нее ничего не скрывал и разделял с нею свои горести и радости. Притом они росли вместе и играли вместе и так привыкли друг к другу, что когда Алексей Михайлович уезжал в поход, он получал от нее письма, и как бы он ни был занят и где бы он ни был, он всегда ей отвечал. Поныне много его писем к ней сохранилось в государственном архиве.
Вот почему он охотно к ней заходил: так как она умела всегда рассеять много его сомнений и поддержать его в его начинаниях.
На зов ее и теперь он пошел в веселом расположении духа.
Вострушка Таня встретила его с распростертыми объятиями, расцеловала и усадила в своей уютной приемной. Это была прелестная гостиная, уставленная мягкою мебелью и убранная коврами. По случаю лета окна были открыты в сад, откуда шел запах цветов, растущих в клумбах.
— Что, вострушка моя, — обратился он к царевне, — ты так торжественно пригласила меня к себе?
— Да все это противное дело нашего дядюшки, оно покою мне не дает.
— За кого ты дьячишь?..[36] уж не за Семена ли Лукича… успокойся, я и без того уже так гневен на святейшего… всему царскому дому сделал позор.
— Нет, видишь ли, братец[37], я ино толкую… виноват патриарх: без тебя и твоего соизволения не должен он карать, да еще всенародно. Да подумай сам коли допущать над святейшим издевку, так что молвить о попах?..
— Не одобряю Стрешнева, не одобряю и Никона… Зачем не бил челом, мы бы наистрого и наикрепко учинили сыск и выдали бы ему Стрешнева головой.
— Оно-то так, да ведь и Никон-то, святейший, человек… вот гляди, братец, его грамотка ко мне: плачет он, что вышло-де так… а сделал я, — баит он: патриарха-де достоинство поддержать. Ставит дядюшка ваш Семен и собаку, и патриарха на одну доску. Это позор и для церкви Господней и для царского дома. Коли не почитать отцов церкви, то зачем и избирать патриарха? И не дам я на посрамление ни храма Божьего, ни его служителей. А пред царем каюсь и молю прощения: виноват я, ему не докладывал.
— Кается? Не было бы провинности, не было бы покаяния. А ты вот что скажи, Танюшка, пригоже что ль да патриарху учинить дурное, а там каяться.
— Святейший души доброй, жаль ему стало тебя, братец, и нас, — вот он и пишет: благословляет и тебя, и нас: я и просила тебя прийти: уж ты прости святейшего, служил он тебе верой и правдой, ничем не досаждал, а от всякого зла ограждал, ты ему прости, а я ему отпишу.
— Да ты послушай, что-де бояре бают: не потрафит завтра царь Никону, он и его проклянет. Отряхал же он прах со своих ног в моей комнате. Никон коли рассердится, не помнит себя, уж такой норов.
— Святейший знает себе цену.
— Пущай так, каждый должен знать себе цену; да уж он больно строптив.
— Да ведь он собинный твой друг, — заметила она, — а над собинным другом царя и издевка непригожа.
С этими словами она упала на колени, начала целовать его руки, и прекрасные ее глазки глядели так жалостно, что Алексей Михайлович не устоял.
— Уж ты отпиши ему, сестрица, как знаешь, а я, право, ну, уж Бог его прости! пущай… молится за наши грехи… а мы прощаем ему. — Он нагнулся, поцеловал Таню и вышел.
Когда он возвратился в свою комнату, он обратился к Богдану Хитрово.
— Уж ты о святейшем больше мне не упоминай… Теперь с соколами во поле — чай много перепелов наловил.
Несколько минут спустя на отъезжем поле царь уже тешился успехами соколов, кречетов и ястребов.
Охота была двойная: выгоняли из кустарников и хлебов зайцев, и здесь отличались борзые, а перепела, выгнанные из хлебов, излавливались на лету соколами, кречетами и ястребами.
— Молодец Ябедин, ай да Терцев, экий хват Головцын, шустер ты, Неверов, — восклицал только царь, одобряя ловчий путь, т. е. управление охотой, а сам он в это время подумывал: «Нанес мне кровную обиду святейший, и сердце как-то впервое не прощает ему. Уж не собинный ты мне друг, коли проклял дядю».
X Никон покидает Москву
У Стрешнева в Москве сидят: Алмаз Иванов, Хитрово и отец Павел.
— А каков братец-то, — говорит Хитрово, — Никон всех опозорил, а он баит: что ж, уж норов такой… думаю я, как бы какую ни на есть пакость святейшему учинить: пускай сам откажется от патриаршества.
— А вот ты, Алмаз? ты же думный дьяк, так слово за тобой, — обратился к нему Стрешнев.
— Думаю я давно думу, да что-то все не ладно… А вот надумался: едет сюда в гости царевич грузинский Таймураз. Будет его чествовать царь в Москве, надоть не допускать патриарха к торжеству… Никон, баяли попы, ждет не дождется его приезда; значит, хочет и грузинскую церковь залучить к себе. Вишь, хочет он прибавить к титулу: и грузинский.
— Губа не дура, — расхохотался Стрешнев. — А ты как слышал? — обратился он к архимандриту.
— Люди бают, патриарх готовит царевичу встречу и в Успенском, и в палатах патриарших, — молвил отец Павел.
— А мы так учиним: прямо с пути к Красному крыльцу, — усмехнулся Хитрово. — Я-то встречу царевича под Москвой, я и в ответе буду.
— Ладно, ладно, да ты же и уговори царя не звать патриарха к трапезе.
— Уговорить-то уговорю, — сам Никон отряхал-де прах со своих ног с клятвой не быть в царской столовой, ну, и шабаш, сиди дома.
— Да как же осерчает он, сердечный! — расхохотался Алмаз.
— Пущай серчает, — бают люди: на сердитых конях воду возят, ну, и он повезет, да уж трапезы царской не повидит он, как своих ушей, — авторитетно произнес Хитрово.
— Так ты, Богдан Матвеевич, возьми и меня с собой, — вместе будем встречать царевича Таймураза.
— Ладно, а теперь мне в Покровское к царю, — пожалуй, внесет он в разряд: быть патриарху к встрече царевичу и на трапезе у царя.
— А я намыслил вот что, — сказал отец Павел, — писал по наущению монаха Арсения, стоящего у печатного дела, патриарх Никон Паисию Лигариду митрополиту Газскому: «Слышали-де мы о любомудрии твоем от монаха Арсения, и что желаешь видеть нас, великого государя, и мы тебя, как чадо наше по духу возлюбленное, с любовию принять хотим». Писал в прошлом году то же патриарх господарям Молдавскому и Волошскому, чтобы пропустили Лигарида через свои земли. Не едет Паисий — казны не имеет. Пошлите ему пенязи, и он сюда прибудет, — пошлите к нему кого-либо из монахов. Вот коли он приедет, так устройте, чтобы сблизить его с царем, — сам Никон тогда не посмеет против него что-либо сказать: он-де сам его вызвал, как ученейшего богослова. А мы-то грека залучим к себе: бает монах Арсений — любит он и пенязи, и пожить во сытость и сласть. Я возьму его в Чудов, и будет он весь наш.
— Ай да молодец, — воскликнул Стрешнев. — Надумал ты такую вещь: расцеловать-де тебя мало, — будешь ты митрополитом. Теперь, Хитрово и Алмаз, нужно этого Паисия поскорей сюда. А я виделся с дядюшкою, боярином Семеном Лукичем Стрешневым; хоша его из ссылки, из Вологды, возвратил Никон: теперь же вопит: я-де царя уговорю, дайте только богослова и Никона прогоним. Вот и богослов будет: первый разбор. Ура! Наша возьмет.
Друзья расстались. Богдан Матвеевич Хитрово уехал в Покровское.
— Я тебя спрашивал, Богдан, — встретил его немного недовольным видом царь.
— Был на Москве, великий государь, нужно-де было устраивать встречу грузинскому царевичу, — денька через два он пожалует к нам.
— Да как же ты там? Уж устрой… по обычаю, знаешь.
— Знаю, знаю, будет по чину и по порядку. Я встречу за городом, у Красного крыльца Борис Иванович Морозов и Илья Данилович Милославский, в сенях — Семен Лукич Стрешнев, а в передней — ты, великий государь…
— Ладно, ладно, так и записать в разряд, а за трапезой быть без места.
— Кого соизволишь посадить за трапезой с правой стороны?
— С правой — патриарха, а с левой — царевича.
— Как патриарха? Да он отряхал прах своих ног в твоей столовой.
— Правда, да как же без патриарха?…
— Да так, едет в гости царевич не к нему, а к твоей милости, великий государь… А там пущай царевич едет к нему и обедает у него.
— И то правда, уж очень не хотелось бы сидеть с патриархом: ничего-то и есть не буду… а ты ему со стола-то моего пошли…
— Пошлем, сколько угодно и сколько прикажешь, хоша бы и на всю его дворню…
В то время как затевалось неладное в отношении Никона, тот считал приезд царевича поводом к примирению с царем и поэтому готовился принять Таймураза с особенным почетом и торжественностью.
После встречи в Успенском соборе должен был быть отслужен молебен соборне всем духовенством, причем все певчие, какие только находились в Москве, должны были петь; после того патриарх должен был сказать приветственное слово, а выход гостя из церкви с патриархом до вступления их в царские покои должен был сопровождаться колокольным звоном всех московских церквей.
Согласно этому сделаны были и распоряжения от него: как только дадут знать о приближении к Москве царевича, Иван-колокол должен был призвать в Успенский собор все духовенство..
Сам Никон с нетерпением ждал этой минуты, так как он любил царя, и для него было тягостно, что так давно с ним не виделся, не слыхал его ласковых слов.
Но вот, после обедни, в конце июня, дали знать, что царевич приближается к Москве, и что царские экипажи и вся свита, долженствовавшая его встретить, выехали из дворца.
Никон послал в Успенский собор ударить сбор, и из всей Москвы стало съезжаться к Успенскому собору духовенство с певчими. Вскоре прибыл туда сам Никон со всем своим обширным двором.
В соборе, приложившись к животворящему кресту и к иконам, святитель облачился в свои драгоценные ризы: они были из золотой ткани, убранной драгоценными каменьями, и весили шесть пудов[38]. После того он надел свою митру.
При его росте и мужественной красоте он по величию своему был истым патриархом русского народа.
По обычаю, чтобы народ не скучал, начались часы.
Но вот является князь Вяземский, один из патриарших боярских детей, и объявляет, что царевич уж приближается к площади.
Никон со всем духовенством, предшествуемый протодьяконом с животворящим крестом, отправился на церковную паперть, чтобы встретить там царевича.
Площадь вся залита народом, точно так, как и собор.
Но, к удивлению Никона, процессия царевича не сворачивает к церкви, а прямо направляется ко дворцу.
Никон посылает князя Вяземского узнать, что это значит.
Князь устремился наперерез кортежу, чтобы объясниться с Хитрово, которого он видит впереди всех с приставами и стрельцами, очищающими для царевича путь к дворцу.
Сквозь массы народа князь едва пробивается и забегает на самом Красном крыльце вперед Хитрово.
— Бей его, — шепчет товарищу Стрешнев, — он дядю вывел из собора, а ты опозорь его здесь.
Хитрово имел в руках палку для очищения пути; он поднял ее и ударил князя.
— Не дерись, Богдан Матвеевич, — крикнул князь, — ведь я не спроста сюда пришел, а с делом.
— Ты кто такой? — крикнул Хитрово, как будто не знает его.
— Патриарший человек, с делом посланный… я… хотел спросить…
— Эк чванится… патриарший человек… да я тебя… прочь!
С этими словами он ударил его палкой по лбу.
С окровавленным лицом князь побежал обратно в собор. Находившиеся в соборе возмутились поступком Хитрово: здесь было нанесено оскорбление не только лично Никону, но и всему духовенству.
Никон разоблачился, распустил духовенство и велел ударить в колокол Успенского собора: звон этот подхватили все московские церкви, и при этом трезвоне патриарх уехал в свою палату.
По горячности своей Никон тотчас написал царю жалобу и послал ее с одним из своих бояр; царь отвечал собственноручно, что он велел это дело сыскать и лично повидаться с патриархом.
Но Никон напрасно прождал более недели: не только царь к нему не приехал, но за охотами и травлями царь забыл и о сыске, т. е. никому не было поручено произвести следственное дело, а Хитрово продолжал появляться всюду вместе с царем как один из самых приближенных его.
В подобном случае Никон должен был поступить как Ришелье: он обязан был лично отправиться к царю и подействовать на него силою своего красноречия, но, избалованный предшествовавшими примерами, он слишком положился на свою силу и на то, что без него не обойдутся, и ожидал, что во время крестного хода, в день Казанской Божией Матери (8 июля), царь, вероятно, приедет в Казанский собор и там состоится примирение.
Но ожидания патриарха не сбылись: государь в первый раз в свое царствование не приехал участвовать в крестном ходе.
Тут снова сделано Никоном упущение: он должен был посетить царя и поздравить его с праздником, но он этого не сделал.
Враги Никона воспользовались его ошибками и уверили царя, что он относится с совершенным пренебреженьем к нему и к боярам.
Алексей Михайлович не столько рассердился, как обиделся, и совершенно прав: Никон всегда имел множество сильных врагов, и царь лично был причиною его возвышения, и, благодаря лишь его привязанности и благосклонности, он достиг и патриаршества и величия.
Поставленный раз в такое положение в отношении своего собинного друга, что он считал его неблагодарным и до крайности возмечтавшим о себе и о своей власти, Алексей Михайлович созвал у себя совет ближайших к нему бояр и поставил им вопрос: как унять строптивость Никона.
Ответ был: нужно ограничить власть и запретить ему именоваться великим государем…
Наступил вскоре праздник, 10 июля, перенесения ризы Господней в Москву, и торжество это, как установленное отцом царя, всегда посещалось им. Бояре не пустили Алексея Михайловича в Успенский собор, и перед обедней явился к патриарху в его палаты князь Юрий Ромодановский с приказанием от царя, чтобы не дожидались его к обедне в Успенский собор, причем он присовокупил:
— Царское величество на тебя гневен: ты пишешься великим государем, а у нас один великий государь — царь.
— Называюсь я великим государем не сам собою, — возразил Никон, — так восхотел и повелел его царское величество — свидетельствуют грамоты, писанные его рукою…
— Царское величество, — прервал его князь, — почтил тебя как отца и пастыря, но ты этого не понял; теперь царское величество велел мне сказать тебе, чтоб ты не писался и не назывался великим государем и «почитать тебя вперед не будет»…
С этими словами князь удалился.
Когда ушел от него боярин, Никон стал ходить быстрыми шагами по комнате и говорить вслух:
— Он запрещает мне именоваться великим государем… Нешто я желал того? Нужно было во время его отсутствия, чтобы дела шли в порядке, чтобы воеводы повиновались, и он приказал мне именоваться так. Разве можно было удержать порядок во время чумы, охватившей почти все большие города на Востоке, если бы я не действовал как полновластный государь., или дошел ли бы царь до Вильно, если бы я из Москвы не отправлял ему, как государь, и ратных людей, и казну, и хлеб, и иные запасы!.. Да, кабы не я, так и Богдан не дал бы нам помощи, — и Малоруссия и Белоруссия не были бы наши. А теперь, за спасибо, «почитать меня впередь не будет»… Может он не почитать меня как Никона, но как патриарха он должен… К тому ж я патриарх не токмо Великия, но и Малыя и Белыя Руси… А эти страны, пока нет мира, еще считаются за польской короной… Могу отказаться от московского патриаршества, но я остаюсь еще патриархом малоруссов и белоруссов… Пойду в собор и сложу с себя московское патриаршество.
С полнейшим негодованием за свое унижение и за все обиды, перенесенные в последнее время, Никон отправился в собор служить обедню… Но при этом он, к сожалению, должен был вспомнить заповедь Христа: «Аше убо принесеши дар твой ко алтарю, и ту помянеши, яко брат твой имать нечто на тя: остави ту дар твой и перед олтарем, и шед прежде смирися с братом твоим, и тогда пришед принеси дар твой» (Мат. V. 23 и 24).
Забыл эту заповедь великий человек, а между тем кроткий и смиренный его ответ смягчил бы сердце царя, и приезжай к нему тотчас Никон, он поехал бы с ним в собор, но тот, как мы видели, отправился с твердою решимостью отказаться от патриаршего московского престола… и тут он должен был избрать иную форму, чем он сделал… После причастия велел он ключарю поставить по сторожу, чтобы не выпускали людей из церкви, будет-де поучение!
Пропели «буди имя Господне», народ столпился у амвона слушать слово.
Вышел на амвон патриарх во всем облачении и сказал взволнованным голосом:
— Ленив[39] я был вас учить. Не стало меня на это, от лени я окоростовел, и все, видя мое к вам неучение, окоростовели от меня. От сего времени я вам больше не патриарх, если же помыслю быть патриархом, то буду анафема[40]. Как ходил я с царевичем Алексеем Алексеевичем в Колязин монастырь, в то время на Москве многие люди к Лобному месту сбирались и называли меня иконоборцем, потому что многие иконы я отбирал и стирал, и за то меня хотели убить. Но я отбирал иконы латинские, писанные по образцу, какой вывез немец из своей земли. Вот каким образам следует верить и поклоняться (при этом указал на образ Спасов на иконостасе), а я не иконоборец. И после того называли меня еретиком, новые-де книги завел! И все это делается ради моих грехов. Я вам предлагал мое поучение и свидетельство вселенских патриархов, а вы в окаменении сердец своих хотели меня камнем побить; но Христос один раз нас кровию искупил, а меня вам камением побить и еретиком называть, так лучше я вам от сего не буду патриарх.
Кончил патриарх и стал разоблачаться. Народ оцепенел от ужаса — обвинение шло к нему, между тем предстоявшие в церкви были из тех, которые его обожали.
Послышались всхлипывания и голоса:
— Кому ты нас, сирых, оставляешь?
— Кому вам Бог даст и Пресвятая Богородица изволит, — отвечал Никон. Принесли мешок с простым монашеским платьем.
Народ бросился, отнял платье и не дал Никону его надеть.
Никон отправился в ризницу, и между тем как народ волновался, шумел, негодовал и плакал, он написал там царю: «Отхожу ради твоею гнева, исполняя писание: дадите место гневу, и паки: и егда изженут вас от сего града, бежите во он град, и еже еще не приимут вас, грядуще оттрясите прах от ног ваших».
Надел Никон мантию с источниками, и клобук черный, вместо белого, посох митрополита Петра поставил на святительском месте, взял простую палку и хотел выйти из собора, но народ не выпустил его…
Тогда присутствовавший здесь митрополит крутицкий Питирим упросил народ выпустить его, Питирима, обещаясь отправиться прямо к царю во дворец.
Его выпустили, и он в сопровождении огромной толпы, стоявшей на площади, пошел в царские палаты.
Почтенного святителя тотчас ввели в приемную царя, где в то время был уж прием бояр с праздничным поздравлением. Услышав о случившемся в соборе, царь сильно встревожился и воскликнул:
— Точно сплю с открытыми глазами и все это вижу во сне.
И, действительно, дело было неслыханное, небывалое: никогда еще в таком виде никто не оставлял не только патриаршей, но и вообще епископской кафедры на Руси, и при ком же это совершается? При благочестивейшем из русских царей. И кто же так оскандаливает его? Собинный друг.
— Князь Алексей Никитич, — обращается он к князю Трубецкому, именитейшему боярину и воеводе, так блистательно доведшему армию до Вильно, — отправься в собор и упроси Никона остаться патриархом и дать нам свое благословение.
Князь Трубецкой поспешил в собор. Войдя туда, он подошел под благословение патриарха.
— Прошло мое благословение, недостоин я быть в патриархах, — молвил Никон.
— Какое твое недостоинство и что ты сделал зазорного? — спросил Трубецкой.
— Если тебе надобно, то я стану тебе каяться, князь.
— Не кайся, святейший патриарх, скажи только, зачем бежишь, престол свой оставляешь? Живи, не оставляй престола. Великий государь тебя жалует и рад тебе.
— Поднеси, князь, это государю, — прервал его Никон, подавая ему написанное в ризнице письмо, — попроси царское величество, чтоб пожаловал мне келью.
С нетерпением и в смущении ждал царь возвращения князя Трубецкого и сам подходил к окну, глядя на площадь, и, когда князь, выйдя на площадь, направился ко дворцу, Алексей Михайлович пошел ему навстречу в сени.
— Что, княже? — спросил он.
Князь передал ему разговор свой с Никоном и подал царю письмо.
— Что может писать человек в гневе! — милостиво произнес царь. — Возвратись вновь в собор, отдай назад патриарху его письмо и проси его остаться на престоле патриарха.
Никон ждал почему-то, что сам царь приедет к нему и примирится с ним. Сильная тревога овладела и патриархом, и всеми предстоящими: Никон то садился на нижней ступени патриаршего места, то вставал и подходил к дверям; народ с плачем не пускал его: наконец, Никон до того расстроился, что сам заплакал.
Но вот не царь, а князь Трубецкой возвращается из дворца, отдает назад Никону письмо и просит от имени царя патриаршества не оставлять.
Приходит Никону мысль: им так пренебрегают, что даже и письма его не хотят читать, и он восклицает:
— Уж я слова своего не переменю, да и давно у меня обещание патриархом не быть.
Сказав это, он поклонился боярину и вышел из церкви.
Карета его стояла у церкви; он вошел в нее, но народ выпряг лошадей.
— Так я и пешком пойду.
Он пошел через Красную площадь к Спасским воротам.
В это время Москва, осведомившись о происходящем в Успенском соборе, бросилась в Кремль, и вся площадь была уже занята тысячами волнующегося и плачущего народа.
Заперли Спасские ворота и не выпускали Никона.
Из дворца это видели, бояре встревожились и поняли, что это волнение может принять дурной оборот, если вырвется хотя одно какое-нибудь неосторожное слово рассерженного Никона, а потому оттуда отправилась сильная стража с боярами и заставила народ отворить ворота.
Никон, сидевший в углублении ворот, когда их открыли, пошел пешком через Красную площадь на Ильинку, на подворье своего «Нового Иерусалима»…
Так они прошли некоторое расстояние, но Никон упросил народ разойтись, причем благословлял его.
С плачем и рыданием все прощались с ним, целовали его ноги и одежду.
И Никон плакал навзрыд, — ему казалось, что с любимым народом он расстается навек.
Это не было прощание патриарха с паствой, а отца — с детьми…
Народ разошелся, и Никон уехал в свое подворье.
Напрасно он ждал здесь несколько часов[41], что из дворца ему пришлют хоть ласковое слово или от царя, или от царевны Татьяны Михайловны.
Ожидания его были напрасны… И вот почти без чувств монахи усадили его в карету, и лошади помчали его в «Новый Иерусалим».
XI Интрига
Удаление Никона из Москвы было с его стороны величайшею ошибкою: он дал возможность всем врагам своим поднять головы и повести его к окончательной размолвке с царем.
Первые восстали раскольники и торжественно праздновали удаление еретика из Москвы: жена Глеба Морозова, раскольница Феодосия, и жена Урусова — фанатички, — бегали по теремам и бунтовали их, разжигая страсти и преувеличивая поступок Никона, хотя в речи его к народу не было ничего антиправительственного, а, напротив, все было направлено против раскола.
Раскольники это поняли и поняли то, что удаление Никона наносит им больший удар, чем его бывшее могущество; так как удаление его было из-за идеи, следовательно, и он становился мучеником, пострадавшим из-за раскольников и их происков: «меня хотели побить каменьями, — говорил он народу, — и я удалюсь».
Поэтому раскольничья партия распустила слухи, что Никон удалился из честолюбивых видов, чтобы из монастыря действовать против правительства совершенно самостоятельно и независимо; что для этого он построил такой обширный монастырь на тысячу монахов и устроил его, как крепость; что туда он может набрать ополчение из монастырских крестьян и, пожалуй, может держать в осаде и самую Москву.
Нужно-де на этом основании отнять от него власть над монастырскими имуществами.
Средством же к тому было заставить Никона передать блюдение патриаршего престола митрополиту Питириму и в монастырский приказ назначать бояр — царю.
Все эти толки, суды и пересуды были на руку боярам: всем им, начиная с Милославского и Морозова, Никон был как бельмо на глазу. Патриарх не допускал им греть руки в завоеванной Белой Руси и в присоединенной Малороссии. По государственному же хозяйству и государевой казне им введена была такая строгая отчетность, что каждая копейка должна была отчитываться.
Пуще же всего на него взъелись за то, что он восставал против медных рублей, так как партия Милославского страшно злоупотребляла ими.
Эти причины вызвали то, что все боярство восстало против него и, собравшись в боярской думе, уговорило царя сделать в отношении Никона решительный шаг.
Царь отправил к нему на третий день Алексея Никитича Трубецкого и дьяка Лариона Лопухина.
Никон в это время успел уже устроиться в «Новом Иерусалиме» и усердно занялся своими сооружениями.
Князь Трубецкой застал его на работах: он готовил в мастерской окна и двери для монастыря.
— Для чего ты, святейший патриарх, — обратился к нему Трубецкой, — поехал из Москвы скорым обычаем, не доложа великому государю и не дав ему благословения? А если бы великому государю было известно, то он велел бы тебя проводить с честию. Ты бы подал великому государю, государыне-царице и детям их благословение; благословил бы и того, кому изволит Бог быть на твоем месте патриархом, а пока патриарха нет, благословил бы ведать церковь крутицкому митрополиту.
— Чтоб государь, государыня-царица и дети их пожаловали меня, простили, — отвечал с кротостью и смирением Никон, — а я им свое благословение и прощение посылаю, и кто будет патриархом, того благословляю; бью челом, чтобы церковь не вдовствовала и беспастырна не была, а церковь ведать благословляю крутицкому митрополиту; а что поехал я вскоре, не известив великому государю, и в том перед ним виноват: испугался я, что постигла меня болезнь и чтоб мне в патриархах московских не умереть.
Приехав к царю, князь Трубецкой к этим словам от себя присовокупил, что будто бы патриарх сказал: «А впредь я в патриархах быть не хочу, а если захочу, то проклят буду, анафема».
Последние слова не ответствуют всей смиренной речи Никона, а князь Трубецкой явно прибавил их от себя, чтобы окончательно убедить царя, что Никон навсегда отказывается от патриаршества вообще, между тем как тот говорил лишь о московской кафедре.
Согласно этому показанию, царь передал патриаршую кафедру блюсти митрополиту Питириму, а в монастырский приказ назначил своих бояр.
Через несколько дней Никон написал царю письмо, дышавшее смирением: в нем просил извинения за поспешный свой отъезд, который он объяснял своею болезнью.
Несколько дней спустя явился к Никону Иван Михайлович Милославский, племянник царицы, и от имени царя объявил ему, что Борис Иванович Морозов сильно болеет и, если патриарх имеет на него какую-нибудь досаду, чтобы простил ему.
Никон собственноручно отвечал царю письмом:
«Мы никакой досады от Бориса Ивановича не видали, кроме любви и милости: а хотя бы что-нибудь и было, то мы Христовы подражатели, и его Господь Бог простит, если какой человек в чем-нибудь виноват пред ним. Мы теперь оскудели всем, и потому молим твою кротость пожаловать что-нибудь на созидание храма Христова воскресения и нам бедным на пропитание».
Но его кротость ничего не прислал, и с первых же дней своего приезда в «Новый Иерусалим» Никон увидел себя в затруднительном положении.
Бояре же не дремали: они ежедневно наговаривали на патриарха, и царь дал ему через стольника Матюшкина, своего родственника, знать, что в Москве осталось еще только два человека, жалеющих его, — это он, царь, и князь Юрий Долгорукий.
Спустя еще некоторое время бояре настояли арестовать и имущество, и бумаги Никона, оставшиеся в Москве.
При обыске, который совершал князь Трубецкой, найдены письма не только царя к нему, но и письма царицы, царевен и многих бояр. Переписка эта не понравилась царю и, как видно, склонила его на сторону бояр — иначе нельзя объяснить поступка его: все ценные вещи патриарха, полученные им в дар от различных лиц, он конфисковал в свою пользу, и несколько вотчин, приписанных к «Новому Иерусалиму», было отобрано от него.
Сделано еще одно распоряжение: после отъезда из Москвы Никона масса народа из Москвы отправлялась в «Новый Иерусалим» повидать и поклониться своему святителю. Поэтому вышло запрещение всяким чинам посещать монастырь: это лишило Никона окончательно всех средств не только к сооружению храма, но и к существованию обители.
Это же и вызвало со стороны Никона резкий протест на имя царя, так как он увидел, что дело его потеряно в Москве.
Нужно полагать, что со времени этого письма, в котором Никон укоряет Алексея Михайловича в своеволии и неправосудии, где, оправдываясь в том, что он писался великим государем, именует это название проклятым, — он, Никон, твердо решился повести с правительством царя открытую борьбу, чтобы отстоять права патриарший.
В письме этом он, между прочим, показывает непристойность ареста его секретной переписки как патриарха; жалуется на свою нищету и на то, что он оболган, поношен и укорен; жалуется, что государю доносили неправедно, что он с собою взял будто бы большую казну, причем указывает ему счет своим расходам.
Неизвестно, как было принято это письмо в Москве, но должно быть с негодованием, потому что весь этот год прошел без всякой перемены к патриарху, и слухи лишь доходили к Никону, что боярство ищет против него повсюду каких-нибудь обличений.
Между прочим, в 1659 году сочинили следующее: будто Никон в беседе с певчими дьяконами, Тверитиновым и Семеновым, приезжавшими, вопреки запретного указа, в «Новый Иерусалим», говорил о Выговском, что вот-де при нем он, Выговский, был верен царю, а теперь изменяет, и что ему, Никону, стоит только две строчки написать Выговскому, и тот снова будет служить царю.
Очевидно, что об этом говорилось меж бояр, и им хотелось во что бы то ни стало показать неблагонадежность Никона и очернить его перед государем, выставив его мятежником. Вот почему и сочинена эта беседа. Нельзя же допустить, чтобы такой государственный человек и такой гордец, как Никон, стал болтать так с какими-то певчими дьяконами. Ясно было, что бояре их послали в монастырь, чтобы иметь повод, снявши с них сказки, поточить свой язычок на его счет.
Иначе нельзя объяснить всей этой истории: едва ли простые дьяконы осмелились бы, даже вопреки царскому указу, явиться в монастырь, если бы за спинами их не были сильные бояре.
Однако же царь, хотя и поверил их сказке, но послал патриарху церковное вино, муку пшеничную, мед и рыбу. Повез все это дьяк Дементий Башмаков.
Дьяк застал Никона в ските и, спрося его о спасении, представил ему царские дары.
Патриарх бил челом царю за эти дары и спросил об его здоровье; потом в своей Воскресенской церкви отслужил обедню.
После того он повел Башмакова в монастырь. Впереди его шли боярские дети; когда они подошли к монастырским воротам, их встретила стража монастырская, состоявшая из десяти человек. У монастыря вышла к ним вся братия с архимандритом.
Осмотрев с Башмаковым сооружения и монастырь, патриарх ввел его в свою монастырскую келию.
Здесь он обратился к Башмакову:
— Между властями, — говорил он, — много моих ставленников, они обязаны меня почитать, они мне давали письмо за своими руками, что будут почитать меня и слушаться. Я оставил святительский престол на Москве своею волею, московским не зовусь и никогда зваться не буду; но патриаршества я не оставлял, и благодать Св. Духа от меня не отнята: здесь были два человека одержимые черным недугом; я об них молился, и они от своей болезни освободились; и когда я был на патриаршестве и в то время моими молитвами многие от различных болезней освободились.
В первый раз, как видно, царю донесли ясно, в чем заключалось это отречение. Раньше же сказанное им в Успенском соборе объясняли как общее отречение от патриаршества, а тут выходило, что он говорит лишь о московской кафедре.
Царь увидел, что бояре ввели его в трущобу, из которой выпутаться было нелегко.
Тут случилось нового обстоятельство: в Вербное воскресение должно было совершиться хождение на осляти патриарха, во образ въезда Христа в Иерусалим, и поэтому царь разрешил этот въезд блюстителю патриаршего престола. Но на это, в резких выражениях, воспоследовал протест патриарха: так как, по его мнению, церемонию эту мог совершать лишь патриарх; а если царь желает избрать нового, то он ничего не имеет против этого, и кого благодать изберет на великое архиерейство, того он благословит и передаст через рукоположение божественную благодать, как сам ее принял.
Протест произвел сильное впечатление в Москве; правительство поняло, что Никон и не думает отказываться от патриаршества и, отказавшись лишь от московской кафедры, предоставляет себе право рукоположить в патриархи московские, кого изберет собор.
Но какую же роль будет он играть тогда в государстве? А между тем правительство желало, чтобы он перестал вмешиваться в дела Церковные.
Дьяк Алмаз, его старинный враг и друг Стрешнева, вызвался в боярской думе ехать к нему с думным дворянином Елизаровым.
Елизаров, приехав к нему 1 апреля 1659 года с Алмазом, начал ему выговаривать:
— Ты-де, патриарх, отказался от московского патриаршества, и поэтому писать тебе о крутицком митрополите не довелось, так как он действовал по царскому указу.
Никон, объявив причины своего протеста, присовокупил:
— Престол святительский оставил я по своей воле, никем не гоним, имени патриаршеского я не отрицал, только не хочу называться московским; о возвращении же на прежний престо и в мыслях у меня нет.
— А царь приказал, — прервал его Елизаров, — вперед о таких делах к нему, великому государю, не писать — так как ты-де патриаршество оставил.
— В прежних давних летах, — обиделся Никон резкостью тона, — благочестивым царям греческим об исправлении духовных дел и пустынники возвещали, я своею волею оставил паству, а попечение об истине не оставил, и вперед об исправлении духовных дел молчать не стану.
— При прежних греческих царях, — еще резче произнес царский посол, — процветали ереси, и те ереси пустынники обличали, а теперь никаких ересей нет, и тебе обличать некого.
— Если митрополит, — сказал кротко Никон, — действовал по указу великого государя, то я великого государя прощаю и благословение ему даю.
Этот разговор был истолкован царю так: Никон объявил, что он, если даже избран будет новый патриарх, оставляет за собой право высшего наблюдения за церковою и молчать не будет и, вместо извинения перед царем за неуместное письмо свое, он дерзает прощать царя.
— Нужно низложить его, — кричали одни.
— Нужно гордеца смирить; а единственно возможная в этом случае мера — это предать его суду и лишить его архиерейства. Но как это сделать?
Решиться на такой шаг царь не видел еще поводов, тем более, что совесть подсказывала ему: да в чем же вина Никона?
XII Женихи царевен
Января 5-го, 1660 года, во дворце праздновался торжественно день рождения царевны Татьяны Михайловны: ей исполнилось двадцать четыре года.
Двор не имел в те времена того веселого и европейского вида, какой он носил при предшествовавших царствованиях.
Бахари, гусельники, органисты, домрачеи, шуты, карлы, арапы исчезли, и их заменили калики перехожие, монахи и монашенки, странники и странницы.
Вместо прежних песен и пляски, слышались духовные концерты, духовные хоры, духовные песни об аде и тому подобное, или же рассказывались легенды: о посаднике новгородском Шиле, о муромском князе Петре и супруге его Февронии, о Марфе и Марии, об Ульяне, о половчине, о рабе, о двух сапожниках, об иноке, об умерщвленном младенце, об оживленной курице, о вдове целомудренной, и множество повествовалось других дошедших и не дошедших к нам былин и легенд.
Сами же калики и странники помещались в бывшей прежней Потешной палате, а когда перестроился царский терем, они сначала помещались внизу, а потом богадельня явилась невдалеке от дворца в виде особой пристройки.
Праздник царевны прошел поэтому тоже в молитве в церкви и потом в слушании духовных хоров и песен, и тем тяжелее был он для царевны, что любимый ее святитель, Никон, отсутствовал и был в опале.
Вздумала она было при посещении терема царем заикнуться о Никоне, но тот с несвойственным ему неудовольствием отвечал:
— Уж мне Никон сидит здесь… Только и слышишь со всех сторон каждый час: вот кабы Никон, то давно был бы мир с Польшею; а иные бают: кабы не Никон, да со своими затеями да широким стоянием, был бы давно мир… И разбери их.
— А вести какие от князя Юрия Долгорукова из Вильны? — спросила царевна, чтобы замять разговор.
— Послушался он князя Одоевского и выступил оттуда, а гетман Гонсевский… вообрази, что он в бегстве, и напал на него… А князь Юрий разбил его, да полонил и самого гетмана… да кабы Одоевский и Плещеев не со своим местничеством против Долгорукова: не пойдем-де к младшему на подмогу, то и гетман Сапега был бы в плену… Выдал я их головою Долгорукову… Получил я гонца да разругал князя Юрия: зачем-де Вильну покинул… Да ляхи баламутят, все обещаются избрать меня в короли, а я им будто бы верю… А нам бы со свейцами мир учинить; там Польшу заставим отдать нам Белую Русь, да закрепить надоть за нами Малую Русь… вот видишь ли, сестрица, теперь, после победы князя Юрия да полонения гетмана Гонсевского, ляхи позатихли… Да и свейцы затихли, мор передушил их, да и Ян Казимир отдал им ливонские города, — так с ними-де мы в перемирии… Теперь нужно справиться с гетманом малороссийским Выговским: изменил он нам, а Ромодановский с Шереметьевым в осаде — передался он, вишь, ляхам и союз учинил с татарами. Мы и снарядим рати наши, да с князем Трубецким пошлем их на хохлов.
— Дай Господь Бог тебе победу, — перекрестилась царевна. — А войска, кажись, много в Москве?
— Еще бы, — с гордостью сказал царь. — Ратники мои бравые: драгуны, рейтары, пушкари и стрельцы были и при осаде Смоленска и Риги… Сколько они городов полонили… А счетом всей-то рати более полутораста тысяч.
— А кто же будет в передовом отряде? — полюбопытствовала царевна.
— На кого князь Алексей (Трубецкой) соизволит.
— Коли так, так ты бы, братец, зашел к сестрице царевне Ирине… Хотела она с тобою по твоему государеву делу молвить пару слов.
— Ладно.
Царь поцеловал ее и пошел в отделение царевны Ирины.
Он поздоровался с сестрою и сказал ей, что его прислала к нему Татьяна Михайловна.
— Я по делу к тебе важному, — молвила Ирина. — Хотела я спросить тебя, что намерен ты делать с царевнами Анною и Татьяною… Мой век уж прошел, Христова невеста… а те-то чем провинились?..
— Да ведь Татьяна прежде не хотела слушать о женихах.
— То было прежде, а теперь она баит: нужно-де выйти замуж… Гляди, говорит она, боярыни в теремах-то лучше живут, чем царицы. На той глаза-то всех, а боярыня, что хошь, то и делает, да коли она вдова, то все едино, что боярин у себя. А королевичей где набрать? Да у тебя-то, братец, тож царевны нарастают.
— Я-то не прочь, пущай-де замуж идут, да женихов-то, Иринушка, где набрать?
— А чем-де не женихи: князь Семен Пожарский, да князь Семен Львов, — обрадовалась царевна.
— О-го-го! — улыбнулся царь. — Два князя да два Семена… да ведь оба-то, хотя молодцы, но им бы взять допреж по городу, аль в полон хотя бы и Выговского.
— Так ты, братец, пошли их с князем Алексеем Никитичем в Малую-то Русь и, коли вернутся, да с победою… с знаменами, да с пленниками, булавами… тогда… тогда…
— По рукам, да в баню, — расхохотался царь, — но бояре-де что загогочут? Романовы, Милославские, Морозовы, Стрешневы, Черкасские, Одоевские, Урусовы, Матюшкины и иные; ведь заедят, скажут…
— Да что их слушать-то, братец. Коли терем соизволит на это, то все-то бояре уставят брады ко земле и молвят: уместен брак… Коли мы да бабы загогочем, то нашего-то брата не перекричишь. Ты лишь соизволь… да сам посуди… Пожарские сражались за нас с ляхами и Русь спасли; а Львовы тоже имениты… удельные.
— Это-то так, да видишь ли, сестрица, нужно подумать…
— Нет, уж ты не думай, а дай слово… Пойми, братец, Анюта и Таня сироты, а я старшая их сестра… Кому же радеть о них? Танюшке, видишь, сегодня двадцать четыре года, а Анюте и того больше… пора и в замужество.
— Даю слово… но допреж поход… Я скажу князю Алексею, как он соизволит; опосля похода побалагурим.
С этими словами царь поднялся с места и вышел.
Сильная забота лежала на нем: армия его была поставлена на хорошую ногу благодаря заботам и трудам Никона, и последнего даже обвинили раскольники и попы в том, что он-де больше занят барабанами, пушками и оружием, чем своим святительским делом. Теперь всю эту победоносную и стройную, хорошо обученную армию он должен отправить в зимний поход, т. е. в том же январе двинуть ее к Северу.
Какое-то странное предчувствие овладело им, когда он вышел от сестры своей Ирины.
— Поговорю о Пожарском и о Львове с князем Алексеем, — подумал он, — и послать ли их с войском, коли он просятся в женихи царевнам?..
На Москве в это время было весело: вместе с войсками стянулось сюда почти все боярство, т. е. семейства всего служилого люда. Кто — повидаться с родными, кто — за женихами, кто — за детьми, кто — за мужьями. Съезду способствовала еще и хорошая санная дорога, и Москва закипела народом и торговым людом. По улицам звенели бубенчики, оружие и гарцевали наездники: драгуны, рейтары, казаки. Ежедневно вступали отдельные партии и целые полки; а стрелецкие слободы были точно лагерь: почти со всех концов России, особенно с севера и востока, они были сюда стянуты.
Царь Алексей Михайлович мог тогда гордиться своею армиею — она была одна из лучших в Европе, потому что организацией ее заняты были тысячи иностранных лучших офицеров: голландцы, немцы и англичане.
Впоследствии, когда Петр Великий спросил Якова Долгорукова, чтобы он откровенно ему сказал, какую разницу он находит между его и отца его царствованием, — Долгорукий ответил ему: «У отца твоего армия была лучше, чем у тебя, зато ты создал флот».
Наши историки поэтому напрасно считают Петра I творцом армии. Инженерное искусство было в то время на довольно высокой степени, и мы в настоящее время зачастую только возвращаемся к старине: нынешние земляные работы тогда практиковались еще с большим успехом, чем теперь, а минное дело велось по всем правилам и теперешней науки.
Имея, таким образом, внушительные силы, борьба с Малороссией и татарами казалась боярам не опасною и необходимою, тем более, что требовалось не допустить соединения их с Польшею.
Самый зимний поход предпринят в Малороссию, чтобы не дать Польше собраться с силами для отправления Выговскому подкреплений.
План этот был удачно обдуман, рассчитан, а внушительная полуторастотысячная армия обещала успех и полную победу.
Самая Малороссия призывала царя к себе, а именно восточная часть по сю сторону Днепра, а Украина была нам враждебна, и только Киев находился в руках Шереметьева.
При таком могуществе царя, казалось, ничтожною должна бы была для него быть борьба с Никоном.
И в самом деле, что значит для царя отшельник, владеющий в Новом Иерусалиме десятком стрельцов, сотнею бедных монахов (остальная братия с голоду разбежалась), — ему, победителю поляков и шведов, стоящему после войны во главе сильной и победоносной армии?..
Так полагали тогда все москвичи, видя стройные царские полки.
Не так, однако ж, думал сам царь: этот инок, как призрак, преследовал его и как будто шептал ему: «Ведь это все дело рук моих и когда я отпущал эти войска с моим благословением, был успех и победа… Посмотрим, как это будет без моего благословения и без моего совета».
И хотелось бы царю послушать и этого совета, и вдохновенного благословения, и слова святителя. Но как сделать? Самолюбие не позволяет: бояре успели уже вселить ему, что Никон хвастал, что стоит ему написать несколько слов гетману, и тот покорится, а армии его, царя, гетман-де не устрашится.
— Поглядим, — отвечает на свою мысль царь, — как это гетман не покорится моим войскам… Что есть лучшего у меня, посылается туда, и коли они побеждали и одолевали поляков и свейцев, то они уничтожат и черкасских казаков, и татарскую орду… Но все же лучше бы было, кабы Никон не был строптив, — может и взаправду устроил бы мир без кровопролития. Мысль эта не дает царю покоя и, выйдя от сестры, он говорит себе самому:
— А ведь Таня что ни на есть умница. После обыска у святейшего найдены ее письма… Я-то их уничтожил, да все ж князь Алексей их читал… А тут она вдруг замуж, — ну и замажем рты… Да и от Никона нарекание отойдет, и он перестанет злиться и укорять: зачем-де мою переписку читали… людей сгубили. А женихи, правда, молодые… По правде-то, ведь и оба Морозовы, да и сам тестюшка мой вдовым женился, да еще на старости.
С этими мыслями он возвратился в свою приемную, принял поздравления духовенства и бояр, потом отправился обедать.
После обеда, когда князь Алексей Никитич Трубецкой возвратился к себе, он велел дьяку своему занести в разряд: Семену-де Романовичу князю Пожарскому и князю Семену Петровичу Львову быть воеводами в конных передовых полках.
XIII Битва под Конотопом
Десять дней спустя после того войска стройно двигались в Кремль, для того, чтобы, помолившись и получивши от митрополита Питирима, заступившего Никона, благословение, а от царя отпуск, двинуться в поход.
Войска были уж снаряжены по-походному и с самого раннего утра устраивались в Кремле; царь же, царица и царевны прибыли туда, когда трезвон всех церквей с Успенским собором возвестил приезд туда митрополита.
Царица и царевны должны были, по обычаю, быть в покрывалах и за занавескою, но воины, возвратившись с походов, видели, что и в Белоруссии, и в Польше, и в Малороссии женщины без покрывал, и сидят за одним столом за обедом с мужчинами, и поэтому сделано было в первый раз отступление от обычая, и царский дом, равно и все их ближние боярыни и боярышни, хотя и приехали в закрытых возках[42], но были в церкви без покрывал, и занавесь в церкви была отдернута.
Отслужена была обедня и молебен; потом отъезжающие в войска князь Трубецкой, воеводы и полковники, поклонившись и приложившись к святым иконам, стали подходить к царю и к его семейству прощаться. Подошли к царевнам и князь Семен Пожарский и князь Семен Львов.
Оба князя по обычаю ударили им сначала челом, потом, приложившись к ручке, которая была в перчатке, поцеловались с царевнами.
Обе царевны, Анна и Татьяна, были в драгоценных шубках, а на головах их собольи шапочки, украшенные жемчугами. Не белились и не румянились они, так как и без того были прекрасны с их черными глазами и темными бровями. Царевны были похожи друг на друга, но Татьяна имела более энергичное лицо и была больше ростом.
Но на обеих произвели эти женихи не одинаковое впечатление: Анна нашла своего жениха хотя не совсем молодым, но интересным; Татьяне ее жених совсем не понравился — он представлялся ей слишком солдатом.
Но царю это прощание с отъезжающим войском показалось слишком официальным и безжизненным — не было ни вдохновенного благословения, ни горячей речи, — словом, недоставало Никона, умевшего электризовать всех.
Простившись с войском, которое было, впрочем, окроплено духовенством, несмотря на сильный мороз, царь уехал во дворец.
Прибыв домой, он обратился к царице Марье Ильинишне:
— Ты что-то не радостна, — сказал он.
— На сердце будто камень, — прослезилась она.
— Да и у меня… Помнишь, когда, бывало, Никон благословляет войско… как-то радостно на сердце… да и сам идешь в поход., как будто так и след.
— Уж не знаю что? А что-то не то, что было, — вздохнула царица.
Чтобы рассеяться, царь зашел к сестре: Иринушка хлопотала об обеде, Аннушка что-то рассказывала горячо боярыням и боярышням, не бывшим в церкви, а Танюшка забралась в свое отделение и горько плакала.
Алексей Михайлович зашел к ней; она ширинкою утерла слезы и, бросившись к брату, повисла у него на шее.
— Братец, братец, — говорила она всхлипывая, — зачем ты отослал ратников?
— Тебе жаль, сестричка, жениха, так вернуть его можно.
— Зачем отослал войско, да без благословения патриарха?
Она попала ему прямо в сердце; это было именно то, что и его тревожило.
Но он собрался с духом и произнес сухо:
— И на митрополите Питириме благодать Св. Духа, и его благословение оградит воинов, а воинствующая Богородица будет их заступница и даст им одоление врагов…
— Но помнишь, братец, когда ты выступал в поход под Смоленск: после благословения патриарха ратники шли как на пир… а теперь… все лица мрачны, суровы, да и князь Семен Пожарский как будто семерых съел.
— Полно, — прервал ее Алексей Михайлович, — так тебе кажется… Увидишь, победа за победою ждет моих молодцов… ведь все, что лучшее, идет в поход… Притом главный воевода — князь Алексей Никитич, а он убелен и сединами, и опытом.
Царь вышел от нее и в тот день был спокоен, но чем дальше уходили войска от Москвы, тем тревожнее он становился, а 7 февраля, выйдя после обедни в дворцовой церкви св. Евдокии, ему в трапезной докладывали решение состоявшегося в кабинете совета бояр: Бориса Ивановича Морозова, князя Якова Черкасского, князя Никиты Одоевского, Ильи и Ивана Милославских. Решение это противоречило первоначальному плану силою подчинить себе Малороссию. В новой инструкции предписывалось Трубецкому во что бы то ни стало добиться примирения с гетманом Выговским, а потому разрешено ему: 1) утвердить за ним все привилегии, какие предлагала ему Польша; 2) отказаться от воеводских начал; 3) в случае надобности очистить даже Киев.
Другими словами: Трубецкому предлагалось медлить с наступлением и вести переговоры о мире, — это чуть-чуть не погубило и русское дело, и всю нашу блестящую армию.
Здесь прямо сказалось отсутствие Никона. Тот был в отчаянии, когда наша победоносная армия остановилась в Вильне и последовала в Варшаву и Краков, — а тут выслали сильное войско и заставили главнокомандующего медлить, чтобы дать средства гетману Выговскому соединиться с татарами.
Трубецкой исполнил инструкцию: он медленно продвигался вперед, и в начале апреля был только в Константинове на Суле. Сюда прибыли к нему: Безпалый с малороссийскими казаками, восставшими против гетмана Выговского, и из Лохвиц все русские войска, находившиеся в Малороссии.
Последние он не должен был трогать, так как они должны бы были действовать или во фланг, или в тыл неприятеля, который мог появиться из-за Днепра с татарами.
На пути Трубецкого находился Конотоп, в котором заперся полковник Выговского, Гуляницкий. Здесь князь должен был бы оставить отряд для осады крепости, а сам обязан был двигаться вперед; а он, не окопавшись даже, занялся обложением и осадою Конотопа, ожидая, что гетман Выговский сам явится или пришлет ему повинную.
Так стоял он два месяца, не посылая даже летучих отрядов для разведок в глубь Малороссии и по ту сторону Днепра.
Дурные последствия вскоре сказались: 27 июня к вечеру огромные таборы татар или, как их называли тогда, хан с калгою, и казаки под предводительством Выговского остановились на берегах Сосновки, недалеко от Конотопа.
Узнав здесь, что князь Трубецкой, не окопавшись, стоит лагерем и не думает даже о близости неприятеля, Выговский зашел в шатер хана.
Он передал ему, что желал прежде укрепиться на берегах Сосновки, чтобы дать сражение русским, но теперь раздумал: необходимо взять несколько отрядов и врасплох ночью напасть на врагов.
Хану эта мысль понравилась, и, оставив при хане в засаде, в лесах, большую часть татар и казаков с орудиями и обозами, Выговский с летучими отрядами своими ночью же выступил в поход.
Ночи на Украине очень темны, когда луны нет, и поэтому они за полночь достигли нашего лагеря. Здесь, не доезжая еще лагеря, Выговский на полях нашел огромное количество наших обозных и кавалерийских лошадей; все они были забраны и погнаны по направлению к Сосновке.
В такой же беспечности находился и весь лагерь князя Трубецкого — без выстрела неприятель ворвался туда и начал сонных людей крошить или забирать в плен.
Удалили тревогу, не зная даже, где и что делается. В лагере слышны были выстрелы, проклятия, крики и стоны раненых и умирающих. Но вот многие очнулись, собрали вокруг себя ратников и ударили на врага. До свету успели они очистить лагерь от казаков; Выговский, боясь при рассвете быть окруженным и уничтоженным, поспешно удалился.
Стало рассветать, сумятица унялась, и князь Трубецкой, озадаченный и ошеломленный, созвал совет военачальников. Судили, рядили, горячились и решили: большие-де неприятельские силы не могут быть вблизи, иначе им дали бы знать давно, и это, должно быть, какой-нибудь отряд под предводительством хана и гетмана налетел на нас врасплох, чтобы ограбить и ускакать. Став на этой точке зрения, подняли всю нашу кавалерию, разделили ее на два полка, вручили командование ими князьям Пожарскому и Львову и отдали им приказание полонить и хана, и гетмана, отбив у них и людей, и лошадей, и скот, которых они угнали с собою.
Решено и исполнено: вся кавалерия наша, в количестве более двух десятков тысяч, составлявшая гордость нашу и первая в Европе, под командою двух князей Семенов, женихов царевен, двинута вперед.
Как вихрь эти массы помчались в день Троерукой Богородицы, т. е. 28 июля.
Кавалерия неслась вперед и застигла верстах в 25 от Конотопа врага. В ожидании погони гетман спешился, сделал завалы и засел там. Наши войска тоже спешились, и началась отчаянная резня, татары и малороссы, видя себя побежденными, бросились на лошадей и ускакали с гетманом. Началось ожесточенное преследование его.
По дороге многие из местных жителей предупреждали Пожарского, что за Сосновкою стоят огромные неприятельские силы; но тот не верил этим толкам и, боясь выпустить из рук крымского хана, которого в особенности ему хотелось иметь пленником, он вопил:
— Давайте мне ханишку! Давайте калгу — всех их с войском таких-то и таких-то… вырубим и выпленим.
— Князь Семен Романович, не галдей, — говорит ему товарищ князь Львов, — не ровен-де час… Татары услышат, хану передадут.
— Да ну их! — кричит князь Пожарский. — Нам бы только добраться до них.
— Князь Семен Романович, — предостерегает вновь Львов, — люди бают: много турок и казаков за Сосновскою рекою.
— Эх-ма! а нас что ль мало? Да мы татарву копытами вытопчем.
Сила за ними, точно, внушительная несется, двадцать, а может быть, и целых тридцать тысяч рейтаров и драгунов, да и в придачу казаки.
Все молодцы, да на добрых конях, с мушкетами, пищалями и пиками, на головах шеломы, у большинства латы, а при бедре сабли, ятаганы, пистолеты в седлах. Это та конница, которая, как буря, некогда прошла от Смоленска до Вильны.
Мчатся они так за Выговским, отсталых его воинов аль рассекают, аль в полон берут, и у самой Сосновки нагоняют его.
Выговский со всеми казаками бросается в Сосновку и переплывает; Пожарский со своими туда ж в Сосновку и, так сказать, на хвостах гетманского войска, тоже переплывает реку и бросается за ним.
Но едва только вся наша конница очутилась на том берегу, как увидела себя окруженною со всех сторон татарами и казаками. Раздался страшный грохот орудий, и картечь со всех сторон посыпалась на них; потом раздались выстрелы мушкетов, пистолетов.
Наши попробовали спешиться. Но такая масса нашей конницы собралась на небольшом пространстве, и столько уж было убитых и раненых лошадей и людей, что нельзя было двигаться ни в какую сторону.
Между тем татары высыпали со всех сторон, как саранча, и начали даже стрелять с той стороны Сосновки.
Наши бились с ожесточением, но гибли, как мухи, так как неприятелю было легко попадать в их массу.
После нескольких часов такой драки осталось наших в живых не более пяти тысяч. Они должны были сдаться.
Зной стоял невыносимый, весь день ратники или сражались или мчались, ничего не ели и терпели жажду, а тут пришлось еще несколько часов биться; многие до того изнемогли, что тут же перемерли.
Князь Львов, не отличавший особенно крепким сложением, тоже изнемог и не мог больше сражаться.
Видя неминучую гибель, князь Пожарский решился во что бы то ни стало пробиться: он скомандовал оставшимся еще в живых ратникам сесть на коней и обратно плыть с ним через Сосновку.
Воины последовали за ним; князя Львова они усадили на лошадь и повернули к реке.
Несмотря на убийственный огонь с той стороны Сосновки, Пожарский успел реку переплыть, но враг предупредил его: почти всеми силами он появился здесь и встретил его рукопашно.
Пожарский не сдался бы. Но лошадь его пала убитой, и в то время, когда он барахтался под нею, чтобы освободиться, на него налетел целый десяток татар и, скрутив по рукам и ногам, взяли его в плен.
За его пленением сдались и остальные ратники, да и князя Львова вскоре татары привели скрученного по рукам.
Как только закончили эту бойню татары и малороссы, так тотчас Выговский и крымский хан снялись и отступили, чтобы занять более крепкую местность. Но эти опасения были напрасны: Трубецкой, узнав о несчастий с его конницей, тотчас снял осаду Конотопа и со всею армиею отступил в Путивль.
Всю ночь татары двигались назад и к свету лишь разбили лагерь и развели огонь.
Отдохнув после тяжелой борьбы и движения, хан потребовал к себе пленного Пожарского.
При хане состоял толмач Фролов.
Через него он спросил князя:
— Почему ты воевал в прошлых годах против крымских царевичей в Азове?
— Потому, — ответил князь, что царь меня послал туда.
— Отчего ты заставлял их принять христианство?
— Не заставлял, а уговаривал и обещал им много милостей от царя. У нас-де и Сулешов из крымских, и Булашовы, и Черкасские, и Урусовы, да Юсуповы… последний и поместий получил, почитай, тысяч сорок… да все в разряд внесены князьями.
— Так ты, значит, искушал царевичей, так я, князь, вот что тебе скажу: прими ты мою веру, так останешься не только у меня князем, царевичем, чем хочешь, а не признаешь пророка Магомета и Аллу, — секим башка, т. е. голова долой.
— Татарва ты неверная, змея подколодная, да чтоб я, да православный, да твою поганую веру принял? Да плюю я и на твою веру, и на тебя самого…
И с этими словами Пожарский плюнул ему прямо в лицо и в бороду — высшее оскорбление у мусульман.
Хан взбеленился, крикнул страже, и в один миг голова князя слетела.
После того разъяренный хан велел рубить головы всем пленным. Как на баранов, накинулись на наших ратников татары и не более как в час времени пять тысяч голов слетело.
Оставлен был в виде заложника один лишь Львов, так как хан рассчитывал получить за него богатый выкуп.
Окровавленные татары пошли вперед, но Трубецкой уж отступил. Недели через две и князь Львов не выдержал виденных им кровавых сцен: он с ума сошел и умер.
Князь Львов оставил потомство в боковой линии, но с Пожарским угас этот доблестный род.
XIV Первое возвращение Никона в Москву
Ничего не зная об этих кровавых бойнях, Москва радостна и ликует.
Она убралась вся, как на пир: всюду веселые лица, всюду, несмотря на строгое запрещение светских песней, слышны веселые звуки…
Это возвещено ей, что в Москву везут взятого в плен князем Юрием Долгоруким коронного литовского гетмана Гонсевского.
Гонсевский был один из сильнейших магнатов польских, и имя его гремело у нас как имя не только знатного поляка, но и бравого полководца.
Желая быть избранным в короли Польши, в предшествовавшем году, Алексей Михайлович отправлял к нему Матвеева со специальной целью — просить его содействия ко возведению его, Алексея Михайловича, на престол польский.
Гонсевский принял Матвеева с царскою пышностью, и хотя обещал свое содействие, но привел при этом много причин несбыточности плана и в заключении сказал, что если царь возьмет в невесты царевичу Алексею Алексеевичу племянницу короля польского, то еще есть надежда, что последнего изберут в короли Польши.
Матвеев, однако ж, на это ответил, что племянница короля католичка и, вероятно, не захочет принять православия, а без этого она не может быть и женою наследника престола.
Гонсевский был, таким образом, из приверженцев России; но пленение его и привоз в Москву имели важное политическое значение.
Отец его во время междуцарствия был от имени короля Сигизмунда начальником Москвы, испепелил ее; он же потом защищался в кремлевских стенах долго и упорно против Пожарского и Минина и против их предшественников.
Народные предания сохранили следующее сказание:
Москва целовала крест королевичу польскому Владиславу и добровольно сдалась полякам, послав своих именитых бояр и духовных за новым царем… Но тот не едет, и вот 19 марта, во вторник на страстной неделе, в час обедни раздается вдруг набат в Китае-городе и слышатся стук оружия и выстрелы.
Гонсевский, градоначальник польский, прибыл на место свалки и увидел, что поляки грабят купеческие лавки; силится он остановить беспорядок, но ничего не может сделать: ожесточенная борьба уже на обеих сторонах.
Ляхи вломились в дом князя Андрея Голицына, принявшего сторону народа, и убили его.
Жители Китай-города бросились из домов своих в Белый город и за Москву-реку, но ляхи догоняли их и рубили; у Тверских ворот, однако ж, наши стрельцы успели их остановить.
На Сретенке, услышав о разгромлении Москвы ляхами, князь Дмитрий Пожарский собрал вокруг себя дружину и, сняв с башен пушки, встретил ляхов огнем и мечом и вогнал их вновь в Китай.
Между тем Иван Бутурлин в Яузах и Колтовской за Москвою-рекою также резались с ляхами, окружив себя и дружинами, и народом.
На улицах Тверской, Никитской, Чертольской, на Арбате и Знаменке народ и бояре тоже бились с польскими войсками.
Все сорок сороков московских ударили в набат, все жители, даже старцы и дети, женщины, высыпали на улицу с дрекольями, топорами и рубились с поляками; из окон и с кровель летали на врагов каменья и чурбаны. Улицы загромождались столами, лавками, дровами, домашней утварью, возами. Из-за этих преград встречали врагов выстрелами.
Москвичи брали явный перевес над поляками, как явился из кремля к Гонсевскому в помощь Маржерет…
Битва пошла упорная, но москвичи стали одолевать врага, и он уже отступал в Кремль, как вдруг в вражьей дружине раздалось: огня, огня!..
В Белом городе запылал дом Салтыкова: как друг поляков он собственноручно зажег свой дом.
И во многих других домах показалось пламя.
Многие бросились спасать свои дома, а сильный ветер сразу стал бросать пламя из одного дома в другой; битва стала утихать, и поляки ушли в Кремль, где они заперлись.
Белый город весь запылал; набат гремел без перерыва. С воплем и отчаяньем москвичи гасили огонь, бегали, как безумные, ища своих жен и детей.
Ляхи же в пустых домах Китай-города, среди трупов, отдыхали, и многие, к позору нашему, русские посоветовали Гонсевскому разрушить Москву.
На другой день две тысячи ляхов и немцев выступили из Кремля и зажгли во многих местах города дома, церкви, монастыри и гнали народ из улицы в улицы и оружием, и пламенем.
Ужас обуял всех: деревянные стены горели и рушились, и жители, задыхаясь от жара и дыма, бежали из Москвы во все стороны на конях и пешие, спасая свои семейства.
Несколько сот тысяч людей вдруг рассыпалось по дорогам во все стороны.
Снег еще тогда лежал глубокий, и эти беглецы вязли в его сугробах, цепенели от холода и замерзали. Умирая, эта масса народа глядела потухающими глазами на пламя горящей Москвы и с проклятием ляхам умирала тут же.
В двух только местах русские удержались: в Симоновской обители и между Сретенкой и Мясницкой.
В последнем месте князь Пожарский укрепился и дрался ожесточенно с поляками, не давая им жечь город; ляхи отступали, но Пожарский, тяжело раненный, упал. Сподвижники подняли его и отвезли в Сергиевскую лавру.
Весь тот день поляки жгли Москву и ночью любовались из Кремля пожарищем.
Это сожигание Москвы продолжалось потом два дня.
Москва, простиравшаяся на двадцать верст в поперечном разрезе и имевшая несколько сот тысяч жителей, обратилась в пустыню и в груду развалин.
Развалины курились потом долго…
Для полного торжества своего поляки заграбили всю древнюю утварь наших царей, их короны, жезлы, сосуды, одежду; грабили частные дома; золото, серебро, жемчуг и камни понатаскали грудами; рядились только в бархат и парчу; пили из бочек старое венгерское и мальвазию…
А русские, советовавшие им это безбожие и безобразие, в Кремле в Светлое воскресение молились за царя Владислава…
Памятно и живо было это не только в предании народном, но многие из москвичей, свидетели этих ужасов, были еще живы и рассказывали об этих подвигах Гонсевского, и теперь сын этого Гонсевского, первый вельможа и воевода Польши, едет как пленник в Москву.
Хотя как трофей, но все же с почетом царь велел его ввести в Москву.
Народ несметною толпою двинулся на Смоленскую дорогу, откуда должен был прибыть пленник.
— А что, его жечь будут на Лобном? — спрашивает один из бегущих на Смоленскую дорогу.
— Аль жечь, аль колесовать, аль четвертовать, как царь да бояре соизволят, — отвечал авторитетно вопрошаемый.
— Что ты! что ты! — останавливается третий, — бают стрельцы, из царя-де пушки его выстрелят, — значит, туда на польскую сторону… и полетит, значит, он туда восвояси к ляхам.
— Да что вы тут рты раскрыли, — кричит на них появившийся пристав, — приказ-де воеводы не останавливаться…
— Да мы, почтенный…
— Вот я те почтенный…
— Да уж скажи, почтенный… аль четвертовать будут, аль колесовать, аль из царя-пушки?..
— На Иване вздернут… чтоб Москва и крещеный мир видели…
— Ах-ти страсти какие!
И побежали все трое рассказывать любопытным, что вот-де Гонсевского да на Иване повесят, сам-де пристав сказал.
И гуторит толпа о разных пытках и казнях, какие готовятся сыну сжигателя Москвы; а тут вдруг показывается сначала наше конное войско, потом пешее, — последнее окружает пленников пеших, — а там несут и везут разные трофеи: пушки, знамена, барабаны; а там в коляске сам гетман; с ним сидит ближний боярин царский, а коляска окружена сильным конвоем.
Гонсевский кланяется народу налево и направо.
— Прощения просит за родителя, — кричат многие.
— Его бы на возу… а то, гляди, в колымаге, да еще царской… и кажись с ним… а кто с ним?.. Эй ты, как тебя там?
— Аль боярин Борис Иванович, аль боярин Илья Данилович.
Бежит баба, расталкивает их и мчится вперед.
— Ай, опоздаю… пустите… пустите, православные христиане.
— Куда ты, точно с цепи.
— Ай, опоздаю, родненькие.
— Да куда?
— Да я-то?.. Поглядеть… поглядеть, родненькие, как-де вешать будут бусурмана.
Но диво: подъехала коляска к Красному крыльцу, а там встретили Гонсевского стольники и Матвеев, ввели в его царские комнаты.
Народ недоумевает.
— А вешать-то? А четвертовать? — раздаются голоса.
— Лгал то, вишь, ярыжка, — оправдывается одна чуйка.
— Лгать-то лгал, и мне-то невдомек… Допрежь баяли, на виселицу, а теперь?..
— Теперь…
— Чаго таперь?.. Значит, батюшка царь… Тишайший-то наш и пожаловал: кого хошь, того милует, на то царская воля… И нам Господу Богу помолиться и греха не будет… Хоша басурман, но все ж душа.
— Эк, широко стал… аль у басурмана да душа?
— Души-то нетути… один, значит, пар, — авторитетно произнес гостинодворец.
Между тем во дворце представляли гетмана Гонсевского царю.
Алексей Михайлович встретил его милостиво в приемной. Сожалел о случившемся с ним несчастий, приписывал это случайности войны и обещался ему покровительствовать.
Гонсевский выразил сожаление свое, что еще мир не установлен между Польшею и Русью, и, между прочим, сказал следующее:
— Когда знаменитый наш гетман Жолкевский повез в Варшаву пленного царя Василия Шуйского и присягу Москвы королевичу Владиславу, он на коленях и со слезами умолял короля Сигизмунда отпустить сына и говорил, что счастие обоих народов, польского и русского, в соединении их корон. Так мыслит каждый честный поляк.
— Но, — прервал его царь, — у вас много фанатиков-католиков, и это препятствует этому слиянию… Я вот объявил в завоеванных провинциях, что все религии одинаково будут покровительствоваться. Глядите, у нас татары пользуются не только свободою исполнять свой закон, но всеми правами русских.
— У нас, ваше величество, было то же самое: когда Сигизмунд вступил на престол, в сенате было 72 человека сенаторов, из них два только католика. Теперь почти все католики. Сигизмунд соблазнил шляхту к католицизму тем, что раздавал должности только католикам. Но стоит только соединиться коронам, и святейший папа, вероятно, сделает соглашение в канонах, чтобы слить обе церкви: нашу и вашу.
— Это и я думаю, — заметил царь Алексей Михайлович, — ведь вера у нас одна. Но у вас шляхтичи привыкли избирать королей, а у нас прирожденные права.
— Это действительно так, и сначала должны бы оставить выборное начало, а там остальное со временем пришло бы само собою. Оба народа сблизились бы и слились: наше хорошее перешло бы к вам, ваше — к нам.
— Благодарю тебя, гетман, за твои добрые чувства и намерения, но одно скажу: судьбою царств управляет Божественный промысел, и если соизволение Господа Бога, чтобы оба народа и оба государства слились, то никакие преграды не помешают этому, и если это не свершится при мне, так при моих потомках.
С этими словами царь отпустил благосклонно пленника. Его повезли в Симонов монастырь, собственно, для его безопасности — на тот случай, если бы народ возмутился и потребовал расправиться с ним.
Сильный отряд проводил его до самого монастыря, и там же поставлен значительный караул.
Вскоре пришла весть о победе князя Хованского над поляками при Мядзелах, и пошли празднества и молебны. Царь был радостен: дела в Польше шли хорошо, со шведами было перемирие и шли переговоры о мире; в Малороссии, хотя осада Конотопа шла медленно, но это было с целью — разорвать союз Выговского с крымским ханом да с ним примириться.
Вдруг по Москве разнеслась весть, что князь Трубецкой разбит гетманом и татарами, что большая часть нашего войска уничтожена и отступает на Путивль.
Едва только весть эта пришла, как вся Москва, как один человек, бросилась в Кремль, чтобы узнать там истину.
Жены пришли сюда с детьми, и всеобщий вопль и негодование оглашали воздух, но были такие, которые не дали веры этому слуху.
— Как, — говорили они, — князь Алексей Никитич Трубецкой, муж благоговейный и изящный, в воинстве счастливый и недругам страшный, да чтоб он да погубил войско — поклеп один.
Но вот дверь на Красное крыльцо отворилась, и сам царь со всеми боярами показывается народу.
Все падают ниц, и когда царь сказал им жалованное слово, они подымаются и видят: царь и все бояре в печальной одежде, и царь в слезах.
Он говорит о совершившемся по неисповедимым судьбам несчастий и гибели такого множества людей, вероятно, за грехи наши, призывает всех к покаянию и молитве и к защите престола града.
Царь с боярами пешком идут в Успенский собор служить панихиду по убитым.
Начинается вооружение Москвы: кругом нее устраиваются земляные валы и редуты, копаются рвы, ставятся орудия.
Поговаривают даже, что царь удалится с семьей в Ярославль или еще подальше.
А тут из войска начинают прибывать раненые и преувеличенными рассказами о кровавой расправе татар с князьями Пожарским и Львовым увеличивают смущение и панику.
Вспоминают высшее духовенство и бояре Никона, вспоминают и донос на него, что он хвастал о влиянии своем на гетмана Выговского, а тут сам гетман с крымским ханом едут сюда и, пожалуй, овладеют Никоном, и пойдет смута в церкви.
Послали к нему боярина с вежливым предложением, так как враг наступает и патриарху-де не безопасно в «Новом Иерусалиме», так не угодно ли будет ему удалиться в Колязин Макарьевский монастырь, куда едва ли враг зайдет.
Никон вспылил, поняв, что его попросту отправляют в заточение, боясь его измены; вот почему он с достоинством сказал:
— Возвести благочестивейшему государю, что я в Колязин монастырь не иду, лучше мне быть в Зачатейском монастыре; а есть у меня и без Колязина монастыря, милостию Божиею и его государевою, свои монастыри крепкие — Иверский и Крестный, и я доложил великому государю, что пойду в свои монастыри, а ныне возвести великому государю, что иду в Москву о всяких нуждах своих доложиться ему.
— О каком Зачатейском монастыре говоришь ты, святейший? — спросил посланный.
— Тот, что на Варварском крестце, под горою у Зачатия.
— Ведь там только тюрьма большая, а не монастырь, — возразил посланный.
— Ну вот этот Зачатейский и есть монастырь, — сухо произнес Никон.
Посланный возвратился в Москву с ответом патриарха.
Пошли толки о том, что делать?
Решили лучше иметь его в Москве, чем вне столицы: никто-де ему никогда не запрещал приезжать в Москву, и он по своей воле ее оставил, без царского указа. Но пока так рассуждали бояре, Никон получил ложное известие, что враг под Москвою, и он отправился тотчас в Москву; приехал он туда ночью и остановился в своем Ново-Иерусалимском, или Воскресенском, подворье.
После долгого отсутствия из города ему показался он таким прекрасным. Так сильно забилось сердце его, когда он проезжал знакомые места, и слезы выступили на его глазах.
Жаль ему сделалось покинутого, но когда взор его по дороге встречался с хоромами бояр, его врагов, и когда он вспомнил, что все облагодетельствованные им люди, в особенности в духовенстве, отшатнулись от него ради угождения мамоне, он возмутился и произнес:
— Что же! Не вернуть ли уж царскую милость, чтобы прогнать их и смести их с лица земли?.. Но разве он-то. Тишайший, поступил со мною лучше?.. Бог с ними, прошлого не вернешь.
С такими мыслями Никон прибыл в свое подворье, занял маленькую келию и заснул.
Рано утром во дворце уже знали о приезде Никона, и к нему явился дьяк Алмаз.
— Царское величество послал меня спросить, для чего ты приехал в Москву?
— По словам царского величества, я сюда приехал, спасаясь от нашествия варваров.
С этим ответом Алмаз возвратился к царю.
Узнав о приезде Никона, поднялся на ноги терем, и конотопское несчастие стали приписывать тому, что не было-де благословения войскам патриарха.
Да и царица восстала — хотелось иметь еще одного сына, и ей казалось, что если она получит благословение Никона о чадородии, то Бог, быть может, и поможет ей, так как молитвы отца Павла что-то не помогали.
Сестры царя были тоже опечалены: Анна потому, что ей в действительности понравился жених, а Татьяна — так как желание быть наконец свободною для нее вновь не осуществилось; притом ей казалось, что при свидании Никона с царем воспоследует их примирение.
Стал терем плакать и пилить царя, и он решился принять Никона с подобающею честью.
Тем же более он должен был это сделать, что народ, узнав о приезде патриарха, огромною массою двинулся к Воскресенскому подворью и ждал с нетерпением его появления, чтобы принять его благословение…
К тому же царю при критическом тогда положении хотелось выслушать несколько советов.
Вот почему, получив ответ Никона через Алмаза, государь тотчас послал за патриархом парадную карету и почетную свиту.
Когда Никон вышел, чтобы сесть в экипаж, и стал благословлять народ, тот пал ниц, многие плакали, целовали его руки, платье.
С трудом экипаж и свита двигались в этой массе народа, и на каждой улице все больше и больше прибавлялось его. Таким образом шествие вошло в Кремль, который залит был народом.
На Красном крыльце сам царь с боярами встретили патриарха и подошли под его благословение.
В хоромах Алексей Михайлович ввел святейшего в свою комнату для беседы. Государь рассказал ему вкратце положение дел в Польше, Швеции и Малороссии.
На это Никон ответил, что со шведами следует мириться, но с тем, чтобы прежняя новгородская граница, т. е. Ладожское озеро и Нева, были наши; о Польше Никон сказал, что хотя благоприятное время уничтожить ее упущено, но следует отстоять Белоруссию по Березину; в отношении Малороссии он сказал, что царь напрасно беспокоится: успех-де Выговского временный, что стоит только напустить на крымцев донских казаков, и хан обратится вспять защищать свои улусы. В доказательство справедливости этого привел он факт, что ему странники сказывали, что Юрий Хмельницкий готовится разорить ханские улусы и что тот, вероятно, теперь уйдет от Выговского, а Малороссию заест междоусобица и царь должен докончить там дело. Против мысли же царя уехать из Москвы он восстал, так как Москва настолько крепка и обширна, что нужны слишком большие силы, чтобы ее осадить, а у татар и у гетмана-де Выговского нет осадных орудий.
— Положат они здесь головы, коль придут, — заключил патриарх. — Теперь, — продолжал он, — нужно лишь озаботиться насытить алчущих и жаждущих, они от перепугу сбежались сюда со всех сторон, испугавшись врага. Я уж обратил свое подворье в странноприимный двор и чем могу, насыщаю их.
После этого разговора царь повел патриарха в Золотую палату царицы.
Царица собралась там со всем теремом. Сама она сидела на троне, и вокруг нее царевны, боярыни и боярышни.
Когда вошел Никон, все, начиная от царицы, после прочитанной им молитвы подошли под его благословение.
Царица сказала ему несколько ласковых слов и подвела ему детей, чтобы он благословил их; после того она просила его молиться, чтобы Бог даровал ей еще сына.
— За великого государя и за тебя, царица, я молюсь ежечасно, да продлит он ваши дни в счастии и радостях.
Этим окончился торжественный прием патриарха.
На обратном пути народ также восторженно провожал Никона в его подворье и только удивлялся одному: почему его не повезли в патриаршие палаты.
Казалось, мир и согласие водворились между бывшими друзьями, но это была тишь перед бурею.
С обращением Никоном своего подворья в странноприимный дом, где он сделался простым слугою, встречавшим пришельцев с кротостью и омывая им ноги, открылось для народа его убежище, и он с самого утра осаждался уже посетителями.
Москва заговорила о необходимости возвращения Никона на патриаршество, и в народе толковали, что-де все это боярские ухищрения.
Бояре испугались этого ропота, отчасти же боялись, что и царь не устоит и вернет свою милость Никону; вот они и решились на новую клевету: странноприимный дом они представили государю как вертеп пропаганды против правительства и в доказательство приводили показания каких-то странников, которых патриарх будто бы спросил:
— Что, война с Польшею еще не кончена?
— Нет, — отвечали те.
— Как, — воскликнул тогда будто бы Никон, — еще и теперь производится братское кровопролитие?
И вот на третий день после приезда Никона в Москву явился к нему вновь Алмаз Иванов.
— Царское величество велел тебе ехать в Колязин монастырь, и не сопротивляйся, чтобы не было большого смятения…
— Если не угодно, — обиделся Никон, — царскому величеству пришествие наше, мир и благословение наше, — так мы пойдем в наш Воскресенский монастырь, а в Колязин монастырь я не пойду.
В ту же ночь он выехал обратно в свой «Новый Иерусалим».
Отсюда он стал просить, чтобы ему возвратили хоть одежду его, оставшуюся в патриарших палатах, но ответа не получил.
Положение его в монастыре сделалось невозможным: нужда и голод разогнали большинство монахов, и Никон написал в Москву, прося разрешение переехать в Крестный монастырь.
Он получил это разрешение и к зиме выехал туда.
XV Суд нечестивых
Предсказание Никона сбылось. К зиме получились в Москве добрые вести: Юрий Хмельницкий нападением своим на крымские улусы заставил хана отступить восвояси, оставив только Выговскому пятнадцать тысяч человек, но он при этом выжег и истребил на пути своем несколько городов, местечек и сел. В Малороссии же господствовали междоусобицы, и казаки резались с казаками: правая с левою стороною. Правая, во главе с Беспалым и Юрием Хмельницким, была на стороне царя; а левая с Выговским против него.
Борьба шла ожесточенная и кровавая, и брат на брата восстал; поляки же могли прислать Выговскому только полторы тысячи человек с коронным обозным Андреем Потоцким.
О том, в каком положении была тогда эта прекрасная страна, рисует донесение королю Потоцкого:
«Не извольте, — писал он, — ваша королевская милость, ожидать для себя ничего доброго от здешнего края. Все здешние жители (т. е. западной части Украины) скоро будут московскими, ибо перетянет их Заднепровье, и они того и хотят и только ищут случая, чтобы благовиднее достигнуть желаемого. Одно местечко воюет против другого, сын грабит отца, отец сына. Страшное представляется столпотворение. Благоразумнейшие из старшин казацких молят Бога, чтоб кто-нибудь: или ваша королевская милость, или царь, — взял их в крепкие руки и не допускал грубую чернь до такого своеволия».
Потоцкий говорил правду: едва гетман Выговский, после уничтожения нашей кавалерии, удалился в Чигирин, как полковник его Цецура успел склонить на сторону царя еще четырех полковников.
Потоцкий, видя критическое положение Выговского, пригласил его к себе в лагерь под Белую Церковь.
Казаки бросили тогда Выговского и собрались к Юрию Хмельницкому в количестве более десяти тысяч.
Татары ушли тогда из Чигирина восвояси, бросив Выговского на произвол судьбы.
К 20 сентября Хмельницкий, соединившись с полковниками Чигиринским, Черкасским и Уманьским, направился к Белой Церкви, а Потоцкий и Выговский отступили к Хвостову.
Казаки послали к Потоцкому просьбу, чтобы он уговорил Выговского сложить булаву на раде.
Потоцкий встретил посольство бранью и выгнал от себя.
Тогда казаки пустились на хитрость: они послали двух полковников и брата Выговского к нему, Выговскому, уверить его, что войско останется верным Польше, лишь бы он возвратил булаву и бунчук.
Потоцкий на это согласился, и полковники со значками гетманского достоинства возвратились к Хмельницкому и, когда регалии были внесены в раду, они тотчас вручили их Юрию, с пожеланием счастливого гетманства.
Но еще до этого князь Трубецкой успел пройти в Переяславль, и всюду его встречали со святыми иконами и пушечною пальбою.
Заняв город, он послал к Юрию Хмельницкому грамоту, чтобы тот явился к нему.
Недели две они переписывались, и наконец — под условием, что заложником должен быть Бутурлин, — Юрий Хмельницкий решился переехать в Переяславль.
С гетманом поехали обозный Носач, судья Кравченко, есаул Ковалевский да полковники Одинец, Лизогуб, Петренко, Дорошенко и Серко; кроме того, из каждого полка сотники и казаки.
За городом гетмана встретили две сотни жильцов да три роты рейтаров; по улицам стояли стрельцы и солдаты с оружием, барабанами и знаменами.
На другой день князь принял торжественно малороссов и объявил им, что он собирает у себя раду для выбора гетмана.
17 октября съехались все ратные люди Малороссии и в поле открыто было заседание.
Предупредительный Трубецкой окружил все это место войском под начальством князя Петра Алексеевича Долгорукова: у него имелись сомнительные статьи о воеводствах, которые могли бы вызвать бурю в раде.
Уж как это случилось, неведомо, а все статьи Трубецкого, изменявшие почти весь строй Малороссии, были приняты и затем в книгу записаны, и там расписались гетман и старшины, и за отсутствующих тоже приложился гетман.
По окончании этой оригинальной рады гетман, старшины и казаки отправились в соборную церковь и принесли присягу; отсюда при громе пушек пошли они обедать к боярину, который после государевой чаши велел стрелять из всего наряда: т. е. всем войскам.
26 октября Трубецкой с Феодором Феодоровичем Куракиным и Григорием Григорьевичем Ромодановским, своими сподвижниками, выехали из Переяславля в Москву, везя с собою как трофеи четырех братьев Выговского; из них Данил о, шурин Хмельницкого, по дороге умер, а остальные привезены в Москву и сосланы в Сибирь.
Триумвират этот встречен с большим почетом в Москве и осыпан милостями, и все потому лишь, что все выставили как дело их рук, между тем как здесь действовала рознь, междоусобица, ненависть к полякам и панству.
Самые статьи, которыми тогда восхищались бояре, были преждевременны и вызвали впоследствии потоки крови с обеих сторон.
О безвинной же гибели под Сосновкою десятков тысяч людей, оплакиваемых во всех концах государства, и о потере всей почти нашей конницы, так что целый век после того мы не могли создать подобную, никто и не думал и не вспоминал…
Да и неудивительно: бояре поняли тогда это дело как окончательное завоевание Малороссии, а жажда грабежа и наживы была в них так сильна, что ради этого они забыли сосновское побоище.
Здесь сказалась резко перемена духа времени: в предшествовавшее царствование за сдачу неприятелю никуда не годных орудий знаменитый патриот и герой Шеин потерял голову; а теперь губитель цвета русской молодежи и воинства возвеличен за дело, которое принадлежит более Никону, чем ему.
Между тем, как это совершалось, Никон переехал в Крестовый монастырь и устроился там, если не хорошо, то, по крайней мере, покойно..
Два года тревожной жизни и забот о «Ново-Иерусалимском» монастыре лишили его многих сил. В Крестовой же обители, которую он выстроил, когда еще был в силе и могуществе и которая была материально обеспечена, он не чувствовал нужды. Главнее же всего то, что он здесь не знал расчетов с рабочими и не слышал жалоб иноков на недостаток.
Вел патриарх жизнь уединенную, удалялся от всяких бесед с окружающими его монахами и проводил время или в чтении, или в молитве.
Место это действительно было только для молитвы и уединения. От Москвы оно отстоит на многие сотни верст, так как Крестовый монастырь расположен на острове на Онеге; местность очень живописная, но дикая и суровая, в особенности зимою. Выстроен монастырь Никоном в воспоминание чудесного своего избавления во время бегства его из Соловецкой обители. Монастырь этот собственно назван им Товрас, или Ставрос, по-русски же перевели это на «крест». В обитель он внес крест из трисоставного дерева, во всем подобный животворящему кресту, обложив его серебром и золотом со множеством частей из мощей русских и греческих.
В этой-то тихой обители Никон вел жизнь отшельника, но и это поставили ему в вину: зачем-де так удалился далеко от Москвы?..
Что делалось в монастыре, доносилось в Москву, и там ликовали: значит, усмирили строптивого, и нужно-де нанести ему последний, решительный удар, благо возвратились сюда да еще с большою силою враги Никона: князь Трубецкой да князь Ромодановский.
Подкрепленные ими, Хитрово и Матвеев уговорили царя собрать собор русских святителей — не для суда над патриархом, а собственно решить, что делать без патриарха.
Об этом боярин Зюзин, друг Никона, дал ему тотчас знать в Крестный монастырь, и тот ответил в таком смысле, что испорченность нравов только и вызывает не почитание архиерейства, причем он сравнивал свое удаление с удалением патриарха Иова, причинившим в свое время много зла.
Ясно было, что Никон хотя и не был ни с кем в сношениях, но знал, что на его стороне правда.
В Золотой палате 16 февраля было открыто первое заседание собора.
Сверх митрополита Питирима, блюстителя патриаршего престола, были еще митрополиты: Макарий, пострадавший некогда во Пскове, а теперь новгородский митрополит; Лаврентий казанский; архиерей Иоасаф тверской, впоследствии избранный на место Никона, и множество других архиереев и архимандритов.
Государь объявил, что патриарх Никон оставил кафедру, и поэтому он предложил им постановить, что делать.
Митрополит Макарий отговорился незнанием дела, а Лаврентий заявил, что Никона следует пригласить на собор для дачи объяснений.
На другой день в Крестовой патриаршей палате собрался собор.
В заседании этом докладывал боярин Петр Михайлович Салтыков сказки, снятые со свидетелей. Собор привел к присяге светских, а духовных допрашивал по евангельской заповеди. Вопрос был поставлен: как отказывался Никон от патриаршества — с клятвою или без нее? Митрополит Питирим и Трубецкой подтверждали прежние свои показания, остальные отвергли их, так как они не слышали клятвы.
Собор постановил: как дознано, Никон оставил патриаршеский престол своею волею, и как великий государь укажет?..
Салтыков возвратился от царя с ответом: чтобы составили и доложили собору выписку из соборных правил.
В числе составителей выписок был и отец Павел.
Десять дней спустя доложена была выписка эта собору; и он не пришел ни к какому заключению. Это вызвало посылку стольника Пушкина к Никону.
Пушкин потребовал от него письменного разрешения на избрание нового патриарха, но Никон ответил:
— Патриарха поставить без меня не благословляю… Кому его без меня ставить и митру возложить? Митру дали мне вселенские патриархи, митры митрополиту на патриарха положить невозможно, да и посох с патриархова места кому снять и новому патриарху дать? Я жив, и благодать Св. Духа со мною; оставил я престол, но архиерейства не оставлял. Великому государю известно, что и патриарший сан, и омофор взял я с собою, а то у меня отложено давно, что в Москве на патриаршестве не быть.
Далее он продолжал:
— Если же великий государь позволит мне быть в Москве, то я новоизбранного патриарха поставлю и, приняв от государя милостивое прощение, простясь с архиереями и подав всем благословение, пойду в монастырь. А которые монастыри я строил, тех бы великий государь отбирать у меня не велел да указал бы от соборной церкви давать мне часть, чем мне быть сыту.
Ответ был вполне удовлетворителен: по примеру тому, как это делалось в восточной церкви, он подавал в отставку от кафедры и с титулом патриарха хотел удалиться.
Но боярство восстало, и 20 марта опять собрались во дворец духовные власти и бояре в присутствии царя, и собор определил:
«Когда епископ отречется от епископии без благословной вины, то по прошествии шести месяцев поставить другого епископа». Кроме того, собор определил, что «Никон должен быть чужд архиерейства, и чести, и священства».
Три раза бояре подносили царю это решение, но он не утверждал его и наконец приказал пригласить на собор трех греческих святителей, бывших в Москве, и те дали отзыв: «Никто из предшествовавших патриархов не исполнял так строго чин восточной церкви, как он; если же Никон в своем отречении и погрешил как человек, то в догматах православной веры он был благочестивейший и правый; в апостольских же и отеческих преданиях восточной церкви был большой ревнитель».
— Возвращение же возможно, если только он нужен и царь соизволит, — закончили они.
Но собор этот едва ли мог быть признан действительным в отношении Никона: по обычаю церкви восточной, экзархи и патриархи должны были быть судимы собором, на котором присутствовали бы все митрополиты подчиненной им области и ближайшие экзархи и патриархи. Притом, по каноническим правилам, требовалось единогласие приговора. Но мы видим, что на соборе не были все митрополиты, входившие тогда в московское патриаршество, как, например, не было киевского; притом протест греческих митрополитов был достаточен, чтобы остановить действие приговора. Но Епифанию Славенецкому приказано было составить приговор.
И поручение это, и личное расположение Епифания к Никону вызвали в почтенном этом старце неудовольствие, но нечего было делать: приказание собора он обязан был исполнить.
Вышел он из Успенского собора, где было собрание это, и собирался сесть в свою повозочку, чтобы ехать в Андреевский свой монастырь, как услышал голос Зюзина.
— Отец Епифаний, куда торопишься?.. Чай, сильно устал? Ты бы лучше ко мне пожаловал, хлеба-соли откушал и переночевал бы.
— Благодарствую, боярин, с государевым делом.
— Оно-то так… да ведь вечер на дворе… а ты устамши… Завтра до света уедешь.
Приглашение было радушное и соблазнительное, притом боярин считался из друзей Никона, и хотелось Епифанию, как говорится, отвести душу.
Объявил свое согласие Епифаний, и оба, усевшись на повозку его, тронулись в путь.
— Да ты ж, боярин, откелева? — обратился к нему Епифаний.
— Да вот сновал все вокруг да около Успения… а дьячок мне передавал, что там у вас баяли, — произнес он, понизив голос.
— Чудеса творились, — вздохнул Епифаний. — На собор больше бояр пустили, чем святителей, и как кто заикнется о Никоне, закричат… заплюют… аль застенком грозят… Да и сам-то царь уж очень принижен и рта не может раскрыть.
В такой беседе они доехали до хором Зюзина.
Боярин ввел святителя в свой дом и направился через обширные палаты в уединенную комнату.
— Здесь, — сказал он, — мы повечеряем, отец Епифаний… Потом тебе сделают здесь постель, тебе и будет в этой келии спокойно.
Прислуга тотчас накрыла на стол, ужин подан, и оба поели с аппетитом, причем выпито было тоже немного.
После ужина прислуга тотчас убрала со стола, приготовила гостю постель и ушла.
Хозяин тоже простился с ним и вышел.
Оставшись один, Епифаний стал обдумывать дело Никона и свое положение.
— Ну, — говорит он сам с собою, — решили бы они избрать нового патриарха, на это есть согласие и Никона, но лишить его сана, чести и священства — это жестоко и неправильно… Вот, когда б с Никоном повидаться?.. Так иное дело — он бы все выяснил.
Не успел он это подумать, как кто-то постучался в дверях.
— Гряди во имя Господне, — сказал архимандрит.
Тихо отворяется дверь, и на пороге стоит сам Никон в одежде крестьянской.
— Святейший патриарх!., это ты?., откуда? как?..
— Вчера еще ночью я приехал сюда к другу моему Зюзину… Хотел знать, что митрополиты греческие скажут и что собор нечестивых.
— Митрополиты поставили тебя выше всех наших патриархов… ты, по их словам, столп и утверждение истины и греко-восточной церкви.
— А нечестивые?
— Те представили выписку греческую из 16 правила первого и второго вселенских соборов, в которой сказано: «Безумно убо есть епископства отрещися, держати же священство»… ну и порешили все: лишить тебя архиерейства и священства…
— Договаривай: и чести.
— И чести…
— И ты так решил?
— От правил святых отец не отступаю — ты знаешь, святейший.
— Как не отступаешь?.. Отступил, как еретик, как фарисей, как нечестивец на суде…
— Я ни единой буквы не прибавлю… Вот и выписка из правила…
— И кто сочинил его?
— Иеродиакон грек Мелетий, а толковником был отец Павел, чудовский игумен.
— Обошли они и собор, и тебя, — расхохотался Никон. — Да ведь такого правила нет… да и нашли же кому доверить? Мелетий известен как искусный подделыватель подписей. Второй… тюремной… да оба мои враги… Вот со мною и греческие правила, возьми и читай.
Никон бросил на стол толстую книгу.
Епифаний отыскал требуемое место и удивился: в выписке был явный подлог.
— То-то, — воскликнул старик, — когда они читали выписку, на меня напало сомнение, так как не помнил я такого правила; притом же много ведь было случаев, когда святители отрекались от кафедры… и чтобы за это их лишали архиерейства, священства и чести, я не помнил.
— Притом было ли у вас единогласие? Коли не было, так и решение ваше не решение.
— Единогласия не было, да и решения не будет. Я напишу царю и откажусь… Пущай другой пишет.
— Не делай этого — себя погубишь, а пущай они пишут, что им угодно… Да без меня по правилам соборным и суда не могло быть… Заочно не могли они осудить: а их нечестивый суд и я не признаю, да и митрополит киевский и вселенские патриархи.
— Нет, святейший, ты укорял меня, что я отступник от правил… но отступник я не как фарисей, не как еретик, не как нечестивец, а по старости, — запамятовал, а воры обошли меня, дурака. Теперь ты наставил меня, и я докажу, что я от правил святых, отец, не отступлю и готов за них и истязание, и смерть принять.
Он подошел к столу, просил святейшего сесть и написал письмо к царю:
«Греки на соборе прочитали из своей греческой книги: «Безумно убо есть епископства отрещися, держати же священство»… и сказали, что это 16 правило первого и второго вселенских соборов. Я думал, что это правда, не дерзнул прекословить и дал свое согласие на низвержение Никона, бывшего патриарха; но потом я стал искать и не нашел в правилах этого изречения, вследствие чего беру назад свое согласие на низвержение Никона и каюсь. Ваше царское величество приказали мне составить соборное определение. Я готов это сделать относительно избрания и постановления нового патриарха, потому что это праведно, благополезно и правильно; о низвержении же Никона не дерзаю писать, потому что не нашел такого правила, которое бы низвергало архиерея, оставившего свой престол, но архиерейства не отрекшегося».
Когда Епифаний прочитал вслух это письмо, Никон обнял и поцеловал его.
— Потомство, — сказал он, — не забудет твоего подвига, и занесется он в летописи и в деяния подвижников правды… Но боярство восстанет… оно загрызет, заест тебя.
— Пущай, и так уж Господь Бог скоро призовет меня, а коли я от пытки умру, так помяни меня, святейший патриарх, в своих молитвах.
— По гроб твой богомолец… Еду сейчас обратно в свой Крестный.
— Благослови, владыко! — поклонился ему в ноги Епифаний.
Никон благословил его, обнял, расцеловал и со слезами на глазах вышел.
Архимандрит бросился на колени и горячо благодарил Богородицу, что она не допустила его сделать несправедливости и подлости.
Не раздеваясь, лег он и заснул сном праведника.
На другой день Зюзин отнес письмо его к царю.
Прочитав его, Алексей Михайлович и обрадовался, и рассердился: обрадовался он, что можно приговор собора не подписать; рассердился — за подлог.
Велел он крепко и доподлинно сыскать виновных в подлоге и сочинении правила, но и святители, и бояре затерли дело, и вышло так, что Епифанию все это за старостью, вероятно, померещилось.
Царю, впрочем, было в это время не до собора. Князья Хованский и Долгорукий были в Литве разбиты, и мы были почти изгнаны оттуда; Шереметьев выступил с Юрием Хмельницким в поход в Галицию, но на пути, несмотря на свой героизм, был разбит поляками и татарами и попался последним в плен. Юрий Хмельницкий изменил нам и перешел на сторону врагов.
В Москве снова так было струсили, что царь собрался выехать в Ярославль.
— Уж не от того ли, — приходило нередко в голову Алексею Михайловичу, — нам-де не стало везти, от того, что нет благословения патриарха Никона? После его удаления счастье явно отвернулось от нас.
XVI Отравление Никона
Протест Епифания и отказ царя утвердить приговор собора вверг святителей, или, лучше, суд нечестивых, в страшную ярость. Питирим, мечтавший при осуждении Никона сделаться его заместителем, и отец Павел, видевший и во сне крутицкую митрополию, сильно приупали духом и готовы были на все, лишь бы избавиться от ненавистного им человека.
Но как избавиться? Подняли они и боярство, и терем, вызвали из ссылки всех раскольников, и в том числе Аввакума и Неронова. Но где речь шла о совершении чего-либо против правил св. отец, т. е. против учения Никона, или, другими словами, совершить грех и еретичество, там Алексей Михайлович стоял как каменная гора, и ничто не в силах было сдвинуть его с места.
После же обличения Епифания вера в непогрешимость и знание канонов святителями у него упала и никто не смел даже заикнуться о Никоне.
На помощь к ним явился грек.
Следует вспомнить, что в совещании с Хитрово, Стрешневым и Алмазом отец Павел советовал им послать Паисию Лигариду, мифическому отставному греческому митрополиту, денег для приезда его в Москву.
И вот в одно прекрасное утро, когда отец Павел в Чудовом монастыре в своей келии грыз ногти с досады, что митрополичья митра у него исчезает, доложил ему послушка, что из Киева приехал в простой повозке какой-то монах и именует себя митрополитом газским.
— А сам-то на митрополита схож, как колесо на уксус, — заметил послушка. — Совсем-то молодой… с маленькою черною бородкою и черными глазами… а хоша по-нашему баит, но не то жид, а скорее — грек.
— Паисий!.. Эврика! — воскликнул отец Павел и побежал навстречу приехавшему…
Это в действительности был Паисий, мифический митрополит газский, а потому после сильных лобзаний он просил именовать его просто: митрополитом Иерусалимского Предтечева монастыря, откуда он и предъявил ставленную грамоту, вероятно, купленную на русские деньги.
И отец Павел, и он оба были молоды, красивы, представительны и искатели приключений, поэтому в несколько часов сошлись так, как бы от рождения были знакомы. Сблизившись с отцом Павлом, Паисий узнал от него не только положение дел с Никоном, но и всю подноготную, надежды Питирима и его.
— Дай мне пожить здесь, так мы все устроим с тобою, — заметил он. — Необходимо, чтобы ты сблизил меня с Питиримом и с боярами, а там я дойду и до царя. Только нужно взяться сегодня же за изучение русского языка. Я давно изучаю его, но нужно наметаться еще немного.
С этого же дня Паисий взялся усердно за изучение языка и болтал на нем весь день, вслушиваясь в русский говор и читая разные книги.
Между тем отец Павел вывозил его туда и сюда, и по высшему духовенству, и к боярам, и пошел о нем говор на всю Москву.
Как к ученому стали к нему обращаться все религиозные партии — они только и существовали тогда в русском обществе. И мужчины, и женщины, бояре, и среднее, и низшее сословие только и толковали о религии и о том, как удобнее спастись и чему отречь для этого спасения. Насчет поста, молитвы и почитания икон все сходились одинаково, но были еще другие предметы, где прямо расходились между собою и столбы раскола.
Приезд Паисия воодушевил всех, и нужно полагать, что он подкуплен был раскольниками, чтобы действовать против Никона; раскольничьи же коноводы, т. е. все раскольничьи попы, были освобождены из заточения и возвратились в Москву тотчас после выезда Никона.
Словом, вместе с прибытием своим в Москву, Паисий стал составлять связи для того, чтобы нанести ему решительный удар.
Но первая его попытка была восточная: отделаться от врага зельем.
В видах этих, он с Питиримом и отцом Павлом вел переговоры, и следствием этих совещаний было то, что отправили в Крестовый монастырь иеродьякона чернеца Феодосия.
Отдаленность обители от Москвы, уединенность и затворничество Никона много способствовали этому плану, так как в случае внезапной его кончины все было бы, как говорится, и шито, и крыто.
Вот почему, с месяц спустя после того, как Никон повидался в Москве с Епифанием, ему доложили, что некто иеродиакон Феодосий желает с ним видеться.
Никон принял его.
Распростершись на полу, тот просил у Никона защиты от обид, понесенных им от митрополита Питирима и архимандрита Павла, и порассказал об них такие страсти, что Никон сжалился над ним и велел ему остаться в монастыре. Но чтобы не обременить братию его содержанием, Никон велел ему поселиться в его келиях, с его служителями.
Штат его не был здесь сложный: крещеный поляк Николай Ольшевский, саввинский сотник Осип, Михайло, кузнец Козьма Иванов и портной Тимошка Гаврилов. Михайло был у него на посылках, Ольшевский камердинерничал, Иванов необходим был ему для нескольких экипажей, а портной обшивал его, так как мы видели, что платье его все заарестовано было в Москве.
Кузнец был глуп и далее кузнечного дела не шел. У него, казалось, вся человеческая сметка ушла в кузнечное дело и в его жилистые руки. Это был высокий парень, рябоватый, вечно неумытый и нечесанный, с разводами сажи на лице. Но он чрезвычайно гордо держал себя со всеми как патриарший кузнец, без которого святейший не отправлялся ни в какую дорогу.
Тимошка Гаврилов, худой, бледный, слабосильный и малорослый, был хороший портной, но имел кое-какие слабости, и все, глядя на его худобу, издевались над ним.
Ольшевский, среднего роста, но плечистый и крепкий поляк, с серыми глазками и большими рыжими усами, был человек, приверженный к Никону, готовый отдать за него душу. Любил он употреблять «альбо», «джелебы» и «надея на Бога» кстати и некстати.
Михайло был рослый хохол, жилистый и плечистый.
Все они занимали одну обширную келию близ кухни и размещались на нарах.
К ним-то послушник привел Феодосия от имени патриарха и велел его устроить.
— Альбо то можно! — воскликнул поляк. — Куда же мы его денем?.. Джелебы то было бы в Новом Иерусалиме, иное дело.
— Да уж девайте, куда хотите, — заметил скромно иеродиакон, — а без благодарности, знаете… Как вас чествовать?
— Николай Ольшевский… Я-то ничего… вот, надея на Бога, как мы в «Новый Иерусалим»… а здесь одно паскудство… Джелебы то можно бы…
— А робыть що будешь? — осклабил зубы Михайло.
— Я? Службу править буду… на клиросе петь.
— И без тебя здесь народу много, а ты вот в кухню бы да к меху.
— И то можно… но я больше по портняжному…
— Куда тебе, — крикнул портной, — не твоего ума дело.
— Альбо то можно, — заступился Ольшевский. — Пришел гость, а тут и ссора. Надея на Бога, и ему станет хлеба… а хлеб не наш — патриарший. А он-то, святейший, кого хочет, того и жалует. Джелебы он послушал, так нам бы на орехи пожаловал… А вот, как тебя?
— Иеродиакон Феодосий.
— Иеро… иеро… Уж позволь чествовать тебя диаконом… Да вот… да что, бишь, я хотел сказать? Ну, в другой раз; теперь, диакон, коли есть хочешь, то иди на куфню, там и накормят, а здесь, коли хочешь спать, так дрыхай хошь три дня и три ночи сряду… Джелебы… да надея на Бога, мы в «Новый Иерусалим»…
Поселился, таким образом, Феодосий с служителями патриарха и вскоре подружил с ними. Рассказывал он им в длинные вечера были и небылицы: были тут и сказки и былины, и овладел он всею этою честною компаниею, так что, как уснет патриарх и монастырь, они прикасаются к чарочке. Тогда они запрут свою келию, и так как стены и двери толстые, да от патриарха и от келий монастырских далеко, то они иной раз и затянут:
«Чарочки по столику похаживали»…аль:
«На реке на Яузе кабачок стоял»…И заливаются они, точно соловьи, и пуще всех Феодосий-чернец, да иной раз в присядку, а там, гляди, кузнец Козьма и Михайло по-казачьему, а Ольшевский только покручивает усы да ходим козырем, аль стучит нога об ногу и притоптывает в такт… Как не сдружиться при такой жизни?
Вот и стал иной раз Михайло жаловаться Феодосию, что сердце у него заедается за его Украиною, да ехать туда нельзя: он панский и боится виселицы за побег; а там дома и молодицы и детки малые. И льет при этом рассказе хохол горькие слезы.
Слушая это, Ольшевский только покручивает усы и хочется ему тоже молвить о далекой своей стороне, да что-то не клеится, — начнет и слышно только:
— Джелебы… альбо то можно… надея на Бога…
А там покрутит усы, махнет рукою и расплачется.
Только Тимошка-портной сидит, как филин, глядит в землю, и мысли его не то далеки, не то близки… молодка-вдовушка… а у молодки той очи быстрые, и брови-то соболиные — точно колесом прошло; щеки — точно белый снег, покрытый алою кровью… и у вдовушки избенка знатная — вся в сруб, а ставни и ворота створчатые… и ходит вдовушка по воскресным дням в Крестный честному кресту поклоняться, да святым мощам помолиться. А сердце добра молодца ключом кипит, а вдовушка не токмо не возглянет на него, но и покосится, точно на чудище…
— Уж приворожи ты ее, аль волшебством, аль ведовством, — говорит он однажды Феодосию, — а тот похвалялся всяким зелемьем…
— Приворожить-то приворожу, — отвечал Феодосий… Да видишь, нужно бы и пенязь всяких… Молодицу-то приворожишь, да надоть ей и того, и иного.
— Где же взять-то? — вздохнул портной.
— Взять-то есть где, — у святейшего пенязей и куры не склюют… Вот ты его приворожи к себе… а там, коли будут пенязи, так приворожим и молодку…
— А как же то делать?
— Вот ты возьми пригоршню муки пшеничной, да прижарь на сковородке на огне, скатай с водою в ком, да волос туда положи, да потом с лица оботри комком пот, а там, коли будут печь для патриарха хлеб, ты в хлеб по махонькому по кусочку всунь… аль пять, аль десять крохотных комочков… Как проглотил хоша и один — так и проворожится… даст он тебе и пенязь и всякого добра.
Обрадовался Тимошка-портной и готов сейчас это сделать, а Феодосий баит:
— Нет, шалишь; ты постись три дня, да Богу молись, да по десять поклонов и утром, и вечером ударь, да как ложишься спать, на правом боку засни, а на утро правою ногою вставай, да коли попа встретишь, берегись… Ну, и потом ты мне скажи… да чтоб не было ни утра, ни вечера, да ни середы, ни пятницы, не праздник… да чтоб луна на ущербе не была.
Затвердил это Тимошка и в точности исполнил, а там подъехал к Феодосию…
— Ну, что ж, — спросил он.
— А вот тебе и мука, — вынул Феодосий пригоршню муки в бумажке и подал ему. — Но ты гляди, — прибавил он, — коли на сковородку положишь, так бай триады: калисперо, калисперо, калисперо.
Пошел с мукою Тимошка и твердит про себя: калисперо.
Был он хорош с поваром, которому часто чинил белье и платье, и тот дал ему сковородку.
— А для ча? — спросил тот, пожавши плечами, означавшее: «после меня разве кто смеет что-либо готовить».
— Снадобье от живота Феодосий дал.
— Э! — махнул тот рукою, — не по нашей части в таком разе. — Ладно, — молвил повар, и сам прижарил муку, как назвал снадобье портной.
Сделал все по сказанному портной, и шарики наделал махонькие, и, все это уложив в бумажку, ушел к себе и запрятал под нары.
На другой день он повару сказал, что он съел все шарики и что ему полегчало.
Несколько дней спустя зашел Тимошка в пекарню поглазеть, как хлеб пекарь готовит, да спросил:
— Какой хлеб будет-де для святейшего?
— А вот! — указал тот на только что приготовленное тесто.
Сунул ему несколько денег в руки Тимошка и просил его сбегать к сторожу монастырскому за питьем, чтобы так, по-приятельски, чарку-другую… Обрадовался пекарь и побежал.
А Тимошка взял тесто патриаршее, да в середину понапихал маленькие шарики чуть видные, точно головка большая от булавки, и когда возвратился пекарь, сидит он, точно святой.
Выпили они по чарке, да по другой, а там Тимошка поглядел, как в печку тот патриарший хлеб посадил и как потом он его вынул уже готовым, и поставил на стол, чтобы простыл. Стали они балагурить и о том, и о сем, а там пришли из кухни, взяли хлеб и сказали:
— Будет-де за трапезою сегодня с патриархом и игумен, и казначей, и ризничий, и наместник…
Обрадовался Тимошка и подумал:
— Вот уж приворожу кого ни на есть, и будет мне благо.
Поднялся он радостно и отправился обедать в кухню.
Пообедав, он лег немного поспать, как влетают в их келию повар и Михайло. Повар ревет:
— Как! Да чтоб я, да испортил патриарха… Да в петлю готов… что ты, что ты…
— А кто ж?.. Джелебы я кухтовал… а то кто же? А там матриарх, игумен, казначей, ризничий и наместник лежат, задрамши ноги, за животики держатся, орут: ратуйте, батюшки светы… Значит зелье какое ни на есть… аль приворот…
— Приворот! Богородица святая, да уж не я ли? — воскликнул Тимошка.
— Как, ты? — крикнули оба.
Плача и чуть-чуть не вырывая волосы из головы своей, Тимошка-портной рассказал им о приворотном зелье, которое дал ему чернец Феодосий, и как он сунул шарики в хлеб.
— Беги же, — крикнул ему повар, — к патриарху, а ты, Михайло, отыщи чернеца… Он, кажись, в кузне… с кузнецом… тот взял его к меху…
Вошли повар и портной Тимошка в келию патриарха.
Это была довольно большая комната в несколько окон; на полу разостлан был большой татарский ковер, вокруг стен татарские диваны, и в углу виднелись дорогие образа с лампадкою. Стол не был еще убран. Начальство обители лежало в больших муках на диванах, а патриарх бегал по комнате и сильно стонал.
— Батюшка, святейший патриарх… без вины виноват… Дал мне чернец Феодосий приворотное зелье… да наделал я катушки, да в хлеб тебе… Хотел милости твоей заслужить…
— Какое зелье… говори скорей, — закричал патриарх.
— И сам-то не знаю… точно крупа мелкая… а он говорил: мука-де…
— Крупа?.. Да это не мышьяк ли?.. Хорошо, что сказал, — произнес с лихорадочным жаром патриарх. — Повар! скорей кипятку… кипятку… да в два чайника… да несколько постаканчиков… А ты, Тимошка, пойди в свою келию и жди приказа.
Тимошка ушел в свою келию, и повар, спустя несколько минут, возвратился к патриарху с кипятком и со стаканами.
Патриарх достал из ларца две пачки и из каждой из них высыпал в чайник горсть порошка и помешал там ложечкою. Спустя некоторое время он разлил приготовленное и обратился к страдающим монахам:
— Пейте вот это — это безуй-камень… Да чтоб вы не боялись, так глядите, и я пью… А там мы из другого чайника выпьем индроговый песок.
Монахи едва волочили ноги, приблизились к столу и начали пить настой; после того патриарх налил им по стакану настоя индрогового песка. Монахи, выпив того и другого, почувствовали как будто лучше, и патриарх велел принести еще горячей воды.
Между тем как патриарх спасал и себя и монастырское начальство от смерти, поляк Ольшевский отправился в кузню, находившуюся на берегу Онеги.
Он застал там чернеца Феодосия и Михайлу.
— Альбо то можно, — начал дипломатически Ольшевский. — Святейшего да зельем, да приворотным…
— Що це таке, — выпучил глаза Михайло, ничего не понимая.
— Що?.. да вот что… Эвтот, значит, чернюк дал Тимошке-портному приворотное зелье, и тот всунул его в хлеб… Ну и у святейшего животики, ой! ой! ой!
Едва он это произнес, как чернец шмыгнул из кузни.
Поляк и Михайло бросились за ним; последний захватил из кузни молот.
— Лайдак! Кеп! — кричал ему вслед поляк, а тот мчался прямо к реке.
Прибежав к Онеге, Феодосий бросился в реку, чтобы переплыть на другую сторону.
— Альбо то можно… а я и плавать не умею…
— Я за вас, пан Ольшевский… а вы вон в ту лодку… вон стоит…
Ольшевский побежал к лодке, а Михайло кинул на берег молот, имевшийся у него в руках, и бросился в воду. Отплыв несколько саженей, ему сделалось жаль молота. «Еще украдут!» — подумал он, и возвратился на берег, взял увесистый молот и, бросившись в воду, поплыл оригинальным образом; он как будто по грудь ходил, подняв высоко молот над головою, и, помахивая им, выкрикивал:
— А ну! а ну же... ну!..
Феодосий, слыша такие восклицания за собою, сильно заторопился.
— Ай, дожену! — кричал ему хохол.
Так проплыли они более половины ширины реки; но вот Феодосий, вероятно, от того, что сильно торопился, чувствует, что слабеет.
Медленнее он начинает двигаться, и течение начинает его сносить.
— Ага! утонешь… держись за воду! — раздается за ним хохот хохла.
— Да не бись… серденько… ере… ере… как вас там… Феодосий… Не втопитесь — не дамо… еще нам треба знати, звиткиль узявся ты, да кто навчив… робить нам пакость, — кричал ему вслед Михайло.
— Батюшка… ратуй… тону, — завопил Феодосий.
— Не втонешь…
И вот могучая левая рука хохла схватывает его за руку, а правая все же не выпускает молота.
— Теперь кажи… звиткиль взявся?.. Кто навчив? Кажи, не то молотом по лбу.
— Никто.
— Никто… гляди, — и Михайло погрузил его в воду.
— Скажу, скажу, дяденька…
— Кажи.
— Митрополит Питирим…
— Як? як? В пятерых?
— Питирим… Питирим…
— Чую… Еще кто?
— Больше никто.
Кузнец снова погружает его в воду.
— Ай! дяденька, скажу…
— Кажи.
— Архимандрит чудовский Павел.
— Добре.
Переплывают они на другой берег, — в это время показывается лодка с Ольшевским.
— Добже… дзинькую пана, — кричит он и, причалив лодку, выскакивает на берег.
Кузнец рассказывает, что Феодосий сказал, что дал ему зелье митрополит в «пятерых» и архимандрит Павел.
— Врет он, — отрицает Феодосий свое прежнее признание.
— А коли ты кажешь, шо то брехня, що я казав, так поплывем зновь…
Михайло схватывает его в охапку, бросает в реку и сам кидается туда.
— Ай, утопит, — вопит Феодосий.
— Покайся! — кричит ему поляк. — Надея на Бога, правды доищемся… Втопи его, Михайло.
Михайло погружает того на несколько минут в воду.
— Михайло правду говорил, — ревет Феодосий.
— Коли правду, так подашь ты сказку патриарху? — спрашивает поляк.
— Подам.
— Коли подашь, так поедем домой… Только гляди, коли вновь отречешься и не напишешь сказки, мы спустим тебя в реку, — крикнул ему поляк.
Они уселись втроем в лодку и переплыли в монастырь.
В келии Феодосий написал сказку о том, что он уговорил Тимошку-портного дать приворотное зелье патриарху, и все это по приказанию митрополита Питирима и архимандрита Павла. Сказку он скрепил своею подписью.
Патриарху между тем сделалось легче, и Ольшевский доложил ему о раскрытии ими истины.
Никон велел игумену арестовать и Тимошку, и чернеца и на другой же день отправить в Каргополь.
Спустя некоторое время, оправившись, напуганный этим событием, он 28 июня написал в Москву боярину Зюзину:
— Едва жив в болезнях своих: крутицкий митрополит и чудовский архимандрит прислали диакона Феодосия со многим чаровством меня отравить, и он было отравил, егда Господь помиловал, безуем-камнем и индроговым песком отпился; да иных со мною четверех старцев испортил, тем же, чем и я, отпились, и ныне вельми животом скорбен.
Неизвестно, по чьему докладу, но по отписке патриарха, осведомись об этом, государь велел произвести следствие и суд.
Что государь близко принял это к сердцу, доказывается тем, что 5 сентября назначены для следствия: первый тогдашний боярин князь Алексей Никитич Трубецкой, думный дворянин Елизаров и думный дьяк Алмаз Иванов.
Алексею Михайловичу казалось, что он отдал дело в руки первых столпов истины и правосудия и что поблажки никому не будет.
Но боярство нарочно отрекомендовало этот суд: все эти лица были кровные враги Никона и они хотели оскандалить его во чтобы то ни стало, показав его злобу и ненависть к царским любимцам: блюстителю патриаршего престола Питириму и к архимандриту Павлу.
И вот началась следующая трагикомедия: привезены Тимошка-портной и чернец Феодосий в приказ тайных дел, и дьяк Алмаз, в присутствии Трубецкого и Елизарова, снял с них показания. Чернец при этом отрекся от говоренного в Крестном монастыре о митрополите и архимандрите, а Тимошка-портной показал, что он, по наущению Феодосия, состав делал, жег муку пшеничную, волосы из головы вырывал и в поту валял, — велел ему этот состав делать диакон для приворота к себе мужеска пола и женска.
Дали обоим очную ставку: чернец снова отрекся, а портной сказал, что тот-де и повинную челобитную подал патриарху.
На это чернец возразил:
— Повинную писал по научению и по неволе, за пристрастием поляка Николая Ольшевского, который бил меня плетьми девять раз.
По тогдашнему судопроизводству следовало обоих подвергнуть пытке; но перед пыткою снималось показание.
По порядку это совершалось не тотчас, а на другой день.
Вечером пристав зашел к заключенным, содержавшимся в разных застенках.
Феодосия он убеждал в том, что если он будет держаться отрицания, то ему не будет пытки, хотя и поведут его в пыточный застенок. Портному же он сказал: «Уж ты лучше свали на кузнеца, да на поляка — они-де подговорили тебя. А будешь стоять на том, что Феодосий виноват, то тебе и пытка, и казнь. Гляди, коли до пытки снимешь с Феодосия зазор, то и пытка будет такая, как бы и не пытка»…
На другой день князь Трубецкой снова потребовал в присутствие подсудимых.
Феодосий стоял на прежнем: не я-де научил портного.
Портной же снял с Феодосия поклеп и повинился, что приворотное зелье дали ему кузнец и поляк.
По порядку суда, Трубецкой, Алмаз и Елизаров должны были присутствовать при пытке, а тут послали их в пыточный застенок с приставом.
Пристав вводил их туда и выводил; была ли пытка или нет — неизвестно.
Но подсудимые, выйдя оттуда, вновь показали в присутствии, что и прежде, и подписали сказку, в которой говорилось, что при пытке присутствовал князь Трубецкой, Елизаров и Алмаз.
После того, по обычаю, следовало привлечь к ответу кузнеца, и поляка, и хохла, но этого не сделано; да кроме того, по законам, по окончании дела, следовало Никона выдать головою митрополиту и архимандриту, т. е. он должен был заплатить им за бесчестие, а тут зачли дело оконченным и предали его забвению…
Дело вышло очень темным и для современников, и для потомства. Мы вправе сказать, что истина была на стороне патриарха, а Питирима и Павла рисует это не в блестящем свете: как враги Никона они не разбирали средств, чтобы от него отделаться. Они же были впоследствии и свидетели на суде, и сами судьями.
XVII Дело боярина Романа Боборыкина
В Московских хоромах боярина Романа Боборыкина идет пир.
На пиру этом множество бояр и высшего духовенства, даже Аввакум и Неронов, но их не тешат ни домрачеи, ни бахари, ни скоморохи, ни гусельники, как это было во времена царя Михаила, и калики перехожие поют духовные песни.
Сами лица боярские более постные, чем праздничные, а беседа идет шепотом между отдельными группами, и у всех шел разговор богословский или же о Никоне.
Толки идут самые разнообразные: и отзываются голоса умеренные, слышатся суждения резкие, раскольничьи, говорится даже о Никоне как о деятеле политическом, и он осуждается как гонитель боярства. Между умеренными слышны возгласы:
— Все едино, как ни молись, была бы у тебя в сердце молитва; а другой и по-старому молитву слушает, да на две души кушает, — по-старому спасается, а кусается… А Никона все же насмарку — уж больно зазнался.
Аввакум и Неронов пели иное:
— Времена антихриста настали. Было Никона имя поповское, Никита, а это из греческого Никитиос и соответствует слову «победитель», одному из названий нечистой силы. Уничтожил он древлее благочестие и баню пакибытия[43].
Бояре же толковали меж собою.
— А он и великим государем именуется и местничество на деле уничтожил, ни во что не ставил родовую доблесть и честь…
Ну, и шалишь, мы-де сами с усами.
Словом, все партии были заодно, что нужно ссадить Никона.
Но как отделаться от него?
Постановление собора русских святителей царь не утвердил, а на вселенский собор не соглашался.
Собрались поэтому кровные враги Никона в комнату или кабинет Боборыкина: и для совещания, и для келейной выпивки.
Тогда духовные и светские были более сближены одинаковостью интересов и обычаев, чем теперь: они были, поэтому, откровеннее друг с другом и не стеснялись меж собою.
Раз гости приглашены в комнату или в кабинет хозяина, были они уж, как говорится, нараспашку.
В кабинете сидели: сам хозяин, митрополит Питирим, толстый, с брюшком и заплывшими от жира глазами; архимандрит Павел, — как уже я говорил в одном месте, — красивый, чернобровый, с белыми ручками господин, немного женоподобный; Родион Стрешнев, Алмаз Иванов и Хитрово.
Все они полулежали на топчанах, и перед ними, на столе, стояли наполненные мальвазиею золотые подстаканчики.
От Алмаза Иванова они узнали уже исход извета Никона об его отравлении, и вот они собрались потолковать, что делать дальше.
— Да что и поделать, — молвил дьяк Алмаз, — ведь пятнышка на нем, хитреце, нетути… Управлял он государевым делом шесть лет и всею казною заправлял… перебрали, пересмотрели все дела во всех приказах и судах — чист, как божья роса… светел, как алмаз…
— Я, — прервал его митрополит Питирим, — отписал всюду, во все монастыри и протопопам: нет ли на Никона челобитчиков, аль не брал ли посул?., и ниоткуда ничего, — только бьют челом, что он не так скоро их посвящал… Да и то в те поры было ему не до них.
— Да что же делать? — с отчаяньем спросил архимандрит.
— А вот что я надумал, — молвил Алмаз, — нужно сделать так, чтобы его бесить… выводить из терпения… и он учнет продерзости делать и царским послам, аль, быть можем, и царю, и тогда… тогда мы напустим на него митрополита газского Паисия… Тем же часом нужно Паисия сблизить с царем. Это, Хитрово, уж твое дело… твоя тетушка Анна Петровна пущай митрополита к себе в терем впустит, а там и с царицею познакомит.
— Вот я так попрошу дядюшку Семена Лукича Стрешнева; пущай, как царский дядя, возьмет Паисия под свою высокую руку и доложит батюшке-царю.
— Я же, — вставил Боборыкин, — берусь начать дело. Должен я вам поведать, что вотчина моя на границе Нового Иерусалима и на границе вотчины бывшего коломенского архиерейского дома. Архиерейская вотчина была тоже наша, да отец мой по завещанию отписал ее коломенскому епископу… Вот затеял патриарх строить на моей земле «Новый Иерусалим» и купил у меня землишку, а как упразднил он коломенскую епископию, так получил от царя грамоту, что к обители отходят все вотчины той епископии… Так и отошла к нему и отца моего вотчина.
— И прекрасно, — крикнул Алмаз. — Теперь ты и бей челом царю: отписать-де вновь вотчину к себе.
— Я и того не сделал, — прервал его Стрешнев, — пожаловал я вотчину на «Новый Иерусалим», а потом ничего не дал, жалованной грамоты не дал, и делу конец. Так и тебе, боярин, мой совет: запиши ты свою землю и скажи «моя», и делу конец.
— Пожалуй, — заметил Алмаз, — так и лучше будет; он разгневается, а коли царь твою, боярин, руку возьмет, то он осерчает и пойдет писать.
— Ладно, ладно… — велю запахать землицу и засеять хлебом, — обрадовался Боборыкин: — Только глядите, чтоб царь не осерчал…
— Мы все за тебя…
— Отстоим, — раздались голоса.
— Одного только попрошу у вас, — сказал Боборыкин, — залучите к себе всех раскольничьих протопопов и попов, особливо Аввакума и Неронова… Они много нам помогут…
— Я берусь переговорить с царем, — сказал Питирим. — Аввакум духовником у родственников царицы: Федосии Морозовой и Евдокии Урусовой; а Неронова и царь жалует, с ними Морозов поладит.
— Ладно, ладно, — закричали все, — мир с раскольниками… Они нам помогут низложить Никона, для них он антихрист, латынянин, лютерянин, кальвинист — что хотите…
После того пошли здравицы, и позднею ночью всех развели по домам, с перенесением на ложе сна.
На другой день Боборыкин послал своего дворецкого нарочито распорядиться о засеве монастырской земли; Хитрово же на другой день рано утром заехал в Чудов монастырь, взял оттуда митрополита газского и свез его к тетушке Анне Петровне, где он оставил его вести с нею душеспасительные беседы.
Митрополит был красивый, женоподобный, черноглазый и чернобородый грек, составивший себе карьеру своей красотой, но теперь он был уже желчный, лукавый и нервный человек.
Говорил он витиевато, льстиво и вкрадчиво. Анну Петровну он в один сеанс привлек на свою сторону: он наговорил ей столько любезностей, столько льстивого, что вдовушка растаяла…
Неудивительно, что вскоре она познакомила его и с царицею Марьею Ильиничною, которая часто ее посещала: а там он добрался и до царя.
Охотно Питирим, при церковной службе и обряде, стал уступать ему первенство, будто бы как представителю двух патриархов: константинопольского и иерусалимского, и делалось это для того, чтобы царь обратил на него серьезное внимание.
Молитвами его царица вскоре зачала и в следующем году родила желанного сына Федора.
Бояре в это время и в приказах, и на воеводствах, и в боярской думе овладели решительно всеми не только светскими, но и духовными, и церковными делами.
Была совершенная анархия, и нельзя было даже в точности определить, чья партия господствовала и какой приказ старший. И в это-то время установилось понятие: чем честнее (в смысле чествовать) боярин, тем более прав имеет и его приказ.
Так было и на воеводствах.
Между тем как такие дела совершались в Москве, Никон прибыл из Крестного в «Новый Иерусалим».
Здесь он застал в большой горести крестьян, приписанных к этому монастырю: все поля их засеял боярин Боборыкин своим хлебом и им грозил в тот год голод.
Никон возмутился этим поступком и написал государю жалобу, в которой просил, чтобы разобрали дело по документам.
На это не последовало ответа. Тогда Никон послал царю другую жалобу, в которой объяснил, что не могут же крестьяне его монастыря остаться зимою без средств к существованию, а потому он просит ускорить решением дела, иначе он должен принять против Боборыкина иные меры.
Ответа не воспоследовало. Приближалась, однако ж, жатва, и Боборыкин мог бы снять хлеб, а потому монастырские крестьяне, не дождавшись указа из Москвы, вышли в поле, сжали и свезли в монастырь весь хлеб.
Боборыкин подал царю жалобу. Тогда немедленно же получен указ: всех крестьян выслать в Москву.
В день получения этого указа, после обеда, явился к патриарху Ольшевский и объявил, что нищенка-странница желает его видеть и принять от него благословение.
Никон, принимавший всех безразлично, велел ее впустить в свою келию.
Нищенка, подойдя к его благословению, остановилась и глядела на него пристально и молча.
— Инокиня Наталья! — воскликнул Никон, бросившись обнимать ее.
— А я думала, что ты, Ника, забыл меня.
— Не забыл я тебя, а горя было столько… столько забот, что я и себя не помнил. Да и от тебя вестей не было…
— Жила я у Богдана Хмельницкого… его похоронили… нельзя было покинуть семью его: скорбную жену Анну… а там Нечая схватили наши, и жена его, т. е. Катерина, дочь Богдана, тоже осиротела… Да и Даниил Выговский тоже умер по дороге в Москву, и старшая дочь Богдана, жена его, тоже сиротствует… Было много мне горя… Потом в Украине резня… плачь и горе всюду. Нет Богдана, чтобы мстить ляхам за убиение его старшего сына, о котором он плакал до могилы и которому он клялся быть вечным врагом ляхам. Нет его батога и для своих…
— Бедная, несчастная страна, и все оттого, что нет там хозяина.
— Умирая, Богдан все кричал: дайте мне Никона… Да, кабы ты приехал туда, иное дело… Да и Юрий Хмельницкий, коли ты не приедешь туда, отречется от гетманства и пойдет в монастырь.
— Да как же туда приехать? Царь не пущал при Богдане, а теперь подавно.
— Беги.
— Бежать, да как?
— Я средства дам… Приедут сюда из Украины семь казаков с охранными листами, поступить в монастырь; ты с теми же листами да и на их лошадях и уезжай. Они приедут из Конотопа, а ты поезжай на Нежин и Киев.
— Но как бежать?.. Царь озлится, изменником станет обзывать.
— Уходи, Ника, от зла. Осудил тебя их собор православный к лишению архиерейства, священства и чести… Гляди, пойдут они еще дальше: соберут раскольничий собор, и сожгут тебя… аль на веки заточат… А Малороссия, гляди, гибнет без тебя, а там погибнет и Русь… Коли тебе не жаль себя, пожалей народ… пожалей о том, что ты сделал… Отвернулся ты от государева дела и гляди: под Конотопом конница наша вся погибла, в Литве все войско наше истреблено. Шереметьев в Польше у татар, Юрий Хмельницкий поддался ляхам.
— Нельзя… как бежать?.. А Новый мой Иерусалим кто кончит?.. Что станет со всею братиею?.. Да и бояре, и раскольники обрадуются… Бояре и теперь говорили, как я в Крестовом жил: «Вот, дескать, наша взяла, — Никон испужался». А Неронов да Аввакум всюду смущают народ. «Никона, — говорят они, — прогнали за еретичество; нас же с честью вернули, как страстотерпцев за православие, да за древлее благочестие»; а иным говорят они: «Никон покаялся в еретичестве, да удалился, во пустыножительстве льет слезы покаяния». А коли я бегу, еще хуже будет… Да и жаль мне царя Алексея… люблю я его, как сына… дорог он мне… да и Русь-то мою так жаль, так жаль… иной раз заплакал бы…
У Никона показались слезы на глазах.
Инокиня Наталья расплакалась.
— Поеду я в Москву, — сказала она, — буду у царя, у царицы и боярынь. Узнаю всю подноготную… и коли опасность какая ни на есть, отпишу тебе… У тебя же будут сегодня же казаки… и ты приготовься к отъезду, Я тебе из Москвы отпишу… Теперь благослови… я поеду.
— Поезжай, Натя… Бог да благословит тебя… Но ты там скажи им… приемлют они на себя суд по делам веры, и им — грех… тяжкий грех… Духовный суд судит по евангельскому обету — с любовью… а они режут языки, отсекают руки, сжигают во срубах… Чем, опосля того, мы лучше инквизиторов Гишпании?.. Наделают они бед, коли возьмутся да своим судом судить раскольников: начнутся пытки, пойдет в ход и плеть, и кнут, и секира, и сруб… Страшно и подумать, что будет… Из десятка безумных попов сделают они сотни тысяч раскольников; из искры раздуют пламя, и устоит ли тогда наша очищенная вера?., наше православие?.. Погибнет дело рук моих, да и я с царством погибнем, разве Богородица заступится за нас.
Он стал ходить в возбужденном состоянии по своей келии:
— Настанет, Натя, день, когда безумцы… раскольники… очнутся… поймут, кто прав, кто виноват. Теперь их призвали в Москву, чтобы низложить меня, и они низложат, — сила теперь на их стороне… Но того они не понимают в безумии своем, что с моим низложением они сами погибнут. Теперь Никон их жалеет как блудных детей, умоляет смириться и наказует по-духовному: постом, молитвою, лишением сана… а кровожадным боярам — это не на руку… И коли они-то, раскольники, меня сокрушают, их защитника, боярство заберет их тогда в свои лапы, жилы повытянет из их тела, кости размозжат, члены отсекать будут и, коли нечего будет более рвать на части, бросят в сруб и медленным огнем будут жечь — в угоду дьяволам, своим братьям… Повидайся там с протопопом Аввакумом и скажи ему мое последнее слово, вместе со словом любви и всепрощения.
Они облобызались, и инокиня, растроганная, вышла от патриарха.
— Нет, — подумал он, — нужно последнее средство употребить. Пущай она там дьячит[44]… и все же я ему напишу… напишу всю правду… Напишу так, чтобы камни размягчились… а коли и это не пособит, то тогда… тогда Никон… отряси прах своих ног от сих мест и беги… беги туда, где вера еще не погибла, где еще бьется сердце человека… беги туда, где примут тебя с любовью и почетом. Сейчас напишу царю грамотку, и коли ответа не будет, значит сам Господь Бог велит мне бежать от сих мест.
Сидит и пишет:
«Начинается наше письмо к тебе словами, без которых никто из нас не смеет писать к вам[45]; эти слова: «Богом молю и челом бью». Бога молю за вас по долгу и по заповеди блаженного Павла апостола, который повелел прежде всего молиться за царя. И словом, и делом исполняем свои обязанности к твоему благородию, но щедрот твоих ничем умолить не можем. Не как святители, даже не как рабы, но как рабичища, отовсюду мы изобижены, отовсюду гонимы, отовсюду утесняемы. Видя святую церковь в гонении, послушав слова Божия: «аще гонят вы во граде, бегите во ин град», — удалился я и водворился в пустыни, но и здесь не обрел покоя. Воистину сбылось ныне пророчество Иоанна Богослова о жене, которой родящееся чадо хотел пожрать змий и восхищенно было отроча на небо ж к Богу, а жена бежала в пустыню, и низложен был на земле змий великий, змий древний.
Богословы разумеют под женою церковь Божию, за которую страдаю теперь заповеди ради Божия… Больши сея любве никто же имать, да аще кто душу положит за други своя; и мы, видя братию нашу биенными[46], жаловались твоему благородию, но ничего не получили, кроме тщеты, укоризны и уничижения; тогда удалились мы в место пусто. Но злонамеренный змей нигде нас не оставляет в покое; теперь наветует на нас сосудом своим избранным, Романом Боборыкиным, без правды завладевшим церковною землею. Молим вашу кротость престать от гнева и оставить ярость. Откуда ты такое дерзновение[47] принял сыскивать о нас и судить ны? Какие законы Божии велят обладать нами, Божиими рабами? Не довольно ли тебе судить в правде людей царства мира сею? В наказе твоем написано повеление, — взять крестьян Воскресенского монастыря, — по каким это уставам?.. Послушай. Бога ради, что было древле за такую дерзость над Египтом, над Содомом, над Навуходоносором царем? Изгнан был богослов (апостол Иоанн) в Патмос: гам благодати лучшей сподобился, благовестие (Евангелие) написать и Апокалипсис. Изгнан был Иоанн Златоуст, и опять на свой престол возвратился; изгнан митрополит Филипп, но паки стал против лица оскорбивших его[48]. И что еще прибавить? Если этими напоминаниями не умилишься, то хотя бы и все писание предложить тебе, не поверишь. Еще ли твоему благородию надобно, да бегу, отрясая прах ног своих к свидетельству в день судный[49]?.. Великим государем больше не называюсь, а какое тебе прекословие творю? Всем архиерейским рука твоя обладает. Страшно молвитя, но терпеть невозможно, какие слухи сюда доходят, что по твоему указу владык[50] посвящают, архимандритов, игумнов, попов ставят и в ставленных грамотах пишут, равночестна Св. Духу, так: «по благодати Св. Духа и по указу великого государя»… Не достаточно-де Св. Духу посвятить без твоего указа!.. Но кто на Св. Духа хулит, не имеет оставления. Если и это тебя не устрашало, то что устрашить может, когда уже недостоин сделался по своему дерзновению. К тому же повсюду, по св. митрополиям, епископиям, монастырям без всякого совета и благословения, насилием берешь нещадно вещи движимые и недвижимые, и все законы св. отец и благочестивых царей и великих князей, греческих и русских, ни во что обратил, также отца твоего, Михаила Федоровича, и собственные свои грамоты и уставы, уложенная книга, хотя и по страсти написана[51], многонародного ради смущения, но и там поставлено: в монастырском приказе от всех чинов сидеть архимандритам, игуминам, протопопам, священникам и честным старцам: но ты все упразднил: судят и насилуют[52], и сего ради собрал ты на себя в день судный велик собор вопиющих о неправдах твоих. Ты всем проповедуешь поститься, а теперь и неведомо, кто не постится ради скудости хлебной. — во многих местах и до смерти постятся, потому что есть нечего… Нет никого, кто бы был помилован: нищие, слепые, хромые, вдовы, чернецы и черницы, — все данями обложены тяжкими, везде плач и сокрушение, везде стенание и воздыхание., нет никого веселящегося во дни сии».
Написав это, он прошелся вновь по келии и, как бы что-то вспомнив, начал говорить сам с собою…
— Запамятовал было… Да… да… это было, кажись, января 12… Были мы у заутрени в церкви Св. Воскресения… По прочтении первой кафизмы сел я на место и немного вздремнул… Вдруг вижу себя в Москве, в соборной церкви Успения: полна церковь огня… стоят умершие архиереи… Петр-митрополит встал из гроба, подошел к престолу и положил руку свою на Евангелие. То же сделали все архиереи и я… И начал Петр говорить: «Брат Никон! Говори царю, зачем он св. церковь преобидел, — недвижимыми вещами, нами собранными, бесстрашно хотел завладеть? И не на пользу ему это… Скажи ему, да возвратит взятое, ибо мног гнев Божий навел на себя того ради: дважды мор[53] был… сколько народа перемерло, и теперь не с кем ему стоять против врагов». Я отвечал: «Не послушает меня, хорошо, если бы кто-нибудь из вас ему явился». — «Судьбы Божии, — продолжал Петр, — не повелели этому быть. Скажи ему: если тебя не послушает, то, если б кто и из нас явился, и того не послушает… а вот знамение ему, смотри»… По движению руки его я обратился на запад к царскому двору и вижу: стены церковной нет, дворец весь виден, и огонь, который был в церкви, собрался, устремился на царский дворец, и тот запылал… «Если не уцеломудрится, приложатся больше первых казни Божии»… — «Вот, — прервал его какой-то старец, обращаясь ко мне, — теперь двор, который ты купил для церковников[54], царь хочет взять и сделать в нем гостиный двор, мамоны ради своея. Но не порадуется о своем прибытке…»
— Да, так оно все было, — говорил Никон, садясь, и продолжал писать… — Все это я ему отписал… Но, пожалуй, он еще не поверит, а вот я и заключаю грамоту: «Все это было так, от Бога или мечтанием, — не знаю, но только так было; если же кто подумает человечески, что это я сам собою мыслил, то сожжет меня оный огонь, который я видел»… Сейчас отправлю это письмо с архимандритом… Посмотрим, коли и оно не поможет, то отрясу прах от ног моих в сих местах.
Он тотчас отправил это письмо в Москву.
XVIII Свидание
Царь Алексей Михайлович сидит в своей приемной. Он только что возвратился с соколиной охоты и в отличном расположении духа: его любимый сокол сразу сразил дикую утку, случайно пролетавшую мимо; а тут еще, по возвращении, он узнал, что царила в интересном положении. Пользуясь этим, и окружающие его бояре, и домашние стараются что-нибудь выпросить и выклянчить, а чтобы иметь решительный успех, каждый старается выставить какой-нибудь особенный подвиг свой.
— Вот, — говорит Морозов, — у всех-то радость: царица зачала… и Господь благословил тебя, чай, сыном… А ты бы, великий государь, повелел на радостях отпустить мне коронных-то у Днепра, сельцо… А я-то первый напророчил…
— Ужо, как справимся с Хмельницким, — улыбается государь.
— А все моя тетушка, Анна Петровна, — подхватывает Хитрово, — уж как она молилась… так молилась… что в день ея крестной молебны… да с Павлом… аль Паисием митрополитом… да и царица там… и Господь услышал.
— Я Павла в митрополиты крутицкие поставил… а Питирима в новгородские, — самодовольно произнес царь.
— Уж очинно, очинно все довольны, мудрость твою прославляют, — вставил Морозов, — Аввакума, Никиту, Епифания и других расколоучителей видел, — все так и молятся на тебя и бают: лишь бы нам того зверя Никона прогнать.
Алексей Михайлович вздохнул и вздрогнул: вспомнил он, что счастье покинуло его в военных действиях вместе с удалением Никона, и вот, чтобы перебить эту думу, он обращается к своим собеседникам:
— Слышали вы, какое чудо у меня?
— Нет, не слышали, — отвечает Морозов.
— Привезли мне безрукого мальчика… так он устами иконы пишет… настоящий изограф… Вот его иконки… я его в науку отдать иконописцу Никите Павловцу… а зовут мальчика Полуэхтом Никифоровым.
— Это диво! — воскликнул Хитрово.
— Да и я впервые слышу о таком диве, — воскликнул Морозов, — к добру, это великий государь; значит, мы согрешили руками, творя иконы, и Господь Бог сподобил тебя иметь иконы, писанные устами.
— Знамение великое… знамение великое, — повторил несколько раз государь, и снова дума: — Вот кабы Никон, он разъяснил бы, что это значит.
Преследует его мысль о Никоне постоянно. Что бы он ни сделал, тотчас совесть говорит ему: а что святейший бы сказал? Недавно уговорил его грек Паисий поставить Павла в митрополиты крутицкие, а крутицкого Питирима в новгородские, но сделано это без благословения патриарха, и оба поста очень важны: первый по древности кафедры, а второй, — так как он наместник патриарший. Но говорят, что народ благословляет царя за это назначение…
В тот миг является стольник и подает пакет.
— От патриарха Никона привез архимандрит Воскресенского монастыря, — провозглашает он.
Царь уходит в свою комнату, распечатывает трепетными руками пакет и читает письмо. Бледный, со смущенным видом, он возвращается назад и, подавая Хитрово письмо, произносит задыхающимся голосом:
— На, читай… я говорил, что так будет, — он чуть-чуть не анафему шлет нам за ставленных владык…
— Да что на него глядеть-то! — успокаивает его Морозов.
— Посердится, посердится, тем и кончится, — вставляет Хитрово.
— Пущай бы сердился, — с тревогою произнес государь, — но вот, коли он бежит, вот это будет теперь не в пору нам: Малороссия отложилась, Литва отпала…
— А вот что, великий государь: дай мне повеление задержать его, где я бы его ни отыскал, и он не уйдет от меня.
— Даю… даю повеление… напиши несколько грамот… Да только гляди, чтобы волоса с его святой головы не тронуть…
— Слышу, великий государь; пока он патриарх, я обиды ему не учиню.
Грамоты написаны и сданы в руки Хитрово.
Богдан Матвеевич тотчас отправился к Родиону Стрешневу; там он застал и Алмаза Иванова. Обоих их он командировал в разные стороны с поручением следить за проездом или в Малороссию, или в Литву патриарха.
Сам он тотчас же отправился тоже по направлению к Малороссии.
В то время, когда вследствие неосторожного выражения патриарха в его письме были сделаны распоряжения об его задержании на пути, инокиня Наталья сидела в тереме царском и вела с царевною Татьяною беседу:
— Я потеряла надежду, — говорила с отчаяньем царевна, — когда-либо видеть Никона. Все здесь его враги: и никоньяне, и раскольники… Теперь они соединились и все хором поют: собора надоть… сложить с него сан… заточить, а там и сжечь в срубе.
— Боже, что же делать? что же делать? — ломала руки инокиня.
— Я было хотела выйти замуж за князя Пожарского, тогда иное бы дело… Как Морозова Феодосия, я залучила бы к себе и монахов, и монахинь, и попов, и тогда я бы их уничтожила… Теперь что? Сиди в тереме и гляди, как его пытать, мучить, терзать будут. И за что? За то, что спасал два раза Русь от чумы; за то, что создал воинство; за то, что забрал и почти уничтожил Польшу… что присоединил Малую и Белую Русь… И это за спасибо. Теперь ничего не остается ему, как только бежать и бежать скорее в Малую Русь… в Киев.
— Не поедет он… знаю я его… Как придется до дела, он скажет: бежать, значит им уступить, преклониться перед ними… нет — останусь, и останется, — заплакала инокиня. — Я хочу переговорить еще с царем.
— Поговорить-то можно, но теперь ничего не будет… Царица с Анною Петровною живут душа в душу, и на устах у них, в головах и в сердце — святители Павел да Паисий, Паисий и Павел. Видела ты эти подлые рожи?.. Оба точно бабы в рясах, да с бородами, и чудится мне, точно щеки у них нарумянены… Да что ни слово, то и лесть… А братец мой уши развесит, да слушает их. Государево дело гибнет.
— А царица что?
— Царица только и думает, как бы Господь сына ей дал… Алексей Алексеевич ее хиленький… ну, и напугали ее; говорят, бояре шепчутся меж собою: уж не развести ли ее. Поглупела со злости баба, сама не знает, что и творит… Да вот коли будет круто, так пойди к ней, да напугай ее, и она сделает все по-твоему.
— Только не теперь, а ты, царевна, вот подумай, как уговорить патриарха, чтобы он бежал.
— Да как, матушка Наталья, да сама поеду…
— Как сама?!
— Да так… скажусь больною… Ты сядешь здесь у меня… никого не будешь впущать в мою опочивальню… а ты, вот, позволь взять твоих людей да твою одежду.
— Царевна, коли люди узнают, ведь беда будет.
— Уж хуже не будет, чем есть, сижу я здесь затворницею и не с кем слова молвить… а сердце, сердце… рвется на части., слезы из очей уж не льются… Я уговорю его: он бежит, послушается меня. Его б спасти, отдала б я десять жизней… Ты только принеси сегодня вечером свою одежду… вели на своем подворье лошадей изготовить… Я с сестрами Иринушкою и Анютою переговорю… и с Богом… помчусь, полечу, а гам и смерть не страшна.
— Да благословит тебя, царевна, Господь Бог за твое доброе сердце… Но без меня ты там ничего не сделаешь. Я сама поеду с тобою, а ты уж устрой здесь все без меня. Теперь я к Феодосии Морозовой, чай у нее увижусь с протопопом Аввакумом.
Инокиня поцеловалась с царевною и ушла к Морозовой.
Невестка Бориса Ивановича Морозова в это время еще не вдовствовала, но как царицына кравчая, она жила открыто и принимала всех, в особенности из духовенства обоего пола[55].
Когда ей доложили об инокине Наталии, она приняла ее с распростертыми объятиями, так как та славилась своею строгою жизнью и странствованиями по монастырям.
После первых приветствий и расспросов: по каким монастырям та ходила, что видела и слышала, Феодосия Прокофьевна рассказала ей об удалении Никона, о возвращении из ссылки иереев, не соблазнившихся прелестями никонианства, и о том, что теперь все стоят заодно: о низложении Никона и восстановлении древляго благочестия.
— Да вот, — присовокупила она, — и сам св. страстотерпец Аввакум.
Показался на пороге высокого роста, с окладистою бородою, красивый священник. Лицо его было загорелое и бледное, а глаза темно-серые сверкали и глядели как-то туманно в даль.
Хозяйка и инокиня подошли под его благословение.
Он благословил их двуперстно.
— Я слышал давно о вашем благочестии, — сказал Аввакум, обращаясь к инокине, — и радею о твоем спасении.
— Благодарю, св. отец, но ты, вот, поведай и мне о своих страданиях, дабы я могла рассказать в св. Лебединской обители, — откуда я, о твоем страстотерпчестве.
— Много говорить, дочь моя, мало слушать… В Успенском соборе меня расстригли… хотели бороду срезать, да царица не допустила до греха. А там, с женою и детьми, сослан за великое озеро Байкал, — к воеводе Пашкову, не человеку, а зверю, отдан на съедение. Повелел ему Никон наносить мне всякое томление; терпел я от него поругания, бил он меня по щекам, бил по голове, по спине, плевал в лицо, ругался и издевался надо мною, бросали меня в холодную воду, секли кнутом, причем я получил 72 удара… Потом пришел указ идти вновь на Москву, и я всюду, и здесь, свободным глазом и благодарственною душою древляго благочестия светлость пресветло проповедаю. Здесь меня князи и бояре так любезно приняли…
— Яко ангела Божия, — вставила Морозова.
— Нет, яко раба Божия и словеса мирная и жалостная со воздыханием царю беседовала, — закончил Аввакум.
— Но кто, св. страстотерпец, — заметила инокиня, — тебе поведал, что Пашков воевода имел грамоту Никона… уж не ухищрения ли были бояр?
— Поведовали мне то митрополиты Питирим и Павел.
— Полно, св. отец!., и веришь ты этим лукавым людям?.. Не проповедь твоя им нужна, а нужно низложение Никона, и они льстят тебе… и эти же фарисеи, когда низложат патриарха, повлекут тебя же к суду своему и учинят тебе не то, что Никон. Никон с любовью и со слезами, как отец, умолял тебя, Аввакум, не проповедать свое учение. Он говорил тебе: веруй, как знаешь и можешь, — только других не смущай.
— Как! — воскликнул Аввакум, — отрешись от веры своей и от Бога… Могу ли я попустить, когда он вихроколебательные трясения нанесе на церковный корабль?.. Он предерзостно отверг двуперстное крестное знамение: благословляет народ, как сам крестится; на трисоставном кресте изображает Христа; отрицает сугубое аллилуия; пишет слово Иисус, вместо Исус; на 5 просфорах литургию служит вместо 4; в символе заменил букву «а» буквой «и», поклоны отверг, лежание ницом при преждеосвященной литургии и в вечер пятидесятницы; иудейским обычаем велел совершать миропомазание; в церковоосвящении, крещении и браковенчании по солнцу запретил трижды ходить; партесное преугодничное пение с митушанием рук и ног и всего тела безобразным движением в церковь внес; уничтожил молитву «Г.I.X. Сыне Божий, помилуй мя грешного»; образ велел писать не по древнему, как мертвецов, а дебелых и насыщенных, аки в пире некоем утучненных, противно первообразным святым особам; книги святые древлепечатные неправыми и ересеимущими нарек!
Вылил все это Аввакум залпом; Морозова слушала его с открытым ртом, но инокиня Наталья вспылила и сказала:
— Святой отец, может быть, ты больше прав, чем Никон, но каждый верит по-своему, и сколько и как кто может вместить, так и вмещает. Нужно, однако же, помнить главную заповедь Христа: любить ближнего… Вера без дел мертва: коли хочешь спастись, то одна вера недостаточна без любви. Примирись с Никоном, и иди с ним рука об руку в духе любви, и вы оба сделаете многое для Божьей церкви. Гляди, всюду она принижена и угнетена: восточные патриархи в плену и в рабстве у турского султана, церковь в Малой и Белой Руси угнетена латинством, иезуитами и ляхами. Одна лишь наша церковь стоит, как столп и утверждение истины, и к ней идут сердца угнетенных турками и ляхами русских. Никон и стал во главе угнетенных братий и для слияния церквей принял то, что у них издревле внесено святою восточною церковью: без этого и не было бы возможно слияние с нами ни Белой, ни Малой Руси.
— Не нам у них учиться, а им у нас, — заревел Аввакум, стукнув ногою. — Великие наши святители и учители: митрополиты Петр и Филипп, патриархи Иов, Гермоген и Филарет, — все держались древляго благочестия и в крещении обливания, а не погружения… и мы должны держаться того же закона, той же веры… и если Малая и Белая Русь — отступники этой веры, так пущай они и погибнут в рабстве у ляхов и турок… Нам нужно наше спасение, а не их… Нет и примирения мне с Никоном: пущай он идет с новшеством своим в ад кромешный, со всеми народами, а от древляго православия не отрекусь… Не войду с антихристом в единение…
— Как с антихристом! — ужаснулась инокиня.
— Разве не знаешь, дщерь моя? — произнес вдохновенно Аввакум, — слово апостола Павла к Тимофею: Дух же явственне глаголет, яко в последняя времена отступят неции от веры, внемлюще духовом лестным и учением бесовским, в лицемерии лжесловесник, сожженных своею совестию, возбраняющих женитися, удалятися от брашен, яже Бог сотвори в снедение со благодарением верным и познавшим истину…
— Никон никому не возбраняет жениться, не запрещает удаляться от брашен, — заметила инокиня.
— Да, — продолжал Аввакум, — хочешь, дщерь моя, спастись и спасти свою обитель, так почитай крест Христов трисоставный, от кипариса, из певга и кедра устроенный, — вот тебе и в дар единый… Он вынул из кармана крест и вручил ей.
— Всякий крест для меня святыня, — сказала она, благоговейно поцеловав его.
— А четвероконечный крест, — продолжал он, — мы держим токмо на ризах и стихарях, и патрихилях, и пеленах… а же учинить его на просфорах, или, написав образ распятого Христа, положить его на престоле вместо тричастного: таковой мерзок есть и непотребен в церкви, и подобает его изринута… Так обманул дьявол русских людей бедных: явно идут в пагубу…
Видя, что с ним не разговоришься с толком и что напрасны слова, инокиня произнесла тоже под его лад вдохновенно:
— Вижу я, святой отец и страстотерпец, что твоя правда: идет все к кончанию мира сего… Окружат, по слову апостола, тебя и учеников твоих люди самолюбивые, сребролюбивые, гордые, надменные, злоречивые… предатели, наглые, напыщенные, сластолюбивые, имеющие вид благочестия… К сим принадлежат те, которые вкрадываются в домы и обольщают женщин (она бросила косвенный взгляд на хозяйку), утопающих во грехах, водимых различными похотями… всегда учащихся и никогда не могущих дойти до познания истины… Да, они противятся истине, — люди, развращенные умом, невежды в вере… Да, настанет час, когда льстецы эти достигнут на соборе предания за веру казням уложения, — и тогда — горе вам, отщепенцам церкви: предадут эти фарисеи вас пыткам и казням ужасным… Будут ломать ваши кости, вытягивать ваши жилы, будут сожигать вас на медленном огне… Боже… что я вижу… видение… сруб… а во срубе Аввакум, Лазарь и Федор, и Епифаний… Преданы они сожжению… горят… огонь… Прочь отсюда, отряхаю прах моих ног.
С этими словами она поспешно удалилась.
Несколько дней спустя Никон получил через одного из послушек записку. В ней сказано было:
«Сегодня, в десять часов вечера у Мамврийского дуба буду тебя ждать. Важные вести. Инокиня Наталия».
Записка эта встревожила Никона:
— Значит, недобрые вести, — подумал он. — Всю ночь не спал сегодня… все чудные сны… Перейду для ночлега в скит, а оттуда недалеко до дуба.
Он тотчас объявил, чтобы перенесли его вещи в скит, так как настала весна.
Вечером, при заходе солнца. Никон сидел на крыше скита и любовался оттуда окрестностями и переливом света.
— Как здесь прекрасно, — думал он, — и не хотелось бы никогда расстаться с этими местами… Жить бы на покое, без суеты… И неужели покинуть эти места, где каждое дерево почти посажено мною, где столько моего труда во всем… Ехать в Малороссию?., стать во главе этого народа!., образовать его… Да, это великое дело… Но тогда нужно соединиться с татарами и ляхами, и вести борьбу не на жизнь, а на смерть со своими… Подымается ли рука у меня? Изменником я не был… Нет, я уеду в Киев… запрусь в Киево-Печерской лавре и буду вести войну лишь духовную — борьбу со тьмою и невежеством… Да, лучше венок терновый, чем лавровый.
Так думал великий святитель, и сердце его разрывалось на части. Любил он и свой народ, и своего царя всею любовью человеческою сердца… и вместе с неправдою и злобою к нему Москвы Эта любовь назревала, и как язва она разрасталась и терзала его душу, мысль же о возможном бегстве еще сильнее увеличивала боль и ее жгучесть.
— Бежать, как преступник, — продолжал он мыслить, — в чужую сторону, к чужим людям, — сделаться предметом ненависти целого народа своего!., это ужасно… это невозможно. Я возненавидел даже мысль эту…
Он вошел в маленькую церковь св. Петра и Павла, имевшуюся на крыше, и долго-долго молился, горько плача и вверяя Господу Богу свою душу.
Час свидания, однако же, настал, в монастыре все умолкло и огни погасли, а ночь темною пеленою покрыла всю окрестность.
Никон тихо спустился вниз, сошел в аллею и пошел по направлению к старику-дубу, который он назвал Мамврийским.
У дуба этого стояла скамья, и он любил часто здесь сидеть.
Этому дубу теперь считают 500 лет. От него уцелела наружная часть ствола, высотою не более двух сажен. Внутри его может поместиться шесть человек. Ствол дал отросток, который разветвился и покрыт зеленью. Богомольцы верят, что дерево это исцеляет зубную боль, и его расхищают; монастырское начальство приняло теперь меры к сохранению дуба.
К любимцу своему подошел Никон, и едва он опустился на скамью, как услышал в роще шум шагов, и темная женская фигура стала приближаться.
— Благослови, владыко, — произнес мелодичный женский голос.
Патриарх вздрогнул и вскочил с места.
— Царевна, — воскликнул он с удивлением и ужасом.
— Не ожидал ты меня…
— Не ожидал… Но что ты сделала? Кругом шиши[56]… сыщики… Боже, Боже, что ты сделала!
— Не беспокойся, святейший… Сестры мои, Ирина и Анна, скроют мой отъезд… а сюда я приехала с мамою Натею… Она осталась при лошадях, в версте отсюда; а я-то, в последний раз как была здесь с царицею, обегала все тропинки и знаю хорошо всю местность. Едем как будто бы богомолки в Колязин Макарьевский монастырь, никто и не догадывается. Да хоша бы и была опасность, так Бог с ним.
— Это все Натя сделала… Это святая женщина. Да и ты, царевна, не человек ты, а ангел с небес. Кабы не ты, не достроил бы я и обители и хлеба бы не имел. Господь Бог да благословит тебя за твое добро, за твою любовь к изгнаннику… И за что ко мне такая милость небес?
— Святейший! за твою добродетель: за то, что неустанно ты радеешь о церкви Божьей, о твоей пастве и народе. Гляди, как было при тебе: государство в могуществе и славе, а государева казна полна. А теперь воинство разбито, в плену лучшие воеводы, и два раза мы с позором собирались бежать в Ярославль… Порядка же никакого, — не знаешь, кто и наистаршой, кто главарь… а казна царская, хоть шаром покати… А тут собрали соборную думу из святителей и бояр, и она судит и рядит и мирские, и духовные дела, и, страшно вымолвить, ходят слухи, что за веру будут казни по уложению!
— Господи, до чего мы дожили… до чего дожили… А раскольничьи попы, чай, рады?
— Как же им-то не торжествовать? Питирим и Павел им льстят: нужно-де тебя, Никон, низложить, а коли низложат, то возьмутся за них… Повидишь мое слово… Но я ведь чего страшусь: коли, да сохранит Господь, брат Алексей умрет, тогда и Милославские все захватят с раскольниками государево дело, и тогда они назовут тебя еретиком и сожгут в срубе… Беги от греха, святейший… Беги, куда хочешь, — аль в Киев, аль в Вильну.
— Да как бежать-то, царевна?.. А Русь что скажет?.. И братию как оставить и обитель эту… Докончил я и храм и службу в нем уж правлю… И зачем бежать?
— От пыток, истязаний и лютой смерти… А там, в Киеве, будешь ты в почете, в могуществе… да и друзья твои приедут туда…
— Да кто же последует за изгнанником, беглецом?
— Кто? Мама Натя… и… и — я…
— Ты, да как же это?
— Убегу… убегу… и след простынет… Ни одна застава не задержит меня… хоша бы пришлось в мужской одежде пробираться.
— Царевна, что говоришь ты?., сестра царя… самодержца… и ты последуешь за бедным монахом… опозоренным… прогнанным!
— Не то говоришь ты… Я, царевна, дочь и сестра русских царей, пойду за великим подвижником православия, за великим святителем, за патриархом всея России. И что может быть выше сея любви, как не положить душу свою за брата… Обмывать я буду твои ноги, как омывал ты в Москве странникам… Святейший патриарх, дозволь мне и маме Нате следовать за тобою… подобно святым женам Евангелия мы будем служить тебе с любовью.
Никон прослезился, обнял ее горячую голову и поцеловал ее.
— Права ты, царевна, мне нужно бежать от греха, введут они и царя, и церковь святую во грех… Пока Алексей жив, он не попустит торжеству раскола, но коли он, да сохранит Господь, умрет, — горе тогда и моим последователям, и церкви Христовой. Знаю я, для чего и хотят они ввести за вероотступничество и пытку, и казни, это они готовят мне костер… сруб… как Иоанну Гусу кесарь. Но вижу я иное… Они себе готовят эти костры. Питирим и Павел, оба как будто родились не здесь, а в Гишпании… Меня они отравили, да Бог помиловал, а теперь они готовят мне сруб.
— Тебе и нужно бежать от этого греха, да не осквернится земля русская позором, а коли ты будешь в Киеве, так ты их поразишь страхом. Коли ты будешь там, одно имя твое будет приводить их в трепет, да и царь тогда пожалеет о Никоне… Поезжай туда… да поскорей. Я с мамою Натею тоже проберемся туда… хоша бы и пешком… Умоляю тебя… видишь, я на коленях…
— Еду… еду… царевна… встань… Твои святые речи меня подкрепили… Теперь с ясным сердцем я туда выеду… и завтра же ночью; теперь ночи темные… и за одну ночь Бог знает куда заедешь.
— Так ты слово даешь?
— Вот тебе моя рука… но и ты дай слово.
— От меня слова нечего брать, я тебя найду и на краю света… Лишь бы Господь Бог дал тебе, святейший, уйти от врагов в Киев.
— Итак, прощай… Я провожу тебя к маме Нате.
— Не нужно… я сама найду путь… Благослови только меня на прощание и не забудь меня грешную в своих святых молитвах: и я буду служить ежедневно молебны, да охранит тебя в пути Творец всемогущий.
Никон проводил ее на дорогу и, простившись с нею, возвратился в свой скит с веселым сердцем.
— Свет не без добрых людей, — подумал он.
XIX Бегство Никона
В Новом Иерусалиме творится что-то необычайное. Домашний штат Никона и в Новом Иерусалиме невелик: два крестника его — евреи, Афанасьев и Левицкий, с женами; другой крестник Денисов, из немцев рижских; Трофим (слесарь) с женою; поляк Ольшевский и Кузьма, с которыми он жил в Крестном и, наконец, зять его Евстафий Глумилов.
Последний был женат на сестре Никона, которую он носил на руках, когда был еще мальчиком. Сделавшись патриархом, Никон не постыдился крестьянина-зятя и приблизил его к себе, не давая ему никакого общественного назначения, и он заправлял лишь частными его делами.
Крестники его, Афанасьев и Левицкий, заведывали работами по монастырю, а Денисов был пожалован в боярские дети и заведывал отчетностью монастырскою, как человек честный и бескорыстный.
В этой-то дворне стали к чему-то готовиться. Все укладывали в походные тюки свои пожитки и приготовляли походную провизию: хлеб, сушеную рыбу и тому подобное.
Приготовления эти делались хотя поспешно, но втайне от монастырской братии.
Вся дворня была встревожена неожиданностью, но явно была довольна походом, хотя не знала, куда и зачем.
Недовольны были только два еврея и слесарь, так как они имели жен, как видно не входивших в походный штат, и притом вопрос о том, взять ли еще евреев с собою, не был патриархом решен.
Евреи поэтому шушукались между собою многозначительно.
Ольшевский сильно хлопотал об укладке патриарших вещей, а кузнец не знал, как и что взять с собою, так как распоряжение не было сделано, какой экипаж пойдет в дорогу.
Патриарх же заперся с игуменом и строителем обители Аароном, и вели длинную беседу.
Это выводило из терпения всю его дворню.
— Альбо то можно, — ворчал поляк, — не говорить, в чем мы поедем… Налегке, — сказал он. А ризы-то нужно взять… а митру… а посох… а крест… Надея на Бога, нас будут встречать с крестами и образами… а мы и облачимся и будем народ благословлять.
— Авжежь, — процедил сквозь зубы Михайло, — колы мы въедимо в какой город, буде трезвон с колокольни, и монахи вси на встричу, як саранча высыпят.
— А мне-то что брать? — недоумевал кузнец.
Является вдруг боярский сын Денисов.
— А вот что, — говорит он. — Патриарх приказал уложить в тюки одно белье, да кое-какие бумаги… поедем мы вес верхами.
— Как, верхами? И патриарх? — восклицают голоса.
— Да, и патриарх. Ночью, как братия заснет, всех казачьих лошадей оседлать и навьючить, и все — в путь… Только жидам не говорите… слышите?
— Альбо то можно? Патриарх, да на коне.
— Дурень ты, — прерывает его Михайло, — чи Христос на осли да не выезжав?..
— И то правда… и мы вступим в город на конях… и то добже, — успокоился поляк.
Но не утерпел он, забрал все облачение патриарха и, сделав огромный тюк, объявил, что он готов идти сам пешком, но без облачения-де патриарх не патриарх.
Наконец настал вожделенный час: иноки легли спать и огни потухли.
Зять патриарха Евстафий, рослый, красивый мужчина, с добрыми голубыми глазами, появился в патриаршем отделении и скомандовал: переодеться всем в казачью одежду, хранившуюся у них в чулане, вооружиться по-казачьему, а все изготовленные тюки навьючить на лошадей.
— Поедут следующие, — заключил он, — патриарх, я, Ольшевский, Денисов, Кузьма кузнец и Михайло.
— А жиды и слесарь? — спросил Михайло.
— Пущай здесь остаются. Коней у нас казачьих семь: шесть пойдут под седоков, а седьмой — под патриарший вьюк.
— Моя взяла! — крикнул радостно Ольшевский. — Альбо то можно, чтоб без облачения… надея на Бога…
Появился сам патриарх: глаза его были заплаканы, но лицо спокойно.
Он велел принести казачью одежду, сбросил подрясник и рясу и торопливо переоделся. Волосы он подобрал на голове, связал их и накинул на голову казачью большую шапку.
Одежда переменила его вид: из величественного святителя он преобразился в гиганта-казака.
— О це бы був добрый гетман, — процедил сквозь зубы Михайло.
Когда вся свита была готова и доложили Никону, что и лошади навьючены, он опустился в своей келии на колени, положил несколько земных поклонов, поцеловал икону Спасителя, висевшую в углу, и твердыми шагами вышел.
Лошади, все поодиночке, были выведены из монастыря и дожидались за оградою.
Никон и приближенные его вскочили на коней и сначала шагом отъехали от обители, но вот Никон перекрестился, поклонился святой Воскресенской церкви и помчался на юг…
Все последователи за ним.
* * *
На другой день утром Гершко и Мошко, а по крещении Афанасьев и Левицкий, встали рано и повели между собою беседу:
— Заспались все, — сказал Гершко.
— Какой там заспались, — усмехнулся Мошко. — Они теперь тютю… Проснулся я ночью… вышел… вдруг вижу: сам патриарх, как разбойник, в казачьем: шабля и пистолет у пояса… Да и Михайло, и Денис, и Микола лях, и кузнец, — вси, вси як есть, как казаки… и до лясу…
— Ой вей мир, моя бидная головушка, — завопил Гершко. — Получал я по десять карбованцев в мисяц от Стрешнева, да десять от лекаря Данилова… Данилова… царского лекаря… и був я здесь за шиша… А тут вин сив на коня, да до лясу… Ой! ой! що буду робыть.
— А я, Гершко… а я… я був тоже шишом… да у химандрита Павла… да у митрополита Пятерых… да у Морозова…
Значит двадцать пять карбованцев и тиждень… Що буду робыть…
— Бачишь, Гершко, у меня конь и конь добрый… а у тебя возок… запряжем, и фур-фур на Москву… Там мы до царского лекаря…
— А завтра шабаш, — прервал его Мошко.
— Шабаш?.. Будем с лекарем справлять.
— Як, во дворци?..
— Во дворци… что ж?., и Шмилек справляе… Вин хоша Данилов, а все же вид наших: …вин такий православный, як мы з тобою… Дают гроши — и добре… Бачишь, коли б гроши не платили, так було б фе!.. А за гроши, так я на мечети за мулу, як кот, буду мяукать…
Гершко и Мошко побежали стремглав на конюшню, запрягли лошадь в маленькую повозчонку и помчались в Москву.
Ехали они весь день с роздыхами, и когда шабаш уж наступал, т. е. когда настал вечер, они въехали в город.
Усталая их лошаденка едва передвигала ноги, но они бичевали ее и дотащились до дворца.
Лекарь Пинхус Данилов, познакомившись с царем во время смоленского похода, сделался его придворным врачем и жил во дворце, где был аптекарский приказ.
Пинхус Данилов был честный человек и вполне заслуживал доверие царя, но имел слабость вмешиваться в политику и, в борьбе бояр с Никоном, он стал на стороне бояр. Считая патриарха тираном, он воображал, что служит верную службу царю, если он низложит его и этим выведет Алексея Михайловича из его железного влияния. Гершко и Мошко, подъехав к аптекарскому отделу, остановились у ворот и оба вошли туда.
Они велели о себе доложить боярину Данилову.
Аптекарский служка побежал с докладом и несколько минут спустя он повел их к кабинету лекаря.
Подойдя к массивным дверям, служка впустил их туда.
— Шалем-алехом[57],— встретил их хозяин в собольей шапке, не боярской, а жидовской.
— С шабашем, реб, — воскликнули оба.
— Звиткиля?
— З монастыря, — ответил Гершко.
— А що там патриарх? — допрашивал лекарь.
— Вин тютю, — вздохнул Мошко.
— Як тютю?
— Тютю, — вздохнул Гершко: — утик на коне… да из ним вся дворня, — пояснил он.
— А куда?
— А куда, як не до лясу, альбо до Киева к казакам. Вин точно як гетман, при шабле, при пистолете, — заголосил Мошко.
— Ой! ой! ой! — взялся за голову Данилов, — то-то буде гвалт… то-то буде гешефт… то-то бояре злякаются…
Лекарь схватил соболью шапку с головы и бросил ее о пол.
— Я до царя… в погоню за ним… Ой, ой, ой, то буде…
Он торопливо оделся и, уходя, шепнул им.
— Шабаш уж здесь справляйте… помолитесь, а я тим часом приду и мы кидишь зробим и повечеряем: рыбу с перцем… гугель и цимес буде… Да я царю о вас скажу… вот и наградит.
— Будем за вас, реб Пинхус, Бога молить.
Данилов побежал во дворец с Постельного крыльца. Ему сказали, что царь собирается ужинать. Но он велел доложить, что по очень важному делу.
Царь встревожился — приход к нему в необычайный час лекаря означал что-то недоброе.
— Уж не заболела ли царица, аль кто из детей, аль царевны-сестрицы, — подумал он и велел тотчас его ввести к себе.
— Никон! Никон бежал, — задыхаясь произнес лекарь.
— Кто тебе сказал?.. — Это ложь, неправда…
— Как неправда, ваше величество, приехал из монастыря Мош… Гер… шо я кажу, Афанасьев и Левицкий, служки патриарха… Кажут, в казачьем патриарх…
— Лгут они, не верь… Ты вот пойди, да прогони их обратно в монастырь. Выехал патриарх по моему указу, да завтра и возвратится… Да накажи им: вздор не молоть, коли спины целы.
— Як же, ваше величество… воны кажут, что на тойре… на евангелии присягнут, що то правда.
— Я говорю, что лгут… и ступай с Богом. Спасибо за добрую службу… да им-то не забудь сказать: пущай не болтают, а едут тотчас домой, да чтоб духа их не было на Москве… Слышишь?
— Слушаюсь, ваше величество.
— Да и ты никому не болтай, как патриарх да бежал? Аль мы его истязали? аль пытали? аль иное делали?.. Теперь ступай…
Царь подал ему благосклонно руку, тот ее поцеловал.
— Вей! вей!., що мы наробыли, — завопил Данилов, влетая в свою комнату. — Садитесь на свой виз, да до дому.
— Як то можно, реб? В шабаш? — ужаснулись оба.
— Що ж робыть? Царь наказал: пущай-де едут тотчас до дому.
— Кинь наш ничего не йв, — заплакал Мошко.
— Да и мы ничего не йлы…
— Не йлы?.. Вернитесь пишки… а по дорозе, в кабаке, и йсты будете, — успокаивал их лекарь. — Царь казав, щоб духу вашего не было в Москви, да щоб молчали: патриарх-де по царскому указу уихав.
— Ой! вей! що мы наробыли, — заголосили оба.
— Уж мы, реб Пинхус, коня у вас заставим, а мы пишки…
— Ким, Гершко, — крикнул Мошко, поспешно схватив товарища за руку и уводя его.
— Щоб тому светлейшему не было ни дна ни покрышки, — ворчал последний, уходя.
* * *
Едет святейший всю ночь проселками, и к утру они расположились в лесу отдохнуть и покормить лошадей.
Как простой казак, Никон ложится на траве под деревом и сладко засыпает. С непривычки верховая езда сильно его разбила.
Спит он несколько часов и, проснувшись, требует поесть.
Скудная трапеза кажется ему такою вкусною и он, насытив голод, творит молитву и велит двинуться в дальнейший путь.
В то время, как святейший собирается сесть на коня и поправляет свои волосы на голове, в кустах два глаза на него глядят, а драгун, которому они принадлежат, произносит про себя:
— Он, не ошибся…
Воина этого, когда он приближался, никто не заметил из свиты Никона — все от усталости спали крепким сном.
Но едва только тронулся Никон со свитою в путь, как следовавший за ними драгун поспешил через лес и вышел в поле. Там стояло человек десять драгунов, сильно вооруженных и один из них в блестящей одежде воеводы.
— Боярин, — обратился к нему драгун, — я не ошибся — это не казаки, а сам патриарх и его свита.
— В таком случае нам нужно за ним следить… Мне кажется, патриарх заночует где-нибудь в избе, — тогда мы и заберем их сонных…
— Как прикажешь, боярин.
Отставая от патриарха на несколько верст, они так следили за ним весь день.
К вечеру, как и предсказывал начальник отряда, Никон вынужден был, для того чтобы дать отдых и лошадям, и людям, заехать во встретившееся село.
Здесь они остановились в первой же избе, куда их впустили. Лошадей развьючили, проводили и дали им есть, а люди тоже поели и легли отдохнуть.
Патриарху уступлена изба, и он расположился там на покой.
Вскоре все погрузились в глубокий сон.
Ночью вдруг просыпается Никон: слышен топот лошадей, стук оружия…
Он прислушивается: какой-то голос требует, чтобы отворили ворота.
Никон поспешно выходит.
— Да что, — кричит поляк, — альбо то можно… точно кепи… точно разбойники… Им говорят, казаки здесь… а он «по царскому указу»… Да и мы по указу… проваливай, служивый, коли не хочешь пули в лоб… Мы, надея на Бога… джелебы не…
— Что за шум, — раздался громкий голос патриарха.
— По указу государеву, святейший патриарх, — раздается голос за воротами.
— Святейший патриарх… по указу государеву… измена, — произносит удивленно Никон.
— Прикажи, святейший, и мы искрошим их, — раздается голос поляка. — Аль мало нас? Все ляжем костьми… Джелебы их была сотня, а то десяток… Я и сам пойду… Прочь от ворот…
— Крови не проливать, меча не обнажать! Христос сказал Петру: «Кто обнажит меч, тот падет от меча». Кто ты, дерзающий тревожить мирный сон патриарха?..
— Окольничий государев, Богдан Матвеев Хитрово, твой богомолец, — по указу царскому.
— Отворить ворота царскому послу! — величественно произносит Никон. — Послушаем царский указ…
Один из свиты открывает ворота, остальные стоят с пистолетами в руках.
— Чего хочет от нас великий государь? — обращается он к спешившемуся Хитрово.
— Святейший патриарх, великий наш государь просит тебя возвратиться в свою святую обитель и сказать: от чего ради ты бежал.
— От гнева его. Я отряхаю прах моих ног, по святому писанию. И кто может запретить мне ехать, куда я хочу? Не раб же я?..
— И царь, и царица умоляют тебя возвратиться и не оставлять их своим благословением.
— Я всегда молю за них Бога и благословляю их ежечасно; но бегу я от ярости крамольников-бояр, — так и скажи великому государю… Я удаляюсь в Киевскую лавру… и там кончу дни свои, как и многие иные подвижники.
— Не могу, святейший патриарх, без тебя возвратиться, — или поезжай мирно назад, или я должен употребить силу?..
— Силу?., против патриарха… силу против святителя… И держит тебя земля над собою?.. Достоин ты смерти.
— Что ж?., вели казнить, святейший… я без оружия… вот и меч… А все без тебя не уеду…
Он бросил меч и пистолет в сторону.
— Прости… ты раб… слуга… исполняешь приказ самодержца… повелителя… Бери свой меч… бери оружие… я последую за тобою… Но ты скажи ему: коль я б хотел, так и тебя, и твоих воинов не стало бы в минуту единую… Вся Русь пойдет за мною, как один человек… Эй! люди… тревогу… Пущай православные христиане увидят своего патриарха… патриарха Никона… Николай! — облачение… крест… Я облачусь, а крест и икона — мое оружие против врагов моих.
Свита его стреляет в воздух, огромное село в несколько минут является к избе и, узнав, что патриарх приехал, приходит в религиозный восторг.
Никон переодевается и выходит во всем облачении.
Многосотенная толпа падает на колени, плачет, лобызает его руки, ноги, одежду.
Никон говорит с народом со слезами на глазах, учит его вере и любви…
Рассветает. Он сбрасывает облачение, надевает патриаршую свою одежду, велит достать простой воз и, сопровождаемый народом, своею свитою и драгунами с Хитрово, возвращается в «Новый Иерусалим».
Народ провожает его до другого села. По всей дороге, узнав о его шествии, из сел выходит к нему и духовенство, и крестьяне, с иконами и хоругвями…
У ворот обители окольничий Хитрово спрашивает его:
— А царю что передать, святейший?..
— И мое благословение, и мою любовь… Пущай не гневается и помнит: глас народа — глас Божий…
XX Земская смута в Москве
Патриарх Никон недаром разошелся в первый раз с царем по вопросу о медных рублях, выпущенных еще в 1656 году.
В последующие два года, пока дела наши в Польше, Литве и Малороссии шли хорошо, эти рубли ходили как серебряные: но неудачный поход наш под Ригу, гибель нашей кавалерии под Конотопом, катастрофа чудновская и поражение Хованского сразу понизили ценность этого рубля.
Сделалась страшная дороговизна. Указы, запрещавшие поднимать пены на необходимые предметы потребления, не действовали, и люди стали умирать с голоду.
Главное зло в этом случае было то, что явилось много поддельной монеты, и рубли эти в Малороссии и Белоруссии до того потеряли пену, что их перестали совсем принимать.
Подделки же шли не только извне, но и у себя дома.
Хватали и пытали людей, и получался один отвез:
— Мы сами-де воровских денег не делаем, берем у других не знаючи.
Между тем серебряники, котельники, оловянишники, жившие прежде небогато, внезапно построили себе деревянные и каменные дома, стали сами носить богатую одежду и поделали женам платья по боярскому обычаю, обстановку домашнюю делали богатую, не жалея денег; а сынки их сновали по Москве в дорогих санях и тележках, на лихацких лошадях, или бахматах, как их тогда называли.
Причины такого быстрого обогащения вскоре обнаружились, когда при обысках у них отыскивали и медь, и формы, и инструменты для отливки монеты и чеканы.
Преступников казнили смертью, или отсекали у них руки и прибивали к их домам, а дома отбирали в казну.
Если бы так было поступлено с одним или с другим, то было бы тоже страшно; а то, в короткое время, отрубили по всему государству семь тысяч голов и пятнадцать тысяч рук…
Из такого большого числа не без того, чтобы не было много невинных.
Ужас и негодование овладели и Москвою, и областями, тем более, что слухи носились, что богатые откупались от беды, давая большие взятки царскому тестю, Илье Даниловичу Милославскому, и царскому дяде по матери, Матюшкину. В других городах преступники откупались, давая взятки воеводам и приказным людям.
Для рассмотрения приема и расхода меди и денег на денежных дворах приставлены были лучшие московские головы и целовальники — из гостей и торговых людей, и, казалось, люди они честные и достаточные; но и они оказались ворами: покупали медь в Москве и Швеции, привозили тайно на денежные дворы и, вместе с царскою медью, приказывали из нее делать рубли и отвозили их к себе домой.
Стрельцы, занимавшие в монетном дворе караул, донесли об этом своему голове Артамону Сергеевичу Матвееву; мастера монетного двора заявили об этом тоже в приказе тайных дел.
Царь рассердился и велел произвести следствие, и, к ужасу его, виновные под пыткою показали, что Матюшкин и Милославские были с ними заодно.
Царь велел отставить от должностей обоих: и дядю, и тестя.
Москва, однако ж, не была этим довольна: семь тысяч голов, варварски у обыкновенных смертных отрубленных, требовали более строгих мер и против царских родственников, — тем более, что москвичи помнили, что Морозов и Милославский избегли кары народной и в 1648 году.
Раздавался всюду глухой ропот, и после Светлого Воскресения, в 1662 году, пошли слухи, что будет-де в Москве гиль, что народ собирается на Илью Милославского, на гостя Шорина и на Кадашевца — делателей фальшивых монет.
Говорилось это не тайно, а громко, и бояре не принимали никаких мер, как будто это не касалось их. Нужно в этом случае полагать, что с падением у царя, в это время, авторитета Милославского, вероятно, партия Хитрово и радовалась, что Милославские погибнут.
Он и Матвеев увезли, поэтому, Алексея Михайловича в Коломенский дворец и в самом селе расположили сильный стрелецкий отряд, оставив Москву на произвол судьбы.
В двадцатых числах июля в Москве пошли слухи, что из Польши кто-то привез печатные листы, в которых говорится, что сам Ртищев затеял медные рубли, да и сам фабрикует их…
Поговорили, поговорили, тем и кончилось.
25 июля, утром, на Сретенке, у земской избы, собрались мирские люди потолковать о новом налоге правительства по пятинной деньге.
Многие из торговых и промышленных людей жаловались миру на бедственное положение народа, как в это время проходит от Никольских ворот по Сретенке несколько человек и кричат:
— На Лубянке у столба письмо приклеено…
Вся толпа мирских людей, с головами и сотскими, бросилась поглядеть, что за письмо на столбе.
К столбу приклеена была бумажка, и на ней написано:
«Изменник Илья Данилович Милославский, да окольничий Федор Михайлович Ртищев, да Иван Михайлович Милославский, да гость Василий Шорин»…
О письме этом сретенский сотский Григорьев дал знать в земский приказ, и оттуда прискакали на Лубянку дворянин Ларионов и дьяк Башмаков: они сорвали письмо.
Толпа пришла в негодование и зашумела:
— Вы везете письмо изменникам!
— Письмо надобно всему миру!
— Государя на Москве нетути!
— Православные христиане, — точно колокол загремел стрелец Ногаев, — постойте всем миром; дворянин и дьяк отвезут письмо к Милославскому, и там это дело так и изойдет…
Мир бросается догонять Ларионова и Башмакова; нагнали их, Ларионова лошадь схватили и за уздцы, и за ноги, и кричали сотскому Григорьеву:
— Возьми у него письмо, а не возьмешь, так побьем тебя каменьями.
Григорьев вырвал письмо у Ларионова, и толпа с торжеством двинулась назад на Лубянку к церкви преподобного Феодосия.
Стрелец Ногаев тащил Григорьева за ворог, другие подталкивали его.
У церкви Ногаев влез на лавку и прочитал вслух письмо, причем крикнул, что надобно за это всем стоять.
С Лубянки народ подошел к земскому двору; тут поставили скамью и требовали, чтобы Григорьев влез на нее и читал, но тот отказался. Тогда Ногаев опять прочитал народу письмо с одной стороны; но другой стороны не мог он разобрать, и народ заставил прочитать письмо какому-то подошедшему в это время подьячему.
Григорьев этой сумятицей воспользовался и улизнул, приказав своему десятскому Лучке Жидкому не выдавать толпе письма.
Десятский хотел было отнять от них письмо, но толпа разделилась на две части: одна бросилась для расправы с Шориным, другая двинулась в Коломенское село, к царю.
* * *
Ничего не зная, что натворили бояре в Москве казнокрадством, рублением рук и голов, тишайший наслаждался в Коломенском селе благорастворенным воздухом, псовою и соколиною охотою, а в этот день он, к всему этому, праздновал еще день рождения шестой царевны Феодосии.
Дворец не был еще в это время перестроен и не был еще тем «восьмым чудом света», как назвал его в стихах своих, поднесенных царю, пиит борзый Симеон Полоцкий. Переделка его началась четыре года спустя после низложения Никона; но тем не менее дворец был велик и грандиозен, в чисто русском стиле, и не был еще особенно стар, так как двадцать два года перед тем пересооружен царем Михаилом Феодоровичем. Село это лежало всего в 7 верстах от Москвы, на берегу Москвы-реки, и утопало в зелени фруктовых садов и рощ. Цари любили здесь проводить лето, тем более, что можно было заниматься и псовою, и соколиною охотою. Алексей Михайлович особенно любил это село и, удаляясь сюда, он забывал тяжелые заботы, интриги и дрязги…
И теперь он был в духе. На праздник съехались не только родственники, но и другие бояре; даже тесть Илья Данилович, несмотря на опалу, был приглашен на праздник. Царь был в придворной церкви у обедни и, стоя у окна, усердно молился. Выглянув нечаянно в окно, он удивился: народ большою массою шел во дворцовый двор: все были без шапок, но громко шумели, и в церковь долетали имена Ртищева и Милославского. Царь догадался, в чем дело, и стоявшим за ним боярам этим он приказал тотчас удалиться в покои царицы и там спрятаться, — так как терем считался для народа неприкосновенною святынею.
Царица, больная от родов, лежала в постели, как вдруг докладывают, что царь прислал ее отца и Ртищева, чтобы она их спрятала у себя.
Тогда все боярские и царские хоромы строились затейливо, со сложной системою коридоров, потайных кабинетов и чуланчиков, и царица велела туда спрятать отца и Ртищева.
Но сама испугалась сильно; а весь терем заголосил, завыл, забегал, — точно боярынь режут и жгут.
Между тем шум народа, ворвавшегося в дворцовый двор, становился все грознее и грознее, и толпа, приблизясь к крыльцу, требовала царя.
— Идемте к народу, нечего делать. Не дослушаю и обедни, — произнес хладнокровно Алексей Михайлович и двинулся вперед из церкви.
Бояре и родственники пошли за ним. Все были без оружия, так как, по обычаю, в церковь с оружием никто не смел входить.
Государь вышел на крыльцо.
Впереди всех стоял Лучко Жидкий и держал в шапке письмо.
Нижегородец Мартын Жедринский, стоявший здесь, взял это письмо и поднес царю:
— Изволь, великий государь, вычесть письмо перед миром, а изменников привесть перед себя…
— Ступайте домой, — спокойно произнес Алексей Михайлович, — а я, как только отойдет обедня, поеду в Москву и в том деле учиню сыск и указ.
Гилевщики схватили его за платье и за пуговицы, и раздались голоса:
— Чему верить?
— Дай клятву…
Алексей Михайлович улыбнулся и произнес:
— Клянусь Богом и даю вам в том руку…
Стоявший вблизи его гилевщик перебил с ним руку.
— Теперь по домам! С Богом, — крикнул народ, весело бросившись в обратный путь.
Едва народ разбрелся, как государь послал в Москву храброго князя Хованского водворить там порядок, а сам сел обедать, чтобы после трапезы с боярами и стрельцами ехать в Москву.
В Москве в это время гилевщики, направившиеся к дому купца Шорина, ворвались в хоромы и разграбили их.
Хозяина самого они не нашли — он успел уйти в Кремль и спрятался в доме боярина князя Черкасского, любимца Москвы.
Захватили они, однако ж, пятнадцатилетнего сына Шорина, пригрозили ему показывать, что его отец-де бежал в Польшу с боярскими грамотами. Между тем толпа все более и более росла: день был хороший, не рабочий по случаю рождения царевны, и народу высыпало к дому Шорина видимо-невидимо. И вот, когда эта многочисленная толпа собиралась двинуться в с. Коломенское, не столько ради мятежа, как поглядеть в праздник на своего батюшку-царя, да подышать в селении свежим воздухом, — появился князь Хованский.
Он обратился к гилевщикам и уговаривал их разойтись, объявляя, что государь, как только пообедает, двинется в Москву творить суд над преступниками.
В ответ ему из толпы закричали:
— Ты, боярин, человек добрый, и службы твоей к царю против польского короля много. Нам до тебя дела нет, но пусть царь выдаст головою изменников бояр, которых мы просим.
Хованский поскакал обратно в Коломенское село, и вслед за ним двинулся народ.
Гилевшиков было не более двухсот человек, и то они не имели оружия, — у некоторых виднелись только палки в руках; остальная почти десятитысячная масса состояла из лиц разного сословия и звания: были даже дети и женщины.
Все это двигалось, в виде прогулки, поглазеть, полюбопытствовать.
По дороге гилевщики встретили возвращавшихся в обратную товарищей, которых царь успокоил, но толпа увлекала их назад. Потом они встретили царского дядю, Семена Лукича Стрешнева; тот выехал от имени царя упросить народ возвратиться в Москву. Стрешнев слишком высокомерно заговорил с толпою, и та погналась за ним с палками, так что, чтобы спастись, Стрешнев должен был вскочить с аргамаком своим в Москву-реку и переплыть с ним на другой берег. Это только и спасло его.
После того гилевщики продолжали путь.
Узнав о приближении народа, царь собрал стрельцов и бояр на площади перед двором своих палат; ему уж подвели было коня, и он хотел было сесть на него, чтобы двинуться навстречу народу, как появились гилевщики, и впереди их сын Шорина.
Мальчик прокричал громко, что отец его-де уехал в Польшу с боярскими грамотами.
Едва Шорин кончил, как со всех сторон раздались неистовые крики:
— Выдай изменников…
— Я, — кротко произнес Алексей Михайлович, — государь и мое дело сыскать и наказание учинить кому доведется по сыску, а вы ступайте по домам. Дело так не оставлю, в том жена и дети мои порука.
— Не дай нам погибнуть напрасно.
— Буде добром тех бояр не отдашь, так мы станем брать их у тебя сами по своему обычаю!.. — раздались голоса.
Здесь нужно было небольшую толпу гилевщиков, резко отделявшихся от народа, окружить и забрать или перебить; но кто-то вдруг крикнул:
— Бей их!..
Войска с боярами бросились на толпу, рубили и кололи налево и направо.
В ужасе безоружный народ бросился врассыпную: многие хотели спастись, переплывая Москва-реку, но там утонули…
Утонуло сто человек; изувечено, изрублено насмерть более семи тысяч.
Это была, в полном смысле слова, бойня людей, где не разбирали ни пола, ни возраста, ни лиц.
Несколько часов продолжалось ото позорное дело. Оставшиеся в живых и попавшие в руки стрельцов отвезены в монастырь, к Николе на Угрешу. Следствием суда было вешание, резание рук, ног, языков и ссылка в дальние города.
Царица после этого ужасного дела заболела и пролежала весь год, так что опасались даже за ее жизнь.
Москва долго после этого погрома не могла оправиться и прийти в себя: кто не досчитывался мужа, кто брата, кто сына, кто отца; также много женщин и детей погибло бесследно.
Когда весть дошла к Никону, он несколько недель постился, плакал, сокрушался и служил панихиду по убитым и казненным страдальцам.
Последнее доходило до Москвы, и еще пуще враги его озлоблялись и готовили ему разные козни.
XXI Боярские козни
Родион Стрешнев сидел в Путивле и ждал проезда Никона, чтобы его арестовать; но вскоре получил от Хитрово гонца, что патриарх уже остановлен и возвращен в монастырь и что в Москве земская смута.
Получив это извещение, он тотчас вернулся в Москву, и в тот же день у него собрались: Крутицкий митрополит Павел, Семен Лукич Стрешнев, Паисий, Алмаз и Хитрово.
Хитрово рассказал, как он арестовал Никона, и что царь велел его отъезд держать в тайне.
— Никон проклинает: важно ли его проклятие?
— Клятва, подобно молнии, сожжет виновного; если же произнесена не по достоинству, то падает на того, кто произнес ее, — авторитетно произнес Паисий для успокоения царя, боявшегося проклятия Никона.
Были ему предложены еще несколько несущественных вопросов, и между прочим о том, что Никон будто бы называет царя мучителем, обидчиком и хищником. Тоже спрошен он о проклятии, произнесенном патриархом над Стрешневым.
На первый вопрос Паисий отвечал: «Если он духовного чина, то да извержется». На второй он дал чисто греческий ответ: «Если б мышь взяла освященный хлеб, нельзя сказать, чтоб причастилась; так и благословение собаки не есть благословение; шутить святыми делами не подобает, но в малых делах недостойно проклятие, потому что считают его за ничто».
Акт этот, подписанный Паисием, Хитрово взял с собою для доклада царю. Алексей Михайлович, прочитав его несколько раз, сказал:
— Одно ли усердие ваше и митрополита Паисия вызвали вопросы и ответы? Вы хотите уверить меня, что могу утвердить соборное постановление о Никоне; но вы в заблуждении — без вселенского собора я не в праве этого сделать. Но нам нужно еще выслушать святейшего Никона. Отослать к нему эту сказку, — пущай даст письменный ответ.
Хитрово не ждал подобной развязки.
— Великий государь, — воскликнул он, — да ты и без него можешь учинить вселенский собор.
— Без его ответа я и собора не созову. По вас его проклятие ничего, а я его проклятий не хочу, и избави меня Бог от этого несчастия. Не дает проклятие патриарха блага на земле, а у меня дети имеются… Делай, что я приказываю, а коли даст ответ, тогда поглядим.
Отослали этот акт к патриарху, и тот исписал ответами целую тетрадь, в которой он особенно нападал на присвоение себе царем многих патриарших прав.
Ответы Никона сильно рассердили царя, но вместе с тем убедили его, что Никон делает его самого подсудимым, а потому здесь нельзя обойтись иначе, как созвать вселенский собор… Но и на это он неохотно решался и медлил распоряжением.
Извещенный об этом кем-то Никон к рождественскому празднику послал в Москву игумена Нового Иерусалима Герасима и строителя Аарона для славления у царя. Вместе с тем они привезли и письмо патриарха к парю.
Письмо было в примирительном духе.
Аарон явился к царскому духовнику протопопу Лукьяну.
Тот принял его хорошо, обещался передать письмо царю и сказал:
— Из Воскресенского монастыря. — закончил он, — дали было знать царю через лекаря Данилова, что патриарх бежал: но в это время он получил от меня гонца с извещением, что я на патриаршем следу и что он не уйдет от меня. Царь и прогнал Данилова, наказав ему не болтать о патриаршем бегстве…
— Что же царь думает делать с ним? — спросил Семен Лукич, — притом, как это совпадает земская смута и бегство Никона!
— Боится судить Никона… да и собор боится созвать царь, в особенности после земской смуты.
— Напрасно, — воскликнул Паисий. — Пущай меня за просят, и я дам ответы письменные, как патриарший посол.
— Алмаз, напиши вопросы, обратился Семен Лукич к думному дьяку, — а я скреплю их как думный боярин.
Алмаз написал обвинительный акт против Никона, состоявший из нестоящих внимания мелочей, и заключил вопросами:
— Может ли царь созвать собор на Никона, или надобно повеление патриаршеское?
— Царь может созвать собор по примеру римских кесарей, — ответил Паисий.
— Собор, созванный царем, Никон почел за ничто и назвал сонмищем жидовским?
— Его надобно как еретика проклинать! — возмутился Паисий.
— Можно ли составом судить главу своего, начальника?
— Все священники, как преемники апостолов, имеют власть вязать и решать, — польстил белому духовенству Паисий, рассчитывая, что этим склонит их на соборе на свою сторону, — в особенности, как пригласит на собор раскольничьих попов.
— Нарекся Никон великим государем по указу царскому?
— Согрешил Никон, приняв такой высочайший титул, — смиренно произнес Паисий.
— Подобало ли Никону убегать страха ради?
— Кто творит добрые дела, никогда не боится, — поднял набожно глаза к небу Паисий.
— Согрешает ли царь, что оставляет во вдовстве церковь Божию?
— Если он это делает для достойных причин, не имеет смертного греха; однако не свободен от меньшего греха, потому что многие соблазняются и думают, что он это делает по нерадению, — дипломатически выставил Паисий греховность царя за то, что он не утверждает постановления собора русских святителей.
Архиереи и бояре, которые не бьют челом и не приводят царя к тому, чтоб дал по этому делу решительный указ, грешат ли?
— И очень грешат! — воскликнул Паисий, зная, что этот ответ даст боярам сильное оружие против Никона.
— Царское величество говорит мне, что пятый год не может дождаться патриарха…
Об этом Аарон тотчас уведомил с нарочным Никона, чтобы он выехал в Чернево и ждал дальнейших его извещений.
Патриарх отправил вследствие этого посох митр. Петра царю, а 27 декабря явился Аарон вновь к духовнику царскому и объявил, что патриарх находится уже в Черневе, просил доложить государю, чтобы позволил приехать в Москву патриарху помолиться Пресвятой Богородице и где царское величество велит очи свои видеть. На это царь с окольничьим, 28 декабря, ответил: «Для мирской многой молвы ехать тебе теперь в Москву непристойно: в народе теперь молва многая о разности в церковной службе и печатных книгах».
Этот ответ напоминает науськивание раскольников. И неудивительно. Слух о приезде его произвел переполох в Москве. Враги, его, т. е. раскольники и боярство, испугались и пустили в ход вес, что только возможно, чтобы государь не принял его и сделал бы в отношении его решительный шаг. Несколько дней спустя, в конце декабря, собралась у царя соборная дума, т. е. и духовенство, и бояре, и упросили покончить как-нибудь с Никоном, и решено было: послать грека Мелетия с грамотами к восточным патриархам, пригласить в Москву для суда над Никоном.
Решение собора держали в секрете. Между тем, получив отказ на приезд в Москву, патриарх выехал обратно в свой монастырь и написал царю:
«Писал я к тебе, великому государю, второе мое писание и прошение, чтобы мне помолиться Пресвятой Богородице и святому образу ее поклониться, и пресветлое лицо твое, великого государя, видеть и престолу славы царствия поклониться, — в том погрешил, безместно и непрощенно согрешил пред тобою, великим государем. Знаю, что есть такие люди, как мытари и лихоимцы, которые хотят видеть тебя; один только я, более всех грешнейший пред тобою, не достоин тебя видеть… Молю тебя, великий государь, если в чем согрешил беззаконно, от всего сердца твоего оставь, Господа ради, да Господь Бог оставит и твои согрешения… Более всего не могу у милости тебя, великий государь, умолить, если сим не умолишься».
Письмо это оскорбило всех бояр: он назвал их мытарями и лихоимцами. Царь, однако ж, воздержался посылкою Мелетия к патриархам восточным.
Это выводило из терпения его врагов, и вот, 7 июня 1663 года, Паисий, по наущению бояр, написал царю: «Если Никон виноват, то пусть извержется по определению собора; если невинен, то пусть возвратится на престол свой, лишь бы только кончилось как-нибудь это дело, потому что Московия стала позорищем для всей вселенной, где народы ждут конца этой трагикомедии. Носится слух, что Никон бежал, спасаясь от умысла на свою жизнь; этот слух пятнит священное величество ваше, бесславит сенат и народ московский».
Паисий заключает письмо советом отдать дело на суд константинопольского патриарха.
Но письмо это не склонило царя к решительному шагу.
Тогда бояре собрались у Стрешнева, чтобы обсудить, что делать.
Судили, рядили и не пришил ни к какому заключению. Вдруг является к ним боярин Боборыкин. Бледный и расстроенный, он опускается на топчан и говорит:
— Наконец-то и я доигрался с Никоном… Он меня… про… проклял.
— Как так, и за что? — восклицает несколько голосов.
— Да все за рожь, которую сажали монастырские крестьяне!.. Пошел со мною святейший на мировую… Я поставил ему шестьсот четвертей хлеба в счет, а тот насчитывает сто шестьдесят семь… Прочитал сделку, подписанную мною, рассердился, разорвал ее и воскликнул: «На ложное твое челобитье денег не напастись, и не откупиться и всем монастырем»… Потом он, 26 июня, на литургии, после заамвонной молитвы, после молебна, читал царскую грамоту и произнес проклятие…
— И слышали люди твое имя?
— Не слышали…
— Так ты прав. Государево-де дело, значит он царя и семейство его проклинал, — воскликнуло несколько голосов.
— Я тотчас еду к царю, — крикнул Хитрово, — и доложу… Царя проклинать… да ведь такого примера в целом мире не было… Да его четвертовать мало.
— Колесовать… язык вырвать… сжечь… доложить царю! — раздались голоса.
Хитрово побежал к государю.
Он не застал царя, тот находился в это время в тереме царицы, где он любовался сыном Феодором, у которого в это время резались зубы. Анна Петровна Хитрово, как няня Федора, показывала ему дитя, хвасталась его умом, хотя ему едва было год, и заставляла его показывать свои зубы. Счастливый родитель, жаждавший так второго сына, сидел радостен и его тешило, когда сынок схватит его за его прелестную русую бороду и теребит.
— Да только ты, постреленок, потише, — говорит добродушно Алексей Михайлович, распутывая пальчики младенца из своей бороды, — а то, пожалуй, пока вырастешь да поумнеешь, я-то и без бороды буду.
В это время одна из стольниц доложила ему, что Хитрово просит царя в его комнату, так как у него-де важное дело.
С неудовольствием, что прервали его семейное счастье, Алексей Михайлович отправился в свой кабинет.
Хитрово, в ожидании царя, стоял у окна; он был бледен и встревожен.
«Каково-то царь примет принесенное им известие?» — думал он, и сердце невольно у него трепетало.
— Потревожил ты меня, Богдан, не в пору, — сказал он. — Я любовался сынишком Федором… Молодец будет, коли вырастет.
— Дай-то Господь Бог… Моя тетушка Анна Петровна уж как радеет об нем… уж как радеет… Одно лишь… кабы…
— Что хочешь сказать?..
— Чтобы часом какого ни на есть наговора, — произнес Хитрово, как бы нехотя.
— Аль ты что знаешь?.. Аль что случилось? — испугался царь.
— Да, великий государь, оповестить тебя пришел… Боярин Боборыкин супротив патриарха Никона… да с государевым делом…
— Супротив Никона?.. Говори, не мучь…
Хитрово рассказал, как 26 июля патриарх вынес в церковь царскую жалованную грамоту монастыря, читал то место, где говорится о пожаловании обители вотчины Боборыкина, и как потом он будто проклял паря в следующих выражениях: «Да будут дни его малы, да будут сынове его сиры и жена его вдова».
— Как, — воскликнул Алексей Михайлович, побледнев. — правда ли?.. Не могу верить, и за что такая кара? И не только мне но и моим детям, и моему двору. Боже мой! Боже мой!., доподлинно сыскать… собрать собор думный! Да сейчас же..
Хитрово поторопился исполнить его волю: собрался собор святителей и бояр в Золотой палате.
Вышел к собору государь, сильно встревоженный, и передал ему о случившемся. Он со слезами, задыхающимся голосом сказал:
— Пущай я грешен; но чем согрешили дети мои, царица и весь двор? Зачем над ними произносит клятву истребления[58].
Собор пришел в негодование, а присутствовавший здесь же Паисий уверял царя, что такая клятва или проклятие не имеет силы и значения.
Религиозный царь, однако же, не поверил этому, и велено произвести следствие, на которое назначили: Паисия, архиепископа Иоасафа и архимандрита Богоявленского монастыря; а из светских: князя Одоевского, Родиона Стрешнева и Алмаза, — словом, всех врагов Никона.
Все они условились меж собою, если даже он и прав, то вывести его, во что бы то ни было, из терпения, чтобы усилить повод к его осуждению и к убеждению царя в необходимости собора.
18 июля они приехали в «Новый Иерусалим», в сопровождении стрельцов, под начальством Артамона Сергеевича Матвеева, стрелецкого головы.
Никон был у вечерни в Воскресенской церкви. Князь Одоевский послал ему сказать, что приехали к нему царские послы. Патриарх ответил, что все могут к нему пожаловать, за исключением митрополита Паисия, если только он не имеет грамоты патриарха.
Несмотря на это запрещение, Паисий отправился к нему с другими послами и, шествуя впереди всех, хотел было с ним заговорить, но тот крикнул:
— Вот, нехристь, собака, самоставленник, мужик, давно ли на тебе архиерейское платье?.. Есть ли у тебя от вселенских патриархов ко мне грамоты?.. Не в первый раз тебе ездить по государствам и мутить! И здесь хочешь сделать то же…
На это, будто бы[59] хотел возразить архиепископ Иосаф, но, вероятно, Никон напомнил ему обещание, даваемое епископами патриарху в послушании, а в протоколе сказано, что Никон крикнул на него:
— Помнишь ли ты, бедный (?!), свое обещание? Обещался ты и царя не слушать, и теперь говоришь! Разве тебе, бедному, дали что-нибудь? Я тебя и слушать и говорить с тобою не стану[60].
— Митрополита, — прервал его Одоевский, — архиепископа и архимандрита выбирали освященным собором и о том докладывали великому государю, а ты их бесчестишь. Этим бесчестием и великому государю досаждения много приносишь. А газский митрополит приехал к великому государю, и грамоту с ним прислал к царскому величеству иерусалимский патриарх.
Паисий, огорошенный бранью Никона, оправился и нагло заговорил:
— Ты, патриарх, меня вором, собакою и самоставленником называешь напрасно: я послан к тебе выговаривать твои неистовства, — послан от святейшего собора, с доклада великому государю. Ты бесчестишь не меня, а великого государя и весь освященный собор. Я отпишу об этом к вселенским патриархам. А что ты называешь меня еамоставленником, за это месть примешь от Бога. Я поставлен иерусалимским патриархам Паисием, и ставленная грамота за его рукою. Если бы ты был на своем патриаршем престоле, то бы тебе свою ставленную грамоту показал; а теперь ты не патриарх, достоинство свое и престол самовольно оставил, а другого патриарха на Москве нет: потому и грамоты от вселенских патриархов к московскому патриарху со мною нет.
— Я с тобою, вором, ни о чем говорить не стану, — закончил Никон.
И Никон был прав: начал свою речь Паисий, именуя его патриархом: а в конце он отрицает его патриаршее значение: притом в Россию попал Паисий по милости грамоты Никона: и поэтому последняя отговорка его была ложь.
Тогда к патриарху, от имени царя, остальные послы обратились с вопросами:
Послы. Для чего ты на молебнах жалованную грамоту государеву приносил, клал под крест и под образа Богородицы, читать ее приказывал и, выбирая из псалмов клятвенные слова, говорил?…
Никон. На литургии, после заамвонной молитвы, со всем собором я служил молебен, государеву жалованную грамоту прочитать велел, под крест и под образ Богородицы клал; а клятву износил на обидящего, на Романа Боборыкина, а не на великого государя, я за него на ектениях Бога молил.
Послы в другой форме повторили свой вопрос. Никон дал прежний ответ, причем присовокупил: «Если я проклинал государя, то будь я анафема».
Тут Никон пошел в заднюю комнату и вынес тетрадку.
— Вот какую молитву читал я над грамотою, — сказал он и начал читать.
— Вольно тебе, — прервали его послы, — показывать нам другую молитву; на молебне ты говорил из псалмов клятвенные слова, и в том сам не запирался, что такие псалмы на молебне говорил.
Это была дерзость, и Никон, быть может, их выругал а посланные показали, что Никон будто бы сказал:
— Хотя бы я к лицу великого государя говорил, так что ж, я за такие обиды и теперь стану молиться: проси, Господи, зла славным земли.
Последнее — ложь, так как это было бы подтверждено впоследствии на соборе, — а в это время им нужно было вооружить религиозного царя к его низложению.
На слова Никона будто бы послы сказали ему:
— Как ты забыл премногую государеву милость! Великий государь почитал тебя больше прежних патриархов, а ты не боишься суда праведного Божия… такие непристойные вещи говоришь. Какие тебе от государя обиды?
— Он закона Божия не исполняет: в духовные дела и в святительские суды вступается, делает всякие дела в монастырском приказе и служить нас заставляет.
Здесь снова слышится протест о введении по делам веры пытки и наказаний по уложению, которое противоречило христианскому братолюбию и резко отличалось от прежних уложений.
Послы стали оправдывать царя, а на патриарха вылили целый поток голословных обвинений в том, что и он, когда-то, вмешивался в дела мирские, т. е. другими словами: зачем-де он управлял когда-то так славно государством.
Никон слушал их не то с негодованием, не то с презрением, и когда они кончили, он обратился к святителям:
— Какой у вас теперь там собор, и кто приказывал его вам сзывать?..
— Этот собор, — отвечали святители, — мы созвали по приказанию великого государя, для твоего неистовства, а тебе до этого собора дела нет, потому что ты достоинство свое патриаршеское оставил.
— Я достоинства своего патриаршеского не оставлял, — вспылил Никон.
— Как не оставлял? — закричали послы. — А это разве не твое письмо, где ты пишешь, что ты не возвратишься на патриаршество, как пес на свою… Разве ты сам не писался «бывшим» патриархом?..
— Я и теперь государю не патриарх, — возвысил голос Никон.
— По самовольному, — закричали послы, — с патриаршеского престола удалению и по нынешним неистовствам ты и всем нам не патриарх; достоин ты за свои неистовства ссылки и подначальства крепкого, потому что великому государю делаешь много досады и в мире — смуту.
— Вы пришли на меня, — вышел из себя Никон, как жиды на Христа.
Никон после этого будто бы долго шумел, а послы будто молчали: но из дерзостей, ими наговоренных, вовсе не видно, чтобы они были из скромных.
После того послы ушли в гостиный двор и потребовали к себе свидетелей: единогласный ответ был, что на ектениях патриарх за государя Бога молил, а псалмы — к какому лицу читал, того они не знают, Никон-де имени не упомянул.
Видя, что ответ неблагоприятен, послы отправили к царю содержание разговора с Никоном, исказив его в таком виде, как мы указали.
Узнал ли об этом Никон или нет, неизвестно; но в тот день ночь была темна, и из скита, за полночь, вышли три человека в крестьянской одежде.
Шли они тихою поступью по колее и пробрались на большую дорогу. Самый высокий шел немного впереди, остальные отставали.
— Альбо то можно, — обратился шепотом к товарищу своему один из отстававших, — патриарх да в мужичьей одежде… да и при нас ни пиштоля, ни сабли.
— Молчи, — отвечал Долманов, немец и крестник Никона, — я захватил и то, и другое… Они у меня под армяком… Коли понадобятся, так ты бери, что хочешь…
— Джелебы то можно, так саблю, — десятерых уложу.
Шли они так всю ночь и к утру зашли в село, с тем, чтобы отдохнуть в какой-нибудь избе, а там ночью продолжать путь…
В то время как путники собирались лечь спать, в монастыре заметили пустоту в ските крещеные еврейчики Мошко и Гершко, шпионившие за Никоном.
Они бросились к князю Одоевскому и к святителям в гостиный двор.
— Патриарх бежал… Патриарх тю-тю!.. — кричали они, вбегая к князю.
— Как, бежал? Когда?..
— Ништу! — заревел Мошко над самым его ухом.
Одоевский, Стрешнев, Алмаз, в одних рубахах сверх шаровар, и святители, несмотря на свой почетный сан, в одних подрясниках, побежали к скиту — там никого не было. Стали допрашивать всех в монастыре, послали в Воскресенское село (теперь город) — никто не видел Никона.
Собрались духовный и светские послы, чтобы потолковать, что делать.
Стрешнев объявил, что он имеет грамоту, выданную ему еще при первом побеге Никона о задержании его, где бы он его ни нашел.
— Да мы его задержим и без государева указа, — сказал тогда Одоевский. — А ты, вот, возьми стрельцов, да посади их на коней и поезжай на Киевский путь… Мы с Алмазом поедем на Смоленск…
Стрешнев на скорую руку оделся, сел в коляску и выехал из монастыря, окруженный конною стражею.
Ближайшее село было в пятнадцати верстах отсюда и принадлежало боярину Сытину.
Крестьянин, у которого остановился Никон, узнал его и тотчас дал знать о том своему помещику, но тот боялся принять на себя ответственность и арестовать его и хотел было дать знать об этом в монастырь послам, о приезде которых ему было известно, и когда он уже решился на последнее, ему дали знать, что приехал нему окольничий Стрешнев.
Сытин принял с подобающим почетом Стрешнева и спросил, что причиною его приезда.
Стрешнев объявил ему о бегстве Никона и что он имеет государев указ о задержании его.
— В таком случае, — сказал тогда Сытин, — я должен доложить: Никон здесь в селе и остановился у одного из крестьян.
— Вот счастье, так счастье, — воскликнул Стрешнев. Но днем его не годится брать, наделаем шуму,, и крестьяне, пожалуй, возмутятся… Нужно следить, куда он выйдет, тогда мы и заберем его. Как он сюда явился?
— Мужиками они здесь строем… и пешком…
— Так он наш, — воскликнул Стрешнев. — Вели, боярин, чтобы тотчас дали нам знать, как он выйдет из села.
Сытин тотчас распорядился.
Остался он обедать у боярина, осматривал его усадьбу и хозяйство, как будто ни в чем не бывало, но лошади стояли наготове.
Наступил вечер, и вскоре сильно стемнело; дали знать, что Никон и спутники его выступили из села на юг, по проселочной дороге.
Стрешнев сел в экипаж и поскакал со стрельцами по указанному ему пути; впереди его мчались проводники, данные ему Сытиным, с двумя факелами в руках.
Вскоре они догнали Никона. Видя поезд, Никон и его спутники сошли с дороги в сторону.
— Стой! — крикнул Стрешнев.
Экипаж, стрельцы и проводники остановились. При этом крике Ольшевский обнажил саблю, а Долманов взвел курок пистолета.
Стрешнев выскочил из экипажа и стал приближаться к Никону.
— Стрелять буду! — крикнул Долманов.
— Изрублю! — возвысил голос Ольшевский.
— Я без оружия, — хладнокровно ответил Стрешнев. — Можете рубить и стрелять… Святейший патриарх, я по указу государеву…
— Лжешь, щенок, не может быть у тебя указа, — крикнул Никон.
— Факел сюда, — хладнокровно ответил Стрешнев.
Проводник соскочил с коня, Стрешнев передал царский указ.
Прочитав его, патриарх ужаснулся.
— Покоя мне не дают… Да это хуже жидов, хуже юродивого гонения. Там Христа гоняли из града в град, но не преследовали… Хочу уйти от греха и зла… и не дают… Умалился я… образ принял мужика… хочу идти в Киев пешком. Оставил вам все, уношу с собою одно лишь грешное свое тело, и того вам жаль… Неугоден я вам… окоростенел в гонении и в смраде вашего зла, — так и отпустите… Не поеду я с тобою…
Никон хотел продолжать путь.
— Указ царя, — воскликнул Стрешнев, — взять тебя силою. Коли сам не послушаешься, коли сам не возвратишься.
— Поглядим, как у тебя станет дерзновения взять патриарха, — вознегодовал Никон.
— Стрелять буду! Убью! — крикнули в один голос Ольшевский и Долманов.
— Прочь оружие, — крикнул на них патриарх, — пущай берет, а я не пойду назад…
Стрешнев велел стрельцам спешиться и, взяв несколько человек с собою, подошел к патриарху.
— Бери, бери, — крикнул тот.
Они схватили на руки Никона, понесли его к экипажу и посадили туда.
Стрешнев хотел тоже сесть в коляску.
— Не смей, выброшу тебя, щенка, отсюда… Много чести тебе сидеть рядом с патриархом… с ним может сидеть так только один великий государь, — крикнул Никон.
Стрешнев велел одному из стрельцов спешиться, сел на коня и велел кучеру ехать.
Экипаж тронулся в обратный путь, и не более как через час они возвратились в монастырь. Князь Одоевский велел к воротам обители поставить стрельцов, а на другой день, арестовав Ольшевского и Долманова, он отправил их в Москву.
Историю эту затерли, и о ней упоминается только у Паисия в записке его к царю о Никоне.
Послы оставались еще несколько дней в обители, т. е. до 23 июля. Между тем наступил воскресный день. Никон служил в приделе распятия Христова, где есть изображение св. Голгофы, животворящему кресту и читал страстное евангелие, причем с особенным подчеркиванием произнес слова:
— «Вот уже пришла воинская стража. Ирод и Пилат явились в суд: приблизились архиереи Анна и Каиафа»…
При этом Никон толковал евангелие и евангельские события и применял их к своим напастям.
Видя, что они с ним ничего не поделают, послы сочинили, что перед отъездом они имели следующий разговор с ним:
— Дайте мне, — будто бы говорил он, — только дождаться собора, я великого государя оточту от христианства, уже у меня и грамота заготовлена…
— Ты забыл страх Божий, — будто бы послы отвечали, — что говоришь такие неподобные речи! За них поразит тебя Бог: нам такие злые речи и слышать страшно. Только бы ты был не такого чина, то мы бы тебя живого не отпустили…
Потом послы хотели показать, что патриарх еретик или папист, и поэтому передали, что они спросили его, почему он прислал Паисию выписку из сардикийского вселенского собора, в которой говорится о папе.
— Папу, — отвечал будто бы Никон, — почему за доброе не почитать? Там верховные апостолы Петр и Павел, и он у них служит.
— Но ведь папу на соборах проклинаем, — воскликнули послы.
— Это я знаю; знаю и то, что папа много дурного делает, — возразил Никон.
Никон впоследствии пояснил, что последнее он закончил словами: «а потому мой папа патриарх константинопольский», о чем послы в сказке своей умолчали.
В заключение, желая на Никона свалить вину в распространении раскола и самого его возникновения, вследствие шаткости его собственных действий, послы задали ему вопрос:
— Для чего ты ввел мир в великий соблазн: выдал три служебника и во всех рознь, и в церквах от того несогласие большое?
— Теперь поют, кто как хочет, — отвечал Никон — и все это делается от непослушания; а если я в книгах речи переменял, то переправлял я по письму и свидетельству вселенских патриархов.
Как в вопросе слышится раскольничья нотка, так в ответе его видна вся его система в отношении раскольников. «Теперь поют, кто как хочет, — сказал он, — потому что за это не было никаких наказаний и крутых мер».
И в этом заключаются все протесты Никона, когда он требовал, чтобы светская власть не вступалась в духовные дела, т. е., другими словами, он отвергал инквизиционные латинские формы по делам веры. А раскольники и, к прискорбию, наши историки по невежеству своему выставляют все дело Никона как борьбу духовной власти со светскою в господстве в государстве. Никон же, напротив, требовал на основании постановлений вселенских соборов отделения церкви от государства, что соответствует даже и ныне последнему слову науки государственного права и православного богословия: «Царствие мое несть от мира сего», — сказал Христос. Требовал же он невмешательства светского суда в дела духовные, потому что боярство было грубо, невежественно и фанатично и своими жестокими пытками и казнями грозило не утушить, а развить фанатизм раскола. Раскольники поэтому грешили и грешат за осуждение его, за все мучения, которые они впоследствии претерпели от никониан.
Разногласия же изданий Никона возникли следующим образом: первое его издание было по старопечатным книгам; потом по исправлениям отечественных переводчиков по греческим источникам, явилось второе арсеньевское издание; в третий раз явилось новое издание того же Арсения после собора 1665 г., где установили окончательную редакцию служебника. Печатались же первые издания, так как в церкви чувствовался крайний недостаток в книгах. Все это и духовенству, и боярам было отлично известно, только сказка умышленно была взята с Никона, чтобы впоследствии, на соборе, обвинить Никона в том, что он ввел раскол, и выставить его как еретика.
Этим окончилось следственное дело о проклятии царя, и Алексей Михайлович был убежден в справедливости того, что Никон его проклял. Но это чепуха: кто мог отгадать мысли Никона, когда он при проклятии имени не произносил?..
XXII Новые боярские козни
Прочитав следственное дело о проклятии Никона и узнав о бегстве его и насильственном возвращении в Новый Иерусалим, царь ужаснулся. В особенности бегство окончательно убедило его, что Никон, вероятно, проклял его… Сильно это смутило его религиозное чувство.
— Как, — думал он, — я считал благочестие первою своею обязанностью, и он, бывший собинный друг мой, не только предал меня анафеме, но еще грозит отлучить меня совсем от христианства!..
Призвал он своего духовного отца протопопа Лукияна.
Лукиян, сколько было сил, успокаивал его, но просил пригласить к себе нескольких архиереев, чтобы они решили: что делать, если в действительности это проклятие возникло?.. Собрали думный собор и решили, что после постановления поместного русского собора о низложении Никона и лишении его священства в нем уже нет благодати святой; теперь же необходимо созвать вселенский собор, который утвердит постановление этого собора, и тогда очевидно, что и проклятие Никона, при отсутствии в нем благодати Св. Духа, ничего не значащее. Кроме того, если бы даже вселенский собор и не утвердил постановления поместного собора, то и в таком случае он может снять от царя клятву, на него произнесенную Никоном.
Это успокоило царя и он хотел было отправить грека Мелетия к патриархам. Но вот бояре и раскольники, чтобы ускорить это дело, пустили тогда в ход новые козни.
Никон на Истре имел живорыбный садок. Соблюдая строгий пост, он должен был иметь что-нибудь для еды, если не в будние дни, то, по крайней мере, в праздничные.
Садок этот заключал в себе небольшое количество рыбы, и приближенные к патриарху берегли его, как зеницу своего ока.
Заведывал этими садками состоявший при Никоне боярский сын Лускин.
Однажды от заметил, что у него стала пропадать рыба.
Передал он свои подозрения своим сотоварищам, поляку Ольшевскому, кузнецу и Долманову.
Все возмутились и решили ночью засесть на берегу Истры и подстеречь вора.
Несколько ночей они так сторожили и, наконец, поймали воров.
Это были сытинские крестьяне.
Из них один был хозяин той избы, в которой Никон остановился в последнем своем побеге и который выдал их Стрешневу.
Озлились все служители Никона против них и побили их вероятно-таки порядком; после того они заперли их в чулан до другого дня, с тем, чтобы доложить о них патриарху.
Крестьяне, боясь, что Никон передаст их суду, стали грозиться, что если их не отпустят, то они подожгут монастырь и церковь.
Утром другого дня привел Лускин крестьян к Никону.
Патриарх, имея в виду, что если он отправит крестьян в суд, то за их поступок и за их угрозы они подвергнутся и пыткам, и строгому наказанию, велел взыскать с них и отпустить.
Лускин же распорядился отодрать их плетьми.
На это Сытин принес жалобу царю.
Никон отвечал царю:
«Извещаю о себе св. Евангелием, что не знаю того дела, ни ведаю, сделал то дело малый иноземец, поймавши на озере Ивановых (Сытина) крестьян, побил батогами без нашего ведома, а у меня такого указа не было. Бил он их за то, что у него рыбу покрали. Я послал малого к тебе, великому государю: изволь его расспросить, хотя и с пристрастием. Сотвори суд праведный, вспомни свое обещание, на избрании нашем перед всем собором и синклитом данное, что тебе ни во что священное не вступаться; а теперь делаешь над нами неправды великие: клеветников, врагов Божиих, слушаешь и всех чинов людей в грех вводишь тем, что в патриаршей крестовой делается».
Ошибка была в письме та, что Никон просил произвести следствие с пристрастием: он, вероятно, надеялся, что пытки не будет.
Но форма пытки была сама по себе такова, чтобы подсудимый или свидетель сказал то, что хочет следовать.
Пытка заключалась в том, что сбрасывали подсудимому рубаху по пояс, подымали его руки вверх, связывали их вместе, потом крючком, подвешенным к веревке, бывшей на блоке виселицы, захватывали ремень, которым связаны были руки, и тянули по блоку подсудимого вверх. От этого руки выходили из плечных суставов и причиняли сами по себе страшную боль, тем более, что в висячем таком положении держали пытаемого по усмотрению следователя сколько вздумается ему. Но в то время, когда подсудимый висел, палач наносил ему еще удары плетью по спине до тех пор, пока он не скажет то, что угодно следователю.
С Долмановым поступили точно так, и когда задали ему эту встряску, тот сказал, что во второй раз он бил плетьми крестьян по приказанию патриарха.
Эго только и нужно было боярам: они выставили Никона как клятвопреступника, так как он по евангельскому обету свидетельствовал в письме своем.
Это вызвало в боярской думе целую бурю, и вот к нему, от имени царя, является окольничий Сукин и дьяк Брехов.
При допросе этом обе стороны наговорили дерзости: послы Никону, а Никон правительству.
В заключение же послы объявили Никону, что к восточным патриархам отправляется грек Мелетий для приглашения восточных патриархов в Москву, и что им же посланы вопросы, относящиеся к делу его, Никона, для разрешения их патриархами.
По этому поводу Никон отправил к царю письмо:
«Мы, — писал он, — не отметаемся собора и хвалим твое соизволение, как божественное, если сами патриархи захотят быть и рассудить все по божественным заповедям евангельским, св. апостол и св. отец канонам, — ей! не отметаемся. Но прежде молим твое благородие послушать мало это наше увещание с кротостью и долготерпением. Твое благородие изволил собрать по нашем отшествии митрополитов, епископов и архимандритов на суд, вопреки Божиим заповедям, потому что нет такой заповеди, по которой епископы могли бы судить своего патриарха, особенно же от него рукоположенные, и судить заочно».
Выписавши евангельские повествования о суде над Христом, Никон продолжает:
«Зри, христианнейший царь, даже в такой лютой зависти иудейской ничего не сделано не по закону, и без свидетелей и заочно, хотя во всем поступлено неправильно; того ради рече: предавый Мя тебе болий грех понесет. Если собор хочет меня осудить за один уход наш, то подобает и самого Христа извергнуть, потому что много раз уходил зависти ради иудейской. Когда твое благородие с нами в добром совете и любви был, и однажды, ненависти ради людской, мы писали к тебе, что нельзя нам представительствовать в святой великой церкви, то каков был тогда твой ответ и написание? Это письмо спрятано в тайном месте одной церкви, которого кроме нас никто не знает. Ты же смотри, благочестивый царь! чтоб не было бы тебе это в суд пред Богом и созываемым тобою вселенским собором. Я это пишу не из желания патриаршего стола, — желаю, чтобы святая церковь без смущения была и тебе перед Господом Богом не вменился грех, — пишу, не бояся великого собора, но не давая св. царствию зазора, занеже между двумя или тремя станет всяк глагол, кольми паче во множестве. Епископы наши обвиняют нас одним правилом первого и второго собора, которое не о нас написано. Но как о них предложится множество правил, от которых никому нельзя будет избыть, тогда, думаю, ни один архиерей, ни один пресвитер не останется достойным! Константинопольского патриарха русские епископы при постановлении клянут все, тогда как усмотрят свои деяния нетопыри, смущающие твое блаженство, — крутицкий митрополит с Иоанном Нероновым и прочими советниками… Ты послал Мелетия, а он злой человек, на все руки подписывается и печати подделывает. И здесь такое дело за ним было, — думаю, и теперь есть в патриаршем приказе… Есть у тебя, великий государь, и своих много, кроме такого воришки».
Неизвестно, ответил ли на это государь, но о Мелетии стали производить следствие. Бояре испугались и сочинили новое дело…
XXIII Комета
Иван Шушерин[61], служка Никона, заподозрил боярских детей Афанасьева и Левицкого, — они же Мошко и Гершко, — в том, что они передают в Москву через лекаря Данилова все, что ни делается и не говорится в монастыре.
Сообщил он об этом своим сослуживцам, причем передал им, что об этом узнал он от крестника патриарха, немца Денисова, которому об этом пишут из Москвы.
Открылось это случайно. Патриарх чувствовал себя не так здоровым после стольких огорчений, и Денисов написал письмо к врачу царя, Самойле, прося его приехать. На это врач ответил, что он не может приехать, так как Левицкий передает царю через лекаря Данилова все, что им делается в монастыре.
Сослуживцы Шушеры возмутились, узнав об измене, и, поймав боярского сына Гершко, т. е. Левицкого, вызвали его на признание, что он с Даниловым жидовствует. Донесли об этом Никону, и тот велел обысследовать дело.
Узнав об этом, Мошко, или Афанасьев, бежал в Москву и явился к Данилову.
Данилов испугался, когда вбежал к нему его соотечественник.
— Вей мир, что зробилось… что зробилось, — вопил Мошко.
— Что?.. говори… не мучь…
— Поймали лайдаки реб-Афанасьева…
— Гершко? — испугался Данилов.
— Да, Гершко, боярского сына… и вздули его, как собаку.
— За що?..
— За то, реб Данилов, что воины из тобой, реб, шабашкуют… за то, реб…
— И сказку той дав?
— Як же, и яку еще: что шабаш справляете во дворци царском… ой! вей… ой! вей!., буде таке дило… И сами посудите, реб Данилов, який же вин опосля боярский сын, колы его бьют, як простого мужика… Як его по спине валяли, точно простого гоя… Колы так, то який вин боярский сын, вин попросту — собачий сын.
— Так в сказце, що я шабашкую з ним… добре е государево дило… Ты кажи, что вин узяв ту сказку, щоб на собори казаты, що царь нехристь, — йст снадобья з рук жидивских… и пойдет, и пойдет…
— И всправде то буде добре, — восхитился Мошко.
— А там ты плети усе, що ни прийдет у голови, и измена… и клятва… и крамола… усе валяй в одну кучу… А там нехай рассмакуют и разберут, а колы буде пристрастие, то вси скажут виноваты… Но кажи, який лайдак донис им…
— Лекарь Самойло…
— Самойло… з зависти одной… Этот жиденок настоящий гой: в шабаш йздит, свички жгет и варит…
— Ай! ай! ай!.. Звиткиля вин? — завопил Мошко.
— Из Бердичева, а батька его був равином, а дид шойхедом (резником).
— Ай! ай! ай!., и як его земля выносит?
— И не сносит… Ты вот откажи, що вин про паря в грамоте отписал… так и его спина покоробится…
— Добре… добре!.. А ты, реб Данилов, будь ласков… Отведи меня в приказ тайных дел…
Данилов оделся и отправился с ним в приказ — там сняли с него сказку и пошли писать: и чего, чего не нагородили на Никона.
Во время производства этого курьезного следствия царь посетил Саввин монастырь.
Архимандрит этой обители был очень умный и благочестивый человек, сильно привязанный к Никону и ценивший его высоко. Он обрадовался приезду царя и с увлечением говорил о Никоне. Алексея Михайловича это тронуло и он сказал несколько сочувственных слов о нем и даже послал оттуда стольника Собакина с несколькими приветственными словами патриарху.
Несколько дней спустя государь был в селе Хорошове, и явился к нему бывший раскольничий прототип, а теперь чернец Неронов.
Неронов поносил Никона позорным образом, но государь его не слушал и отослал от себя.
7 декабря в приделе Евдокии после заутрени Алексей Михайлович имел какой-то тайный разговор с Ординым-Нащокиным и с Артамоном Алексеевичем Матвеевым, будто бы в таком смысле, что возвращение Никона было бы желательно, но он боится бояр, которые будут стыдить его за слабость, — причем он прямо высказался, что при тогдашних затруднительных обстоятельствах один Никон своим умом вывел бы их на путь.
Так как Нащокину в это время предстояло посольство для заключения со шведами мира, то он повидался с Зюзиным и сказал:
— Хорошо было бы, если бы к моему посольству был и патриарх, — а у государя на патриарха гнева нет.
— Так я отпишу патриарху, — молвил Зюзин, — пущай в Москву приедет.
— Хорошо, — ответил Нащокин, — если Никон послушается тебя; кабы-то Господь Бог церковь умирил.
В тот же день к Зюзиной приехала царевна Татьяна. О чем они говорили, неизвестно, но когда царевна уехала, Зюзин написал с поддиаконом Никитою письмо Никону и получил его ответ, и обратно письмо его, Зюзина. Зюзин писал вторично и снова получил ответ; наконец, он написал ему третье письмо, и поддиакон передал ему только следующие слова Никона:
«Буди в том воля Божия; сердце царево в руце Божией: я миру рад».
Всю переписку Зюзин сжег; у Никона же оставалось только последнее его письмо.
* * *
Стояла морозная и звездная ночь с 17 на 18 декабря, и во время заутрени подъехало к Московской заставе несколько саней.
— Кто едет? — закричали сторожа.
— Власти Саввина монастыря, — был ответ.
Поезд прямо направился в Кремль.
В Успенском соборе шла заутреня, и в церкви находился митрополит Ростовский Иона.
На второй кафизме у подъезда что-то застучало и зашумело, — отворяется дверь и входит торопливо толпа монахов, за ними несут крест, а за крестом величественно вступает патриарх Никон.
— Перестань читать, — повелительно произносит он, обращаясь к поддиакону, читавшему псалтирь.
Воскресенские монахи, приехавшие с Никоном, запели!
«Исполаэти деспота»!.. и потом: «Достойно есть»…
Пение слушал он, стоя посреди собора. Когда оно кончилось, он обратился к соборному диакону, приказывая ему говорить ектению. Служба началась, а он пошел прикладываться к образам и св. мощам.
Потом, проговорив молитву «Владыко милостиве», он велел позвать к себе под благословение митрополита Иону. Тот подошел, за ним протопоп и все духовенство.
— Поди, — сказал Никон митрополиту, — возвести великому государю о моем приезде.
Митрополит отправился с успенским ключарем Иовом.
Они нашли государя у заутрени, в церкви св. Евдокии.
— В соборную церковь, — произнес взволнованным голосом митрополит, — пришел патриарх Никон, стал на патриаршем месте и послал нас объявить о своем приходе тебе, великому государю.
Царь обрадовался и смутился.
Доброе сердце его подсказывало ему: идти тотчас в собор, но самолюбие удерживало: если он пойдет туда, все скажут, что это он устроил возвращение Никона и что этим он признает себя виновным перед патриархом. Лучше собрать совет из близживущих архиереев и бояр.
Послал он за Родионом Стрешневым, Алмазом, за Никитою Одоевским, Юрием Долгоруким и Матвеевым, а из святителей он потребовал митрополитов Павла и Паисия — словом, всех врагов Никона.
Забегало и засуетилось все во дворце, даже терем весь взбудоражился, — точно или вся Москва горит, аль ворог явился под стены столицы.
Бледные, встревоженные явились и бояре, и святители к царю, и все недоумевали:
— Явился-де Никон прямо в собор и сел на патриаршее место… До рассвета не далеко… Да ведь и во всякое время он может велеть ударить в колокола… Все сорок сороков подхватят, и вот — вся Москва, как один человек, подымется и явится к собору, и поведут его в патриаршие палаты и посадят его прямо на патриарший престол… Будет смута… уцелеют ли головы всех его врагов… да и сам царь в опасности.
Так думали бояре, так и стали ему нашептывать. А грек Паисий и Павел, те только разводили руками и повторяли бессмысленно:
— Ах, Господи!.. Ах, Господи!..
Царь велел боярам отправиться в собор и просить Никона выехать обратно в «Новый Иерусалим».
Но бояре в соборе грубо и дерзко обратились к нему:
— Ты оставил патриарший престол самовольно, обещался вперед б патриархах не быть, съехал жить в монастырь, и об этом написано уже ко вселенским патриархам, а теперь чего в Москву приехал и в соборную церковь вошел без совета всего освященного собора? Ступай в монастырь по-прежнему.
Никон понял эти слова как недоразумение и возразил кротко:
— Сошел я с престола никем не гоним, теперь пришел на престол никем не званный, для того чтобы великий государь кровь утолил и мир учинил. Суда вселенских патриархов я не бегаю, а пришел я на престол по явлению. Вот письмо, отнесите его к великому государю.
— Без ведома великого государя мы письма принять не смеем, — уклончиво ответили послы. — Пойдем, известим об этом великому государю.
Они явно хотели выиграть время, чтобы собрать великую силу.
Они отправились во дворец. Тут Никон обязан был велеть ударить в колокола, и приходила ему эта мысль. Но на обыкновенно решительного… тут напала нерешительность, и дело его погибло.
Бояре возвратились с царским ответом, но вместе с ними явился и стрелецкий голова Артамон Сергеевич Матвеев со стрельцами и занял все церковные выходы.
— Великий государь приказал нам объявить тебе прежнее, чтобы ты шел назад в Воскресенский монастырь, и письмо взял.
— Если великому государю приезд мой не надобен, — отвечал Никон, — то я в монастырь поеду назад, но не выйду из церкви до тех пор, пока на письмо мое ответа не будет…
Нам же кажется, что ему совсем не нужно было уходить из церкви до обедни, — тогда, по крайней мере, друзья его успели бы сплотиться и защитить его у царя, который в это время был окружен одними лишь его врагами.
Привезли письмо к царю, и дьяк Алмаз стал его громко читать:
— «Слыша молву великую о патриаршем столе, одни так, другие иначе говорят; каждый что хочет, то и говорит…»
Здесь Никон намекает на то, что одни раскольники говорили, что удалили его за еретичные книги и реформы, другие, что, каясь в еретических заблуждениях, он добровольно подвижничает в ските. Слушатели же истолковали эти слова как угрозу: что вот-де в церкви и в народе будет через меня смута.
— Говорили мы великому государю, что думал он произвести смуту своим удалением; вот он и сам сознается, — сказал Стрешнев.
— Читай, Алмаз, дальше, — молвил государь, соглашаясь с мнением Стрешнева.
Алмаз продолжал чтение:
«Слыша это, удалился я 14 ноября в пустыню вне монастыря на молитву и пост, дабы известил Господь Бог, чему подобает; молился я довольно Господу Богу со слезами, и не было мне извещения…»
— Еще бы, — воскликнул Паисий, — извещение грешнику от самого Господа… Да с ума спятил…
— Читай… любопытно, — улыбнулся царь.
— «С 31 декабря, — продолжал Алмаз, — уязвился я любовью Божиею больше прежнего, приложил молитву к молитве, слезы к слезам, бдение к бдению, пост к посту и постился даже до 17 дней., не ел, не пил, не спал, — лежал на ребрах, утомившись, сидел с час в сутки…»
— Ханжа… Пустосвят… Наглый лжец, — раздались голоса, а между тем это была святая правда, и поныне показывают на крыше скита ту келийку, в которой усмирял свою могучую натуру Никон, и те тяжелые вериги, которые он носил; там же из рода в род переходит предание о действительной подвижнической жизни Никона.
Но слова правды еще пуще озлобили его врагов.
— Читай дальше. Алмаз; чем дальше, тем любопытнее, — произнес государь. — Только не прерывайте до конца.
«Однажды, — продолжал Алмаз, — севши, сведен я был в малый сон, и вижу: стою в Успенском соборе, свет сияет большой, но из живых людей нет никого: стоят одни усопшие святители и священники по сторонам, где гробы митрополичьи и патриаршие. И вот один святолепный муж обходит всех других с хартиею и киноварницею в руках, и все подписываются. Я спросил у него, что они такое подписывают? Тот отвечал: «О твоем пришествии на святой престол». Я спросил опять: «А ты подписал ли?» Он отвечал: «Подписал» — и показал мне свою подпись: «Смиренный Иона Божиею милостью митрополит». Я пошел на свое место и вижу: на нем стоят святители! Я испугался, но Иона сказал мне: «Не ужасайся, брате, такова воля Божья: взыди на престол свой и паси словесные Христовы овцы». Ей-ей, так мне Господь свидетель о сем…»
— Да, вещий сон, — перекрестился набожно государь.
— Не верь! Лжет… клятвопреступник… Аще имя Божье произносит… Измышление… и в прошлый приезд видел видение — раздались голоса и бояр, и святителей, и сбили царя с его религиозной почвы.
Алмаз продолжал читать, чтобы царь не одумался:
«Обретаюсь днесь в соборной церкви св. Богородицы, исповедал вашему царскому величеству, понеже отхождения своего вину исполнил. Что задумал, то и сотворил, и теперь пришел видеть пресветлое лицо ваше и поклониться пресвятой славе царствия вашего, взявши причину от св. Евангелия, где написано: «Вы, рече, взыдите в праздник сей, яко время мое не исполнися; егда же взыдоша братия его в праздник, тогда и сам взыде не яве, но яко тай». И паки ино писание; рече Павел к Варнаве: «Возвращьшеся посетих братию нашу во всех градех, в них же возвестихом слово Божие, яко суть». Такожде и мы пришли: како суть у вас государей и у всех сущих в царствующем граде Москве и во всех градах? Пришли мы в кротости и смирении. Хощещи самого Христа принять…»
— Вот куда метнул… Вот предерзость… Себя с Христом сравнивает! — вознегодовали присутствующие.
Алмаз продолжал читать:
«Мы твоему благородию покажем, како Господу свидетельствующу: приемляй вас меня приемлет и слушайся вас, меня слушает. Во имя Господне приими нас и дому отверзи двери, да мзда твоя по всему не отменит. Эго написал я твоему царскому величеству не от себя что-либо, мы не корчемствуем слово Божье, но от чистоты, яко от Бога, пред Богом о Христе глаголем, ни от прелести, ни от нечистоты, ниже лестью сице глаголем, не яко человекам угождающе, но Богу, искушающему сердца наши. Аминь».
Как кончил Алмаз, поднялась точно буря:
— Весь собор и святителей назвал он корчемниками слова Божия…
— Всех советников назвал льстецами и нечистью… а сам-де точно апостол святой…
— Святоша!
— Наглец!
— Да ему казни мало!..
Царь недоумевал, что делать. Тут митрополит Павел, видя всеобщее негодование, предложил царю, что он поедет и уладит дело, тем более что Матвеев ему шепнул, что с ним пойдет много стрельцов.
Царь согласился на предложение Павла, и тот с боярами и со стрельцами двинулся к собору.
Войдя в церковь, Павел объявил Никону:
— Письмо твое великому государю донесено. Он, власти и бояре письмо твое выслушали; а ты, патриарх, из соборной церкви ступай в Воскресенский монастырь по-прежнему.
Никон ничего не ответил, приложился лишь к образам, взял посох митрополита Петра и пошел к дверям.
— Оставь посох, — крикнули ему бояре.
— Отнимите силою, — отвечал Никон и вышел из церкви.
Ночь была темная, небо звездно. На востоке сияла большая комета и огромный хвост ее висел над Москвою по направлению к западу. Посреди хвоста виднелась темная полоса[62].
Никон поглядел с минуту на это чудное явление и прежде, нежели сесть в сани, стал отрясать ноги, произнося внятно и грозно:
— Иде же аще не приемлют вас, исходя из града того, и прах, прилипавший к ногам вашим, отрясите во свидетельство на нее.
— Мы этот прах подметем, — воскликнул Артамон Сергеевич Матвеев[63].
— Да разметет Господь Бог вас оною божественною метлою, иже является на дни многи, — пророчески произнес Никон, указывая на величественный хвост кометы…
Сани помчались.
Дмитрий Долгорукий и Матвеев провожали его до земляного города; въехав сюда, они остановились, чтобы проститься с патриархом.
— Великий государь велел у тебя, святейшего патриарха, благословения и прощения просить.
— Бог его простит, если не от него смута, — отвечал Никон.
— Какая смута? — произнес Долгорукий.
— Ведь я по вести приезжал, — возразил Никон.
Лошади тронулись, и Никон уехал.
— Он по вести приезжал, — удивились бояре, — нужно царю оповестить.
Между тем слова, произнесенные о комете, сильно взволновали всех, в особенности Матвеева; они были пророческими в отношении его и стрельцов.
Матвеев впоследствии погиб в первый стрелецкий бунт, а стрельцы уничтожены Петром.
XXIV Козлище отпущения[64]
С нетерпением царь ожидал возвращения Долгорукова и Матвеева, чтобы узнать подробности отъезда Никона, — тем более, что ему передали прежде возвратившиеся к нему из Собора Стрешнев, Алмаз и митрополит Павел о пророчестве патриарха по случаю кометы. Религиозный Алексей Михайлович хотел знать, дал ли ему благословение Никон и возвратил ли он посох митрополита Петра.
Князь Долгоруков сообщил ему последние слова Никона, т. е., что он приехал по извещению и, что если не от царя смута, то Бог его простит, и что посох он взял с собою.
Исчезновение из Успенского собора посоха митрополита Петра, на который народ глядел как на святыню, не осталось бы в секрете, и царю вообразилось, как только Москва проснется, то это сделается тотчас известным и поведет Бог знает к чему.
Митрополит Павел, архимандрит чудовский, его приверженец Иоаким, Стрешнев и Алмаз взялись догонять Никона и отнять у него посох.
— Только без насилия, — присовокупил государь.
Им тотчас дали царских лошадей, конвой рейтаров и они помчались к «Новому Иерусалиму».
Раздосадован был Алексей Михайлович всею этой пустозвонною передрягою.
Зашел он поэтому к Татьяне Михайловне объясниться с нею и душу отвести.
Царевна как будто ожидала его: она встретила его одетая, но сильно встревоженная. Глаза ее были заплаканы, щеки горели.
— Ну, что, братец? — воскликнула она, увидев его.
— Все пропало, — вздохнул Алексей Михайлович, опускаясь на стул.
— Не пугай меня… Что случилось?.. Ведь патриарх здесь… в Успенском… служит…
— Нет… уехал…
— Как уехал?
— Смирился и уехал… вернулся в «Новый Иерусалим»… Не ожидал я этого; ему нужно было настоять на своем: велеть звонить, созвать народ и ехать потом в патриаршие палаты…
— А он смирился пред боярами и уехал?..
— Уехал, — простонал государь, — и что я буду делать без него? Снова я одинок, не с кем посоветоваться, не с кем переговорить по сердцу… Не соправителя они лишили меня, не сотрудника, а собинного друга — друга, который печаль мою утолят, который мужество мне вселял… А здесь война, бесконечная война, всюду голод… а тут боярские порядки и расправы губят тысячи людей, — всюду плачь, уныние… Боже, Боже, неужели ты не пособишь мне?..
— Отчего же, братец, ты не вызовешь прямо к себе патриарха! зачем слушаться бояр?..
— Слушай, от тебя я не имею тайн, и ты, наверно, поймешь мою кажущуюся нерешительность… Едва Никон удалился, бояре захватили всю власть в свои руки, и захватили ее так ловко, что и я сам того не заметил. Стали они сначала выпрашивать поместья и забрали что ни на есть лучшие земли даже в Малой и Белой Руси. Теперь есть между ними такие, что богаче меня, хотя бы и Морозовы: по двести пятьдесят тысяч оброку имеют… А с богатством приходит и сила… Доносили мне, что сносится с боярами и Ян Казимир, и король свейский, — оба хотят царствовать на Москве… Я и боюсь измены… Помнят же еще теперь москвичи, да и многие на Руси, что крест Владиславу целовали… А тут на беду Алешенька, хотя мальчик умненький, да хиленький, а Федорушка еще мал. Боюсь, коли будет измена, аль я умру, :о не минет мой дом участи Годуновых… Вот чего я боюсь, Танюшка, вот что сердце мне надрывает… а тут святейший вздумал смиряться… Того же забыл он, что патриархи восточные на пути уж, и коли они приедут на Москву, то дело Никона погибнет: заедят его на соборе и святители, и бояре.
— Боже, Боже, велела же я Зюзину писать толково да от имени Матвеева и Нащокина, — сорвалось с языка Татьяны Михайловны.
— Так это ты оповестила его?..
— Да кто же, окромя меня?.. Знаю я все твои думы, все твое сердце, все твои тайны, братец, — кому же и писать, как не мне?
— Но погубила ты, сестрица, Зюзина.
— Как?
— Да так… Патриарх объявил боярам, что он приехал по его извещению, что он отдаст им письмо.
— Боже… Господи… Неужели он это сделает?.. Никон в монастыре совсем с ума спятил: вместо того, чтобы идти по письму, он Зюзина выдает… Не верю.
— Но хуже всего, — вздохнул государь, — что бояре будут пытать Зюзина, и тот выдаст тебя.
— Пущай, пущай… я бы хотела… пущай… Тогда, братец, вызови Никона и сам посади его снова на престол.
— Сестрица, да возможно ли это? Да знаешь ли ты, что в тот же день измена ждет нас и на Москве, и на Руси…
— Не боюсь я измены… Я тогда сама поеду за Никоном… привезу его к Успению… ударим в колокол… соберется народ… и я, первая, сама пойду на бояр, и горе им: пламя охватит их жиль… Разорим мы их вороньи гнезда и выжжем даже место, чтобы следа не осталось…
— Таня, Таня, что ты сделала! — зарыдал Алексей Михайлович.
— Это ты малодушен, братец… а Никон с крестом животворящим в руке сильнее всех твоих бояр, всей твоей рати… С крестом мы будем сражаться против крамолы и поборем врагов. Что сделано, то сделано и не возвратишь. Теперь так: коли Никон выдаст письмо боярам и Зюзин на пытке выдаст меня, ты тотчас, братец, оповести меня… Я соберу друзей, и мы поедем за Никоном, — тогда, уж прости, — все сделает Никон.
— Дай, Боже, тебе успеха… Я и ума не приложу… голова идет кругом… Пойду помолюсь.
Он отправился в крестовую, заперся там и долго молился и плакал.
Между тем святители со Стрешневым и Алмазом скакали с рассвета до пятого часа дня и нагнали патриарха в селе Черневе. Лошади Никона, много работавшие в предшествовавший день, сильно устали и поэтому медленно подвигались вперед, что дало послам возможность нагнать его по дороге; в противном случае Никон успел бы попасть в свой Новый Иерусалим, и последствия могли бы быть чрезвычайные.
Никон и свита его состояла из монахов и нескольких человек служек, как-то: Ольшевского, Михайлы, Денисова и еврея Лазаря, который известен сделался впоследствии в истории Стеньки Разина под названием Жидовина. Лазарь был предан Никону, как верный пес, и был совершенною противоположностью Мошке и Гершке. Первый, заметивший погоню за патриархом, был Лазарь.
Бледный и смущенный, вбежал он во двор избы, где они остановились, и крикнул Ольшевскому:
— Москали скачут… Кажись к патриарху.
Ольшевский поспешно доложил об этом Никону.
— Запереть ворота и не впускать, — был короткий ответ патриарха.
Поезд митрополита Павла остановился у ворот, так как ему указали крестьяне, где находится патриарх.
Посольство с вооруженными стрельцами Ольшевский отказался впустить, и после долгих переговоров он впустил только послов.
Стрешнев, испытав уже единожды при аресте его крутость и зная, что угрозами ничего не сделаешь, обратился к нему вежливо:
— Государь, — сказал он, — просит тебя, святейшего патриарха, сказать, по чьему известию ты приехал в Москву, и просит тебя возвратить ему, великому государю, посох св. Петра.
— Это правда, приезжал я в Москву не самовольно, по вести из Москвы. Посох не отдам — отдать мне посох некому. Оставил я патриарший престол на время за многие нападения и за досады.
Тебя же, — обратился он к Павлу, — я знал в попах, а в митрополитах не знаю: кто тебя в митрополиты поставил, не ведаю. Посоха тебе не отдам и со своими ни с кем не пошлю, потому что не у кого посоху быть. Кто ко мне весть прислал, объявлю по времени. Вот и письмо! А письмо это принял я потому: как великий государь был в Саввине монастыре, что я посылал к нему архимандрита своего Герасима, и великого государя милость была ко мне такая, какой по уходе моем из Москвы не бывало.
Послы вышли во двор совещаться, что делать дальше, и когда хотели вновь войти к патриарху, служки его решительно воспротивились впустить их.
Стрешнев и Алмаз, славившиеся силою, крепко их избили и ворвались к Никону.
Они ему сначала пригрозили, потом смягчили тон и стали его умолять. Так продолжалось до 11 часов. Наконец, выбившись из сил и видя, что конца не будет этим мучениям и нравственным истязаниям, Никон обратился к послам:
— Посох и письмо, — сказал он, — я отошлю сам к великому государю. Ведомо мне, что великий государь посылал ко вселенским патриархам, чтобы они решили дело об отшествии моем и о постановлении нового патриарха: я великому государю бью челом, чтобы он ко вселенским патриархам не посылал. Я как сперва обещался, так и теперь обещаюсь на патриарший престол не возвращаться, и в мысли моей того нет. Хочу, чтобы выбран был на мое место патриарх, и когда будет новый патриарх поставлен, то я ни в какие патриаршие дела вступаться не стану, и дела мне ни до чего не будет. Велел бы мне великий государь жить в монастыре, который построен по его государеву указу, а новопоставленный патриарх надо мною никакой бы власти не имел, считал бы меня братом, да не оставил бы великий государь ко мне своей милости в потребных вещах, чтобы было мне чем пропитаться до смерти. А век мой не долгий, теперь уж мне близко 60 лет.
Но Москве не этого хотелось: раскольники желали бы стереть его с лица земли, а свои православные, т. е. боярствующие никониане, были бы тоже рады его посадить в сруб и сжечь.
Ответа, поэтому, не воспоследовало, а хотели ему сделать большую досаду и накинулись они на боярина Зюзина.
— Вот кто смуту произвел… Хорошо, что Никон уехал из Москвы, а если бы он заупрямился… Да тут была бы такая гиль… такая смута… Да и тебя, великий государь, и Матвеева, и Нащокина он сюда приплел.
Этими наветами они вымучили повеление царя: доподлинно розыскать; значит, следствие со всеми жестокостями, пыткою и т. д.
Всю ту ночь жена Зюзина не спала. Муж ее находился у Успенского собора и следил за тем, что там происходит.
Преданный ему и Никону дьякон каждый раз выходил из церкви и сообщал ему, что там происходит.
Сердце у Зюзина замирало: он сразу понял, что Никон не идет тем путем, каким ему следовало бы идти, и поэтому он каждый раз говорил дьякону:
— Да как он не велит звонить, так ты прикажи…
— У меня детки и жена, — вздыхал дьякон.
— Я-то не умею трезвонить: коли бы умел, вся Москва была бы уже на ногах, — выходит из себя Зюзин.
Но вот, к прискорбию, выходит патриарх из собора, отряхает прах своих ног и уезжает.
Все это казалось Зюзину сном.
— Кажись по-русски ему писал, — скрежещет он зубами, — а он… он… что с ним сделалось?.. И голова потупела… и мужества нетути… Смиренномудрие, добродетель, но здесь просто глупость…
Он побежал домой.
— Ну, что? — спросила его жена, видя его отчаянный вид.
— Возвратился домой, бояре уговорили…
— Ну, уж не ожидала…
— Да вот что, жена… Коли бояре узнают, что я оповестил его… и он сказал, что он по извещению приехал, то быть беде…
— Какой?
— Пропаду я, как пес…
Зюзин был молод, жена была красавица и подруга царевны Татьяны.
Она любила мужа до безумия. Услышав эти страшные слова, она побледнела и воскликнула:
— Беги… беги… тотчас беги в Польшу.
— Куда бежать? Нужны деньги… да и поздно… Всюду заставы, сыщики, шиши…
— Возьми все, что в доме: золото, серебро, камни самоцветные… Беги, ради Бога.
С лихорадочною поспешностью начала она снаряжать его в путь, велела лошадей изготовить в легкий возок и заторопила его.
Зюзин решился было ехать и стал укладываться, но вдруг на него напала нерешительность.
— Дай подождать утра… Я повидаюсь кое с кем, а уехать успею… Не возьмутся же тотчас за меня.
Стало светать. Зюзин оделся и вышел из дому.
К обеду он возвратился и успокоил жену:
— Ничего, — сказал он, — не слыхать, чтобы что-либо было.
Так прошел день, и они легли спать.
Ночью до света раздался сильный стук в воротах. Зюзин и жена его одновременно проснулись.
— Кто бы смел так рано стучать, — рассердился боярин.
— Не к добру это, — молвила жена его и выскочила из кровати и начала одеваться поспешно.
Стук стал усиливаться, потом послушались голоса, стук оружия и шаги.
Вбежала барская боярыня:
— Пристав со стрельцами за боярином, — крикнула она испуганно.
— Пристав… за боярином… за ним… о… ох, — и Зюзина упала мертвая на пол.
— Голубица моя, горлица невинная, — заголосил Зюзин, бросаясь к ней и осыпая ее поцелуями. — Встань, проснись, очнись, взгляни на меня своими ясными очами, порадуй своего друга… И что я без тебя-то буду? Сиротою сиротинушкою… Скорбь лютая.
Ворвался пристав в опочивальню со стрельцами.
— Я за тобою, боярин, по государеву указу и боярскому приказу.
— Аль не видите, звери лютые? Убили вы мою жену… Дайте проститься с нею… Дайте похоронить ее с честью…
— По указу государеву иди с нами без прекословия. Похоронят боярыню и без тебя.
— Не уйду я… не покину я тела ее святого, без молитвы, честного погребения…
— Берите его, — скомандовал пристав.
Стрельцы бросились на боярина.
Тот схватил труп жены и, вцепившись в него, кричал:
— С нею берите… в одну могилу заройте.
Больше он ничего не помнил, — очнулся он в застенке на твердом ложе.
Свет едва проникал в маленькое решетчатое окошечко.
Но что это было за письмо, за которое Зюзин пострадал?
Вот что писал он Никону:
«Являлись ко мне Матвеев и Ордин-Нащокин и сказывали: 7 декабря у Евдокии, в заутреню, наедине говорил с нами царь: «Присылал ко мне патриарх архимандрита в Саввин монастырь; я его совету обрадовался — хороший архимандрит. Сидел я с ним наедине, и он со слезами говорил, чтобы нам ссоре не верить, и я с клятвою говорю, что никакой ссоре отнюдь не верю. Вот теперь, на Николин день, приезжал ко мне чернец Григорий Неронов с поносными словами всякими на патриарха. Я знаю, что с ним в заводе, — только я этому ничему не верю. А наш совет и обещание наше Господь един весть[65], и душою своею от патриарха ей я не отступен, да духовенства и синклита ради, по нашему царскому обычаю, собою мне патриарха звать нельзя и писать к нему о том, потому что он ведает, для чего ушел, а ныне, в церкви и во всем, кто ему бранит? Как пришел, так и придет, — его воля, я, ей-ей, в том ему не противен. А мне к нему нельзя о том отписать, ведая его нрав: в сердцах на бояр и архиереев и не удержится, скажет, что я ему велел приехать, или по письму моему откажет, и мне то будет, конечно, в стыд, в совете нашем будет препона, и все поставят мне то в непостоянство. А хотя и пришлю спросить в церковь для прилика, отводя подозрение и скрывая совет, и он скажет, что по своей воле, ради церковных потреб, отъезжал и опять пришел, — кто может мне возбранить? Кто мне в церкви указчик[66]? А он скажет: духовное письмо (т. е. постановление собора) давали на меня, и я им дам ответ — они сами не знают ничего, почему я ушел, почему я опять прихожу[67], а суд износят на меня не по своей мере и не по правилам: и если станут просить прощения, то на неведение их, изволили бы сказать, Бог простит! А я, — продолжал государь, — свидетеля Бога поставлю, что ему ни в чем противен не буду и душевно советую так сделать[68]. Сколько уже времени между нами продолжается несогласие. Врагу лишь в том радость, да неприятелям нашим, которые для своих прихотей не хотят, чтобы нам в совете быть. Я узнал досконально: только бы пожаловал, изволил бы патриарх прийти к 19 декабрю к заутрени в соборную церковь, прежде памяти чудотворца Петра, и он, наш чудотворец и посредник любви нашей, и всех врагов наших отженет. Для того пришел бы, чтобы кровь христианскую остановил вместе с нами, и его слово надобно будет во всенародное множество, и любо им, конечно, будет, и все ему за то, конечно, рады будут и послушны, а мне-то помощь от него и заступление. Да и мне надобен он душевно: начал я это ратное дело (войну) и всякие свои царственные и духовные дела вместе с ним, так чтоб Господь Бог молитвами его святительскими и совершить сподобил во благая, вместе, по совету. И ты, Афанасий[69], моим словом прикажи Никите (Зюзину) отписать ему все это тайно. А вот мне к тому числу надобно, с ним вместе, порешить, с чем отпустить тебя на посольское дело…». В заключение же государь сказал: «Но опять молю, чтоб в тишине, без больших выговоров, чтоб не ожесточил всех, — все опасаются, ждут от него жестокости. Покинул он меня в таких напастях одного, борима от видимых и невидимых врагов, а не на том между собою обещались, что до смерти друг друга не покинут, и клятва есть в том между нами».
Письмо это, по нашему мнению, святая правда, потому что в это время государство находилось в следующем положении: извне тяжкая, неудачная, разорительная война, которой и конца не видно было, так что было время, что Алексей Михайлович готов был не только возвратить всю Белоруссию, но даже и Смоленск; внутри государства — бедствия физические, голод и мор, истомление народа, его вопль и волнения, а в церкви — раскол и мятеж.
Положение было в действительности отчаянное, и можно поверить, что все это говорилось царем. Но Никон обязан был при этом приезде понять истинный смысл этого письма: ему нужно было насильно вернуться на свою кафедру и не оставлять ее более; а он в Успенском соборе выказал непростительную слабость и уступчивость, а потом некстати выдал и царя, и Матвеева, и Нащокина, и Зюзина…
Нащокин и Матвеев отказались от того, что они что-либо говорили Зюзину, но при пытке Зюзин сказал, что он Нащокину читал письмо Никона и что тот сказал хорошо. А о Матвееве он сказал, что он-де, Зюзин, не написал тем лицом, а о каком, он не сознавался.
Последнее лицо есть царевна Татьяна Михайловна, чем и объясняется скоропостижная смерть жены Зюзина. Форма же пытки была в то время такова, что Зюзина терзали до последнего, и он при этом стоял на своем и не выдал царевны.
Бояре, еще с 1662 года успевшие удалить от двора Зюзина как друга Никона, теперь обрадовались, что могут его осудить по первым пунктам уложения как мятежника и оскорбителя величества, и приговорили его к смертной казни.
О приговоре этом государь тотчас пошел сообщить царевне Татьяне Михайловне.
Он рассказал, как Зюзин и при пытке не выдал ее.
— Напрасно — один честен, а другой смиренномудрен, — патриарх смирением напакостил, а этот честностью. Меня пощадил… Хотела б я поглядеть, как бы они дерзнули царскую дочь, царскую сестру, внучку Филарета Никитича Романова, призвать к сыску и к суду… Головами они поплатились бы за дерзость… Писала я патриарху с укором, зачем-де смирился, а он отповедь дал: царя не хотел огорчить и смуту в народе завести. А о Зюзине какой твой указ?.. Жена его Богу душу отдала за нас, а его голова что ль слетит тоже за нас? За нашу шаткость?..
— Бояре шутки шутят; я его помилую, а там поглядим…
— Поглядим… Смотри, братец… все-то уж очи, и твои и мои, мы проглядели из-за твоих бояр…
— Но ты вот что, сестрица, сделай. Пошли ко мне царевичей Алексея и Федора, пущай-де просят за Зюзина.
— Пущай так, — пожала плечами царевна.
Алексей Михайлович ушел.
— Господи, прости мои согрешения, — воскликнула по уходе его царевна: ведь своей-то воли ни на деньгу…
В тот же час к царю явились сыновья его: Алексей и Федор, последний еще крошечный ребенок, и со словами, на коленях, умоляли его простить боярина Никиту Зюзина.
Царь как будто удивился, не соглашался долго; когда же ему бояре поднесли приговор, он надписал: «Сослать Зюзина в Казань, где записать на службу, а поместья[70] и вотчины отписать в казну, двор же и движимое имение отдать ему на прокормление».
О том же, что письмо было достоверно, доказывается еще тем, что отношения царя к Нащокину не только не изменились после этого, но он приобрел еще большее доверие царя[71].
Зюзин был, таким образом, козлищем отпущения царского греха и неуместного смиренномудрия Никона.
И осуществилась пословица: иной раз доброта и простота — хуже воровства.
XXV Дума царя и Никона
Инокиня Наталия идет по Москве поспешно к Кремлю; она приближается ко дворцу и направляется к терему.
В постельном крыльце она велит доложить о себе царевне Татьяне Михайловне.
— Мама Натя! — встречает ее восторженно царевна, — я уж думала, что тебя на свете нет… Откуда теперь?
— Да из своей Малороссии: там мне было горе одно… И здесь горе… и там горе…
— Да там-то что случилось?
— Юрий Хмельницкий в монастырь поступил… Брюховецкого избрали в гетманы… Да там все порядка нет: одни тянут к ляхам, другие сюда, к Москве. Режутся теперь, да и резаться будут еще долго. Нет там головы, а бояре только и думают, как бы прикарманить что ни на есть, да поместий нажить. Мир нужен царю с Польшею, а коли мира не будет, так останется ли еще Малороссия за Москвою… один Бог ведает.
— Думает царь и о мире с Польшею, и с свейским королем, да и сам не знает, что делать. Хотим уж уступить даже Смоленск.
— Столько крови пролито за Смоленск, и теперь отдать его… Кто же советники?
— Да те же бояре… Хотели мы было вернуть Никона, да не удалось. Сам он пустился в смиренномудрие, а это на руку боярам.
— Так нет и надежды на примирение? — прослезилась инокиня.
— Какое же примирение, коли царь боится бояр! Вишь, они теперь сильнее его. Забрали все лучшие и богатые земли и поместья, и коли захотят, то выставят больше ратников, чем он. Здесь на Москве у каждого боярина при дворе его по несколько сот холопов… Думал, было, царь, когда слухи были о том, что ляхи идут на Москву, ехать в Ярославль, да как вспомнил это, так побоялся измены и остался здесь. Уговорили его бояре разделить поместья между ними, по примеру Польши: дескать, не к лицу будет русским боярам быть не так богатыми, как польские паны, коли царь наденет корону Польши. Ну и послушался, а теперь сам плачется.
— Теперь я понимаю. Значит, царь рад был бы вернуть Никона, да бояре мешают…
— Так-то оно. Коли б ссора была, да от царя, он бы с собинным другом давно сошелся… А то бояре знают: коли Никон вернется, он отберет у них поместья, скажет — на государственные нужды, да на ратное дело, а вы не по заслугам получили. Значит, теперь все боярство против него… а царь ему друг… Никон же валит все на царя, и письма, и слова непристойные пишет… «Все от него, — говорит он. — Рыба пахнет от головы». А царь говорит: «Пущай сам приедет, сам поборет их, они сильнее меня. За ним будет народ. Я же что?.. Мои стражники, те же бояре, — захотят и изведут». Да знаешь, мама Натя, чем еще пугают его?.. Вот, как была смута московская, так в Коломенском селе сын гостя Шорина кричал: «Бояре-де с грамотами отца послали к польскому королю». Да и каждый день, — продолжала она, — такие грамоты находят то на дворцовом дворе, то на постельных крыльцах. Царь и не доест, и не допьет… Да знаешь ли ты. Никон, коли б явился да угомонил бы бояр, так и царю было бы легче… Не забудь, мама Натя, дети его небольшие, а он видит, как Богдан душу отдал, так Юрия, его сына, и в монастырь упрятали. Родственники наши: Романовы, Стрешневы, Матюшкины и Милославские то и дело жужжат ему это в уши. Ну, и совсем осовел и голову потерял. Теперь у него одна забота: как бы угодить боярам… Послали за патриархами греческими, хотят низложить Никона, а царь-то сам знает и понимает, что низложат единственного его друга, и горько плачет он. А Никон сердит на него, да его во всем винует. «Он-де голова всему», — пишет он мне. Ему бы с боярами нужно было ссориться, а он — с царем. И ничего-то я не могу поделать. Уж ты бы к нему, мама Натя, съездила да поговорила: может тебя он послушает.
— Да теперь не поздно ли? — вздохнула инокиня. — Не сегодня, так завтра приедут патриархи, бояре и низложат Никона.
— Причинит оно большое горе царю. Ведь и обличать он-то, тишайший, будет на соборе не по своей воле, не по своей охоте… Да и за что обличать. За его верность?
Еще долго они говорили в таком смысле, и инокиня решилась пробраться к Никону в «Новый Иерусалим».
Несколько дней спустя Ольшевский доложил Никону, что его желает видеть богомолка.
Он принял ее.
Оба бросились друг другу на шею; Натя плакала, а Никон тоже прослезился.
— Как ты похудел, Ника, — говорила инокиня, глядя на него любовно.
— Постарел, скажи. Да и не диво: привык я к труду, к работе, а здесь что? Обитель: пост да молитва. Да и сердце неспокойно.
После того пошли у них расспросы о том и о сем.
Инокиня рассказала ему все, что делалось у них на Украине, как Самко, Золоторенко и Брюховецкий искали единовременно гетманства; какие доносы писал последний на первых в Москву и как он требовал Ртищева в князья малороссийские; потом, как состоялась нежинская рада, и вместо постригшегося в монахи Юрия Хмельницкого избрали Брюховецкого.
— Да, — воскликнул Никон, — коли бы мы не приняли все порядки малороссийской церкви, едва ли Малороссия была бы наша. Восточная часть ее с Полтавою и северная, поэтому, тянут к нам, а в западной — весь народ за нас. Одна лишь шляхта тянет в Польшу.
— Это правда, тебе только и обязана Москва тем, что малороссы за нее. Если бы не ты, так не знаем, что бы было с Москвою. Свейцы и поляки теперь примирились, и если бы они ударили с одной стороны, а малороссы с татарами — с другой, так разобрали бы ее на части. Да так Ян Казимир и хотел сделать. После погрома Шереметьева успел он забрать всю Западную Украину, потом перешел Днепр, и под его руку отошло уж более тридцати городов… но не начала Речь Посполитая платить жалованья, и ратники стали разбегаться… Это спасло Москву и посрамило Яна Казимира.
— Да зато, — вздохнул Никон, — он пошел на Волынь и Литву и прогнал нас оттуда… Сначала побили Хованского и Нащокина… Потом Хованского били… били… били… и забрали все города, даже Вильну… Мы здесь так струсили, что хотели, было, улепетывать в Ярославль.
— Да побоялись измены, — вставила инокиня.
— Какой измены?
— Бояр… Сказывала мне царевна Татьяна Михайловна, как они уговорили царя поделить им земли, и тот отдал им все земли и села не только Великой, но и Малой и Белой Руси… как даже города им отданы на кормление… как в приказах столы отдаются на кормление и называются кормлениями. И сделались бояре сильны и могущественны, пожалуй, сильнее самого царя… и стал он их бояться… измены страшится… боится, что рассердятся и призовут снова на престол аль польского, аль шведского короля. Ведь один брат, а другой племянник Владислава, а последнему целовал крест даже Филарет Никитич… Говорила мне даже царевна: плачет он много, что тебя с ним, собинного друга, нетути. Ты-де его помощь и сила… Да ничего не может он сделать, — все бояре против тебя… Вот и призвал он тебя, чтобы ты-де насильно, собственною волею и властью сел на свой престол… А ты смирился… уехал из Москвы…
— Нет у него воли-то ни на деньгу, — вспыхнул Никон. — Слушался бы меня, того бы не было. Обогатил бояр, сделал из них силу, надавал им поместья и села с крестьянами. Говорил я ему: объяви все земли, и вотчины, и государевы, черными[72]… разреши крестьянам юрьевы переходы. Да, он обещался и ничего не сделал. И я стал принимать и вотчинных, и поместных крестьян на церковные земли[73]… Дал он мне на это и клятву, что крестьяне будут черными, что уничтожит местничество; тогда не было бы и боярства. Из нашего боярства он сделал польское панство, и все из-за погони за польскою короною. Теперь трудно с ними совладать… Баит, пущай-де Никон явится в Москву, да насильно сядет на престол патриарший… Хорошо, я пойду на Москву… народ пойдет со мною, посадит меня на престол… а бояре ворвутся ночью в патриаршие мои палаты со стрельцами, и будет со мною то, что было со св. митрополитом Филиппом. Иное дело, явиться в Москву, поднять всех, броситься с ними в боярские дома, перерезать их и сжечь их дома. Но что тогда весь свет скажет о Никоне?.. Иное дело, коль он, царь, посадит Никона на престол, тогда я, патриарх и великий государь, сзываю вокруг трона и ратников, и всех верных бояр и царских слуг, и тогда мы идет войною на крамольников во имя закона. Я ведь не против царя, а — за царя!
— А царь говорит: пущай-де Никон сокрушает бояр, а я только спасибо скажу, да в ноги поклонюсь, — молвила инокиня.
— Сокрушить?.. Да как, коли всюду, и здесь в обители, и по дороге, и на заставах московских, — всюду шиши да сыщики… Я здесь и шевельнуться не могу: тотчас в Москву дают знать… Теперь и ничего не сделаешь… А вот думу-то я думаю… У вас там в Киеве без митрополита… кажись?
— Без тебя в церкви большая смута. Вместе с удалением твоим, патриарх, отложился от Руси митрополит Дионисий Балабан… Блюстителем митрополии поставили епископа черниговского Лазаря Барановича. Но Москва на него косилась; зачем-де без Никона он тянет к царьградскому патриарху? Вызвали они протопопа нежинского, Максима Филимонова…
— Слышал. Это было несколько лет тому назад. Посвятили его сразу в епископы Мстиславские и оршанские, под именем Мефодия, и послали его в Киев блюсти престол митрополичий.
— Теперь гетман Брюховецкий едет челом бить царю от святителей Малороссии: пущай-де Москва пошлет туда митрополита.
— Вот я и думаю. Пущай — де царь отпустит меня в Киев, и смута в церкви кончится. Засяду я на митрополичей киевской кафедре… Что это за Брюховецкий? О нем что-то не было слышно.
— Из польских он шляхтичей: отец был униат, а он принял православие… Из Малороссии только одна чернь тянет к православному царю, а из шляхты одни тянут к Польше, другие — к Москве. К Польше льнут те, которые хотят быть панами, владеть крестьянами и заседать на сеймиках и сеймах; та же часть из шляхты тянет к Москве, которая хочет боярства и дворянства. На востоке и севере Малороссии — казачество, и оно льнет к царю, чтобы быть под рукою православного государя, а казачья шляхта тянет тоже сюда, чтобы получить поместья от царя в Белой и Великой Руси. Им выгоднее быть с царем, чем с польским королем, король в своих землях не может раздавать коронных поместий иначе, как только людям той же страны, и Сигизмунд лишь постановил за правило, что нужно при этом быть католиком. А русский царь раздает земли, как хочет. Вот и тянет их сюда, к Москве: дескать, там потеплее и нагреться-то можно на чужой счет. А западная шляхта тянет к Польше, чтобы все черные земли вновь обратить в хлопство.
— Все один проклятый мамон у боярства и у панства, — вздохнул Никон. — Даже и чернь-то тянет сюда, чтобы избавиться ига польских панов… Говори дальше, так Брюховецкий…
— Иван Мартынович тянет сюда: сделаться-де боярином-гетманом… Дома он казнил всех своих противников и, обрызганный кровью, он едет сюда в Москву… На днях он будет.
— Пущай царевна Татьяна Михайловна переговорит с царем. Быть может, он отпустит меня в Киев, и коли я буду в Киеве, так приеду я под Москву с большою ратью и смирю тогда бояр.
— Поговорить-то можно, но без бояр и собора святителей он тебя не отпустит.
— А коль он заговорит на их освященном, как они называют свою соборную думу, так ничего не выйдет. Они боятся меня… слабого изможденного старца, здесь в обители, так тем паче покажусь я им страшен среди казачества и в сердце всей славянской семьи. Да, коли б отпустили туда, было б иное дело. Снова я стал бы тем Никоном, что был тогда, когда снаряжал царя под Смоленск. Теперь же что я? Схимник… Уж ты лучше с царевною не говори, а я сам да попытаюсь с Брюховецким уладить. Пущай возьмет меня в Киев, а оттуда отпустит в Царьград… Вспомнил я: у меня ведь живет здесь в монастыре в боярских детях двоюродный мой племянник от сестры, курмышский посадский, Федот Тимофеевич Марисов… Я его пошлю к нему… а что будет, отпишу царевне… А ее благословляю за все ее добро: коль не она, погибли бы мы здесь с голоду.
Инокиня поднялась с места; Никон обнял и облобызал ее, благословляя с напутственною молитвою.
Когда она ушла, Никон велел Ольшевскому позвать Марисова.
Это был коренастый, красивый молодой человек, очень приверженный к Никону и готовый идти с ним и в огонь и в воду.
Когда он передал ему свою мысль о Брюховецком, тот ответил:
— Святейший патриарх! Люди бают: сильным он кланяется, а слабых притесняет. Это общая польская и шляхетская черта… и гетман с этой стороны — истый поляк. Если бы ты да в Москве сидел на престоле, он полз бы в твоих ногах, а теперь, едва ли что будет? Разве люди, с которыми он приедет, тоже самое скажут?
С этими словами Марисов удалился, приготовился в путь и выехал в Москву.
Остановился он в Воскресенском подворье и на другой день отправился в посольский приказ, узнать: когда ждут приезда гетмана Брюховецкого.
— Завтра к полудню, — отвечал ему писец. — Встретят его за Земляным городом ясельничий Желябужский и дьяк Богданов.
XXVI Гетман — боярин
Марисов на другой день отправился рано утром через Серпуховские ворота на Земляной город.
Здесь ожидала гетмана масса народа: стеклись не только все малороссы, жившие в Москве, но и вся Москва.
Зрелище было невиданное: в Москву впервые въезжал гетман страны, которая не раз приводила в трепет москвичей.
Теперь гетман казачий в подданстве царя и едет пред его светлые очи.
Да и царь, как видно, чествует его. Два придворных: Желябужский и Богданов, окруженные блестящею свитою стольников и скороходов, ожидают за Серпуховскими воротами гетмана. Для гетмана имеется при них молодая, серая в яблоках, английская лошадь. На ней серебряный, вызолоченный наряд, весь испещренный бирюзою и изумрудами; чепрак турецкий, шит золотом, золоченый по серебряному полю; седло — бархат золотный. Любуется и Марисов этой роскошью, этим богатством и думает думу:
— Как Иван да Мартынович пас свиней в селе своем, когда был парубчонком, так не думал, не гадал, что въедет он в Москву, как царь… И лошадка-то эта будет дорого стоить Малороссии. Продал он боярам свой край родной. Под высокою рукою Руси и Бог велел ему стать, но не в холопство продаться боярам.
В это время показалась кавалькада: гетман в бараньей высокой шапке, на легком аргамаке, окруженный старшинами малороссийскими и свитою в количестве 313 человек, стал приближаться, за ним тянулся обоз с разными вещами, экипажами, лошадьми и волами.
В штате его были: духовные лица — Бутович и Гедеон, казачьи власти — Филиппов, Цесарский, Забелло, Гречанин, Шикеев, Федяенко, Константинов, Романенко, Винтовка, Гамалея и Дворецкий.
Остановились они все в Малороссийском подворье и на второй день должны были с дарами своими представиться к царю.
Прием назначен в Золотой палате, куда повелено было явиться всему дворцу, боярской думе и святителям.
С утра начался туда съезд. На площади были расставлены рейтары, драгуны и стрельцы, а у дворца расположился дворцовый полк.
В десять часов утра показался гетман со свитою в Кремле. За ним следовали дары царю: полковая медная пушка, отнятая у возмущавшихся казаков; серебряная булава изменника наказного атамана Яненко, арабский жеребец и 40 волов замечательной величины.
Когда кавалькада подъехала ко дворцу, все эти дары были выложены у Красного крыльца, а гетман и свита его спешились.
На крыльце встретил гетмана Хитрово и Родион Стрешнев и ввели его со свитою в Золотую палату.
Царь сидел на троне, окруженный боярами, святителями и окольничими.
Все малороссы, начиная от гетмана, целовали царскую руку, причем были спрошены старшим боярином о здоровий.
Этим окончился первый прием.
15 сентября Брюховецкий бил челом царю: «Чтоб великий государь пожаловал их, велел малороссийские города со всеми принадлежащими к ним местами принять и с них денежные и всякие доходы сбирать в свою государеву казну, и послать в города своих воевод и ратных людей».
Брюховецкий не имел вовсе уполномочия от страны на этот шаг; в этих же немногих словах он отдавал всю Малороссию в неограниченное распоряжение бояр.
Само правительство это поняло, и поэтому потребовали от него предъявления статей, т. е. условий.
Подал Брюховецкий подобные статьи, в которых выговорил, между прочим, два пункта: 1) стародавние казацкие права и вольности казацкие подтверждаются; 2) киевским митрополитом должен быть святитель из Москвы.
Бояре приняли все статьи, а о последней дали уклончивый ответ: что они снесутся о том с константинопольским патриархом.
Победа бояр была полнейшая: Малороссия отдавалась им добровольно в руки, и поэтому, для окончательного укрепления союза с нею, возвели гетмана Брюховецкого в бояре, а всех начальствующих, приехавших с ним, в думные дворяне…
Предложили это гостям. Те приняли это с восторгом, и Брюховецкий начал именоваться боярином и гетманом не Запорожского войска, а — русским.
На другой день после того Брюховецкий приглашен был как боярин к царскому столу. В одежде боярской и черной соболиной боярской шапке Брюховецкий, бритый, без бороды, с огромными усами, выглядел не на боярина, а скорее на турка. Посадили его уж по рангу, а сел он ниже, за Петром Михайловичем Салтыковым. Этим дали ему знать, что он должен быть в боярском подчинении. «Дескать, носа высоко не задерет», коли ему пошлют в Малороссию боярина, сидящего выше его.
Эти боярские притязания надолго поэтому приостановили слияние двух единоплеменных народов и вели к смутам и в последующий век.
Брюховецкий унизил, таким образом, идею своего казачества и, чувствуя, что ему, быть может, несдобровать дома, стал клянчить в Москве, чтобы ему в вечное владение отдали Шепатковскую сотню.
Но сотня эта была в Стародубском уезде, а потому могла бы и улыбнуться ему, если бы его дом низложили. Вот и сочинил новый план: попросил он Петра Михайловича Салтыкова, чтобы царь его женил в Москве на русской.
Для переговоров об этом послан к нему пристав Желябужский.
— Бил я челом, — начал гетман, — пожаловал бы меня великий государь, не отпускал бы меня, не женя…
— Есть ли у тебя, гетман, на примете невеста? И какую тебе невесту надобно: девку аль вдову? — спросил пристав.
Гетман отвечал, что на вдове не хочет он жениться, что на примете он никого не имеет, а чтобы государь сам назначил ему невесту, причем он присовокупил: чтобы, вместе с тем, ему пожаловали вблизи Новгорода Северского вотчину для жены.
Брюховецкий явно боялся, что дома у него не будет покойно, а потому он хотел вотчину подальше.
Но кого-то ему назначат в невесты?
В это-то время, после долгих ожиданий, принимает боярин-гетман племянника патриаршего, Марисова.
— А звиткиля, ты, Федот? — прищурил гетман свои маленькие глазки, поправляя для пущей важности свою боярскую шапку.
— Из «Нового Иерусалима», — ответил по-малороссийски, отлично говоривший на этом языке Марисов, — от патриарха Никона, в боярских детях при нем…
— Щож там твий Никон робыт?.. Акафисты читае?
— Молится, — процедил сквозь зубы Федот.
— А мы туточки, бачишь, за царской-то милости и в бояре пожалованы…
— Бачу, бачу, пан запорожский гетман…
— Не запорожский, а русский, — поправил Брюховецкий.
— Русский?.. А що скажут казаки… усе вийско?..
— Що?.. Мне що?.. Царь, як пожалует мни нивисту… да в чужой земли маенток, так хошь трава не рости… Байдуже!..
— А коли царь вам да в нивисты якусь кикимору… альбо якусь видьму, да с Лысой-то горы, — буде жинка не из важных?..
— Ты тутейшный, так пошукай, — вкрадчиво произнес Брюховецкий.
— Туточки не то, що на Украини: терем точно гарем… и не узнаешь, где ворона, аль цапля, аль горлица. А ты вот святейшему патриарху в нижки поклонись, — вин усих нивист наперечет знает… Вот, колы вин визмется, так буде дило.
— Уж ты там с Никоном порадься…
— Радиться-то можно… но и ты, гетман, уж с царем теи и сеи о Никоне — нехай з тобою до Киева пустил…
— До Киева?
Гетман нахмурил брови, покрутил усы, потом, как бы что обдумывая, произнес:
— Можно, можно… тилько нивисту, да добру: щоб була и з дому боярского, да щоб була гарна, точно краля…
— Пошукаем, облизываться будешь… Тильки ты-то уж…
— Гетманское слово даю…
— Гляди ж, гетман, мне бы не опростоволоситься…
— Уж як я кажу що, так буде так… Крий Боже, не брехунец же я який?..
Марисов вышел из Малороссийского подворья и направился к Стрелецкой слободе. Здесь у одного уединенного домика, на воротах которого торчит веник, он остановился и постучал. Показалась известная нам раскольничья пристанодержательница, Настя калужская.
— У вас, кажись, живет инокиня Наталья?
— Здесь, здесь батюшка, только что вернулась матушка из церкви…
Она повела Марисова через двор, к небольшому флигельку, и ввела его в теплую и чистенькую горенку.
Мама Натя, сидя с какою-то большою книгою в руках и в очках, приобретенных ею в Киеве, читала.
Приход Марисова не удивил ее: она даже как будто поджидала его.
— Что ж Брюховецкий? — спросила она племянника.
Марисов рассказал, чем он хочет взять гетмана.
— Жену-то ему можно дать, — заметила инокиня, — да он исполнит ли слово?
— Я же ручаться не могу. Малороссийская шляхта, как и польская, мягко стелет, да жестко спать.
— Да, — улыбнулась инокиня, — по малороссийской же пословице: обищався пан кожуха; тепло его слово, да не грее… Постараюсь я сегодня же поискать ему невесту… Сделаюсь свахою… А ты, Федотушка, заходь ко мне аль завтра, аль послезавтра.
Марисов поцеловал ее руку и вышел.
Инокиня оделась и пошла во дворец.
— Ну, что? — спросила ее царевна.
Инокиня рассказала, в чем дело: Брюховецкий-де, коли ему высватают хорошую невесту, обещался увезти с собою Никона.
— Ладно, — обрадовалась царевна. — Нам на Москве не стать занимать невест, — точно муравьи сидят по теремам боярским, а женихов нетути…
— Невест-то ему можно будет отыскать, — вставила инокиня: — Да исполнит ли он слово о Никоне?..
— Тогда и мы не исполним, — улыбнулась царевна.
— Как так?..
— Увидишь…
Этим кончился их разговор.
Уж как это царевна сделала, а одна из первых невест и красавиц московских изъявила согласие свое быть женою Брюховецкого.
Пристав Желябужский явился к гетману и объявил:
— Великий государь пожаловал боярина и гетмана, велел ему жениться на дочери окольничьего князя Дмитрия Алексеевича Долгорукова.
Брюховецкий был на седьмом небе: ему отдавали лучшую невесту, царскую родственницу, знатного и доблестного дома Долгоруковых.
— С князем Долгоруковым, — спросил он, — самому мне договариваться о женитьбе, или послать кого-нибудь? По рукам бить самому и где мне с князем видеться? От кого невесту из дому брать, кто станет выдавать и на который двор ее привезть? На свадьбе у меня кому в каком чине быть? А я был надежен, что в посаженных отцах или в тысяцких будет боярин Петр Михайлович Салтыков, и о том я уж бил ему челом. Да в каком платье мне жениться, в служивом ли, или в чиновном московском? А по рукам ударя, до свадьбы к невесте с чем посылать ли, потому что, по нашему обыкновению, до свадьбы посылают к невесте серьги, платье, чулки и башмаки. Великий государь пожаловал бы меня, велел мне об этом указ свой учинить.
Сватовство это затянулось, а между тем у Долгоруких пошли обеды и празднества, и у боярина князя Юрия Алексеевича. Долгорукова, известного тогдашнего героя-генерала, малороссы перепились и чуть-чуть не подрались с войсковым писарем Шакеевым.
Это кончилось скандальным процессом в малороссийском приказе и ссылкою Шакеева.
Из Малороссии, между тем, вести приходили дурные, и оттуда требовали возвращения гетмана. Нужно было брак отложить и возвратиться восвояси, тем более, что невеста решалась выйти замуж при установлении хотя бы временного перемирия и порядка в Малороссии.
Брюховецкий поэтому стал собираться в дорогу. В это время зашел к нему Марисов.
— Я чул, гетмане, що вы до дому?
— Да, сердце, голубко, до дому…
— А Никон з вами еде?
— Ни.
— А вы казали царю?
— Ни.
— Значит, вы его, дядька, не визьмете з собою?
— Ни.
— Да вы дали слово.
— Яке?..
— Слово, що вин поиде з вами.
— Щось запамятовал?.. Колы я дав слово?
— Мини… забулы, дядька?..
— Выбачайте… да я був тогда пьян… Ничого не знаю… Да и знать не хочу… вин с царем як собака гризется, а наша хата з краю: где двое дерутся, там третьему зась…
Марисов понял его еще прежде и нисколько не удивился его уклончивому ответу.
Он простился с ним и ушел.
Спустя несколько часов об этом узнала уже царевна Татьяна Михайловна от инокини.
— Так и он не увидит своей невесты, как своих ушей, — сказала она. — Будет у него, как в сказках говорится: по усам потекло, а в рот не попало.
XXVII Грамота Никона патриарху Царьградскому
Узнав от Марисова, что Брюховецкий отказался взять его с собою, Никон упал духом.
— Все против меня, — воскликнул он. — Уж кто-кто, а хохлы должны бы были быть мне признательны. Я всегда отстаивал их права; а во время польских волнений открыл я им свободный вход и въезд во все наши земли, открыл их духовенству все наши монастыри, раздавал всегда места их святителям… Наконец, не их церковь присоединил к своей, а напротив, свою церковь присоединил к их… И за спасибо они не хотят даже дать уголка в своих монастырях Никону; не хотят довести до Киева, чтобы я мог съездить в Царьград к патриарху, просить его защиты и заступничества против бояр.
В это время вошел к нему служка его, Иван Шушера[74].
— Кстати ты, Иван, пришел, — сказал Никон. — Мне совет твой нужен.
Он рассказал о поступке Брюховецкого.
— Теперь, — кончил он, — как бы найти, кого бы можно послать в Царьград.
— Да ехать я-то берусь, уж вернее меня человека не найдешь, — обиделся Марисов. — Да лишь бы кто взял с собою в Киев, а там перевалим дальше. Вот, кабы кто из людей обозных Брюховецкого да взял меня, — спасибо бы сказал. Мне самому непригоже идти в их стан: ведь, пожалуй, на гетмана самого наткнешься…
— Так я пойду, — сказал Иван Шушера.
— Но ты, Федот, вот что подумай. Как попадешься, так ведь горе тебе: и пытки, и, быть может, лютая казнь ждет, — встревожился Никон. — Живым себя не дам, дядюшка, — перекрестился Марисов.
— Нет, уж лучше грамоты не пошлю в Царьград.
Он отпустил верных своих слуг. Но на другой день явился к нему Марисов, валялся у него в ногах, целовал руки и ноги и молил послать его к патриарху.
Долго Никон не соглашался, но отчаянье и решимость Марисова были так естественны и так убедительны, что патриарх послал Шушеру и велел устроить отъезд его в Киев.
Шушера отправился в Малороссийское подворье.
Отъезд Брюховецкого предполагался в тот же день, а обоз должен был выступить немного позже.
Для Брюховецкого и его свиты были изготовлены экипажи и верховые лошади, и все это с легким обозом должно было единовременно тронуться из Москвы.
На подворье была страшная суматоха: конюхи перебранивались с казаками, начальство с подчиненными, каждый торопил и ничего не делал, за исключением черного люда. Наконец, вся эта орда устроилась и, вместе с выходом на крыльцо гетмана, вскочила на лошадей и тронулась в путь.
Шушера, присутствовавший здесь, удивился одному: сколько добра всякого они вывозят из Москвы.
Когда же поезд отъехал от подворья, он попросил указать ему одного из обозных голов.
— А вот, Кирилла Давыдович из Василькова, — указал ему на плотного и рослого казака мальчик, которого он спрашивал.
Шушера подошел к казаку и, приподняв немного шапку, обратился к нему:
— Дядюшка, уж вы помилуйте, что я к вам…
— А що маете?
— Ведь вы из Василькова, Кирилла Давыдович?
— Васильковский.
— Видите, целый свет знает вас, вот и я знаю… А имели вы, дядька, племянника?
— Як же, мал… Да ляхи узяли в плин, да так и згинул, — махнул он рукою.
— А коли он не пропал, да в живых?
— Слухайте, хлопци, — крикнул радостно Кирилл к обозной прислуге, — чулы вы?.. Да вот москаль каже, что мий-то Трохиме, — казак, выбачайте… да в живых… вы знали его, хлопци?
— Ни, не знали, да бравый був казак… и чулы мы, як вин невирные и ляцкие головы сик.
— Где же вин, — крикнул радостно казак Кирилл.
— Ладно, покажем, — произнес сквозь зубы Шушера. — А теперь, дядька, я проголодался: пойдем в кабак, да там малую толику пропустим на радостях магарыча. А там я тебе все порасскажу.
Зашли они в ближайший к подворью кабак и, усевшись за штофом, повели беседу.
— То от мене магарыч, — заметил казак, — во здравие живым, а умершим царствие небесное, — и он огромный стакан пропустил сразу в глотку.
— А я за ваше здравие, дядька… Да вот что, Кирилл Давыдович. А что вы возьмете за провоз племянника в Васильков? Он человек денежный, и с него взять-то можно.
— Як же то да з племянника…
— Ничего, дядька, я скажу, что я-де заплатил за него.
— Добре… Да що взять?.. 50 карбованцев, да 50 злотых, да 50 грошей.
— Эх, дядька, уж много-то вы заломили сразу.
— Ну, добре… Я ж так, що племянник… Его батька держит мою двоюродную. Ну, поступлю 50 карбованцев, 50 злотых, а уж гроши… Бог з тобою…
Вынимает Шушера огромный мешок, отсчитывает пятьдесят серебряных новеньких рублей и пятьдесят польских пятиалтынных.
— Яке добро… яке добро… — разбежались глаза казака при виде новеньких рубликов.
Он загромастил их и в кожаный свой мешок опустил в порядке.
— То буде жинце, — говорил он, укладывая рубли, — а то диткам на всяку всячину, — указал он на пятиалтынные.
Когда он окончил это дело, и кошелек его опустился, как в пропасть, в карман его широких шаровар, Шушера налил по большому стакану водки, и они осушили штоф.
Шушера велел подать и другой штоф. Когда его подали, он спросил:
— А как вы, Кирилл Давыдович, поедете?
— Пойдут, — сказал он, — два обоза: один с поклажею, другой с киньями. Я с киньскими.
— Значит, вам нечего первого дожидаться.
— Ни, гетман наказал поспешать с киньми: дома отдохнуть.
— Да, я забыл, дядька, як зовут вашего племянника.
— А я не казав?
— Ни…
— Трохиме… да Трохиме…
— А мой-то — Федот…
— Як?.. Да ты казав, що то мий, мий Трохиме…
— Вижу я вас бравого казака, точно такой, как мой. Ну и думаю, должен быть его родичь аль дядя… Жаль… так уж пожалуйте деньги назад.
— Шкода!.. Як то можно… таке добро… Жинка и дитки що скажут?
— Нечего делать, дядька, ведь мой-то Федот, а ваш Трохиме.
— Нехай твий буде Трохиме… Нехай буде мий… Мини буйдаже.
— Коли так, ладно… Завтра я с ним к вечеру приеду к тебе.
— Добре! Нехай каже, що вин мий племянник.
— Ладно.
Они выпили еще по стакану и расстались.
На другой день к вечеру явились Шушерин и Марисов в Малороссийское подворье.
Встреча Марисова и Кирилла была точно долго не видавших друг друга родственников, и расспросам не было конца, так что спутники-казаки Кирилла и не заподозрили ничего.
На другой день, часов в девять, обозы должны были тронуться из Москвы.
Шушерин переночевал с Марисовым в подворье и рано утром, простившись с ним, пустился обратно в Новый Иерусалим.
В то время, когда он выходил из подворья, у ворот ему повстречались Мошко и Гершко. После историй, затеянных ими у патриарха, они поселились в Москве и занимались здесь разными гешефтами с боярами, которых они обирали.
Теперь они набрали много писем в Москве к разным лицам, проживавшим в Украине, и посредством малороссийского обоза хотели их отправить туда.
— Мошко, чи ты бачил? Шушера був тут…
— Бачил, Гершко.
— Буде, Мошко гешефт: вин здесь мабудь от Никона.
— Мабуть.
Они вошли в подворье, нашли одного из обозных голов и начали с ним торговаться насчет доставки писем.
Одно письмо было от Мошки в Васильков, к его родственнику Нухиму.
— А кто поеде в Васильков? — спросил он.
— Вот дядька Кирилл да его племянник Трохиме, — и ему указали на стоявших в отдалении Кирилла и Марисова.
Мошко подошел к казакам и стал Кирилла просить взять с собою письмо.
— А вот, сказал тот, — мий племянник поедет прямо в Васильков, а я в Чигирин, к гетману.
Марисов взял письмо и обещался передать его еврею Нухиму.
Когда Мошко и Гершко вышли из подворья, они прямо направились к малороссийскому приказу.
Они там бояр не застали, и им сказали, что Салтыков бывает лишь раз в неделю в присутствии, по средам.
В среду явились евреи в приказ и объявили государево дело. Они рассказали, что племянник Никона, служащий у дяди в боярских детях, Марисов, без ведома малороссийского приказа, отъехал в Малороссию, в Васильков.
Бояре потолковали между собою и решили, что тот уж в пути, а потому следует лишь Брюховецкому и воеводам дать знать об его задержании и о присылке в Москву.
Тотчас же с гонцом полетели такого содержания грамоты в Малороссию.
Между тем, почти после двухнедельного пути, конный воз казака Кириллы въехал со стороны Киева в Васильков.
Старый город не был расположен, как теперь, внизу на равнине, а на возвышенности, по дороге в Белую Церковь, и был сильно укреплен земляными валами и рвами.
Казачьи хаты с фруктовыми садами и огородами ютились за валом, и посреди города, на площади, виднелись еврейские дома с крытыми заездами.
У одной из хат, окруженной хозяйскими постройками и скирдами хлеба, соломы и сена, остановился казак Кирилл.
Из избы показались старик отец его лет восьмидесяти, жена его, молодица лет тридцати, и несколько белоголовых девочек и мальчиков.
Кирилл поцеловал у отца руку, а жену и детей он долго тискал в своих объятиях.
— Оце мои казаки… мои есаулы и полковники, — пошутил Кирилл. — Батька, то мий гость… Поступите в хату…
Он повел гостя в хату. Молодица успела уже вперед забежать в хату и подала хозяину хлеб. Тот взял хлеб и подал его гостю.
После этого приветствия хозяйка стала из печи ставить разные горшки на стол, но все же казалось ей мало, и она развела огонь в печи.
Пока хозяйка возилась со стряпнею, Кирилл с Марисовым вышли из хаты и убрали лошадей.
Когда же они возвратились в хату, там был уже обильнейший ужин: и вареный жидкий горох со свиным салом, и вареники, и курица жареная, а самое главное — целое барильце (бочоночек) доброй старки и основательный стаканчик. Хозяин совершил все церемониалы угощения водкою, т. е. поклонился гостю и всем присутствовавшим и, отпив немного и долив из бочонка, поднес гостю, потом отцу и жене.
Потом пошла еда, но повторялась церемония водкою очень часто, так что к концу обеда все сделались разговорчивы.
Хозяин рассказывал своей молодице и отцу о Москве и ее диковинках, и о гостинцах, какие он привез оттуда.
Молодица и дети ее давно погладывали искоса на привезенные мужем тюки, но из вежливости, ради гостя, не хотели показать любопытства.
Марисов догадался, в чем дело.
— А я, — сказал он, — увязывал тюки, я и развяжу.
Он поднялся с места и раскрыл тюки…
Молодица бросилась вынимать оттуда вещи, и восторгу не было конца. Ей муж привез на голову платки, на юбки и кофты разной материи, а детям — сукно на казакины, сапоги и казанские мерлушки на шапки. Отца он тоже не забыл: ему был пояс и сапоги.
Все это рассматривалось, примерялось, а маленький люд пищал и плясал, в особенности, когда отец вывалил груду вяземских пряников.
Провозились они так до поздней ночи, и когда легли спать, то Кирилл и Марисов скоро заснули. Зато вся казачья семья, возбуждаемая подарками и московскими диковинками, ворочалась на своих ложах, и один мальчик даже с криком и плачем проснулся: ему снилось, что соседний мальчик-шалун отобрал у него прекрасные сапожки, привезенные ему отцом.
Мать встрепенулась, зажгла каганец, и мальчуган до тех пор не угомонился, пока она не показала ему его сапоги. Будущий полковник схватил сапоги в объятия и тут же крепко заснул.
На другой день, едва стало светать, вся казачья семья была уже на ногах.
Зима на дворе стояла крепкая, морозная, и свету было много.
Порасспросил Марисов, где живет Нухим, и отправился к нему с письмом от Мошки.
— Благо, — думал он, — порасспрошу его, как попасть в Молдавию, а оттуда доберусь и до Царьграда.
Пришел он к Нухиму. Лучший заезд принадлежал ему.
Нухим был высокий и худощавый еврей средних лет. На нем был нанковый черный, длиннополый, двубортный сюртук; на голове соболья шапка; на ногах белые тонкие чулки и башмаки. Он только что возвратился из школы и на лбу его красовалось богомолье, а на плечах талар.
Встретил он вежливо казака Трохима, как представился ему Марисов, взял от него письмо Мошки и, прочитав его, сказал:
— Чудной мой Мошка: вин думае, что Москали здесь на вики засядут… и хочет вин для бояр маетности купить… И мене в спилку кличит… А вы звиткиля? — обратился он к Марисову.
— Я шляхтич, казак подольский… Був в полону у москалей, да дядька выручил… Я у самой границы… молдавской…
— Добре… так щожь? Вам подводы треба?..
— Ни, давайте з товарами…
— Добре, и то можно… На ярманку в Броды и Лемберг идут наши купцы… писле нидили…
Нухим объявил, что он устроил ему попутчиков за то, что он привез ему письмо от Мошки.
Несколько дней спустя к нему зашел Нухим и объявил, что попутчики имеются. Собирается целый караван евреев выехать вместе, и так как дороги не безопасны, то они очень рады, что будут иметь казака с собою.
Марисов обрадовался.
— Кажется, доберусь до Молдавии, — думал он, — а там, что Бог даст.
Начал он снаряжаться в путь, а хозяин его выехал в Чигорин, к гетману.
Несколько дней спустя Нухим к нему зашел и объявил, что на другой день до света евреи выезжают, и советовал, чтобы он с вечера с вещами явился к главному купцу Хаиму, его соседу, где соберутся все сани евреев.
Марисов простился со своими хозяевами и отправился к Хаиму.
Хаим накормил, напоил его и уложил на почетном месте спать.
Ночью его что-то душит и давит, он просыпается и — не верит глазам: руки и ноги у него скручены, и человек десять драгунов со зверскими лицами требуют, чтобы он следовал за ними.
XXVIII Страстотерпец Федот Марисов
В санной кибитке мчат драгуны Марисова, сначала в Канев, а там в Чигорин. Здесь они прямо привозят его в гетманскую канцелярию, к писарю войсковому Степану Гречанину.
Гречанин видел Марисова в Москве, когда он посещал гетмана, и узнал его.
— Що вы наробыли, — воскликнул он. — Царь отписуе грамоту: вас задержать и отправить назад до Москвы.
— Ничего я никому не сделал, в царской службе не служил, и могу себе ехать, куда мне угодно: никто возбранить мне не в праве.
Это озадачило писаря.
— Так выбачайте, вы кажите так и гетману… Я пийду и скажу ему.
Пошел писарь к гетману. Тот, после сильной попойки, разминал кости и, потягиваясь, кряхтел и зевал на своей постели.
— А що?.. пане Степане… сердце, голубко…
— Племянника Никона привезли драгуны…
— Чул… чул… добре… А що вин каже?
— Вин каже: на служби царской не состою и волен я йхать, куда хочу.
— А що з ним?
— Ничого…
— Да ты там пошукай…
— Да Бог з ним, пане гетман… Нам що?.. Колыб вин що наробыл на Москви — ино дило. А що з ним, нехай буде з ним. Ничого не отыскали и баста. Федот — племянник патриарха — грих его и выдати москалям…
— Эх, сердце голубко, Степане… Хоть бы бул ридный сын, — так мне що? Ты пошукай добре, и колы там що у него, так и отошли, и его, и що найдешь, царю… Мне що?..
— В Москви его и жечь, и кнутовать станут, смилуйтесь, пан гетман… В нем душа христианская. В служби он у патриарха Никона, и той нас анафемовать буде…
— Нехай анафемует… Що нам? Нам бы царю да боярам угоду зробить…
— Угоду? — вспылил писарь. — Вийско що скажет, колы узнаем, що мы да з Чигирина выдали москалям гостя… да еще служку и племянника Никона… Почитай вси святители взбуторажутся… Итак, пане гетман, гляди: черная рада чишней не хочет платить, вийско воевод не хочет принять, святители московского митрополита не хотят знать; а московские ратники молодиц от человиков отбирают, вдов бесчестят… И так смута в народи, а ты еще хочешь масла подлить: выдать посла Никона из Чигирина!
— Як вовка боятыся, так в лис не ходыть, — упрямился гетман.
Пожал плечами писарь и вышел от него с негодованием.
— А еще запорожец, да после и гостя выдае, — ворчал он и возвратился сердитый в канцелярию.
Не глядя в глаза Марисову, он прошел в свой кабинет и за ним последовал состоявший при канцелярии есаул Василий Федяенко.
— Уж вы, пан есаул, робыте, что гетман каже, а я руки мываю, — произнес он резко, опускаясь перед столиком своим на табурет.
— А що вин наказав?..
— Наказав, щоб шукалы у племянника Никона, мабудь вин мае що от патриарха… Якусь мабудь грамоту… альбо що ине?..
Есаул зачесал затылок, постоял с минуту и вышел нехотя.
В передней канцелярии он взял несколько казаков и вошел в ту комнату, где содержался Марисов…
У Марисова и руки, и ноги были связан ремнями.
— Обыщите его, — обратился к казакам есаул.
Марисов начал барахтаться и кусаться, но сила одолела: на шее, за сорочкою, у него нашли висящую сафьяновую сумочку, в карманах отыскали много золотых денег в кошельках.
Все это отнесено к писарю.
Федяенко деньги все пересчитал и записал, потом взял сафьянную сумочку. Крышка ее была наглухо зашита. Ножом он распорол швы: в ней оказалось запечатанное письмо с печатью патриарха Никона, завернутое в несколько бумаг. На письме значилось, что оно на имя его блаженства патриарха иерусалимского Паисия.
Федяенко с благоговением поцеловал письмо и отнес его к гетману.
Разговор шел у них по-малороссийски, но для того, чтобы чересчур не пестрить рассказа, я передаю его по-русски:
— Пан гетман, мы исполнили твой приказ и обыскали Марисова. Отыскали мы вот это письмо. Патриарх Никон еще не лишен сана, и имеем ли мы право задержать письмо патриарха к патриарху? Если считать, что наша церковь подчинена московскому патриарху, то как мы дерзнем нарушать тайну нашего святителя? Если же мы считаем, как того требуют теперь и все наши святители, патриарха иерусалимского и нашим, то как мы смеем нарушить его тайну? Письмо должно поэтому идти по назначению, а вы можете делать с Марисовым, что хотите…
— Что вы, пан писарь, говорите? Я не католик, не иезуит… и не стану я нарушать тайны, да еще двух патриархов…
Разве не дорога мне будущая жизнь?.. Татарин я, что ли… Да и кто думает о бесчестном нарушении тайн святителей, представителей апостолов на земле? — рассердился гетман, причем плюнул и перекрестился.
— В таком случае, — сказал писарь, — нужно возвратить Марисову письмо…
— Зашить покрепче снова в сумочку и повесить ему на шею… Да и тотчас же…
— Слушаюсь, — обрадовался писарь.
— Да, а руки у него сильно связаны ремнями?..
— Сильно. Не прикажите развязать?
— А ноги?
— И ноги тоже…
— Так еще покрепче свяжите, да в кибитку с драгунами и казаками, и в Москву… к царю…
— Как? — недоумевал писарь.
— Да так, — мы отсылаем только в Москву Марисова, а что при нем, нам и дела нет. Захотят в Москве нарушить тайну патриархов — это их дело, они и ответ дадут перед Богом.
Писарь ошеломлен был этою хитрою казуистикою.
— Да все ж, — сказал он, — мы выдаем москалям патриаршего посланца и письмо, которое принадлежит патриарху Паисию…
— Вольно же тебе было допытываться, что там в сумке. И глядеть не следовало, и знал бы.
— Вы, гетман, сами приказали…
— Я вовсе не настаивал: сказал только, нет ли чего… Но мешкать нечего, зашейте поскорее письмо и отправьте Марисова в Москву.
Гетманский приказ был в точности исполнен: не прошло и получаса, как по пути на Переяславль и на Москву мчалась уже кибитка с узником Марисовым.
Руки и ноги его были так сильно перевязаны ремнями, что покрылись ранами, и кровь выступала наружу, через платье. Измученный, избитый, изнуренный, привезен он при гетманской бумаге в малороссийский приказ. Здесь Салтыков его принял, снял с него сказку и отправил затем в приказ тайных дел князю Одоевскому.
Зная из бумаг гетмана, что у Марисова на шее имеется сумка, в которой хранится письмо Никона, князь Одоевский собрал совет бояр и святителей: как-де поступить с письмом.
И его взяло сомнение: имеет ли он право вскрыть письмо, писанное одним патриархом к другому.
Послали Хитрово к царю.
Набожный Алексей Михайлович сказал с неудовольствием:
— Коли считают это грехом, за что хотите взвалить грех на меня?
Долго судили и рядили, и порешили: «Письмо патриархов друг к другу грех вскрывать. Но Никон сам от патриаршества отказался, значит он писал как простой святитель к патриарху царьградскому. А так как турский султан теперь в войне с царем, то всякое письмо в землю врагов, хотя бы и на имя патриарха, не только можно, но и следует вскрыть, так как в письме может быть измена».
Решили бояре и вскрыли письмо, но читать его без государя не стали и послали ему сказать, как он прикажет.
— Собрать соборную думу в Золотой палате, и я туда приду слушать грамоту Никона.
На это Хитрово возразил: что лучше царю прочитать самому грамоту, и потом, коли он найдет нужным сообщить его соборной думе, так он может это делать во всякое время, потому что письмо может заключать в себе такие предметы, о которых неудобно, быть может, разглашать.
Царь согласился с этим доводом и прочитал Хитрово письмо.
Содержание никоновской грамоты было следующее:
Он рассказывал вкратце, как его поставили против его желания в патриархи и как он согласился с условием, чтобы все слушались его как начальника и пастыря. Сперва царь был благоговеен и милостив к нему и во всем Божиих заповедей искатель, но потом начал гордиться и выситься. Наконец, его, Никона, стали явно оскорблять: Хитрово прибил во дворце его слугу и остался без наказания; царь перестал являться в соборную церковь, когда он служил; князь Ромодановский прямо объявил ему гнев царский. Тогда он от этого гнева и от бесчиния народного удаляется из Москвы в Воскресенский монастырь. «Уезжая из Москвы, — пишет Никон, — я взял архиерейское облачение, всего по одной вещи для архиерейской службы, и ушел, а не отказался от архиерейства, как теперь клевещут на меня, говоря, будто я своею волею отрекся от архиерейства. Я ждал, что царское величество помирится со мною. Царь, узнав, что я хочу ехать в Воскресенский монастырь, прислал бояр сказать мне, чтоб я не ездил до тех пор, пока не увижусь с ним. Я ждал на подворье три дня, и только по прошествии трех дней уехал в Воскресенский монастырь. За нами прислал царское величество в монастырь тех же бояр, которые спрашивали нас.
«Зачем ты без царского повеления ушел из Москвы?» Я отвечал, что ушел не в дальние места, если царское величество на милость положит и гнев свой утолит, опять придем, и после этого о возвращении нашем от царского величества ничего не было. Приказали мы править на время Крутицкому митрополиту Питириму, и по уходе нашем царское величество всяких чинов людям ходить к нам и слушаться нас не велел, потребное нам от патриаршества давать нам запретил; указал, кто к нам будет без его указа, тех людей да истяжут крепко и сошлют в заключение в дальние места, и потому весь народ устрашился. Крутицкому митрополиту велел спрашивать себя, а не нас. Учрежден монастырский приказ, поведено в нем давать суд на патриарха, митрополитов и на весь священный чин; служат в том приказе мирские люди и судят. Написана книга (уложение), — святому Евангелию, правилам св. апостол и св. отец, и законам греческих царей во всем противная. Почитают ее больше Евангелия: в ней-то, в 13-й главе, уложено о монастырском приказе. Других беззаконий, написанных в этой книге, не могу описать, так их много[75]. Много раз говорил я царскому величеству об этой проклятой книге, чтобы ее искоренить, но кроме уничижения не получил ничего[76]. Я исправил книги, и они называют это новыми уставами и никоновыми догматами. Главный враг мой у царя Паисий Лигарид; царь его слушает и как пророка Божия почитает. Говорят, что он от Рима хиротонисан дьяконом и пресвитером от папы, и когда был в Польше у короля, то служил латинскую обедню. В Москве живущие у него духовные — греческие и русские — рассказывают, что он ни в чем не поступает по достоинству святительского сана: мясо есть и пьет бесчинно; ест и пьет, а потом обедню служит… Я с сим свидетельством послал письмо к царю, но он не обратил на него внимания. И наклеветали на меня царю, что я его проклинал, но я в этом невинен, кроме моей тайной молитвы. Теперь все делается царским хотением: когда кто-нибудь захочет ставиться во дьяконы, пресвитеры, игумены или архимандриты, то пишет челобитную царскому величеству, и царским повелением на той челобитной подпишут: Хиротонисан повелением государя царя. Когда повелит царь быть собору, то бывает, и коли велит избрать и поставить архиереями, избирают и поставляют. Велит судить и осуждать: судят, осуждают, отлучают. Царь забрал себе патриаршеские имения. Также берут по его приказанию имения и других архиереев и монастырские; берут людей на службу; хлеб, деньги, берут немилостиво; весь род христианский отягчили данями, сугубо, трегубо и больше, — но все бесполезно».
В заключение Никон в грамоте своей царьградскому патриарху рассказывает историю Стрешнева с собакою; притом, как царь допускает блюсти патриарший престол Питириму, которого он, Никон, отлучил от церкви; затем, как этот отлученный поставил попа Мефодия в епископы и его послали блюсти киевскую митрополию, которая все еще стоит в ведении патриарха константинопольского.
Письмо по содержанию своему и по тону было очень умеренно, но оно имело один недостаток: это была самая святая правда.
Царь рассердился в особенности за упрек в поборах и поэтому написал тут же на грамоте:
— А у него льготно и что в пользу?..
То есть, другими словами: при его управлении государством разве он льготно производил сборы и разве он больше пользы сделал, чем я?..
Это задело его самолюбие.
«Дескать, — подумал царь, — дураками нас всех обозвал да еще перед целым миром. Попади это письмо в Царьград, оно тотчас было бы отправлено в веницейские газеты, и оттуда во все концы вселенные…»
Сам царь это практиковал уже несколько лет перед тем. Испугавшись неудач в Польше в 1660 году, Алексей Михайлович велел описать успехи Долгорукова и Шереметьева, да коварство польских комиссаров, продливших время нарочно, чтобы дать своим возможность собрать войско и дождаться татар, наконец, про измену Юрия Хмельницкого и про дурной поступок поляков с Шереметьевым под Чудновом. Статья эта была отправлена в Любек к Иогану фон-Горну, и тот, отпечатав ее на немецком языке, разослал по всем государствам.
Статья эта произвела тогда благоприятное впечатление в Европе, и царь отлично понимал значение прессы… Поэтому ему страшно сделалось при одной мысли, что бы было, если бы грамота Никона попала в европейскую печать.
«Да он бы опозорил меня перед целым светом, и слава Богу, что эта грамота доставлена теперь ко мне в руки… Но не послал ли он еще что-нибудь со своим Марисовым, и тот, быть может, уже отослал грамоты по принадлежности».
Занятый этими мыслями, он потребовал к себе князя Одоевского.
— Ты доподлинно узнай от Марисова: посылал ли аль не посылал более грамот Никон.
— С пристрастием?
— Без пристрастия, — ведь душу всю вытрясешь у него, а не скажет же он — да, коли нет… Ты его по евангельскому и крепостному целованию…
— Слушаюсь, великий государь.
Час спустя явился вновь князь Одоевский к царю.
— Ну что, — спросил он тревожно.
— Опосля исповеди, целования креста и евангелия Марисов показал: иных грамот не имел, да и Никон иных не рассылал.
— Слава Богу! Камень с сердца долой, — произнес радостно царь.
Одоевский удалился. Несколько дней спустя бояре поднесли Марисову приговор. Он обвинялся в измене и оскорблении величества и по первым двумя пунктам уложения приговаривался к смертной казни.
Прочитав приговор, Алексей Михайлович, под влиянием грамоты Никона, воскликнул:
— Да вы по этому уложению срубите столько голов, что скоро останутся только на месте головы судей и моя… Отправить Марисова в ссылку и определить там на службу впредь до моего указа… Такие верные и честные люди, как Марисов, пригодятся — коли не нам, так нашим детям.
Но Марисов, тем не менее, сильно пострадал, ремни Брюховецкого на ногах и руках изувечили его и сделали его навсегда негодным к работе.
XXIX Собор против расколоучителей
Преследование Никона и его унижение дали оружие расколоучителям и расколу.
— Еретика, антихриста упрятали… зверя обуздали… Стрешнев, Семен-то Лукич, собаку выучил знаменоваться, как он, — так проповедовали одни.
— Еретик каяться ушел в скит, трисоставный крест сам имеет в «Новом Иерусалиме» и в «Крестном», — голосят Другие.
Клик этот, посредством черниц, чернецов, калик перехожих и расстриженных и отставных попов, передается из города в город и в села, и раскол пускает глубокие корни во всем государстве, в особенности после возвращения в Москву всех расколоучителей: Неронова, Аввакума, Даниила, Досифея, Федора, Лазаря и Епифания.
Эти фанатики идеи становились с каждым днем все решительнее и решительнее. Так мы видели, что Неронов поймал царя в Саввином монастыре и требовал удаления Никона как еретика и исказителя древнего благочестия. Царь с негодованием отослал его от себя.
Если, таким образом, резкая их проповедь достигала благочестивого царя, большого знатока богословия, то очевидно, что пропаганда их должна была еще резче проникнуть и в боярство, и в народ.
Послышались дерзкие голоса против нашей церкви в аристократических кружках: Иван Хованский прямо стал проповедовать учение раскольников и перестал посещать церкви наши; подобно ему Морозова и сестра ее перестали посещать не только церковь, но и двор. Морозова была кравчею при царице, т. е. первою особою при ней, и это невольно бросалось в глаза всей Москве.
В таком положении находилось дело о раскольниках, когда были получены вести, что восточные патриархи на пути уже к России.
Царь явился в соборную думу.
— Нужно, сказал он, — предупредить нам низложение Никона собором и сделать постановление о расколе и расколоучителях… Иначе, когда мы низложим Никона, они будут кричать в народе, что его низложили за еретичество… Итак, прежде нужно их низложить как еретиков и осудить… А потому, я думаю, нужно сделать им увещевания в смирении, и коль это не поможет, тогда да будет над ними суд.
Соборная дума согласилась с ним, и тут же послан к Аввакуму Родион Стрешнев для увещевания.
Замечательно то, что соборная дума вся состояла из кровных и непримиримых врагов Никона и она же фанатично сочувствовала его новшествам в церкви. Это как-то у них укладывалось вместе и было совместимо. Но вне думы эта противоположность вызывала во многих ропот негодования: друзья Никона объявили это черною неблагодарностью со стороны бояр. Враги Никона, напротив, торжествовали: в самой непоследовательности думы они видели перст Божий и знамение проявления антихриста, и это они поторопились засвидетельствовать открытою проповедью.
В это время в Москве имелся небольшой монастырь, именовавшийся «Спиридон Покровский от убогих». Архимандритом и игуменом был Досифей. Возвратясь из ссылки, у него проживал Аввакум. Последний уверяет в своих записках, что к нему присылали с обещанием, что если он последует учению Никона, то его сделают даже царским духовником. «Но, — присовокупляет Аввакум, — аз же вся сия вмених, яко уметы…»
Занимал Аввакум небольшую келью в этой обители, но, под видом поклонения иконам и мощам, монастырь ежедневно наводнялся учениками и последователями его учения.
В тот день, когда царь решился действовать против них решительно, в монастыре этом состоялся собор. На нем находились, кроме игумена Досифея и Аввакума, еще дьяк Феодор, протопоп Даниил, иноки — Аврамий, Исаия и Корнелий.
На соборе они сделали резкий и решительный шаг: они решили проповедовать, что Никоновское крещение не есть крещение, или, другими словами, что принадлежащие к его церкви даже не христиане.
Очевидно, что подобное решение было равносильно тому, что объявить войну не на жизнь, а на смерть нашей православной церкви.
Все присутствующие святители на соборе были сильно проникнуты этими мыслями и потому готовились к отчаянной борьбе, с полным сознанием опасности своего положения.
— Нам бы только низложить еретика Никона с его пестрою прелестью, а там мы восстановим древлее благочестие, — стукнул по столу Аввакум. — Умру и я, и любо мне будет, если будет умирать и братия моя за Христа, как я ее тому учил. Мы же будем стоять на одном: никоновское крещение не есть крещение, так как оно с миропомазанием и троекратным погружением в воду… А сам он антихрист, так как теперь 1666 год, а последние числа суть знаки его, супротивника Христова.
Все присутствовавшие на этом соборе поклялись: не признавать никоновского крещения и в таком смысле проповедовать открыто; не признавать ни церкви, ни иконы, ни богослужения никоновского; отрицать всех святителей, поставленных за время Никона, и объявить самое священство прекратившимся на Руси.
На другой же день присутствовавшие на соборе разнесли по городу о своем решении, и это произвело на Москву сильное впечатление: вся церковь наша, с ее обрядами, обстановкою и верованиями, сразу разрушалась расколоучителями.
Москва поднялась, как один человек: одни требовали восстановления древлего благочестия по рецепту Аввакума; другие, глядевшие прежде снисходительно на раскольников, как на людей, которым было просто жаль старины, очнулись и поняли, что здесь речь не идет уже вовсе о староверстве, а о том, чтобы унизить и уничтожить всю церковь православную и разрушить ее до самого корня.
Оскорбились даже те, которые покровительствовали старине, так как расколоучители извергли своим приговором большинство москвичей из церкви.
— Так мы нехристи… хуже даже католиков… лютеран… кальвинистов… И тех признают за христиан, а нас, и жен, и детей наших извергают из церкви… Мы-де чтим и татарские мечети, а староверы говорят: что наши церкви, иконы, служба и таинства — все это ересь, что лишены мы благодати Божьей, так как священства у нас нетути, — и что все это от Никона. Так пущай же собор разберет нас со староверами: коли их правда, мы к ним перейдем, а коли наша, так зажмем им рты; пущай-де не поносят и не позорят святую церковь Христову, да и нас с отцами, детьми и внуками нашими…
Такие грозные голоса стали раздаваться во всех почти хоромах и теремах Москвы, и дошло это до царя.
Как мы видели, он решился действовать сначала увещеванием, потом соборным осуждением.
Родион Стрешнев явился к Аввакуму в обитель с дьяком Алмазом.
— Царское величество, — сказал он, — прислал меня просить тебя не сеять смуты в народе и прекратить свою проповедь.
— Я иерей, и проповедовать евангелие и учение св. апостол и отец никто возбранить мне не может. Я ни к кому не хожу, а меня посещают и требуют моего благословения и слова: я и учу братию, как Бог меня вразумляет… я исцеляю и недужных, и бесноватых, — вера спасает их…
— Великий государь чтит твою подвижническую жизнь и потому, зная, что ты говоришь не в угоду мамоне, просит тебя не богохульствовать, не поносить нашу святую церковь: ты называешь наши церкви храминами, наши иконы — идолами, наших попов — жрецами…
— Я называю их настоящими именами. Произошло все это от еретика и антихриста Никона… Вот моя челобитня царю, — он подал Стрешневу бумагу. — Я молю великого государя низложить антихриста и водворить вновь древлее благочестие, а без него нет спасения, несть мира в народе и церкви.
— Челобитню твою я передам, но тебе государь приказывает: ни с кем не видеться, ни с кем не говорить о делах веры и церкви; а коли приказа не исполнишь, так ждет тебя царский гнев.
— Кто творит заповеди Господни, тот не творит ни греха, ни воровства, — сухо произнес Аввакум.
— Помни, и у царя терпение может истощиться.
— Сердце царево в руце Божьей, и коли меня постигнет его гнев, значит согрешил я, и Бог меня карает: кару приму, как милость Божью…
Стрешнев в тот же день доложил царю и челобитню Аввакума, и весь разговор с ним.
— Он требует, — сказал царь, — низложения Никона? Но теперь речь не о нем, а о том: вернуться ли к старопечатным книгам и порядкам. Десять лет тому назад собор решил, что никоновские книги суть настоящие, древлезаветные, и написана «срижаль» в обличение староверов… Мы-то, значит, настоящие староверы, а они, по неграмотству и невежеству, — отщепенцы. А потому, хоша б низложить десять Никонов, так все же, чему он нас научил и наставил, есть древлее благочестие… и я от веры своей не отрекся бы, хоша б мне грозило всякое несчастие и бедствие… Аввакума челобитню передай, Родивон, в соборную думу: пущай она наставит на путь правый Аввакума и других расколоучителей.
— Соборная дума, по указу твоему, великий государь, уже вызвала из всех городов противников книг и новшеств Никона.
— Ладно, дал бы Господь Бог окончить это дело до собора против Никона. Коли он будет низложен раньше обличения расколоучителей, — будет большая смута в церкви. Об этом соборе, — вздохнул царь, — расколоучители не скажут, как они говорили о Никоне, что он разгорелся яростным огнем отстоять-де во что бы то ни стало свои пестрые прелести… Не скажут они потому, что вся соборная дума, как есть, из одних лишь врагов Никона. Ступай. Пущай на завтра же соберется собор. Я не буду — там дело святительское со святителями.
Нужно было торопиться с собором: наступал великий пост, а народ, под влиянием расколоучителей, не знал уж, как и чем спастись. Уныние сделалось всеобщее, и вместе с тем всех смущала дума: может быть, расколоучители и правы; а коль они правы, так мы-де отверженцы и отщепенцы церкви.
Но вот в Москву съезжаются на собор десять архиереев, и матушка престольная ожила: между святителями есть высокочтимые старцы, которые не покривят душою: скажут правду и разъяснят сомнения, и коли Никоново учение и новшества — ложь, так они предадут их анафеме.
Защитниками же древляго благочестия на соборе являются главные его поборники: вятский епископ Александр, архимандрит Антоний, игумены Феоктист и Сергий, Салтыков, монахи: Потемкин, Сергий, Серапион и Неронов.
Также: Аввакум, Федор, Лазарь и Никита… Было кому отстоять древлее благочестие, и москвичи с утра в день со-, бора наводняли Кремль, чтобы следить за тем, что делается в патриаршей палате.
Были поставлены следующие вопросы:
1) Признавать ли православными патриархов греческих, несмотря на то, что они живут под властью султана?
После недолгих прений вопрос решен в смысле утвердительном.
2) Признавать ли православными греческие книги, употребляемые восточными патриархами?..
И этот вопрос решен утвердительно.
Но вот поставлен третий вопрос, и он вызвал долгие и упорные прения, а именно, спрашивалось: признать ли правильным московский собор 1654 года, осудивший расколоучение и утвердивший книги и порядки Никона?..
Аввакум, Федор и Лазарь и вся остальная клика вооружились старопечатными книгами и доказывали, что все новшества Никона еретичество. Но на это им возразили, что старопечатные книги именно и расходятся с древними книгами; поэтому Никон только восстановил древлее благочестие, — не нарушил его, и что так называемые староверы, так это те требуют новшеств и еретического учения.
При этих доказательствах, опрокидывавших все расколоучение, святители Александр, Антоний, Феоктист, Сергий, Салтыков, Потемкин, Сергий, Серапион, Неронов и даже поп Никита заявили о своем раскаянии и на другой день обещались в соборе исповедать никоновское учение.
Остались же глухи к истине: Аввакум, Федор и Лазарь. Собор присудил их к расстрижению и исполнение приговора назначил на 13 мая.
В Москве сделался праздник: встречавшиеся знакомые поздравляли друг друга и целовались — у всех точно гора свалилась с сердца, как будто все переродились, как будто, потеряв свою церковь, они вновь ее обрели.
Народ единогласно почти кричал:
— Прежде говорили, что Никон насильно ввел свои книги и все церковные порядки, а теперь он в изгнании… в унижении… И коли сами же его враги признают все, что он ни учинил, православным, так значит учение его доподлинно Христово.
Когда же, по окончании собора, архиереи стали разъезжаться по своим подворьям, народ целовал их одежды, падал ниц и пел многие лета.
13 мая царь-колокол призвал Москву в Успенский собор. Все архиереи и все московское духовенство служили соборне, и бывшие отщепенцы служили с ними вместе, чем доказали присоединение их вновь к общей церкви. По окончании службы митрополит Питирим обратился со словом увещевания к Аввакуму, Федору и Лазарю; но те в резких выражениях отреклись от присоединения к нашей церкви.
Тогда их предали анафеме, расстригли и срезали у них бороды[77]; затем они были отправлены в Николаевский монастырь на Угреше.
После чего собор написал духовенству окружное послание с пояснением никоновских исправлений и, вместе с тем, издал книгу, сочиненную белорусским монахом Симеоном Полоцким, под заглавием: «Жезл правления».
Это было полное торжество никоновского учения, или, другими словами: православия. Узнав об этом, Никон долго постился, плакал и говорил:
— Не даром я жил на свете…
XXX Собор против Никона
В то время, когда шел собор против раскольников, Алексей Михайлович получил извещение, что восточные патриархи, по случаю войны, господствовавшей на западной и южной окраине Руси, отправились в сопровождении грека Мелетия через Азию в Астрахань, чтобы оттуда следовать далее Волгою.
Государь встревожился и боялся, чтобы дело не было предрешено патриархами на пути, и, интересуясь, чтобы они поскорее приехали в Москву, он написал 11 марта 1666 года архиепископу астраханскому:
«Как патриархи в Астрахань приедут, то ты бы ехал в Москву с ними и держал к ним честь и бережение. Если они станут тебя спрашивать, для каких дел вызваны они в Москву, — то отвечай, что Астрахань от Москвы далеко, и потому ты не знаешь, для чего им указано быть в Москву, — думаешь, что велено им приехать по поводу ухода бывшего патриарха Никона и для других великих церковных дел, а то не сказывай, как бы был у него вместе с князем Никитою Ивановичем Одоевским. Во всем будь осторожен и бережен, да и людям, которые с тобою будут, прикажи накрепко, чтобы они с патриаршими людьми о том ничего не ускорили и были б осторожны».
Конец этого письма явно указывает, что у царя не установилось еще окончательно мнение о необходимости низложить Никона и поступить жестоко с собинным другом своим.
Но патриархи ехали через Кавказ, и поездка была медленная, так как они кружили, пока попали в Астрахань. Прибыли они туда в конце лета.
Архиепископ Иоасаф и тамошний воевода встретили патриархов с подобающей честью и торжественностью, и после кратковременного отдыха патриархи совместно с архиепископом тронулись по Волге в путь.
В Астрахани явился к ним находившийся там в ссылке наборщик печатного двора Иван Лаврентьев.
— Что тебе нужно от патриархов? — спросил его грек Мелетий.
— Невинно я сослан сюда, — отвечал Лаврентьев, — все же по невежеству судей: они опечатки принимают за латинское воровское согласие и римские соблазны. Не понимают они, что корректурные листы и самые листы считают в осуждение.
Патриархи велели ему ехать с ними в Москву для личного доклада царю.
Явился тоже к ним и слуга гостя Шорина, из-за которого была земская смута; слуга назывался Иван Туркин. Его обвиняли в сообществе с волжскими разбойниками, наказали и сослали, — он же находил суд неправым. Патриархи и его взяли с собою.
Узнав об этом, царь велел написать греку Мелетию, чтобы он сказал патриархам: чтобы они-де не ссорились с царем, а воров отдали б воеводам…
В начале ноября все московские церкви ударили в колокола, и царь сам выехал по дороге на Кострому, навстречу патриархам.
Под высланные им из Москвы экипажи отправлено туда 500 лошадей.
Патриархов встретил царь речью, которая начиналась так:
— Вас благочестие, яко самых святых верховных апостол приемлем; любезно, яко ангелов Божиих объемлем, верующе, яко Всесильного Монарха всемощный промысл, зде архиераршеским пречестным пришествием в верных сомнение искоренити, всякое желанное благочестивым благое исправление насадити и благочестно, еже паче солнце в нашей державе сияет известными свидетелями быти и св. российскую церковь и всех верных возвеселити, утешити. О святая и пречестная двоице! что вас наречет, толик душеспасительный труд подъемших? Херувимы ли, яко на нас почил еси Христос? Серафимы ли, яко непрестанно прославляете его? и т. д…
По слогу, витийству и длинноте периода эта речь едва ли принадлежит перу царя: он любил вообще сжатость и краткость, и, очевидно, она сочинена Симеоном Полоцким. Поэтому потомству приходится душевно сожалеть Алексея Михайловича, вынужденного вызубрить эту напыщенную речь и говорить ее греческим херувимам и серафимам, не переводя духа…
Патриархи одарены богато, и прием в Грановитой палате сделан им вполне царский, — а так называемая столовая изба, или, по-нашему, обеденный зал Грановитой палаты, отделан был для заседаний собора.
Народ встретил патриархов больше с любопытством, чем с восторгом и благоговением, а митрополита Паисия Лигарида повсюду народ стал встречать даже враждебно.
Притом Паисий боялся, что при чтении на соборе письма Никона к константинопольскому патриарху ему может быть сделан большой скандал, а потому он заблагорассудил написать царю письмо, которое он закончил следующими словами:
«Прошу отпустить меня, пока не съедется в Москву весь собор: если столько натерпелся я прежде собора, то чего не натерплюсь после собора? Довольно, всемилостивейший царь! Довольно! Не могу больше служить твоей святой палате; отпусти раба своего, отпусти! Как вольный, незванный пришел я сюда, так пусть вольно мне будет и уехать отсюда в свою митрополию».
На этом основании Лигарид ни на одном из соборов не был.
Положение царя становилось затруднительным: он в душе сознавал все великие услуги церкви, государству Никона, всю его полезность ему и народу, и тем не менее теперь речь шла о том, кому отдать предпочтение: или Никону, или почти всем высшим святителям и всему боярству, бывшему против него?..
С этими мыслями, по получении письма Паисия, он отправился к царевне Татьяне Михайловне.
Царевна приняла его, по обыкновению, любовно, расцеловала и усадила на мягкий диван.
— Получил я от Паисия митрополита. — начал царь, — письмо. Отказывается быть на соборах и хочет уехать. А я полагал, что он будет моим защитником.
— Слава те, Господи, коли он уезжает, — меньше смуты будет на соборе. Этот подлый грек точно лиса прокрался сюда…
— Напрасно ты его не любишь, царевна, — он человек ученый… умный…
— Можно быть ученым и умным, да подлым. Ведь это он заел Никона.
— Никон сам себе враг: всех высших иерархов, всех бояр сделал своими врагами. Я ничего и поделать не могу… послушай, что они бают: они бы его на плаху повели.
— Знаю я. Но будет позор и дому твоему, братец, и всему христианскому миру, коли такого человека, да на плаху.
— Бояре кричат: пущай духовный суд его низложит только лишит святительства, тогда мы его по первым пунктам уложения за измену и оскорбление царя…
— И ты, братец, допустишь это?
— Кто же говорит, сестрица? Мне, может быть, жальче его, чем тебе… Да я бы сейчас возвел его снова на патриарший престол, да ведь вот чего боюсь: теперь на Москве польские послы, да и со свейцами я в переговорах… Мира нам нужно, а он-то, святейший, пошлет к черту и послов, и нас… и снова потянет он войну и снова скажет: в Варшаву! в Краков, в Стокгольм! Не отдаст он ни свейцам — Невы, ни полякам — Западной Малороссии, не уступит он и литовские города… «Будем, — скажет он, — сражаться до последнего; все ляжем костьми, — мертвым бо сраму нет». А мне нужен покой… совсем я измаялся и надобен мне мир.
— Так ты не возвращай его на патриарший престол, — и пущай он сидит в Новом Иерусалиме на покое.
— Нельзя, нужно лишить его патриаршества и избрать нового патриарха; иначе не будет мира ни в церкви, ни в государстве… Говорю это с сокрушенным сердцем, но что же делать, коли иначе делать-то нельзя. Но даю тебе мое честное слово и руку, что будет он у меня и святейшим старцем, и буду я ему как любящий его сын.
— Что я-то своим бабьим умом тебе, братец, могу сказать? По мне, Бог с ними с этими почестями, лишь бы зла не сделали святейшему; а будет ли он править царством, аль нет, для меня все едино, для него, кажись, тоже самое… Насильно милым не будешь.
На другой день царь имел тайное совещание с обоими патриархами, и они условились, как и в каком смысле вести собор, чтобы было меньше шуму и огласки.
7 ноября была собрана соборная дума и на ней присутствовали царь и оба патриарха. Алексей Михайлович коснулся только вопроса об оставлении Никоном патриаршества и требовал, чтобы архиереи подали по этому предмету выписки из правил.
После этого был перерыв на двадцать дней, и 27 ноября государь, собрав вновь соборную думу в присутствии патриархов, предъявил умеренный обвинительный акт и требовал заочного решения.
Государь хотел этим путем решить лишь вопрос: можно ли за отказом Никона от патриаршества избрать нового патриарха. Притом, зная вспыльчивость и резкость Никона, он боялся, что, при личном его объяснении на соборе, он, вероятно, даст много материала для своего обвинения.
Но патриархи уничтожили все его планы: они объявили, что по церковным правилам нельзя никого заочно осудить, и потому, без личной явки Никона к суду, не может быть и самого суда.
Это погубило дело Никона.
На другой же день отправились за ним в «Новый Иерусалим» Арсений[78], Сергий[79] и Павел[80].
Выслушав посланных, патриарх сказал:
— Я постановление святительское и престол патриаршеский имею не от александрийского и не от антиохийского патриархов, но от константинопольского. Оба эти патриарха и сами не живут ни в Александрии, ни в Антиохии: один живет в Египте, другой — в Дамаске. Если же патриархи пришли по согласию с константинопольским и иерусалимским патриархами для духовных дел, то в царствующий град Москву приду для духовных дел известия ради.
После такого ответа очевидно, что Никон должен был стоять на своем и не ехать на собор.
Но на него напала нерешительность, и в такой же степени, как это было в приезде его в Москву. Он стал собираться в Москву. Прощание его с братиею и провожание его было трогательное. 30 ноября он отслужил соборне обедню, потом молебен, приобщился, пособоровался, благословил братию, перецеловался со всеми, причем горько рыдал. Все присутствовавшие с воплем провожали его, и когда он с небольшою свитою сел в сани и те тронулись в путь, братии показалось, что с его отъездом рушился и их покой, и их мирное счастье.
Отказ же его ехать в Москву произвел сильное впечатление на соборную думу, и оттуда послали к нему резкую бумагу, чтобы он явился на собор, т. е. чтоб приехал в Москву 2 декабря, во втором или третьем часу ночи, и остановился бы в Архангельском подворье в Кремле, у Никольских ворот, причем ему запрещалось взять с собою более 10 человек.
С грамотою посланы архимандрит Филарет и келарь Новоспасского монастыря Варлаам. Посланные встретили Никона на пути и въехали с ним в Москву в 12 часов ночи.
Никон всю ту ночь не спал по многим причинам. Самое время было слишком торжественно и решительно, да и в Архангельском подворье он подвергся со стороны приставов и стражи оскорблениям: тотчас по приезде ему дали почувствовать, что он узник. Ходил он взад и вперед по своей келье и обдумывал, как держаться на соборе, как говорить. Все это волновало его, и он был как в лихорадке: проекты, сотни ответов и защитительных речей, один другого эксцентричнее, менялись один за другим в его голове; так же разнообразны и разнохарактерны были и резолюции, какие выносились ему собором: видел он себя то вновь торжествующим и могущественным, то уничтоженным и даже ведомым на плаху.
К рассвету уже он немного прилег и заснул тревожным, лихорадочным сном.
На другой день к нему явился киевский блюститель митрополичьей кафедры епископ Мефодий и два архимандрита.
Епископ и архимандриты, пав перед ним ниц, подошли к его благословению. Патриарх был растроган и дал им братские лобзанья.
Святители объявили ему, что он должен идти на собор в два часа смирным обычаем, т. е. царь и бояре хотели, чтобы он явился на собор не как патриарх.
Никон отвечал, что унизить патриарший сан он не может — это-де будет преступление против церкви. После того он объявил, что имеет с епископом Мефодием переговорить наедине.
Архимандриты удалились.
— Я писал о тебе в грамоте константинопольскому патриарху, что ты посвящен в епископы не по благословению моему; теперь даю тебе это благословение и братское целование и выражаю свое сожаление о написанном. Но ты поставлен был против правил…
— Не знал я, что это против твоего желания…
— Многое и иное творится здесь против моего желания: и проклятое уложение применяют к делам веры, и пойдут путем инквизиторов, как католики… И в Малой Руси вводят боярство и воеводства, уничтожают там все вольности… От этого я и нелюб и в изгнании. Увидишь, будет это не собор, а собрание льстецов и угодников царя и бояр… Осудят они меня и, пожалуй, в срубе сожгут…
— Что ты? что ты? Разве это возможно? Тебя так чтит народ.
— И Филиппа митрополита чтил народ, одначе его задушили.
— Теперь не посмеют, — воскликнул Мефодий, — да все казачество поднимется тогда, как один человек.
— Одначе Брюховецкий меня взять с собою не хотел, а потом выдал Марисова с моей грамотою…
— Он теперь плачется, что сделал это нехорошее дело.
— Господь его прости… Теперь идем к обедне…
К двум часам Никон отправился на собор, причем велел нести перед собою крест.
Собинный друг его, Алексей Михайлович, был точно в таком же состоянии: когда наступила решительная минута судить и низложить Никона, ему сделалось и совестно, и жаль его.
«Кто же его возвысил, кто ему дал волю, как не я сам, — думал он. — А теперь, на соборе, я главный его судья… Нет, не судьею я должен явиться, а подсудимым вместе с ним; и я должен оправдываться перед собором в обвинениях Никона. Так будет иное дело: не он один станет перед судом, а мы вместе с ним, и пущай нас суд разбирает. Не вправе он будет говорить, чтобы я его осудил… А если собор его жестоко осудит, если бояре потребуют его головы?.. Скорее я позволю отсечь свою, чем его выдам… Главнее всего — не допустить суд выходить из обвинений, которые я начертал… Одного боюсь, чтобы он на соборе чего не наделал, — он так горяч… Но не лучше ли примириться с ним? Да как это сделать? Он так горд, а мне не приходится… да еще на соборе… Если бы он принес еще сразу повинную на соборе, — так иное дело».
Эти мысли сильно тревожили царя и он почти всю ночь не спал. На другой день он выслушал обедню в придворной церкви Евдокии, но к трапезе, к обеду, не мог прикоснуться.
Волнуясь, он ходил взад и вперед по своей комнате и раньше назначенного времени отправился на суд.
В столовой избе собор уже собрался за огромным столом, посреди него стояло царское кресло для государя; с правой стороны от него стояли два кресла, поменьше, для восточных патриархов.
По бокам зала виднелись у стен скамьи, обитые бархатом. Когда царь вошел, он направился прямо к своему месту. Патриархи уселись на свои. На правой стороне от царя сели по старшинству митрополиты, архиереи и другие святители; на левую сторону разместились свидетели: бояре, окольничие, думные дворяне и дьяки.
На столе близ царя, по левую руку, лежали правила и разные дела, относящиеся к Никону.
В передней что-то зашумело, засуетилось и меж боярами послышалось:
— Патриарх приехал.
Не смирным обычаем явился Никон, а как патриарх: впереди него несли крест, и когда он появился, все, начиная от царя, поднялись с места.
По обычаю он прочитал входную молитву и молитву за здоровье государя и всего царствующего дома, за патриархов и за всех православных христиан.
После того, обращаясь к царю, Никон трижды поклонился ему до земли, а патриархам он поклонился дважды.
Когда кончилось приветствие патриарха, указали Никону сесть по правую сторону, т. е. на скамье, где разместились архиереи.
Никон обиделся, видя, что ему особого места нет, и сказал:
— Я места себе, где сесть, с собою не принес, — разве сесть мне тут, где стою. Пришел я узнать, для чип вселенские патриархи меня звали?
Алексей Михайлович понял, что с ним сделали вещь неприличную, и чтобы сгладить это первое неприятное впечатление, или, быть может, желая сделать шаг к примирению с ним, он, неожиданно для всех, подымается с места, обходит стол со стороны святителей и становится рядом с Никоном.
С минуту оба стояли друг близ друга и их занимали следующие мысли и чувства:
«Вот как, — думает Никон, — чтобы меня заесть, он отступил и от обычая, и от царского достоинства. По обычаю дьяк должен меня винить, а здесь он сам это делает. Да и место ли царю стоять перед судом?»
Лицо Никона становится при этом и высокомерным и гневным.
«Хоша б он один взгляд мне послал с любовью, как это делывал когда-то, — думает Алексей Михайлович, — а то глядит на меня точно на змия».
Царь при этом и бледнеет и краснеет, губы его дрожат, пот выступает на лбу, и он с большим усилием, не столько сконфуженный, как сокрушенный сердцем, начинает говорить со слезами на глазах:
— От начала московского государства соборной и апостольской церкви такого бесчестия не было, как учинил бывших патриарх Никон: для своих прихотей, самовольно, без нашего» повеления без соборного совета церковь оставил, патриаршества отрекся, ни кем не гоним, и от этого его ухода многие смуты и мятежи учинились: церковь вдовствует без пастыря девятый год, Допросите бывшего патриарха Никона, для чего он престол оставил и ушел в Воскресенский монастырь. Патриархи обратились с этим вопросом к Никону.
Никон. Есть ли у вас совет и согласие с константинопольским и иерусалимским патриархами меня судить? А без их совета я вам отвечать не буду, потому что хиротонисан я от константинопольского патриарха.
Царь Алексей Михайлович (шепчет ему). Мы тебя позвали на честь, а ты шумишь…
Паисий и Макарий указывали ему на свитки, содержащие будто бы уполномочие от двух остальных патриархов; но эти свитки заключали в себе только ответные пункты на вопросы нашего правительства по отношению дела Никона. Никон как будто удовольствовался ответом патриархов.
Никон. Бью челом великому государю и патриархам: выслать из собора недругов моих Питирима, митрополита новгородского и Павла Сарского (Крутицкого) — они хотели меня отравить и удавить.
Выслушивается по этому предмету ответ Павла и Питирима, а Никону отказывается в их отводе.
Патриархи. Для чего отрекся от патриаршества?
Никон (рассказывает о теймуразовском обеде и о всех других оскорблениях).
Царь. Никон писал ко мне и просил обороны от Хитрово, в то время, как у меня обедал грузинский царь, и в ту пору разыскивать и оборону я не мог давать… Никон патриарх говорит: будто человека своего присылал для строения церковных вещей, но в ту пору на Красном крыльце церковных вещей строить было нечего, и Хитрово зашиб его человека за невежество, что пришел не вовремя и учинил смятение, и это бесчестие к Никону патриарху не относится. А в праздники мне выходу не было, за многими государственными делами. Я посылал к нему князя Трубецкого и Родиона Стрешнева, чтобы он на свой патриарший стол возвратился, а он от патриаршества отрекся, сказывал: как-де его на патриаршество избирали, то он на себя клятву положил — быть в патриаршестве только три года. Посылал я князя Юрия Ромодановского, чтобы он вперед великим государем не писался, потому что прежние патриархи так не писались, но того к нему не приказывал, что на него гневен.
Князь Ромодановский. О государеве гневе не говаривал[81]…
Патриархи. Какие обиды тебе от великого государя были?
Никон. Никаких обид не бывало, но когда он начал гневаться и в церковь перестал ходить, то я патриаршество и оставил.
Царь Алексей Михайлович. Он написал ко мне по уходе: будешь, ты, великий, один, а я, Никон, как один от простых, т. е. я-де царем останусь от бояр, а он, Никон, от народа.
Никон. Я так не писывал, а что говорили мы с великим государем в тайне, тому Бог свидетель, и на что он свое соизволение давал, за то Бог будет нашим судьею[82].
Патриархи (к архиереям). Какие обиды были Никону от царя?
Архиереи. Никаких.
Никон. Я об обиде не говорю, а говорю о государеве гневе; и прежние патриархи от гнева царского бегали: Афанасий Александрийский, Григорий Богослов.
Патриархи. Другие патриархи оставляли престол, да не так, как ты. Ты отрекся, что вперед не быть тебе патриархом, — если будешь патриархом, то анафема будешь.
Никон. Я так не говаривал, а говорил, что за недостоинство свое иду; если бы я отрекся от патриаршества с клятвою, то не взял бы с собою святительской одежды.
Патриархи. Когда ставят в священный чин, то говорят: достоин; а ты как святительскую одежду снимал, то говорил: недостоин.
Никон. Это на меня выдумали.
Царь Алексей Михайлович. Никон писал на меня в грамотах своих к св. патриархам многие бесчестия и укоризны, а я на него ни малого бесчестия и укоризны не писывал. Допросите его: всю ли он истину, безо всякого прилога, писал? За церковные ли догматы он стоял? Иоасафа патриархом святейшим и братом себе почитает ли и церковные движимые и недвижимые продавал ли?
Никон. Что в грамотах писано, то и писано, а я стоял за церковные догматы; Иоасафа патриарха почитаю за патриарха, а свят ли он, так не ведаю; церковные вещи продавал я по государеву указу. (Шепотом царю): Винюсь, великий государь, прошу прощения, а грамоты моей патриарху Дионисию не вели читать.
Царь Алексей Михайлович (тоже шепотом). Не хотел ты слушаться и шумел. Сам виноват, пущай читает.
Думный дьяк (читает грамоту вслух и дочитывает до места): «Послан я в Соловецкий монастырь за мощами Филиппа митрополита, которого мучил царь Иван неправедно».
Царь Алексей Михайлович. Для чего он такое бесчестие и укоризну царю Ивану Васильевичу написал, а о себе утаил, как он, изверг, без собора Павла, епископа коломенского, ободрал с него святительские одежды и сослал в Хутынский монастырь, — где же его не стало — безвестно[83]. Допросите его, по каким правилам он это делал.
Никон (сухо). По каким правилам я его изверг и сослал, то не помню, и где он пропал, то не ведаю, — есть о нем на патриаршем дворе дело.
Митрополит Павел. На патриаршем дворе дела нет и не бывало: отлучен епископ без собора[84].
Никон (ничего не отвечал, так как это к делу не шло).
Думный дьяк (продолжает чтение и когда доходит до того места, где говорится, что царь начал вступаться в патриаршие дела).
Царь Алексей Михайлович. Допросите, в какие архиерейские дела я вступаюсь?..
Никон. Что я писал, того я не помню[85]…
Думный дьяк (читает). «Оставил патриаршество вследствие государева гнева».
Царь Алексей Михайлович. Допросите, какой гнев и обида.
Никон. На Хитрово не дал обороны, в церковь ходить перестал. Ушел я сам собою, патриаршества не отрекался, государев гнев объявлен небу и земле; кроме сакоса и митры с собою не взял ничего.
Патриархи. Хотя бы Богдан Матвеевич человека твоего зашиб, то тебе можно бы терпеть и следовать Ионну Милостивому, как он от раба терпел; а если б государев гнев на тебя и был, то тебе следовало об этом посоветоваться с архиереями и к великому государю посылать бить челом о прощении, а не сердиться.
Хитрово. Во время стола я царский чин исполнял. В это время пришел патриархов человек и учинил мятеж. Я его зашиб не знаючи, и в том у Никона патриарха просил прощения, и он меня простил.
Голоса (со стороны архиерейской и боярской). От великого государя Никону патриарху обиды никакой не было; пошел он не от обиды — с сердца.
Архиереи. Когда он снимал панагию и ризы в Успенском, то говорил: «Аще помыслю в патриархи, анафема да буду». Панагию и посох оставил, взял клюку, а про государев гнев ничего не говорил. Как поехали в Воскресенский монастырь, так за ним повезли много сундуков с имением, да к нему же отослано из патриаршей казны 2000 руб. денег[86].
Никон (пожал плечами на последнее свидетельство и молчал).
Патриархи (видя, что царь избегает этого обвинения). Ты отрекся от архиерейства, снимая митру и омофор, говорил недостоин?
Никон. В отречении лжесвидетельствуют; если б я вовсе отрекся, то архиерейской одежды с собою не взял бы.
Думный дьяк (читает и доходит до осуждения Никоном уложения).
Царь Алексей Михайлович. К этой книге приложили руки патриархи Иоасаф и весь освященный собор, и твоя, Никон, рука приложена… Для чего ты, как был на патриаршестве, эту книгу не исправил и кто тебя за эту книгу хотел убить?
Никон. Я руку приложил по неволе[87].
Думный дьяк (читает грамоту о приезде князя Одоевского и Паисия Лигарида в Воскресенский монастырь).
Царь Алексей Михайлович. Митрополиты и князь посланы были выговаривать ему его неправды, что писал ко мне со многим бесчестием и с клятвою мои грамоты клал под Евангелие. Позорил он газского митрополита, а тот свидетельствован отцом духовным, и ставленная грамота у него есть.
Никон. Я за обидящего молился, а не клял. Газскому митрополиту по правилам служить не следует, потому что епархию свою оставил и живит в Москве долгое время. Слышал я от дьякона Агафангела, что он иерусалимским патриархом отлучен и проклят. У меня много таких мужиков[88]. Мне говорил боярин князь Никита Иванович государевым словом, что Иван Сытин хотел меня зарезать.
Князь Одоевский. Таких речей я не говаривал, а Никон мне говорил: если хотите меня зарезать, так велите, — и грудь обнажал[89].
Патриарх Макарий. Митрополит газский в дьяконы и попы ставлен в Иерусалиме, а не в Риме, я про это подлинно знаю.
Алмаз Иванов. Когда Никон по вестям о неприятеле приезжал в Москву, то мне говорил, что от престола своего отрекся.
Никон. Никогда не говорил.
Думный дьяк (читает о дарах, отправленных царем патриархам).
Царь Алексей Михайлович. Я никаких даров не посылал. Писал, чтобы пришли в Москву для умирения церкви; а ты посылал к ним с грамотами племянника своего и дал Черкашенину много золотых.
Никон. Я Черкашенину не давал, а дал племяннику на дорогу.
Думный дьяк (читает о Зюзине и о смерти с горя его жены).
Царь Алексей Михайлович. Зюзин достоин был за свое дело смертной казни, потому что призывал Никона в Москву без моего позволения и учинил многую смуту; а жена его умерла от Никона потому, что он выдал ее мужа, показав его письмо.
Никон (сухо). Я письмо Зюзина прислал к великому Государю, оправдывая себя: что приезжал по письмам, а не сам собою…
Царь Алексей Михайлович (поднеся дело Зюзина патриархам). Никон приходил в Москву ни кем не званый и из соборной церкви увез было Петра митрополита посох, а ребята его отрясали прах от ног своих. И то он какое добро учинил? И ребята его какие учители, что так учинили?
Никон. Ребята прах от ног своих как отрясали, того я не видал; а как приезжали за посохом в Чернево, то меня томили, а иных хотели побить до смерти.
Думный дьяк (читает). «Которые люди за меня доброе слово молвят или какие письма объявят, те в заточение посланы и мукам преданы: поддьякон Никита умер в оковах, поп Сысой погублен, строитель Аарон послан в Соловецкий монастырь».
Царь Алексей Михайлович. Никита ездил от Никона к Зюзину с сорными письмами, сидел за караулом и умер своею смертью от болезни[90]; Сысой — ведомый вор и ссорщик и сослан за многие плутовства[91]; Аарон говорил про меня непристойные слова и за то сослан[92]. Допросите, кто был мучен?
Никон. Мне об этом сказывали.
Царь Алексей Михайлович. Ссорным речам верить было не надобно и ко вселенским патриархам ложно не писать.
Думный дьяк (читает). «Архиереи по епархиям поставлены мимо правил св. отец, запрещающих переводить из епархии в епархию».
Царь Алексей Михайлович (вместо объяснения начинает обвинять). Когда Никон был в патриаршестве, то перевел из Твери архиепископа Лаврентия в Казань и других многих от места к месту переводил.
Никон. Я это делал не по правилам, по неведению.
Митрополит Питирим. Ты и сам на новгородскую митрополию возведен на место живого митрополита Авфония.
Никон. Авфоний был без ума; чтоб и тебе также обезуметь!
Думный дьяк (читает). «От сего беззаконного собора перестало на Руси соединение с восточными церквами, и от благословения вашего (патриарха) отлучились, от римских костелов начаток прияли волями своими…»
Царь Алексей Михайлович. Никон нас от благочестивой веры и от благословения патриархов отчел и к католицкой вере причел, и назвал всех еретиками. Только бы его, Никоново, письмо до св. вселенских патриархов дошло, то всем православным христианам быть бы под клятвою, и за то его ложное и затейное письмо надобно всем стоять и умирать и от того очиститься…
Патриархи. Чем Русь от соборной церкви отлучилась?
Никон. Тем, что Паисий Газский перевел Питирима из одной митрополии в другую и на его место поставил другого митрополита, и других архиереев с места на место переводил… А ему то делать не довелось, потому что от иерусалимского патриарха он отлучен и проклят. Да хотя б газский митрополит и не еретик был, то ему на Москве долго быть не для чего. Я его митрополитом не почитаю: у него и ставленной грамоты нет. Всякий мужик наденет на себя мантию, так он уж митрополит! Я писал все об нем, а не о православных христианах[93].
Голоса между боярами. Он назвал еретиками всех нас, а не одного газского митрополита, надобно об этом учинить указ по правилам.
Никон (обращаясь к царю). Только б ты Бога боялся, то так надо мною не делал бы… (Шум и гам продолжается, но когда страсти улеглись, начинается дальнейшее чтение грамоты).
Думный дьяк (читает его жалобу на наставление духовных, по государеву указу, на тяжелые сборы с церквей и монастырей).
Царь Алексей Михайлович. Как прежде бывало во время между патриаршества, так делается и теперь насчет постановления духовных лиц: возводят в степени архиереи собором[94]. Если что из патриаршей казны взято, то взято взаймы. С архиереев и монастырей брались даточные люди, деньги и хлеб по прежнему обычаю[95], а он, Никон-патриарх, на строение Нового Воскресенского монастыря брал из домовой казны большие деньги, которые взяты были с архиереев и монастырей вместо даточных людей. Да он же брал с архиереев и монастырей многие подводы самовольством…
Никон (пожав с негодованием плечами). Никогда ничего не брал… А если б брал, то на церковь Божию и по патриаршему праву.
Думный дьяк (читает о поставлении Мефодия в епископы и о посылке его блюсти киевскую митрополию).
Царь Алексей Михайлович. Епископ Мефодий послан в Киев не митрополитом, а блюстителем, и об этом писал я в Константинополь[96]…
Думный дьяк (читает обвинение против Питирима, что он присваивал себе патриаршие права).
Митрополит Питирим. В божественных службах в соборной церкви я стоял и сидел, где мне следует, а не на патриаршем месте; в неделю Ваий, шествие на осляти совершал по государеву указу, а не сам собою.
Никон. Тебе действовать не довелось: то действо наше, патриаршеское.
Царь Алексей Михайлович. Как ты был в Новгороде митрополитом, так сам и действовал; а в твое патриаршество в Новгороде, Казани и Ростове митрополиты действовали так же.
Никон. Это я делал по неведению.
Думный дьяк (читает о собаке Стрешнева).
Царь Алексей Михайлович. Никон ко мне ничего не писал, а боярин Семен Лукич предо мною сказал с клятвою, что ничего такого не бывало[97].
Голоса между архиереями. Патриарх Никон проклял Стрешнева напрасно и без собора…
Боярин Метр Михайлович Салтыков. Патриарх разрешил Стрешнева от клятвы и простил, и грамоту к нему прощальную прислал…
Никон (к царю). Бог тебя осудит. Я узнал на избрании своем, что ты будешь ко мне добр шесть лет, а потому буду я возненавиден и мучен…
Царь Алексей Михайлович. Допросите его, как это он узнал на избрании своем…
Патриархи. Как это ты узнал?
(Никон не дал никакого ответа.)
Архиепископ рязанский Илларион. Он говорил, что видел звезду метлою и оттого будет московскому государству погибель. Пусть скажет, от какого духа он это уведал?
Никон (вспылив). И в прежнее время такие знамения бывали… На Москве это и сбудется… Господь пророчествовал на горе Елеонской о разорении Иерусалима за 40 лет[98]…
Все на соборе утомились, в особенности царь и Никон: они во все это время стояли на ногах.
Заседание закрылось, и Никона увезли в Архангельское подворье.
О нравственном состоянии Никона и его чувствах можно судить по двум его обращениям на соборе к царю. Царь предложил Никону на соборе быть умеренным, и когда Никон это исполнил, тогда на него яростно напали и клеветали на него с плеча, без смысла и толка; другими словами: от него хотели добиться умеренности для того, чтобы обвинения врагов были резче и бесшабашнее… Такое впечатление выносится даже из искаженного официального изложения дела на соборе[99].
XXXI Низложение Никона
После этого заседания Никону послали из царского стола в Архангельское подворье всю трапезу. Хотя это была большая честь, но он вознегодовал на царя на соборе и поэтому отказался в резкой форме от этой чести. Поведения царя, казалось ему, было более чем странное: его он предупредил, чтобы он не шумел, а сам потом предъявил против него обвинения несправедливые.
— Бог его прости, — говорил Никон, прохаживаясь по своей келии. — Но теперь ясно, не оправдать хотел он меня на соборе, а желал моего осуждения. Умереннее меня не могло быть на соборе… одного только Питирима я осадил — ведь дурак, болван и тот суется не в свое дело. Ведь читать-то порядочно не умеет… А то место, о беззакониях Паисия, как читали на соборе, так Павел Крутицкий рака спек… Хороши святители! Они же мои судьи!.. А епископ Мефодий хотел говорить, так другие архиереи не дали: точно псы тотчас накинутся на него, и он сядет. Царь молвил: «Мы тебя позвали на честь…» Какая тут честь; коли бы он хотел, чтобы была честь, позвал бы он меня на собор не для суда, а как патриарха….
Такие думы и чувства волновали Никона и в тот и на другой день…
3 декабря было новое заседание собора, но Никона туда не требовали по простой причине: Алексей Михайлович, совместно с боярами, чувствовали себя неправыми по обвинениям Никона, — в том, что они захватили духовную власть, и так как это был большой грех, то им хотелось снять его с себя соборным оправданием и благословением. Хитрово хотел с себя тоже снять нарекания, а быть может — и проклятие Никона за побиение его человека. Для этой-то цели и назначен специальный собор, и Никона не потребовали туда, чтобы удачнее достигнуть цели, тем более, что на этом соборе хотели установить меру его наказания.
Явившись на собор, царь Алексей Михайлович обратился к нему:
— Вчера, — сказал он, — я посылал Никону еду и питье, но тот не принял и велел объявить мне, что у него и своего есть много и государю насчет обеда не приказывал[100]…
— Никон делает все исступя ума своего, — возразили патриархи.
Царь поднялся, пошел на то место, где стоял вчера, и говорил речь патриархам в том смысле, что он никогда и в мыслях не имел присвоить себе власть патриаршую, и если он назначал духовных лиц на должность, то с согласия собора; но он и в этом кается и просит прощения. Что же касается монастырского приказа, то он собору предоставляет право обсудить — оставить ли его или уничтожить: что-де все мысли и думы его, чтобы смуты в церкви не было, и если что произошло, то по недоразумению. Когда он кончил свою речь, все присутствующие поднялись с места и били челом: «бранясь с митрополитом газским, писал Никон, будто все православное христианство от восточной церкви отложилось к западному костелу, тогда как святая соборная восточная церковь имеет в себе Спасителя нашего Бога многоцелебную ризу[101] и многих святых московских чудотворцев мощи, и никакого отлучения не бывало, держит и верует по преданию св. апостолов и св. отец истинно. Бьем челом, чтоб патриархи от такого названия православных христиан очистили».
Царь и весь собор поклонились патриархам до земли и те сняли с них нарекание. После того, выслушав Хитрово, один из патриархов сказал:
— Когда царь грузинский Теймураз был у царского стола, так как Никон прислал человека своего, чтоб смуту учинить, а в законах написано «кто между царем учинит смуту, тот достоин смерти», и кто Никонова человека ударил, того Бог простит, потому что подобает так быть[102]…
При этих словах антиохийский патриарх встал и осенил Хитрово, потом продолжал:
— Архиепископа сербского Гавриила били Никоновы крестьяне в с. Пушкине, и Никон обороны не дал[103]… Да он же в соборной церкви, у алтаря, во время литургии с некоторого архиерея снял шапку и бранил всячески за то, что не так кадило держал; он же., Никон, на ердань ходил в навечерие Богоявления, а не в самый праздник[104].
В заседании этом составлен был план низложения Никона, и остановились на низвержении.
Следующий день прошел тревожно для Никона: арестовали его верного служку Ивана Шушеру, который всегда носит перед ним крест, и слухи носились, что его в застенке пытают. С самим Никоном обращались в Архангельском подворье грубо и дерзко, как с узником, Алексей Михайлович, со своей стороны, хотя и выходил победоносным в борьбе с собинным другом, но он сам понимал всю ничтожность своей победы: поэтому ему хотелось убедить самого Никона, что его осудят и низложат совершенно законно и по делам, и для этого назначено заседание на 5 декабря.
Никон же в это время, казалось, и ему, и боярам, уже не нужен для государева дела: мир со Швецией почти готов был, с Польшей — тоже, Восточная и Северная Малороссия вся сдана Брюховецким русским воеводам; Нащокин и Матвеев заправляли почти всеми государственными делами, а Хитрово и Стрешнев ведали всеми дворцовыми предметами.
В Никоне, значит, не только не нуждались, но, пожалуй, он был бы даже помехой миру.
В отношении Малороссии бояре приняли решение: оставить за Россией только восточный берег Днепра, а западный отдать полякам, и в одно время поговаривали даже, чтобы уступить полякам Киев.
Сильный протест Малороссии заставил наше правительство иметь стойкость и не согласиться на последнее.
Никон едва ли согласился бы на победный дележ Малороссии, потому что первая гиль и черная рада при Хмельницком была с запада, так как там закрепощено было все казачество, — следовательно, отдавались ляхам именно те, которые начали борьбу с Польшею и которые первые призывали русского царя. Кроме того, едва ли Никон согласился бы выплатить миллион руб. польской шляхте за выход ее из Восточной Малороссии. Боярству же это было сподручно, так как оно рассчитывало все шляхетские земли присвоить себе, а этой сделкой с шляхтою они думали купить голоса у шляхты, если бы предстояли выборы в короли Польши… Следовательно, и царь Алексей Михайлович умасливался этим…
Не могло, поэтому, и быть речи о возвращении к власти Никона, так как все, что ни делалось, было противно его принципам…
Участвовавшие в соборе отлично это знали, и вперед им известно было, какое решение постановить, но, во всяком случае, они на некоторое время раньше приехали Никона. Явился раньше и государь.
Как только вошел Алексей Михайлович, он обратился к патриархам со следующими словами:
— Никон приехал в Москву и на меня налагает судьбы Божии за то, что собор приговорил и велел ему в Москву приехать не с большими людьми. Когда он ехал в Москву, то по моему указу у него взят малый Шушера за то, что в девятилетнее время к Никону носил всякие вести и чинил многую ссору. Никон за этого малого меня поносит и бесчестит, говорит: «Царь меня мучит, велел отнять малого из-под креста». Если Никон на соборе станет об этом говорить, то вы, св. патриархи, ведайте. Да и про то ведайте, что Никон перед поездкою своею в Москву исповедовался, приобщался и маслом освящался.
Восточные патриархи, по словам официальной сказки, при последних словах подивились гораздо, потому что в последнем действии Никона ничего не было иного, как только чувство чисто христианское.
Наконец, появился Никон: он был бледен, суров, но покоен. Он ясно понял, что его хотят обвинить во что бы то ни стало, и решился доказать, что весь суд над ним незаконен.
Патриарх Паисий. Ты отрекся от патриаршеского престола с клятвою и ушел без законной причины.
Никон. Я не отрекался с клятвою, я засвидетельствовался небом и землею и ушел от государева гнева, и теперь иду, куда великий государь изволит. Благое по нужде не бывает.
Патриарх Паисий. Многие слышали, как ты отрекся от патриаршества с клятвою.
Никон. Это на меня затеяли, а если я негоден, то куда царское величество изволит, туда и пойду.
Патриарх Паисий. Кто тебе велел писать патриархам Нового Иерусалима?
Никон. Не писывал и не говаривал.
Архиепископ Илларион Рязанский (показывает письмо). Он мне писал[105].
Никон (удивленно). Рука моя… разве описался (в сильном волнении). Слышал я от греков, что на антиохийском и александрийском престолах иные патриархи сидят, чтоб государь приказал свидетельствовать, пусть патриархи положат Евангелие.
Патриархи. Мы патриархи истинные, не изверженные и не отрекались от престолов своих; разве турки без нас что сделали. Но если кто дерзнул на наши престолы безнаказанно, по принуждению султана, тот не патриарх, прелюбодей. А св. Евангелию быть не для чего, не подобает Евангелием клясться.
Никон. От сего часа свидетельствую Богом, что не буду перед патриархами говорить, пока константинопольский и иерусалимский сюда будут.
Архиепископ Илларион Рязанский. Как ты не боишься суда Божия и вселенских патриархов бесчестишь?
Патриархи (обратясь к собору). Скажите правду про отрицание никоново с клятвою.
Питирим Новгородский и Иоасаф Тверской[106]. Никон отрекся и говорил: «Если буду патриарх, то анафема буду».
Никон. Я назад не поворачиваюсь и не говорю, что мне быть на престоле патриаршеском; а кто по мне будет патриарх, тот будет анафема. Так я писал к государю, что без моего совета не поставят другого патриарха. Я теперь о престоле ничего не говорю: как изволит великий государь и вселенские патриархи.
Патриархи (к греческому митрополиту). Читай правила по-гречески. (К архиепископу Иллариону Рязанскому). Читай правила по-русски.
Илларион Рязанский (читает). Кто покинет престол волею, без наветов, тому впредь не быть на престоле.
Никон. Эти правила не апостольские и не вселенских соборов, и не поместных. Я этих правил не принимаю и не внимаю.
Митрополит Павел. Эти правила приняла церковь.
Никон. Их в русской Кормчей нет, а греческие правила не прямые, их патриархи от себя написали, а печатали их еретики. А я не отрекался от престола, это на меня затеяли.
Патриархи. Наши греческие правила прямые.
Архиепископ тверской Иоасаф. Когда он отрекался с клятвою от патриаршеского престола, то мы его молили, чтобы он не покидал престола; но он говорил, что раз отрекся и больше не патриарх, а если возвратится, то будет анафема.
Никон. Лжесвидетельствует.
Родион Стрешнев. Никон говорил мне, что обещался быть только три года.
Никон. Я не возвращаюсь на престол, волен великий государь.
Алмаз Иванов. Никон писал государю, что ему не подобает возвратиться на престол, яко псу на свои блевотины.
Никон. Того не писал… Не только меня, но и Златоуста изгнали неправедно… (в сильном волнении обращаясь к царю). Когда на Москве учинился бунт[107], то и ты, царское величество, сам неправду свидетельствовал, а я, испугавшись только, пошел от твоего гнева.
Царь Алексей Михайлович. Непристойные речи! Бесчестя меня, говоришь. Никто на меня бунтом не приходил, а приходили земские люди, и то не на меня, — приходили бить челом об обидах.
Голоса. Как ты не боишься Бога! Непристойные речи говоришь! Великого государя бесчестишь!
Патриархи. Для чего ты клобук черный с херувимами носишь и две панагии?
Никон. Ношу черный клобук по примеру греческих патриархов; херувимы ношу по примеру московских патриархов, которые носили их на белом клобуке. С одной панагиею с патриаршества сошел, а другая — крест: в помощь себе ношу.
Архиереи. Когда от патриаршества отрекся, то белого клобука с собою не взял, — взял простой монашеский, а теперь носишь с херувимом.
Антиохийский патриарх. Здесь ли что антиохийский патриарх не судья вселенский?
Никон. Там себе и сиди. В Александрии и Антиохии ныне патриархов нет: александрийский живет где-то в Египте, антиохийский — в Дамаске.
Патриархи. Когда благословили вселенские патриархи Иова, митрополита московского, на патриаршество, в то время где они жили?
Никон. Я в то время невелик был[108].
Патриархи. Слушай правила святые.
Никон. Греческие правила не прямые, — печатали их еретики.
Патриархи. Приложи руку, что наш номоканон еретический, и скажи, какие в нем ереси.
Никон. Это дело не мое.
Патриарх. Скажи, сколько епископов судят епископа и сколько патриарха?
Никон. Епископа судят 12 епископов, а патриарха вся вселенная.
Патриархи. Ты один Павла низверг, не по правилам (Никон на это ничего не отвечал, так как низвержения не было).
Царь. Веришь ли всем вселенским патриархам? Они подписались своими руками, что антиохийский и александрийский пришли по их согласию в Москву.
Никон. Рук их не знаю.
Антиохийский патриарх. Это истинные руки патриаршеские!
Никон. Широк ты здесь: как-то ты ответ дашь пред константинопольским патриархом?[109]
Голоса. Как ты Бога не боишься! Великого государя бесчестишь и вселенских патриархов! Всю истину во лжу ставишь!
Патриархи. Отберите у Никона крест, который пред ним носят: ни один патриарх этого не делает, а это обычай латинский. (Пошел снова спор об отречении Никона от патриаршества’). Написано: по нужде дьявол исповедует истину, а Никон истины не исповедует. (После краткого совещания между собою.) Отселе не будешь патриарх, и священная да не действуеши, но будешь яко простой монах… (Никон складывает набожно руки, произносит тихо молитву и, поклонившись во все стороны, выходит с тихим и спокойным величием из зала.)
* * *
«Никон низложен! Никон осужден!» — раздалось в тот же день по всей Москве, и даже враги его вздрогнули.
По улицам начали бродить толпы и перешептываться между собою; общество явно облеклось в траур.
Бояре, окольничьи, думные дворяне, дьяки, стряпчие и пристава разъезжали по знакомым, чтобы ослабить произведенное на столицу впечатление, но еще сильнее все почувствовали потерю, понесенную всеми с удалением Никона, когда при этом стали вспоминать его заслуги, да и те, которые разъезжали по городу, увидев всеобщее горе, тоже опустили носы.
Двор затих и умолк. Царь заперся в своей комнате и никого не принял. Во всем дворце все замерло, ходили на цыпочках, говорили шепотом. В теремах было то же самое: царевны заперлись, никого не принимали, долго молились и горько плакали.
Что же было причиною такого горя?
Не религиозность, не страх, что будет с церковью, а все чувствовали, что они потеряли опору и силу.
Если Никон в последние девять лет не мешался в государственные дела, то все же его боялись, и одно имя его и боязнь, что он вернется, заставляли многих держаться законности. Словом, Никон был невидимою силою, которая удерживала в государстве хоть сколько-нибудь равновесие и правосудие, а теперь эта сила, этот колосс, низвержен, и точка опоры потеряна…
Общество почувствовало, что оно без почвы и что то, на чем оно стоит, колеблется и готово провалиться и увлечь его в бездну… Во многих домах слышны были рыдания, и заплаканные глаза встречались повсюду, даже на улицах.
Сам царь, приказав изготовить обвинительный протокол собора для его подписания, был сам похож на осужденного: он захандрил и несколько дней никого не принимал.
8 декабря явились к нему восточные патриархи.
Три часа говорил он с ними наедине и о том, как бы наименее оскорбить патриарха при объявлении ему приговора в окончательной форме. Хотя резолюция собора и была объявлена Никону на соборе же, но все знали его гордость: он, вероятно, потребует официального объявления ему приговора.
Никон же понял объявление ему резолюции следующим образом: они-де объявили ему, что он больше не патриарх — простой монах, единственно для того, чтобы теперь судить его еще светским судом и казнить как преступника.
Пущай, — говорил он сам с собою, — делают, что хотят. Так поступили и со св. Филиппом митрополитом: сначала лишили сана, сделали простым иноком, а потом Малюта Скуратов задушил его.
Он готовился к смерти, молился день и ночь и не смыкал очей.
12 декабря все московское высшее духовенство собралось в Крестной патриаршей палате, куда прибыли и восточные патриархи. Царь прислал сюда князя Никиту Ивановича Одоевского (боярина приказа тайный дел), боярина Петра Михайловича Салтыкова (боярина малороссийского приказа), думного дьяка Елизарова и Алмаза Иванова — всех врагов Никона.
Никона привезли из Архангельского подворья и под стражею держали в сенях перед Крестною палатою.
Патриархи отправились в церковь, которая была в воротах Чудова монастыря, и стали на своих местах в саккосах; архиереи в саккосах же выстроились по обе стороны.
Ввели и Никона. Он вышел с обыкновенною своею важною и гордою поступью, помолился иконам, поклонился дважды в пояс патриархам и стал по левую сторону западных дверей.
Алмаз Иванов и один из греков начали читать выписку из соборного деяния по-гречески и по-русски. По окончании чтения патриархи отправились к царским вратам, подозвали Никона к себе и начали читать ему обвинительный акт:
«Проклинал русских архиереев в неделю православия мимо всякого стязания и суда; покинутием престола заставил церковь вдовствовать восемь лет и шесть месяцев; ругался двоим архиереям: одного называл Анною, другого Каиафою; из двоих бояр одного называл Иродом, другого Пилатом; когда был призван на собор по обычаю церковному, то пришел не смиренным обычаем, а не переставал порицать патриархов, говоря, что они не владеют древними престолами, но скитаются вне своих епархий, — суд их уничтожил и все правила средних и поместных соборов, бывших по вселенским, всячески отверг; номоканон назвал книгою еретичною, потому что напечатан в странах западных; в письмах к патриархам православнейшего государя обвинил в латинстве, называл мучителем неправедным, уподоблял его Иеровоаму и Оссии, говорил, что синклит и всероссийская церковь приклонились к латинским догматам, но порицающий стадо, ему врученное, — не пастырь, а наемник; архиерея один собою низверг; по низложении с Павла, епископа коломенского, мантию снял и предал на лютое биение; архиерей этот сошел с ума и погиб безвестно, зверями ли заеден, или в воде утонул, или каким-нибудь другим образом погиб; отца своего духовного повелел без милости бить, и патриархи сами язвы его видели; живя в Воскресенском, многих людей, иноков и беглецов наказывал не духовно, не кротостью за преступления, но мучил мирскими казнями, кнутом, палицами, — иных на пытке жег»[110].
Когда чтение окончилось, александрийский патриарх снял с Никона клобук и панагию и сказал:
— Вперед патриархом не называйся и не пишись; называйся просто монахом Никоном; в монастыре живи тихо, безмятежно и о своих согрешениях моли всемилостивого Бога…
— Знаю, — воскликнул Никон, — и без вашего поучения, как жить… а что вы клобук и панагию с меня сняли, то жемчуг с них разделите по себе: достанется вам жемчугу золотников по пяти или по шести, да золотых по девяти… Вы султанские невольники, бродяги, ходите всюду за милостынею, чтоб было чем заплатить султану. Откуда взяли вы эти законы? Зачем вы действуете здесь тайно, как воры, в монастырской церкви, в отсутствии царя, думы и народа? При всем народе упросили меня принять патриаршество: я согласился, видя слезы народа, слыша страшные клятвы царя. Поставлен я в патриархи в соборной церкви пред всенародным множеством: а если теперь захотелось вам осудить нас и низвергуть, то пойдем в ту же церковь, где я принял пастырский жезл, и если окажусь достойным низвержения, то подвергните меня чему хотите…
Патриархи отвечали, что все равно, в какой бы церкви ни было произнесено определение собора, лишь бы оно было по совету царя и архиереев.
Патриархи на Никона надели простой клобук, снятый с греческого монаха, но архиерейского посоха и мантии у него не взяли…
Что последнее означало?..
Никона повезли из Чудова монастыря в санях в земский двор.
Когда Никон садился в сани, он воскликнул:
— Никон! Отчего все это тебе приключилось? Не говори правды, не теряй дружбы. Если бы ты давал богатые обеды и вечерял с ними, то не случилось бы с тобою этого.
С Никоном поехало: два черных священника, два дьякона, один простой монах и два бельца. В санях с ним сидели: спасоярославский архимандрит Сергий и бывший эконом Никона.
Народ огромною массою окружил поезд и поплелся за Никоном.
Когда Никон хотел что-нибудь говорить, архимандрит Сергий кричал грубо:
— Молчи, Никон.
— Скажи Сергию, — обратился Никон к эконому своему, — что если он имеет власть, то пусть придет и зажмет мне рот…
Эконом исполнил требование Никона, причем назвал его патриархом.
— Как ты смеешь, — закричал Сергий, — называть патриархом простого чернеца?
— Что ты орешь? — закричали из толпы, — имя патриаршеское дано ему свыше, а не от тебя гордого.
Стрельцы схватили протестовавшего, и он исчез.
Никона привезли в земский двор и ввели в избу, где он должен был оставаться впредь до указа.
Спустя некоторое время земский двор наводнился солдатами разного оружия.
Народ разогнали, уверив его, что Никона только на другой день повезут через Кремль. Никон же думал иное: меня привезли в земскую избу, чтобы здесь творить надо мною суд светский.
Это было логично и в духе тогдашней юстиции: земский двор представлял светскую власть, и когда кто-либо туда попадал, то из него расправа была уж общая уголовная: уголовная тюрьма, пытки, казнь.
Сердце патриарха Никона, однако ж, не дрогнуло при этой мысли.
«Пущай меня казнят! — думал он. — По крайней мере будет за что: за то-де, что с псами восточными обращался по их достоинству: обозвал бродягами, ворами, пред всем собором в церкви, пред царскими вратами… А уж псы, что ни на есть: посочиняли такие вины, о которых я и не слышал… Отчего же не упомянули ни об одной заслуге… И хоша б один кто-нибудь сказал доброе слово… Да и все-то наши святители хороши — такие же псы, как и те восточные».
В то время, как так рассуждал Никон, в Москве творилось необычайное: народ волновался и шумел в кабаках, ругая бояр и называя их кровопийцами Никона.
Дошло это до царя, и поэтому велено Никона вести в земскую избу в архиерейской мантии и с посохом.
Но в самой церкви явилась новая случайность: Никон поносил патриархов публично. Бояре хотели из этого сделать новое дело и монаха Никона судить своим судом. Для этой цели они и задержали его в земском дворе.
Князь Одоевский, Салтыков и Алмаз явились во дворец с докладом царю: Алексей Михайлович велел зайти к себе через несколько часов.
Когда они ушли, он в в сильном волнении отправился к царевне Татьяне Михайловне. Он передал ей о поступке Никона при исполнении над ним приговора.
— Спасибо ему за это, — воскликнула царевна. — Узнаю в этом поступке прежнего Никона… А то я уж думала, что он в Воскресенском от безделья с ума спятил.
— Как? — удивился царь. — Да знаешь ли, бояре требуют за это оскорбление патриархов предать его суду… А это значит пытка… потом казнь… Они его и задержали на земском дворе.
— Пущай казнят… Но знай, братец, что смута и гиль будет без меры, и камень на камне не останется из Москвы… Тебе не доносят то, что есть: меня оповестили, что завтра соберется народ, и когда повезут Никона через Кремль, народ его освободит и возведет на патриаршество… Если народ подымется ради того лишь, что Никона низложили, так что будет, коли он узнает, что его ведут на казнь? Опасную шутку шутите.
— Так что же по-твоему?
— По моему бабьему разуму: коли вы его низложили, так отправляйте да с почетом в монастырь… Придут бояре, так ты им скажи, что хочешь… А патриарху пошли дары и требуй его благословения… Так и накажи говорить в народе…
Алексей Михайлович понял, что сестра советует ему дело.
Когда после того к нему вновь явились бояре, он сказал:
— Никон говорил исступя ума, на него сердиться нельзя… Возьмите вот это, — он подал кошель с деньгами, — отдайте ему на дорогу, да и шубу взять из моих лучших… теперь, зима, холод.
Бояре удивились, сделали гримасу и ушли. На другой день, чуть-чуть начало светать, как народ стал валить в Кремль, и не больше как в полчаса он переполнил его. Толпилось несколько десятков тысяч: лица у всех были мрачны и речи зловещи.
Появились пристав, дьяки, бояре и распустили слух, что Никона повезут по Сретенке. Народ двинулся в Китай-город.
В это время привезли Никону в земскую избу царскую шубу и деньги — он отказался принять и то и другое.
Его повезли дорогою, где народ не предполагал вовсе, что он появится там. На одном из поворотов какая-то черница бросилась к саням, схватила коренных лошадей за уздцы и неистово завопила:
— Куда вы, как воры, его увозите… Везите в народ, он не ваш… он народный…
— Мама Натя, — крикнул Никон, — прощай… прости… Молись за меня… да и поклонись.
— Не пущу… Сворачивайте… Караул! Народ… сюда… Ратуйте! — кричала инокиня.
Из соседних домов показалось несколько человек.
— Бей ее, — крикнул стрелецкий сотник своим ратникам. Один обнажил палаш и ударил инокиню по голове. Обливаясь кровью, та упала на снег под лошадей; кони испугались, подхватили и понеслись с санями через инокиню… Раздирающий душу вопль ее раздался, а со стороны Никона крик ужаса, но лошади умчали его далеко… далеко…
XXXII Первые раскольничьи страстотерпцы
Рождественский праздник 1666 года прошел для царя Алексея Михайловича не радостным. Обыкновенно-то он всегда проводил его в семейном кругу; но если позволял себе что-либо, так это устройство борьбы зверей меж собою или бой со зверями ловчих на Москве-реке. И теперь, чтобы заглушить злые думы, тревожившие его по случаю низложения и ссылки Никона, он велел ловчему пути, т. е. администрации охоты, устроить поездку.
Медвежья охота была любимейшею потехою царя. Медведи, смотря по выдрессировке, назывались: дворными, гончими, ступными, спускными и дикими. Привезли из Мезени года два перед тем белых медведей.
Спускали медведей на травлю с другими зверями, травили их собаками — борзыми, меделянскими и британскими, и с ними же вступали в бой ловчие. Поводыри же медведей выделывали разные комедийные действия с дрессированными животными.
Травли происходили во дворце, на нижнем под горою и на заднем дворе или на старом Цареборисовском дворе, близ палат патриарха; тоже — на Старом Ваганькове, где теперь публичный музей, и на Новом Ваганькове, на трех горах.
Зимою же или на масленицу устраивалась потеха на Москве-реке, чтобы весь город мог любоваться зрелищем.
При строгом пуританстве тогдашнего правительства, запрещавшего пляски, песни, светскую музыку, игрища и гульбища, очевидно, что всякое зрелище возбуждало большое любопытство и привлекало массу народа.
Признаками таких потех обыкновенно было очищение и выравнивание местности на льду Москвы-реки, устройство изгородки для травли и приготовление деревянных скамеек для народа, особой ложи для царя и особого павильона для зверей и собак.
Москва знала всех ловчих по именам, да и большинство собак было им известно.
И вот в день, назначенный для потехи, еще с утра народ стал собираться на Москву-реку, чтобы занять место поудобнее для зрелища.
Звери в то время содержались во Львином дворе, у китай-городской стены, где теперь присутственные места; тоже Яма (впоследствии долговая тюрьма) была местопребыванием зверей.
Знаменитыми в это время ловчими были: Ябедин, Теряев, Головцын и Неверов, также Никифор и Яков Озорные, сыновья Богдана Озорного, тешившего еще царя Михаила Федоровича.
В день, назначенный для потехи, мороз был силен, и звери, а также собаки, привезенные на Москву-реку, жались от холода, а ловчие, одетые в крытые сукном полушубки, только постукивали ногами и руками, чтобы не иззябнуть до царского приезда.
Матушка Москва стала съезжаться: были здесь и открытые сани, и возки, и в них виднелись или аргамаки, или бахматы. Москва, всегда любившая и ценившая лошадей, рассматривала их как знаток и относилась к ним критически.
— Вишь ты, — говорил какой-то приказчик другому, — у гостя-то Шорина какие бахматы, точны братья родные.
— Да, дюже откормленные, — отвечал его товарищ.
— А Стрешнева-то, Родивона Матвеевича, вот тот жеребчик, тонкошейный, тонконогий, серый в яблоках, а морда сухая, жилистая, головка малая… так бы расцеловал, — воскликнул первый. — И одежа, гляди, на нем точно царская: золотая парча, да каменья самоцветные.
— Царской-то казны ему, что ли, стать жалеть, — усмехнулся его товарищ.
— А вот гляди, точно царь едет! — крикнул мальчик, указывая по направлению к Кремлю.
— Точно он, батюшка-то наш, соколик, — умилился стоявший здесь старик мастеровой, и, сняв шапку, он стиснул ее под мышкой и стал подыматься на цыпочки, чтобы лучше разглядеть показавшийся на противоположном берегу царский поезд.
Царский поезд был довольно длинен: впереди шли скороходы, потом стольники, дворцовая стража, за ними ехали сани царя, запряженные шестеркою белых бахматов, в драгоценных парчовых одеждах (под уздцы вел их конюшенный штат), за царскими санями — царевны и царевичи в крытых возках, за ними верхом бояре, окольничие, воеводы, думны дворяне и весь остальной придворный штат.
Дорога из Кремля была проложена по Москве-реке до места зрелища, и народ по обе стороны уже ждал поезда. Царь кланялся народу на обе стороны, а народ падал ниц и пел «многие лета».
У павильона царя встретили Ордын-Нащокин, Матвеев, Хитрово и ловчий Матюшкин.
Царь с царицею, царевнами и царевичем сели в особую ложу; бояре и двор расположились на изготовленные им места. Их окружили цепью охотников с мушкетами, пистолетами и рогатинами, здесь же имелись на сворах борзые и меделянские собаки. Это была предосторожность на тот случай, если бы зверь бросился вне арены на зрителей.
Началось зрелище. Белый медведь должен был вступить в борьбу с тремя простыми медведями.
Матюшкин дал знак и медвежьи поводыри вывели трех диких черных медведей и, впустив их в арену, сняли с них намордники и сами перескочили обратно по сию сторону арены.
Медведи, почувствовав себя на свободе, завыли, разминали кости, и, видя, что они в сообществе лишь своей братии, начали обнюхивать друг друга и вскоре освоились.
Когда это было достигнуто, Матюшкин велел выпустить белого медведя Богатыря.
Богатырь прямо выпущен из клетки. Белый как снег, косматый, с черными глазами и красною пастью — это чудовище, появившись на арене, подняло голову вверх, как собака, и зловеще зарычало и завыло.
Черные медведи сразу струсили, поглядели в ту сторону, где показался зверь, жались друг к другу и зарычали, оскалив зубы.
Белый медведь лег на брюхо и вызывающе завыл и зарычал. Черные медведи рассвирепели и, один за другим поднявшись на задние лапы, пошли на него.
Богатырь, допустив шедшего на него с рычанием первого медведя на довольно близкое расстояние, вдруг вскочил, поднялся тоже на задние лапы, пошел на него, ударил его стремительно обеими лапами по голове и схватил зубами за горло.
Черный медведь пошатнулся и упал навзничь. Богатырь насел на него и перегрыз ему горло. Но два других медведя приблизились в свою очередь и налегли сверху на Богатыря, грызя и разрывая ему спину когтями. Почувствовав страшную боль в спине, белый медведь бросил нижнюю жертву и сделал отчаянное движение, упершись о землю лапами. От этого движения оба медведя очутились на его месте, а он с воем и рычанием выскочил из-под них. Медведи, рассвирепев, не поняли в чем дело и, чувствуя под собою свежее тело и чуя кровь, налегли на убитого своего товарища и рвали его на части.
Поглядев с полминуты на эту рычащую, движущуюся кучу, Богатырь вновь пришел в ярость, тем более, что в спине и в теле его слышалась ужасная боль, и вот он стремглав бросается на эту кучу и начинает ее рвать когтями и зубами… Не проходит и получаса, как он обращает трех медведей в груду костей, мяса и крови…
Измученный и рассвирепевший до лютости, он садится на брюхо, как пес, и с высунувшимся кровавым языком воет жалобно, хотя и победоносно.
— Велишь, великий государь, и его порешить? — обращается с вопросом Матюшкин.
— Почему?
— Да потому, великий государь, что его теперь в клеть не загонишь, а коли он отдохнет, так много бед учинит.
— Так ты вели его добить.
Матюшкин сделал знак. Ловчие выпустили на Богатыря свору меделянских.
Неожиданное появление новых врагов озадачило Богатыря, он сначала поглядел на них только презрительно и злобно застучал зубами, воображая, что этим он отделается. Но когда собаки бросились на него и, атаковав со всех сторон, стали его грызть, он от боли рассвирепел и, подбежав к барьеру, прислонился к нему задом, причем лапами и пастью уничтожал врагов.
От удара его лапы псы падали замертво, а пастью своею он в один миг умерщвлял смельчаков.
На помощь собакам подоспел ловчий Никифор Озорной: он подошел по барьеру и, приблизившись на несколько шагов к белому медведю, из пистолета выстрелил ему в ухо и тот пал мертвый.
После этого пошли другие потехи: травили волков дрессированными собаками, хорьков и лисиц борзыми, и потехи эти продолжались почти до самого вечера.
По окончании потехи царь уехал во дворец, а народ еще долго осматривал побоище и критиковал то тот, то другой момент битвы.
Возвратясь домой, царь пообедал, причем он имел разговор о том, кого избрать в патриархи. Он был в затруднении. Кандидатов было четыре: Питирим, Павел, Илларион и Иоасаф, но ни один из них не представлял того типа патриарха, какой создал ему Никон…
Потолковали и разошлись. Чтобы рассеяться, он велел позвать из темной подклети одного из верховых калик перехожих, чтобы он забавлял его песнями. Привели певца Филиппова. Это был средних лет парень, плотный и высокорослый, обладавший замечательным голосом и памятью. Играл он на домре и пел духовные песни, былины и легенды духовного содержания. Алексей Михайлович любил его слушать, в особенности, когда его терзали какие-нибудь тяжелые думы.
— Спой, что ни на есть, Филиппушка, — сердце отведи, — встретил его государь.
Настроил и приготовил Филиппов свою домру и запел об Иоасафе царевиче:
В дальней во долине Там стояла мать — прекрасная пустыня; Приходил ли во пустыню Младой царевич Иоасафий: Любезная моя мати, Прекрасная мать-пустыня! Приемли меня во пустыню, От юности прелестные; Научи меня, мать-пустыня, Как Божью волю творити; Достави меня, мать-пустыня, Ко своему ко небесному царствию…Заслушался царь этой легенды, и когда Филиппов пропел последние стихи:
Усе ангелы возрадовалися, И архангелы счудесалися Премладому его смыслу, Превеликому его разуму, А мы запоем аллилуия, аллилуия, О, слава тебе Христе, Боже наш! —царь поднялся с места и пошел в терем.
— А я к тебе, сестрица, душу отвести, — сказал он, входя к царевне Татьяне.
— Я собираюсь в Алексеевский монастырь… одна черница больна, нужно навестить.
— Не поздно ли?
— Лучше поздно; днем так и глядят все, куда едешь. Там меня ждут.
— Я не долго у тебя сидеть буду… Нужно выбирать патриарха, а кого, не знаем: Питирим…
— Глуп и грамоты не знает, — вставила царевна.
— Павел Крутицкий…
— Вот-то будет патриарх!.. Ему бы бабою быть, а не святителем…
— Илларион Рязанский?..
— Мужик мужиком; ему бы косу, аль серп, да в поле.
— А что скажешь об Иоасафе Тверском?..
— Этот, по крайности, благообразен, хоша не палата ума, да теперь оно и не нужно: пущай только не портит Никоновой работы.
— Видишь, позвал я Филиппова домрачея и просил спеть стих, причем думал: кого он назовет в стихе из четырех святителей, значит того и сам Бог хочет… А он и запой об Иоасафе-царевиче…
— Да коли уж выбирать в патриархи опосля Никона, так, по правде, нет ни одного, но коли его низложили, так не подобает церкви вдовствовать… Гляди, братец, ты вот по слову царицы и Морозова простил Феодосии Морозовой, а та снова свое поет, плюет на наши образы и на наши кресты, бранит Никона антихристом, а нас зовет еретиками, латинниками… Всюду она вопиет: «Наших святых Аввакума, Даниила, Епифания, Феодора сослали, истязают, а теперь сами нашли, что Никон-де латинянин да антихрист…»
— Так что же ты думаешь?
— Да так: нужно вызвать ее святых к собору, пущай восточные патриархи с ними прю ведут…
— Умница ты моя, вызову их сюда… Но тебе ехать надоть, поезжай.
Царевна оделась, взяла с собою одну из придворных боярынь, простилась с братом и уехала.
В Алексеевском монастыре игуменья, как видно, ожидала ее: она встретила царевну у ворот.
Царевна поцеловалась с нею и произнесла взволнованным голосом:
— Отчего мне только теперь дали знать, что мама Натя сильно больна?
— Она несколько часов только как пришла в себя и велела дать знать тебе, царевна.
— Что же с нею случилось?
— Говорят, ее переехали на улице… К нам в монастырь привезли ее добрые люди… Это было 13 декабря. Она была без памяти, вся в крови, ноги, руки, и голова повреждены… Что могли, то мы делали, и вот, милостивая царевна, теперь она пришла в себя.
— Можно ее видеть?
— Можно, можно… я провожу тебя в ее келью…
Игуменья ввела царевну в маленькую келью. Мама Натя лежала на мягкой и хорошей постели, в углу виднелась икона, а там теплилась ярко лампадка.
Царевна сбросила шубу и подошла к кровати. Инокиня как будто дремала. Царевна взяла ее за руку.
— Это ты, царевна… как я рада… я знала, что придешь, — слабым голосом произнесла больная.
— Что с тобою случилось?..
— Потом скажу…
Игуменья, видя, что она лишняя, вышла.
— Говори, ради Бога, мама Натя, что за беда приключилась…
— Когда его увозили… я хотела свернуть сани к народу… схватила за узду коренных… Стрелец ударил меня по голове, я упала под лошадей… дальше не помню… Помню только, что он узнал меня и крикнул: поклонись…
— Так он не забыл меня?
— Как же и забыть-то свою благодетельницу… добро и зло помнятся… Погляди меня царевна… вели свечу принести… хочу знать, целы ли руки… ноги…
Царевна выглянула в дверь. Служка монастырская ожидала у двери келии приказаний. Царевна велела принести огонь.
Вскоре появились в келии свечи. Как ни была мама Натя слаба, но просила служку развязать различные бинты на руках и ногах. Оказалось, что у нее имелись раны и ушибы, но переломов костей не было. После осмотра служка вышла.
— Я тебя, царевна, не видела после собора, — сказала инокиня, — а потом не знаю, кто это так озлобил царя против Никона.
— Да все этот Ордын-Нащокин… Точно так, как Матвеев и Морозов, он требует ввести у нас западные обычаи, а Никон против этого. Рассказывают они царю: как-де Никита Иванович Романов, мой дедушка, сшил было для прислуги своей заграничную немецкую одежду, так Никон-де послал за нею с наказом сказать: «Хочет-де патриарх и своим людям сшить такую». А как принесли к нему, так он велел изрезать одежду. Потом, увидев Никиту Ивановича, он сказал: «Не в одежде просвещение, а в учении», да и заплатил ему за одежду. Нащокин это знает, так и Никон ему неугоден. К тому же Нащокин хочет быть один: и мир-то заключить одному, да потом и в государевых делах быть одному. Но тому не быть: мы с Анною Петровною Хитрово залучим к себе племянника ее, Богдана, тогда и ссадим Нащокина.
— Не можешь представить себе, царевна, как я рада, — прервала инокиня Татьяну Михайловну, — что перелома костей у меня нетути, а раны, те заживут… Мне руки и ноги теперь нужны… нужны для дела: боярам мое вечное мщение… Тогда лишь успокоюсь, когда…
— И я клянусь им вечно мстить: коли можно будет им напакостить, так напакощу… А коли придет время стать за земство, за чернь, за народ, — так я ни денег, ни жизни не пожалею… Они и погубили Никона: зачем-де он был против боярства и воевод… зачем стоял за черную землю и чернь… Теперь уже и Милославские, и Морозов за черную землю… Остальные бояре стоят за боярство: вот и низложили они Никона.
— Не знаю, как ты, царевна, а мне нужно выздороветь, подняться на ноги, и кара будет не за горами… Скоро с небес загремит для них труба страшного суда.
Инокиня поднялась на кровати, устремила блестящий взор свой вдаль и произнесла пророчески:
— Вижу я виселицы и плахи от Астрахани до Казани… Всюду трупы боярские и воеводские висят, и вороны их раздирают, а смрад их душит… душит меня… И в Малороссии трупы их гниют всюду и по городам, и по селам, — и с этими словами она упала без чувств.
— Мама Натя, успокойся, — и царевна испуганно потребовала воды.
Вбежали служки и игуменья. Все усилия их привести ту в чувство оказались тщетными: инокиня бредила и металась на кровати.
Царевна поторопилась во дворец и послала в монастырь одного из царских врачей.
На другой день дали знать царевне, что инокине легче.
Царевна послала отслужить молебен.
Вскоре после того совершился обряд избрания и поставления патриарха: избран был Иоасаф, под именем Иоасафа II.
После его избрания собор тотчас осуществил меры Никона: монастырский приказ уничтожен и отменено правило, что сектанты-христиане обязаны при приеме православия вновь креститься. Зато, отделив светскую власть от духовной, собор стал разграничивать и подсудность некоторых дел, причем дела веры передал ведению уголовного светского суда. Этим введены у нас инквизиционные начала, что озлобило раскольников и повело лишь к развитию, а не к уменьшению раскола.
Это и Никон предвидел, и поэтому-то он так и восставал против вмешательства светской власти в дела церкви; но его не поняли современники и, к стыду нашему, и потомство, которое, по невежеству своему, видит в его низложении какое-то торжество грубой силы и фанатизма против начал любви и братства. Самая же борьба вовсе не была из-за власти, а из-за принципов: Никон стоял за свободу веры и независимость церкви, бояре — за подчинение ее не столько государству, как боярству. Последнее вскоре дало достойные плоды.
На собор вытребованы из Пафнутьевского Боровского монастыря расколоучитель Аввакум, Лазарь, Епифаний и Федор.
Когда их привезли в Москву, они всюду рассказывали, что исцеляли больных, изгоняли бесов. В особенности Аввакум повествовал о разных видениях и пророчествах, и многие из приходящих к ним уверовали в него и в его товарищей, как в святых и Божьих подвижников.
По прибытии же в Москву, узнав подробности собора, низложившего Никона, и услышав, как он укорял в латинстве и патриархов, — Аввакум возрадовался и готовился со своими сподвижниками дать решительную битву и никонианам, и восточным патриархам.
Привезли расколоучителей на собор.
Председательствовал новый патриарх Иоасаф в присутствии двух восточных патриархов.
Когда ввели расколоучителей, они по обычаю должны были пасть ниц и поклониться архиереям, но они этого не сделали, а только двуперстно перекрестились в сторону, а не к иконам.
Начались расспросы, споры, прения, убеждения, но на все был один ответ расколоучителей:
— Все новшество — еретичество и латинство. Исправление книг неправильно. По старым книгам молились и служили святые митрополиты Петр и Филипп, многие святые, великие чудотворцы Зосима и Савватий, и многие иные… и если они достигли спасения по этим книгам, то иных не нужно.
Греческие же книги, на которые ссылался собор, они назвали еретическими, а восточных патриархов обозвали еретиками-латинянами, как равно всю церковь никоновскую… Церкви наши назвали храминами, наши иконы — идолами, а наших святителей — языческими жрецами.
Собор проклял их, осудил их учение и отправил в земскую избу для предания их суду за оскорбление церкви и всего собора.
Уголовный суд присудил их: за двуперстное знамение — к отсечению правой руки, а за ругание церкви — лишению языка.
— Любо нам пострадать за Христа и за церковь, — воскликнули расколоучители, когда им объявили приговор.
На другой день вся Москва поднялась и потекла к Лобному месту, где на эшафоте заплечный мастер должен был совершить казнь.
Но многие в столице вознегодовали, узнав о вмешательстве светского суда в дела веры.
— Да это латинство! еретичество!
— Неслед допустить такого позора!
— Отколь Москва стоит не было такой обиды!
Нашлись люди сильные, могучие, богатые, да, кажись, и сам царь был замешал в дело: подкупили палача, чтобы он принес мертвые руки и совершил бы мнимое отсечение рук, а языки чтобы палач только ущемил немного до крови…
Но народ этого не знал. В день казни он наводнил Лобное место, волновался и шумел.
— Вишь, за веру отцов, за древлее благочестие страдают, — ворчали одни.
— Коли они казнь приемлют за свои иконы, за свои книги и кресты, значит, и впрямь то истина, что они бают, — слышались голоса.
Но вот выводят на площадь Аввакума и его сообщников.
Над Аввакумом должна совершиться первая казнь: он кланяется народу во все стороны и кричит зычным голосом:
— Любо мне пострадать за Христа и за церковь, — и при этом, перекрестя себя и народ двуперстно, кладет эту руку на плаху.
После того ему рвут язык.
Сподвижники его тоже самое кричат народу и мужественно подвергаются казни.
Народ становится мрачен, двуперстно крестится и расходится в страшном негодовании.
Из земской избы увозят расколоучителей в Пустозерскую обитель у Ледовитого моря.
Не проходит и месяца, как оттуда приходят вести:
— Святые-де страстотерпцы творят там чудеса: без языка проповедуют, руки вновь поотрастали, они исцеляют больных, изгоняют бесов, видят и говорят с ангелами и давно умершими.
Облетает эта весть всю Русь, паломники отправляются в Пустозерскую обитель, подтверждают справедливость чудес, и расколоучение находит горячих, многочисленных последователей во всех слоях общества.
XXXIII Малороссийская смута
На берегах Груни, в Полтавской губернии, виднеется теперь маленький городок Гадяч. Во время малороссийского гетманства городок этот был одною из резиденций гетмана, и поэтому на берегах Груни высился и деревянный дворец, имевший большой фруктовый сад и парк. Здесь-то поселился Брюховецкий, боярин-гетман, когда после раздела между Россиею и Польшею Малороссии первой достался восточный и второй, западный берег Днепра. В Малороссии в это время появилось, таким образом, два гетмана: русский, Брюховецкий, сидел в Гадяче; польский, Дорошенко, — в Чигирине.
Киев был тоже уступлен полякам, но русские медлили его сдавать, а потому митрополит Иосиф Тукальский жил не в этом городе.
В таком положении были дела в Малороссии, когда после низложения Никона и собора против раскольников епископ Мефодий, блюститель киевского митрополичьего престола, выехал из Москвы.
Москва между тем не была довольна Брюховецким: он обещался, что Малороссия будет уплачивать исправно все подати и сборы и что народ сам будто бы пригласил к себе всех воевод, а тут, как нарочно, народ не только не платил сборов, но и воеводы встречались крайне враждебно.
Зная это, Брюховецкий вообразил, что старый друг его епископ Мефодий, рассердившись на него за его боярство и за статьи, им подписанные в Москве, вероятно, наговорил на него что-нибудь теперь царю и едет с каким-нибудь злыми наказами.
В таком раздумий отправил он несколько казаков в Смелу, которая принадлежала тогда Киево-Печерской лавре и где пребывал в то время игумен монастыря Иннокентий Гизель.
Иннокентий не был расположен к Брюховецкому, да и тот не особенно-то жаловал его. Не поехал бы он к нему, потому что жил на польской стороне, но ночью к нему явились казаки и так напугали его, что он волею-неволею, а должен был подчиниться и выехать в Гадяч.
Брюховецкий встретил Иннокентия со всеми подобающими почестями, ввел его под руку в свои хоромы, усадил под образа на самом почетном месте.
Иннокентий начал жаловаться на обиды, какие казаки делают в землях монастырских, и гетман обещался разобрать эти дела; потом он перешел к тому, что Мефодий-де едет из Москвы, и так как он, Иннокентий, в хороших с ним отношениях, то, чтобы уговорил его помириться с ним.
После того, угостив архимандрита, он отпустил его с дарами.
В ту же самую ночь Брюховецкого разбудили:
— Кто-сь приихав, — сказал прислуживавший ему карлик Лучко.
— Пойди-ка узнай, хлопчик…
— Архиерей приихав, — крикнул он.
— Який?
— Мефодий.
Брюховецкий поспешно оделся и вышел в столовую, где уже его люди приняли епископа.
Гетман подошел под его благословение, но тот обнял и расцеловал его.
— Кто старое вспомянет, тому глаз вон, — сказал он. — Забудем вражду[111].
— А ты, старый друг, уж виделся с Иннокентием?
— Нет, я прямо из Москвы к тебе…
— Так прежде, чем разговаривать, нужно есть, — воскликнул гетман.
Он ударил в ладоши, появилось несколько служек.
— Сейчас дать все, что можно… И горилки… и меду, и вина, — крикнул Иван Мартынович.
Слуги ушли, и не более минуты спустя стол был накрыт. Огни зажжены, и гость начал утолять голод, причем и хозяин не забыл потчевать и себя то чаркою горилки, то порядочным ковшиком старого меду.
Когда гость насытился, гетман велел прислуге убирать со стола, только оставить пития, а самим удалиться.
Что и было исполнено.
Когда они остались одни, гетман обратился к Мефодию:
— Что в Москве?
— Да что там может быть хорошего?.. Попали мы с тобою, Иван Мартынович, как говорится, из кулька, да в рогожку. Думали мы избавить сяляцких панов, — думали, что Москва оставит наши вольности, будет нас защищать, а тут она продала нас ляхам… А всему-то виноват ты, Иван Мартынович: унизил ты себя и нас… погнался за боярством… писался нижайшею ступенью царского престола… Они возмечтали, наслали нам воевод во все города, уничтожают наши вольности, и гляди — раздадут они и наших казаков в холопство боярам.
— Да расскажи подробно, святой епископ, что там делается в Москве… Мы еще не рабы московского царя.
— Низложили они Никона позорно… На соборе я и другой епископ Сомон хотели говорить — так нам не давали.
— Да за что его низложили?
— За что?.. За то, что он стоял за черную землю, за чернь… За то, что он не хотел боярства: только шестнадцать фамилий ведь имеют право заседать в боярской думе, не пройдя всех ступеней службы, а остальным попасть в думу почти невозможно…
— Да кто же они?
— Черкасские, Воротынские, Трубецкие, Голицыны, Хованские, Морозовы, Шерметьевы, Одоевские, Пронские, Шеины, Салтыковы, Репнины, Прозоровские, Буйносовы, Хилковы и Урусовы.
— Но, кроме боярской думы, кто же теперь близок к царю?
— Это?.. Да Афанасий Ордын-Нащокин. Он же более всех подбивал на соборе низложить Никона, да и царя уговорил. Льстил он прежде боярам, кланялся им: одного лишь князя Хованского и унижал, пока не низложил Никона; а как низложил, так стал именем царя писать боярам и воеводам такие ругательские указы, что читать стыдно. Боялся он, коли возвратится Никон, так в совете у царя не будет один, — и коли б он мог, так он как Малюта Скуратов поступил бы с святым Филиппом, поехал бы в Ферапонтов монастырь и задушил своими руками святителя…
— Разве он так свиреп?
— Поглядишь — он собирается на лето ехать с царем в Киев на богомолье. Но это один предлог: придет он сюда с сильным войском, уничтожит он нас, поработит и обратит в боярских холопов.
— Но ты говоришь, что он теперь и бояр теснит?
— Видишь ли, Нащокин вселил ему, что он Бог и судья земной, неограниченный правитель, и что бояре-де его холопы; а он, Нащокин-то, хочет неограниченно владеть от имени его всем… Не быть нам холопами Нащокина. Я разрешаю все казачество от данной им клятвы русскому царю. Долой воевод!., долой бояр!.. Лучше отдаться турецкому султану.
— Так ты, епископ, разрешаешь меня от клятвы?
— Разрешаю, собери раду… и делайте для блага отчизны все, что вам Бог на душу положит… А чтобы ты не думал, что я приехал к тебе только с льстивыми речами, так вот тебе моя рука: отсюда я еду к себе в Нежин и там буду говорить всем, что и тебе говорю… а для закрепления нашего союза отдаю свою дочь за твоего племянника…
Гетмана последнее обрадовало, так как это была давнишняя мечта его племянника.
Выпили они после того еще порядочно на радостях, что породнятся, и на другой день гетман выехал с епископом и проводил его почти до самого Нежина.
Но и в Москве было не совсем спокойно: Алексей Михайлович, как видно, тревожился и набросал оригинальное письмо князю Григорию Григорьевичу Ромодановскому[112]. Писано оно прозою и оригинальными стихами:
«Повеление Всесильного и Великого, и Бессмертного, и Милостивого Царя царем, и Государя государем, и всяких сил Повелителя Господа Нашего Иисуса Христа. Писал сие письмо всемногогрешный царь Алексей рукою своею»:
Рабе Божий, дерзай о имени Божии И уповай всем сердцем, подаст Бог победу. И любовь и совет великой имей с Брюховецким, А себя и людей Божиих и наших береги крепко От всяких обманов и льстивых дел, и свой разум Крепко в твердости держи и рассматривай Ратные дела великою осторожностью, Чтоб писарь Захарка с товарищи чево не учинили Также как Юраско[113] над боярином нашим И воеводою над Васильем Шереметьевом, также и над боярином Нашим и воеводою князь Иван Хованским Огинской князь Учинил, и имай крепко опасение и аргусовы очи всяк час, Беспрестанно в осторожности пребывай и смотри на все Четыре стороны и в сердце своем великое пред Богом смирение и низость имей, А не возношение, как некто[114], вам брат, говаривал: не родился-де такой Промышленник, кому бы его одолеть с войском, И Бог за превозношение его совсем предал в плен[115].* * *
Это предостережение князя со стороны заботливого царя опоздало. Епископ Мефодий успел бросить зерно раздора между Брюховецким и им. Но тут еще подействовало лукавство гетмана Западной Малороссии Дорошенко: митрополит Тукальский написал Брюховецкому, что коли он, Брюховецкий, восстанет против русских и перейдет на западный берег, то Дорошенко тотчас откажется от гетманства и тогда он, Брюховецкий, сделается гетманом обеих сторон.
Получив это письмо, Брюховецкий созвал к себе в Гадяч полковников: Мартынова, Самойлова, Кублицкого, Тайча, Апостоленко, Горленко и Дворецкого.
Брюховецкий начал стороною: как бы-де заставить москалей почитать казачьи вольности, и поэтому-то он и раду войсковую собрал.
«Тем более, — присовокупил он, — я должен был на это решиться, что по ту сторону Днепра снова наехала польская шляхта, овладела всеми маетностями (поместьями), которыми она прежде владела, настроила по селам виселицы и вешает на них крестьян… чернь…».
Полковники давали на это уклончивые ответы; тогда Брюховецкий принес крест и, поцеловав его, сказал:
— И вы целуйте крест, что друг друга не выдадим по тому решению, какое примем здесь.
Все целовали крест.
— Теперь я прочитаю письмо ко мне епископа Мефодия, — воскликнул Брюховецкий и начал читать: «Ради Бога, не оплошайся. Как вижу, дело идет не о ремешке, а о целой коже нашей. Чаять того, что честный Нащокин к тому привел и приводит, чтобы нас с вами, взяв за шею, выдать ляхам.
Почему знать, не на том ли и присягнули друг другу: много знаков, что об нас торгуются. Лучше бы нас не манили, чем так с нами коварно поступать. В великом остерегательстве живи, а запорожцев всячески ласкай. Сколько их вышло, ими укрепляйся, да и города порубежные людьми своими досмотри, чтобы Москва больше не засела. Мой такой совет, потому что утопающий и за бритву хватается: не послать ли тебе пана Дворецкого для какого-нибудь воинского дела к царскому величеству? — чтобы он сошелся с Нащокиным, выведал что-нибудь от него и дал тебе знать. У него и своя беда: оболган Шереметьевым и сильно жалуется на свое бесчестие. Не добрый знак, что Шеремет самых бездельных ляхов любовно принимает и их потчевает, а казаков, хотя бы какие честные люди, за лядских собак не почитает и похваляется на них, да с Дорошенком ссылается! Бог весть, то все не нам ли на зло? Надобно тебе очень осторожным быть и к Нащокину не выезжать, хотя бы и манил тебя. Мне твоя отчизна мила. Сохрани Бог, как возьмут нас за шею и отдадут ляхам или в Москву поведут. Лучше смерть, чем зол живот. Будь осторожен, чтобы и тебя, как покойного Барабаша, в казенную телегу замкнув, вместо подарка ляхам не отослали».
Всеобщее негодование полковника было ответом на это письмо.
— Мефодий, — сказал тогда Брюховецкий, — как заместитель митрополита киевского, разрешил нас от данной нами клятвы русскому царю. Теперь мы снова вольны во все четыре стороны — лучше турскому султану поддаться, чем Нащокину и боярам. Долой русских!
— Долой русских! Лучше султану поддаться! Русские жен у наших отнимают, земли забирают, чинши правят и грабят наших! Довольно натерпелись! — неистово закричали полковники.
— Но я думаю думку иную, чем епископ, — продолжал Брюховецкий. — Нам нужно начать наше дело зимою же… Зимою москали не успеют ни соединиться, ни подать друг другу помощи… нужно, чтобы весна и лето не застали уж ни одного русского на Украине.
— Добре! Иван Мартынович! — крикнули полковники.
Брюховецкий велел тогда затопить печь и, выйдя в свою спальню, несколько минут спустя возвратился оттуда с узлом.
— Вот тут, — сказал он, — и боярская шапка, и кафтан, и грамоты царские на гетманство и боярство… я их порешу.
Он стал кидать в печь и грамоты, и одежду.
По мере того как это горело в печи, полковники кричали:
— А щоб и воны такички згорылы.
— Щоб им ни дна ни покрышки не було.
— Щоб воны вис вик так маялись, як мы, бидные…
— Щоб горылы и жарились их печенки, як та боярская шапка.
— Теперь, — закричал Брюховецкий, когда все сгорело, — идемте обидать.
За обедом выпито было много, и когда предложен одним из полковников тост за здоровье гетмана Ивана Мартыновича, то он вставил:
— Не за нижайшую подножку царского престола, а за гетмана запорожского войска.
— Ура! — крикнули все.
Разъехавшись, полковники пустили слух в народе, что Иван Мартынович уж не нижайшая подножка русского престола.
Весть эта, как молния, облетела все казачество по обе стороны Днепра, и на Украине проявлялись общие в то время признаки волнения и мятежа в малороссийском народе.
Запорожцы, не имея чего есть в сечи, на зиму рассыпались по всей Малороссии в виде наймитов в жидовских корчмах, у зажиточных крестьян и земледельцев. Работали они усердно, а еще усерднее пропивали деньги по шинкам и корчмам. С Западной Руси почти все крестьянство из поместий ляхов двинулось тоже в Восточную Русь и этим увеличило мятежный элемент. Откуда-то повсюду явились бандуристы, бродили по корчмам и шинкам и пели воинственные песни… Запорожцы потребовали тогда от хозяев расчета, и пошла страшная попойка по шинкам и корчмам. Приняли участие в этих вакханалиях и казачество, и крестьянство. Пили, пили, пропивалось все, что имелось, и когда уж нечего было пропивать, закладывались будущие приобретения, на что давались форменные записки. Это значило, что готовится повстанье… Но против кого и чего? Прежде Малороссия имела одного врага, ляхов, а теперь у них появились два: на одном — ляхи, на другом — москали.
Волнение пошло по обеим сторонам, и раздались кличи на западном берегу:
— Москали нас продали ляхам…
— Батька Дорошенко пущай уж лучше с турским султаном покумуется.
А на восточном, или, как тогда называли, на «Барабошском береге», слышался другой клич:
— Бояре да воеводы нас закрепостили… да братьев продали ляхам.
Казаки во многих местах по селам стали брать в полковую казну хлеб и деньги и запретили вносить чинши в царскую казну. Многие крестьяне записывались в реестровые казаки и покинули свои села.
В Прилуках, на площади, стояла большая вестовая пушка, полковой есаул велел взять пушку и поставить в проезжих воротах.
Узнав об этом, воевода прислал солдат взять пушку в верхний город, но есаул погиб и пушки не дал.
— Мы еще из верхнего города и остальные пушки вывезем! — кричал он.
По его же наущению все мещане и поселяне перестали платить подати, и сборщикам нельзя было показываться по селам: им грозили смертью.
Русских откупщиков казаки грабили, резали им бороды и мещанам кричали:
— Будьте с нами, а не будете, так вам, воеводе и русским людям, жить только до масленицы…
Наступил 1668 год и к концу января в Чигирин, к Дорошенко, стал съезжаться разный люд; а город имел вид ярмарки: ежедневно входили в него и пешие, и конные, и крестьяне и записывались в реестровые казаки — в то время, когда комплект, определенный Речью Посполитою, давно был переполнен.
Стягивались сюда со всех сторон тоже и пищали, и пушки, и целые транспорты пороху и снарядов.
Дорошенко занимал дворец, в котором жил Богдан Хмельницкий, но со времени смерти его в нем такого оживления и энтузиазма не было, как теперь.
После его смерти здесь орудовал сначала Выговский, потом сын Богданов, Юрий, больной и расслабленный юноша, наконец, Брюховецкий.
Выговский и Брюховецкий отличались только тем, что хотя оба мечтали о дворянстве, но один — о польском, другой — о русском, а чернь была забыта.
Теперь Дорошенко снова, подобно Богдану Хмельницкому, стал за чернь, с тем, чтобы потребовать свободу родной земли.
Съехались к нему: митрополит Тувальский, полковники, вся старшина, крымские послы, монах от епископа Мефодия, посол Брюховецкого и самое главное — вдова покойного Хмельницкого с сыном Юрием, теперь монахом Гедеоном. С Хмельницкими приехала тоже и инокиня Наталья. По приезде мы застаем их вновь в той же комнате, где они сидели в день приезда Бутурлина к Богдану Хмельницкому.
Вдова Богдана сильно постарела, да и мама Натя изменилась: ее энергичные черные глаза впали, а белое лицо сделалось желтым: волосы совсем поседели и падали большими прядями на ее лоб и шею из-под клобука.
Обе сидели на диване, а против них расположился монах Гедеон. За несколько лет отдыха и покоя бывший юноша гетман совершенно изменился: стан его выпрямился, и он уж не был прежний сутуловатый, невзрачный и робкий парубок. Лицо его, от непривычки к воздуху совсем почерневшее во время гетманства, теперь побелело и получило живой и яркий цвет; болезни, которыми он страдал, покинули его, и это дало возможность укрепить и развить формы. Юраско, как называл его царь Алексей Михайлович, сделался просто молодцом, и к мужественным его чертам вовсе не шла монашеская одежда.
Разговор между беседующими шел по-малороссийски.
— Так Никона, — сказал Хмельницкий, — осудили, сослали и заточили в монастырь… Недаром батько мой так хотел вырвать его из Москвы… «Дайте мне Никона, — говорил он, — и мы возьмем самый Царьград. Войска, — говорил он, — у нас много, а голов мало…» И заточили они его за спасибо: если бы не он, так батька мой никогда не отдал бы себя под руку царя.
— Да, — вздохнула его мать, — если бы он был здесь, и ты бы не оставил гетманской булавы, а то Ковалевский, твой опекун, всем овладел, изменил не вовремя русским и Шереметьеву… Ну, и погибло дело.
— Не жалею я, — возразил Хмельницкий, — гетманской булавы, а жаль мне моей отчизны. О ней-то плачет и рвется моя душа. Снова наша Украина в ляцких руках, снова шибеницы (виселицы) по селам. Не нужно нам ни ляхов, ни русских.
— Ты, отец Гедеон, так и скажи на раде, — сказала инокиня и глаза ее засверкали — Наша отчизна и плачет, и стонет, кто недосчитывается отца, кто брата, кто сына… Женщин и вдов наших берут москали к себе и бесчестят; за чинши продают последнюю скотину и лошадку. Сидят по лесам и по селам люди без хлеба, пухнут и мрут с голоду. Ты, Гедеон, сын Богдана — того Богдана, которого сам Бог дал отчизне, чтобы попрать врагов… И карал он их страшно: пылали их города и села, резали жидов и панов или вешали их на одно и то же дерево.
— Помню… помню… и не раз плачу я. По целым часам стою в церкви и молюсь, чтобы Бог дал и мне силы бороться с врагами отчизны… И что ж? Коли нужно будет, так и я отдам все, что имею, и пойду простым казаком сражаться с врагами.
— Добре, добре, сынку, бачу я, що в тебе кривь батькова! — воскликнула его мать со сверкающими глазами.
Едва она окончила, как вошел казачок и попросил монаха Гедеона от имени гемана на раду.
Зал Богдана Хмельницкого оставался в том же виде, как и был при нем, так как в Чигиринском дворце было все общественное, по стенам висели те же трофеи побед, только вместо прежних голов медведей, оленей и лошадей виднелись здесь разные кольчуги, пищали и сабли.
Огромный дубовый стол, за которым могло бы поместиться до двухсот человек, стоял посередине зала и вокруг него скамьи. Только сбоку, посреди стола, виднелись дубовые кресла для гетмана и для почетных гостей.
За столом этим разместились уже ратные люди. Гетман Дорошенко в гостиной или кабинете своем ждал только митрополита и Юрия Хмельницкого, чтобы выйти к гостям.
Дорошенко имел лет под пятьдесят. Это был коренастый казак с умными глазами и строгим лицом. Огромные усы его ниспадали большими прядями по обе стороны подбородка, гладко выбритого. Он в гетманском кунтуше, на голове баранья шапка. Сидит он, поджавши ноги, на диване, и рядом с ним, в таком же положении сидит мурза татарский Челибей. Они объясняются по-татарски, так как Дорошенко говорит на этом языке так же хорошо, как на своем родном. Когда он был еще запорожцем, он находился несколько лет в плену в Крыму и выучился этому языку; потом, во время войн Богдана, он постоянно был при татарских отрядах и сделался, таким образом, настоящим татарином. Он любил татар за их прямоту, трудолюбие, честность и мужество и поэтому проектировал: отдаться под покровительство турок, с тем чтобы татары были с ними в союзе и против поляков, и против русских.
«Не замай» был его девиз, т. е. он не искал завоеваний, но хотел самостоятельности своему отечеству. Потянуло же его к туркам потому, что он видел, что там, где они тогда ни господствовали в славянских землях, они уважали религию, нравы и обычаи этих стран, и внутреннее управление было там народное; так было в Молдавии и Валахии, так было и в Сербии, и в Болгарии.
Малороссы в это время тоже отстаивали только свои народные права, или, как они их называли, свои вольности, свою религию и внутреннее народное самоуправление; поэтому и Дорошенке казалось самым подходящим отдать и себя под покровительство и под защиту султана.
Для этого и вызваны были им татары в Чигирин, чтобы закончить с ними оборонительный и наступательный союз, для того, чтобы после изгнания ляхов и русских из Малороссии стать под покровительство султана.
— Итак, Челибей, — обратился к послу Дорошенко, — ты увидишь сегодня, что все старшины и полковники на моей стороне. Я жду только митрополита, а он должен быть сейчас. Он остановился у здешнего благочинного, а тот живет недалеко. Я послал уж за ним возок. Да вот и сын покойного Богдана.
В это время в дверях показался монах Гедеон.
Посол встал, поклонился ему низко, причем приложил руку ко лбу и к сердцу.
Гедеон поклонился обоим низко и остановился у дверей, но Дорошенко поднялся с места, обнял и поцеловал его.
— Я его на руках носил, — обратился он к послу.
— А я, — сказал Челибей, — отца твоего знал еще тогда, когда он к нашему хану приезжал просить помощи против Потоцкого… Я сражался с ним и при Желтых водах. Мы коронного гетмана побили с войском и взяли в плен. Богатырь был твой отец… сокол… Как гаркнет, крикнет… да с гетманским знаменем своим появится куда, так люди падают перед ним, как будто от одного его дуновения; а уж пушки его как загрохочут, то картечью так и косят польских драгун и гусар. И польские гусары молодцы: как налетят на наших, да с пиками на пеших, так сомнут и затопчут, точно муравьев. А мы топтать и рубить не любим — нам бы ясыр[116].
— Отец, — сказал Хмельницкий тоже по-татарски, — был большой друг татарам. Он очень любил их: народ все трезвый, рабочий, прямой — не то, что наши… И отец-то мой все говорил: коли Никон не возьмет меня под защиту, так я пойду под высокую руку султана, как и крымский хан мой брат и друг. Очень любил он вашу землю и ваших людей. Не было для него ничего лучшего, как рассказывать, как он гостил у вас и в Карасубазаре, и в Бахчисарае. По целым часам слушаешь, как он, бывало, с ханом, с кальяном в зубах, сидит где-нибудь в саду у фонтана, и вокруг так душисто, так птички песни поют и чирикают, точно в райском саду. А тут, вокруг, и апельсины, и лимоны висят, и персики рдеют на деревьях, и грозди виноградные так и просятся в рот… А яблоки, груши и орехи точно обсыпали дерево, и каждое из них держится подпорками, чтобы дерево не сломалось. А там, гляди, буйволиха в речке купается и мычит за своими телятами, и козочки прирученные бегают по саду и заигрывают с человеком…
— Да, страна наша благодатная… а Чатырдаг?.. На нем леса… А там, к морю, скалы, леса… а у Перекопа степи… степи зеленые… травы высокие, точно бархатный ковер, усыпанный цветами… А в этих степях табуны лошадей… овцы кудрявые… коровы, быки и волы — точно рай земной, — восхитился татарин.
Вбежал казачок:
— Митрополит приехал, — произнес он, запыхавшись.
— Идемте встречать святителя, — произнес торжественно Дорошенко.
Он показал путь послу, но тот уступил первенство Юрию Хмельницкому.
Монах пошел вперед, затем посол, за ним и гетман. Когда появился простой монах Гедеон, все ратные люди встали и низко ему поклонились; то же самое они сделали и гетману, и послу.
— Митрополит приехал, — обратился к ним гетман, — идемте к нему навстречу.
Все потянулись за гетманом. Дорошенко в сенях встретил митрополита и подошел под его благословение. Монах Гедеон по обычаю пал перед ним ниц, но митрополит поднял его и поцеловал несколько раз.
Дорошенко повел митрополита в зал и там усадил в большое кресло; по правую его сторону он поместил Гедеона, потом он усадил напротив митрополита татарского посла, а сам уселся по левую сторону митрополита.
Ратные люди разместились потом куда кто хотел; здесь более уважалась старость, чем общественное положение, а потому молодые люди отдали старикам почти все места поближе к послу или к митрополиту.
Дорошенко обратился к раде с речью, в которой он объяснил причину ее созыва. Между прочим, он сказал:
— Великий Богдан Зиновий сражался и проливал многие годы кровь свою за наши вольности и выгнал всех ляхов из нашей отчизны, но так как с Речью Посполитою ему трудно было одному бороться, так он отдал себя под высокую руку русского царя, с тем чтобы он не трогал лишь наши вольности… Но еще при жизни его бояре требовали, чтобы их воеводам отдали все города и чтобы предоставили им право ставить своих сборщиков чиншей. Богдан на это не соглашался. Сын его Юрий, бывший гетман, тоже бил челом об этом царскому величеству, но Москва ничего и слышать не хотела и прислала к нам и воевод, и откупщиков, и сборщиков. Гетман Юрий, слыша ропот казаков и черни, после чудновской польской победы, передался королю Яну Казимиру, с тем чтобы тот выгнал русских и возвратил наши вольности. Пришел сюда Ян Казимир, сражался долго и, быть может, выгнал бы русских, да Речь Посполитая не стала платить жалованье войску, и оно разбежалось. Отчизна наша осталась без защиты, а ляхи лишь снова забрались в свои бывшие поместья. Началась опять домашняя вражда и резня за гетманство и Брюховецкий избран радою в гетманы, и Юрий Хмельницкий сложил булаву и пошел в монахи… Не сделалось от того лучше: бояре, т. е. Нащокин, продал нас ляхам — западный берег Днепра объявил за ними, а правый — за собою. Ляхи обрадовались и снова налетели, забрали бывшие свои поместья и расставили по селам виселицы, чтобы вешать православных христиан…
Тут он сделал небольшой роздых и продолжал, обращаясь к послу Брюховецкого:
— Брюховецкий — человеченко худой и не породный казак: для чего бремя такое великое на себя взял и честь себе, которой недостоин, принял?.. Он казаков отдал русским людям со всеми поборами, чего от века не было.
— Брюховецкий это сделал поневоле, — отвечал посол гетмана. — Взят он был со всею старшиною в Москву… Ну, и подписали поневоле.
Дорошенко поднялся с места и произнес торжественно:
— Великая громада, не нужно нам ни ляхов, ни русских, не нужно нам и двух гетманов: как нет двух солнц, так не может быть и двух булав у одного и того же народа… А потому я предлагаю: по обе стороны Днепра жителям быть в соединении, жить особо и давать дань турскому султану и крымскому хану, как дает волошский князь. Турки и татары должны защищать казаков и вместе с ними ходить на московские украйны.
— Я, — воскликнул Юрий Хмельницкий, — все отцовские скарбы откопаю и татарам плату дам, лишь бы только не быть под рукою московского царя и короля польского… Хочу я монашеское платье сложить и быть казаком… Буду я сражаться как казак и положу душу свою за наш народ и за нашу веру.
— Добре!.. Ай да казак! Оце як батька Богдан, — раздались голоса.
Находившиеся здесь запорожцы тотчас присягнули в верности раде. Здесь же было решено: тотчас открыть борьбу с русскими и перебить воевод и ратных московских людей. После того Дорошенко поднялся с места и объявил:
— Татары находятся уж близ Черного леса… Половину их я отправлю против ляхов, а остальною половиною мы пойдем против русских…
— Ура! ура! Батька Дорошенко! — раздались неистовые крики всей рады.
После того во имя свободы страны все радные люди до того наугощались, что три дня ползали по дворцу, в котором тогда же сложилась песня в честь Дорошенко:
Ой, тютюн[117] да люлька…Потому что в честь татар неистово истреблялся их прекрасный табак.
XXXIV Гибель русских в Малороссии
— Приехали инокиня Наталья с каким-то русским, — докладывает Брюховецкому его карлик Лучко.
— Инокиня Наталья? Дай Бог память… Да, я ее видел несколько раз у покойного гетмана Богдана.
С этими словами Брюховецкий встает и идет в гостиную.
— Я к тебе, гетман, приехала из Чигирина от Дорошенко.
Гетман подошел под благословение инокини, потом любезно произнес:
— От гетмана Дорошенко посол — для меня дражайший гость… А это кто?..
— Это боярский сын Даниил Жидовин… Он один из бывших самых приближенных к Никону… При нем можно все говорить.
— А!.. Очень рад… Садитесь… Что гетман Дорошенко?
— Гетман и рада решили действовать заодно с тобою и отдаться под высокую руку турского султана. Татары стоят у Черного леса и готовы двинуться и на Польшу, и на русских.
— Очень, очень рад… Где же теперь Никон?..
— По милости твоей, гетман, в заточении…
— Как по моей милости? — будто удивился Брюховецкий.
— Да так, если бы ты не выдал его письма, патриарх царьградский не допустил бы до собора, а если бы собора не было, так царь примирился бы с Никоном и тогда не было бы и Ордына-Нащокина, и боярства… Никон истолок бы их в порошок: он ведь стоит за земство, за чернь, и за их вольности.
— Уж не говори, матушка Наталья: обошли меня бояре в Москве и потерял я ум да разум. Себе лишь петлю надел на шею. Чаял я все, что дума боярская править станет, а тут явился, как из-под земли, какой-то Ордын-Нащокин.
— Дело было так, гетман. Пока Никона не низложили, управляли приказами и воеводствами бояре, а как его не стало, Нащокин и овладел властью.
— А бояре что?
— Да что бояре — все это уж старье и калич: сидят в думе, уставя брады в землю, и со всем соглашаются, на что царь-то укажет. А Алексей Михайлович… Самому-то и лень думать, так за него Нащокин и думу думает. Придет он на собор аль в думу и только вторит, что-де Нащокин ему в уши нажужжал. Прежде, видишь, за него думал Никон, а теперь Нащокин; поэтому-то и удалили Никона: есть другой думщик.
— И неужели нет никого на Москве, кто бы осадил Нащокина?.. Неужели свет клином стал? — пожал плечами Брюховецкий.
— Как видно, — вздохнула инокиня. — Есть, правда, Артамон Матвеев, да того мудрено и понять: он и нашим, и вашим. Прежде он стоял на задних лапах перед Никоном, а как впал тот в немилость, и он от него отошел. Теперь он ластится и к боярам, и к Нащокину.
— Ласковый теленок двух коров сосет, — расхохотался Брюховецкий.
— Есть еще один — Хитрово Богдан, тот бы мог службу сослужить Нащокину… Но это можно будет сделать тогда, когда куда-нибудь Нащокин выедет, а пока он сидит в Москве, ничего с ним не поделаешь. У царя-то Алексея Михайловича по пословице: чем дальше от глаз, тем дальше от сердца. Так было и с Никоном — ему не следовало выезжать из Москвы… Теперь нужно поправить дело… Ты и Дорошенко летом пойдете на украинские московские города, а донских казаков с Стенькою Разиным нужно двинуть по Волге… так вы и дойдете до Москвы.
— Кто этот Стенька Разин?
— Степан Тимофеевич Разин — казак донской. Весною 1661 года войско посылало его к калмыкам уговорить их быть заодно с донскими. Успев в посольстве, он поехал в Москву, здесь был у благословения у патриарха Никона и пошел на богомолье пешком в Соловецкий монастырь. В это время брат Разина служил в Москве в войске князя Юрия Долгорукова и просился у него в отпуск, но тот не пускал. Разин сам ушел — его поймал Юрий Долгорукий и повесил. Когда узнали об этом братья Степан да Фрол, они обещались мстить воеводам… Прошло несколько лет. В это время из Украины в донских городах и станицах появилось много боярских детей и крестьян с женами и детьми, ушедших от своих помещиков. Собрал из них вольницу Стенька и хотел было идти промышлять к Азову, но донцы не пустили: он и пошел вверх. Воронежские посадские люди ссудили его порохом и свинцом, и засел было во время половодья Разин между рек Тишина и Иловли, близ Каншинского города. Разин сидел здесь довольно долго, но вот поплыл вниз большой караван по Волге с ссыльными… Один струг был купца Шорина с казенным хлебом, другой патриарший, да еще струги других лиц. Провожали караван стрельцы. Взял с собою Стенька тысячу человек и бросился на караван. Казенный струг пустили ко дну, начальных людей изрубили или повесили… работников не тронули… Сто пятьдесят ярыжек пристало к Разину… да вот Лазунка Жидовин… Теперь он пожаловал как посол от Разина. Пошел сам Разин промышлять на Каспийском море, а коли вернется, так попросит твоей помощи, гетман.
— Да и у меня-то к нему, по правде, грамота изготовлена, — сказал Брюховецкий, — а коли этот человек надежный, так пущай возьмет.
— Я сама к нему поеду с Жидовином, — воскликнула инокиня.
— Тогда и разгрома не может быть. Когда же ты, матушка, выедешь?..
— Хоша бы сейчас.
— Без хлеба-соли не отпущу. Гей! Лучко.
Явился карлик из-за занавеса.
— Прикажи подать обедать да накормить кучера и служку матушки.
Отдохнув и насытив голод, инокиня Наталия взяла грамоту Брюховецкого и выехала вы Переяславль.
Едва они выехали, как Лучко явился в спальню Брюховецкого, куда тот удалился, чтобы отдохнуть.
Лицо Лучко было необыкновенно серьезно: это означало, что он сильно озабочен.
— Затеваешь ты недоброе, дядька, — обратился он к гетману.
— О чем говоришь ты?
— Да вот изменяешь русскому царю да веришь лисице Дорошенке… да вот бабе поверил и пишешь какому-то разбойнику донскому… Стеньке Разину… Гляди, быть беде.
— Да полно-те, каркать, филин ты этакой… Ведь побью.
— Бей, дядька, а я все же правду скажу… Сколько раз спасал я тебя от бед… Тяпнешь ты да ляпнешь, да глупости натворишь… а коли я выручу, так потом: «Лучко, мой голубчик, да ненаглядный».
— Счастье твое, что я сегодня не в сердцах, а то бы досталось бы тебе так… задал бы тебе я такого перца, что чухал бы спину три дня, да три ночи… Не сделаться же мне свинопасом у бояр.
— И моя вышла правда. Говорил же тебе на Москве: не подписывай статьи, а ты и там замахнулся на меня.
— Говорил-то ты, говорил, чертова вира, и жаль, что не послушал тебя. Теперь нужно поправить дело: иначе и мне беда стрясется — казаки зарежут…
— Что же, как сделано, так и сделано. Но я за одно: не губи ты даром христианские души… полони русских, потом отошли их за границу к своим.
— Да как-то полонить? И как удержать запорожцев и казаков? Сегодня должен быть кошевой из Сечи… все улажено и налажено… а там что громада скажет.
— И будете вы вешать и резать невинных людей, — возмутился Лучко.
— Что громада (мир) скажет…
— Бедные люди, бедные люди… а вы богомерзкие людоеды.
— Тебя как послушать, так и не жить на свете. Убирайся, да не в свои дела не вмешивайся, коли не хочешь съесть несколько нагаек.
Лучко вышел.
Отношения его к гетману были фамильярные: Брюховецкий не был женат и детей не имел, а потому привязался к карлику, как к собственному своему ребенку. Лучко понимал и ценил эту привязанность. Карлик был очень крошечный человек, но сформированный пропорционально; ум он имел светлый и сердце очень доброе. Начитанный и сосредоточенный в самом себе и привязанный, как пес к своему хозяину, он все свои мысли и думы направлял к тому, как бы быть ему полезным и делом, и советом; когда же останавливался на какой-нибудь обдуманной мысли, он честно и откровенно высказывал ее гетману. Брюховецкий, бывало, посердится, пригрозит, накричит, нашумит, а потом ему жаль становится Лучка и он не знает, как и чем его одарить и приласкать.
Но в целом мире это было единственное существо, которое иногда укрощало этого упрямого хохла.
И странно было послушать их споры: Брюховецкий — здоровый, сильный, мускулистый, с басовым голосом казак, а Лучко — с небольшим в аршин человек, с маленьким личиком и дискантовым голоском, и оба, если расходятся, стоят друг против друга и петушатся. Казалось, что одним дуновением гетман его уничтожит, но такова нравственная сила: по большей части побеждал маленький человек, и гетман, бывало, позорно отступает и рад-радешенек, когда тот перестанет его пилить.
И теперь, когда Лучко вышел, им овладела сильная тревога: ну что, если и впрямь он совершил дело гадкое?
Мысль эта не дала ему заснуть; он с четверть часа поворочался с боку на бок и вскочил.
— Лучко, — крикнул он.
Лучко вошел с заплаканными глазами.
— Чего разнюнился, бисова вира.
— Так, ничего… не все же смеяться и плясать.
— Погляди, как будто кто приехал.
— Нечего глядеть — это приехал проклятый леший, кошевой из Сечи, да с ним человек до двухсот запорожцев. Все — точно звери.
— Так это кошевой уж пожаловал?.. Ты, Лучко, там распорядись: нужно всех накормить, напоить…
— Напоить? Черт их напоит: хоть сто бочек им выставь в день, так все выпьют…
— Не сердись, голубчик, ты ведь умница, нужно же гостей принять с почетом.
Лучко ушел и в сердцах стукнул дверьми.
— Эка напасть с ним: не мала баба хлопит, тай купила порося. Так и я навязал себе эту обузу, ну и носишься с нею, как жид с писаною торбою… как кот с салом.
Он потянулся, крякнул и, почесав затылок, вышел к кошевому атаману, ждавшему его в столовой.
После первых приветствий Брюховецкий обратился к нему:
— Получил я сегодня весть, что полковник Иван Самойлович с казаками и мещанами в Чернигове, в Малом городе, осадил воеводу Андрея Толстого… 1 февраля послал к нему Самойлович посла, чтобы он сдался; а после сделал ночью вылазку, напал на Большой город, побил много наших и взял знамя… Я хотел было двинуться к нему, но у меня здесь около двухсот русских.
— Мы порешим с ними завтра же, а там дай моим запорожцам погулять; всех москалей из городов повыгоняем, а тогда и до Толстого доберемся в Чернигов.
После того пошло потчивание, и запорожцы запели свои песни:
Соколе ясный, Брате мий ридный, Ты высоко летаешь, Ты далеко видаешь…Иные запорожцы пели:
Гей вы, степи, вы ридные, Красным цвитом писанные, Яко море широкие!..Попойка шла почти всю ночь, и большинство к утру лежало замертво пьяными.
На другой день, т. е. 8 февраля, был праздник, и по заведенному порядку воевода Огарев, занимавший Гадяч, и полковник рейтарский немец Гульц, отправились с поздравлением к гетману.
— Герман пошел молиться в церковь под гору, — сказал Лучко, выйдя к ним в столовую.
Огарев и Гульц ушли. Воевода, придя домой, послал своего денщика узнать, находится ли гетман в церкви. Его там не оказалось, но тем не менее воевода пошел туда, так как храм этот сооружен был гетманом и он по случаю праздника должен был туда прийти.
В то время, когда воевода молился, за полковником Гульцом пришел от гетмана казак.
Полковник тотчас отправился к нему.
— Пришли ко мне из Запорожья кошевой атаман да полковник Соха с казаками и говорят: «Не любо нам, что царские воеводы в малороссийских городах и чинят многие налоги и обиды». Я к царскому величеству об этом писал, но ответа нет. Вы бы, полковники, из городов выходили.
— Пошли за воеводою и моими товарищами и сам скажи, — возразил Гульц.
— Да что мне твой воевода, этот боярский пес, — крикнул гетман. — А вот что я скажу: коли сейчас же из города не пойдете, так казаки вас побьют всех.
— Хорошо, — сказал немец, — но коли мы пойдем из города, так ты не вели нас бить.
— Что ты, что ты, мы не ляхи, — и, крестя лицо, он прибавил: от казаков задора не будет, только вы выходите смирно.
Гульц отправился к воеводе и передал ему слова гетмана.
— Не могу я покинуть города, — воскликнул Огарев, — нужно лично переговорить с гетманом; потом он отречется от своих слов.
Когда Огарев зашел к Брюховецкому, он долго не хотел его принять, наконец вышел и объявил:
— Запорожцы требуют, чтобы русские немедленно очистили город.
Огарев возвратился к себе и сказал жене своей:
— Собирайся в путь… Нас здесь всего двести человек и крепости никакой здесь нет.
— Напрасно, — сказала она, — здесь каждый дом наша крепость… Будем сражаться… а там пошли в другие города, и нам дадут помощь.
— Пока эта помощь придет, нас всех перебьют и перережут, — возразил Огарев. — Притом, если мы выйдем из города, мы и людей и себя спасем: гетман клялся богом, что нам по пути ничего дурного не сделают.
— Выступим, — вздохнула жена его, — но сердце мое не предвещает ничего доброго… уж лучше бы здесь защищаться…
Начала она и люди ее, и войско собираться в путь, и несколько часов спустя по направлению к Переяславлю потянулись прежде всего немец Гульц с обозами и возком, в котором находилась жена Огарева; полковник на коне ехал рядом с экипажем для ее защиты на случай нападения.
Доехали они так до заставы. Здесь казачий старшина Иван Бугай, коренастый, здоровенный запорожец, стоявший с сотнею казаков, пропустил их беспрепятственно с обозом.
Потянулись они по дороге в надежде, что и воевода с резервом тоже благополучно выйдет из города.
Но не прошли они и трех верст от Гадяча, как услышали там пальбу. Они остановились, и Гульц тотчас собрал обоз, сделал из него засады и внутри разместил возок с боярынею и ратных людей, а сам поскакал с несколькими рейтарами обратно в город.
Там происходило в это время следующее:
Огарев со стрельцами выступал из города, но на заставе Иван Бугай остановил их:
— Сдавайтесь! — крикнул он.
В ответ на это воевода произнес твердо и решительно:
— Если вы не удалитесь, мы стрелять будем…
— Ах ты, пес московский, — крикнул Бугай, бросившись к нему с обнаженною саблею.
Это был знак к нападению: казаки ринулись на стрельцов.
Бились и рубились, чем ни попало: слышны были выстрелы пистолетов, пищалей, стук оружия.
Силы были равные и бой был бы продолжителен, но Огарев отсек ухо Бугаю и тот, истекая кровью, упал с коня.
Казаки схватили его на руки, понесли в город с криком.
— Москали наших режут.
Воевода подобрал своих убитых и раненых и поспешно выступил из города.
На пути он встретил полковника Гульца.
— Жена моя права была, — сказал он, — уж лучше бы защищаться в городе; там они пожалели бы казачьи дома да и легче было бы сражаться… Эти разбойники, вероятно, тотчас нагрянут сюда, так нам нужно будет их отразить и дорого продать свою жизнь.
Они ускоренными шагами поспешили к передовому войску, но едва они прибыли туда, как вдали показались запорожцы с кошевым атаманом.
Русские выкинули флаг для переговоров, но те, будто не замечая его, неслись к ним вихрем.
Началась стрельба и рукопашный бой. Русские сражались отчаянно: семьдесят человек стрельцов и пятьдесят солдат пало под ножами запорожскими, остальные сто тридцать человек, избитые, израненные, забраны в плен; не больше тридцати человек стрельцов успело бежать на Переяславль, но те померзли в пути. Полковник Гульц сражался у возка боярыни и там пал, как герой; но она не сдавалась в плен: она дралась с отчаянием и взяли ее тогда, когда свалили и связали ее.
Огарев бился до последнего и не сдавался, но тяжелая рана на голове лишила его чувств и запорожцы забрали его полумертвого.
Одержав эту постыдную победу, запорожцы забрали русский обоз и пленных и двинулись с триумфом в город, причем били в котлы и в барабаны и неистово пели песни.
Вступив в город, они послали Огарева к протопопу, а боярыню за то, что муж ее отсек ухо Ивану Бугаю, и за то, что она не сдавалась без бою, раздели и повели по городу простоволосую. Приведя ее таким образом на площадь, где собрался народ, Бугай выхватил кинжал и отсек ей одну грудь.
Он собирался уже по частям ее искрошить, как раздался голос маленького человека Лучко:
— Звери вы лютые… змеи подколодные… так-то вы войсковой ясырь (выкуп) цените… Гетман прислал меня отдуть виноватых, — и он начал бить гетмановскою плетью налево и направо, куда ни попало.
И Бугаю, и его сподвижникам досталось прямо по лицу.
— Экий скаженный, — крикнул Бугай, убегая.
За ним последовали остальные запорожцы.
Лучко торопливо снял пояс, вынул платок и, нагнувшись к лежавшей без чувств на снегу боярыне, закрыл ее рану платком и притянул его своим поясом; потом, обратившись к народу, он крикнул:
— Громада! Гетман приказал отвести ее в богадельню… Вот в ту, которая здесь на площади.
Несколько мещан отделились от народа и понесли ее в богадельню. Здесь было несколько прислужниц и фельдшер. Они уложили боярыню на кровать и занялись перебинтовкой.
Лучко до тех пор не покидал богадельни, пока раненой не сделалось лучше, т. е. пока она не пришла в себя; тогда он успокоил ее насчет мужа и удалился, объявив, что Брюховецкий опечален приключившимся, и что он употребил все силы и средства для их излечения.
На другой день из Гадяча полетела во все концы Малороссии от Брюховецкого следующая прокламация:
«Не с нашего единого, но с общего всей старшины совета учинилось, что мы от руки и приязни московской отлучились по важным причинам. Послы московские с польскими комиссарами присягою утвердились с обеих сторон разорять Украину, отчизну нашу милую, истребив в них всех жителей больших и малых. Для этого Москва дала ляхам на наем чужеземного войска четырнадцать миллионов денег[118]. О таком злом намерении неприятельском и ляцком узнали мы через Св. духа. Спасаясь от погибели, мы возобновили союз со своею братиею. Мы не хотели выгонять саблею Москву из городов украинских, хотели в целости проводить до рубежа, но москали сами закрытую в себе злость объявили, не пошли мирно дозволенною им дорогою, но начали было войну; тогда народ встал и сделал над ними то, что они готовили нам, — мало их ушло живых! Прошу вас именем целого войска запорожского, пожелайте и вы целости отчизне своей Украине, промыслите над своими домашними неприятелями, т. е. москалями, очищайте от них свои города. Не бойтесь ничего, потому что с братиею нашею той стороны желанное нам учинилось согласие, — если нужно будет, не замедлять нам помочь. Также и орда (татаре) в готовности, хотя не в большой силе, на той стороне».
Прокламация произвела потрясающее впечатление на всю Малороссию: она поднялась, как один человек.
Воеводы Тихачев, Загряжский, Клокачев и Кологривов взяты в плен, а ратники их перерезаны; в Стародубе погиб геройски князь Игнатий Волконский.
Но ожесточеннее всех сражался в Новгороде Северском Исай Квашнин. Не желая сдаться живьем и видеть обесчещенною свою жену, он ударил ее саблею по уху и по плечу, и когда она, обливаясь кровью, лежала в обмороке, и он полагал ее умершею, велел казнить трех казачьих сотников, присланных к нему для переговоров, и отправился в шанцы защищать город. Казаки рассвирепели и бросились на штурм. Квашнин изрубил собственноручно целый десяток казаков, но, подавленный массою, он пал геройски. Казаки осадили тоже Нежин и Переяславль, но русские храбро отбивались.
Положение было отчаянное, и Шереметьев писал царю об этом из Киева, причем жаловался: «Что ратные его люди наги, голодны и скудны вконец, многие дня по три, по четыре не едят, а Христовым именем никто не дает».
Только лишь весною появилась помощь из России, и князь Константин Щербатый вместе с Лихаревым поразили казаков под Почепом, а в июне — под Новгородом-Северским; князь же Григорий Григорьевич Ромодановский облег своими войсками города Котшову и Опошню.
Потери вообще русских в Малороссии от этого мятежа были тяжелы и невознаградимы: сорок восемь городов и местечек от нее отложилось, сто сорок четыре тысячи казенный рублей, сто сорок одна тысяча четвертей хлеба, сто восемьдесят три пушки, двести пятьдесят четыре тысячи пищалей, тридцать две тысячи ядер и на семьдесят четыре тысячи пожитков воеводских и ратных досталось казакам.
Людей же погибло без счету.
Нащокинская боярская и воеводская система, таким образом, дорого обошлась Руси!
XXXV Ферапонтов монастырь
Окончив шведскую и польскую войну, царь Алексей Михайлович стал на высоте, на какой не был ни один из его предков: он приобрел не только обширную малороссийскую область, но к нему отошли Белоруссия и некоторые города Южной Ливонии. С приобретением же этих земель царская казна начинала с этих мест пополняться деньгами вдвое более, чем получалось прежде с русских земель. Это давало возможность царю устроить и свое житье-бытье получше: окрестности Москвы заселялись и в них строились села и дворцы. Так он основал села: Измайловское, Воробьево и Преображенское, а в Коломенском селе он готовил материал на новый дворец, названный Симеоном Полоцким «осьмым чудом света». Между прочим, для резной и столярной работы были вызваны из «Нового Иерусалима» все никоновские лучшие мастера.
Приниженный прежде богатством бояр, Алексей Михайлович, с увеличением его денежных средств, почувствовал себя и могущественнее, и державнее.
Нащокин, поддерживавший его самодержавные инстинкты для того, чтобы властвовать самому, неограниченно, принял громкий титул «царственной большой печати и государственных посольских дел оберегатель» и управлял неограниченно царством.
Алексей Михайлович разжирел и растолстел и вообще сильно изменился: сделался раздражителен и резок.
Готовый прежде выслушивать резкие правды, он не стал выносить противоречия, и к этому следует относить показание Катошихина, что боярская дума выслушивала его мнения, уставя брады в землю.
Приближенные к нему бояре тоже не узнавали его. Правда, вспыльчивость его была некоторым памятна и из прошлого, да это считали семейною расправою. Так, в 1661 году, когда Хованский, или, как называл его народ, Таратай, был разбит, тесть Алексея Михайловича Илья Милославский в боярской думе выразился:
— Если Государь пожалует, даст мне начальство над войском, то я скоро приведу польского короля пленником.
— Как ты смеешь, — воскликнул царь, — страдник, худой человек, хвастать своим искусство в деле ратном? Когда ты ходил с полками? Какие победы показал над неприятелем? Или ты смеешься надо мною?
С этими словами царь бросился к тестю, дал ему сильную пощечину, схватил его за бороду, поволок к выходу и вытолкнул в шею из думы.
Любимцу и троюродному братцу Родиону Матвеевичу Стрешневу досталось однажды тоже. Страдая тучностью и полнокровием, Алексей Михайлович вздумал от головокружения и головных болей бросить себе кровь. Ему от этого сделалось лучше. Призвал он по этому случаю всех плотных ближних бояр и велел им бросить кровь. Все безропотно исполнили приказ. Один Стрешнев сказал:
— Да я уже стар для кровопускания.
— Как! — крикнул царь. — Разве твоя кровь дороже моей? Что, ты считаешь себя лучше всех?
И при этих словах Алексей Михайлович бросился на него, ударил его по щекам, вырвал клок бороды и вытолкал за дверь.
Но эта резкость перешла после низвержения Никона и господства Нащокина и на других бояр. Так, Григорию Григорьевичу Ромодановскому, лучшему своему воеводе, он написал:
«Врагу креста Христова и новому Ахитофелу князю Григорью Ромодановскому!
Воздаст тебе Господь Бог за твою к нам, великому государю, прямую сатанскую службу, яко же Дафану, и Авирону, и Анинии, и Самфире: они поклялись Духу св. во лжу» и т. д.
В письме о товарище его говорится: «А товарища твоего, дурака и худого князишка, пытать велим, а страдника Климку велим повесить. Бог благословил и предал нам, государю, править и рассуждать люди свои на востоке, и на западе, и на юге, и на севере вправду…»
Напоминало это уже переписку Ивана Грозного с князем Курбским и его самомнение.
Почувствовав себя, таким образом, сильным и могущественным, Алексей Михайлович возымел желание объявить своим наследником царевича Алексея Алексеевича.
Торжество назначено было на новый 1668 год, т. е. 1 сентября 1667 года.
Какое же воспитание получил царевич?..
Родился он в 1654 году и был вторым сыном Марии Ильинишны: первый, Дмитрий, умер младенцем, а потому Алексей Алексеевич был вторым. Кроме него у царя имелись в это время сыновья: Федор — 5 лет, Симеон — 2 года и Иван — 1 год.
Похож Алексей Алексеевич был на мать: имел прекрасные темно-карие глаза, темно-русые волосы и тонкие черты лица. Иностранные послы, бывало, не наглядятся на него, так красив был он, и не удивительно после того, что польская королева Мария Людвика мечтала, чтобы он женился на ее племяннице и вступил на польский престол.
Образование получил он по-тогдашнему хорошее: читал, писал, знал священную и русскую историю, географию и первые четыре правила арифметики.
Зато воспитание он имел чисто теремное; до семи лет он был на руках у мамы, одной из приближенных боярынь его матери. Окруженный няньками и стольницами, он принимал все их недостатки: капризы, своеволие, сплетничание, злословие.
В семь лет он отдан был дядьке и вышел из терема, но только номинально; связь его с теремом оставалась через мать, сестер, теток и малолетних братьев.
Царевич от этой жизни сделался нервен, цвет лица его стал блекнуть и под глазами синева придавала его глазам лихорадочное выражение.
Доктора Алексея Михайловича Артамон Граман, Яганус, Белов и Вилим Крамор вначале приписывали это глистам, а потом они решили, что это-де рост такой.
Царь успокоился и не обращал более внимания на хилость, или лучше, на худобу сына и говаривал, что и он в его лета был худощав и нежен; а «теперь вот я какой», показывал он на свои румяные щеки и дородность.
Не чаял в этом сыне Алексей Михайлович души и даже при андрусовском мирном трактате хотел было внести статью об его избрании на польский престол, но потом вспомнил, что поляки потребуют его в Краков, ополячат и в католицизм обратят, а потому он махнул рукою и только сторонкою намекнул об этом польским послам через Нащокина.
Этого-то любимца Алексей Михайлович и хотел объявить наследником престола на случай своей смерти.
В день нового года, т. е. 1 сентября, царь отправился с ним в Успенский собор. После обедни и молебна они возвратились во дворец.
В Золотой палате ожидали их боярство и духовенство с патриархом.
Взойдя на трон, царь сел и, показав на царевича, объявил, что в случае его смерти они своим великим государем должны почитать его. Алексей Алексеевич сказал им по этому случаю речь, сочиненную Симеоном Полоцким, и тогда раздались восторженные клики с пением «многая лета». После все присутствующие допущены к целованию рук царя и царевича.
Когда поздравление кончилось, царь, взяв за руку сына, со всем боярством и святителями вышел на красное крыльцо к народу.
Думный дьяк прочитал манифест царя о назначении наследника, и царь показал его народу.
Народ пал ниц, потом, поднявшись, пел «многая лета».
Народу было изготовлено на площади угощение от царя, а бояре и духовенство пошли к царскому столу.
За столом сидел рядом с царем и царевич.
Когда он вступил в права наследника престола, Милославские подняли голову: в последнее время Нащокин совсем их затер, и они потеряли всякое влияние. Теперь же Алексей Алексеевич становился самым приближенным к царю: в качестве наследника, он, по обычаю, обязан был быть посвященным в государственные дела для того, чтобы на случай смерти царя не было какого-нибудь замешательства. Терем воспользовался этим и сделал его своим орудием.
На другой же день при докладе царю Нащокиным царевич обратился к отцу:
— Батюшка, — сказал он, — правда ли Никона-патриарха в папы избирают?
— Избирать-то не избирают… Но видишь ли, король польский Ян Казимир, известясь, что на Москве собор, писал сюда мне и патриархам, что вот, мол, когда бы пообсудили с папскими легатами унию, тогда кардиналы избрали бы на престол Никона. Ян Казимир сам кардинал и подал бы в Риме за него первый голос. И французский король, и цезарь тоже за него. Но Никон латинства не примет и на унию не поддастся.
— А коли Рим согласится на наши книги, на нашу службу? — заметил с добродушием Нащокин.
— Едва ли Никон согласится, — стоял на своем Алексей Михайлович. — Притом мы его низложили, лишили архиерейства, как же теперь в папы? Да и раскольники что скажут, и так, гляди, чуть ли не половина народа за них.
— Коли, — воскликнул царевич, — Никон в таком почете у всех государей, так зачем его держат в Ферапонтовом монастыре… Пущай, по крайности, он сидел бы в своем «Новом Иерусалиме».
— Слишком это близко от Москвы, мутить это будет только народ, — возразил царь. — И так ему там почет, именуют его патриархом, да и я ему пишу всегда: святейший старец.
— Да ведь в глуши-то он с ума спятит, — вздохнул царевич.
— Должно быть, невесело, — вздохнул и Алексей Михайлович, искоса поглядывая на Нащокина.
— Старцу и не подобает веселиться, — прошипел Нащокин. — Я и сам, великий государь, коли службу свою отслужу тебе, аль по старости сил не станет на работу, так пойду в святую обитель отмолить свои грехи. Дал я такой обет и — исполню.
Этим и кончился разговор, но с этого дня у царя с сыном начали происходить тайные беседы, а в них зачастую слышалось имя Никона.
Что же сталось со святейшим старцем, о котором говорила в то время вся просвещенная часть Европы?..
12 декабря 1666 года архимандрит Нижегородского Печерского монастыря Иосиф привез его в Ферапонтов монастырь и первым его делом было отобрать от него архиерейскую мантию и посох.
Никон отдал их беспрекословно и просил одного лишь, чтобы не содержали взаперти его монахов и бельцов.
Требование его исполнено.
Дабы рассеять скуку одиночества, Никон просил бумаги, чернил и перья, чтобы писать, — ему это дали.
Но вскоре явился на смену Иосифу другой Иосиф, Новоспасского монастыря, с инструкцией: «Беречь, чтобы монах Никон писем никаких не писал и никуда не посылал; беречь накрепко, чтобы никто никакого оскорбления ему не делал; монастырским владеть ничем ему не велеть, а пищу и всякий келейный покой давать ему по его потребе».
Пристав Шепелев, находившийся при нем и следивший за ним, как Аргус, отобрал от него тотчас бумагу, чернила и перья… Мучил его Шепелев порядком и на каждом шагу его притеснял и унижал. Но приближенные Никона все же считали его патриархом и через знакомых своих в Москве передавали в терем о дурном обращении с ним пристава.
Царевич, узнав об этом, доложил отцу, и на смену Шепелеву послан в Ферапонтов монастырь Наумов. Алексей Михайлович отпустил его сам из Москвы и на прощание сказал ему:
— Скажи Никону, что я прошу прощения и благословения…
По приезде в Ферапонтов монастырь Наумов передач эти слова Никону.
Патриарх возмутился и написал царю следующее:
«Ты боишься греха, просишь у меня благословения, примирения; но я даром тебя не благословляю, не помирюсь. Возврати из заточения, так прощу. Когда перед моим выездом из Москвы ты присылал Родиона Стрешнева с милостынею и с просьбою о прощении и благословении, я сказал ему: ждать суда Божия. Опять Наумов говорил мне те же слова и ему я тоже отвечал, что мне нельзя дать просто благословения и прощения… ты меня осудил и заточил, и я тебя трижды проклял по божественным заповедям, паче Содома и Гомора»[119]…
Письмо это не могло не повлиять сильно на царя: оно рассердило его, но вместе с тем и убедило, что смирить невозможно Никона крутыми мерами и что худой мир — лучше доброй ссоры.
Однако же с Никоном Наумов обращался не особенно нежно: он говорил ему дерзости, унижал его, никого не до — пускал к нему, и однажды выведенный этим из терпения патриарх обругал его мучителем, лихоимцем и дневным разбойником.
Наумов велел его запереть в келию и держал взаперти с 9 мая до Ильина дня, не давая ему не только порядочных припасов, но не отпускал людей для рубки и носки дров, так что черные работы Никон должен был совершать сам.
Получивши в начале 1667 года об этом уведомление, царь послал в Ферапонтов монастырь стряпчего Образцова, чтобы тот облегчил участь старца.
Прибыв в обитель, Образцов посадил Наумова в наказание на три часа в сторожку.
Узнав об этом, Никон закипятился:
— Степан, — кричал он, — мучил меня тридцать недель, а его посадили только на три часа.
Но вот Наумов явился к нему и, бросившись к нему в ноги, сказал:
— Я человек невольный: как мне приказано, так и делал.
Никон простил его и они сделались друзьями.
В июле пришла Наумову весть, что Никона избирают в папы.
Он тотчас передал об этом патриарху.
— Меня в папы, — говорил он удивленно, — да разве они примут наш закон, наши книги, наше служение?.. Впрочем, мы от католиков имеем небольшое различие[120]… Да теперь во всей Европе лютеранство и кальвинисты совсем разрушили западную церковь… Конечно, было бы хорошо это соединение, если бы католики склонились сравниться с ними. Но, кажись, они еще упрямее наших ханжей расколоучителей.
Этим окончился их разговор. Но мысль о папстве не покидала Никона, и он все более и более убеждался собственными доводами в химерности этой затеи Яна Казимира.
В Москве, однако же, приняли это всерьез и к сведению, чем и должно объяснить совершившуюся перемену в обращении с ним Наумова.
Вскоре к нему стали допускать всякого чина людей: посадских, голов и из Воскресенского девичьего монастыря игуменью Марфу.
Гости принимались им радушно, и они отдавали ему почести патриарши; по целым дням они не покидали его келии.
С монашками в особенности завел патриарх дружбу: они боготворили его, и вот монастырские подводы стали отправляться за ними.
Наумов испугался и как-то намекнул патриарху, что Москва-де может остаться недовольна. Никон рассердился и воскликнул:
— Не указал ли тебе государь ни в чем меня ведать?
Весть, однако же, о доступности Никона вскоре достигла патриарших его вотчин: и вот явились к нему оттуда монахи и крестьяне и привезли ему деньги.
Один Наумов был осторожен и не давал ему ни бумаги, ни чернил.
— Ты мне запрещаешь, — раскричатся на него однажды Никон, — давать бумаги и чернил, а я из Москвы с собою привез четыре чернильницы и бумагу, вот, смотри!
И показал он более восьми фунтов бумаги.
Архимандриты: приставленный к нему Иосиф и игумен ферапонтовский Афанасий величали его патриархом и поминали его на ектениях. Иосиф получал от него за это шубы и сукна. Но вскоре Никон своею неосторожностью наделал то, что в августе получен был указ: сослать служку его Яковлева за то, что он, не спросясь Наумова, ездил всюду по поручению Никона…
XXXVI Судьба Брюховецкого
На другой день после зверского поступка казака Бугая с женою Огарева карлик Лучко забрался в богадельню и не отходил от ее кровати.
Первые дни боярыня была без памяти, но когда очнулась и стала узнавать предметы, она обратилась к Лучко и спросила его слабым голосом:
— А ты чей, дитя мое? И где я?
— Не дитя я, а карлик Лучко; я боярский сын гетмана Брюховецкого.
Больная стала что-то соображать и вдруг воскликнула:
— Где мой муж? где полковник Гульц?.. Вспоминаю — они бились.
— Муж твой жив и здоров. Он живет у протопопа гадячского, там его лечат, а ты, боярыня, в гадячской богадельне Брюховецкого.
Страшная боль в груди помешала ей дальше говорить, но весть, что муж жив, осчастливила ее: она набожно перекрестилась.
Так посещал ее ежедневно Лучко; недели в две она стала поправляться, и карлик устроил ей свидание с мужем.
Радость супругов была неописанная: несмотря на тяжелую рану на голове и на щеке, полученную Огаревым, и на увечье, которое претерпела его жена, они друг другу сделались еще дороже.
Что же выиграл Брюховецкий от поднятого им мятежа?
Как бурный поток, запорожцы потекли с казаками и выгнали русских почти из всех городов и, когда цель была достигнута, большинство его полковников обратилось к западному гетману Дорошенко и предложило ему и восточное гетманство.
Дорошенко с митрополитом Тукальским тотчас послали к Брюховецкому, чтобы они привез свою гетманскую булаву и знамя и поклонился, а себе взял бы Гадяч с пригородами по смерть…
Тут-то только понял Брюховецкий, что Дорошенко сделал его лишь своим орудием.
Гетман пришел в негодование и занеистовствовал: он велел тотчас повсюду задержать как пленников людей Дорошенко.
Узнав об этом, к нему явился Лучко:
— И вот Иван Мартыныч, — сказал он, — что ты делаешь?.. Покорись, ведь это воля громады, а громада — великий человек.
— Чего, пес, пришел учить; это мои полковники-изменники затеяли, и я должен их наказать.
— Бог с ними, дядька, уже ты лучше покорись и возьми себе Гадяч… ведь и это целое княжество… Здесь и дворец у тебя… и своя церковь… и заживешь ты на покое, да и я тебя не покину до смерти.
— Прочь от меня, коли не хочешь, чтобы я вышвырнул тебя. Пошли тотчас за полковником Григорием Гамалеем, за писарем Лавренко, за обозным Безпалым — они мои друзья и не изменят мне.
С сокрушенным сердцем и с каким-то печальным предчувствием вышел от гетмана Лучко и сделал распоряжение о приглашении к нему требуемых им лиц.
На другой день полковник, писарь и обозный явились к гетману, и тот послал их к турецкому султану с предложением принять Малороссию в свое подданство.
Султан Магомет в это время жил в Адрианополе по случаю господствовавшей в то время в Константинополе чумы.
Весна была там в разгаре, и султан жил посреди янычарского лагеря в шатре.
Шатер был обширен и состоял из драгоценных персидских ковров, а внутри он был разукрашен турецкими шалями.
2 апреля в лагерь этот явились Гамалея, Лавренко и Безпалый и были представлены великому визирю.
Они предложили, от имени Брюховецкого, султану принять Малороссию или, как она тогда себя называла, Черкас, под султанскую руку в вечном подданстве, только не делать у них никаких поборов и защищать их от царя русского и короля польского.
Визирь доложил об этом султану, тот изъявил свое согласие и одарил лошадьми, оружием и вещами и их, и Брюховецкого; после того он отпустил их домой, т. е. отправил их морем в Крым.
В конце мая 1668 года посольство Брюховецкого через Крым возвратилось с извещением, что султан изъявил свое согласие на принятие Малороссии в свое подданство и для этой цели приедет от хана Челибей для того, чтобы, приняв присягу от гетмана и полковников, идти с ними против русских воевод.
Восхищенный этим Брюховецкий послал гонцов ко всем своим полковникам, чтобы они к приезду Челибея стянули часть казачества в Гадяч.
Полковники, изменившие было ему и требовавшие в гетманы Дорошенко, будто смирились, и покорились, и явились в июне в Гадяч, где они расположились лагерем.
Несколько дней после того дали знать гетману, что татарская орда приближается к Гадячу.
Он выехал навстречу к Челибею в рыдване, который несли лучшие его кони, запряженные цугом по-польски.
Челибей, как представитель не только хана, но и самого султана, дозволил себя взять в рыдван не только как гостя, но и как великую особу, т. е. он уселся в рыдван, посадил возле себя одного из мурз, а гетману разрешил ехать верхом.
Брюховецкий было обиделся и вспылил, но умерил свой гнев и покорился участи. Несмотря на то, что открывшаяся у него рана на ноге не позволяла ему ехать верхом, он сел на коня одного из казаков, провожавших его, и поскакал за Челибеем.
Когда они прибыли в Гадяч, Челибей обратился к нему с восторженною похвалою его рыдвану и лошадям.
Нечего было делать: он подарил то и другое Челибею, так как, по восточному обычаю, не подарить значило нанести оскорбление.
На другой день представлялось странное зрелище: в присутствии Челибея и его татарской свиты казаки, их полковники и старшины, а также и сам гетман на кресте и евангелии в присутствии священника присягали турецкому султану в верности.
После того пошло угощение и попойка: казаки и запорожцы пили, пили, пили…
Натянулись и татары бузою[121] и кумысом.
Дикие песни и тех и других разносились по окрестностям Гадяча, а ночью яркие их костры как-то зловеще горели, предсказывая новые беды и кровопролитие на Украине.
После этих попоек гетман предложил Челибею тронуться в путь против воевод.
— Заплатишь десять тысяч золотых, так мы тронемся, а коли нет, мы — гайда домой, — коротко и ясно отвечал Челибей.
Начался торг, и кончил гетман на семи тысячах золотых, которые он тотчас и выплатил ему.
Узнав об этом, Лучко возмутился:
— Зачем, дядька, дал вперед неверным деньги… Увидишь, они изменят.
— Татарин, коли дает слово, он его сдержит…
— Гляди, дядька, не доверяйся ты ни полковникам своим, ни Челибею, — недаром сердце мое не лежит к ним.
Лучко заплакал и, кладя на стол кошелек, набитый червонцами, сказал, запинаясь на каждом слове:
— Вам деньги теперь нужны, когда-нибудь возвратите…
С этими словами он выбежал, боясь, что ему кошелек возвратят.
На другой день гетман, окруженный полковниками, выступил в поход, а за ним вслед тронулась и татарская орда.
Выступая в поход, Брюховецкий разослал всем своим полковникам и старшине грамоты, чтобы они собрались в Диканке, куда он идет с войском и с татарами.
Несколько дней спустя он уже разбил лагерь под этим местечком.
Не прошло и недели, как дали ему знать, что западный гетман Дорошенко движется тоже туда с войском.
Узнав об этом, Лучко настаивал, чтобы Брюховецкий послал к Дорошенко гонцов остановиться, иначе он-де примет его наступление как вызов к битве.
Гетман не послушался его и пошел к Челибею в его шатер.
Поджав ноги, Челибей сидел на полу, на ковре, и курил кальян.
Брюховецкий объявил ему, что приближается Дорошенко и чтобы он велел ему перейти обратно Днепр и возвратиться домой.
— Зачем? — спросил Челибей.
— Да ведь мы идем на русских, а нам он не нужен.
— Как не нужен, — заголосил Челибей, — ведь и он подданный султана, и он тоже ему присягнул, — так и он должен идти с нами.
— Но он со мною во вражде и требует, чтобы я отдал ему булаву…
— Это уже не дело ни султана, ни мое… Мое дело не разбирать вас, а сражаться с русскими. Вы, как знаете, меж собою и делайте, а я — сторона: кого из вас войско признает гетманом, тот и будет.
Взбешенный до ярости, Брюховецкий возвратился в свой шатер.
Лучко доложил ему, что явились от Дорошенко десять сотников казачьих для каких-то переговоров.
Гетман велел их привести в свой шатер. Сотники объявили, что Дорошенко требует от него булаву, знамя, бунчук и наряд.
Брюховецкий вышел из себя, прибил сотников, велел их сковать и отослать в Гадяч.
На другой день показались полки Дорошенко. К Брюховецкому явился запорожский полковник Иван Чугуй, очень приверженный к нему.
— Гетман, — сказал он, — ты поступаешь не по-казачьи: зачем допускаешь к себе так близко эту лисицу. Вели ты выкатить войску сто бочек горилки, да раздай на войско несколько тысяч золотых и крикни клич на изменника Дорошенко… и искрошат его и мои запорожцы, и твои казаки.
— Не могу я братской крови лить, — отвечал мрачно Брюховецкий.
— Гляди, быть беде… Но я тебя не покину, — вздохнул Чугуй.
Между тем Дорошенко наступал и прямо шел на лагерь Брюховецкого с песнями и барабанным боем.
Когда же они приблизились, казаки Брюховецкого стали кричать:
— Мы за гетманство биться не будем! Брюховецкий нам доброго ничего не сделал, только войну и кровопролитие начал.
Услышав это, пришедшие казаки бросились грабить Брюховецкого возы. Они расхитили его имущество, оружие — все, что там имелось, а съестные припасы стали пожирать, а из бочек пить водку.
Дорошенко, находившийся на горе и видевший это, послал сотника Дрозденко схватить Брюховецкого и привести к себе.
Дрозденко явился в шатер Брюховецкого.
Брюховецкий страдал от раны и сидел в кресле.
В шатре находились друг его Чугуй и Лучко.
Ворвавшись в шатер, Дрозденко схватил грубо за руку гетмана, требуя, чтобы он следовал за ним к Дорошенко.
Чугуй взял ружье и так сильно толкнул его дулом в бок, что тот упал.
Но в этот миг ворвалась в шатер толпа пьяных казаков и после отчаянной борьбы с Чугуем и карликом схватили на руки гетмана и потащили его к Дорошенко.
Чугуй успел созвать несколько запорожцев и последовал за этою толпою.
Брюховецкого привели к Дорошенко. Тот, окруженный полковниками и старшиною обеих сторон, стоял на горе и ожидал привода Ивана Мартыновича.
Когда поставили перед ним пленника, он грубо крикнул:
— Ты[122] зачем ко мне так жестоко писал и не хотел добровольно булавы отдать?..
Брюховецкий с презрением поглядел на него и ничего не ответил.
Дорошенко повторил несколько раз вопрос, но ответа не было.
Дорошенко махнул рукою: толпа казаков бросилась на несчастного, начала резать его платье, била ослобом, дулами, чеканами, рогатинами.
Чугуй с небольшим количеством запорожцев хотели его отстоять и дрались отчаянно, но сила одолела; а Дорошенко, полковники и старшины не шевельнули даже пальцем, чтобы остановить братоубийство. Когда Чугуя сломили и привели избитого и раненого к Дорошенко, тот велел освободить его, причем клялся, что он махнул рукою только для того, чтобы Брюховецкого увели, а те его убили.
— Так вели убрать тело гетмана — ведь он лежит голый, — заплакал Чугуй…
— Ты отвезешь его в Гадяч… а ночью спрячь его куда-нибудь… Повезешь его ты тогда, когда все успокоится и мы выступим отсюда.
Наступала ночь, одна из тех темных ночей, какими славится Украина.
Чугуй, несколько запорожцев и Лучко явились к телу Брюховецкого, положили его на лошадь, привязали к ней, сами вскочили на коней и повезли тело в лес, отстоявший верст за десять от Дуванки.
Едва они это сделали, как казаки войска Брюховецкого, напившись, стали роптать, что их-де гетмана убили как собаку и бросили. Расчувствовавшись, они бросились отыскивать его на месте побоища. Не найдя тела, они закричали:
— Они убили его как собаку и даже лишили честного погребения… Смерть Дорошенко!., это изменник!., неверный, он татарскую веру принял.
Клич этот стал раздаваться все грознее и грознее.
Дорошенко велел войску выкатить несколько бочек водки, но те, напившись, еще больше расходились.
Видя, что опасность грозит не только ему, но и полковникам, и всей старшине, Дорошенко втихомолку скрылся с ними далеко за обозом, для того чтобы дождаться утра.
Во время этой смуты тело Брюховецкого привезли в лес, спрятали в гуще, укрыли свиткою и оставили близ тела двух запорожцев, а сами Чугуй, Лучко и остальные запорожцы возвратились в лагерь.
Когда Лучко вошел в шатер гетмана, он что-то отыскал, положил в торбочку, потом вышел, сел на лучшего гетманского коня и поскакал в Гадяч.
Дней пять после того шла попойка и насилу улеглись страсти, тогда лишь старшины наконец уговорили войско признать Дорошенко гетманом.
Мрачно и сердито войско вручило ему булаву, бунчук, знамя и наряд гетманский.
Новый гетман выкатил снова много бочек водки, и когда казаки порядочно натянулись, он велел ударить тревогу и выступить в поход.
В гетманской одежде, с булавою в руке, он поехал вперед, окруженный полковниками и старшинами, а казаки пошли за ним и гаркнули только что сложившуюся песню:
Ой на гори та жнецы жнут, А по-пид горою, по-пид зеленою, Казаки идут… Попереду Дорошенко, Сам с гетманскою булавою…XXXVII Смерть царицы Марии Ильиничны
Светлый праздник, наступивший в 1668 году 24 марта, был не радостен для царя: вести с Волги о Стеньке Разине были тревожны, а Малороссия была вся в огне.
Не радостна была и царица Мария Ильинична: погоня за обеспечением наследником династии — что чуть-чуть не вызвало до рождения сына Феодора даже развод с царем — сделало то, что у Марии Ильиничны явилось на свет Божий пятеро сыновей: Дмитрий, Алексей, Федор, Симеон и Иван, и шесть дочерей: Евдокия, Марфа, Софья, Екатерина, Марья и Феодосия. Из них первородный сын Дмитрий умер, а остальные все дети были в живых.
К несчастью, все дети мужского пола были хилы и слабы, зато царевны были здоровы и красивы.
Имея такую обширную семью, царица переносила с нею много горя и забот, а тут еще примешались и другие обстоятельства, огорчавшие ее и разрушавшие ее здоровье. В особенности на нее сильно подействовали два земских мятежа: один против Морозова, когда так трагически окончили жизнь родственники ее Плещеев и Траханиотов, а другой — по поводу медных рублей, когда жизнь отца ее была в опасности. Кроме этого, несчастная жизнь ее отца со второю женою его — Аксиньею Ивановною, опала его и опасность, в которой он неоднократно находился, — наносили сильные удары ее здоровью. В семье Морозовых было тоже не благополучно: сестра ее, жившая в замужестве за Борисом Ивановичем, связалась с англичанином Барнсли, и того сослали; а жена Глеба Ивановича, Феодосия Прокофьевна, как фанатичная раскольница, была осуждена и заточена.
Марью Ильиничну нельзя было поэтому узнать: она состарилась, похудела и осунулась, а черные, некогда прекрасные ее глаза впали и горели лихорадочно.
Провозглашение старшего ее сына Алексея наследником престола тоже не радовало ее: глядя на его худобу, на его матовое лицо, на впалые глаза, ей приходила нередко мысль, что не жилец он этого света, и, отгадав причину, она отдала Федора и Семена на руки дядьке, князю Федору Федоровичу Куракину, для того чтобы изъять, по крайней мере, этих от влияния терема.
Образование давала она и дочерям, и сыновьям такое, насколько оно возможно было в то время и по тогдашним понятиям: Семеон Полоцкий, один из наших ученейших тогдашних людей, занимался образованием ее сыновей и дочерей, чем и объясняется образованность ее дочери Софии.
Но здоровье Марьи Ильиничны с каждым днем становилось все хуже и хуже, и в начале 1668 года она чувствовала себя совсем уже больною: удушливый кашель ее мучил, а боль в груди не давала ей спать по ночам.
Тут встретилось еще одно обстоятельство: и царь, и врачи его помешались на кровопускании и на рожках, — и вот на Марье Ильиничне начинается практика этих средств.
Довело это ее до того, что вместе со строгим постом, который тогда соблюдался, ее уложили в кровать, но к Светлому празднику ей сделалось легче, и она явилась в Золотую палату в первый день Светлого праздника выслушать поздравления и похристосоваться с патриархом, родственниками и боярами.
Когда вышла царица в Золотую палату, само собою разумеется, что никто не заметил ее болезненности: по обычаю того времени, румяна и белила закрыли цвет лица, но худоба ее, однако же, бросалась резко в глаза.
Мужественно выдержала царица более чем часовой прием, но когда удалилась в свою опочивальню, она долго кашляла и не могла успокоиться.
Впрочем, скромная пища вскоре поправила ее силы, и она с наступлением весны выехала в Коломенское село.
Лето окончательно ее укрепило, но 6 августа было для нее роковым.
По тогдашнему обычаю, во время водосвятия, или, как тогда говорилось, в день Иордани, эта Иордань устраивалась для царя на Москве-реке, под Симоновым монастырем.
Для царицы же приготовлялась Иордань в с. Рубцах, в прудах, ныне Покровская улица.
Не быть на Иордани, не погрузиться в воду в этот день — значило не только оскорбить народное чувство, но и лишиться благодати Божьей…
Никакая непогода никогда не мешала исполнению этого религиозного обряда.
Иордань была тогда торжеством из торжеств, и для исполнения его на Москву-реку стекались все мужчины Москвы, а на пруды — все женщины.
Еще с рассвета стекался поэтому народ на эти места, чтобы после водосвятия погрузиться трижды в воду.
Марья Ильинична хотя чувствовала, что она больна, но мысль, что, быть может, самое погружение в воду исцелит ее, как исцеляла силоамская купель, ободряла.
Молилась у ранней обедни царица, просила себе исцеления, потом с огромным поездом, со всеми сестрами брата, с дочерьми и придворными боярынями и остальным женским персоналом двора отправилась из Коломенского дворца в село Рубцово.
Здесь имелся дворец, в котором царица со всем теремом должна была после Иордани обедать.
Обряд погружения производился таким порядком: женщины раздевались и входили в воду и стояли все время по колено, пока шла церковная служба; когда же священник троекратно погружал крест в воду, тогда и все женщины погружались трижды.
Стояние было довольно продолжительное, а тут на беду день этот был необыкновенно холодный, так как несколько дней шли дожди и со стороны Новгорода был резкий ветер.
Находясь в воде, еще до погружения, царица почувствовала себя нехорошо: ею овладела лихорадочная дрожь и кашель.
После погружений ее вынули из воды совсем посиневшею, поспешно одели и увезли во дворец. Потребовала она старого меда и выпила, но озноб не прекращался, так что она не вышла даже к праздничной трапезе.
После обеда поезд ее возвратился в Коломенское село, и она тотчас легла в кровать.
Она сильно заболела и проболела до осени, но с переездом в Москву ей сделалось легче, однако же она более не являлась никуда.
Ко дню 25 сентября, т. е. ко дню представления св. Сергия, она, бывало, совершает с царем шествие в Троицкую лавру, но в этот год она не могла этого сделать, и царь совершил это шествие без нее.
Царица хотя и поднялась на ноги, но с каждым днем таяла и таяла.
Дотянула она так до марта: в кровати она не лежала, а сидела на диване.
В среду, на второй неделе поста, в четыре часа дня царица потребовала своего духовника, чтобы он исповедовал и приобщил ее.
Духовник явился, отслужил вечерню, потом исповедовал и приобщил ее.
— Теперь, отец Лукьян, соверши надо мною елеосвящение.
— Разве ты чувствуешь себя так дурно? — спросил духовник.
— Чувствую, час мой настал… Соверши скорее обряд… Да позвать царя, его сестер и детей моих, также моих родственников.
Духовник, совершил елеосвящение, исполнил приказ царицы.
Вся ее семья собралась перед ее спальнею. Первый вошел к ней царь; она указала ему место на диване. Тот сел и взял ее за руку.
— Прости, — сказала она, — коль я тебе не угодила чем ни на есть… аль сделала что-нибудь злое… После меня не тоскуй, не горюй, береги свое здоровье. Коль пожелаешь, так женись, только в обиду моих детей не давай: мачехи все злые. Еще бью челом: проклял нас Никон, так ты упроси святейшего простить нас и пущай молится обо мне и моих детях. Я-то всегда его любила и не я его осудила.
После того вошли к ней сестры царя и ее дети.
С каждым она поговорила, каждому сказала несколько слов.
Вся семья, таким образом, окружила ее, и она как будто стала засыпать; вдруг она очнулась и, вздрогнув, обвела всех глазами: вся семья стояла на коленях и молилась об ее исцелении.
— Аминь, — произнесла она, упала на подушки и вытянулась…
В 6 часов ее не стало.
Плач, рыдания и вопли огласили терем, а царя почти без чувств увели в его опочивальню.
Царицу обмыли, одели парадно, набелили и нарумянили, снесли в Золотую палату и положили на стол, покрытый черным сукном.
Обставленная свечами и покрытая парчою, она похожа была на сказочную спящую царевну.
У ее изголовья архимандрит читал псалтырь, а придворные, мужчины и женщины, в черных одеждах, то приходили, то уходили, поклонившись ее праху.
На другой день, по обычаю, она должна была быть похоронена в усыпальнице цариц, в Вознесенском монастыре, находившемся в Кремле неподалеку от царских палат.
Патриарх наш и один из восточных патриархов, множество архиереев, архимандриты и почти все московское белое духовенство явились на погребение.
Когда отслужена была панихида в Золотой палате, царицу положили в гроб, который перенесен в придворную церковь родственниками царицы и первыми боярами. Здесь отслужена обедня и панихида, и затем те же лица понесли гроб в Вознесенский монастырь.
Царь и царевич Алексей Алексеевич проводили гроб до кладбища и рыдали.
Народ, и в особенности нищие, которым покровительствовала царица, шли за гробом с громкими воплями: им казалось, что с ее погребением и они обречены на голодную смерть.
Узнав о смерти царицы, патриарх Никон сильно сокрушился душою, постился, молился и плакал, говоря:
— Быть беде, быть беде… Ждет нас еще много горестей…
Вскоре прибыл в Ферапонтов монастырь Родион Стрешнев с деньгами и просьбою царя поминать царицу.
Никон обиделся, денег не взял и сказал:
— Я и так молюсь за царицу и за ее детей…
Потом он, помолчав, продолжал:
— Быть еще большей беде… Будет еще и другая смерть… и смуты… гиль. Так поведай великому государю — судьбы Божии неисповедимы.
XXXVIII Нащокин и Хитрово
Когда двор заметил, что царица Марья Ильинична начала сильно хворать, многие из бояр поняли, что с ее смертью произойдет перемена в государственном управлении, а потому каждый из них начал группироваться у той личности, какая, по его мнению, должна была сделаться центром тяготения.
На примете у всех были Хитрово и Нащокин, но и эти старались на всякий случай залучить к себе побольше сподвижников.
Дружба Хитрово, Стрешнева и Алмаза сделалась еще сильнее.
— У меня был сегодня Матвеев, — начал он, — и жаловался на Нащокина. Боярин Афанасий стал-де теснить голландцев и во всем предпочтение отдает англичанам, — а голландцы нас снабжают и порохом, и пушками, и солдатами.
— Что же делать? — спросил Стрешнев.
— Да ничего. По-моему, так нужно Нащокина прогнать, а это возможно, коль вернуть Никона…
— Да ведь его на патриарший престол вновь не посадишь? — заметил Алмаз.
— Коли этого нельзя, так пущай здесь живет, на Москве, на покое, в монастыре, и это будет довольно, чтобы аль прогнать, аль обессилить Нащокина. Гляди, ведь он завладел всем, — вздохнул Хитрово; потом, подумав немного, он продолжал: — Крутенек святейший, да честен и бескорыстен…
— Да, гордый и непреклонный, — заметил Стрешнев.
— Такой-то и нужен теперь. Ведь быть беде, коли царица умрет, да Нащокин женит царя, да еще на своей родственнице… Пропадем мы все, — разгорячился Хитрово.
— Оно-то так… но что делать? — вздохнул Стрешнев.
— А я так думаю: уж лучше Матвеев, чем Нащокин. Матвеев и умен, и покладист… Пущай он и отыщет тогда царю невесту. Ты бы, Хитрово, с ним побалагурил, — заметил Алмаз.
— Побалагурить-то можно, но чур между нами. Нащокин — точно чутье собачье у него: коли узнает, так он такие подвохи учинит, что взорвет нас на воздух, — и с этими словами Хитрово простился с друзьями и они разошлись.
В то же самое время Нащокин сидел в своем кабинете и думал думу:
«Царь меня слушался доселе, да голландцев не хочет он притиснуть — значит, мое слово у него ничто… Силен у него вертопрах Хитрово и недаром заговаривает теперь с ним о Никоне… Хотят они Никона вернуть: тогда прости прощай и моя сила, и все мои затеи… и мой многолетний труд. Не уступлю я так мою славу, мою честь и все, что сделал: я — не Никон. Я начну с того, что поссорю тебя, святейший, и с Ртищевым, и с Хитрово… поссорю так, что упрячут они тебя, где Макар телят не гонял…»
Он ударил в ладоши, вошел служка.
— Пришел из Воскресенского монастыря черный поп Иоиль?
По роже продувная штука и, кажись, на все готов.
— Давно ждет.
— Зови его.
Вошел Иоиль и, поклонившись низко Нащокину, остановился в дверях.
— За то, что освободил тебя от расстрижения, за твои проделки с Никоном, хочешь сослужить службу и мне, и Никону… за что тебе и почет и деньги?
— Тебе и Никону, боярин, готов служить.
— Ты ведь знаешь, что Богдан Матвеевич Хитрово враг Никона?
— Знаю…
— Тебя называют звездочетом?..
— Да, люди так бают, да я только лечу: я знахарь.
— Прекрасно! Вот и передай Никону, что тебя-де просил Хитрово дать ему приворотный камень, чтобы царя волшебством к себе приручить, а Никон пущай-де государево дело объявит.
— Пущай так, как соизволит боярин.
— Так ты ступай на Кирилловское подворье, там познакомься с чернецом Флавианом, да порасскажи ему, а тот пущай едет к Никону в Ферапонтов монастырь…
С этими словами Нащокин сунул ему в руку увесистый кошелек.
Иоиль отправился в Кирилловское подворье и, найдя старца Флавиана, рассказал, в чем дело и, дав ему на дорогу, просил тотчас выехать в Ферапонтов монастырь.
Флавиан, желая посетить и свой Кирилловский монастырь, тотчас выехал туда.
Чернец этот прежде принадлежал к Ферапонтову монастырю, а потому был знаком с Никоном.
Никон попался на удочку: он объявил государево дело и хотел было послать в Москву Флавиана, но пристав Наумов воспротивился этому. Когда же Никон начал делать от себя распоряжения и ругаться с ним, тогда он велел на него надеть цепи, запер келью и поставил у окна семь человек.
Но Флавиан в начале октября все же явился к царю с письмом от Никона, и на 20 октября созвана боярская дума для рассмотрения, в присутствии царя, объявленного Никоном «великого государева дела»…
Но на суде и Флавий, и Иоиль отреклись от всего и объявили, что Никон на них наклепал.
Цель Нащокина была достигнута: Хитрово сделался вновь злейшим врагом Никона, а царь тоже рассердился на него: зачем-де поклепал на его любимца Хитрово. Но выиграл ли от этой интриги Нащокин?
Хитрово и Матвеев успели уговорить царя послать его в Андрусов для новых переговоров с Польшею, так как Ян Казимир отказался от престола.
Выехал весною 1669 года против своего желания Нащокин из Москвы, и на нем осуществилось то, что и погубило Никона: чем дальше от глаз, тем дальше от сердца. Расположение к нему царя остыло, тем более что смерть Марии Ильиничны произвела в нем нравственный переворот… Притом нужно было исполнить волю усопшей и поневоле пришлось послать к Никону, и вот отправляется к нему Родион Стрешнев, а тот освобождает его из заточения и сменяет Наумова князем Шайсуповым.
XXXIX Заточенье Никона
Инокиня Наталья в начале 1668 года отправилась из Гадяча вместе с Жидовиным прямо в Царицын. От приезжих казаков она узнала, что о Стеньке Разине известно только то, что он гуляет где-то на море и что он имеет огромную добычу.
Жидовин стал расспрашивать о Ваське Усе, разбойничавшем между Воронежом и Тулою и поднявшем мятеж против помещиков.
Ему отвечали, что шайка разбита и разбрелась, но что Ус часто посещает тайно Царицын.
Порешил он с инокинею поселиться в Царицыне и ждать Уса, а между тем употреблять все средства, чтобы его залучить к себе.
Наняли они небольшой домик, и чтобы не обратить на себя внимание тогдашнего царицынского воеводы, она выдала себя за мать Жидовина и стала покупать и перепродавать хлеб под именем Алены[123] из выездной Арзамасской слободы.
Хлебная торговля шла у них во всем порядке, с лабазом, приказчиками и артельщиками.
К весне является в их лабаз донской казак, рослый, красивый, и торгует муку.
Жидовин сходится с ним в цене, отвешивает ему и спрашивает:
— А куда, есаул, прикажете снести? Мои ребяты ужо доставят.
— Да вот, близ церкви… Вон там домишко с зелеными ставнями да с красными воротами…
— Знаю, знаю… а как вас чествовать, есаул…
— Меня?.. Пущай спросят Ваську…
— Уса, — обрадовался Жидовин.
Казак вздрогнул.
— А ты откелева, что знаешь Уса? — спросил он, выхватив из-за казакина кинжал.
— Клади ты назад кинжал, да я сам-то Стенькин…
— А!., так ты наш…
Жидовин выглянул из лабаза во двор и крикнул приказчика:
— Уж ты постой здесь, а я пойду к матушке! Вышли они из лабаза, и когда отошли от него, он обратился к Усу:
— Меня зовут Жидовиным, я сын боярский, и мы с Стенькою погуляли… Потом он ушел в моря, а меня послал к гетманам к Черкассам… Везу я теперь ему грамоту гетмана Брюховецкого… Таперь, пока он вернется, я сижу здесь с инокинею Наталиею… Это — великая черница, и московская, и киевская. Называется она моею матушкою, и мы живем с нею в одном доме. Теперь знаешь, кто мы, и пожалуй к нам — будешь дорогим гостем.
— Слышал я, — отвечал Ус, — о тебе от наших казаков и рад, что встретились. Идем к твоей инокине — я от хлеба-соли не откажусь.
Они застали инокиню читающею какую-то священную книгу.
Она была одета купчихою. Лицо ее посвежело, а глаза приняли обыкновенное лучистое выражение.
Донской удалой казак, войдя в избу, перекрестился иконам, поклонился ей в пояс и подошел под ее благословение.
— Это, матушка, Ваську Уса я привел к тебе, — радостно произнес Жидовин.
— Очень рада, будь дорогим гостем, садись… А ты, сын мой, вели подать нам хлеба-соли да вина и меду — угостим атамана.
Жидовин выглянул в дверь и крикнул служке изготовить все к трапезе.
Пока готовился стол, инокиня рассказала Усу причину своего приезда: нужно-де освободить патриарха Никона из Ферапонтова монастыря и вести его в безопасное место, а когда бояре будут изгнаны из Москвы, тогда он снова сядет на патриарший престол.
Слушая рассказ этот и то, как поступили дурно с Никоном и как он страдает, Ус вознегодовал и сказал:
— Чаво мешкать? Мы и без Стеньки его ослобоним… Созову я своих молодцов, пойдем на поклонение будто в Соловки, а там зайдем в Ферапонтов… А коли ослобоним святейшего, так вся черная земля пойдет с нами, и поведем его в Москву на патриарший престол.
В это время подали трапезу. Сели к столу, ели и пили.
Во время обеда инокиня описала расположение Ферапонтова монастыря, стоящего в глуши.
— Десятка два имеется там стрельцов, — закончила она, — и то старых, глухих и слепых, а братия… палец о палец не ударит для защиты монастыря. А похитивши Никона — концы в воду: мы его довезем до Волги, и раз попал он на наш струг, мы уж не выдадим, да и народ не выдаст.
— Здесь живут два моих молодца, Федька да Евтюшка. Оба торгуют в гостином: один веревками, другой валенками да лаптями. Я пойду к ним, и уладим все, — сказал Ус, подымаясь с места, крестясь и кланяясь хозяевам.
Недолго спустя Ус явился к инокине.
— Молодцы, до двух сот, соберутся, когда хочешь, да с оружием. Нужны три аль четыре струга… повезем рыбу да хлеб в Белозерск, а под рыбою будет оружие и порох… Нужен от воеводы охранный лист, да на одном струге нужно взять пять аль шесть стрельцов для охраны… И поедем мы по Волге, как паломники. Федька да Евтюшка были бельцами, да и я был бельцом: мы в одеже черной и поедем, точно монахи на богомолье… да и мои молодцы будут в крестьянской, точно и взаправду на богомолье идут.
Инокиня благодарила его за усердие и тотчас распорядилась купить у купцов четыре струга, и после того Жидовин начал грузить на них хлеб и сушеную рыбу. Для свободного же прохода вверх по Волге она достала от воеводы не только охранный лист, но за плату ей дали несколько стрельцов для защиты от воров. Потом инокиня, или, как ее звали, Алена, объявила, что на струги просятся много богомольцев, идущих в монастыри Кирилловский и Ферапонтов, а некоторые в Соловки. Заплатила она в воеводской канцелярии, и выдали ей охранные листы и на всех молодцов Уса, переписав предварительно их имена и откуда они.
По окончании нагрузки, отслужив молебен, инокиня тронулась в путь.
Вверх по Волге они шли очень медленно — то волоком, то на веслах, и спустя месяц пришли в Белозерск.
Для избежания подозрения Жидовин повел торг рыбою и хлебом, а паломники сошли на берег.
В Белозерске купчиха Алена купила лошадей и повозки, нагрузила их разными припасами: рыбою, хлебом, оружием и порохом, и потянулась к Ферапонтову монастырю с Усом, Евтюшкою и Федькою Сидоровым. Двести же богомольцев двинулись за ними разными партиями.
Купчиха сидела в особой, хорошей и крытой повозке, запряженной тройкою прекрасных воронежских степных лошадей, привезенных ею на одном из стругов.
Когда мама Натя приблизилась к монастырю и увидела его издали, сердце ее забилось и с нею сделалось почти дурно.
— Нам бы не ехать дальше, — сказала она, — а лучше пробраться в тот лес… вон, что виднеется… Мы там расположимся станом… и оттуда уж будем действовать.
Ус согласился с нею.
— Так ты поезжай туда, а я подожду богомольцев здесь.
— Да как же ты найдешь меня?
— Часа через два, как придешь туда, выстрели из пистолета, и мы соберемся… Мы к лесу привычны.
Инокиня поехала по направлению к лесу. Когда она приблизилась к нему, она убедилась, что нетрудно ее найти. К лесу была проложена узенькая дорожка, вероятно, ферапонтовскими монахами, ездившими туда по дрова, а потому, приехав туда, она свернула только в лес, чтобы никто ее не видел.
Не прошло и часа, как по той же дороге потянулся и ее караван с рыбою, хлебом и богомольцы.
Было под вечер, а потому они расположились лагерем в лесу, разложили костры, расставили часовых и заварили пищу.
Сердце инокини трепетно билось, и мысли ее были тревожны. Удастся ли освободить Никона, согласится ли он поднять знамя мятежа, — а если мятеж не удастся, так его ждет смертная казнь…
Все это волновало ее, устрашало и не давало покоя, и когда сподвижники ее, насытив голод, улеглись спать, она тоже улеглась на своем ковре, но всю ночь не сомкнула глаз, а все молилась и плакала.
К утру отдаленный звон в церкви Ферапонтова монастыря, призывающего на заутреню, поднял инокиню на ноги.
Она разбудила Уса, Евтюшку и Федьку Сидорова и объявила, что им пора отправляться в монастырь. Чернецы помолились Богу и тронулись в путь. Подойдя к монастырским воротам, они объявили сторожу, что идут на богомолье в Соловки и что желали бы поклониться святым ферапонтовским иконам и мощам и отслужить молебен.
Богомольцев-чернецов впустили в монастырь. В обители они усердно молились, вносили деньги в кружки и дарили попа, дьякона и причетников деньгами и объявили, что на Дону, на реке Чире, имеется скит, где и стоят чернецами, а теперь идут по обету в Соловки, причем они подробно расспрашивали о Соловецких островах и о пути, которым они должны следовать.
Поп умаслился и попросил их к себе, так как в этой пустыне рады были всякий новой живой душе, в особенности пришедшей из дальней стороны. Притом к ним доходили слухи о Стеньке Разине, и поп интересовался послушать, что делается на Дону.
Рассказывал Ус и были, и небылицы, приписывая Стеньке и все свои похождения. Поп и семья его заслушивались этих рассказов. В это время входит дьякон и объявляет, что Никон, узнав что чернецы-богомольцы идут в Соловки, хочет дать им денег, чтобы они поставили там неугасимые лампадки св. Зосиме и Савватию, а потому он просит их в свою келью.
А я вас провожу к нему, — закончил любезно дьяк.
Повел он их через двор, в особый флигелек, забрался по лестнице во второй этаж, прошел коридором и в конце его постучал в небольшую тяжелую дверь.
— Гряди во имя Господне, — раздался голос за дверью.
Дьяк отворил дверь, пропустил в нее трех чернецов, а сам остался за дверью.
Чернецы перекрестились иконам, распростерлись перед патриархом и подошли под его благословение.
Когда они поднялись и взглянули на Никона, их поразил величественный его вид: он в заточении поседел, но стан его был прям, а борода, не знавшая ножниц, висела на груди. Он был в мантии архирейской, и грудь его украшалась крестом, который он носил, будучи патриархом.
В затворничестве полнота щек и носа спала, и черты лица его сделалась тонки и нежны, а выражение серьезно, но вместе с тем, при улыбке, оно принимало выражение доброты и грусти, что замечается у всех людей, много думавших и выстрадавших.
Патриарх попросил гостей сесть и повел беседу о Доне и о том, что там делается, и наконец объявил, чтобы они взяли от него деньги на неугасимую лампадку в Соловки, причем он вынул несколько золотых монет и вручил их Усу.
Тогда Ус и товарищи его пали к ногам его, объявили, кто они, и начали просить его ехать с ними.
Никон ужаснулся.
— Куда пойду я и для чего, — сказал он. — Для того, чтобы по трупам от Астрахани до Москвы шествуя, сесть на патриарший престол… Бог с ними! Не хотел я сидеть с ними с прежде, так теперь подавно.
Ус и товарищи умоляли его, просили, плакали, наконец, грозили, что-де они силою его возьмут, — патриарх был непреклонен.
— Кто подымает меч, тот погибает от меча, — вознегодовал он. — Коль я бы хотел насильно сесть на свой престол, я бы давно на нем сидел: стоило только в последний приезд мой в Москву ударить в царь-колокол… Да и в Воскресенский монастырь являлся Стенька Разин да и многие другие и предлагали поднять весь Дон и боярских людей, чтобы идти на Москву, но я под клятвою запретил это, и благодарю Господа сил, что через меня не пролито ни единой капли крови. Пущай мои злодеи ликуют, но суд Божий ждет их на небесах за все мои мучений, за все зло, которое они причинили мне.
С сокрушенным сердцем казаки простились с Никоном, просили от него отпущения грехов и ушли.
Когда они возвратились к инокине, та с лихорадочным жаром спросила:
— Ну, что?
— Видели его, не соглашается, — отвечал Ус, — не хочет кровопролития.
— Видно, на то воля Божья, — перекрестилась набожно инокиня. — Теперь нужно вернуться домой, дождаться Стеньки; и коли он вернется, подымаем всю русскую землю, и она посадит его сама на патриарший престол. Пущай падает грех на голову врагов Никона.
Они тотчас тронулись в обратный путь.
Не прошло и двух месяцев после этого, как приставленный к Никону архимандрит Иосиф отпросился у московского патриарха Иоасафа приехать в Москву. Он получил разрешение и выехал туда с монахом Провом.
Прибыв в Москву, он донес царю:
«Весною 1668 года были у Никона воры, донские казаки. Я сам видел у него двоих человек, и Никон мне говорил, что это донские казаки, и про других сказывал, что были у него в монашеском платье, говорили ему: «Нет ли тебе какого утеснения: мы тебя отсюда опростаем». Никон говорил мне также: «И в Воскресенском монастыре бывали у меня донские казаки и говорили: если хочешь, то мы тебя по-прежнему на патриаршество посадим, сберем вольницу, боярских людей». Никон сказывал мне также, что будет о нем в Москве новый собор, по требованию цареградского патриарха; писал ему об этом Афанасий Иконийский».
Приехавший с архимандритом монах Пров донес от себя, что Никон хотел бежать из Ферапонтова и обратиться к народу с жалобою на напрасное заточение.
Без следствия и суда, по одному голословному доносу, враги Никона, а главный из них Хитрово, добились у царя, что Афанасия Иконийского сослали в Макарьевский монастырь на Унже, а Никона велели держать под замком в его келье.
Никон вновь сделался бессрочно затворником и в одиночестве, казалось, тщетно взывал о мщении, но вскоре оказалось, что его пророчество, сказанное Стрешневу, осуществилось.
XL Карлик Лучко
Прискакав в Гадяч, Лучко никому не сказал о смерти гетмана Брюховецкого, а распорядился послать несколько подстав по четверке до самого Переяславля и после того отправился к Огаревым.
Он рассказал им под секретом об ужасной смерти гетмана и объявил, что послал подставы до Переяславля, а они должны собраться в путь, чтобы в ту же ночь выехать и им.
— Как это! — воскликнул Огарев.
— А так, — ответил Лучко. — Я выеду в легкой повозочке в Гадяч, а вы приходите туда. Мы и уедем.
— Да нас возьмут и задержат в первом же селе или местечке, — сказала Огарева.
— Не задержат. Охранные листы я забрал из шатра гетмана и вписал в них: что ты, боярин, с женою отправляетесь послами в Переяславль, чтобы москали сдались; а в сопровождение к вам он и меня отпустил. Лошади — гетманские, да и я его служка, — меня по дороге знают все, — и как мы доберемся до Переяславля, так там и концы в воду.
Огаревы расцеловали его и стали готовиться незаметно в путь, укладывая лишь немного белья и платья в сумку.
Вечером они вышли будто бы прогуляться и направились к заставе. Там даже не было сторожа: Лучко распорядился так, чтобы всех разослать под разными предлогами.
Ночь была темная, и беглецы пошли по дороге, но вскоре они набрели на повозку.
Лучко забрал их к себе, и кони пошли крупною рысью.
На каждых тридцати верстах они находили подставы, и днем езда их сделалась быстрее, так что они прибыли в Переяславль без остановок.
Экипаж этот, лошадь и Лучко были известны по дороге, и поэтому повсюду народ им кланялся, не спрашивая, куда и зачем они едут.
У ворот Переяславской крепости их остановили, но Огарев слез и потребовал стрелецкого сотского. Сотский его узнал и тотчас впустил в крепость.
Григорий Григорьевич Ромодановский находился в это время сам в Переяславле, и к нему направился Огарев.
Ромодановский не был из искусных воевод, но это был честный и храбрый солдат и, несмотря на суровую наружность, имел доброе сердце.
Он обрадовался, увидев Огарева и жену его в живых, и просил их зайти в хату, которую занимал.
Огаревы передали ему о трагической кончине гетмана Брюховецкого и о том, как много они выстрадали и как теперь спаслись.
Выслушав их, Ромодановский тотчас велел оповестить войско о смерти Брюховецкого и сделал, согласно с этим, и другие распоряжения.
Исполнив долг службы, он возвратился и спросил Огарева, желает ли он оставаться при нем и продолжать службу, или хочет ехать в Москву на отдых.
— Не искалечен же я, — ответил Огарев, — чтобы не продолжать службы царю, а жену, бью челом, отправить со стрелецкою охраною до нашей Украины… Да, кстати, ее проводит даже Лучко.
Ромодановский согласился и был так любезен, что дал боярыне свой рыдван, с которым она на другой же день уехала в Москву с Лучком.
Приезд Огаревой произвел здесь сильное впечатление: на боярыню глядел терем как на великомученицу, а подвиг карлика Лучко наделал сильный шум.
В те времена карлики не считались мужчинами, и двери теремов были для них открыты; поэтому боярыни и боярышни полюбопытствовали поглядеть на это диво.
Огарева упросила Лучко показываться с нею повсюду, и он сделался предметом какого-то обожания: его до крайности малый рост, его стройность, его маленькое личико и белые ручки приводили весь женский пол в восторг. Забывали, что он двадцатипятилетний мужчина, обнимали его и боярыни и боярышни.
Дошло о нем и в царский терем. Больная в то время царица Марья Ильинична, ее дети и сестры царя — все пожелали его видеть, и Огарева повезла его в царские палаты.
Когда весть о его приезде облетела дворец, в терем тотчас явился царевич Алексей Алексеевич, и когда увидел его, так сначала залюбовался на него, а потом бросился к нему и начал его обнимать и целовать.
И было действительно чем полюбоваться: его белое лицо и темно-карие добрые глаза, белые зубы, темно-каштановые шелковистые волосы были в те времена признаком высокой красоты; а одежда его придавала ему еще больше блеска: на нем был черный бархатный казакин, шитый серебром, припоясанный золотым кушаком, с драгоценною пряжкою, — подарок покойного гетмана, а на ногах стучали у него красные польские сапожки с серебряными шпорами.
Лучко оторопел сразу, когда царевич выказал ему столько нежности, но оправился и поцеловал его руку.
Царевич, овладев им, потащил его в свое отделение, чтобы показать все свои диковинки: и попугая, и ученого грача, и дорогое оружие.
Но вот пришли за Лучком, чтобы он ехал с боярыней домой.
Алексей Алексеевич заплакал и объявил, что не расстанется с ним.
Сначала дядька, а потом мать уговаривали его отпустить домой карлика, но царевич заливался слезами.
Лучко объявил тогда с важностью, «что он готов остаться, если на это соизволит боярыня Огарева и государь, но с тем, чтобы ему разрешено было беспрепятственно навещать боярыню, так как ему поручил Огарев заботу о ней».
Огарева, само собою разумеется, согласилась, а когда дядька доложил о нем царю, тот велел привести к себе и царевича, и Лучко.
Поглядев на Лучко, царь сказал:
— Знаешь что, все мои карлы, а их перебывало немало у меня: Ивашка, Федотов, Тимошка, Петр Семенов, Карп Редкий, Дмитрий Верховецкий, Петр Бисерев, — все они были великаны против тебя…
— Да и мой покойный Зуев, — воскликнул царевич, — тоже был против него велик.
— А тебя как чествуют, молодец? — обратился к Лучко государь.
— Покойный гетман Брюховецкий назвал меня Лучком, в память своего покойного братца, а меня зовут Никитою Гавриловым Комаром… Пожалован я, великий государь, тобою, когда приезжал сюда с Брюховецким, в боярские дети.
— Теперь я жалую тебя в стольники. Пожаловал бы тебе шубу с плеч моих, да таких, как ты, целый десяток упрячешь сюда, — улыбнулся царь. — Ну, доподлинно, ты не Комар, а Комарик. Будь при царевиче, служи ему верно, а за мною служба твоя не пропадет.
Он подал ему руку, тот ее поцеловал.
Припрыгивая на одной ножке, царевич ухватил Лучко за руку и повлек к себе.
— Ну, стольник Комар, — прыгал и хлопал в ладоши царевич, — будешь ты у меня не стольник, а собинный друг, но…
Он нагнулся к нему на ухо и шепнул:
— Но не заточу тебя в Ферапонтов, как Никона…
Он подбежал к клетке попугая и крикнул:
— Никон! Никон!
Погодя несколько минут попугай закричал:
— Никон святейший патриарх всея Великие, Малые и Белые Руси…
— Где Никон? — продолжал царевич.
— Бояре заели, — крикнул грач, показавшись из-под дивана и хлопая крылышками.
— А!.. И ты показался? Гляди, галочка, люби моего пестуна Лучко… да сапоги его не порти, — расхохотался царевич.
Таким образом, Никита Комар устроился у царевича и получил важные обязанности: ухаживать за попугаем и грачом.
Жилось ему весело с царевичем: повсюду он выходил и выезжал с ним. Но вскоре их постигло большое горе: царица стала таять и гаснуть и, наконец, умерла.
Царевич сильно затосковал по матери, но слишком часто посещался им терем под предлогом посещения ее опочивальни.
Комар заподозрил неладное и вскоре убедился, что он прав: терем вредно на него действовал.
Честная душа Комара возмутилась, и он решил объясниться с царем. Не менее часа говорил он Алексею Михайловичу, что нужно вырвать царевича из теремного омута, а потому предлагал на лето вывезти его в Коломенское село, а терем, по его мнению, следовало расселить по другим загородным дворцам.
Откровенность и честность Комара вызвали большое расположение царя к карлику, и он предоставил ему действовать по своему усмотрению.
Когда настала весна, царь под предлогом готовящейся перестройки дворца, переселил терем в разные пригородные царские дворцы, а Комар с царем и царевичем выехали в Коломенское село.
Чтобы рассеять царевича, предпринимались путешествия на поклонение по монастырям, охоты соколиные и разные потехи звериные, которые устраивались в селах Покровском, Хорошеве и Танинском.
Но здоровье царевича не поправлялось: он хилел и хилел, а однажды утром, проснувшись и желая встать с кровати, почувствовал, что ноги отказываются ему служить.
С каждым днем эти припадки усиливались, и лицо его приняло какое-то лихорадочное выражение, а щеки как будто потемнели.
Зачастую царевич был не в силах даже и по комнате пройтись. Тогда Комар придвигал к окну мягкий диванчик и, садясь к нему, занимал его рассказами о походах Брюховецкого и о других казачьих войнах, набегах и борьбе казачьей с поляками и турками.
Алексей Алексеевич заслушался его рассказов и полюбил Малороссию; но вместе с тем привязался так к Комару, что не отпускал его ни на шаг.
Прошло так несколько томительных месяцев, и царевич сделался тенью: глаза впали, худоба у него была поразительна — в полном смысле кости да кожа.
Ночью однажды проснулся царевич и крикнул:
— Комар!..
Проснулся Комар и бросился к нему.
— Комар, обними меня… Мне страшно… Разве не видишь?.. Там в углу мама… да такая, как положили ее в гроб…
Царевич, успокойся, там никого нет… В углу горит лампадка, да образ Божьей Матери…
— Говорю, мама… Ты, сказывал, лампадка горит… ничего не вижу… как здесь темно… я и тебя не вижу… Как душно… открой окно… мне давит в груди… в горле… язык…
Царевич умолк, и голова его повисла на груди Комара: он тяжело дышал… Но вот раздался какой-то хрип в его груди, царевич конвульсивно сжал руки Комара, вытянулся — и его не стало.
Как безумный выбежал Комар из комнаты царевича и звал на помощь людей. Съезжались придворные, врачи, сам царь, но царевич лежал мертвый, с улыбкою на лице.
На другой день погребальная процессия потянулась в Новоспасский монастырь, усыпальницу дома Романовых, при печальном перезвоне всех московских сорока сороков. Вся Москва провожала усопшего, и за гробом шел сам царь, оплакивая горько нежно любимого им сына.
Комар убивался больше всех, и когда хотели зарыть могилу царевича, его насилу оторвали от гроба.
Когда пристав Никона, князь Шайсупов, объявил ему о смерти царевича Алексея, тот сильно опечалился и упал духом: как будто с его смертию рушились и все его надежды, причем он неосторожно сказал:
— Пророчество мое Родиону Стрешневу осуществляется: судьбы Провидения неисповедимы…
XLI Стенька Разин
В воеводинском доме в Астрахани сидят в столовой два боярина и, обедая, ведут беседу. Оба сильно озабочены. Оба средних лет, но загорелые их лица и руки доказывают, что они закалены давно в бою.
Один из них брюнет, с карими прекрасными глазами — князь Прозоровский, первый воевода астраханский; собеседник его, с такими же волосами и бородою и с темно-синими глазами — товарищ его, Семен Иванович Львов, брат родной погибшего под Конотопом жениха царевны.
— Приехали ко мне купцы персидские, — рассказывал Прозоровский, — и баяли: Стенька-то Разин со своими голутвенными натворил бед персидскому шаху… Погулял он и разорил все от Дербента до Баку, а в Реште предложил службу шаху и бил челом: дать-де ему земли для поселения… Переговоры затянулись, а казаки не в зачет воровали. Взбеленились жители Решта, напали на него врасплох и убили четыреста казаков. Стенька отплыл от города, потом вновь вернулся будто бы для покупки товаров и просил пустить его лишь на шесть дней. Его пустили, и он с товарищами делал пять дней закупки, и все свозил на свои суда. Рештцы, видя их миролюбие, забыли о предосторожности, а Стенька на шестой день поправил на голове своей шапку. По этому знаку казаки бросились на купцов: кого убивали, кого побрали в плен, много товаров награбили и на своих судах двинулись к Свиному острову, где устроили себе зимовлю. Отсюда разменивал он с персами пленных… Весною нынешнего года Разин перекинулся на восточные берега моря и погромил трухменские улусы, но здесь же убили его удалого товарища Сережку Кривого. Шах, проведав это, послал на него Менедыхана, своего сродственника, и тот отплыл к Свиному острову с четырехтысячною ратью… Стенька напал на него и потопил все суда, и спасся хан лишь с тремя судами, зато полонил Стенька дочь и сына хана… Теперь идет он к нам.
Пущай пожалует, мы и угостим его на славу, как дорогого гостя, — улыбнулся князь Львов.
— Упаси Боже! — воскликнул воевода. — Получил я указ царский от боярина Нащокина: коли-де дадут повинную, так и простить и отпустить на Дон. Теперь-де и так смута в народе: боярские люди мутят, да и Васька Ус где-то шляется по селам да по лесам.
— Как великому государю угодно, а я бы того Стеньку, да на виселицу на первую осину: еще до похода его на шаха он по пути, в Черном Яру, ограбил, прибил да посек плетьми встретившегося воеводу Беклемишева. В Яицком городке обманом вошел он в город, велел вырыть большую яму, поставил у ямы стрельца Чикмача и велел ему вершить[124] своих же: первого вершили стрелецкого голову Яцыну, а за ним сто семьдесят человек… Остальных он отпустил в Астрахань, а там нагнал и порубил их; а из твоих, княже Иван Семенович, одного отправил он в Саратов, а другого убил и бросил в воду. Кажись, воровства много, чтобы его повесить.
— Твоя-то правда, да уж такой указ: коли принесет повинную, так послать от них в Москву послов. Так и делай, княже.
Второй воевода покачал только головой и вздохнул. В это время к воеводам явился митрополичий боярский сын.
— А что? — спросил Прозоровский.
— Ехал я из моря, — произнес он впопыхах, — из моря на учуге, ловил рыбу. На меня напал Стенька Разин, пограбил рыбу, а меня отпустил, наказав: в море-де не езди…
Не успел он это сообщить, как явился персидский купец и объявил, что он ехал от шаха с дарами великому государю, но на него напал Стенька, пограбил все из судна и даже сына его забрал в плен и требует выкупа.
Прозоровский увидел, что дело становится серьезным, и тут же велел князю Львову выступить против Стеньки на тридцати шести стругах, взяв с собою четыре тысячи ратников.
Увидев такую грозную и внушительную силу, Стенька Разин весь свой флот обратил в бегство.
Князь Львов преследовал его более двадцати верст, потом остановился и послал к Стеньке послов, что если он повинится, так он являет ему царское прощение.
Стенька поплыл обратно и от войска своего послал двух выборных к князю.
Тот принял от них, от имени войска, присягу и повез их с собою; Стенька поплыл за ним со своею флотилиею.
25 августа князь Прозоровский и князь Львов с духовенством собрались в приказной избе, в ожидании Стеньки Разина.
Вся площадь перед избою занята была войском, пушками и народом.
К двенадцати часам дня съехал на берег Стенька с казаками, с пленными персиянами.
Разин шел впереди всех с бунчуком, а один из голов казачьих нес войсковое знамя. Войдя в избу и перекрестившись иконам, Разин положил бунчук и знамя к ногам и бил челом:
— Великий государь да отпустит нас, холопов своих, на Дон, а теперь бы шестерых выборных из них отправить в Москву бить великому государю за вины свои головами своими.
Оставили воеводы Стеньку и казаков его в Астрахани на свободе, а шесть выборных с донцами отослали в Москву.
Закутили и загуляли здесь голутвенные люди: Стенька, роскошно, ярко одетый, звенит не только оружием, но и деньгами.
Казаки расхаживали по городу в шелковых бархатных кафтанах, на шапках жемчуг, дорогие камни. Завели они здесь торговлю с жителями, отдавали добычу нипочем: фунт шелка продавали за 18 денег.
А о батюшке своем, Степане Тимофеевиче, распускают они молву, что он прямой батька: со всеми ласков, добр и ни в чем отказа нет… И кланялись они ему в землю, и становились на колени.
— Вот-то молодец, — восклицают астраханцы, — и богатырь какой, точно Илья Муромец.
— Да и казаки его, — говорит другой, — молодцы, — гляди, сколько добра и пенязь навезли, счету им не знают… Погулял годик, да и нажил.
— Каждый казак, что наш голова, — завистливо глядит на богато разодетых казаков стрелец, — а наш брат из-за алтына аль деньги службу служи.
Производит это такое впечатление на народ, что, кажись, за Степаном Тимофеевичем пошел бы весь он и все ищущие разгула, а тогда те места были полны такого люда.
Да и сам князь Прозоровский его честит и в трапезу приглашает, да с собою рядом сажает. Степан же Тимофеевич ждет не дождется возвращения послов из Москвы, чтобы развязаться и с войском своим, да с воеводами.
Наконец возвратились послы и объявили: «По указу царскому казакам вины их выговорены и сказано, что великий государь по своему милосердному рассмотрению пожаловал вместо смерти всем дать им живот и послал их в Астрахань, что они вины свои заслужили»…
Но прощеные и отпущенные из Москвы донцы не дошли до Астрахани. За Пензою, в степи, за рекою Медведицею, они напали на провожавших их стрельцов, отняли лошадей и ускакали на Дон…
Нужно было отпустить по указу царскому Стеньку на Дон.
Тот сдал все свои морские струги, всего 21 штуку; остальные двадцать он взял с собою как речные струга, — взял он их будто бы для защиты своей от крымских и азовских татар, — с обещанием возвратить их по миновании надобности. Забрал он тоже с собою пленных персиян, и воеводы оправдывали себя перед Москвою тем, что они-де боялись, «чтобы казаки вновь шатости к воровству не учинили и не пристали бы к их воровству иные многие люди».
4 сентября 1669 года было большим праздником для князей Прозоровского и Львова: они выпроваживали до Царицына Стеньку.
Разин выезжал туда не как простой атаман шайки разбойников, а как князек независимой страны: речные струги его были нагружены товарами, оружием и пушками, также разными запасами. Один же струг отличался от других роскошною отделкою; весь он был увешан персидскими коврами, а все снасти были из шелка. На струге этом находились только гребцы, рулевой и несколько самых близких к нему людей. Пленные персияне находились на разных других стругах. С ним была дочь Менеды-хана, которую он взял себе в наложницы. Сидела она на бархатных подушках, в драгоценной одежде, и поражала не столько своими драгоценными каменьями и жемчугами, как красотою. Была она повелительницею и Стеньки, и всех казаков: все глядели ей в глаза, чтобы отгадать ее мысль, ее желание. Бросала она на богатыря, красавца Стеньку, любовные взоры и явно гордилась своим счастьем, в особенности при мысли, что, прощенные великим государем, едут они на покой. И мечтает персиянка о том, как она будет счастлива с ним, в особенности пойдут у них дети… и при этой мысли она чувствует, что у ней внутри что-то бьется… у нее показываются слезы умиления…
Но Стенька и казаки на радостях, как только исчезает из глаз Астрахань, начинают есть, пить, петь и плясать.
Попойка и гульба идет несколько часов. Но вот выступает домрачей и начинает играть и петь: все умолкают, а Стенька стоит и вслушивается в песню. Казак поет:
Ах, ты матушка, Волга-реченька, Дорога ты нам пуще прежнего, Одарила ты сиротинушек Дорогой парчой, алым бархатом, Золотой казной, жемчугами, камнями… И в долгу-то мы перед матушкой, И в долгу большом перед родненькой…— Врешь! — кричит Стенька. — Много ты мне, матушка Волга, дала серебра и золота, и всякого добра, наделила честью и славою, так и я отблагодарю… отдам тебе что ни на есть дорогое моему сердцу, и люби ты ее, как я люблю…
Схватил он мощными руками ханскую дочь и, пока его товарищи очнулись, бросил ее в волны Волги…
Красавица сразу захлебнулась и пошла ко дну, а струг, рассекая волны и покачиваясь, поплыл быстро вверх по течению, так как ветер дул сильно в паруса.
Отрезвившись на другой день, Стенька ужаснулся своему поступку, возвратился назад, сам бросался в воду и нырял, но по пословице: что в воду упало, то пропало.
Все прежние его мечты, что он возвратится на Дон, заживет с братом Фролом миролюбиво (о жене своей, казачке, он не думал) и в семейном счастье, сразу разбились. Он сделался мрачен и запил.
По дороге они останавливались у сел и, по тогдашнему выражению, учиняли дурости и воровство.
Медленно шли они и только к Покрову подошли к Царицыну. Приказ был — не впускать казаков в город, но у воеводы Унковского не было столько войска, чтобы воспрепятствовать Стеньке войти с его казаками в город закупить сани, так как наступили морозы.
Впустили казаков. Чтобы удержать их от пьянства, Унковский велел продавать водку по двойной цене; а когда два казака позволили себе грабеж, он задержал у одного пару лошадей с санями и хомутами, у другого — пищаль.
Казаки прибежали к Стеньке, поселившемуся у купца Федьки Сидорова, ходившего с Усом в Ферапонтов монастырь, и принесли ему жалобу на воеводу.
Стенька рассвирепел: велел тотчас, чтобы Федька пошел с ним разыскивать воеводу.
С большою толпою казаков двинулись они к воеводскому двору и стали вламываться в его палаты. Воевода выскочил из окна и спрятался куда-то.
Стенька искал его по всем хоромам, но, не найдя, отправился в церковь, где он осматривал даже алтарь.
В церкви шла обедня, и там молилась в это время купчиха Алена: она стояла на коленях, делала поклоны, не обращая внимания на шум казаков.
— Кто это? — спросил Стенька Федюшку.
— Великая черница — дома расскажу.
Не найдя здесь воеводы, Стенька возвратился домой; Унковский, когда все успокоилось, отправился в приказную избу.
Не успел он войти туда, как явился казачий старшина, запорожец.
Обругал он воеводу и даже потрепал у него бороду; в это же время появился в избе Стенька.
Дело обошлось довольно миролюбиво: воевода заплатил казакам за хомут, сани и лошадей, но при этом Стенька молвил:
— Коли ты станешь впредь нашим казакам налоги чинить, так тебе от меня живу не быть.
После этого Стенька возвратился домой и за обедом выслушал рассказ о великой чернице, о грамоте к нему, Стеньке, от Брюховецкого и как они шли с Усом освободить Никона, да тот отказал.
— Сегодня же, как стемнеет, веди меня к ней, — задумчиво произнес Стенька. — Но что бы она не испугалась, ты, Федька, пойди и скажи, что я буду к ней.
— Пущай придет, — молвила инокиня, когда Федька явился к ней, — только один с тобою, но без молодцев своих.
Вечером Стенька с Федькою Сидоровым прокрадывались к дому инокини, и когда постучали в ворота, им открыл двери Жидовин.
Войдя в избу, Стенька перекрестился иконам и пошел под благословение к хозяйке. На ней была одежда монахини, на голове клобук, а на груди крест, осыпанный драгоценными каменьями, — подарок царевны Татьяны Михайловны.
— Сатане, водяному, а не Богу служишь ты, — крикнула она со сверкающими глазами, отдернув руку, — да, водяному. Слышала, как бросил ты наложницу свою, прекрасную персидскую царевну, в воду водяному… а сегодня, в день святой Богородицы, ворвался ты в алтарь… Да как тебя земля выносит… Не благословение, а проклятие на твою голову… пущай отныне царевна мучит и преследует тебя…
Стой… молчи… виноват… каюсь… грешен… И так царевна ночью выплывает из воды и тянет ко мне свои синие руки.
Стенька упал на колени, прильнул лицом к полу и зарыдал.
— Много нужно для твоего спасения! — еще с большим жаром крикнула инокиня.
— Скажи, что должен делать… Раздам все, что имею… пойду ко гробу Господню… на Иордан… Постригусь… в чернецы пойду…
— Не отмолишь этим грехов, а должен ты положить душу свою за овцы.
— Прикажи…
— Стонет по всему царству, от Урала до Смоленска, от Соловок до Киева, вся русская земля… Боярские люди точно овцы, а бояре, помещики — точно звери лютые: пьют и сосут они кровь христианскую, бьют холопов и батогами, и кнутами, кожу с них сдирают… А земля и душа Богом даны… Коль хочешь искупления, так подыми знамя черной земли, иди освобождать угнетенных и уничтожать притеснителей — и тогда ты положишь душу за овцы.
— Положу я и голову, и душу за них, только прости и благослови, великая черница…
— Клянись! Вот крест, — и она сняла с груди крест.
— Клянусь святым Богом и Богоматерью, — и он поцеловал крест.
— Прощаю и благословляю тебя…
Стенька поднялся и, сильно потрясенный, возвратился домой.
Вскоре Стенька объявил себя против государства: из Москвы в Астрахань ехал сотник с царскими грамотами. Ночью казаки напали на струг, пограбили его, а царские грамоты бросили в воду.
От сотника требовали, чтобы он выдал беглых крестьян, бывших в его отряде. Он отказал.
Узнав об этом, князь Прозоровский послал к нему с тем же требованием.
— Как ты смел прийти ко мне, собака, с такими речами! — крикнул он посланному. — Чтобы я выдал друзей своих?! Скажи воеводе, что я его не боюсь, не боюсь и того, кто повыше его. Я увижусь и рассчитаюсь с воеводою. Он — дурак, трус! Хочет обращаться со мною как с холопом, а я прирожденный вольный человек. Я сильнее его: я расплачусь с этими негодяями…
На другой день он двинулся на Дон, где он уже прежде сделал себе Земляной городок между Кагальниковом и Ведерниковом; перезвал он сюда из Черкасска брата Фрола и жену свою.
Стал сзывать он к себе людей, и в ноябре при нем уж находилось около трех тысяч человек.
Весною 1670 года он явился в Черкасск и почти овладел им: никто ничего не мог с ним поделать; отсюда он двинулся в город Паншин, куда привел ему голутвенных Васька Ус.
Собралось около батюшки Степана Тимофеевича около семи тысяч, и он объявил: идти вверх по Волге под государевы города, выводить воевод и идти в Москву против бояр.
Вскоре загорелся мятеж по всему востоку Руки и слышались в пожарищах, в дыму, пламени и кроволитии имена Никона и царевича Алексея.
Но на побоище слышалось не одно лишь имя Стеньки, было еще несколько других, из которых не менее гремели имена: Харитонова, Федьки Сидорова и Алены, еретички-старицы.
Шли даже слухи, что Никон с царевичем да с батюшкою Степаном Тимофеевичем идут освобождать крестьян и наказать воевод и бояр.
Хотел Стенька положить голову свою за овцы, но образ несчастной персиянки не оставлял его, и он, отвергнув брак, венчал казаков, обводя их с невестами вокруг дерева, причем пелись только свадебные песни.
Коли я, да атаман, совершил такой грех, — думал он, — так пущай мы все грешны.
Когда же боярство узнало, что в лагере Стеньки произносится имя Никона, они передали об этом царю, и Никона еще крепче стали запирать в келью и разобщили со всем светом.
XLII Наталья Кирилловна Нарышкина
После смерти царицы Марьи Ильиничны хозяйкою царского терема сделалась царевна Татьяна Михайловна.
Царские дочери имели в это время следующий возраст: Евдокия — двадцати двух, Марфа — шестнадцати, София — двенадцати, Екатерина — десяти, Мария — девяти, Феодосия — шести лет.
Старшие дочери усопшей и сама царевна Татьяна были против нового брака царя, вот почему на новый год, т. е. 1 сентября 1669 года, она имела следующий разговор с Анной Петровной Хитрово, мамкою нового наследника престола Федора.
— Слышала ты новость, — говорила раздраженно царевна, — братец затеял женитьбу. Смотрины назначил к февралю… племянницы мои ревмя плачут: дескать, не хотим мачехи. Покойная матушка говаривала: коль будет мачеха, добра не ждать.
— Да ведь царь-то не Бог знает как стар, — молвила уклончиво Хитрово, — ему и сорока нетути… а кровь так и брызжет из щек…
— Оно-то так, да не к слову, уж оченно он разжирел, — вздохнула царевна. — Люблю-то и я его без души, да чего боюсь: кабы к нему не влез тестик облыжный. Братец мой покладист; ну, и учнет всем ворочать, да и сживет всех наших родственников со свету, а мачеха загрызет и племянников, и нас с тобою, Анна Петровна.
Была это святая правда, но Анна Петровна смолчала и только произнесла, крестясь набожно:
— С нами силы небесные.
Помолчав немного, Татьяна Михайловна взяла ее за руку и сказала:
— Ты, Анна Петровна, теперь наша мать, и на душе твоей будет грех, коли нам не поможешь. Коли будут смотрины, ты учини так, чтобы царю ни одна не была годна…
— Учинить-то учиним, да и у тебя, царевна, все в руках: хозяйка ты теперь в тереме, а царь души в тебе не чает.
— Боюсь я, что тут не послушается… Гляди, все боярство поднялось и пришлют они видимо-невидимо невест.
Этим окончился их разговор, но обе приняли тайное намерение постараться во чтобы то ни стало, если не расстроить свадьбы, то, по крайней мере, отложить ее на неопределенное время.
Татьяна Михайловна, однако же, отгадала: с Покрова до февраля явилось в Москву на смотрины восемьдесят невест. В Золотой Царицыной палате их осматривали и все они не попали наверх.
Ликовал и торжествовал терем, и считал уж победу за собою, как совсем нежданно Матвеев привез из своего дома воспитанницу свою, Наталью Кирилловну Нарышкину, с указом великого государя: без смотрины-де взять ее наверх, т. е. как кандидатку на невесты.
Наталья Кирилловна произвела сильное впечатление на терем: стройная, как тополь, с выразительными умными глазами, с темно-каштановыми волосами, с прекрасными зубами и немного смуглым лицом, ненабеленная и ненарумяненная, в возрасте уже возмужалая, т. е. за двадцать лет, она была необыкновенно эффектна.
Сделайся она в обыкновенном порядке, по избранию терема, царскою невестою, она стала бы его идолом, а тут, никем незнаемая, худородная, да еще воспитанница худородного Матвеева, она встречена наверху верховыми боярынями и всем теремом хотя вежливо, но сухо.
— Вот-то напасти, — кипятилась царевна Татьяна Михайловна, зазвав в тот же день к себе Хитрово, — с этой-то стороны и не ожидала я. Спрашивала братца, а тот говорит: «Знаю я еще из-под Смоленска Наташу… На руках ее носил в лагере… Потом из виду упустил. А теперь захворал Артамон Матвеевич, и я его посетил… Гляжу, а за ним ухаживает девица в покрывале. — «Кто она?» — спрашиваю я; а он в ответ: «Помнишь, великий государь, девчурку Наташу в смоленском лагере, — вишь, какая выросла». — «Ну, — говорю, — хочу я чествовать ее…» Ушла Наташа, принесла серебряные чарки да заморского вина, ну и чествовал я ее: в ноги поклонился да облобызались… Как подняла она покров, так сердце мое забилось и выскочить хотело, а в ушах точно кто шепчет: это твоя судьба, сам Бог ее послал».
— Коли судьба, так Бог благословит, — молвила Анна Петровна.
— Ах, Анна Петровна, покладиста ты стала; а по-моему, коли восемьдесят невест спустили, да почище смолянки, так и ее сплавить-то надоть.
— Коли твоя воля, царевна… но как-то и сплавить?
— А вот ты сходи в Вознесенский монастырь да скажи — по моему указу, да пускай-де старица Егакова привезет ко мне сиротку Авдотью Ивановну Беляеву, да поскорей.
— Слушаюсь, царевна, сейчас же туда.
— Да зайди к царю и проси, пущай-де после трапезы ко мне пожалует.
— Беспременно зайду. Твоя воля.
После обеда Татьяна Михайловна сидела в своей приемной на диване, а против нее стояла Беляева. Как воспитанница монастыря, она была в одежде белицы.
Царевна расспрашивала ее о родителях, родственниках и чему училась.
В это время вошел государь и с минуту постоял в недоумении: перед ним находилось какое-то неземное существо… Никогда еще в жизни своей он не видел такой красавицы: темно-синие глаза, коралловые губки, свежее и вместе с тем необыкновенной белизны лицо, хотя и серьезное, но доброе и ангельское; к этому присовокупите стройность и формы вполне здоровой и крепкой натуры.
Белица зарумянилась и опустила покрывало.
— Ты, сестрица, звала меня? — произнес смущенно государь.
Царевна сделала знак, чтобы белица удалилась. Сделав низкий поклон царю, она вышла.
— Кто это? — спросил царь.
Татьяна Михайловна объяснила ему, кто она, ее родители и родственники.
— Призвала я ее в терем, — закончила царица, — чтобы оставить ее наверху, как одну из невест тебе.
Алексей Михайлович еще более смутился.
— Благодарю тебя, сестрица, — сказал он, — но я решился… Зачем набирать…
— Свершить надоть обычай, — сухо возразила царевна. — Скажут, женили-де царя зря. Притом воля твоя: отослать можно.
Одно лишь скажу: коль ты ее не захочешь, так отдаришь потом парчою, а суженой дашь ширинку да кольцо.
— Зачем отсылать теперь. Пущай остается… а там как Бог благословит…
Он вышел.
Зажили наверху, в тереме, у царевен обе невесты, и те устраивали, чтобы царь мог видеть то ту, то другую.
Но Беляева не хотела показываться без покрова, а Наташа напротив: привыкнув в Смоленске, где она жила со своей семьей, быть без покрывала, охотно показывала царю свое лицо.
Нащокин в это время тоже не дремал: не хотелось ему, чтобы царь женился на девице, покровительствуемой Матвеевым, и вот появился на Постельном царском крыльце пасквиль, прибитый к дверям.
Постельное крыльцо ежедневно посещалось и дворянами, и жильцами, и даже боярами, и окольничими, и иным людом, являвшимся за новостями и сплетнями.
Неудивительно, что пасквиль был всеми прочтен, но его сорвали и доставили к царю.
Гнев царя не имел меры и границы: приказал он доподлинно разыскать, кто виновник безобразия, и, по обыкновению, многие были схвачены и пытаны, а истинных виновников не раскрыли.
Вспомнил при этом государь, как расстроили счастье его с Евфимиею Всеволожскою и как впоследствии раскрылось, что мнимая ее болезнь произошла от тесной куроны, — и он еще пуще злобился и волновался.
— Коли так, — говорил он, — учиню я иное… Теперь уже вся Москва говорит о Наташе Бог знает что… Мы и погодим. Пущай она поживет здесь год, так и Москва тогда умолкнет.
С этими мыслями он отправился к царевне Татьяне Михайловне: ему хотелось знать ее мысли.
Сестра его ходила тоже возмущенная по своей комнате. Когда государь вошел к ней, она после первых приветствий воскликнула:
— Такой мерзости я не ожидала. По правде, не по сердцу мне твоя Наташа… но такой гадости я не ждала, — опозорили девицу перед целым миром… Хотели учинить ей что ни на есть злое, так пущай сказали б, болезнь в ней какая ни на есть, аль зла, аль глупа, а то — что они выдумали, злодеи… Да ведь здесь умысел: опозорить-де ее так, что царь сам не женится.
— Это-то правда… Что-де и бояре и патриарх скажут? Коли у попа жена, да опозорена, так, по-ихнему, и поп не поп, и его отлучают от священства аль от службы.
— Глупости одни, вот что скажу я тебе, братец… Коли поклеп, так и не пристанет… Коли чиста твоя Наташа, так по мне — женись: снимется и поклеп, коли сделается царицею.
— Да баяла ты, что она тебе не по сердцу.
— Не мне же жить с ней, а тебе; а коли сделается царицею, и я любить стану.
— Так что ж, по-твоему, — улыбнулся царь, — по рукам, что ли?
— Нет, братец. Уж ты погоди годик, так замажешь всем рты… А там… понимаешь, коли благополучно… так я и сама сведу ее в баню. А в год приглядись и к Наташе, и к Авдотьюшке.
— Молодец ты у меня, — обнял и поцеловал ее царь.
Проходил почти год, Алексей Михайлович был в сильных хлопотах весь 1670 год: он перестраивал все загородные дворцы: в Коломенском сооружал новые хоромы, изящные по архитектуре и русскому стилю, а внутри отделывал их разною работою и позолотою; Преображенское и другие села тоже отделывались и повсюду иностранцы устраивали сады, парки, цветники.
Делал царь много движения, чтобы немного спустить, как он говаривал, жиру, а потому особенно усердно занялся псовою охотою.
Политические цела были тоже благоприятны: малороссы резались меж собою, и русские вследствие этого вновь укрепились в восточной ее части, сделав им уступки, т. е. уничтожив там воеводские и боярские начала. Это же дало возможность царю отделить часть войска для усмирения мятежа Стеньки Разина.
Казна поэтому стала вновь обогащаться сборами с Малороссии, да и царь вновь почувствовал себя на твердой почве, хотя мятеж Стеньки не был еще подавлен.
Прошел год со времени пасквиля, прибитого на Постельном крыльце, и ничего не оказалось.
В этот же год Алексей Михайлович успел наглядеться на Наташу, а от Беляевой не мог добиться, чтобы сняла покрывало.
Обе ему нравились, и его взяло раздумье: кого выбрать? Обе хороши, молоды, здоровы.
Примет он решение о Наташе, жаль ему становится Авдотьюшки, и обратно. При прежних же отношениях мужчин к женщинам обычай не допускал сближения полов посредством разговоров, а потому об уме и сердце их и помину не могло быть; а чужая душа — потемки, да чтоб узнать человека — не один пуд соли нужно съесть с ним.
Раздумывает так часто государь и не знает, как ему принять окончательное решение; а тут нужно же решиться: назначен уж день, когда царю должны в Золотой Царицыной палате представить невест для вручения им избранной ширинки и кольца, после чего он избранницу взведет на царицын трон и наречет ее царицею.
Спрашивал он как-то царевну Татьяну Михайловну, а та махнула рукою и молвила:
— Выбирай по сердцу, а я коль скажу, так потом пенять будешь. Мне что? Лишь бы ты счастлив был да любил жену.
Ушел он к себе: а нельзя не решиться, завтра нужно кончить дело…
В то время, как он в таком раздумье расхаживает по своим хоромам, к нему входит Лучко.
— Что, Комарик, скажешь?
— Да вот, великий государь, моя челобитня: пожаловал бы де меня, великий государь, да дозволил бы жениться на стольнице царевны Татьяны Михайловны, Меланье. Она тоже небольшая.
— Как? Тебе, Комарику, да жениться?..
— Уж дозволь, великий государь. И мои Комаришки служить будут и твоему царскому величеству, да и деткам твоим. Полюбились мы с Меланьюшкою и жить-то не можем друг без дружки. Умница она, а сердце — душа, не человек: говорит, как по-писанному.
— Счастлив ты, Комаришка, что с невестою-то побалагурить можешь да узнать и сердце ее, и разум. Вот нам так и невозможно: таков обычай… А с моими-то невестами говаривал ты?
— Как не говорить: по целым часам, аль я рассказывал, аль — они.
— Кто же из них добрее, сердечней, да умней?
— Доброта-то у Авдотьюшки необычайная, а у Наташи — палата ума… бойкая…
— Кто же тебе больше нравится?..
— Прости, великий государь, а я-то тряпок не люблю… хоша б и Авдотьюшка; плачет, коль воробышек из гнездышка упадет. Точно, сердце у нее доброе… да разумом-то слабенька, ведь сотни-то ей не счесть и не сообразить. Иной раз толкуешь ей о разных порядках целый час, а она ни в зуб, и колом-то не втешешь ей. Ино дело Наташа: смекалка необычная. Намекнешь ли, она не токмо лишь поймет, но и дальше метнет. Коли по красоте, так далеко ей до Авдотьюшки, — та точно ангел небесный. Зато сколько разума в глазах, да и во всем лице Наташи: вся-то ее душа и ум в нем. Как же, великий государь, соизволишь ты пожаловать меня да разрешишь жениться?
— Можешь, и пущай свадьбу справят здесь. А тебе, за честное слово твое, спасибо.
Ушел Лучко, а царь пошел в свою крестную и горячо молился.
На другой день в Золотой палате собрались все боярыни, родственницы и придворные.
Царь сидел в особенно приготовленном ему кресле, и было только две невесты. На столе, сбоку кресла, лежал кусок парчи, ширинка и на ней кольцо.
Ввели обеих невест: Беляева, в белом блестящем наряде невесты, была еще более ослепительно прекрасна, а Нарышкина много потеряла: лицо ее не подходило к этому костюму.
Боярыни все ахнули, взглянув на Беляеву, и стали вперед шептаться: куда-де устоять Нарышкиной.
Первую подзывают к царю Беляеву.
Величественно она подходит к нему и становится на колени. Красота ее сильно его поражает. Он колеблется, медлит и жадно на нее глядит.
Сердца все замирают и следят за рукою царя.
Он подымается и, взяв ширинку, с минуту стоит в нерешимости. Но вот он кладет ее назад — и парча очутилась в руках Беляевой. Ошеломленная, та целует его руку, встает и отправляется на свое место.
Наталье Кирилловне становится дурно: она не ожидала сделаться победительницей. Такой красавицей показалась ей Беляева, что она сама дала ей первенство.
Шатаясь, подходит к царю Наташа и становится на колени.
Царь подает ей ширинку и кольцо.
Она целует его руку и истерично начинает рыдать.
— Успокойся, Наташа, — произносит Алексей Михайлович взволнованным голосом и, взяв ее за руку, подымает с колен и ведет на престол царицы. — Отныне, — произносит он громко, — ты нарекаешься царицею Натальею Кирилловною, а перед мясопустом Господь Бог соединит нас перед алтарем.
Меж боярами раздался шепот и ропот:
— Околдовали царя… Дали ему приворотный камень…
— Покрывало сбрасывала, — шипела одна.
22 февраля 1671 года царь Алексей отпраздновал торжественно свою свадьбу, и в день свадьбы Матвеев и отец Наташи возведены в бояре.
Нащокин вскоре получил отставку, и место его занято Матвеевым.
Не вынес такой обиды гордый и надменный Нащокин и несколько лет спустя поступил в монастырь.
Зато день свадьбы был радостен для Лучка. Женившись За год перед тем, он в этот день праздновал рождение сына Ивашки. Меланья родила ему такого же крошку, как и он сам, и он, прыгая на одной ноге, пел:
— Ивашка Комарик! Ивашенька, душечка! Ивашка, родненький!.. Ну, уж Меланьюшка, скажет тебе спасибо царь…
— Отчего же царь? — недоумевала Меланья.
— Да ведь это хлопчичек царский, не наш…
И Лучко прыгал, вертелся, целовал родильницу и дитя.
XLIII Облегчение участи Никона
Год женитьбы был радостен и счастлив для царя Алексея Михайловича: восточная Малороссия окончательно умиротворилась, а западная, приняв подданство султана, дала ему возможность не возвращать Киева Польше и даже надеяться на присоединение к себе и этой части.
Мятеж же Разина тоже утихал, по милости побед царских войск.
В декабре князь Юрий Долгорукий теснил Темников. 4 декабря, за 2 версты от города, встретили его темниковцы и обещались ему выдать попа Савву и восемнадцать человек воровских крестьян, да и сподвижницу Федьки Сидорова, Алену, вора-еретика-старицу. Приказал Юрий Долгорукий изготовить виселицу и сруб и повесить велел до света попа и крестьян, а в срубе сжечь Алену…
Схватили Алену и повлекли в земскую избу и поставили сильный караул.
Мама Натя начала готовиться к смерти. Радостно ей было, что она умирает за Никона и за крестьянство, т. е. за его идею. Молилась она горячо… горячо… и представилось ей все ее прошедшее: и счастливая ее жизнь в Нижнем, и Хлопова, и дети ее… потом промелькнул величественный образ Богдана Хмельницкого, — тоже сражавшегося за крестьянство… представился образ Стеньки, — и она невольно вздрогнула, вспомнив смерть персидской царевны… Но не жалела она о жизни: после низложения Никона она перестала верить в правду на земле, и омерзительны сделались в глазах ее все власть имущие.
— Да и чего-то мне, старухе, жалеть о жизни? Вот Савва, тот молодой, да и молодую жену имеет, и того завтра на виселицу… Да говорят, собирается он на смерть как на пир. Сказывают: князь Долгорукий говорил-де ему: «Повинись, и жизнь дарую», а тот: «Каются грешники, а я душу кладу за овцы».
Так думает она, но сердце ее вдруг замирает… дверь избы отворяется… Это пришли за нею… схватывают ее мощные руки… влекут ее из избы, а на ее место бросают что-то тяжелое… Ночь темна… ее садят в сани, и лошади мчатся…
На другой день, до рассвета, собирается за городом народ, войска, привозят попа Савву и крестьян и казнят их, а сруб сжигают с Аленою.
Крестясь и молясь, расходится народ. Об этом доносится в Москву, и там у бояр радость неописанная: попа-де повесили, а колдунью-де сожгли.
Наконец получена весть о полонении донскими казаками самого Стеньки и о том, что он уж на пути в Москву.
6 июня 1671 года в Москве было зрелище, невиданное ею со времени казни боярина Шеина: готовилось исполнение приговора о четвертовании Стеньки Разина.
Царь и двор отсутствовали: они находились в загородных дворцах.
С самого раннего утра Лобное место было уже занято народом и войсками; а в девять часов показалась повозка, на которой сидел преступник и заплечный мастер. Стенька был спокоен и кланялся по обе стороны с такою важностью, как будто это было торжественное шествие для его прославления: он шел положить голову за овцы.
Народ был безмолвен и мрачен.
Когда взвели преступника на помост, он поцеловал крест, который подал ему священник, и поклонился во все четыре стороны. Он хотел говорить, но барабаны ударили и заглушили его голос.
Стенька снова поклонился народу, подошел к плахе и положил на нее правую руку — палач ее отсек. Без всяких криков Стенька положил на то же место другую руку — ее тоже отсекли. Потом его схватили, отсекли ему ноги, а там уж положили на плаху и отрубили голову.
Затем, когда палач схватил голову за волосы, показал народу и дал ей оплеуху, громкий крик негодования и угрозы народа были ему ответом.
Гроб, в который положено было тело, провожала до кладбища огромная масса народа, а палача осаждали, чтобы он продал части одежды казненного. Самое дерево, на котором казнен Стенька, кусочками разобрано, как какая-нибудь святыня.
Зато государство успокоилось: крестьянский мятеж потушен, и бояре получили возможность окончательно закрепостить народ. Стенька Разин, однако же, дал им урок: они сделались со своими холопами человечнее.
Алексей же Михайлович с прекращением смуты совершенно изменился: он повеселел, и подвижная и игривая Наталья Кирилловна вместе с Матвеевым начали, занимать царя светским пением, музыкою и готовили комедийные действия.
Матвеев из своей дворни образовал целый оркестр трубачей, накрачей, сурначей, литаврщиков и набатчиков и увеселял царя, а органисты играли на органах разные народные песни.
В селе же Преображенском строились комедийные хоромы, т. е. театр, где должна была быть поставлена 17 февраля 1672 года драма «Есфирь» под руководством режиссера Яна Готфрида Грегора.
Жилось, таким образом, весело при дворе.
Что же делал в это время святейший старец?..
Более трех лет сидел он в полном заточении. Маленькая келья его, в одно окошечко, через которое едва-едва проникал свет, не давала ему возможности ни пройтись, ни достаточно иметь воздуха. Летом в этом застенке было душно и жарко, а зимою из трещин печки выходило столько дыму, что нередко Никон задыхался.
Единственное движение, какое ему разрешалось делать, это ходить в трапезную, где он ел из общего котла со всеми служителями монастыря. Сделался у него скорбут и цинга, да десны опухли так что он ничего есть не мог; ноги от отека распухли, глаза от дыма сильно страдали, так что старец начал плохо видеть, и ему показалось даже, что у него сделались бельма.
Никого к нему не пускали, и он три года никого не видел, ни с кем не говорил; продавать или покупать что-либо ему воспрещено было.
Крест от него отобрали, и на нем не было его уже четвертый год. Одежда и обувь на нем изодрались, и в некоторых местах виднелось голое тело, так что в последний год ему стыдно было посещать трапезную.
Тоскуя в одиночном заключении, не имея ни книг, ни бумаги, ни чернил, чтобы развлечься, изнывая от отсутствия воздуха и движения и от разобщения с целым миром, он и молился, и плакал, но нередко он приходил в ярость, — и тогда гремели проклятия. Но вот однажды он проснулся и почувствовал, что левая рука у него без движения — с ним сделался удар.
С этого времени ему начали являться видения: то ему казалось какая-то черная птица к нему летает, то демоны не давали ему спать и тащили с него одеяло или били его, то бесы, в виде кирилловских монахов, являлись к нему, грозя всякими злобами, — то показывались они в виде чудовищных зверей, то птицами какими-то чудными, гигантскими[125].
Никон явно шел к полному сумасшествию… Сделалось ли жаль старца тюремщику, или же он получил из Москвы приказание, но к Рождеству 1671 года он дал Никону перья, бумагу и чернила, чтобы тот написал царю письмо.
В письме этом Никон описывал все, что с ним происходило в Ферапонтовом монастыре: потом рассказал о болезнях своих и недостатках и в конце просил дать кого-нибудь ему в услужение: «Ослаби ми мало да почию, преже даже не отьиду, прошу еже жити ми в дому Господне, во вся дни живота моего».
Получив это письмо, государь зашел к Наталье Кирилловне и прочитал ей.
Наталья Кирилловна прослезилась и сказала:
— Если Никон опасен, так окружить монастырь солдатами аль стрельцами, но зачем лишать его воздуха и движения? Три года заточения! — это ужасно… И позор для нас, что он ободран и оборван…
— Что же, по-твоему, Наташа?
— А то, что пошли к нему Родиона Лопухина — это бравый и правдивый человек. Он узнает все на месте и устроит старца. Не знаю, отчего не допускать к нему людей? Покуда Стенька Разин был в поле и воровал — иное дело. Теперь он казнен, восточные области умиротворены и нет никакой опасности. Почто держать старца взаперти? Чтобы проклинал тебя, меня, да…
Она покраснела.
— Будущего младенца, — докончил царь, обнимая и целуя ее.
— Да, я сегодня его почувствовала, — зарделась царица. — Коль родится мальчик, то как наречем?
— Нареку Петром: пущай, как митрополит Петр, будет разумен и управляет царством, как тот паствою.
— Аминь, — произнесла набожно царица.
Перед отъездом в Ферапонтов монастырь она дала Лопухину подробное наставление: как говорить со старцем, как успокоить его, — и поручила ему одеть его и обеспечить его содержание.
Приехал Лопухин, дал ему свободу ходить по монастырю, одел его, распорядился, чтобы Кирилловский соседний монастырь доставляет ему все необходимое по расписанию и уехал, получив от него благословение царю и царице, и будущему младенцу.
На радостях, что у него от Наташи будет, быть может, новый наследник и что с собинным другом он примирился, царь Алексей по возвращении Лопухина из Ферапонтова монастыря устраивал праздник за праздником: и на Москве-реке был бой медведей, и в селе Преображенском, в оконченных Преображенских комедийных хоромах, готовился спектакль.
Наслышались и царь, и царица от Лихачева, видевшего во Флоренции бал и балет, так много, что им хотелось и у себя завести театр или комедийное действие.
Наконец 17 февраля должна была быть поставлена драма «Есфирь».
В этой драме было много намеков на клевету, которую выпустили против Натальи Кирилловны и Матвеева, и на судьбу Нащокина, — тот, по правде, и в действительности имел сходство не только с Аманом, но с его падением.
Да и себя оправдывала Наталья Кирилловна, так как тенденция библейской Есфири та, что первая жена Артаксеркса получила от него развод за то, что не хотела снимать покрывала, и люба ему сделалась Есфирь именно за то, что она ходила без покрывала. Это должно было напомнить царю упрямство в тереме Беляевой и уступчивость ее, Натальи Кирилловны.
С трепетом в сердце Наталья Кирилловна явилась в театр, в закрытую ложу, где она с царевнами должна была смотреть комедийное действие сквозь отверстия, которые были между обтянутыми красным сукном досками, закрывавшими ложу со стороны зрителей. Царь поместился в кресле перед сценою, а придворные за ним. Музыка играла, как и теперь, перед сценою.
Царю не было известно содержание драмы, а только рассказ библейской книги Есфири.
С большим вниманием и интересом следил он за ходом драмы и по ее окончании вошел в ложу царицы и, обняв ее, сказал:
— Благодарю тебя и Матвеева, что отгадали мои чувства и мысли. Ты истая Есфирь, а он истый Мардохей… Я же считаю себя счастливым, что мне выпала завидная доля Артаксеркса.
С этого времени он еще горячее привязался к ней. А 30 мая 1672 года после крайне тяжелых родов, так что бабка опасалась за самую жизнь царицы, он сделался счастливым отцом: Бог дал ему сына. Повивальная бабка схватила новорожденного, завернула в пеленку и, опустив в ванночку, побежала к отцу объявить радостную весть. Услышав, что родился сын, царь Алексей перекрестился и побежал поглядеть на младенца. Ему показали толстенького ребенка, темно-красного, с темными волосами на голове.
— Экий молодец! — воскликнул отец. — Будешь ты у меня богатырь… на счастье русского царства.
Этот «богатырь» был Петр Великий.
2 июня произошло торжественное крещение Петра в Золотой палате и потом угощение было предложено всем боярам и святителям.
Во время обеда, еще по старому обычаю, заведенному царем Алексеем Михайловичем, пелись духовные песни, но вместе с тем играл и орган.
Это было как будто предвестием того, что родившийся поведет к чему-то новому.
XLIV Заточение Никона в Кирилловскую обитель
Получив свободу, Никон воспользовался ею для блага народа: он занялся лечением больных.
Приставленного к нему монаха Мардария посылал он в Москву за лекарствами: за деревянным маслом, ладаном росным, скипидаром; за травами чечуй и зверобой, за нашатырем, квасцами, купоросом, камфорою и за камнем бузуй…
К Никону в келью являлись из разных мест и женщины, и мужчины, и дети, и он давал им лекарства и верующим читал молитвы.
Впоследствии он писал царю, что слышал он глагол: отнято-де у тебя патриаршество, зато дана чаша лекарственная: лечи болящих.
Деятельность эту оклеветали перед царем: будто это делается, чтобы к нему ходил народ с целями политическими…
Вследствие этого в 1674 году в Великий четверток, когда в церкви монастырской собралось много народу и он шел туда приобщиться, явились стрельцы с сотником — два пошли впереди него, а четыре — позади. Никон обиделся:
— Не преступник я, чтобы идти в храм Божий к причастию со стрельцами…
И с этими словами он возвратился обратно в келию и перестал ходить в церковь.
Но все же царь, и в особенности Наталья Кирилловна, поддерживали старца: ему посылались и провизия, и полотна, и меха и даже соболя.
Да вот приходит страшная весть, в зимний мясоед царь заболел, а 30 января 1676 года его не стало.
Смерть Алексей Михайловича поразила все царство и готовила что-то необыкновенное, так как накопилось много горючего материала.
В течение почти тридцатилетнего царствования Алексей Михайлович довел русскую древнюю жизнь до апогея, т. е. учение Домостроя дошло до крайности в домашней и общественной жизни, так что терем и вообще боярские дома были обращены в богадельни и монастыри. Войны же со Швейцией, с Польшею и союз с Малороссией, как равно и иностранцы, наполнившие армию и Москву, внесли новые понятия в общество. Отсюда произошло смещение направлений, нередко друг другу противоречащих.
Раскольники требовали неприкосновенности древляго благочестия, т. е. сохранения старых книг, икон и богослужения и вместе с тем называли никонианцев ханжами. Они же требовали точного исполнения Стоглава, т. е. в религиозном отношении держаться их толка, а в государственном — земских начал.
Никониане разделились на две партии: одна требовала тоже оставления порядков Домостроя, но желала в жизни государственной земских начал и уничтожения местничества; другая партия требовала самодержавия на началах боярства и воеводства и желала уничтожения местничества, — словом, она идеалом своим считала конец правления царя Алексея Михайловича.
Это разделение общества и вызвало при похоронах царя различные чувства: раскольники восхитились и рассказывали, что пророчество одного из монахов Соловков оправдалось. Он говорил, что вместе с падением Соловков, где раскольники заперлись и защищались, умрет и государь. Следовательно, смерть его дала надежды расколоучителям, что боярство и воеводские начала будут уничтожены; одни только почитатели самодержавия приуныли, так как власть ускользала из их рук.
Узнав о смерти царя и о настроении общества, патриарх Никон заплакал и сказал:
— Воля Божья, видно, судиться нам на том свете. Бог его простит — поминать его я буду.
Вступил на престол четырнадцатилетний Федор.
С первых же дней перемены этой юным царем овладел его дядька, князь Федор Федорович Куракин, и Анна Петровна Хитрово, его мамка.
Обе эти личности были враждебны Никону как участники его низложения, и притом они принадлежали к самодержавной боярской партии, во главе которой стоял Матвеев.
Милославские, а потому весь терем, составляли земских никониан.
Во главе с Матвеевым стоял в самодержавной партии и патриарх Иоаким, преемник Иоасафа.
Иоаким был человек дюжинный, без всякого образования, и все его заслуги перед церковью и государством заключались в том, что он был беспрекословным исполнителем воли Нащокина, а потом Матвеева, потому что он был личный враг Никона; притом, подобно знаменитому Торквемаде, с особенным усердием жег расколоучителей, еретиков и колдуний… Не обладая ни талантом, ни умом, ни знанием, ни влиянием в обществе, он страшился бывшего патриарха Никона и ему было страшно приблизить даже к Москве святейшего из боязни, что он сам в подобном случае может потерять свое патриаршее значение. Сам Никон давал ему повод на эти опасения: он еще в 1672 году велел и царю передать, что он не признает для себя обязательным постановление восточных патриархов. Да и константинопольский патриарх писал до собора о возвращении Никона; притом, два года перед тем, Никон писался к епископу вологодскому: «Божиею милостию, мы, патриарх Никон…»
Партия же Милославских, стоявшая за Никона с первых же дней нового царствования, начала действовать, чтобы освободить и приблизить старца к Москве.
Царевна Татьяна Михайловна, господствуя в тереме, имела уж в это время сильную помощницу в царевне Софии Алексеевне: той исполнилось двадцать лет и она была энергична, умна, мужественна и учена.
Послала поэтому царевна Татьяна несколько дней спустя после смерти брата племянницу к новому государю, чтобы его убедить в необходимости приближения Никона к Москве и переезда его в «Новый Иерусалим».
София Алексеевна отправилась к брату. Красноречиво и горячо она говорила с ним и довела его до слез. Он обещался сделать все, что можно.
На другой день он повидался с Иоакимом. Выслушав мальчика-царя, патриарх молвил:
— Никону и так хорошо в Ферапонтовом монастыре, но ему можно еще больше сделать: я переведу его поближе, в Кириллов монастырь… В «Новом Иерусалиме» будет ему хуже: со времени ссылки Никона там ничего не поправляли, и в кельях обители и холодно, и сыро; притом братия там и сама не имеет чего есть, а Кирилловский монастырь богат. А потому не соизволит ли великий государь дать указ о переводе Никона в Кирилловский монастырь?
— Коли ему будет там лучше, так пущай, — ответил государь.
Не прошло и месяца, как получился царский указ в Ферапонтовом монастыре о переводе патриарха в Кирилловскую обитель.
Монастырь этот был крайне ему враждебен. Покойный государь велел ему по разрешению отпускать Никону содержание, что и вызвало с обеих сторон неудовольствие и враждебность: Никон жаловался царю на монастырь, а тот на Никона.
— Кушает ваш батька нас, — говорили Кирилловны ферапонтовским монахам.
— Я, благодатию Божиею, не человекоядец, — жаловался царю на это Никон.
Притом в Кирилловском монастыре находился Флавиан, поддерживавший Хитрово на суде, когда Никон доносил на Богдана Матвеевича «о чародействе его с литовкою и монахом Иоилем».
Патриарх Иоаким поэтому, как говорится, выдал Кирилловскому монастырю Никона головою.
Повезли патриарха в обитель эту и, когда его ввели в келию, его тотчас же замкнули, и сделался он снова затворником.
Осмотрел патриарх келию — она была еще хуже той, какую он занимал во время заточения в Ферапонтовом монастыре.
Это была узенькая комнатка в одно крошечное окошечко на такой вышине, что Никон не мог его достать, наставив даже всю мебель свою друг на друга. В углу висела икона без лампады. Деревянная кровать без настилки, стул о четырех ножках и поломанный столик — вот убранство келии. Это была монастырская темница для преступных монахов.
Пищу приносил ему служка: щи да каша, кусок хлеба и кружка воды.
Представлялись узнику в этой смрадной темнице, в этой духоте, и родительница его — Мариамна, и родимый лес его в Вельяминове или Курмышах, и его жизнь, когда он помогал своим крестьянам в поле, и жизнь его в Макарьевском монастыре, его женитьба и семейное счастье, его знакомство с Нефедом Миничем, смерть Хлоповой, переезд его в Москву, кончина патриарха Филарета, казнь Шеина, жизнь его в Соловках, его бегство оттуда, Кожеозерский монастырь, приезд его в Москву, назначение игуменом Новоспасского монастыря, московская гиль, сближение с царем, возведение его в митрополиты новгородские, мятеж новгородский, вызов его в Москву, поездка за мощами св. Филиппа в Соловки, возвращение его и избрание в патриархи, собинная дружба царя, его могущество, управление им государством, война с Польшею, прекращение им чумы, падение Смоленска, присоединение Малороссии, исправление церковных книг…
Во всех подробностях проходит все это перед его глазами, и каждое из этих воспоминаний вызывает его вздохи и нередко слезы из глаз.
— Боже, за что меня наказуешь так, — говорит он, кладя поклоны перед иконою, — уж лучше прекратил бы мои дни, а то живешь для вечных мук. Хоша б Ты память пришиб — забыть бы все прошедшее, не чувствовать, не мыслить.
А тут, как нарочно, еще в более пленительном виде начинают являться перед ним и картины природы, и люди, им любимые: и жена его, и царевна Татьяна, и Марья Ильинична, и родственники его, — и все это как будто манит к себе, зовет и говорит:
«Ведь ты-то настоящий патриарх и плачет об тебе Россия… и Малороссия, и все Поволжье ведь волновалось из-за тебя… Приди вновь на свет — и будешь вновь ты на престоле патриаршем. Гляди, все враги твои сходят в могилу: умер патриарх Иоасаф и сам царь… Трубецкой и другие… расколоучители в заточении…»
Вдохновляет это надежду в сердце Никона, и он чувствует, что у него имеются друзья в Москве, что не дадут они ему погибнуть в застенке и что рано или поздно он выползет отсюда с величием и славою, как заслуживает он.
«Коль, — думает он, — царевич Алексей жив был бы, ино было бы: он ослобонил бы меня… он знал меня, я носил его на руках, он драл меня за бороду, играл моими панагиями… А этот Федор — не знает он меня, а враги мои у него в силе… Но придет время, сделается он муж, тогда и сжалится он над старцем… поймет, что в его царстве все дело моих рук… и благолепие в церкви, и новые книги… и сильное войско, и Малороссия, и Белоруссия… Даже дворцы царские — все это делали мои мастера…»
Подкрепляют его силы эти думы, но после трехлетнего одиночества начинает заедать его тоска, мысли мутятся, и овладевает им злоба:
«Почто он держит меня в затворе?.. Кому я что сделал?.. Этот поганый, коростявый Иоаким, страшится тени моей, точно бес ладана… А царь-мальчишка не спросит даже, где и что Никон. Да и царевна Татьяна хороша… а мама Натя? Все покинули меня, как тряпку старую, негодную. Да и взаправду я тряпка — ноги опухли, рука левая разбита, зубы все выпали, а тут грызи черствый хлеб и корку, а коли корки не съесть, не дают другого хлеба… Пил бы квас, да мышь попалась надысь, ну и противно. Да вот вчера показался снова черный вран в окне… потом чудища… бесы… демоны… рвут последнюю мою одежонку… а вот теперь… точно бесы лютые: Боборыкин, Сытин, Стрешневы, Хитрово… Чего вам, злодеи… не отдам одежи… Глядите… и так вся изодрана, вся в дырьях, не греет меня… вишь, и зуб на зуб не попадает…
Стучат у него зубы, и он весь синеет.
— Мама Натя, царевна Татьяна, где вы? Спасите, спасите… снова бесы, — кричит он однажды неистово, прячась в угол…
Но что это? Отворяется дверь темницы, и появляется монашка.
Никон глядит на нее с недоумением.
— Не узнаешь меня, святейший? — спрашивает она.
— Нет… нет… не узнаю и ты пришла меня мучить, как те.
— Не мучить я пришла тебя, с доброю вестью… Вспомни игуменью девичьего Воскресенского монастыря, Марфу… я та самая… Помнишь, я ходила к тебе в Ферапонтов… под твое благословение.
— Помню, помню… но нет уж во мне больше благодати, бесы мною овладели… и умру я здесь в этом смраде, сырости и холоде… Уйди отсюда, и ты окоростовеешь, как я… уйди, мать игуменья…
— Благослови меня, святейший, и выслушай…
Она пала ниц и, поднявшись, подошла к его благословению.
— Благословит тебя Господь Бог… Садись и поведай, какую весть принесла?
— Весть радостная. Была у меня в монастыре на богомолье паломница, боярыня Огарева, и сказывала: «Пущай-де святейший напишет грамоту в «Новый Иерусалим», а братия и попросит царя отпустить тебя к ним». Грамоту твою я повезу к ним — вот бумага, чернильница и перья.
Игуменья вынула весь этот запас из кармана и положила на стол.
— Да я-то и писать разучился, да и года и дни забыл… да и глаза плохо видят.
Никон сел к столу и кое-как нацарапал к братии грамотку.
Инокиня простилась, взяв его благословение царю, царице и царевнам.
Грамота Никона к братии «Нового Иерусалима» произвела свое действие: они отправили с челобитною к молодому царю своего игумена.
Федор Алексеевич, выслушав милостиво игумена, послал за патриархом.
Прибыв к царю, патриарх Иоаким вознегодовал, что, помимо него, осмелились говорить об Никоне с государем. В продолжение четырех лет он при каждом свидании и с ним, и с царевнами уведомлял их, что Никон живет в Кирилловском монастыре во всяком удовольствии и что, если он не показывается на свет, так это оттого, что у него ноги слабы. Для вящего же убеждения всех в блаженной жизни святейшего он каждый раз от имени его отдавал благословение царю, царице и царевичам. Тут же неожиданно хотят снова вызвать его на свет и он разоблачит, что его в Кирилловском держат в заточении. Нужно, таким образом, во что бы то ни стало воспрепятствовать этому возвращению.
— Я, — сказал он с видом смирения, — день и ночь думаю о святейшем старце, забочусь о нем… и… скорблю сердцем… Хотел бы его любовно видеть… да нельзя… есть причина… Да я не дерзал докладывать великому государю… нельзя его возвратить… Будет великий соблазн и грех в церкви.
— Да что такое случилось? — встревожился государь.
— Вот уже четвертый год… прости мне Господи мои согрешения… Никон ежечасно мертвецки пьян… ругается святым иконам… в церковь не ходит… разные ругательства произносит на тебя, великий государь, да на меня, на церковь святую… Говорит с бесами, демонами… Бредит видениями… Ругает свои исправленные книги и называет их еретическими… Как же его привести в подмосковную обитель?.. Себе и церкви на срамоту. Одежи и обуви не хочет носить, босой да полуголый ходит.
— Пошли ему, святейший, от меня и обувь, и одежу — он и носить будет… Сказать, что то воля моя… Да бают, что некому там и приглядеть за ним, так послать к нему Ивана Шушеру да Ольшевского: благо они челом бьют послать их к святейшему старцу.
Закусил губы патриарх Иоаким и вынужден был исполнить приказ царя.
Весною 1681 года прибыли в Кириллов монастырь Шушера и Ольшевский.
Первое свидание их было трогательно: это были бесконечные лобзания, объятия и беседы. Служки привезли ему от царя гостинцы, одежду и обувь. Перевели святейшего в другую, более просторную келию и разрешили гулять по монастырскому саду. Но ноги отказывались ему служить, притом воздух действовал на него одуряющим образом, и голова у него кружилась и болела. Да и постарел он, волосы на голове и в бороде его совсем поседели, исхудал он и сделался скелетом, а на лице кожа даже потемнела.
Вид он имел еще более величественный, чем прежде, да силы его оставили: многолетние страдания сломили его могучую природу.
Начали Никона вновь посещать в Кирилловом монастыре жители городов, монахи и монахини.
Никон принимал всех любовно, лечил, благословлял, ко всем был добр, но Кирилловскому монастырю не мог простить причиненных ему обид и мучений. Душа его рвалась отсюда в «Новый Иерусалим», в его рай, о котором он так давно плачет и горюет.
— Альбо то можно, — говорил часто Ольшевский, — так да с патриархом поступать… Джелебы то можно, я бы всех монахов утопил… Надея на Бога, нас домой в «Новый Иерусалим» отпустят… Ты, святейший, только отпиши туда, а мы Шушеру туда пошлем… Будем мы с тобою, патриарх, еще там архиерейску службу править…
И вот под таким впечатлением пишет Никон вновь в «Новый Иерусалим»:
«Попросите, братия, еще обо мне царя. Умираю я, не попомните моей прежней грубости, пожалейте старика».
Грамоту эту отвозит Шушера в «Новый Иерусалим», и оттуда отправляется вновь посол, но уже не к царю, а к царевне Татьяне Михайловне.
Посол рассказывает всю подноготную царевне.
Татьяна Михайловна приходит в страшное негодование и бежит к царевне Софье.
— Соня, нас бесчестно обманывал патриарх Иоаким, — говорит она, едва переводя дыхание от волнения. — Ведь патриарха Никона он держал четыре года в заточении на одних щах да каше и ржаном хлебе, никого к нему не допускал, в церковь Божью не пущал, без одежды и обуви содержал в келье… Это безбожно, бесчеловечно… Идем к царю.
— Как? Да мне патриарх всегда сказывал, что Никон во всяком удовольствии живет… Пойдем к брату, пущай сыск учинит… Пущай не верит патриарху.
Обе побежали к царю.
Федор Алексеевич сильно встревожился, увидев тетушку и сестрицу гневными и взволнованными: нервный и впечатлительный, он почувствовал даже сильное сердцебиение.
— Что случилось? — спросил он испуганно, воображая, что не приключилась ли какая-нибудь беда и со второю его женою, на которой он недавно лишь женился.
Царевны рассказали ему о бывшем заточении Никона.
— Теперь понимаю, — вздохнул царь, — зачем патриарху Иоакиму понадобилось перевести его в Кирилловский монастырь… Да и пьянство Никона, вижу я, — поклеп.
— Так ты, племянничек, и вели перевести его в «Новый Иерусалим», — обрадовалась царевна Татьяна Михайловна.
— Да как же без патриаршего благословения?.. — недоумевал юный государь.
— Так, братец, покличь его и поговори с ним — обняв и поцеловав его, проговорила царевна Софья.
— Уж вы, тетушка и сестрица, лучше сами позовите его, да и уговорите… А я велю царских лошадей и кареты отослать за святейшим в Ярославль.
Царевны поцеловали его и ушли в терем. Они послали за патриархом Иоакимом. Иоаким явился в терем, воображая, что они желают духовной беседы с ним.
Когда он вошел в приемную царевны Татьяны Михайловны, он застал там царевну Софью.
Царевны подошли к его благословению и посадили его на почетное место на диване, под образа.
— Прости, святейший, — начала царевна Софья, — что мы с тетушкой Татьяною потребовали тебя… У нас великая к тебе челобитня.
— Повеление царевен для меня указ, — опустив скромно глаза и положив руки на животик, произнес патриарх.
— Бьем мы челом: монастырь «Новый Иерусалим» и Воскресенская церковь приходит в запустение.
— Приходит он в запустение, — поднял набожно глаза к небу Иоаким, — ибо восточные патриархи, на соборе 1666 года, осудили и название «Новый Иерусалим», и строителей его: Никона и Аарона. Где нет благословения святителей, там и благодати нет.
— Где два или три соберутся во имя Мое, там и Я пребываю, — возразила царевна Софья. — Не лишена, поэтому, св. благодати и обитель «Новый Иерусалим».
— А в Воскресенской церкви, кроме частиц Святого гроба, покоятся еще мощи св. Татьяны, — вставила царевна Татьяна Михайловна.
— Не ведал… не ведал, — вздохнул Иоаким и, набожно перекрестясь, произнес: — Господи, прости мне согрешение.
— Вот, — продолжала царевна Софья, — мы с тетушкой желаем увеличить благолепие монастыря, я дала обет соорудить там храм Богоявления, а царевна все достояние отдаст на святую обитель.
— Богоугодное дело… богоугодное, я благословляю… Вы внесите деньги в патриаршую казну. А там, что соборная дума скажет…
— Мы пожертвуем всем, но братия просит возвратить ей отца и благодетеля ее, — возразила царевна Софья.
— Тому не можно быти, — как ужаленный вскочил Иоаким.
— Садись и выслушай, святейший… Никон хил, стар и годы его сочтены… Пущай умрет в своей обители, не проклиная царя и нас за бессердечие, — произнесла скороговоркою Софья.
— Тому не может быть, — упорствовал патриарх, — да ты царевна, не ведаешь, что он и одежи, и обуви не носит, да день-деньской от вина пьян бывает, сквернословит, богохульствует…
— Неправду говоришь, святейший, и это поклеп на святейшего старца, — вышла из себя царевна Татьяна Михайловна. — Держишь ты его в темнице пятый год без одежи и обуви; а от квасу твоего с мышами не опьянеешь. Господь Бог милосердный накажет тебя… Покайся и разреши Никону переехать в «Новый Иерусалим».
— Тому не можно быти, — упорствовал Иоаким и собирался выйти.
— Коли так, — затопала ногами Татьяна Михайловна, — так я сама поеду за святейшим; да не в «Новый Иерусалим» я его свезу, а в Успенский собор… Ударим в царь-колокол, созовем народ, и он поведет его на патриарший престол, а тебя, лицемера, ханжу, пустосвята, мы упрячем в ту келью, где ты томил безбожно больного, хилого, слабого старца столько лет…
У Иоакима опустились руки и затряслись ноги.
— По мне что, — заикаясь произнес он, — пущай Никон едет в «Новый Иерусалим»… Как великий государь соизволит.
— Так пиши грамоту! — повелительно произнесла царевна Татьяна.
Софья подала перо, бумагу и чернильницу.
— Мне нужно с царем переговорить, — молвил патриарх и торопливо вышел из терема.
XLV Кончина Никона
— Альбо то можно, Иван, — накинулся Ольшевский на Шушеру, — поехал в «Новый Иерусалим» к братии и возвратился ни с чем. Джелебы то я поехал, так давно бы приехали за патриархом.
— Хвастай, хвастай… Да и так я насилу-то упросил братию, чтобы помимо патриарха Иоакима послали в Москву… Ну и послали… А там, что Бог даст.
— Я бы и учинил: поехал бы в Москву с ними да с царским посланцем вернулся… Надея на Бога, мне не первина: мы с патриархом Никоном…
— Толкуй ты. Попробуй-ка ты сунься в Москву, там таперь черт ногу сломит: не знаешь, кто первый, кто последний.
— Теперь, Иван, погляди: патриарх точно из гроба встал, бледный да слабый… Ждет не дождется присылки из Москвы: у меня у самого душа переболела… а иной раз, глядючи на него, так и плакать хочется.
Слезы показались у него на глазах, он вытер их со щеки и высморкал нос в полу.
— Иван!.. Ольшевский! — раздался голос Никона.
Оба бросились в его келью.
Никон был одет: на нем была архиерейская мантия, на голове клобук и в руках посох.
— Что же не собираетесь… Что мешкаете… ждать не буду.
— Куда, святейший? — удивился Ольшевский.
— Куда, куда? Домой… в «Новый Иерусалим»… Проворней, живей, укладывайтесь, собирайтесь…
Шушера переглянулся с Ольшевским: они полагали, что он бредит.
— Святейший, да из Москвы еще не прислали, — возразил Ольшевский. — Джелебы из Москвы приехали, иное дело… А допреж нечего укладываться.
— Говорю, укладывайтесь… Подъехал струг… а на нем посланные от царя… они вышли на пристань… Вот, вот идут… спешите — ждать не буду, — торопливо произнес Никон.
— Ярославский воевода, да епископ и архимандрит приехали за святейшим и идут сюда, — крикнул Шушера.
У Никона задрожали руки и ноги, и он в сильном волнении сел на стул.
— Господи, услышал ты мои молитвы, не дал умереть здесь, как злодею, — прошептал он. — Укладывайтесь, да торопитесь, — скорей, скорей отсюда… Здесь столько слез я пролил.
Ольшевский начал укладываться и увязывать вещи свои и патриарха.
Появились в келии царские посланцы, они подошли под благословение патриарха. Никон перецеловался с ними.
— По указу великого государя, святейший старец, мы приехали за тобою: в Ярославле ждут тебя царские лошади, колымага и рыдваны. Отвезут тебя в «Новый Иерусалим», где будешь жить по собственной воле, на покое.
— Да благословит Господь Бог царя, царицу и всю государеву семью за многие их милости ко мне, — прослезился Никон. — Снова сподобит меня Божья Матерь узреть и Голгофу и Иордань, и храм «Воскресения», где я на плечах своих таскал камни и бревна… и заживу я снова с детьми моими — деревьями, и деда Мамврийского дуба снова обниму… Боже милостивый! одна уж эта радость искупит мое пятнадцатилетнее заточение в монастырях…
И твердыми шагами патриарх вышел из кельи, в сопровождении послов спустился во двор и здесь остановился, поглядел на монастырь, на храм, перекрестился и сказал:
— Не хочу я видеть братию, но я прощаю их и благословляю… Передать им, что одною верою да молитвою не спасешься, а нужны и добрые дела: пущай сердца свои смягчат — вера без дел мертва есть.
Он направился к пристани; придя туда, он пошел прямо на струг и, перекрестясь, прошептал:
— Господи, помилуй и спаси люди твоя.
Час спустя струг, несомый течением Шексны и парусом, потянулся к Волге.
Весть о том, что Никон возвращен и поедет водою до Ярославля, быстро разнеслась по городам и селам, и тысячи народа в лодках и на берегу ожидали его с женами и детьми для получения его благословения. Духовенство же с хоругвями, крестами и иконами выходило тоже на берег и пело: «исполлаэти деспота», «достойно» и «многая лета».
В местах, где они останавливались, народ падал ниц, плакал, целовал его руки, платье и след его ног.
Любовь народная сильно тронула его, и он понял тогда, почему Стенька Разин именем его поднял все Поволжье.
По Волге было тоже, что по Шексне: шел струг вверх волоком, и это дало возможность народу еще больше выказать свою любовь.
Огромные толпы встречали и провожали его, а для смены волока явились люди с лошадьми.
Так тянулись они почти до самого Ярославля, где Никон должен был пересесть в царские экипажи и ехать на Владимир.
Но в шести верстах от Ярославля он почувствовал сильное утомление и слабость.
Пришлось послать в находившийся вблизи монастырь за лошадьми и экипажем.
В обители игумен со всей братией встретил его с крестом и образами у ворот.
Когда Никон прикладывался к кресту и к иконам, один из монахов отделился от братии и бросился к нему, к ногам.
— Кто ты? — спросил его Никон.
— Я бывший архимандрит Сергий, который не дал тебе говорить к народу при отвозе тебя из Чудова монастыря в земскую избу… Бог меня покарал — я в ссылке уж многие годы в этом монастыре… и горько оплакивал я мой грех перед тобою.
Да простит тебя Господь Бог, как я прощаю, — кротко произнес Никон.
Отдохнув здесь недолго, святейший велел себя везти в Ярославль.
Все ярославское духовенство, все горожане от мала до велика и множество народа с окрестностей явились поклониться святейшему. Духовенство встретило его с крестами и хоругвями, и когда со струга он начал благословлять народ, все пали ниц и пели «многая лета».
Народ плакал, целовал его руки и одежду.
Здесь он сел в колымагу, и народ поволок его за город, но недалеко от Ярославля, на небольшой речонке[126], патриарх возжелал, чтобы запрягли лошадей из боязни утомить народ.
Колымагу остановили, он просил высадить его на берег речки.
Разостлали там ковер и на руках снесли его туда из экипажа.
Он сел на ковер, вдохнул в себя свежий летний воздух и обратился к сопуствовавшим его.
— Как хорош, — произнес он восторженно, — Божий мир… и жить бы людям в любви и согласии, а они грызут, заедают друг друга, как будто нет места для всех на земле… Льется кровь братская и в войнах, и на плахах, и в застенках… Льется она не ручьями, а реками… Отчего, Боже, такое проклятие на людей?.. Пути твои неисповедимы…
Он умолк, набожно глядел на небо и шептал какую-то молитву.
Но вот лошадей запрягли, взяли под руки святейшего, чтобы повести его в колымагу. Раздался вдали благовест к вечерне из Ярославля.
Никон остановился и перекрестился.
— Поскорей… поскорей… там меня ждут…
При последнем слове он начал поправлять платье, благословил народ, потом сложил руки на груди и… отошел в вечность!
Народ пал на колени, молясь, крестясь и громко рыдая.
Свершилось это 17 августа 1681 года, на 76 году его славной и многострадальной жизни.
Вечная ему память!
XLVI Похороны Никона
Пять дней спустя в Москве разнеслась весть о смерти Никона, и дьякон Успенского собора, детей которого благословил тот в последнее его посещение этой церкви, услышав об этом на патриаршем дворе, побежал к царь-колоколу, висевшему тогда в особой колокольне у собора, и ударил в него с погребальным перезвоном.
По обычаю, это совершалось только во время смерти царя и патриарха.
Все московские сорок сороков подхватили печальный перезвон, и белокаменная столица поднялась на ноги.
Узнав о смерти Никона, столица облеклась в черную одежду, и народ устремился в церкви ставить свечи и служить панихиду. В народе и в частных домах слышались рыдания, а царский двор облекся в печальные одежды — в придворной церкви царь с семьею своею слушали тоже панихиды.
Возник вопрос, где и как хоронить его.
По обычаю, патриархи хоронились в Успенском соборе. Но похоронить его здесь — значило признать собор, низложивший его, недействительным, а его — патриархом; патриарха же Иоакима — похитителем патриаршего престола.
При печали же, скорби и возбуждении народа, если бы его привезли в Москву, могло бы тоже случиться нечто печальное для патриарха Иоакима.
Судили, рядили и решили похоронить его в «Новом Иерусалиме», как строителя монастыря, тем более что на это была его воля.
Но кому хоронить и как?
Если хоронить его как патриарха, то обряд погребения не приходится совершать Иоакиму, так как этим он признает недействительность соборного постановления.
Решили поэтому, чтобы хоронил усопшего Рязанский архиепископ.
Когда же этот спросил: как же хоронить святейшего старца, как монаха или патриарха, Иоаким ответил: «Как соизволит великий государь».
Никона между тем отвезли в Ярославль, сделали гроб и на руках понесли в «Новый Иерусалим».
Ко дню его прибытия огромная масса народа собралась в «Новый Иерусалим», и туда прибыл государь, все бояре и высшее духовенство, а также все московское белое духовенство. По всему пути следования тела Никона народ с благоговением и слезами встречал и провожал его прах. Многие следовали за ним от самого Ярославля.
Навстречу усопшему двинулось из «Нового Иерусалима» все духовенство с иконами, крестами и хоругвями и пело: «Христос Воскресе!» Приблизившись ко гробу, они приняли его и на головах своих понесли в церковь.
После соборне отслуженной обедни, причем, по установленному Никоном правилу, соблюдающемуся поныне, пелось «Христос Воскресе!» — Никона облекли в патриаршую одежду и переложили в каменный гроб. Перенесение в другой гроб совершал сам царь; отпевали его как патриарха, причем царь читал сам апостол и кафизму.
После погребальной службы, когда нужно было проститься с усопшим, государь подошел к нему и, целуя ему руку, громко рыдал и просил у него прощения, почему раньше не возвратил его.
В церкви все рыдали, прощаясь с Никоном.
Несмотря на теплое сентябрьское время, он лежал в гробу, не издавая никакого запаха; а патриаршая одежда, при седой огромной его бороде, давала ему особенно величественный вид и напоминала св. митрополита Филиппа.
Когда все простились с ним и хотели уж закрыть гроб, появилась сгорбленная старушка черница и, протолкавшись, взошла на подмостки и припала к руке покойника.
Долго она стояла в таком положении, но вот пошатнулась, упала с подмостков.
Придворные боярыни и царевны, стоявшие по левой стороне церкви, за занавесом, бросились подымать ее — она была мертва.
Царевна Татьяна, подымавшая ее, вглядевшись в ее лицо, вскрикнула.
— Мама Натя…
Погребли Никона на Голгофе же, на южной стороне, внизу, на том месте придела, где в Иерусалимском храме указывают прах Малхиседека.
После похорон государь снесся с восточными патриархами, и они признали низложение его неправильным и в грамотах писали: «Патриарх Никон столп благочестия, непоколебимый, и божественных и священных канонов сберегатель присноискуснейший, и отческих догматов, и повелений, и преданий неизреченный ревнитель и заступник достойнейший».
XLVII Эпилог
Прошло с небольшим полгода со дня смерти Никона, как царь Федор Алексеевич в Светлое Воскресенье (16 апреля 1682 г.), бывши веселым и совсем здоровым, вдруг захворал, и 27 апреля вечером его не стало.
Остались его наследниками слабый душою брат его Иван и малолетний Петр.
Правление государством приняла энергичная, мужественная и умная царевна София.
Получив власть, она исполнила обет свой: она соорудила церковь Богоявления.
В ските, в келии Никона, висит современный ему портрет его, с надписью посетившего эту келию, в Бозе почившего Царя-освободителя. Надпись собственноручная и гласит: «Александр, 30 мая 1837 года».
Что думал едва двадцатилетний наследник престола в этом священном месте: думал ли он о печальной участи великого человека, или тогда уже явилась у него мысль быть последователем Никона и освободить крестьян, или же он сетовал о многострадальной его жизни, или он предчувствовал тогда, что и он будет тоже великомучеником людской злобы и неблагодарности?.. Надпись его над портретом свидетельствует о сочувствии его к Никону, а жизнь его и деяния святителя были ему вполне известны, так как он был отличный знаток истории своего народа.
Над могилою Никона ныне повешены двухпудовые железные вериги, состоящие из цепи с железными крестами, которые возлагал на себя Никон во время его пребывания в монастыре.
У гроба патриарха служатся обыкновенно все совершаемые в храме панихиды, причем на каждой из них поминается его имя во главе прочих.
Храм докончен еще царем Федором Алексеевичем и царевною Софиею и торжественно освящен в 1685 г. патриархом Иоакимом, причем тот служил панихиду Никону как патриарху. Потом переделывался храм несколько раз и теперь, по грандиозности своей это одно из лучших зданий в России.
Но бессмертнейший памятник поставил себе Никон присоединением Малороссии и Белоруссии к России и тем благолепием и великими началами братолюбия, веротерпимости и милосердия, которыми обязана ему всецело наша православная церковь.
Но, спросите вы, как же появилась на свете вновь мама Натя, когда ее сожгли в Темникове в срубе?
Запорожцы, находившиеся в этом городе с Долгоруким, узнав ее, спасли из темницы, а на ее месте сожжен труп умершей в тот день женщины.
Георгий Северцев Боярыня Морозова
I
1648 год Москва встретила весело.
В январе женился молодой царь Алексей Михайлович на Марии Ильинишне Милославской.
Свадьбу отпраздновали по старинным дедовским обычаям. Посаженною матерью у государя была боярыня Авдотья Алексеевна Морозова, жена Глеба — брата его дядьки, пестуна и кормильца, Бориса Ивановича Морозова.
Немолод Глеб Иванович: полсотни скоро минет, тридцать лет женат на Авдотье Алексеевне.
Женился он в ту пору, когда еще боярином не был; в 1637 году пожаловал его покойный государь Михаил Федорович боярством.
Статен еще боярин Морозов, — в темных кудрях только кое-где еще серебристая проседь показалась. А в высокой боярской шапке и аксамитовом кафтане, с расчесанной темно-русой бородой, совсем молодым человеком казался.
— Ой, Глебушка, куда до тебя брату Борису Ивановичу. Он тебе в отцы смотрит! — сказала мужу Авдотья Алексеевна.
— Да и ты, жена, еще не старой кажешься, — шутливо отозвался Глеб Иванович.
Боярыня улыбнувшись встала навстречу новобрачным, возвращавшимся из-под венца в царские палаты.
Затрезвонили во все колокола на кремлевской колокольне; царский ход двинулся из Успенского собора; супруги Морозовы расстались.
Боярыня вошла в золотую палату, где в красном углу лежали на аналое иконы и стоял пышный каравай белого хлеба; Глеб-же Иванович вышел вместе с царским тестем, Милославским, на красное крыльцо для встречи молодых.
— Кто это? — спросил Глеб Милославского, указывая ему на рослого мужчину, шедшего в числе «сверстных», то есть родственных невест дворян.
— Сродственник дальний нам по женину роду, Прокопий Федорович Соковнин. А вот среди боярышен, видишь, две его дочери, Феня да Дуня.
Морозов взглянул и обомлел.
Обе девушки выделялись из толпы своих сверстниц. В особенности красавицею выглядела старшая из них, Феня.
— Наградил-же Господь твоего сродственника такими дочерьми, — прошептал Глеб Иванович.
— А вон там и сынок его Федор, — продолжал Милославский, — царь-батюшка не обошел и его своею милостью, в стольники пожаловал!
Но Морозов не слышал, что ему говорил царский тесть: все его внимание было поглощено девушкою.
При самом входе в палату молодых поставили на «мех», и две постельные боярыни обсыпали их хмелем, пшеничным зерном и золотыми ефимками, — чтобы новобрачным жилось весело, сытно и богато.
После всего повеличали молодых царя и царицу и сели за свадебный стол в столовой палате.
Долго тянулся пир.
Утомленные приготовлениями к свадьбе молодые царь и царица удалились на покой.
Отшумела царская свадьба.
При молодой царице, Марье Ильинишне, появилось в Кремле много новых лиц.
Через месяц после царской свадьбы старик Соковнин пожалован был в царицыны дворецкие. На его обязанностях было «сидеть за поставцом царицына стола», то есть отпускать для царицы яства.
Не прошло и четырех месяцев после этого, как его пожаловали в сокольничьи.
Сыновья его Федор и малолетний Алексей сделаны были еще раньше стольниками. Что-же касается до обеих девушек, то они были взяты в верхние палаты к государыне.
Для незнатной и небогатой семьи Соковниных такое возвышение было неожиданным.
Теперь, благодаря родству с молодой царицею, Прокопий Федорович мечтал и о думном дворянстве.
Милославские поддерживали своих родичей и помогали им подыматься по ступеням лестницы придворных чинов.
Одно только удручало старика Соковнина: его роду приходилось занимать все еще предпоследнее место.
Но он надеялся, что это только временно.
II
В богатой опочивальне Морозовского дома, раскидавшись на постели, лежала боярыня Авдотья Алексеевна. Огневица трясла ее уже более недели, пробовали лечить домашними средствами, баню несколько раз вытапливали и в ней знахарки различными снадобьями в самом жару терли больную, заговоры против огневицы делали, но ничто не помогало, — горячка не покидала Морозову.
С каждым днем ей становилось хуже: бред и жар усиливались, она не узнавала даже самых близких.
— Сегодня придет царев лекарь Готфрид, — сказал Глеб Иванович, возвратясь из царских палат. Но больная ничего не слышала и не понимала. Бессмысленно смотрела она на стоящего у постели мужа и вздрагивала всем телом.
— Испортили тебя, мою матушку, злые, завистливые люди! — прошептал боярин и, смахнув с ресницы слезу, вышел из опочивальни.
Дожидаться лекаря Готфрида пришлось не долго. Послушный царскому приказу, он скоро явился в Морозовский дом.
Небольшого роста, сухонький, одетый в черный бархатный камзол, в черных чулках и высоких полубашмаках, с отворотами, Готфрид мало походил на немца. Остроконечная черная бородка, проницательный взгляд темных глаз, горбатый нос и смуглая кожа говорили о его принадлежности к какой-нибудь южной расе.
Внимательно осмотрев больную, отогнув ей слегка веки, пристально вглядевшись в сухую, воспаленную кожу лица, Готфрид приложился своим глазом ко лбу боярыни и, отойдя в сторону от постели, на минутку задумался.
— Ну, что? — пытливо спросил его хозяин.
Лекарь недовольно качнул головою.
— Запущен больно недуг твоей супруги, — отвечал он, — сейчас сказать ничего не могу, нужно испробовать разные средства.
Глеб Иванович печально опустил голову.
— Сильно забрала в свои когти твою супругу огневица, — продолжал Готфрид, — попытаемся ее вырвать из власти недуга.
— По гроб жизни буду, мейстер Готфрид, благодарен, коли выпользуешь ее мне…
Лекарь ничего не ответил боярину, но сейчас же сам отправился в царскую лекарственную избу и там с помощью аптекарей, тоже вывезенных из заграницы, принялся за изготовление лекарства.
Немало времени провел он за этим, но когда в зеленоватой склянке из толстого стекла оказалась темная жидкость, он довольно взглянул на приготовленное снадобье и быстро отправился обратно в Морозовский дом.
Там все ожидали возвращения Готфрида.
Морозов благодарно взглянул на лекаря, принесшего средство, чтобы спасти горячо любимое существо от смерти.
— По маленькой чарке давайте ей три раза в день утром, в полдень и на ночь! Завтра в сие время опять наведаюсь.
И, провожаемый низкими поклонами, Готфрид ушел из Морозовского дома.
Строго следовал указаниям царского лекаря Глеб Иванович и сам давал больной жене лекарство.
Прошел день; улучшения боярыни не последовало; она по-прежнему находилась без памяти и продолжала бредить. Изумленно взглянул на нее снова пришедший лекарь и приказал продолжать давать лекарство.
Прошло еще несколько дней. Готфрид менял средства, но больной все становилось хуже. Не знавший, куда скрыться от горя, Глеб Иванович с укоризною глядел на царского лекаря, но не порицал его. Он все еще надеялся на спасение жены, хотя было очевидно, что едва ли боярыня выживет.
С каждым днем силы ее покидали, движения стали слабее, и через три недели после начала болезни Авдотьи Алексеевны Морозовой не стало.
Схоронив жену, Глеб Иванович сделался совершенно нелюдимым.
Он редко показывался в царевых палатах и брат его, Борис Иванович, не раз пенял на него за невнимание к любившему их царю.
— Ты только, Глеб, подумай, неразумно не бывать в царских палатах! — говорил старший Морозов. — И царя батюшку прогневишь ты этим, да и себе пользы мало принесешь!
Глеб тяжело вздохнул и промолвил:
— Уж больно тоскливо мне без покойной Авдотьюшки где-либо и бывать!
— На все воля Божия! Оставь мертвых мертвым. Ты сам жив, думай о живом! — ответил Борис.
— Дай хотя время, чтобы позабыть немного…
— Довольно, кажись, скучать! Год прошел. Поскучал и поплакал немало! Слушай брат, доброго совета, ступай к царю-батюшке.
Глеб на минуту задумался, а затем махнул отрицательно рукой.
— Не пойду!
— Ишь какой упрямый! Ну, прощай!
И братья расстались.
Что раз решил Борис Морозов, то должно было и совершиться, — Глебу не следовало сидеть затворником дома. Это не входило в расчеты старшего брата, влиятельного во дворце.
— Чтой-то давно не вижу я твоего брата Глеба, Иваныч? Аль занедужился он сильно? — спросил как-то Алексей Михайлович Морозова.
— Здоров он, великий государь, — поспешил ответить Борис, — только по жене своей покойной очень скучает…
Алексей Михайлович, обернувшись на сидевшую рядом молодую царицу, внимательно посмотрел на старшего Морозова.
Через несколько дней Глеб Иванович был приглашен в Кремль.
Его изумило, как приветливо и ласково был он встречен царем и царицей во дворце.
Долго расспрашивали они младшего Морозова, как живется ему сейчас и, наконец, царица неожиданно спросила, не хочет ли он снова жениться.
— Да кто ж за меня, старика, замуж пойдет? — растерялся Морозов. — На шестой десяток пошло…
— А вот нам известно, что много девушек на тебя зарятся, — мягко проговорила царица Мария Ильинишна.
Возражать ей снова боярину было неудобно. Он молча дослушал и тихо спросил:
— Кто же эти красавицы, что за меня, старика, пойти решаться?
— Известна ли тебе дочь окольничего Прокопия Федоровича Соковнина? — спросила царица.
Глеб Иванович сразу вспомнил девушек, так поразивших его во время царской свадьбы.
Морозов замялся, не зная, что ответить царице.
— Сейчас тебе, боярин, напомним!
И Мария Ильинишна приказала кравчей боярыне, княгине Авдотье Коркодиновой, сходить за Федосьей Соковниной.
Вскоре в царицыну горницу, где происходил разговор, раскрасневшаяся даже под густым слоем белил, которыми покрывали в древней Руси лицо женщины и девицы, вошла Федосья Прокофьевна Соковнина.
Морозов мельком взглянул на молодую Соковнину и, по-видимому, сразу решившись, подошел к царю и, низко поклонившись ему и царице, твердо произнес:
— Благоволите, государь великий, и ты, государыня-матушка, посватать мне девицу Соковнину, Федосью Прокофьевну…
Государь ласково улыбнулся и, подозвав Федосью, спросил:
— Позволишь мне, девица-красавица, тебе сватом быть?
Соковнина зарделась еще больше и чуть слышно прошептала:
— В твоей воле, государь.
Сейчас же за отцом ее, Прокопием Федоровичем, был отряжен особый посол. Старый окольничий не долго заставил себя ждать и вскоре явился пред светлые царские очи, не зная еще, радоваться ли ему, или печалиться от такого поспешного сватовства.
Не прошло и получаса, как младший из братьев Морозовых и Федосья Прокопьевна Соковнина были «образованы», то есть благословлены образами, здесь же, в палатах царицы.
К изумлению всей своей дворни и челяди, Глеб Иванович вернулся домой женихом. Печаль, которую он испытывал после смерти жены, за год значительно смягчилась. Морозов, сам того не понимая, томился больше своим одиночеством.
Сватовство происходило в сентябре 1652 года, а в первой половине октября Федосья Прокопьевна Соковнина стала боярынею Морозовой.
Достатков у ее отца было немного. Необходимое в те времена приданое сделала невесте царица Мария Ильинишна за свой счет.
Венчали их, по желанию царя, в одном из кремлевских соборов. Царица была посаженною матерью. Свадьбу отпраздновали пышно.
Вскоре и младшей Соковниной, Евдокии Прокопьевне, нашелся жених, князь Петр Семенович Урусов, один из близких к царю людей.
Федосья Морозова и Авдотья Урусова, как говорил и сам «тишайший» царь, смотрели на замужнюю жизнь крайне строго. В особенности Федосья Прокопьевна.
Выйдя семнадцатилетней девушкою за человека, годившегося ей чуть не в деды, она сразу ушла вся в домашнюю жизнь и, хотя вскоре после свадьбы и была пожалована званием «приезжей боярыни», то есть одной из тех, которые имели доступ к царице и выбирались в ограниченном числе, тем не менее, в царицины палаты ездила не часто.
— Приезжай, боярыня, в четверток ко мне, — сказала как-то царица, Мария Ильинишна, очень любившая степенную и немного угрюмую свою дальнюю родственницу, Федосью Морозову, — у меня старицы соборные обещались быть.
Возможность послушать стариц постоянно приманивала молодую боярыню бывать по этим дням во дворце; собирались у царицы старицы из разных монастырей: Вознесенского, Новодевичьего и других. Это были преимущественно вдовы или дочери именитых бояр; не мало среди них было и родственниц царского дома.
По четвергам за столом у царицы сидело их обыкновенно до двенадцати.
Старшею гостью на этих обедах считалась сестра царицы Анна Ильинишна Морозова, жена брата Глеба Ивановича, Бориса, самого близкого к царю боярина.
Только самых ближних боярынь приглашала на эти обеды царица. Звать их ходили обыкновенно боярские дети царицына чина, получавшие от приглашаемых обычное «зватое» деньгами.
Здесь, в верхних царских палатах, местничество между приглашенными и соперничающими боярынями процветало не менее, чем среди бояр внизу.
Дабы искоренить этот неудобный обычай, царица нередко давала боярыням приказ:
— Сидеть без мест!
И этого никто не осмеливался ослушаться.
В сводных списках приезжих боярынь имя Федосьи Прокопьевны значилось седьмым из общего числа сорока трех.
Одно время боярыня Морозова была у царицына стола, который накрывался особо, даже кравчей, но ненадолго.
— Не гоже тебе, Федосья Прокопьевна, зря утруждаться послугою, — сказала как-то Мария Ильинишна, и с той поры эта должность была передана другой боярыне, а Морозова заняла за столом свое прежнее место.
Не любила молодая женщина торжественных обедов в покоях царицы; ей приятнее было присутствовать на домашних собраниях у государыни.
— Тихо таково, чинно пищу вкушают, — рассказывала она мужу, — старицы соборные про себя молитву творят; крестовый протоиерей, отец Сергий, чин возношения хлеба Пресвятые Владычицы Богородицы каждый раз совершает, отправляет с пением многим «чашу Пречистой»! Хорошо в те поры у царицы!
Со вниманием слушал Глеб Иванович рассказ молодой супруги; степенному, богобоязненному боярину она пришлась по душе. Он любил тихое семейное счастье и, несмотря на разность лет между ним и Федосьей Прокопьевной, он привязался к ней чуть ли не больше, чем к своей первой жене.
Любил свою молодую сноху и Борис Иванович, первый царский советник.
Старший Морозов поражался ее начитанности, довольно редкою среди женщин того времени, ее серьезностью и сообразительностью.
— Ну, брат Глеб, вымолил же ты у Господа себе жену! Всем взяла: и лепотою, и разумом, и обхождением! — не раз повторял он брату.
Младший Морозов довольно ухмылялся и, поглаживая осанистую бороду, седина в которой пробивалась уже сильнее, отвечал:
— Много Богу за счастье, мне посланное, благодарен; государя великого с царицей-матушкой до конца дней моих помнить буду за доброту ко мне старому!
И, глядя на висевший в углу горницы большой образ Милостивого Спаса, осенял себя широким крестом.
III
Богато жил Глеб Иванович.
Дом боярина был сказочно богат. Одной челяди прислуживало больше трехсот человек; не мало было приживальщиков, друзей и сродственников. Имущества, находившегося в дому, считали тысяч на двести рублей. По тому времени это было огромное состояние.
Кроме того, царь подарил ему несколько земельных имений с восемью тысячами крестьян.
Выезд Морозова знал чуть-ли не каждый москвич; дорогая позолоченная карета с серебряными и мозаичными украшениями, запряженная в шесть или двенадцать лошадей, с гремящими серебряными цепями, обращала на себя общее внимание.
За каретой в большие выезды шло, смотря по обстоятельствам, от ста до трехсот дворовых людей «ради для сбережения здоровья господ и охранения их чести».
Обоих супругов любили как в палатах у царицы, так и у царя.
— Како веровати и жити богоугодно, поучи-ка, сестрица, меня старика, — обращался не раз Борис Морозов к своей молодой снохе, — ты ведь искусна в духовных словесах, а нам, грешным, до них добираться время не хватает: все в заботах да в трудах на пользу государя-батюшки и государства русского!
— Чему могу учить вас, братец, — скромно, но с достоинством отвечала Морозова. — Мужской ум куда выше нашего бабьего; побеседовать я готова с вами…
И эти беседы иногда длились несколько часов.
Красноречивую женщину, умевшую прекрасно говорить, Борис Иванович слушал со вниманием.
— С любым из наших попов твоя жена поспорить может, — сказал Глебу как-то старший Морозов. — Откуда у нее только берется все это?
И он, возвращаясь домой, с сожалением сравнивал свою жену, Анну Ильинишну, сестру царицы, тоже красавицу, со своею снохою.
— Эх, Ильинишна, езжай-ка ты почаще к Федосье Прокопьевне, ее послушай.
Анна Ильинишна послушно исполняла мужнину волю, ездила в дом младшего Морозова и беседовала с его женою.
Встречались обе снохи приветливо, разговаривали подолгу, но дружбы между ними не было. Прозорливый Борис Иванович догадывался об этом, но Глеб ничего не замечал.
Вскоре большая радость случилась в морозовском доме: молодая боярыня родила сына Ивана.
Бездетный во время тридцатилетнего первого брака, Глеб Иванович обезумел от радости.
— Слышь, брат, на старости лет до какой радости-то дожил, — говорил он Борису, — сына Бог дал родного! Не умрет наш род, отпрыск есть! Стар вот только я, — не поднять Ивана, не видать его большим!..
Младший Морозов печально умолкал.
Вещие предзнаменования и предчувствия не проходят бесследно.
Глеб Иванович томился каким-то предчувствием, ожиданием скорого конца.
Однажды, разговаривая с царем Алексеем Михайловичем, он совершенно неожиданно произнес:
— Скоро, скоро, великий государь, я с тобой расстанусь…
— Ни за что, государь великий, я тебя не покинул бы волею, а неволею должен буду!
— Кто же тебя, боярин, неволит?
— Смерть! — глухо произнес старик, — сторожит она меня, дожидается.
— Аль занедужилось тебе, Иванович, что о смерти заговорил? — участливо спросил царь.
— Недуга особого, государь, не чувствую, а все точно во мне замерло, все не стало мило, тоска вот так сердце и щемит.
— Не спослать-ли к тебе лекаря моего, Готфрида? — снова спросил Алексей Михайлович.
— Куда его, царь милостивый, — не нужно, — вспомнив о лечении царским врачом своей первой жены, промолвил Морозов.
— Так отдохни дома, — участливо сказал царь, — пройдет!
Но тяжелое настроение, овладевшее им, не проходило, он затосковал еще сильнее.
— Помни, Федосья Прокопьевна, — говорил он жене, — все исполни, что я про сына, про Ивана, тебе сказывал! Старину чти, новшеств бойся, не доведут до добра они! Живи благообразно, как и ныне живешь, не уклоняйся от установлений, что нам положены изстари!
Глеб день ото дня становился все молчаливее и мрачнее.
Чувствовалось, что какой-то неизвестный недуг овладел боярином.
Богомольный от самых юных лет, Глеб Иванович все время шептал молитвы, перебирая четки.
Встревоженный болезнью Морозова, приказал Алексей Михайлович послать к боярину немца Готфрида.
Послушный приказаниям царя, Морозов дал себя осмотреть и, когда лекарь после осмотра шутливо заметил: — «Не важен недуг твой, скоро на ноги встанешь», — боярин недовольно взглянул на немца.
— Ничего ты, мейстер Готфрид, не разумеешь, как и тогда, когда жену мою покойную пользовал: смерть моя уже близка, я чувствую, что она у порога!
Обидевшийся Готфрид, не дав никакого лекарства, ушел.
На другой день к вечеру Глеб Иванович скончался.
IV
Не растерялась молодая вдова после смерти мужа: она ожидала ее и была приготовлена самим Морозовым.
Еще до выхода замуж за Морозова, Федосья Прокопьевна, как и сестра ее Авдотья, исповедывались у протопопа Аввакума.
В то время Аввакум был очень близок к царскому духовнику отца Стефану Вонифатьеву и благодаря этому был принят в доме у Соковниных.
Умело влил этот наставник в чуткое сердце обеих девушек привязанность к постнической жизни, к добродетели и воспитал крепкие, верующие характеры.
Сильнее его влияние сказалось на боярыне Морозовой.
Понемногу она начала уклоняться от посещения царских палат, ссылаясь на недавнюю смерть мужа, на свое горе по нему, на свое вдовство.
Царь и царица верили этим причинам, и Алексей Михайлович однажды даже сказал царице:
— Навестила бы вдову Глеба Морозова: сказывают, убивается она по нему, утешила бы!
На другой день тяжелая карета царицы была на дворе Морозовского дома.
Федосья Прокопьевна с почетом приняла высокую гостью, почтительно выслушала все, что Мария Ильинишна говорила в утешение. На замечание последней, отчего она не бывает во дворце, отозвалась:
— Прощения прошу, матушка-царица, не могу управиться все еще с хозяйством после покойного Глеба Ивановича.
— Дело не женское, не легкое, — задумчиво проговорила царица, — ты бы, Федосья Прокопьевна, деверя своего, Бориса Ивановича, попросила тебе помощь оказать.
Морозова низко поклонилась гостье.
— Спасибо ему, он меня, сирую вдову, не оставляет! — прошептала она в ответ.
Долго еще не являлась в царских палатах молодая вдова, пока, наконец, сам Алексей Михайлович не спросил у своего наставника:
— Долго же сноха-то твоя по мужу горюет! Борис Иванович, скажи-ка ей, чтобы к нам сюда пожаловала, мы ей здесь женишка подыщем, — не все же вдовою оставаться; баба молодая, лепоты изумительной!
Морозов передал приказ царя снохе.
— Нужно царской воле покориться, Федосья Прокопьевна, — сказал он ей.
И Морозова покорилась ей.
V
Богатая карета Морозовых подъехала к крыльцу и Федосья Прокопьевна, усевшись в нее, отправилась в царские палаты.
Не хотелось ей шумного выезда, как раньше при покойном муже, но обычай старой Москвы не позволял ей поступить иначе и, скрепя сердце, Морозова должна была соблюсти его.
С шумом, грохоча тяжелыми колесами, звеня бубенцами, которыми затейливо была убрана конская сбруя, выехал из ворот Морозовского дома парадный поезд боярыни.
Сзади и около кареты бежало более сотни Морозовской дворни.
Медленно катилась тяжелая карета, ведомая двенадцатью конями, по узким улицам первопрестольной, обращая на себя общее внимание.
— Честная вдова Морозова к царице на поклон поехала, — говорили прохожие.
О приезде Морозовой Марья Ильинишна была предупреждена Борисом Ивановичем.
Когда тяжелый поезд остановился у царицына крыльца, Марья Ильинишна послала боярышень встретить гостью.
На боярыне Морозовой была одета телогрейка из темно-красного аксамита, подбитая синего цвета тафтой.
Белый мех обшивки нацветивался черными песцовыми лапками. Вокруг шеи лежало кружево из зуфи. На голове у боярыни, по обычаю того времени, был надет столбунец, высокая шапка с прямою тульей. Башмаки боярыни были сделаны из зеленого атласа. Лицо свое Морозова набелила и нарумянила умеренно. Ей не нравился этот обычай, распространенный в то время на Руси.
В свою очередь царица была одета ради редкой гостьи в малый наряд.
Несмотря на летнюю жару, поверх роскошного летника, из червчатого аксамита с травками, на плечах молодой женщины лежало тяжелое бобровое ожерелье.
Совершив, согласно обычаю того времени, низкий поклон перед царицей, Морозова села по приглашению Марии Ильинишны на невысокий красный табурет, стоявший пониже царского седалища.
Царица задумалась. Она не знала, как начать разговор о новом замужестве.
— Скучаешь, поди, боярыня, по супруге покойном?
— Болит душа, матушка-царица, рано Глеб Иванович скончался. Хозяина в доме не осталось… Сын Иван еще малютка, а мое дело бабье.
Удобный момент для разговора о замужестве наступил.
— Подожди маленько, Федосья Прокопьевна, оглядись, приглянется авось кто тебе, ты еще молода. Муж-то старый был, — вкрадчиво заметила царица.
Суровым стало красивое лицо Морозовой, холодом повеяло от него.
— Скажу тебе, боярыня, больше, — продолжала Марья Ильинишна, — есть у меня на примете млад человек: красив он, знатен, молод, не раз просил царя замолвить за него перед тобою слово. Назвать?
Морозова порывисто привстала с табурета и, стараясь сдержать волнение, ответила:
— Прости меня, царица-матушка, всего год минул, как скончался Глеб Иванович, о сыне впору подумать! Завещал мне покойный муж воспитать Ивана в вере православной, верным слугою царю и родине его сделать: как же могу я это все совершить, коли буду о своем собственном счастии пещися?
— Подумай, что ты говоришь, Федосья Прокопьевна, ведь ты еще молода: сколь соблазно для женщины без мужа быти! Пожди, пораздумай, а там видно будет.
Еле заметно покачала головой боярыня.
— Молю тебя, царица-матушка, дозволь в честном вдовстве остаться, не неволь идти вторично замуж.
На красивом лице Марьи Ильнинишны показалось разочарование.
— Неволить тебя, боярыня, я не буду! Строй свою жизнь сама, тебе виднее… А все же пораздумай, — ласково прибавила царица.
Морозова не ответила.
VI
Несмотря на желание замкнуться в домашних заботах, посвятить себя только воспитанию сына, которому уже шел одиннадцатый год, Федосья Прокопьевна была вынуждена вести образ жизни богатой московской боярыни.
Пышные выезды в царские палаты, к родственникам, к знакомым, приемы у себя дома занимали много времени и забирали много сил.
По обычаю тех времен, вдовство считалось почти иночеством, и постепенно жизнь Морозовой стала приобретать другие черты.
Еще когда девушкой находилась Федосья Прокопьевна у царицы, она не пропускала ни одной церковной службы в кремлевских соборах.
Теперь же ее дом все больше стал походить на монастырь.
День был строго распределен. Утром, после чтения положенных молитв и жития святых, Морозова погружалась в домашние заботы, старалась вникнуть во все дела, выслушивала домочадцев и крестьян своих вотчин, ласково награждая заслуживших награду и строго наказывая виновных.
Время после полудня было посвящено делам милосердия. Ее дом был полон нищими, странными, юродивыми, калеками, убогими, старцами и старицами. Все это жило здесь у нее и кормилось за ее счет.
Это давало Морозовой нравственное удовлетворение. Ей хотелось помогать обездоленному люду.
Как-то раз деверь ее, Борис Иваныч, недовольно заметил:
— Что это ты, сестра, такую уйму калек при себе держишь?
Взглянув ему в глаза боярыня сказала:
— А помнишь-ли, Борис Иваныч, что в Домострое сказано: «Церковников и нищих, и маломощных, и бедных, и скорбных, и странных пришельцев призывай в дом свой, и по силе накорми, и напои, и согрей, и милостыню давай и в дому, и в торгу, и на пути; тою бо очищаются греси, те бо ходатаи о гресах наших».
С изумлением слушал царский воспитатель слова снохи и, когда она окончила, тихо ответил:
— Наградил тебя Господь бог, сестра, разумом светлым и сердцем любвеобильным. Как ты писание осилила, что без книги говорить можешь!
После этого Борис Иванович уже никогда не укорял Морозову.
Управившись со своими призреваемыми, Федосья Прокопьевна каждый день занималась с сыном. Сама учила его грамоте.
Помощницею Морозовой в доме была домочадица Анна Амосовна.
Нередко Морозова садилась сама за прялку, пряла нити или шила рубахи и вечером вместе с Анной Амосовной, одевшись сама в рубище, ходила по улицам и по площадям московским, по темницам, по богадельным, оделяла теми рубахами нищих и убогих и раздавала им деньги.
В доме Морозовой проживали тайно пять изгнанных инокинь. Вместе с ними стояла она по ночам на правиле.
Кроме того, в обширном морозовском доме нашли себе место немало больных.
Молодая женщина самоотверженно ходила за ними, омывала гнойные раны и сама подавала им пищу.
Масса юродивых, припадочных, сирот жили здесь и обедали вместе с боярыней за одним столом.
Между юродивыми, приходившими к Морозовой, были Федор и Киприян. Федор, ходивший в одной рубашке, босой, никогда не одевал на себя ничего другого даже в самые лютые морозы и весь день юродствовал на улицах, а ночи простаивал на коленях, молясь со слезами.
VII
Семнадцатый век, в котором жила Морозова, был особенным.
Среди неурядицы русской жизни явился человек, сильной воле которого покорился сам царь.
Это — патриарх Никон.
Властно принялся он за реформу устаревших церковных обычаев, стал исправлять издававшиеся все более и более с ошибками церковные книги, и исправив, повелел печатать их на печатном станке: до сих пор они были писанные.
Замена писанных книг печатными, исправление ошибок, к которым издавна все привыкли, приобрели Никону много врагов среди темного московского населения.
Ошибки и описки эти, освященные временем, были дороги последним. Например, из-за знаменитого «аза», который был изъят из второго члена символа веры — «рожденна, а не сотворенна», — возгорелась целая борьба.
Приверженцы старого благочестия находили в этом «азе» какую-то таинственную силу и стояли за него горой.
Дело дошло до того, что когда при первом печатании церковных книг этот аз был окончательно уничтожен, как вписанный кем-то по ошибке, Аввакум, бывший в то время одним из тех, кто проверял, правильно ли напечатаны новые книги, вместе с единомышленниками согласился скорее умереть, чем согласиться выбросить этот «аз».
Это упрямство настолько возбудило патриарха Никона, что он подверг несогласных с реформой наказаниям и даже ссылке. Но приверженцы Аввакума стали еще больше противиться нововведениям.
Аввакум был своим человеком в доме Соковниных, был духовником и руководителем Федосьи Прокопьевны еще в то время, когда она была в девушках, — и ссылка протопопа опечалила Морозову.
Ее сочувствие Аввакуму все росло, она все больше верила в его правоту, и считала сосланного жертвой Никона.
Но недолго остался у власти и Никон. Вскоре он отказался от патриаршества и удалился в Воскресенский монастырь.
Государь посылал к нему князя Трубецкого и Родиона Стрешнева, просил его возвратиться на патриарший престол, и Никон, сперва отказавшись, потом все же вернулся.
Но теперь сам государь не принял его.
Над ним был назначен суд из восточных патриархов.
Низвержением Никона воспользовались его недруги и помогли вернуть из ссылки Аввакума и его приверженцев.
С этого момента Морозова еще больше уверовала в правоту своего духовника и стала одной из самых ярых его последовательниц.
Незадолго до своей ссылки, Аввакум ввел в морозовский дом одного монаха Симонова монастыря, старца Трифилия, тоже убежденного староверца.
Этот инок происходил из очень знатного рода. Его поучения настолько заинтересовали Федосью Прокопьевну, что она всегда была рада, когда Трифилий посещал морозовский дом.
На ее просьбу указать благочестивую женщину, которая могла-бы поддерживать и укрепить ее в учениях, Трифилий указал на инокиню Меланию.
Морозова пригласила ее к себе и она сразу понравилась. С этого дня Федосья Прокопьевна ничего не делала без ее разрешения и до самой своей смерти не ослушивалась ее повелений.
Убежденная староверка, Мелания была такою же фанатичною последовательницею старины, как и сам протопоп Аввакум.
Боярыня Морозова посвятила себя борьбе за старину, за старую веру и против введения каких-либо новшеств и исправлений.
В этой борьбе она находила для себя цель жизни.
Борьба эта ее волновала; боярыня всецело отдалась ей.
Вводимые новшества на Руси, даже без обсуждения их пользы или вреда, сразу встречали в боярыне жестокого, неумолимого врага.
Важное значение привлечь Морозову к общему делу понимали прекрасно все староверы.
Благодаря своему влиянию в царицыных палатах, а равно и прекрасным отношениям своего деверя, Бориса Ивановича, к царю, Морозова была для них надежным прикрытием и потому в ее дом все недовольные новыми порядками шли в полной уверенности, что за его стенами они находятся в полной безопасности.
VIII
В один из дней к Федосье Прокопьевне приехала ее сестра, княгиня Авдотья Прокопьевна, жена царского кравчего, князя Петра Семеновича Урусова.
— Как же ты, сестра, решилась идти против патриарха всея Руси? — спросила Урусова.
Морозова строго взглянула на сестру.
— А разве не его соизволением иноземские обычаи вводить стали?
— Слушай, сестра, ты бы опаску имела, — с испугом зашептала княгиня, — неровен час, наговорят батюшке царю на тебя, и постраждешь ты за свои слова.
— Нет, сестра, за правду всегда стоять буду, а коли Бог попустит, то и постражду, — уверенно проговорила Морозова. — Ты так же, как и я, от отца Аввакума учение приняла, зачем же ты напротив нас идти стремишься?
Евдокия Прокопьевна смутилась, испуганно спросила Морозову:
— Что же я должна сделать?
Морозова с радостным изумлением взглянула на сестру.
В тот же день она познакомила сестру с инокинею Меланией, — и Евдокия точно так же, как и сестра, отдалась ей в полное послушание.
Эта победа обрадовала староверов. Они понимали, что привлекая Урусову к себе, получали этим важную заступницу у престола.
Сестры Соковнины состояли в родстве с Ртищевыми. Те тоже происходили из дворян города Лихвина и были приняты очень близко в царевых палатах.
Однажды Урусова рассказала царскому постельничьему Михаилу Ртищеву о своем знакомстве с матерью Меланией.
Ртищев приходился Урусовой и Морозовой дядей; кроме того, он была близок царю и поддерживал его стремление исправить старые книги.
В дворцовых палатах образовались две партии. Одна из них держалась Аввакума, древнего благочестия и, благодаря этому, была очень близка к царице, признававшей только старые уставы и сознательно их поддерживавшей, тогда как Ртищевы стояли за Никона.
Желая надоумить племянницу Морозову, Михаил Ртищев приехал к ней в дом вместе со своею дочерью Анною.
— Наслышаны мы, племянница, — благодушно заметил почтенный царедворец, — что ты вопреки царскому указу старинную ложь поддерживаешь?
Морозова слегка покраснела.
Ртищев, заметив это, усмехнулся.
— Говорят, порицаешь, племянница, патриарха Никона. Прельстил и погубил тебя злейший враг, протопоп Аввакум.
Морозова сдержанно ответила на слова дяди:
— Нет, дядюшка, не так, это не правда. Отец Аввакум — он за закон Владыки своего.
Ртищев, недовольный ответом, хотел уже резко возразить ей, как его дочь Анна вдруг остановила:
— Постой, отец, дай мне с нею поговорить; может быть, она меня послушает.
И, обратившись к Морозовой, с сожалением промолвила:
— Ох, сестрица, съели тебя староверы. Как птенца, отлучили тебя от нас. Не только презираешь ты нас, но и о сыне своем не радеешь! Одно только у тебя чадо, а ты и на того не глядишь! А еще какое чадо-то! Кто не подивится красоте его…
С неудовольствием слушала Морозова слова Ртищевой.
— Не правду ты говоришь, сестрица, не прельщена я никем. Ивана я люблю и молю о нем Бога беспрестанно. Если ты думаешь, что мне из любви к нему душу свою повредить или ради Ивана отступить от благочестия и этой руки знаменной, то сохрани меня Сын Божий!
— Какая ты жестокая стала, племянница, — воскликнул царский постельничий.
— Не хочу, любя своего сына, себя губить; хотя он и один у меня, но Христа люблю более сына! Знайте, что если вы умышляете сыном меня отвлекать от Христова пути, то никак этого не сделаете.
— Подумай, сестрица, что ты говоришь, — тревожно сказала Анна Ртищева.
Но Морозова одушевлялась все более и более:
— Вот что вам скажу: если хотите, выведите моего сына Ивана на площадь и отдайте его на растерзание псам, устрашая меня, чтобы я отступила от веры… Не помыслю отступить благочестия, хотя бы и видела красоту его псами растерзанную.
Царский постельничий вместе с дочерью с ужасом смотрели на вдову, которая, дрожа всем телом, нервно произносила эти слова.
— Э, полно, Феничка, — стараясь скрыть свое волнение, проговорил Ртищев, — брось, зачем такие страхи придумывать? Никто от тебя твоего сына не отнимет, — живи, как хочешь!
— Горяченька же ты, племянница, — добродушно заметил он, когда все немного успокоились, — да ты не бойся, у тебя у царицы заступа большая есть, царевна-матушка о тебе печется, в обиду не даст.
Расстроенные отец и дочь Ртищевы вскоре уехали от Морозовой.
Они не знали, что Морозова уже давно готовится в монахини.
Пострижение Морозовой совершалось здесь же, в ее доме, совершал его старовер, бывший Тихвинский игумен Досифей.
Федосья Прокопьевна была наречена Феодорою, и Досифей отдал ее в послушание той же Мелании.
— Зело желала я иноческого образа и жития и наконец удостоилась его сподобиться! — восторженно говорила новая инокиня своему наставнику Аввакуму и начала отдаваться еще больше подвигам, посту, молитве и молчанию, управление же домом передала своим верным людям.
IX
Прошло два года.
Про Морозову у царя говорили мало.
Редко появлялась Федосья Прокопьевна и у царицы. Но обстоятельства заставляли ее все-таки не разрывать сношений с царскими палатами.
Аввакум, а равно и Мелания, которых она слушалась, заставляли ее, в видах предосторожности, бывать на торжественных выходах в Кремле.
— Свет мой, сестра Феодора, — говорил Морозовой не раз протопоп, — ради бережения нас всех должна ты бывать у царя. Как минута злая придет, — сможешь всем нам помочь!
И вдова послушно исполняла его волю.
Сам Аввакум проводил все время в духовных прениях с православным духовенством. Чаще всего ходил он для этого в дом к Феодору Ртищеву, куда являлись для споров с ним киевские ученые монахи.
Жил он по-прежнему в доме Морозовой.
Здесь навещала его и сестра Морозова, княгиня Урусова, духовная дочь Аввакума.
Скоро постигло начинавших укрепляться староверов неожиданное горе.
В сентябре 1867 года скончалась Анна Ильинишна, вдова Бориса Ивановича, последнее время бывшая верной заступницею их перед царем, благодаря своей сестре-царице.
Закручинились о смерти золовки Мелания и Федосья Прокопьевна.
— За нас царица-матушка, — уверенно сказала боярыня, — она нам всегда поможет!..
Задумчиво покачала головой Мелания и ничего не ответила.
Снова минул год.
Первого сентября 1668 года к Морозовой явился царский посол — великий государь приказал звать Морозову на обед в царские палаты…
Морозова решила посоветоваться со своей наставницей Меланией.
— Не премини сходить, сестра Феодора, к царю: сказывали, проверить хочет, сколь ты послушна его воле.
Покоряясь воле наставницы, Морозова поехала в царские палаты.
Царица приветливо встретила любимую боярыню.
— Редко ты к нам ныне жалуешь, Федосья Прокопьевна, — милостиво обратилась царица к гостье. — Пока была жива сестрица, ты чаще жаловала.
За столом Морозова молчала, творя в уме молитву. Ей казалось, что она нарушит послушание, если будет вести разговор.
Царь приметил ее появление на праздничном обеде и по окончании его ласково сказал:
— Загордилась, боярыня, ой, загордилась!
Недолго пробыла Морозова на этот раз в царских палатах, но и этого было достаточно, чтобы все обвинения, которые не переставали поступать на нее к царю, пали…
И радостная своею победой, вдова возвратилась домой к ожидающим ее с нетерпением Аввакуму и Мелании.
— Ну, уж теперь поборюсь я с отступниками, — задорно сказал протопоп, — завтра Феодор Ртищев назначил в Преображенском монастыре толкование. Тридцать иноков понаехало туда из Киева да из Межегорского монастыря, то-то поборюсь!
Дом Морозовой по-прежнему был переполнен множеством приверженцев старины. Юродивые, увечные не переводились, продолжали жить пять старцев, подначальных Мелании.
Анисья, которой когда-то, уезжая в ссылку, поручил Аввакум свое духовное стадо, находилась здесь же, и вместе со всеми совершала ежедневно положенные правила и службы.
Сама Морозова совсем перестала заботиться о доме. Сын ее, Иван, настолько вырос, что мог заведывать всем. Но, опасаясь, что его увлекут никониане, протопоп Аввакум не доверял ему важных тайн, относившихся к последователям старой веры.
Неожиданно налетела новая напасть.
Царица, Мария Ильинишна, приверженность которой к старой вере всем была известна, в марте 1669 года умерла.
Скончалась царица Мария Ильинишна в третий день марта.
По обычаю тогдашнего времени, похороны должны были совершиться на другой день.
Государь не хотел уйти из комнаты почившей и почти все время до самого погребения провел там.
Величественно были совершены похороны.
На них присутствовали два патриарха, два митрополита, епископ, несколько архимандритов, игуменов и множество духовенства.
Стоили эти похороны по тогдашнему времени больших денег, которые сыпались щедрой рукой.
Одним нищим, следовавшим за гробом, было роздано по рублю на человека.
В третины, в девятины нищих и стражников кормили на аптекарском дворе и также давали деньги.
За отправление девятин в Чудовском монастыре царь раздал архимандриту с братией около пятисот рублей.
Немало было уплачено денег крестовым и певчим-дьякам, которые на гробу царицы псалтырь «говорили».
Царь разослал во многие монастыри для поминальных столов несколько сот осетров и белуг.
Первого апреля отправился царственный вдовец ночью по монастырям, везде молился за усопшую супругу и раздавал милостыню.
Зайдя к священнику Никите, у которого жил расслабленный Зиновий, царь, вручая ему деньги, промолвил:
— Молись, старче Зиновий, молись о душе царицы Марии, — и горько заплакал.
Алексей Михайлович повелел освободить колодников и тюремных стрельцов и заплатить за них писцовые иски и пошлины.
Так продолжалось целый год.
По свидетельству современников, на погребение и поминовения царицы пришлось употребить половину ежегодного дохода, собиравшегося со всего государства.
Вскоре после смерти царицы, кто-то из бояр заметил царю о том, что по кружилам и кабакам не прекращаются пение и песни.
— Твоя царская милость в горести находится, а народ веселится.
Царь вскипел. Не раздумывая велел собрать все музыкальные инструменты, какие только находились в Москве, свезти за город и сжечь.
Разрешено было заниматься музыкой одним немцам.
Но все-таки кое-где сохранились в домах гусли, домры, сурны и гудки.
Московский люд втихомолку продолжал на них играть. Опасность быть захваченным и поплатиться битьем батогами и денежной пеней мало кого останавливала. Несмотря на разосланные повсюду грамоты от митрополита, в которых последний грозил ослушникам наказанием без пощады и отлучением от церкви, музыка продолжалась.
Молодой Иван Морозов тоже пристрастился к игре на гуслях. Но едва об этом узнала его мать, Федосья Прокопьевна, гусли были уничтожены, а молодой человек, поставленный на строгую эпитимью, долго не вспоминал про музыку.
Так хотел заставить Алексей Михайлович Москву печалиться и грустить вместе с ним о смерти своей первой супруги.
Все сильнее разгоралась неприязнь между последователями старины и исправлениями патриарха Никона.
Во дворце царя уже не осталось никого, кто поддерживал «древнее благочестие».
С каждым днем «новшества» патриарха Никона интересовали Алексея Михайловича все больше.
Влияние Милославских почти совсем исчезло со смертью Марии Ильинишны.
Поддержки для Морозовой более не существовало.
До царя стали доходить слухи о постриге Морозовой, и он велел ей явиться во дворец.
Боярыня решилась противиться во что бы то ни стало свиданию с Алексеем Михайловичем и на первый раз сказалась больною.
На некоторое время Морозову оставили в покое, и о ней никто не вспоминал в царских палатах.
Снова кануло в вечность около двух лет.
Надумал царь вторично вступить в брак.
Снова запраздновала первопрестольная. Запировала она от радости о скорой царской свадьбе.
На московское торгу царило необычное оживление.
Степенные приказные дьяки сновали по лавкам для покупки вещей для свадьбы. Торговые люди ожидали хороших барышей.
В царицы ной мастерской палате день и ночь трудились чеботники и швецы.
Много было староверов, последователей протопопа Аввакума, среди мастеров царицыной палаты.
Мелания была недовольна затевавшимися празднествами.
— Сколь народу от молитвы за это время отстанет, — ворчала она и еще усерднее совершала ежедневные правила со своим пятериком стариц и самой боярыней.
«Зело радовалась» этому Морозова, предстоя с ними ночью на правиле Христу.
— Умаялась ты, сестра Феодора, — сказала как-то Мелания, замечая, что Морозова еле держится от бесчисленных поклонов и молений на ногах, — отдохнула бы!
Федосья Прокопьевна хотела что-то ответить своей наставнице, но сдержала себя и послушно проговорила:
— Волю свою я вконец отсекла, мать благая, и до конца дней моих ни в чем не ослушаюсь велений твоих!
И сейчас же пошла на отдых.
Алексей Михайлович приступил к выбору невесты.
По его приказу были собраны в Москву девицы дворянского и боярского сословия.
Их привезли в Москву в ноябре 1669 года. Большинство поместилось в кремлевских дворцовых хоромах, некоторые жили у родственников.
Целые полгода, до мая, смотрел их царь. После первых смотрин, когда часть девиц отпустили по домам, назначены были смотрины оставшихся, и из них были взяты ко дворцу только несколько, в числе которых находились дочь Ивана Беляева и Наталия Нарышкина.
Благодаря двум подметным письмам, найденным истопником перед Грановитою палатою, в которых была написана клевета против боярина Матвеева, родственника Нарышкиной, государь велел расследовать это дело. Обвинение пало на дядю Беляевой, Шахирева.
Это сильно повлияло на мнительного Алексея Михайловича, и вместо того, чтобы выбрать Беляеву, которая ему очень нравилась, его выбор пал на Нарышкину.
В конце святок 1670 года снова в доме Морозовой появился царский посол.
— Царь-батюшка повелел тебе, честная вдова, боярыня Федосья Прокопьевна, — сладко запел дьяк Арбенин, — на венчание его, милостивца, с Наталиею Кирилловной Нарышкиной, припожаловать.
Молча приняла царское приглашение Морозова; сурово взглянула она на посланца, угостила его стопою меда стоялого и проводила его с честью.
Только что закрылись ворота морозовского дома за царским посланцем, как боярыня пошла на другую половину дома, где у ней скрывались Аввакум, Мелания и прочие старицы.
— Отче праведный, напасть на меня опять великая, — упавшим голосом проговорила боярыня.
Встревоженный протопоп и Мелания переглянулись.
— Что такое, сестра Феодора? — спросил протопоп.
— Был у меня сейчас царев посланный, зовет меня на брак свой с Нарышкиной…
— Что-ж, нужно ехать тебе сестра… О, Господи! — задумчиво сказал Аввакум, — прогневлять царя нам теперь не рука, заступы за нас у него никого нет.
— Ой, отче, грех великий ехать мне на брак царев! — прошептала Морозова. — Ведь мне придется стоять в первых боярынях и титлу царскую говорить: как же назову царя я благоверным, коли он никонианскому отступничеству благоволит!
Мелания и протопоп снова задумались.
— Акромя того, нужно будет царскую руку лобызать, и невозможно избежать благословения их архиереев.
— Истинно говоришь ты, дочь моя, не можно тебе на брак царев пребывать.
— Верная ты еси дщерь церкви православной, — промолвила Мелания.
Это одобрение ободрило Морозову.
— Готова я пострадать лучше, нежели иметь общение с никонианами! — восторженно проговорила боярыня.
На общем их совете было решено, что Федосья Прокопьевна отзовется болезнью ног, чтобы не быть на царской свадьбе.
Незадолго до свадьбы к Морозовой снова пожаловал царский посол.
На этот раз боярыня приняла его сидя.
Поклонившись ей, он сказал:
— Повелел государь великий в другорядь упредить тебя, честная вдова, боярыня Федосья Прокопьевна, чтобы, как старшая из боярынь по мужу твоему покойному, Глебу Ивановичу, должна титлу царскую сказывать, а посему жалует государь великий тебя своею милостью, посылает камки и объяри и бархату веницейского, чтобы ты пошила из него телогрей да шубку.
С этими словами Арбенин, поклонившись хозяйке, передал ей привезенные подарки.
Боярыня смутилась.
Присыл подарков обязывал ее быть на царской свадьбе. Но это не поколебало ее решимости, и она сдержанно ответила посланному:
— Спасибо великому государю, что вспомнил рабу свою своею милостью, но с прискорбием должна отказаться от его царской ласки и милости: нога зело прискорбна, — не могу ни ходити, ни стояти, сам видишь.
И боярыня показала на свои ноги, обутые в тяжелые валеные пчедоги.
— Повелишь, боярыня, так и доложить государю милостивому, что ты на свадьбу его не пожалуешь? — с неудовольствием спросил дьяк Арбенин.
— Сам разумеешь, что не в силах я с места двинуться, а не только на царских празднествах быти! — слегка раздраженно ответила Морозова.
Аввакум и Мелания вновь одобрили отказ боярыни, хотя, по-видимому, ожидали от него немало печальных последствий.
Оказалось, что этот отказ был началом больших гонений на последователей старой веры.
«Тишайший» царь разгневался ужасно, когда посланный сообщил ему ответ Морозовой.
— Знаю, она загордилася, — промолвил государь, — и повелел избрать для сказания титла на свадьбе другую боярыню, затаив против упрямой свое неудовольствие на время.
Венчание происходило торжественно.
Великолепен и прекрасен был наряд молодой царицы во время ее венчания.
На голове была блестящая корона, вся в драгоценных камнях и жемчугах. Верх короны разделялся на двенадцать башенок, по числу двенадцати апостолов. Корона эта называлась «венец с городы», то есть с зубцами. Масса алмазов, сапфиров и топазов окружали ободь, низ которого был усажен гурмыжским зерном.
По обеим сторонам венца спускались тройные длинные рясы, то есть цепи, украшенные драгоценными камнями. Телогрея молодой царицы была сшита из розовой объяри с богатою бобровою обшивкою и самоцветными камнями вместо пуговиц, все швы были сделаны из драгоценной парчи. Запястья, достигавшие до пальцев, были вышиты по атласу червчатому, низанные жемчугом. Сверху телогреи на Наталии Кирилловне была одета мантия из тонкой материи, сплошь затканная золотом. Ожерелье на царице было тяжелое из седого бобра. Поверх его лежали мониста и диадема.
На ногах башмаки из лазоревого сафьяна, все обшитые также драгоценными камнями, причем закаблучье было обвито золотом.
Венчание происходило долго.
Вокруг царя и царицы толпой стояли боярыни в роскошных белых одеяниях.
Возвратившись из собора в палату, новобрачные царь и царица сели на царское место, начали принимать подарки.
Богато убранная палата переполнилась боярами и царедворцами.
После патриарха, первым поздравившего сочетавшихся браком, потянулся длинный ряд поздравителей.
Вместо Федосии Прокопьевны, «титло» говорила княгиня Воротынская.
Когда сели за брачный пир, сзади молодой царицы стояли и принимали яства и ставили перед ней ее отец Кирилла Полуэктович Нарышкин и боярин Артамон Сергеевич Матвеев.
Царицын дворецкий, стряпчие со всех дворцовых столовых, распоряжались отпуском кушаний.
Блюда и чаши приносили царские стольники.
Кравчие же царя наливали ему и царице вино в чаши.
«В столы смотрели», то есть подчивали гостей дворовые бояре и царские окольничьи.
Долго продолжался свадебный пир…
Счастливый своим браком, царь совершенно позабыл об упрямой боярыне Морозовой и вспомнил о ней только тогда, когда князь Урусов стал наливать ему чащу романеи.
Веселая улыбка, не сходившая до этого времени с лица Алексея Михайловича, сразу исчезла. Нахмурившись, взглянул он на князя и как-то нервно отдернул чашу, едва тот успел ее наполнить.
Князь понял, молча поклонился и более не решался подходить к государю.
Пир продолжался, пока царь, усталый от волнений, не сделал знак об его прекращении.
X
Миновала царская свадьба. Жизнь первопрестольной снова вошла в свою колею.
Казалось, ничто в царских палатах не изменилось. Тот же царь, те же обычаи, но в действительности все было по-другому.
Партия Милославских поддерживала «древнее благочестие», и, несмотря на ссылку, возвратившись из Мезени, протопоп Аввакум почти открыто проповедовал свои убеждения.
С женитьбой-же царя на второй супруге и с удалением Милославских от царского двора, поблажки староверам значительно сократились: Нарышкины были ярые приверженцы Никона.
В свою очередь и царь еще больше стал почитать все новшества, введенные патриархом Никоном.
Появлявшийся раньше при царице, Марии Ильинишне, в царском дворце и даже находившийся в числе верховых богомольцев, юродивый Киприан был оттуда изгнан.
А давно ли этот самый Киприан неоднократно молил государя о восстановлении древнего благочестия, и государь его благосклонно выслушивал! Ходить, как он раньше это делал, по улицам и торгам, обличая свободно языком новизны Никона, было строго воспрещено юродивому.
Но остановить его дерзкий язык было нелегко. Несмотря на запрещение, он продолжал везде громко восставать против нововведений и укорять за них царя.
Пришлось сослать Киприана в Пустоозерский острог, где он через некоторое время и был казнен за свое упорство.
Казнь последнего страшно повлияла на староверов, находившихся в Морозовском доме.
Встревоженный Аввакум и Мелания обдумывали, что предпринять.
Тем не менее, Алексей Михайлович не принимал еще никаких крутых мер против раскольников, хотя был хорошо осведомлен, что главное их гнездо — в морозовском доне.
Но, узнав о постриге Морозовой, и, сожалея о ее сыне Иване, находящемся под влиянием Аввакума и Мелании, решил принять меры.
Вспомнил царь, наконец, и о самой боярыне.
— Поезжай ты к ней, — сказал он боярину Троекурову осенью того же года, — и попытай, что она там творит в своем доме. Дошли до меня слухи разные; главное, насчет веры поспрошай ее.
Узнав о приезде боярина, Аввакум с Меланией благословили Федосью Прокопьевну открыто выступить, если понадобится, на защиту старой веры.
— А там мы тебе поможем, — прибавил протопоп.
Приветливо поздоровавшись с хозяйкою дома, Троекуров умолчал о причине посещения, только сказал:
— Царь-батюшка сильно пеняет, что ты никогда во дворце не бываешь.
— Плоха здоровьем стала, — уклонилась Федосья Прокопьевна, все понимая, и снова начала жаловаться на больные ноги.
— Коли занедужилось, так поправляйся, боярыня, а поправившись, к нашей молодой царице и пожалуешь, — добродушно проговорил Троекуров.
Видя вдову больной, он не стал расспрашивать ее об ее веровании, как наказал царь, и во дворце доложил, что боярыня действительно больна.
XI
Целый месяц царь не предпринимал ничего против Морозовой.
Крутые и быстрые меры не были в его характере; да кроме того, он не хотел возбудить против себя многих ближних бояр, так как Морозова была одна из первых при дворе и очень известна Первопрестольной.
Карать неповиновение церковной власти, а равно и гражданской в лице своей родственницы, он не хотел сразу, и ожидал, не смирится ли Морозова сама и не сознает ли свою вину.
Прошел целый месяц, но этого не последовало.
Теперь уже царь надумал послать к непокорной его воле боярыне с увещеваниями ее близкого родственника, князя Петра Урусова, мужа ее сестры Авдотьи и дядю ее сына Ивана.
Обитатели Морозовского дома радовались, что царь послал к ним именно Урусова.
Не как посла царева, а как ближнего родственника, вышла встретить Федосья Прокопьевна князя и даже не сняла с головы иноческого шлыка.
Но радужные ожидания не оправдались.
Урусов сурово поздоровался со свояченицей не как родственник, не как ближний человек, а как посол царский…
Князь молча сел на лавку у стола и строго спросил боярыню:
— По что прогневила ты царя-батюшку?
Морозова притворилась, что не понимает.
— Дивлюся я, князь Петр, почто царский гнев на мое убожество. Не знаю за собою никакой вины.
— Не криви душой, Федосья Прокопьевна: хорошо ты знаешь, чуешь, сколь вина твоя велика, да не хочешь всем признаться.
Урусов давно знал о Морозовском доме, как о приюте последователей старой веры. Да и жена его нередко проговаривалась об этом.
Тем не менее, не желая сразу запугивать вдову, он повел расспросы издалека.
В начале Федосья Прокопьевна отвечала довольно охотно, не с каждым ответом говорила меньше и меньше.
— Наслышан царь, что в твоем доме проживает много беглых монахинь, боярыня, да толкуют, что и протопоп у тебя здесь находится. Злейший он враг церкви.
Улыбнулась с сожалением Морозова.
— А что, коли так? Разве отец Аввакум не может у меня в доме пребывать?
— Не место ему здесь, — сурово заметил Урусов, — пусть сидит в монастыре, куда его назначили, и замаливает свои грехи.
По лицу боярыни пробежала недовольная улыбка. Она поняла, что объяснений не избегнуть.
— Ведь и твоя жена эти поучения слушала, — тихо промолвила Морозова.
— Знаю, боярыня, знаю и скорблю, — вздохнул князь.
— Что же желает царь от меня? — решилась Морозова прямо спросить.
Князь Петр твердо ответил:
— Выговаривает тебе батюшка царь, что ты произволом своим, никого не упредив, постриг на себя наложила. Подумала ли ты, Федосья Прокопьевна, что у тебя есть сын, что приспевает время сочетать его браком? Куда же ты его денешь, раз у тебя здесь в доме целый монастырь объявился?
Морозова молчала.
— Велика твоя вина перед государем, но он отпустит тебе, — продолжал Урусов, — коли ты покоришься его воле и все новоизданные церковные книги примешь.
Гордо взглянула вдова на деверя.
— За недоброе ты дело взялся, князь Петр, и трудно будет тебе со мной что-либо поделать.
— Ну, это еще посмотрим, боярыня! Заставит тебя царь батюшка!
Морозова совсем позабыла, что еще недавно говорила ему о больных ногах, и, поднявшись во весь рост, грозно посмотрела на царского посланца.
— В вере христианской, в которой родилась и крестилась, в той хочу и умереть, — проговорила Морозова. — От старой веры мне отречься невозможно.
— Думай сама, как поступать, да помни, свояченица, что я упрежал тебя. Я должен передать царю все, что ты мне говорила. Его воля тебя наказать, его воля и миловать.
И они расстались.
XII
После отъезда князя Морозова пошла совещаться с Аввакумом и Меланией.
— За что-же они ко мне такую ненависть питают, отче? — спросила Морозова.
— Как же им тебя не ненавидеть, сестра Феодора, — сказал Аввакум, — ты побеждаешь везде: и в дому своем, и где бываешь, на беседах, обличаешь и опровергаешь их прелесть, а им в уши все сие передают.
Морозова, довольная замечанием, прошептала:
— О, сколь злоба людская сильна, что даже людей веры праведной не оставляет в покое!
— Поди сегодня в вечеру, когда царь посланца своего выслушает, сидение о тебе в палатах будет, — продолжал протопоп, — и нас вспомянут, тебе-же в вину поставят.
Долго рассуждали они между собою.
Было решено идти на все испытания и мучения, только чтобы не изменить заветам старины.
— Созовем верхних и помолимся все вместе о даровании избавы истинной вере православном от никонианских ухищрений и лести их поборников, — торжественно предложил протопоп.
И вместе с обеими женщинами он отправился в другой конец дома, где была устроена молельня.
Там собрался «пятирик» изгнанных инокинь. Воскурили ладан, зажгли свечи, и моление началось.
Не скоро оно окончилось.
Утомленные долгими молитвами, инокини подошли к Аввакуму под благословение.
Затем, произведя уставные поклоны перед ним и старицею Меланией, старшая Елена обратилась к Морозовой со словами:
— Отпусти ты нас, сестра Феодора, из твоего дома…
Боярыня изумленно посмотрела на них.
— С чего это вы, матери, надумали? Живите здесь спокойно.
— Боязно нам, чтобы нас тут не захватили; гроза царского гнева приближается!
— Нет, голубицы мои, не бойтесь, никто вас здесь не тронет!
Неуверенно посмотрели на свою хозяйку инокини. Они сознавали, что преследования Морозовой должны усилиться, и тогда всем, живущим в ее доме, не миновать беды.
Видя печальные лица инокинь, Морозова поспешила их утешить.
— Верьте мне, сестры, теперь еще долго никто здесь не появится.
Тяжело было ей разорять этот мирный монастырь, где долгие годы безмятежно молились они вместе, где все уже сложилось, шло так правильно, одно за другим. Была уверенность, что устав жизни исполняется неустанно и богоугодно.
Печально расходились по своим кельям обитательницы Морозовского дома.
XIII
В царских покоях по приказу царя собрались: его духовник, ближний боярин Хитрово и князь Урусов.
Богато украшенный иконостас, весь установленный иконами, освещался трепетным светом множества лампад и восковых свечей, теплившихся почти у каждого образа.
Алексей Михайлович, одетый в домашний исподний кафтан из темно-алой объяри, с небольшою иерихонкою на поредевших кудрях, сидел задумавшись у стола на царском седалище.
У стены, недалеко от стола, помещались оба боярина, а духовник стоял перед царем.
— Что-же ты скажешь, отче Стефан, — нарушил первым молчание государь, — что надлежит теперь соделать с ослушницею?
Протопоп, рослый, полный, средних лет мужчина, слегка покосился на сидевшего у стены князя Урусова. Царь заметил его взгляд и проговорил:
— Говори смело при нем: он, хотя и родственник предерзостной вдове, но верный царский слуга.
Духовник откашлялся и глухим голосом сказал:
— Вина ее известна, великий государь! Беглый протопоп Аввакум давно проживает в ее доме; сказывают, что инокинь не мало, изгнанных из обителей, там же скрывается…
— Знаем мы все это хорошо, отче, — нетерпеливо прервал говорившего Алексей Михайлович, — ну, дальше, дальше-то что?
Протопоп немного смутился и замолчал.
Боярин Хитрово поспешил придти к нему на помощь.
— Дозволь слово сказать, великий государь…
Царь молчаливо кивнул головою.
Оружничий царский поднялся с лавки.
— Испробуй, государь, послать к ней архимандрита, как раньше спосылать изволил, пусть допрос учинит…
— Не время еще для этого! — прервал и его царь, — придет черед, пошлю…
Протопоп, наконец, решился предложить свой план.
— Спосылал бы ты, государь, в Морозовский дом боярина со стрельцами, пусть схватят Аввакумку-то да стариц, а мы им здесь допрос учиним.
Царь задумался.
— Говор великий по Москве пойдет, ослушницу вдову, поди, вся Белокаменная знает! Не хотел-бы я разруху дому ее делать! Подумайте что иное.
Присутствующие молчали.
— Для того и созвал я вас на это малое сидение, что не хотел разглашать о дерзостной вдове всей думе, — продолжал государь и снова наклонился к столу.
— Потайно взять ее самое да представить пред твои царские очи, — робко заметил духовник.
— Потайно! Как-же тебе удастся потайно ее схватить да из дому вызволить?! Неладное толкуешь ты, отче! — не удержался от замечания Алексей Михайлович.
— Возьми, государь, в тоем случае сына ее, Ивана, — предложил Хитрово.
— Почто сие действо? Какая на нем вина — ни ты, ни я не знаем! А невиновного зачем же брать?
— Коли сына возьмешь, так мать сама придет к тебе о нем просить!
— Неладное толкуете вы мне! Что скажешь ты, князь Петр? Тебе она роднее, ближе, ты можешь нам благой совет подать, — окинув его проницательным взглядом, сказал царь.
Урусов поднялся с лавки и, подойдя к столу, медленно произнес:
— Оставь ее на время в покое, государь. Попробуй, авось, одумается, а я тем временем наеду к ней, поговорю с ней не как посланец царский, а как родственник.
— Пожалуй, твоя и правда, — задумчиво прошептал Алексей Михайлович, — пождем!
Снова воцарилось молчание, нарушаемое только потрескиванием восковых свечей.
— Но только месяц, не больше шести недель ждать буду, а потом…
И государь решительно махнул рукою.
— Уйти прикажешь, государь великий? — робко спросил Хитрово.
— Идите с богом, а ты, князь Петр, останься: еще кое-что я передать тебе хочу.
Хитрово и царский духовник удалились.
— Сколь жалко мне, поверишь, князь, сына Морозовой, Ивана! Сын боярина Глеба мог бы быть верным слугою мне и государству, теперь же гибнет он среди глупых бредней этих изуверов! Вот ради него только и соглашаюсь я ждать покорности Морозовой…
Урусов низко поклонился царю.
— Спасибо, государь, за твою милость к ослушнице!
— Все, что я тебе сказал, все передай ей да посоветуй ей прогнать протопопа и всех стариц! Негоже это ей, боярыне Морозовой! А коли постриг свой захочет сохранить, в любой из монастырей поступить вольна!
И царь, сам взволнованный этими словами, отпустил князя.
XIV
На другой день утром Урусов повелел жене, чтобы она шла к сестре и передала ей волю государя.
Хотя Евдокия Прокопьевна сознавала, что государь отпустил для Морозовой срок покаяния только благодаря ходатайству князя Петра, ей показалось обидным, что сестру так не любят во дворце.
— Почто не оставят ее в покое, что злого содеяла она перед великим государем, чем прогневила она его?!
Урусов гневно посмотрел на жену.
— Сказывал я тебе чем. Ты это и сама сознаешь! Аввакум, Мелания да все им присные крутят голову твоей сестре. Пусть отошлет их от себя, и царь все простит ей!
— Святых людей ты, князь, напрасно винишь; они блюдут веру православную, как она идет издревле! Вина их, что они не хотят покориться новшествам Никона.
— Покорятся, княгиня, покорятся, — горячо возразил Урусов, — согнут им выю!
Румянец залил лицо Евдокии Прокопьевны.
— Никогда, князь, никогда этого не будет! В вере своей стойки они, ох, как стойки!
Изумленно взглянул Урусов на жену.
— Ты это откуда знаешь, княгиня, аль сама прельщена ими?
Урусова готова была признаться мужу о своих беседах с Аввакумом, но мысль, что это может повредить сестре и общему делу, остановила ее.
— Поезжай к сестре, — снова сказал Урусов, — старайся уговорить ее, время еще есть.
Княгиня уехала.
Передав Морозовой, что требовал от нее царь, Евдокия не ждала благоприятного ответа.
— Наша вера истинна, — запальчиво вмешался в разговор Аввакум, — и не может царь о ней настоящего понятия иметь, так как Никоновой ересью прельщен.
— Отсюда выходит, — сказала Морозова, — что царь наш неблаговерен: как же мы будем неблаговерному царю повиноваться и руку ему целовать?
— Горе, горе церкви православной, чего только не творят никониане. Ох, собаки, что вам старина-то помешала!
— Помешала, батюшка, помешала! — воскликнули некоторые из стариц, здесь присутствующих.
— Отыдите от нас, еретики, не замайте старых, святых, непорочных книг пречистых, как не беда бы содеяся в земле нашей?.. Всех еретиков от века в ереси собрали в новые книги. Духу лукавому напечатали молиться…
Голос протопопа становился все громче и громче. Глаза горели; фанатик сказывался в каждом его движении, в злобной нетерпимости к чужому учению.
— Не отступимся от православной веры, не служим никонианской ереси! — послышались голоса среди верных.
— Не слушайте, дети, не слушайте, пропадете, аки трава, ежели прельститесь их лестью, не подобает с ними, поганцами, вам верным и говорить много.
Дав немного успокоиться после произведенного им впечатления, Аввакум коротко произнес:
— Нечего много говорить.
И снова окинув всех пытливым взглядом, умело закончил следующими словами:
— Братия и сестры мои, светы! Запечатлеем мы кровию своею нашу православную христианскую веру со Христом Богом нашим, Ему же слава во веки, аминь.
Тяжело вздыхая, стали расходиться присутствующие.
В горнице остались с Аввакумом только две сестры, да старица Мелания.
Аввакум сел на лавку около стола, все три женщины стояли против него.
— Молю вы, о Господь, детки мои духовные, святы и истинны рабы Христовы! Бог есть с нами — и никто же на ны.
Ни Морозова, ни Урусова, ни даже испытанная Мелания не могли освободиться из-под его влияния.
Аввакум повелевал ими, как игрушками; он поработил их волю.
XV
Царь Алексей Михайлович понимал, что своевременное взятие под стражу беглого протопопа значительно сократило бы ряды последователей староверья.
Сама фанатично настроенная Морозова без его влияния далеко, однако, не была бы так уверена в своей правоте.
Раскол имел более глубокие корни, чем это в начале казалось.
Отрицая «благоверие» в государе, староверы отказывались этим повиноваться ему, а это само собою вело к отказу от подчинения новому порядку вещей и тому обществу, которое приняло и ввело этот новый порядок.
Вследствие нежелания подчиниться новым церковным преобразованием и несогласия с некоторыми обрядностями, приверженцы старой веры, выходило, отказывались от повиновения вообще властям.
Раскольники боролись не с одними только новшествами Никона и принявшим их православным духовенством, но также и с самим царем.
Пока была жива первая супруга царя Милославская, раскольники сознавали, что благодаря приверженности царицы и ее родни к староверью, им опасаться нечего: царица всегда заступится перед своим супругом.
Вторичная женитьба царя и водворение партии Нарышкиных при царском дворе все изменило.
Церковные преобразования, совершенные Никоном, были теперь признаны, и православное духовенство, окрепшее благодаря этому, стало для раскола сильным врагом. Защитить перед царем раскольников было некому, а если и существовали приверженцы старого благочестия в числе бояр, то между ними не было таких всемогущих и сильных, каким был покойный Борис Иванович Морозов или государев тесть Илья Данилович Милославский.
И все-таки раскол широко распространился по Руси. В самой Москве, среди торговцев, а равно также мастеров и мастериц государевых мастерских палат, староверие насчитывало множество своих приверженцев.
В особенности пристали к нему изографы, т. е. иконописцы, так как новшество патриарха Никона — писание икон «будто живые писать» — лишало многих из них по незнанию этого искусства постоянного заработка.
Твердый оплот раскола, дом Морозовой, до сих пор представлявшийся им недоступным от влияния никониан, потерял эту славу после неоднократных присылок царских посланцев к Морозовой и требований царем покорности от боярыни.
Молодая царица Наталия Кирилловна задумала отправиться на богомолье в Троицкую лавру. Исполняя желание молодой супруги, Алексей Михайлович пожелал, чтобы этот первый выезд государыни был особенно торжественен.
Рано утром выехал блестящий царицын поезд из Москвы.
Во главе его гарцевало более полутысячи всадников из боярских детей, по трое в ряде.
На многих из них была одета золотая парча, казавшаяся броней.
Следом за ними вели десятка три коней в хорошей сбруе. Вместо попон из-под седел спускались драгоценные парчевые покрывала и шкуры тигров и леопардов.
Замыкавшая конный отряд стража с боевым вооружением предшествовала царю, ехавшему в карете, крытой алым бархатом.
Тучные кони белой масти везли ее.
По сторонам кареты шествовали ближние бояре.
Во время проезда по узким улицам Белокаменной вокруг царского экипажа теснилось много людей, желавших подать царю свои просьбы.
— Давай сюда, — сурово говорил высокий худощавый боярин Иван Кириллович Нарышкин, шурин государя.
Просьбы сыпались к нему дождем.
Он их принимал и складывал в красный ящик, несомый за каретой.
Немного позади ехал верхом малолетний царевич Федор Алексеевич. Коня его вели под уздцы бояре.
Поезд растянулся далеко.
На расстоянии получаса от царского поезда следовал поезд царицы.
Впереди него конюхи вели сорок статных коней.
За ними следовала пространная карета царицы, запряженная десятью белыми конями. Карета была плотно закрыта, и окна ее завешаны.
Этого требовал дворцовый этикет того времени.
Следом за каретой ехали верхом, сидя на конях по-мужски, горничные царицы.
Они были одеты в белые круглые шляпы, подбитые розовой тафтой, с желтыми шелковыми лентами, разукрашенными золотыми пуговками и кистями, падавшими на плечи.
Лица у всадниц были покрыты белыми покрывалами из толстой кисеи.
Костюм их составляли длинное платье и желтые сафьяновые сапоги.
Всего женской прислуги было более двадцати человек, составлявших двенадцать рядов.
Около царицыной кареты шло триста человек стрельцов с посохами и батогами в руках.
За ними следовали верхом дети боярские царицына чина.
Конец процессии заключали бояре и затем шла громадная толпа народа.
Вот тут-то и совершила царица смелый поступок, крайне изумивший всех присутствующих.
Любопытство заставило ее выглянуть из кареты и она, в первый раз проезжавшая среди такой массы народа, немного открыла окно колымаги.
Сдержанный гул изумления пронесся среди толпы: подобной смелости никто не ожидал.
В первый раз народ Московский увидел свою царицу.
Назвать Наталию Кирилловну красавицею в полном смысле этого слова было трудно. Это была женщина большого роста, с черными глазами на выкате, имевшая приятное лицо, небольшой круглый рот и высокий открытый лоб.
Может быть, такой смелый поступок царицы был объяснен ее молодостью и отсутствием царя.
Оружейник царя, боярин Хитрово, сопровождавший царицу, не посмел ей ничего заметить.
Стало темнеть, но до деревни, где предположено было остановиться на ночь, было еще не близко. И хотя дорога была достаточно видна, стрельцы зажгли множество восковых свечей и несли их около царицыной кареты.
Скоро добрались до ночлега.
В карете царицы находилась мать царицы Анна Леонтьевна, тетка ее Авдотья Петровна да невестка, жена Ивана Кирилловича, Прасковья Алексеевна.
Выбравшись из кареты, царица с боярынями поместилась в отведенной ей избе.
Только здесь решилась сказать ей об ее поступке мать.
Наталья Кирилловна улыбнулась капризно и ничего не ответила.
XVI
Царь уже находился на ночлеге, когда поезд царицы прибыл в деревню.
Этикет не позволял в тот же вечер встретиться с супругом, но рано утром на другой день часа в четыре, когда боярин Матвеев явился к царю здравствовать его, царь спросил о царице.
— Поди поздравствуй от моего имени царицу и скажи, что перед путем я зайду к ней.
Боярин сейчас же передал слова царя Наталии Кирилловне.
Окончив утренние правила, Алексей Михайлович отправился к супруге.
С поклоном встретили его царицыны боярыни. Царь вошел в царицыну избу.
Наталия Кирилловна, уже собравшаяся в путь и одевшаяся в особый парадный наряд для этого, поклонилась в пояс вошедшему супругу.
— Здорова, Наталия Кирилловна? Спокойно ли спалось тебе?
Снова поклонилась в пояс молодая женщина.
— Спокойно, государь!
— А не вспомнилось-ли тебе, Наталия, как вчерашний день ты в окно смотрела? — Ты думала, что не узнаю я о смелости твоей? Все донесли мне. Еще вчера же. Да ты не думай, я не сержусь. Искоренять этот обычай необходимо, пусть народ русский видит свою царицу!
— Спасибо, государь, — тихо промолвила Наталия Кирилловна.
— Не бойся, голубка, — ободрил ее снова царь, — вели открыть окна комнаты и смотри смело.
И вместе с царицей он вышел в переднюю избу. Стоящие двумя рядами боярыни обратили на себя его внимание. Он окинул их пытливым взглядом.
— Две Анны, Мещерская да Хитрово, княгиня Ухтомская, Давыдова, Мартюхина, вот казначея Ивашкина… все здесь, — заметил царь. — Кого бишь не хватает? — И Алексей Михайлович задумчиво потер лоб.
— Урусовой княгини, — обрадованным голосом вспомнил государь, — где же она?
Боярыни переглянулись между собою.
— Сказалась нездоровою Евдокия Прокопьевна, — робко ответила казначея Ивашкина.
— На ноги жаловалась она, государь, — с участием заметила Наталия Кирилловна.
Лицо Алексея Михайловича искривила недовольная улыбка.
— Ну, у обеих сестер заболели ноги. Морозова, толкуют, сидит сиднем, а теперь сестра ее заболела.
— Нет, государь, доподлинно мне известно, что Урусова больна, — снова проговорила царица, — вот к ней Прасковья Алексеевна заходила и лично видела, что недужится ей.
— Не верю я их болезням, — гневно сказал государь, — ну, что об этом толковать. Когда в Москву вернемся, пошлю к обеим сестрам лекаря.
И царь быстро вышел вон из избы.
В прежнем порядке отправились оба поезда. На этот раз около кареты царицы вместо стрельцов тянулись верхами царские окольничие и стольники: Иван Федорович Стрешнев, Иван Иванович Матюшкин, Борис Гаврилович Ушков и другие. Снова далеко растянулись царские поезда.
Из попутных деревень и селений выходили крестьяне, чтобы встретить царский выезд.
Наталия Кирилловна, подняв занавески, смотрела то на одну, то на другую сторону пути.
К лавре поезда прибыли к вечерне.
Завидя еще издалека, с высокой колокольни, царский поезд, звонарь дал повестку в маленький колокол и сейчас же ударил в самый большой.
Плавные звуки меди мерно поплыли по тихому вечернему воздуху. И как только царский поезд показался из-за пригорка, Анисим со своими помощниками стал трезвонить.
Навстречу высоким гостям вышел игумен с братией.
Иегумен осенил приезжих крестом; они вошли в большой собор, где после вечерни сейчас же началось молебствие о благополучном приезде. После молебствия царь и царица пригласили игумена с братией на ужин в трапезу, где был приготовлен стол из припасов, привезенных царицею.
Три дня гостили высокие гости в лавре и ежедневно игумен подходил в навечерие с хлебом к крыльцу царицы и дожидал ее выхода.
Возвратившись в московские хоромы, царица снова погрузилась в обычную замкнутую жизнь.
Как-то рано утром в хоромы к царице явился Артамон Сергеевич Матвеев и сказал встретившей его боярыне:
— Передай, боярыня, царице, что царь-батюшка изволит сейчас к ней сам жаловать.
Насколько могли помогать ей старые ноги, та побежала к царице с докладом.
Едва успели приготовиться к приему царя, как он сам появился в палатах.
Приветливо улыбнувшись супруге, он вошел в светлицу.
Все находившиеся там боярыни и мастерицы поднялись с лавок и чинно поклонились царю.
— Старательные у тебя работницы-то, Натальюшка, — пошутил государь, — одна ты только ленишься.
Молодая женщина покраснела и, чтобы оправдаться перед мужем, подвела его к кругу, на котором была натянута парчевая материя, по которой сама царица вышивала шелками и золотом.
Царь с любопытством посмотрел на работу жены.
— Ай-да Натальюшка, ай-да мастерица! — заметил царь и прошел вместе с нею в образную.
— По делу я с тобой толковать сюда явился. Помнишь, намедни мы с тобою в Троице были? Спрашивал я тебя про Урусову.
Наталия Кирилловна молча кивнула головой.
— Так вот, мне на нее извет подан… Пишут в подметном письме, — его в Грановитой палате нашли, — что Авдотья Прокопьевна так же, как и сестра ее Федосия, к Аввакумовскому учению примкнула.
— Ой, правда ли, государь? Что-то не верится.
— Не хотелось бы и мне верить, Натальюшка: князя Петра я очень люблю, жалко мне будет его, коли впрямь жена-то его Аввакумкиной лести наслушалась.
— Как же ты, надежда-государь, поступить задумал? — спросила Наталия Кирилловна.
— Велю искать, авось правды доищусь!
Нахмурилась молодая царица. Ей стало жалко Урусову.
Морозовой она не знала, но сестра ее часто бывала в верхних женских палатах.
Как только царь ушел, Наталия Кирилловна послала одну из боярынь за князем Урусовым.
Князь сразу же явился.
— Что приказать изволишь, матушка-царица? — почтительно склонил он голову.
— Коли ты, князь, беды на свою голову не хочешь, то предупреди княгиню, чтобы она на льстивые слова попа Аввакума не больно шла. Узнал государь-батюшка об этом и зело прогневался. Торопись же, сегодня царь надумал спосыл делать.
Успокоившись немного, царица принялась за свое рукоделие.
Приближалось обеденное время. Работы в царицыных светлицах окончились.
XVII
Вернувшись домой, Урусов рассказал жене о том, что слышал от царицы.
Княгиня немедленно отправилась к Морозовой.
Федосья Прокопьевна по лицу сестры догадалась о приближающейся беде, но спокойно выслушала сестру, снова созвала всех обитателей дома и поведала им новости.
Аввакума не было.
Старицы зарыдали.
Долго они жили в доме Морозовой, и хотя и привыкли, но уходить было нужно. И старицы в тот же вечер оставили ставший им родным дом.
Точно также масса всякого люда, таившегося у Морозовой, ушла из дома.
Поздно вечером вернулась княгиня Урусова к себе. Скоро приехал из дворца и сам князь Петр.
— Ну, что, была у сестры? — спросил он жену.
Авдотья Прокопьевна ответила утвердительно.
— А что сегодня говорили у царя? — спросила она мужа.
Князь замялся.
— Еще ничего не решено, — прошептал он.
Он поднял глаза на жену и в глазах ее прочел немой укор.
Урусову стало стыдно.
Она уверенно спросила его:
— Ехать ли мне, князь, опять к сестре?
Урусов быстро окинул жену взглядом и коротко произнес:
— Нет, подожди до завтра, — завтра я узнаю все подробно.
На другой день рано утром, когда князь Петр уезжал во дворец, Урусова спросила опять у него.
— Не сходить ли мне к сестре?
Князь задумался.
— Иди, да не оставайся там долго.
С изумлением взглянула Авдотья Прокопьевна на мужа:
— Отчего я не должна там долго оставаться?
Урусов осторожно огляделся по сторонам и шепотом сказал:
— Я думаю, что сегодня же присылка к ней будет.
Княгиня вздрогнула.
— Иди, да хранит вас обеих Господь, — снова заметил князь Петр и вышел из горницы.
Авдотья Прокопьевна сейчас же отправилась к сестре.
Несмотря на чисто мужской характер и умение сдерживать свои чувства, Морозова пошатнулась, услыхав известие о присылке.
— Уже… — бессознательно произнесла вдова.
Сестры обнялись и начали молиться.
— Я от тебя не уйду, — решительно сказала Авдотья Прокопьевна.
— Пострадать со мною хочешь, сестра? — прошептала Морозова.
Во втором часу ночи раздался стук в ворота.
— Кто там по ночам стучит? — спросил ночной сторож.
— Отворяй, не разговаривай, — раздался грубый голос, — по приказу великого государя!
Хотя и предупрежденный о появлении царских людей, старик сторож медлил.
Наконец, чугунный засов был отодвинут и тяжелые дубовые ворота широко распахнулись. Во двор, скрипя полозьями, въехали две кибитки, окруженные стрельцами. Приезжие, не обращая внимания на поздний час, шумно стали взбираться на крыльцо.
Шум достиг сестер. Страх овладел Федосьей Прокопьевной и она склонилась головой на лавку, теряя чувства.
Урусова с тревогой на нее посмотрела.
— Матушка сестрица, дерзай, с нами Христос, — ободрила она опять Морозову, — не бойся, встань, положим начало.
Федосья Прокопьевна бессознательно встала, и обе сестры, подойдя к образу, положили семь приходных поклонов.
— Успокоилась, сестрица? — тревожно спросила Морозову княгиня.
Федосья Прокопьевна сурово взглянула на нее.
— Спокойна я!
Сестры благословили друг дружку и разошлись. Морозова легла на пуховик в своей постельной комнате, близ Феодоровской иконы Пресвятой Божьей Матери, а Урусова ушла в небольшой чулан, находившийся при постельной комнате, где раньше ночевала старица Меланья.
Едва сестры улеглись, как кольцо дубовой двери застучало.
Чья-то сильная рука рванула дверь, и в опочивальню, вместе с струей холодного воздуха, вошло несколько человек.
Пристально осматривая горницу, еле освещенную трепетным огнем лампад, вошедшие, не видя хозяйки, громко спросили:
— Эй, кто тут есть живые?
Но сестры молчали.
— Поищем, — дерзко проговорил думный боярин Иларион Иванов, присланный царем вместе с чудовским архимандритом Иоакимом к Морозовой.
Поиски были недолгие.
— Вот ты где, боярыня, — снова сказал Иванов, — посланы мы к тебе государем великим. Вставай. Отец архимандрит сейчас будет тебе допрос чинить.
Архимандрит приблизился к боярыне.
— Не в силах я встать, — слабо ответила Морозова.
— Ой, неправду говоришь ты, боярыня, — усумнился архимандрит, — садись тогда, коли стоять не можешь.
Но вдова опять отказалась, говоря, что и подняться с перины не может.
— Что ты говоришь еще с нею, честной отец, вели стрельцам, они поставят ее перед тобою.
Но Иоаким не решился поступить так грубо с боярыней.
— Ну, коли не можешь встать, ответствуй так против царских повеленных слов.
Морозова молчала.
— Како крестишься и како молитвы творишь? — спросил ее архимандрит.
Вдова, сложа по староверскому пальцы, перекрестилась и начала читать молитвы.
В это время один из стрельцов нашел огарок восковой свечи и зажег. В опочивальне стало светлее.
— Тако я крещусь, тако и молюсь, — твердо произнесла Федосья Прокопьевна, смело показывая сложенные персты.
— Была у тебя, боярыня, беглая старица Мелания; здесь она в дому у тебя проживала под именем Александры. Где она теперь, сказывай скорей!
Гордо посмотрела вдова на спрашивающего ее Иоакима.
— По милости Божией и молитвами родителей наших, по силе нашей в убогом нашем дому ворота были отворены для странных рабов Христовых. Когда было время, были и Сидоры, и Карпы, и Мелании, и Александры. Теперь-же никого нет из них, — проговорила Морозова.
— Дерзка ты на язык, боярыня, — недовольно проговорил архимандрит и, отойдя в сторону, стал советоваться с Илларионом Ивановым.
— Все равно толку от нее не добьешься, святой отче, — решительно проговорил думный дворянин, — ты побудь здесь, а я поищу, нет ли где в дому спрятавшихся.
С этими словами он вступил в смежный чулан.
В чулане было совсем темно.
Ничего не видя, Илларион Иванов стал шарить по стенам руками.
Вдруг его руки коснулись человеческого тела; он испуганно отдернул их и вскрикнул:
— Отче святый, Александра-то здесь!
Но Авдотья Прокопьевна спокойно ответила:
— Нет, я не старица Мелания.
— Кто же ты? — изумленно спросил Илларион.
— Я князя Петра жена, Урусова, — тем же тоном ответила сестра Морозовой.
Думный дворянин, не ожидавший найти здесь такую знатную особу, ошеломленный выбежал из чулана.
Заикаясь, испуганный Илларион Иванов едва мог произнести:
— Там княгиня Урусова!
— Княгиня Евдокия Прокопьевна, князя Петра супруга? — воскликнул изумленный архимандрит.
— Да, это она, — ответил Илларион.
— Поди-ка, спроси ее, како она крестится? — сказал Иванову Иоаким, по-видимому, что-то сообразивший.
Думный дворянин изумленно уставился на говорившего.
— Что ты на меня так смотришь? Как возможно вопросить о сем такую особу?
— Повторяю тебе: исполняй, что тебе приказано!
— Невозможно это сделать, отче, — отозвался Илларион, — посланы мы только к боярыне Федосии Прокопьевне, а не к сестре ее.
— Еще раз говорю тебе, спроси ее, — раздраженно возразил архимандрит, — я тебе повелеваю.
Но Илларион Иванов все еще колебался.
— Коли ты отказываешься, так я пойду сам и доложу царю о твоем ослушании.
Думный дворянин повиновался и, войдя в чулан, дрожащим голосом спросил Урусову:
— Како ты крестишься, княгиня?
Стрелец внес в чулан огарок, стало светло.
Авдотья Прокопьевна пристально взглянула на царских посланных и, не вставая с постели, облокотилась на левый локоть, пальцы же правой руки сложила в староверский крест, именно большой палец с двумя малыми, указательный со средним, и, протянувши их, показала боярину, а потом и архимандриту.
— Так я верую, — спокойно произнесла княгиня.
Оба посланные были поражены.
Отозвав в сторону Иванова, Иоаким начал с ним совещаться, что им теперь предпринять.
— Я побуду здесь, отец, — сказал думный дворянин, — а ты ступай прямо к царю, объясни ему все, он тебе сам укажет, как нам поступить.
Архимандрит поспешил отправиться к царю, тогда как Илларион Иванов остался ожидать.
Только теперь, узнав о намерении Иоакима, смутилась княгиня.
В эту минуту она готова была отказаться от своих слов, но было уже поздно.
Сестры продолжали лежать, одна в опочивальне, другая в чулане.
Они томились невозможностью переговорить друг с дружкой, но ни та, ни другая не решались подняться со своего ложа.
Стрельцы, оставшиеся в горнице, пересмеивались.
Думный дворянин сидел у стола и что-то писал.
Кони быстро донесли Чудовского архимандрита до царского дворца.
Царь находился в Грановитой палате, посреди бояр.
Заметив вошедшего Иоакима, государь подал знак, чтобы он подошел к нему.
Алексей Михайлович наклонил к архимандриту голову и тихо спросил:
— Ну, что?
Иоаким, не осмеливаясь ответить громко, прошептал на ухо царю:
— Государь, не токмо боярыня Морозова стоит мужески, но и сестра ее княгиня Евдокия, обретенная в ее дому, также ревнует своей сестре и твоему повелению сопротивляется крепко.
Царь нахмурил брови и заметил:
— Княгиня смирен обычай имеет и не гнушается нашей службы, а вот люта эта сумасбродка!
— Нет, государь, — упрямо сказал Иоаким, — и Евдокия Прокопьевна не только уподобляется во всем своей сестре старшей, но и злей ее ругается над нами.
— Коли так, то возьми и ту, — резко проговорил государь.
Услышав это восклицание царя, Урусов, стоявший недалеко, вздрогнул; он понял, о ком идет речь.
Алексей Михайлович точно ненароком взглянул на князя.
Но князь Петр молчал, сознавая, что не может ничем помочь делу.
Чудовский архимандрит возвратился в дом Морозовой.
На этот раз он захватил еще с собой диакона Иоасафа.
В опочивальню архимандрит вошел с дьяконом. Чувствуя теперь за собою силу, Иоаким не стал стесняться. Он распоряжался в доме Морозовой, как полный хозяин.
— Вели согнать сюда всю челядь, — приказал он дьяку.
Стрельцы прошли во внутренние покои, где в задней половине дома было немало женской прислуги.
Сам же думный дьяк обшарил ближние к опочивальне горницы.
В одной из них он натолкнулся на спавшего молодого человека и, догадавшись, что это молодой боярин Морозов, не стал его будить и осторожно вышел из горницы.
В остальных покоях он не нашел никого и возвратился в опочивальню.
Сбившись в кучу, стояли согнанные в опочивальню женщины.
Архимандрит и дьякон Иоасаф сидели за столом и поочередно вызывали каждую из них.
— Како крестишься? — спрашивал Иоаким.
Женщины испуганно глядели на спрашивающего и крестились.
За ними внимательно наблюдал Иоасаф.
— Не так, — говорил он громко, замечая староверческий крест.
Женщины вздрагивали, и некоторые старались сложить пальцы по новому.
Таких дьякон ставил налево, тогда как двух из них, Ксению Иванову и Анну Соболеву, он поместил на правую сторону.
— Сии две в староверском перстосложении укрепились, — указал он на них Иоакиму.
Затем архимандрит приступил к допросу челяди, выпытывая, где старицы и Мелания?
Но чуть ли не все говорили, что ничего не знают.
Затем архимандрит обратился к лежащей на постели боярыне:
— Понеже не умела ты жить в покорении, но в прекословии своем утвердилась, а потому царское повеление постигает тебя, и из дому твоего ты изгоняешься! Встань и иди отсюда! — и он повелительно взглянул на боярыню.
Морозова не сделала ни одного движения.
— Встань, говорю тебе, — повторил архимандрит. Но боярыня не трогалась.
— Ты видишь, что я больна ногами, — проговорила она.
— Попробуй, — с усмешкой заметил Иоаким.
— Говорю тебе опять: ни стоять, ни ходить я не могу, — решительно ответила Морозова.
— Ну, иди ты сюда, Авдотья Прокопьевна, — крикнул архимандрит в чулан.
Урусова отозвалась, что она тоже не может.
— Ишь, сколь разнедужились, подняться не могут, — насмешливо промолвил диакон.
— Эй, — крикнул думный дьяк стрельцам, — посадите-ка боярыню да княгиню.
Сестер быстро посадили и по приказу архимандрита понесли из опочивальни.
Когда арестованные были уже на крыльце, в опочивальню ворвался молодой Морозов и громко вскрикнул:
— Матушка, матушка, где ты?
Морозова не слышала его крика.
XVIII
Вынесенных из опочивальни сестер думный дьяк приказал снести в людские хоромы, в подклеть, и опутать ноги тонкою цепью. К дверям подклети была поставлена стража.
Оставшись одни в пустой подклети, сестры ползком добрались одна до другой, обнялись и горько заплакали.
Между тем Иван Морозов, оставшись один в опустевших комнатах, не знал, что предпринять.
Молодому боярину шел в это время двадцатый год.
Он был похож на отца, Глеба Ивановича, ростом, густыми, слегка вьющимися каштановыми волосами и большими открытыми голубыми глазами.
К сожалению, ни мужеством покойного Морозова, ни настойчивостью своей матери он не обладал.
Иван Глебыч имел мягкий, женственный характер. По какой-то странной случайности он не попал под влияние Аввакума и прочих фанатиков, окружавших его мать.
Оставшись теперь один, он не знал, что предпринять.
«Пойду я прямо к царю, припаду к его ногам и буду молить за матушку», — мелькнуло в голове.
Несомненно, это намерение, будь оно исполнено, изменило бы участь Морозовой.
Государь, почитая память Глеба Ивановича, не отказал бы исполнить просьбу его сына. Но слабохарактерный юноша сейчас же откинул это предположение и начал придумывать другое.
Иван Глебыч сам не помнил, как добрался до задней половины дома.
Изумленно окинув взглядом эту горницу, он вспомнил, что здесь жили раньше бежавшие старицы.
В одной из бревенчатых стен горницы внезапно появилось темное отверстие.
Молодой боярин отшатнулся в сторону. В отверстие показалось знакомое ему лицо старицы Мелании.
Она печально улыбнулась Ивану Глебычу.
— Кои беды постигли родительницу твою и сестру ее, тетку твою родную, — сказала Мелания. — А за что? За то, что право верят, за старину стоят. Накинулись на нее еретики, аки псы. Ох, горе, горе! — снова сказала старица.
— Где же они сейчас? — спросил порывисто юноша.
— В подклети, боярин.
— Слушай, — схватил ее за руку Морозов, — пойдем со мною; я знаю, как добраться до матушки!
И, спустившись в отверстие, они потайными ходами добрались до внутренней стены подклети.
Узкое оконце, прорубленное в стене для воздуха, проходило в помещение, где сидели узницы.
— Матушка, — внятно, но тихо сказал в оконце Иван.
— Мы здесь, сынок, — послышался голос Федосии Прокопьевны.
— Я по тебе, родительница, скорблю и плачу!
— Не тоскуй, сынок: мы страждем за православную веру.
— Терпите, миленькие, терпите, — отозвалась Мелания. — Царь небесный воздаст вам за ваши страдания.
— Я выломаю для вас выход, бегите, — порывисто говорил Иван, — вас скроют…
— Мы останемся здесь, — печально ответила Морозова, — что нам суждено, того избегать мы не должны. Прощай, сынок, — прошептала боярыня…
XIX
Прошло два дня. Морозова и Урусова по-прежнему сидели в подклети.
К ним никого не пускали, пищу доставляли им стрельцы два раза в день.
Иван Глебыч побоялся лично обратиться с просьбою к государю, но пошел к своему дяде князю Петру Урусову и стал просить его помочь чем-нибудь заключенным.
Спасти жену ему, как собеседнику царской думы, вовсе не стоило труда, даже при больших ее проступках; но он явно этого не хотел.
Его нелюбовь к Евдокии Прокопьевне сказывалась его попустительством; она никогда бы не решилась без его воли на что-либо подобное.
Некоторые современники думали, что он также сам тайно придерживался раскола, и только, не желая терять свое видное место при дворе, не обнаруживал явно своих убеждений.
Урусова несколько смущала участь его детей, оставшихся без матери, но и эта мысль недолго беспокоила его, и он твердо решил представить княгиню своей участи.
Молодой боярин высказал свою просьбу, но дядя нахмурил сурово брови и решительно произнес:
— Не могу просить я царя за недостойных.
Иван Глебыч увидел, что Урусова ничем не уговорить, и хотел было уже отправиться домой, как вдруг дядя остановил его.
— Послушай, племянник, хочу с тобою о деле говорить…
Морозов ожидал, что скажет ему князь.
— Ты, парень, теперь на возрасте; чем у мамушек-то в светлице сидеть, женился бы лучше, право…
Такое неожиданное предложение изумило юношу.
— Статочное ли дело, дяденька, ты говоришь: матушке беда предстоит неминучая, а мне жениться советуешь.
Урусов смягчился.
— Ну, чего, племянничек, ноешь. Царь милостив: подержат, поучат твою мать и мою жену и отпустят. Что им с бабами ватажиться!
— Так ты таки думаешь, что отпустят матушку?
— А то как же? Непременно отпустят, — старался успокоить племянника Урусов, — а женишься, царь еще скорее твою мать простит.
— Ой, так ли? — нерешительно спросил Морозов.
— Иначе быть не может.
— Кого же мне, дядя, сватать надумал? — загорелось любопытство у Ивана Глебыча.
— Что, узнать захотелось? — лукаво подмигнув глазом, снова сказал князь. — Изволь, скажу. Пронского, князя Ивана Петровича, дочку Аксинью, чай, видел когда?
Молодой человек покраснел.
— Видал раз-другой в церкви, — застенчиво проговорил он.
— Аль, по душе она тебе пришлась, что покраснел, как красная девица? Ну, говори!
— Пришлася по душе, — еле слышно прошептал Морозов.
— Вот молодец, давно-бы так сказал, а то все ноешь о матери да о тетке… Так я потолкую с князем Иваном.
Урусов понимал, что сейчас, когда Морозова находится под опалою государя и даже взята под стражу, едва ли можно надеяться, что такие люди, как князья Пронские, согласятся выдать свою дочь за сына опальной вдовы.
Но его уловка удалась: Морозов поверил и ушел успокоенный.
Урусов задумчиво поглядел ему вслед…
В тот же день к заключенным явился думный дьяк Илларион Иванов.
Заслыша его грубый голос, Морозова истово перекрестилась и спокойно заметила сестре:
— Приближаются наши мучители.
— Ну, матушка-боярыня, — насмешливо спросил дьяк Морозову, — прошел ли твой недуг? На ногах стоять поди теперь можешь?
Морозова молчала.
— Спокойно у вас здесь: ни забот, ни шума, безо всякого лекаря поправиться можно, — продолжал Иванов.
— Эй, вы, — крикнул он стрельцам, — распутайте ножки боярские.
Стрельцы поспешили снять с ног Морозовой цепи.
— Вставай, вдова честная! Отдохнула, пойдем с нами!
Морозова безучастно взглянула на говорившего и промолвила:
— Не могу идти, ноги болят.
— За старую песню принялась, боярыня! Что ж, потешим твою милость, снесем.
И дьяк велел подать «сукна», то есть носилки.
Прислуга подала их.
— Ну, сажайте честную боярыню и в путь! Морозова быстро была посажена, и ее понесли.
— Ну, а ты, княгиня, — обратился он к Урусовой, — не передумала? Како веруешь?
Авдотья Прокопьевна отрицательно покачнула головой.
— Ин, будет так, а то про тебя вышел приказ: пустить тебя на волю, коли ты от ереси своей откажешься.
— От своей веры никогда не откажусь, — решительно проговорила Урусова.
— Как знаешь, пойдем тогда вместе.
Княгиня готова была уклониться идти пешком, говоря, что у ней также болят ноги, но Иванов не обратил на это никакого внимания и, сняв с нее цепи, велел ей идти за Морозовой пешком.
Путь был неблизок.
Сестер вели в Чудов монастырь.
Сопровождаемые вооруженными стрельцами и толпою зевак, Урусова и Морозова добрались, наконец, до монастыря.
Узниц ввели в одну из соборных палат монастырских.
В глубине палаты, за длинным столом сидел ряд духовенства, думный дьяк и кое-кто из бояр.
Председателем был митрополит Крутицкий Павел. Рядом с ним сидел Чудовский архимандрит Иоаким.
Внесенная в палату, Морозова перекрестилась большим староверским крестом на образ Спаса, помещавшийся в одном из углов, и затем, слегка наклонив голову, отдала почет сидевшим.
Среди последних послышались недовольные восклицания.
— Негоже боярыня, что сотворила ты властям малое поклонение, — заметил думный дьяк вдове.
Она ничего не ответила и, сойдя с трудом с носилок, села на приготовленное ей место.
Митрополит начал допрос.
— Встань, боярыня, — сказал он ей.
— Не могу стоять, — сухо ответила Морозова, — больна ногами.
Ответ этот не удовлетворил митрополита, и он что-то сказал своему соседу Иоакиму.
Последний повторил приказание митрополита вдове, но она снова отказалась.
Митрополит Павел пожал плечами.
— Ну, коли так, буду вопрошать тебя сидящую. Скажи мне, дочь моя, почто ты отринулась от православной церкви?
Голос вопрошавшего звучал тихо, кротко.
— Не удалилась я от православной церкви, а напротив того, пребываю в ее истинном лоне.
Павел пристально взглянул на вдову.
— Омрачилися очи твои, боярыня, что ты не можешь отличить истины. Все это натворили тебе старцы и старицы, тебя прельстившие, с которыми ты водилась.
— Неправда, отец святой, — горячо возразила Морозова, — не прельщали меня ни старцы, ни старицы, я сама истину познала.
Задумчиво взглянул на нее митрополит и покачал головой.
— Пленена ты, боярыня, лестью Аввакума! Вспомни, какого ты рода! Вспомни про супруга твоего достойного, Глеба Иваныча, про деверя Бориса Ивановича: они оба были верными служителями царя и церкви Христовой, а ты дерзишь государю, противишься обычаям церковным и других совращаешь в раскол.
Морозова хотела что-то ответить митрополиту, но, взглянув на сестру, промолчала.
Павел продолжал:
— Вспомни, боярыня, красоту сына твоего единого. Зачем ты на его имя бесчестие накладываешь своими поступками! Пожалей его и своим прекословием не причиняй разорения его дому.
Недовольно посмотрела боярыня на митрополита и воскликнула:
— О сыне перестаньте мне говорить. Обещалась Христу моему — Свету и не хочу обещания изменить до последнего вздоха, ибо Христу живу, а не сыну.
— Немилосердна же ты к чаду своему, боярыня, — покачав головой, сказал митрополит и повторил: — ох, эти старцы и старицы, много беды навлекли они на тебя!..
Морозова гордо посмотрела на Павла.
Архимандрит Иоаким, подойдя к ней ближе и глядя в лицо, твердо промолвил.
— Коротко тебя спрашиваем: по тем служебникам, по которым государь-царь причащается и благоверная царица и царевич, ты причащаешься ли?
Морозова откинула голову.
— Нет, не причащаюсь, потому что знаю, что царь по развращенным Никонова издания служебникам причащается!
— Дерзка же ты, боярыня! — снова заметил митрополит.
Судьи начали совещаться.
Спустя немного, архимандрит Чудовской снова спросил ее:
— Как же ты об нас обо всех думаешь: стало быть, мы все еретики?
— Ясно, что вы все подобны Никону, врагу Божьему!..
Диакон Иоасаф, подойдя к архимандриту, сказал:
— Благослови, владыко, наказанию ее сейчас подвергнуть, ибо поносит всех нас православных нестерпимо.
Иоаким уже было решился на что-то и хотел отдать приказание принесшим боярыню стрельцам, но митрополит Крутицкий остановил его.
— Пожди мало, отец Иоаким, — заметил он архимандриту.
И с этими словами он снова приступил к допросу боярыни.
— На тебя свидетельствуют, — обратился к Морозовой митрополит, — что ты смутила немало народа.
— Никого не смущала я, а кто к истинной православной церкви присовокупиться хотел, — те, правда, все шли ко мне в дом.
— Какая гордыня у тебя, боярыня! — печально заметил Павел.
Допрашивать начали обеих служанок Морозовой — Ксению Иванову и Анну Соболеву.
Обе женщины отвечали так же убежденно, как и их хозяйка. Понятия Аввакума сильно вкоренились в слабые умы женщин и они, уверенные в правоте своего учителя, твердо стояли за все то, что было невежественно и мало объяснимо.
Допрос Ксении Ивановой и Анны Соболевой также окончился неудачей.
Княгиню Урусову допрашивали меньше, чем ее сестру: ее решили допросить после.
Поздно ночью обвиняемых отправили обратно в дом Морозовой.
Морозову несли опять на носилках стрельцы. Княгиня Урусова шла пешком в сопровождении стражи.
Когда носилки поровнялись с идущею княгинею, Федосья Прокопьевна громко сказала ей:
— Если нас разлучат и заточат, молю тебя: поминай меня убогую в своих молитвах.
В доме их снова заперли в подклеть.
Молодой Морозов знал, что его мать и тетку отправили на допрос, но надеялся, что князь Петр, его дядя, поможет. Юноша отправился в дом князя.
Усмешка пробежала по губам Урусова.
— Сколько ты, племянник, захотел! Пожди, царь строго наказует, но и милует. Сегодня о них у царя в «верху» рассуждение будет. Коль удастся, замолвлю слово. Садись, племянник, что ж стоишь?
И, сев сам у стены, устало потянулся и заметил:
— Замучили нас совсем; каждый вечер собирается дума, немало понакопилось дел-то!
Иван Глебыч решился напомнить дяде о сватовстве его, Морозова, у княжны Аксиньи Пронской.
— Говорил ли ты, дядюшка, с князем Пронским, Иван Петровичем?
— О чем? — изумленно спросил начавший дремать Урусов.
Он уже успел забыть о фантастическом проекте сватовства, которое сам же предложил племяннику.
— А помнишь, ты меня женить на княжне надумал? — робко проговорил юноша.
— Совсем из памяти вон, племянник! Забот не мало было за это время. Но поговорю, сегодня же скажу ему.
— Уж удосужься, князь, — просил его молодой Морозов.
— Раз сказал — исполню! Не проси!
В его голове снова, действительно, мелькнула теперь мысль, нельзя ли, в самом деле, привести этот план в исполнение.
— Что это тебе вдруг вспомнилось, племянник, — шутливо проговорил Урусов, — али княжна тебе в самом деле зазнобила сердце?
Иван Глебыч нерешительно заметил:
— Княжна княжной, дядя, о матушке скучаю; ее мне вызволить хотелось бы скорей.
— Ты добрый сын, Иван! Коли мне удастся тебя на Пронской сосватать, надеюсь, что царь помилует обеих сумасбродок.
Племянник низко поклонился дяде и, еще раз напомнив ему о своей просьбе, отправился домой. После его ухода князь оставался некоторое время в раздумье и затем отправился из дому.
Хотя он и глубоко сомневался в успешности предложенного им сватовства, но он все-таки хотел исполнить данное им племяннику обещание.
Дом князя Пронского находился не близко и, усевшись в расписные сани, Урусов отправился на лошадях к нему.
Неожиданный приезд князя Петра встревожил весь дом Пронского.
— Уж не послом ли едет он от государя? — строил предположения хозяин.
Заскрипели ступени крыльца под тяжелыми шагами прибывшего.
Князь Иван Петрович поднялся к нему навстречу.
Оба князя троекратно обнялись.
Обычай того времени не позволял сейчас-же приступить к разговору, ради которого Урусов сюда приехал.
Поговорили о делах московских, о том, о сем. Хозяин велел подать меду и выпил вместе с гостем по стопе.
— Послушай, князь Иван Петрович, — решился наконец выяснить цель своего приезда Урусов, — имею к тебе великое дело.
Хозяин насторожился.
— Рад тебя слушать князь, сказывай про дело твое важное. Гость в коротких словах, но толково, пояснил хозяину о сватовстве племянника.
Сосредоточенно выслушал последний его и ответил:
— Ты прав, это дело важное, подумать надо!
XX
На другой день после допроса в подклеть, в которой были посажены узницы, явился думный дворянин Илларион Иванов.
— Как почивать изволили? — насмешливо спросил он, — поди, райские сны снились? Аввакумку пса во сне видели?
У Морозовой готово было вырваться резкое елово, но удержалась.
— Отвечать мне не хочешь, кичливая? Ин будет по твоему, помолчим!
И думный дворянин вышел из подклети. Немного спустя он вернулся туда вместе со стрельцами, которые несли два стула с цепями.
— Вот вчера, боярыня, не хотела ты на ногах стоять, больные они у тебя, — снова обратился Илларион к Морозовой, — ноне мы твое желание уважили: стульцы для вас обеих приготовили, да еще какие! Смотри-ка, чтобы не свалились вы с них, цепочкою шею поприхватим, — не опасно будет!
Федосья Прокопьевна, не вздрогнув, посмотрела на цепи и, истово перекрестясь двухперстным крестом, поцеловала железо, промолвив:
— Слава Тебе, Господи, яко сподобил узы возложити на себя!
Стрельцы, сняв оковы с ног обеих узниц, стали заковывать железо вокруг шеи.
Сестры повиновались, помогая накладывать тяжелые узы.
Стрельцов поражала покорность молодых женщин. Многие из стрельцов были последователями Аввакума и неохотно исполняли приказ.
Обеих женщин вынесли прикованных к стульям на стоявшие у входа в подклеть дровни и положили на солому.
Прежде, чем выехать со двора, дровни пропустили мимо себя парадную карету Морозовой, запряженную по обыкновению двенадцатью конями. Спустившись с красного крыльца, поддерживаемый под руку старым служителем, в карету поместился сын Федосьи Прокопьевны, Иван Глебович. Он ехал во дворец по желанию государя, противиться которому он не желал: напротив, он даже стремился скорее свидеться с царем-батюшкою, чтобы попросить его за свою мать.
О том, что она лежит рядом, скованная на дровнях, юноша не знал.
Молодой Морозов полагал, что его поездка во дворец связана с освобождением матери и тетки, а также со сватовством к княжне Пронской. «Спасибо дяде, князю Петру, — думал он. — Не забыл своего обещания».
Старый служитель, усадив боярина в карету, вскочил на узкую доску, тянувшуюся по обеим сторонам полозьев, и крикнул вознице:
— Под царские переходы…
Сытые кони дружно подхватили тяжелый экипаж и вынесли его из ворот.
Около кареты побежала толпа челядинцев, неизбежная принадлежность выездов богатых вельмож того времени.
Стоявшие у ворот любопытные поглазели на роскошный выезд, погуторили о нем и уже хотели было расходиться по домам, как вдруг заметили дровни, выехавшие следом за экипажем.
— Э, да никак Морозовских стариц к допросу везут! — крикнул кто-то из толпы.
Дровни, скрипя на повороте полозьями, выкатились на узкую улицу.
Обе сестры не скрывали своих лиц и смело глядели на народ. Морозова, высоко подымая персты правой руки, сложенные по-староверски, и звеня цепями, громко говорила:
— Тако надлежит креститися!
— Ой, да никак это самое боярыню повезли! — раздались голоса среди толпы. — Бедная! Как страждет ради веры истинной, православной!
XXI
Вызов молодого Морозова во дворец никак не был связан с князем Петром. Князь Урусов и не заикнулся царю о племяннике.
— Жалко мне сына моего верного слуги Глеба Морозова, — сказал Алексей Михайлович боярину Матвееву, — почто погибать ему ради безумств его матери? Приближу к себе, а там за годами може и на воеводство куда-нибудь ушлю, ежли разум выкажет!
Царь задумался.
«Кто знает, может быть, на меня глядя, и эта гордыня кичливая образумится», — подумал он о Федосье Прокопьевне.
В те времена по дворцовому этикету царю оказывали особенный почет.
Приезжавшие подходили ко дворцу пешком, оставляя лошадей и экипажи довольно далеко от входа. Многие из простых малочиновных людей, еще издали завидя царское обиталище, снимали шапки и, таким способом «воздаючи честь государю», проходили мимо.
Особенно строго воспрещалось проезжать под каменной преградой, где находились царские переходы.
«С площади никого не пущать, о том караульщикам приказать накрепко», — гласили тогдашние приказы. — «Переходы с дворца на Троицкое подворье запереть и никого в те двери и на переходы без государского шествия и без именного указа не пропущать, но тот приказ с великим подкреплением детям боярским, истопникам и сторожам, которые стоят в том месте и у светлишной лестницы. Дворовых людей, как их позовут в «верх», за столовым и вечерним кушаньем к царице и царевнам пропущать на светлишную и на каменную лестницы за все преграды»…
И, несмотря на всю строгость указов, государь высказал свое желание, чтобы парадный поезд с молодым Морозовым остановился у этих переходов, а дровни с самой боярыней и ее сестрою были провезены под ними.
Алексей Михайлович желал сам лично посмотреть на униженную Морозову, хотел, чтобы она почувствовала стыд и раскаяние, когда ее с великим бесчестием провезут по тем улицам, где еще недавно она ездила с превеликою честью!
Не скоро оба поезда, парадный с Иваном Глебовичем, да позорные дровни с униженною его матерью, добрались до дворца.
Как только разошелся слух по Москве, что «добрую боярыню для ради ее твердого стояния за древнее благочестие» с позором повезут по улицам, громадная толпа народа теснилась вокруг ее дровней, выражая ей свое соболезнование и участие. Бесчестие боярыни Морозовой и ее сестры доставило укреплявшемуся расколу еще более приверженцев. Никогда фанатическая брань Аввакума или его сотрудников не привлекала столько поборников и радетелей к двухперстому перстосложению, к сугубой аллилуие и прочим разностям необразованных последователей раскола.
Преследование Морозовой было ошибкою со стороны царя.
Наконец, морозовская карета приблизилась к Кремлю; невдалеке за нею тащились дровни с узницами.
— Скажи позадержать маленько дровни-то! — приказал Алексей Михайлович.
Из подъехавшей к переходам дворца кареты вышел, ведомый под руку слугою, молодой Морозов.
Он робко огляделся вокруг и, предшествуемый внутренней дворцовой стражею, состоявшею из стольников, стряпчих и низших служителей, вступил в царские покои.
— Великому Государю доложено будет о тебе, Иван Глебович, — сказал стольник Хитрово, — обожди!
Юноша послушно последовал за своим вожатым в сени.
Государь не желал, чтобы молодой Морозов увидел, как повезут его мать под Кремлевскими переходами.
Сам Алексей Михайлович вошел на один из переходов и сделал жест рукою, чтобы дровни с узницами везли дальше.
С сожалением взглянул он на прикованных к стульям сестер. Он вспомнил в эту минуту о том высоком положении, какое еще недавно занимали обе сестры при дворе, и на глазах царя показались слезы.
— Сумасбродки! — прошептал он.
Морозова, заметив царя, стоящего на переходах, снова высоко подняла правую руку с двухперстным крестосложением и, потрясая звенящими цепями, закричала:
— Тако крещуся!
Возница хлестнул лошаденки, и дровни оставили за собою царский дворец.
Обеих сестер разлучили.
Федосью Прокопьевну свезли на подворье Печерского монастыря и посадили под крепкий караул стрельцов. Железные оковы с нее не сняли, но только отковали от стула.
Сестра ее, Евдокия Прокопьевна, была водворена в Алексееве кий монастырь.
Илларион Иванов, сдавший Урусову монахиням, сказал им:
— Возьмите ее под крепкое начало. Государь великий помышляет, что она еще образумится, ибо заразилась от сестры своей!
Думный боярин знал, что князь Петр, муж узницы, в милости у царя. Это заставляло его относиться к княгине снисходительно. Кто знает, а вдруг князю Петру удастся упросить государя помиловать жену, тогда он все еще припомнит!
Но Урусов совсем отступился от жены. Хитрый потомок татар понимал, что заступаясь за нее, он только повредит себе, и молчал.
— Водите ее кажинный день в храм Божий, — продолжал свой приказ монахиням думный дворянин, — блюдите за ней неукоснительно, чтобы она своих выдумок не показывала!
На другое же утро к Урусовой явилось несколько монахинь, чтобы вести ее в церковь.
Но Урусова идти отказалась.
— Как я пойду в ваш собор, когда там у вас поют не хвалу Бога, но хулу, и законы его попирают!
— Перекрестись, княгиня, что ты такое глаголешь непотребное?
Ужас объял монахинь.
Усмехнулась Урусова.
— Не пойду я туда! — решительно ответила она им.
О ее отказе сообщили думному дьяку Иллариону Иванову, и он повелел носить ее к службе на носилках.
Княгиня притворилась больною и просила монастырские власти разрешить, чтобы ее посетили домашние.
Под видом последних к Урусовой явились старицы, жившие у ее сестры Морозовой, между прочим, и Мелания.
— Стой твердо, княгиня, за старую веру, не соблазняйся новшествами, не приемли лесть никониан! — убеждала ее суровая раскольница, — во храм, пока там не хвалу, а хулу на Господа поют, не моги ходить!
Духовное подкрепление со стороны своих единомышленниц оживило Евдокию Прокопьевну: она возвеселилась духом.
Монахини поняли, что узница их притворяется, а вовсе не больна, и снова настоятельно требовали, чтобы она шла к «четью-петью» в церковь.
Силою удалось уложить ее и снести в церковь, но и здесь она не хотела обращать ни на что внимания и не только не соглашалась молиться, но продолжала лежать, как мертвая.
На следующий день произошло то же самое, но тем не менее монахини продолжали ежедневно волочить упрямую женщину в церковь.
Заставить ее идти саму или молиться во храме не было никакой возможности.
Выводимые из терпения ее притворством, старицы Алексеевского монастыря даже «дерзостно заушали» Урусову, повторяя:
— Горе нам! Что нам делать с тобою; сами мы видим, что ты здорова и весело беседуешь со своими, а как мы придем звать тебя на молитву, ты внезапно как мертвая станешь; и должны мы трудиться, переворачивать тебя, как мертвое тело!
— О, старицы бедные, — ответила им Евдокия Прокопьевна, — зачем напрасно трудитесь; разве я вас заставляю? Вы сами безумствуете, вотще шатаетесь! Я и сама плачу о вас, погибающих!
Долго продолжалось подобное «волочение» княгини к «четью-петью» во храм Божий. Наконец, сами инокини утомились этим издевательством над ними упрямой фанатички и стали молить игуменью:
— Освободи ты нас, госпоже, от этого послушания: втуне мы трудимся, не возможно образумить сию изуверку!
Игуменья выслушала их жалобу и отправилась в тот же день к патриарху.
— Уволь нас, святейший патриарх, от сраму! Кажинный день, как «волочать» Урусову в церковь Божию для смирения, вопит она на весь мир отповедь! Соблазн великий по всей Москве расходится! Все о ней на Москве наслышаны! Вместо полезности один вред выходит, в мученицы ее возводить стали!
Патриарх задумался. Он понимал, что так дольше не может продолжаться.
К вечеру же того дня патриарх посетил государя.
— Прости, государь великий, за совет мой! Довели возвратить княгиню мужу, а сестру ее боярыню Морозову верни в дом. Бабье их дело, смысла мало, а соблазну творится много! О них многие знатные особы соболезнуют…
Государь пытливо взглянул на патриарха.
— Не знаешь ты, святейший отец, упорства Морозовой! Призови ее я себе, спроси — и сам познаешь ее твердость.
На другой день государь велел снова привести молодого Морозова.
Иван Глебович не возвращался в родной дом с тех пор, как был привезен во дворец.
— Ну, Иван, — ласково встретил царь молодого Морозова, — доволен ли ты житьем своим у меня, не обидел ли кто тебя?
— Нет, государь батюшка, никто не обижал.
— Слушай, Ванюшка, — снова проговорил царь, — великую ты мне службу сослужил бы, коли мог бы свою мать упрямую уговорить свое безумство бросить.
Морозов молча поклонился.
— Сегодня не ходи. Святейший патриарх ей сегодня допрос чинить будет. Ступай завтра.
— Исполню по твоему приказу, батюшка государь…
Царь жестом руки отпустил его.
XXII
О свидании молодого Морозова с царем заговорили по всему дворцу и князь Урусов решил снова сосватать племянника.
Широкие боярские сани, обитые темно-малиновым бархатом, запряженные тройкою коней, были поданы к дворцовой боковушке.
Дядя с племянником отправились к князю Пронскому.
— А я к тебе, князь, птенца малого, неоперившегося, привез! — весело проговорил Урусов, входя вместе с племянником в горницу.
Гости и хозяин поклонились друг другу в пояс.
Из-за неплотно притворенной двери, ведущей во внутренние покои, послышался чей-то шепот. Морозов обернулся к дверям.
— Ах!.. — раздалось за дверью, и защелка захлопнулась.
— Девчонки шалят, — благосклонно усмехнулся хозяин и пригласил гостей сесть.
— Аль не пьешь? — спросил Пронский Морозова, заметив, что юноша чуть-чуть притронулся губами к поданному меду. — Хвалю, кто с мол оду не пьет, тот и в старости свой ум не растеряет.
Между обоими князьями завязался разговор.
Морозов молча их слушал.
— Прости, князь, — заметил Урусов, — что не по обряду старинному ведем мы дело, да медлить нам нельзя.
Хозяин пытливо взглянул на гостя:
— А что? — спросил он.
— Сам знаешь: боярыня в опале, дом сиротой стоит, а Ваня у царя на иждивении.
Пронский изумленно взглянул на юношу.
— У государя великого?
— Да, государь беречь племянника повелел: ведь он теперь единственный Морозов на всю Россию.
В тот же вечер молодой Морозов был помолвлен с княжной Аксиньей Пронской.
XXIII
На небе еще мерцали утренние звезды, когда из ворот Печерского подворья выехали дровни, на которых сидела под конвоем двух стрельцов Морозова. По приказу патриарха ее везли снова в Чудов монастырь.
Во вселенской палате, куда внесли Морозову, кроме митрополита Крутицкого Павла, архимандрита Чудовского Иоакима и думного дворянина Иллариона Уварова, находился сам патриарх Питирим и несколько бояр.
Питирим обратился к сидящей перед ним женщине:
— Как же ты, боярыня, прельстилась Аввакумкиной лестью? Брось свои мечтания, воссоединись с истинной церковью.
— Была она раньше истинной, но ныне развращена Никоном.
Патриарх вздрогнул:
— Какую мерзость ты глаголешь, исповедуйся…
— Кому же мне исповедаться? — спокойно спросила Морозова.
— Да разве мало пастырей на Москве?
— Много их, но истинных нет.
— От гордости помутился ее разум — прошептал Питирим, — подайте сюда освященное масло да сучец, помажу ее, может, смирится.
Морозова старалась выбиться из рук державших ее стрельцов.
Патриарх хотел уже помазать сучцом ее лоб, как Морозова отчаянно воскликнула:
— Не мажь меня отступным маслом, не губи!
— Как ты смеешь называть так святой елей! — проговорил патриарх с негодованием.
— Слава тебе, Боже, что спаслась отступного помазания, — прошептала Морозова, — твоими молитвами, старец Аввакум!
Услыша имя Аввакума, Иоаким улыбнулся:
— Не будет этот льстец больше смущать вас, крепко держат его в Пустозерске.
Боярыня вздрогнула, узнав об участи Аввакума.
В палату ввели для допроса Урусову и Марью Данилову, жену стрелецкого полковника.
Она успела бежать в Подонскую страну, на Дон, но была там поймана, привезена в Москву и посажена с Урусовой.
Морозову понесли обратно на Печерское подворье, а Урусову патриарх велел держать за руки и, обмакнув в елей сучец, хотел намазать ей лоб.
Точно ужаленная, отпрыгнула княгиня в сторону.
Стрельцы снова схватили ее за руки и хотели подвести ее к Питириму, но ей опять удалось вырваться.
— Уведите их вон, — еле слышно проговорил Питирим.
Узниц тотчас же повели из палаты.
— Попробуем последнее средство, — предложил митрополит Павел, — пошлем к Морозовой для увещания митрополита Иллариона Рязанского.
Так и решили поступить.
Вернувшись в свое помещение во дворце, Иван Глебович не знал, куда ему деться от радости.
Он понимал, что брак дает ему возможность возвысить имя Морозовых, и теперь он мечтал, что царь будет посаженным отцом на свадьбе.
В небольшом помещении Морозову было жарко. У юноши заболела голова.
Иван Глебыч несколько раз прошелся по горнице. Он чувствовал, что шатается.
Он пробовал молиться, но мысли путались.
Юноша порывисто стал раздеваться, не зовя никого на помощь.
В голове его словно замелькала пестрая нить. Он вспомнил, как ласкал его старик-отец, на глазах показались слезы, и, тихо всхлипывая, он стал засыпать каким-то странным тяжелым сном. Все в голове кружилось: он чувствовал, что падает в какую-то пропасть… И юноша потерял сознание.
На другой день утром князь Урусов послал справиться о помолвленном женихе.
— Спит еще, княже, — отвечал посланный, — дверь в горницу к нему заперта!
— Пусть его понежится, кудрявых сновидений навидится, — шутливо заметил князь Петр.
Через два часа Урусов прямо от царя снова отправился к племяннику.
Дверь по-прежнему была заперта: изнутри никто не откликался на вопросы.
— Эх, парень-то заспался, — недовольно прошептал Урусов и стал громче стучаться в двери.
По-прежнему ответа не было.
— Неладно там что-то, — тревожно проговорил князь и, позвав двух стрельцов, велел высадить дверь.
Из разбитой двери хлынул удушливый запах угара. Урусов бросился к неподвижно лежавшему юноше.
— Угорел! — с ужасом понял князь и, схватив племянника на руки, вынес из горницы.
Немедленно был позван государев лекарь Каролусь, но было уже поздно — молодой Морозов без страданий отошел в вечность.
XXIV
В один из дней боярыне сообщили о смерти сына.
Побледнев, она отшатнулась, прислонилась к стене, но не выронила ни слова.
Прошел день, и только к вечеру волнение, скрываемое внутри, вырвалось наружу. Упав перед образами, она горько зарыдала.
С этого времени она дала обет не принимать в пищу молока, сыра, яиц, употреблять же только еду с постным маслом.
Среди приверженцев старой веры пошли толки, что сын Морозовой отравлен.
Узнав о смерти молодого боярина, государь велел раздать имение, вотчины, стада коней. Золотая, серебряная посуда, драгоценности были распроданы, дом запустел, дворня разбежалась, часть ее перешла к другим господам…
Узнав, как содержится она в заточении, государь разрешил, чтобы Морозовой прислуживали две девушки.
Ими оказались Анна Амосова, с которой боярыня ходила когда-то по Москве, раздавая неимущим одежду и деньги, и Стефанида, но прозвищу Гнева. Мало кто знал, что обе они были тайными последовательницами ссыльного протопопа Аввакума.
Новая помощница оказалась и у сестры боярыни, Урусовой. Когда Евдокию Прокопьевну волокли в церковь, там случайно оказалась Акулина, дочь боярина. Узнав Урусову, она долго смотрела, как тащат ее в храм, и жалость проникла в сердце девушки. Придя через несколько дней к монахиням, она стала помогать им в хозяйстве, и вскоре так вошла в доверие, что ей поручили вместе с другими следить за опальной княгиней, а еще позже она одна стала вести это неприятное всем дело.
Еще до поступления в услужение к княгине Акулина сочувствовала старой вере, была знакома с Аввакумом и с матерью Меланией, и была тайно пострижена в иночество с именем Анисии.
Акулина близко сошлась с Урусовой, и теперь можно было вести переписку не только между сестрами, но и с ссыльным протопопом.
Акулина же устроила и свидание Урусовой и Морозовой.
В монастыре очень жалели княгиню, знали, что дома остались дети, и однажды ей было разрешено втайне посетить дом, чтобы повидать детей. Пообещав вернуться к вечеру, княгиня, закрывшись платком, чтобы быть неузнанной, проскользнула в монастырские ворота.
Недалеко от Печерского подворья, где содержалась Морозова, княгиню встретила старица Елена, и они вместе вошли в подворье.
Морозова выслала им навстречу Анну, которая обменялась с Урусовой головным убором. Вместо Анны в келью боярыни, склонив голову, чтобы нельзя было различить лица, проскользнула Урусова.
Долго уже не видели сестры друг друга. Обнявшись, они плакали, а затем Морозова читала ей послания Аввакума.
Через несколько часов в келью постучали:
— Боярыня, пора, опасно уже.
Это был начальник стрелецкой стражи, сам тайный приверженец раскола, сочувствующий Морозовой и уже не раз помогавший боярыне. Совсем недавно он провел в келью странствующего инока Иова Льговского, который причастил боярыню.
После смерти Ивана Глебовича о сестрах как будто забыли. Ими не интересовались ни во дворце, ни у патриарха. Тоскливо и размеренно текли день за днем.
Хотя Аввакум давно уже был в ссылке, Меланию все никак не могли поймать, она же сама проникала повсюду, отмыкала замки, проходила сквозь самую бдительную стражу и снова исчезала без следа.
Однажды она появилась у Морозовой.
— Готовься, Федосьюшка, — прошептала старица. — Завтра в ночь тяжелый тебе искус будет.
Морозова вздрогнула.
— Неужто настало время потерпеть за Христа, венец мученический принять? — с легким дрожанием в голосе спросила она.
— Не бойся, дочь моя, а радуйся! Венец уготован! Помолимся вместе!
Стало светать. Услышав шум за дверью, Мелания исчезла.
Морозова осталась одна. Прошлое вставало перед ее глазами. Она вспомнила умершего мужа, его брата, умершую царицу Марию, при жизни которой было так безопасно… Вспомнился и погибший сын Ванюша… И боярыня, опустив голову на грудь, горько зарыдала.
Она ждала весь день, но день прошел, как обычно, и только через две ночи Морозову вывели из кельи и повели к повозке. Они долго ехали, вокруг сидели незнакомые люди, и боярыня молчала.
После получаса езды повозка остановилась и боярыню ввели в темную избу, полную народа. Было темно, но когда глаза привыкли к темноте, она увидела сестру, а еще дальше — Данилову.
Морозова, звеня кандалами, протянула им руки и прошептала:
— Терпите, сестры, терпите…
Но, несмотря на то, что она утешала других, сама Морозова чувствовала на сердце тяжесть.
Они долго сидели в темноте, пока Морозову, подняв за локти, не повели в соседнюю комнату. Сзади вели сестру и Данилову.
За длинным столом посреди низкой палаты сидели бояре — князь Иван Воротынский, князь Яков Одоевский и Василий Волынский. Они были друзьями покойного мужа и почти каждый день бывали в морозовском доме.
Сурово взглянув на бояр, Морозова не поклонилась, а еще больше задрала голову и нахмурилась.
Но и боярам не хотелось приниматься за допрос. Они молча и угрюмо смотрели на стоявших перед ними женщин, пока Воротынский, кивнув остальным, обратился к ним.
— Призваны мы на тяжкое государево дело. Коли не повинитесь, будут вас пытать.
Но женщины молчали, и тогда Воротынский, кивнув стрельцам, рукой показал на застенок.
Стрельцы потащили женщин в соседнее помещение.
Мрачный застенок, едва освещенный тройником восковых свечей, стоявших на столе, производил страшное впечатление. С проходившей через весь свод балки свешивались веревки для дыбы, внизу лежала тяжелая дубовая доска.
Бояре, вошедшие следом за женщинами, уселись за стол.
— Начни с этой, — кивнул Воротынский на Данилову.
Палачи завязали ей руки за спину, связали ноги и, соединив с дыбой, вздернули женщину вверх.
— Еще! — приказал Воротынский.
Узницу снова встряхнули.
Мария не произнесла ни звука.
— Брось ее, — сказал Воротынский, и женщину бросили на пол.
— Не проняло, — вмешался Одоевский. — Пусть пока полежит.
Палачи подошли к Урусовой.
— Сдерните с нее треух! Как ты смеешь, будучи в царской опале, носить цветное! — закричал Воротынский.
— Я перед царем не согрешила! — спокойно ответила Урусова.
Палач, сорвав треух, подвел княгиню к дыбе. Когда, вздернутая, она стала стонать, ее опустили и бросили на пол рядом с Даниловой. Она лежала, постанывая, не в силах пошевелить вывернутыми руками.
Морозова, видя, что настала ее очередь, сама подошла к дыбе и посмотрела на палачей.
— Позора хочешь? — спросил ее Воротынский. — Забыла, из какого ты рода?
— Слава людская проходит, — усмехнулась Морозова. — А вот ты о Христе забыл.
Связав руки, Морозову подвесили к дыбе, но, даже испытывая невыносимые боли, с перекошенным лицом, она кричала боярам о том, что они предали истинную веру и забыли Бога.
Через полчаса ее сняли с дыбы. Руки, протертые веревкой до жил, кровоточили.
Трех женщин положили рядом и, накрыв руки тяжелой дубовой плахой, предупредили, что сейчас будут выжигать двоеперстие.
Урусова, не в силах перекреститься, заплакала. Тогда палачи, пожалев ее, дернули руки и суставы стали на место.
Руки Даниловой привязали кольцами и двое палачей стали ременными нитями стегать по ее спине.
Кожа на спине сразу покрылась кровью. Морозова, не в силах видеть это, отвернулась и заплакала. Урусова же давно уже была в обмороке.
Тогда боярин, руководивший пытками, повернулся к Морозовой и пригрозил:
— Если не покаетесь, сейчас и за вас примемся.
— И вы христиане! — закричала Морозова трем боярам, стоявшим у стола. Они, побледнев, отвернулись от боярыни.
Когда Данилову окончили сечь, она попросила полотенце, провела его по спине и протянула палачу окровавленную материю:
— Снеси-ка ты его к мужу моему, передай, что жена кровью кланяется, он тебя наградит за это…
XXV
С ужасом выслушал государь рассказ о пытках. Он не мог понять, как три слабые женщины выдержали такие мучения и не отрекаются от своих заблуждений.
Утром «сотворил царь сидение думати о них».
Бояре, созванные на совет, молчали. Кто-то посоветовал жечь отступниц, и Алексей Михайлович, услышав это предложение, вздрогнул.
— Безрассудное дело советует, государь, — вмешался князь Долгорукий. — Огнем не спасешь душу. Сын Божий молился за неверных, а не жег их.
— Так, так, — обрадовался этим словом государь.
После долгих споров было решено сослать непокорную Морозову в Новодевичий монастырь, держать ее там под строгим караулом и ежедневно водить в храм Божий, так как Морозова, как и ее сестра, не хотела ходить сама в церковь.
После того, как Морозову перевели в монастырь, множество народу стало приезжать туда, чтобы подивиться мужественной опальной боярыне.
С утра монастырский двор был запружен каретами и экипажами. Наезжало и немало боярских жен — некоторые полюбопытствовать, а некоторые и облегчить ее страдания. Вход к ней был свободен. Никогда еще после ареста не пользовалась она такой свободой, как здесь, в Новодевичьем монастыре.
Но с удалением непокорной боярыни в загородный монастырь соблазн для москвичей не уменьшился. По всей Москве только и говорили о страждущих ради старой веры сестрах.
Тогда государь Алексей Михайлович повелел перевести Морозову снова в Москву. Он надеялся, что визиты к ней вельмож и сочувствие со временем прекратятся.
По царскому указу Федосью Прокопьевну поселили в Хамовнической слободе, где ткали полотно для царского двора.
Боярыня нашла приют в доме старосты. Будучи сам ревнителем старого благочестия, он очень обрадовался своей новой постоялице.
Немало было последователей Аввакума и среди ткачей слободы. Еще раньше в их домах не раз находили приют Мелания и прочие морозовские старицы.
Доступ к опальной боярыне, пострадавшей за веру, был свободен, не говоря уже о том, что Мелания и Елена постоянно находились при ней. Из далекого Пустозерска Аввакум регулярно мог присылать свои послания.
Положение Морозовой немного облегчилось, и ее окружение теперь надеялось, что оно постепенно сделается еще лучшим.
XXVI
Но вскоре все в судьбе Морозовой переменилось.
Ее сторонники понимая, что необходимо действовать через царя, стали обращаться к государевым родственникам с просьбами о помощи. Особенно часто разговаривала с царем о Морозовой старшая из государевых сестер, царевна Ирина Михайловна. Не проходило и дня, чтобы царевна не напоминала государю о заслугах мужа Морозовой, и просила пощадить стойкую женщину.
И в один из дней царь, раздосадованный приставаниями сестры, повелел начать строить в далеком Боровске специальный острог.
К зиме, когда острог был готов и установилась дорога в далекий Боровск, вышел государев указ отправить опальную боярыню Морозову на поселение в боровский острог. Вместе с ней были высланы из Москвы княгиня Урусова, Данилова, и еще позднее — инокиня Устина.
Почти месяц продолжался путь в санях от Москвы в Боровск.
Всю дорогу боярыня молчала, не разговаривала с тремя стрельцами, сопровождавшими ее, отвернувшись, смотрела на снежную пустыню, не кончающуюся на протяжении всей дороги. Проезжали города, деревни, и никто здесь не выходил, как в Москве, встречать страдалицу за веру, никого не интересовала ее судьба. Мелкие встречные равнодушно следили за двумя санями, ползущими друг за другом.
Наконец, сани притормозили, раздался скрип ворот, крики, лай собак и сани въехали в острог.
Морозова, разминая затекшие ноги, вышла из саней. Со всех сторон высились высокие, сверху заостренные светлые бревна стены, посреди стоял маленький светлый сруб для стражи. В центре двора возвышался низкий, как у колодца, сруб, поставленный над ямой.
И, увидев все это, сердце у Морозовой сжалось от тоскливого предчувствия. Она так много настрадалась в дороге, так много передумала во время пути, что прискачи сейчас гонец из Москвы и снова привези он послание от государя — не сомневаясь, отошла бы боярыня от старого благочестия, приняла бы старые почести.
Подведя ее к срубу, стражник откинул дверцу и, подталкивая Морозову к лазу, заставил ее спуститься вниз по лестнице. Как только она опустилась на землю, лестница сразу была вытащена, дверца захлопнута, и теперь свет едва пробивался в яму сквозь узкое, как бойница, окошко.
В яме было темно и душно, и Морозова, не зная, что делать, стояла прямо под дверцей, на том месте, где только что находилась лестница.
Постепенно глаза привыкали к темноте, и она различила возле стены несколько неясных фигур.
— Кто здесь? — спросила Морозова.
— Люди Божии, — ответил ей знакомый голос, и Морозова вздрогнула: — Устина, ты?
— Матушка! — закричала Устина, и девушка, вскочив с топчана, подбежала к Морозовой.
Вслед за ней поднимались еще две женщины, и сквозь слезы, всхлипывания боярыня поняла, что здесь уже неделю томятся ее сестра, Данилова и инокиня Устина.
Так началась новая жизнь опальной боярыни.
Как ни страшно было сидеть в яме, но наладилась жизнь и здесь. Вскоре женщины перешли на монастырский уклад жизни — долгие молитвы, песнопения, чтения Псалтыри.
Во время отдыха Мария Данилова, много побывавшая в святых местах, странствовавшая по Руси, рассказывала узницам об увиденном.
Женщины, напряженно слушая ее, вздыхали — Бог весть, удастся ли самим повидать всю эту красоту.
Среди стражи нашлись последователи Аввакума, и вскоре узницы смогли получать послания от ссыльного протопопа, в которых он поддерживал женщин и старался духовно их утешить. Дождавшись дня, когда свет слабо пробивался в яму, они снова и снова перечитывали письма.
Стали поступать из города и передачи — постепенно место заключения Морозовой и ее подвижниц узнали, и в Боровск стали наведываться московские староверы.
Стража, сперва строго обращавшаяся с женщина, помягчела — муж Даниловой, Акинф, теперь узнавал, кто будет послан для ревизии из Москвы в Боровск, зазывал к себе очередного сотника, поил, угощал, обдаривал подарками, передавал подарки и деньги для стражи.
Все шло благополучно.
Они так свыклись со своим существованием, что перестали даже таиться — теперь уже громче, чем обычно, молились, громче пели, не прятали книг старой печати и маленьких, специально писанных для удобного хранения образов.
XXVII
Однажды на рассвете они были разбужены криками сверху, стуканьем открываемого лаза и шумом опускаемой сверху лестницы.
Вскочив, женщины смотрели, как по лестнице неуклюже спускается худощавый, маленький подьячий.
Добравшись до конца лестницы, он спрыгнул на землю и закричал:
— Дай сюда свету!
Но стрельцы намеренно не спешили, мешкали, чтобы узницы успели спрятать то, что было запрещено держать им в яме.
— Что, нет огня в Боровске? — бешено закричал подьячий. — Вот подождите, разожгу я вам огонек!
Наконец, два стрельца осторожно спустились в яму с пуками горящих лучин.
Подьячий, выхватив лучины, высоко задрал их над головой и недоверчиво оглядел своими маленькими рысьими глазами узниц.
— Что вы тут делаете? — громко закричал он.
— Что могут делать узницы? — ответила Морозова. — Молимся Господу Богу.
— Знаем мы, как вы молитесь! — еще громче закричал подьячий и быстро подошел к стене, на которой висело несколько икон. Внизу на полке лежали молитвенники и псалтырь старой печати, уже запрещенные к употреблению. Полистав книги, подьячий зло взглянул на Морозову и передал иконы и книги стражникам.
— Кто носил сюда непотребное? — вдруг спросил он у стрельцов, а затем, быстро обернувшись, недоверчиво посмотрел на растерявшихся женщин.
Стрельцы молчали.
— Кто допускал приходящих? Как послания Аввакума сюда доходили?
Он рассматривал яму, узниц, стрельцов, и лицо его краснело от гнева и злости.
На следующий же день стрельцы были сменены, а вскоре из Москвы был прислан новый караул. Как ни старались узницы разговорить новых стражников, они оставались молчаливыми и только зло поглядывали на Морозову и ее подвижниц.
Так прошло еще полгода, и никто из них не знал, что же ожидает всех впереди.
XXVIII
На Петров день прибыл в Боровск из Москвы дьяк Кузмищев. Он был известен в столице, как знаток по розыску, и кличка ему была дана «Людоед».
В голове его уже сложился целый план действий с заключенными. Он не в силах был распоряжаться жизнью и смертью двух сестер, но остальные заключенные были отданы ему в полное подчинение.
Он появился в остроге сразу на другой день после приезда и, войдя в яму, низко поклонился заключенным:
— Поклон вам низкий из Москвы, княгинюшка да боярыня, — преувеличенно любезно сказал он и усмехнулся, оглядывая яму. — Обжились маленько, домком обзавелись… Давненько милость вашу не тревожили…
Кузмищев, зорко оглядев узниц, подошел к Устинье.
— Сказывают, мать, что ты воровство свое еще больше усилила, байками тут всех кормишь, письма Аввакумкины получаешь?
— Воровством не занимаюсь, — сурово заметила старуха, — а честного отца нашего не моги Аввакумкой называть!
— Зубаста ты, старуха! — отозвался дьяк. — Подожди немного — возжгу из тебя свечу воску ярого!
Морозова и Урусова со страхом посмотрели на Устинью.
— С радостью сподоблюсь венец мученический принять! — прошептала старуха.
— Ну, это ты уже сама размышляй, мученический он или просто так, — махнул рукой дьяк.
На следующий день уже с рассвета был слышен стук топоров. Он не смолкал до обеда, и после перерыва опять возобновился.
— Строят что-то, — прошептала Урусова, напряженно прислушиваясь.
— Горенку для меня готовят, — обрадованно догадалась Устинья. Пришел час мне ко Христу отойти!
— Помолимся, сестры, — сказала Морозова, и узницы начали молиться.
Вечером в яме снова появился дьяк.
Оглядев всех узниц, он остановил взгляд на Устинье и, усмехнувшись, медленно произнес:
— За твое воровство и нераскаянность повелевает пресветлый государь возжечь тебя огнем. А про остальных указу нету, — повернулся он к замолкнувшим женщинам.
Устинья, побледневшая, подошла к сундуку и принялась доставать белую рубашку — вместо савана.
Вскоре в яме снова появились дьяк с палачом.
Старица зажгла восковую свечу и вышла в последний раз из ямы. Кузмищев приказал и остальным узницам присутствовать на казни.
Они так давно не были наверху, на свежем воздухе, что в первое мгновение закружило голову, а свет, даже неяркий, вечерний, больно ударил по глазам.
Они шли, как на ощупь, сощурив глаза, и жадно вдыхая свежий, теплый и сухой летний воздух.
Вокруг сруба уже стояло много народа, ожидавшего казни. Морозова вздрогнула, увидев, как к срубу повели одетую в белое старицу. В руке она держала, осторожно прикрывая ее от ветра, горящую свечу.
— Благослови нас, святая мученица, — закричали женщины, и старица, обернувшись, осенила их широким крестом.
Кузмищев приготовился читать царский указ, который сам же Кузмищев написал в тот день, пользуясь своими правами вести расследование, как вдруг Устинья, наклонившись, поднесла свечу к снопам соломы, которой был наполнен сруб.
Огонь, вспыхнув, тут же охватил всю постройку. Устинья потонула в огненном вихре.
Кузмищев, сердито посмотрев на оставшихся узниц, приказал всех увести.
XXIX
Через неделю, когда была готова новая яма, еще более глубокая, Морозову и Урусову перевели в эту темницу. Марию Данилову посадили отдельно, поместив ее в городской тюрьме, среди убийц и злодеев.
В яме теперь день и ночь стояла темнота. Сестры не видели друг друга. Было темно, и так тоскливо, что женщины почти не разговаривали. Казалось, сам воздух ямы подавляет звуки.
Сперва узницы еще молились, но Кузмищев, услышав это, спустился к ним и отобрал четки и лествицы, по которым они молились.
Теперь они не могли класть положенного числа поклонов, пока Морозова, оторвав из сорочки длинную полоску, связала материю узлами. По ним теперь читали «Отчу» и «Богородицу».
В яме было так душно, что женщины невыносимо страдали «от задухи земные». Вновь вырытая яма словно дышала сыростью. Влага просачивалась со стен.
Чтобы сделать их существование еще больше невыносимым, Кузмищев приказал приковать узниц к стулу, который они с большим трудом могли передвигать по земле.
Им опускали так мало пищи и питья, что силы оставляли женщин с каждым днем.
Узницы чувствовали, что их смерть уже не за горами.
Прошло лето, пошли осенние дожди, осенние холода, и теперь от стужи нельзя было снимать с себя обветшавшую одежду. Силы оставили так, что узницы уже не могли совершать необходимого количества поклонов. Временами Евдокия ослабевала так, что не могла сдвинуть с места стул, к которому была прикована, и тогда она творила молитву лежа или сидя.
Неожиданно она начинала ползать вдоль стены, нащупывая выход, и когда испуганная Морозова спрашивала, что она делает, в ответ княгиня кричала:
— Душно мне, сестрица, воздуха хочу…
Все чаще Морозова со страхом слушала, как бредит сестра — то казалось, что ее выпустили наконец на волю, что она бродит по лесу или лугу, видит мужа и детей…
Рассудок вернулся к Урусовой незадолго до смерти.
Однажды боярыня проснулась от того, что сестра тормошила ее за плечо.
— Отпой отходную, — услышала Морозова шепот. — Что знаешь, то и говори. А что я знаю, то я скажу.
Морозова, вскочив, стала быстро читать отходную молитву, и умирающая повторяла слова, поправляя плачущую сестру.
Морозова еще продолжала читать, когда княгиня затихла. Не слыша ее голоса, боярыня наклонилась, прислушиваясь к исчезнувшему дыханию.
Но в яме теперь стояла полная тишина.
Только вчера в яму спустили еду для узниц. И теперь сторожа могли несколько дней не показываться здесь.
Морозова испуганно наклонилась к трупу сестры, и поняла, что она действительно умерла.
Морозова закричала, ни никто ее не услышал. Часы проходили за часами, и никто не приходил.
Прошло не менее двух суток, как чувствовала боярыня, когда заскрипел тяжелый засов верхнего входа в яму. В темницу кто-то входил.
Морозова изо всех сил бросилась к входившему, волоча за собой прикованный стул.
— Чего тебе? — испуганно отпрянул сторож, принесший еду.
— Скажи там, наверху, что сестра моя померла, — простонала Морозова.
Сторож недоверчиво стоял на месте, и только когда боярыня повторила, он с криком бросился из темницы, захлопнув за собой дверь.
Когда в подземелье стал опускаться со свечой Кузмищев, здесь впервые появился свет. Морозова, два с половиной месяца просидевшая в темноте, без света, вздрогнула.
Первое, что она сделала — бросилась к лежащей перед ней мертвой сестре, труп которой начал уже издавать зловоние. Она не узнала лица сестры, серого, измученного страданием и болезнью.
— Отпеть нужно, — не глядя на боярыню, проговорил дьяк.
— Не должны никониане истинных православных отпевать, — зло ответила Морозова. — Ангелы отпоют ее.
— Как знаешь, — пробурчал Кузмищев.
Он позвал стрельцов и приказал тут же, в яме, выкопать могилу.
С трудом сдерживая рыдания, Морозова начала читать погребальный канон.
Та, которая еще недавно была с почетом принимаема во дворце, была уже завернута в рогожу и опущена в яму.
Стрельцы начали засыпать землю.
Морозова больше не могла сдержать себя. Бросившись к могиле, она упала на землю и с воем стала биться о нее головой.
XXX
С этого дня потянулись для Морозовой однообразные дни заключения.
Как сквозь сон восприняла она приезд от государя посланцев с вещеванием, с обещанием вернуть все богатство и почести, если только согласится она не держаться старой веры, еще один приезд какого-то инока, затем митрополита — ни с кем не хотела говорить боярыня, и сами посланцы, смущенные ее поведением, скоро уезжали.
Наступила осень, сырая, глубокая. Целыми днями моросил дождь.
Ни один звук не проникал в глубокую яму, но по глинистым стенам катились потоки воды. Глинистый пол пропитался влагой, раскис, и ноги были постоянно сыры. Солома, на которой спала боярыня, давно сгнила, тошно пахала.
Сама Федосья Прокопьевна сильно ослабела. Она уже не могла молиться, и все время лежала на гнилой соломе, погруженная в свои думы.
В яму поселили Марию Данилову, но даже это не могло расшевелить боярыню. Она не могла видеть соседку в темноте, и только слышала ее тихие молитвы, временами повторяя своими пылающими от лихорадки губами молитвенные слова.
Время от времени она впадала в забытье и, очнувшись, шевелила рукой, словно хотела нащупать свою соседку.
Цепи звенели, и Данилова испуганно спрашивала, что с ней.
— Скоро, скоро расстанемся мы с тобой, — тихо отвечала Морозова.
Через два дня стрелец принес в яму питье.
— Есть ли у тебя отец и мать? — подняв голову, спросила Морозова парня. Стрелец молчал.
— Умилосердися, раб Христов…
— О чем ты? — испугался стрелец.
— Есть хочу… Дай мне калачика…
— Боюсь, госпожа.
— Ну, хлебца…
— Нельзя мне. Не смею, госпожа.
— Ну, дай еще сухариков.
— Запрещено, госпожа. Дьяк не велел давать пищу в те дни, когда подаю питье.
Морозова замолчала, но немного погодя, как ребенок, повторила:
— Ну принеси хотя бы яблоко или огурчик.
Стрелец молчал.
Молчала и Морозова.
— Если невозможно все это, прошу тебя, когда умру, укрой меня в рогожу и закопай возле сестры.
Пораженный ее просьбой, стрелец прошептал:
— Все исполню, как ты говоришь.
Данилова, слушая этот разговор, молча плакала.
— И еще, — попросила Морозова. — Не подобает мне, чтобы тело в нечистой одежде легло в землю. Возьми мою сорочку, выстирай в реке. Господь за это заплатит.
В ту же ночь она стала ослабевать. Заплетающимся языком она позвала чутко дремавшую Данилову.
Данилова подошла к боярыне и обняла ее.
— Читай отходной канон, сестрица!
Данилова прерывающимся от слез голосом начала читать отходные молитвы, но умирающая уже не могла за ней следить.
Изредка только она повторяла слова, но вскоре совсем замолкла.
Закончив отходную, Данилова нагнулась к Федосии Прокопьевне. Перед ней лежал холодеющий труп.
Боярыни Морозовой не стало в ночь на второе ноября.
Схоронили ее, как и обещал стрелец, тут же, в яме.
Не надолго пережила ее и Данилова: она скончалась через месяц.
Опустевшая, ставшая ненужной тюрьма была сломана, постройки и ограда разобраны, ямы закопаны.
Еще в прошлом столетии на этом месте, ровном, покрытом травой и кустарником, виделся вросший в землю камень:
«Лета 7180 погребены на сем месте сентября в 11 день боярина Петра Семеновича Урусова жена его, княгиня Евдокия Прокопьевна, да ноября во 2 день боярина Глеба Ивановича Морозова боярыня Федосья Прокопьевна, а в инокинях инокиня-схимница Феодора, а дщерь окольничаго, Прокопия Федоровича Соковнина. А сию доску положили на сестрах своих родных боярин Федор Прокопьевич до окольничий Алексей Прокопьевич Соковнины».
Так окончилась жизнь одной из великих исповедниц старой веры на Руси.
Примечания
1
По Ивану Шушерину, Никон родился в 1605 году, а раскольники показывают его рождение в 1613 году. Но первое вернее: Никон был моложав и мог показывать себя моложе; Шушерину же, как его служке, лучше был известен год его рождения. Раскольники показывают день его рождения тоже 21 мая; но так как по обычаю давали новорожденным имена тех святых, в какой день они родились, а потому мы считаем день его рождения 26 мая.
(обратно)2
По показаниям раскольничьим, он будто бы был избран в священники какого-то села; но это измышленно, чтобы умалить его значение.
(обратно)3
Он был почти трехаршинного роста.
(обратно)4
Удивительно в этом случае то, что, спустя более 150 лет невеста императора Павла, а потом первая жена его, Наталия, страдала тем же самым.
(обратно)5
Тогдашнее современное восклицание.
(обратно)6
Дворец Романовых был отстроен в конце лишь царствования царя Михаила, и в него переселился Алексей Михайлович при вступлении его на престол.
(обратно)7
Историческое выражение.
(обратно)8
Тогдашнее название шпионов-партизан.
(обратно)9
Вся эта глава — история.
(обратно)10
Скит на горе возник лишь сто лет спустя после Никона, а именно в 1712 году, — там водрузил крест схимник Иисус, а потом он приступил к постройке деревянной церкви; каменные же сооружения возникли там лишь в 1830 г.
(обратно)11
Тексты ее помещен в истории Соловьева, т. IX, стр. 442.
(обратно)12
Игумен Никодим преставился в 1640 году, причислен к лику святых и день его празднуется 3 июля. Таким образом Никон был его учеником, последователем и преемником.
(обратно)13
У митрополита ведались тогда дела по опекам.
(обратно)14
Черные земли считались собственностью крестьян, т. е. целого мира.
(обратно)15
Правеж — дело ужасное; лицо, поставленное на правеж, обязано было быть у дверей суда до тех пор, пока шло там заседание; а лицо, поставившее кого-либо на правеж, имело право сечь должника во все время заседания. Потом еще взыскивали за каждый удар с лица сеченого. Правеж уничтожен Петром I, но Бирон его восстановил по казенным недоимкам, и с его падением пал и правеж.
(обратно)16
Все фамилии исторические.
(обратно)17
По-старинному так называлась толпа.
(обратно)18
Должно быть Хмара.
(обратно)19
Мира.
(обратно)20
По постановлению собора 1620 г. лютеран вновь крестили.
(обратно)21
Один из Хованских положил голову при Петре Великом за земское дело.
(обратно)22
Факт этот мы взяли из письма царя к Никону.
(обратно)23
Когда Филарет Никитич был еще в польском плену.
(обратно)24
Державцами в Польше именовались служилые люди, имевшие коронные земли на поместном праве, т. е. с обязанностью ратной службы.
(обратно)25
Летопись, собранная Никоном, сохранила название «Никоновской».
(обратно)26
В те времена боярские дворы имели иногда до 500 дворовых людей. Так, во время чумы у Никиты Ивановича Романова умерло 352 человека, осталось 134; у князя Черкасского — 423 умерло, осталось — 110; у Стрешнева в живых — один мальчик, и ему пришлось избирать новый штат.
(обратно)27
Начальники главной царской квартиры.
(обратно)28
Называю священников попами, так как это тогдашнее их официальное название.
(обратно)29
Селами назывались дворцовые имения.
(обратно)30
Карета и коляска встречались уже во всех бумагах того времени.
(обратно)31
Перкеле и фан — черт.
(обратно)32
Неизвестно, что препятствует и в настоящее время это сделать в память русских героев и русских угодников: слово «Динабург» и смысла не имеет. — Авт — Ныне он назван Двинск. — Ред.
(обратно)33
Сохрани.
(обратно)34
Собственное выражение Бутурлина.
(обратно)35
Об этом первом отряхании праха своих ног в столовой в одном из своих писем царю говорит Никон, без пояснения причины этого отряхания. Но то, что в начале следующего года это было одною из причин неприглашения к обеду патриарха, когда приезжал грузинский царевич, — это очень вероятно.
(обратно)36
В то время это означало ходатайствовать.
(обратно)37
Это обхождение историческое.
(обратно)38
Эта риза хранится теперь в Новом Иерусалиме, и нужно удивляться богатырской натуре Никона, что он мог по несколько часов стоять в таком тяжелом облачении.
(обратно)39
Речь эта буквально его и историческая.
(обратно)40
Впоследствии последние слова Никон отрицал.
(обратно)41
Некоторые уверяют, что он здесь пробыл три дня.
(обратно)42
Капторы, как их тогда называли.
(обратно)43
Вот откуда взял Аксаков это знаменитое изречение. Под этим раскольники подразумевали крещение. И так как Никон установил в крещении миропомазание лица и погружение в воду, то раскольники отрицали и самое крещение это как таинство; а свое крещение назвали банею пакибытия, т. е. ради будущей жизни.
(обратно)44
Ходатайствует (на тогдашнем языке).
(обратно)45
Здесь впервые Никон пишет царю «вам». Письмо это буквально историческое.
(обратно)46
Здесь намек на палочную расправу Хитрово с князем Вяземским.
(обратно)47
Начал святейший за здравие и кончил за упокой. Начинает он с этого места горячиться.
(обратно)48
Здесь намекает он на перенесение св. мощей в Москве.
(обратно)49
В этом месте он упоминает о предстоящем своем побеге.
(обратно)50
Отец Павел, архимандрит чудовский, в это время пожалован в митрополиты Крутицкие.
(обратно)51
Здесь он явно восстает против жестокости наказаний уложения, о чем мы ниже увидим, что он протестует не только по делам веры, но и в других случаях.
(обратно)52
Здесь говорится о тяжелых порядках гражданского уголовного суда: правеже, пытках и казнях.
(обратно)53
Здесь говорят он о морс московском и о море во время второго похода на Ригу, когда умер Делагарди. Мор этот проник и к нам. Только санитарные меры Никона в обоих этих случаях спасли народ.
(обратно)54
Конфисковано было Воскресенское подворье.
(обратно)55
Мы здесь говорим о ней и об Аввакуме немного потому лишь, что этим лицам мы посвящаем особый большой роман, в котором излагается судьба первых расколоучителей-страстотерпцев.
(обратно)56
Тогда так назывались шпионы.
(обратно)57
Мир с вами.
(обратно)58
Слова исторические.
(обратно)59
Мы говорим «будто бы», потому что весь последующий разговор, хотя он записан в протоколы и занесен в историю, но на соборе большая часть его не оправдана и не доказана. А извращено все было следствием, чтобы ускорить выезд грека Мелетия к восточным патриархам.
(обратно)60
Дело в том, что едва ли архиепископ имел право допрашивать патриарха!.. И Никон имел право с ним не говорить.
(обратно)61
Он составил единственное современное жизнеописание Никона, отпечатанное в 1819 году.
(обратно)62
Эта комета, вместе с кометою Галилеевой и кометою 1811 года, есть одна из самых больших и произвела на современников тягостное впечатление, и поэтому она в Европе известна под названием кометы 1665 года. По нашей хронологии она явилась 19 декабря 1664 года, но если принять во внимание, что новый стиль имеет 13 дней вперед, то по новому стилю в то время было 1 января 1665 года. Поэтому ее отнесли к 65 году и у нас. Она должна считаться этого года, потому что в то время новый год начинался 1 сентября, поэтому 19 декабря принадлежало уже 1665 году. Хвост только этой кометы определен в астрономии в 20 миллион, миль. Элементы же его и время кругообращения ее не вычислены. По этой причине не следует ли считать комету 1811 года и комету 1665 одною и тою же, тем более, что хвосты по виду почти одинаковы.
(обратно)63
Соловьев в своей истории приписывает это стрелецкому полковнику (без фамилии), а потом говорит о Матвееве как об одном из провожавших Никона. Но дело в том, что Матвеев со времен смоленского похода был и стрелецким головою, т. е. полковником. В те времена ратное дело и гражданская служба шли рука об руку, так что нередко думные дьяки командовали полками и отрядами, — так, например, это было при борьбе со Стенькою Разиным. Вообще в истории Соловьева встречаются иногда интересные недоразумения, — так, при царе Алек. Михайловиче имелись два врача еврея: Самойло и Данилов, из чего составил Соловьев лекаря Самойло-Данилова, т. е. слил их в одно лицо.
(обратно)64
У древних евреев, когда они цивилизовались, кровавые жертвоприношения сделались противны; поэтому они сочинили особую форму жертвоприношения: жертвователь брал тучного породистого козла и отпускал его на волю. Каждый имел право такого козла убить и съесть. Но так как подобные козлы были из лучших, то очевидно, что кому он попадался в руки, тот сохранял его для завода. Обычай этот имел еще и другую хорошую сторону: он давал возможность и беднякам улучшить породу своего скота. Таким образом самый кровавый закон может получить, в разумных руках, форму гуманную. Настоящим юристам не мешало бы вдуматься в этот исторический факт, и во многих случаях и волки будут сыты, и овцы целы.
(обратно)65
Мотив этот очень силен, и вот чем объясняется, что царь, рассердясь, что Никон выдал боярам письмо Зюзина, начал против последнего дело, а потом, как мы увидим, он даже упрекнул Никона на соборе, зачем-де он выдал Зюзина. Все это доказывает, что и эта часть письма достоверна и заключала мысли царя.
(обратно)66
Напрасно Никон не послушался этого совета, он не должен был покинуть Успенского собора.
(обратно)67
И действительно, кто имел право требовать объяснения от патриарха в его поступках? Нужно было для пользы церкви сидеть в «Новом Иерусалиме», ну и сидел бы там, — и дело с концом.
(обратно)68
Как в этих последних словах слышен Алексей Михайлович!..
(обратно)69
Нащокин.
(обратно)70
Поместья принадлежали и так казне и давались вместо жалованья за службу. Вотчины тогдашних бояр не стоили, обыкновенно, скорлупы выеденного яйца. А дворы были главным источником дохода, так как к ним были приписаны оброчные крестьяне, нередко очень богатые.
(обратно)71
Соловьев, в своей истории, до того пристрастен к Никону, что письмо это считает поклепом на Матвеева и Нащокина и даже его друзей.
(обратно)72
Черные земли считались собственностью крестьян, откуда и произошло у нас слово чернь. В Малороссии имело это слово то же значение, и потому представители крестьянства назывались черною радою, да и сами крестьяне назывались чернью.
(обратно)73
Это исторический факт, так что первым освободителем крестьян был Никон.
(обратно)74
Знаменитый автор биографии Никона.
(обратно)75
Никон, как мы видели, восставал против жестокости наказаний.
(обратно)76
Как же раскольники могут винить после этого Никона в истязаниях, претерпенных ими на основании уложения?
(обратно)77
В истории Соловьева неверно переданы последствия собора — так, например, он приписал этому собору резание языков, чего не было, — а потому сообщаемые мною факты взяты нами из исторических раскольничьих сочинений. Резание же языков и рук совершилось после низложения Никона.
(обратно)78
Архиепископ Псковской.
(обратно)79
Архимандрит.
(обратно)80
Архимандрит.
(обратно)81
В сказке, поданной тогда кн. Ромодановским царю, он передавал свои слова, сказанные Никону следующим образом: «Царское величество на тебя гневен, ты пишешься великим государем и т. д.». Следовательно, отречение Ромодановского лживое.
(обратно)82
К сожалению, в соборном деле не все речи обеих сторон переданы точно и верно.
(обратно)83
Исторические раскольничьи сочинения уверяют, что он сожжен в срубе Никоном; но если бы это была правда, то на соборе об этом было бы говорено. Павел не был лишен сана, а епископия его была упразднена, и он отправлен в монастырь как сумасшедший. Во время сумасшествия он надевал ризы на голом теле и бесчинствовал, издеваясь над одеждою. Никон, увидав его в таком положении, снял с него эту одежду. Об этом хорошо знал и царь, а потому самый вопрос оскорбил Никона.
(обратно)84
Об отлучении епископа не могло быть и дела, потому что отлучения не было, а было дело об упразднении коломенской епархии и присоединении ее к патриаршеству. Но на это было соизволение и царя, и соборной думы.
(обратно)85
Этот ответ доказывает уж миролюбивое настроение Никона.
(обратно)86
И царь ничего не сказал по этому обвинению, а между тем ему было хорошо известно, что это ложь, потому что все никоновское имущество было им же арестовано и присвоено себе, — в чем Никон письменно укорял его.
(обратно)87
Он в то время был всего архимандритом и мог ли он идти против собора? Вообще же ответ его миролюбивый.
(обратно)88
Здесь, очевидно, пропуск в сказке. Вообще мы не даем особенной веры этим сказкам, а равно всему писанному делу о Никоне: там, очевидно, все места, оправдывающие Никона, упущены и многие речи его, вероятно, совсем выброшены. Доказывается это тем, что несколькочасовые прения уложились в несколько печатных листов.
(обратно)89
Этих слов в сказке Одоевского не имеется, что доказывает справедливость предшествовавшего нашего мнения.
(обратно)90
Правда, после встряски.
(обратно)91
И это неправда: прямо за верность Никону.
(обратно)92
Он был талантливый, местный и скромный труженик и действовал в духе примирения Никона с царем; поэтому показание царя Алексея неправдоподобно. Вообще его ответы шиты тонкими нитками.
(обратно)93
«Оправдание это, — говорит пристрастный и в отношении Никона недобросовестный Соловьев, — было слишком ничтожно; враги Никона торжествовали, и отовсюду поднялся крик». Мы же находим совершенно противоположное, тем более, что тот же Соловьев, в 12 т. своей истории, поместил следующую грамоту иерусалимского патриарха о Паисии: «Даем подлинную ведомость, что Паисий Лигарид отнюдь ни митрополит, ни архиерей, ни учитель, ни владыка, ни пастырь, потому что столько лет как покинул свою иерархию, и, по правилам св. отец, архиерейского чина лишен. Он с православными православен, а латины называют его своим, и папа римский берет от него ежегодно по 200 ефимков, а что он, Паисий, брал милостыню для престола апостольской соборной церкви, то он, лютый волк, послал с племянником своим на остров Хиос». При таком порядке очевидно, что все действия Паисия в отношении русской иерархии не могли быть признаны ни каноническими, ни православными. Но суд нечестивых повернул дело иначе.
(обратно)94
Вовсе не в этом обвинял его Никон; он говорил, что светская власть избирает и назначает святителей и уже по ее указу собор ставит их, т. е., другими словами, собор есть только исполнитель светской власти.
(обратно)95
«По прежнему обычаю» — это правда, да этого без патриаршего соизволения, тоже по обычаю, нельзя было делать.
(обратно)96
Но это не ответ на обвинение: Никон писал, что без согласия константинопольского патриарха Мефодий не мог быть посвящен в епископы.
(обратно)97
Это была наглая ложь со стороны Стрешнева.
(обратно)98
Комета, о которой говорится, была совершенно подобна комете 1811 года, после чего вскоре и сожжена Москва французами.
(обратно)99
Мы поэтому официальному делу Никона не придаем никакого значения.
(обратно)100
Едва ли последнее слово достоверно.
(обратно)101
В царствование Михаила Федоровича привезена к нам из Грузии. По преданию, она привезена туда св. Ниною.
(обратно)102
В казуистике греческие патриархи были большие мастера…
(обратно)103
Мы всюду рылись, чтобы выяснить этот факт, но ничего не нашли.
(обратно)104
Должно быть, что все эти изветы не имели значения, потому что в противном случае их ввели бы в протокол обвинения. Кроме того, патриархии, вероятно, перепутали следующие факты: раскольники расходились с Никоном в приеме каждения, и некоторым приезжим архиереям Никон во время службы указывал, как нужно кадить; снял же он шапку одному из архиереев, когда тот собирался читать евангелие и по забывчивости не снял клобук. О ердани даже раскольники в своих сочинениях не упоминают.
(обратно)105
Это было нехорошо — предъявить к суду частное письмо к нему Никона.
(обратно)106
Питирим был отведен как свидетель Никоном и не мог свидетельствовать, а Иоасаф, как кандидат на патриарший престол, не мог тоже свидетельствовать.
(обратно)107
Земская гиль.
(обратно)108
Его совсем не было тогда еще на свете.
(обратно)109
Дело в том, что по обычаю восточной церкви на соборах нельзя было передавать голоса, а следовало присутствовать или непосредственно, или через особых делегатов.
(обратно)110
Последнее все взято из извета жидов Мошки и Гершки, и нет в этом обвинении ни слова правды. Монастырь Воскресенский управлялся игуменом и его наместником, и суд производили они с экономом, казначеем и старцами. Патриарху принадлежало лишь право помилования. Никон был в действительности строг и взыскателен, но сердце он имел доброе и был всегда против жестокости.
(обратно)111
Мы продолжаем разговор по-русски, чтобы не пестрить чтения.
(обратно)112
Неизвестно, послал ли он его, но оно сохраняется в государственном архиве.
(обратно)113
Юрий Хмельницкий.
(обратно)114
Здесь намекает царь на князя Пожарского, погибшего под Конотопом.
(обратно)115
В те времена не имели понятия ни о стихосложении, ни о размере; впервые начал писать греческим размером Ломоносов и стал рифмовать стихи. Но одно неоцененное достоинство имеют стихи Алексея Михайловича: хотя они не имели размера и благозвучия, зато имели смысл, между тем как даже и в наше время стихотворцы гонятся не за мыслью, а за громкими фразами, а потому зачастую сиди за стихотворением хоть целый день, да не выжмешь из него ровно ничего.
(обратно)116
Выкуп.
(обратно)117
Табак.
(обратно)118
Дано было пятьсот тысяч злотых польских на удовлетворение князя Вишневецкого и других за отошедшие к нам их имения.
(обратно)119
Проклятие заключалось в следующих словах: «Кровь моя и грех всех буди на твоей главе…» Соловьев удивляется этому письму и осуждает Никона; мы же находим, что если бы Никон поступил иначе или писал иначе, то это был бы не Никон. Чтобы писать такие письма, с такими выражениями, за которые впоследствии сожгли всех расколоучителей, нужно было иметь на стороне своей слишком много нравственной силы.
(обратно)120
Не нужно забывать, что тогда западная церковь немногим разнилась от нашей, что доказывает ныне учение так называемых старокатоликов; резкую же разность приняла западная церковь с XVIII и XIX веков.
(обратно)121
Хлебное питье, очень пьяное, употребляемое и ныне татарами.
(обратно)122
«Ты» было у малороссов очень грубое слово, и это сохранилось до настоящего времени.
(обратно)123
Об Алене см. Соловьева, т. 11, стр. 441.
(обратно)124
Рубить головы.
(обратно)125
Историк Соловьев, желая во что бы ни стало чернить и бросать в Никона грязью, простирает свое пристрастие до того, что даже и эти галлюцинации ставит в укор великому человеку (стр. 390, т. XI «История России»). «Скорбь, — говорит сей психолог, — располагает мягкие натуры к уединению, к жизни внутренней, созерцательной, натуры же беспокойные становятся от скорби еще беспокойнее». Если бы мягкая натура Соловьева выдержала в каземате три года, то посмотрели бы, как он вдался в созерцание, при обстановке Никона. Нужно еще удивляться могучей его натуре, как мог он так долго выдержать заточение. Все статистические данные указывают, что при трехлетием одиночном заключении более 60 % или умирают от разных болезней, или с ума сходят, или же становятся неспособными ни к чему.
(обратно)126
По преданию, это было на реке Которости, или Которосли.
(обратно)


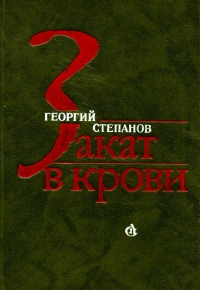


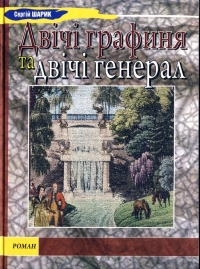

Комментарии к книге «Великий раскол», Михаил Авраамович Филиппов
Всего 0 комментариев