Вс. С. СОЛОВЬЕВЪ У РАЗВАЛИНЪ (Старая быль)
I
Шатровъ никогда не принадлежалъ къ кружку декабристовъ и не имѣлъ никакого понятія о ихъ фантастическихъ планахъ, стоившихъ жизни и счастья столькимъ идеально настроеннымъ молодымъ людямъ, достойнымъ лучшей участи. Мало того, если бы онъ даже зналъ обо всѣхъ этихъ замыслахъ — онъ непремѣнно ушелъ бы подальше, такъ какъ, несмотря на свои двадцать пять лѣтъ, былъ человѣкъ разсудительный. Онъ вовсе не былъ равнодушенъ къ благу человѣчества, но уже достаточно ясно начиналъ понимать, что приближеніе къ этому благу можетъ достигаться не насиліемъ и преступленіями. Онъ уже не разъ даже, въ отвлеченныхъ спорахъ со своими старыми товарищами и новыми пріятелями, горячо доказывалъ, что возможный на землѣ рай придетъ только тогда, когда каждый будетъ энергично, неуклонно и честно исполнять принятыя на себя обязанности. «Дѣло не въ формѣ, а въ сущности, — говорилъ онъ, — не въ учрежденіяхъ, а въ людяхъ, только въ людяхъ».
Самъ онъ былъ полонъ силъ и энергіи, и питалъ въ себѣ очень хорошія намѣренія. Онъ однимъ изъ первыхъ окончилъ курсъ въ Царскосельскомъ лицеѣ и уже около пяти лѣтъ находился на государственной службѣ. Преобладающей его страстью было честолюбіе, но не мелочное, не способное ради достиженія своихъ цѣлей на сдѣлки съ совѣстью. Онъ рѣшилъ во что бы то ни стало добиться очень высокаго служебнаго положенія и закончить свое жизненное поприще, заслужить славу честнаго и полезнаго государственнаго дѣятеля. Достигнуть этого онъ полагалъ возможнымъ посредствомъ неустаннаго, разумнаго труда.
Таковы были его молодыя мечты и уже начинало казаться, что онѣ могутъ превратиться въ дѣйствительность. Онъ былъ на отличномъ счету, на него смотрѣли, какъ на дѣльнаго, трудолюбиваго и многообѣщающаго молодого человѣка.
Онъ не чуждъ былъ литературы, любилъ ее и высоко цѣнилъ ея представителей. Товарищеская дружба связывала его съ Пушкинымъ, Дельвигомъ и другими талантливыми молодыми писателями — онъ любилъ съ ними сходиться и бесѣдовать. Но это удавалось ему не часто, такъ какъ служебныя занятія поглощали почти все его время.
И вдругъ, въ мрачные «декабрьскіе» дни, у него былъ сдѣланъ обыскъ, а самого его увезли и посадили въ Петропавловскую крѣпость… Какимъ образомъ произошло это, какъ очутилось его имя въ спискахъ заподозрѣнныхъ — онъ никогда этого не могъ узнать. Кажется просто второпяхъ была произведена «описка»: замѣна двухъ-трехъ буквъ фамиліи, — его приняли за другого. Близкихъ, вліятельныхъ родныхъ у него не было, прочныхъ связей онъ не успѣлъ еще себѣ устроить, — хлопотать за него было не кому. Болѣе года высидѣлъ онъ въ крѣпости. Наконецъ его выпустили, Онъ оказался на свободѣ, но тотчасъ же убѣдился, что, несмотря на всю его невинность, возвратъ къ прежнему невозможенъ.
Потомъ, уже много лѣтъ спустя, онъ узналъ, что у него были враги, о существованіи которыхъ, по молодости своей и неопытности, онъ даже и не подозрѣвалъ. Въ своей служебной карьерѣ онъ кой кому «сѣлъ на шею». Сѣлъ на шею людямъ съ большими связями, съ сильной роднею, — и вотъ воспользовались первой возможностью «странить» его. Несмотря на его освобожденіе за отсутствіемъ какихъ-либо уликъ, его благонадежность все-таки осталась подъ большимъ сомнѣніемъ. Въ концѣ концовъ et haut creu о немъ было сказано, что его «знать не хотятъ» — и эта фраза оказалась его вѣчнымъ приговоромъ. Если бы онъ своевременно узналъ дѣйствительное положеніе своихъ дѣлъ, то можетъ быть, и нашелъ бы какую-нибудь возможность очистить себя отъ клеветы. Но онъ ничего не зналъ. Онъ видѣлъ только, что вокругъ него все рушится, что его преслѣдуютъ одна за другой неудачи.
Однако, полный силъ и способностей, страстно жаждавшій дѣятельности, — онъ не могъ признать себя побѣжденнымъ, не могъ уйти въ бездѣйствіе. Онъ началъ метаться во всѣ стороны, переходилъ изъ одного вѣдомства въ другое, работалъ неутомимо. Полезность его работы признавалась, отъ этой работы не отказывались, но ходу ему совсѣмъ не давали. Вѣдь его «знать не хотѣли», а потому развѣ была какая-нибудь возможность пустить его впередъ…
Пятнадцать лѣтъ бился онъ какъ рыба объ ледъ, работалъ за двоихъ, стараясь подавлять въ себѣ голодъ и жажду своего законнаго честолюбія, стараясь не думать о вопіющихъ несправедливостяхъ, которыхъ онъ былъ какимъ-то злополучнымъ центромъ. Всѣ лучшія силы, всѣ лучшіе годы жизни ушли на эту безплодную борьбу и, въ концѣ концовъ, уже сорокалѣтнимъ человѣкомъ, онъ увидѣлъ, что ничего не достигъ и, очевидно, ни чего и не достигнетъ.
Многіе его сверстники, способности которыхъ были совершенно ничтожны передъ его выдающимися способностями, уже сдѣлали блестящую карьеру, получили большое вліяніе и твердо и спокойно поднимались по лѣстницѣ всевозможныхъ отличій. А онъ оставался все тѣмъ же незамѣтнымъ, темнымъ работникомъ: труды его пропали даромъ.
Онъ наконецъ почувствовалъ себя побѣжденнымъ и глубоко несчастнымъ. Вся душа его возмутилась и только остатки желѣзнаго здоровья помогли ему пережить это горе. Онъ вышелъ въ отставку и поселился въ своемъ родовомъ Тамбовскомъ имѣніи «Нагорное», съ тѣмъ, чтобы до конца жизни не выѣзжать изъ него. Человѣкъ, созданный для жизни и широкой дѣятельности, заживо сознательно погребалъ себя.
II
Шатровъ не помнилъ ни отца, ни матери. Опекунъ, двоюродный дядя, помѣстившій его въ Лицей, а единственную сестру его въ Смольный, и управлявшій ихъ состояніемъ, тоже умеръ нѣсколько лѣтъ тому назадъ. Сестра давнымъ давно вышла замужъ и, ко времени его отставки, даже успѣла овдовѣть; но съ нею онъ никогда не былъ особенно близокъ — они совсѣмъ не сходились.
О состояніи своемъ онъ думалъ очень мало и ни разу въ жизни не заглянулъ въ Нагорное. Всѣмъ имѣніемъ безконтрольно завѣдывалъ старый управляющій, а послѣ его смерти, по наслѣдству, его сынъ. Доходы получались исправно и были такъ значительны, что Шатрову, отъ юности жившему довольно скромно и вѣчно работавшему, не представлялось даже возможнымъ ихъ истрачивать. Въ двадцать лѣтъ его жизни по окончаніи Лицея у него образовался значительный капиталъ. Практическіе люди не разъ говорили ему, что съ такого имѣнія, какъ Нагорное, слѣдовало бы получать по крайней мѣрѣ вдвое больше, чѣмъ получалъ онъ, но ему некогда было заняться этимъ вопросомъ, вдобавокъ нисколько его не интересовавшимъ.
Онъ ѣхалъ въ Нагорное рѣшительно не зная, что такое тамъ его встрѣтитъ и какъ онъ будетъ жить. Его ожидали обширныя вотчины со многими полями, лѣсами и угодьями, съ деревнями и поселками, гдѣ жили какъ могли и умѣли болѣе трехъ тысячъ душъ его крѣпостныхъ людей. Старинная усадьба расположилась на живописномъ высокомъ берегу Дона, была окружена большимъ вѣковымъ садомъ, но жить въ ней богатому барину, повидимому, не представлялось никакой возможности. Шатровъ и забылъ совсѣмъ, что лѣтъ двадцать тому назадъ старый домъ сгорѣлъ. Вспомнивъ объ этомъ уже по дорогѣ, онъ рѣшилъ, что все же, вѣроятно, сохранилась какая-нибудь часть каменнаго обширнаго зданія, хоть двѣ-три комнаты. Большаго ему теперь не надо, — потому что вообще не надо ничего.
Оно такъ и вышло — именно три только комнаты оказались обитаемыми, и въ нихъ онъ поселился со своимъ старымъ камердинеромъ Софрономъ.
Переѣздъ Шатрова на постоянное жительство въ Нагорное произвелъ по уѣзду большое волненіе и толки. Какъ, что, почему, думали, гадали, — и ничего не могли придумать. Наконецъ все объяснилось самымъ яснымъ и простымъ образомъ:
— А слышали небось Дмитрій Валерьяновичъ? Шатровъ-то?
— Что такое? что?..
— Приказано!.. выѣхать, молъ, въ двадцать четыре часа изъ столицы и жить безотлучно въ своей вотчинѣ…
— Что вы?! а за какія же провинности?
— Ну, ужъ тамъ знаютъ за какія… небось задаромъ не вышлютъ. Да оно и не удивительно: повадился кувшинъ по воду ходить тамъ ему и голову сломить… въ двадцать пятомъ-то году попался, отсидѣлъ годикъ въ крѣпости, да выкрутился. Ну, а теперь и оказался нераскаяннымъ вольнодумцемъ. И диво еще, что его такъ берегутъ — видно бабушка ворожитъ, другого-то за такія бы дѣла по Владиміркѣ…
— Те, те, те! такъ вотъ онъ какой дружокъ, Дмитрій-то Валерьяновичъ! съ нимъ видно, осторожно надо, какъ бы и себѣ не нажить бѣды…
— А ужъ это само-собою, подальше отъ него, подальше: «отойди отъ зла и сотвори благо!»
Потомъ явились и дальнѣйшіе комментаріи, разсказывали, что Шатрову ни за что бы не сдобровать, да сестра его, Елена Валерьяновна, въ большой видно силѣ. Тотчасъ, какъ «все это вышло», кинулась она во дворецъ, упала въ ноги государынѣ и до тѣхъ поръ молила и плакала, пока не спасла брата…
Кто первый выдумалъ и пустилъ въ ходъ подобную сказку — осталось навсегда неизвѣстнымъ. Она сама собою какъ-то самопроизвольно зародилась въ подходящей средѣ, возросла, развилась, укрѣпилась — и пошатнуть ее не было никакой возможности.
— Помилуйте, о чемъ же тутъ толковать — вѣдь «это» всѣ знаютъ!
Къ тому же и самъ Шатровъ помогъ какъ нельзя лучше этимъ розсказнямъ. Онъ пріѣхалъ весною, поселился въ развалинахъ и все лѣто не выходилъ изъ своего сада, кромѣ управляющаго Петра Дементьевича ни съ кѣмъ не видался.
Нѣсколько разъ въ его мысляхъ мелькнуло: «Однако, надо бы объѣхать кое-какихъ сосѣдей, съ семьями которыхъ Шатровы всегда были близки и даже считались родствомъ и свойствомъ, надо показаться въ Тамбовѣ»… Но каждый разъ онъ кончалъ тѣмъ, что говорилъ себѣ: «Вотъ еще недѣля, другая, очнусь немного — и начну»…
Но онъ никакъ не могъ очнуться. Онъ жилъ будто во снѣ, не замѣчая времени, безучастный ко всему въ мірѣ, иной разъ цѣлыми часами ровно ни о чемъ не думая. Онъ бродилъ по заглохшимъ аллеямъ своего сада, бродилъ покуда носили ноги, погомъ садился на какой-нибудь сгнившій пень, весь обросшій мохомъ и грибами — и глядѣлъ на все, что было вокругъ него, въ той душистой зеленой тишинѣ, наполненной и пропитанной лѣтними солнечными лучами. Иной разъ въ такія минуты и на его возмущенную, безсильно стенящую душу находила какъ бы подобная тишина.
— Вотъ, не смѣетъ никому и глазъ казать — чуетъ, что все уже всѣмъ извѣстно! — говорили сосѣди.
Многимъ бы очень хотѣлось съѣздить, въ Нагорное, взглянуть на Шатрова и послушать его. Многіе, ради его богатства и столичной «важности», не стали бы въ другихъ обстоятельствахъ ждать отъ него перваго визита, а сами бы поспѣшили отрекоменіоваться. Но теперь всѣ трусило, трусили даже и такіе, за которыми тоже установилась, репутація большихъ вольнодумцевъ.
— Видно — дѣло-то серьезное! ему запрещено выѣзжать за предѣлы своихъ владѣній!
Тамбовское высшее начальство, къ которому любопытные обращались за разъясненіями, многозначительно молчало и тольк пожимало плечами, очевидно, не желая выказать своего полнаго незнанія и этимъ умалить свой авторитетъ…
Когда управляющій Петръ Дементьевичъ и камердинеръ Софронъ приставали къ Шатрову съ доказательствами того, что уже пора начинать постройки, — онъ отвѣчалъ имъ: «хорошо, я подумаю объ этомъ» — и все не дѣлалъ никакихъ распоряженій. Когда, какъ-то совсѣмъ для него незамѣтно надвинулась осень — и перепорхнулъ первый снѣжокъ, онъ сказалъ:
— Ну, ничего, Богъ дастъ какъ-нибудь перезимуемъ.
Въ трехъ комнатахъ вставили зимнія рамы, починили печи, замазали всѣ щели, старый полъ обили толстыми коврами — и опять недѣли за недѣлями стали проходить незамѣтно, въ подавляющемъ однообразіи. О поѣздкахъ къ сосѣдямъ Шатровъ уже и не думалъ, рѣшивъ, что слишкомъ долго откладывалъ, такъ что теперь даже и смѣшно, да и принять гостей все равно негдѣ. Нѣсколько аллей въ саду расчищалось отъ снѣга, и онъ бродилъ по этимъ снѣжнымъ корридорамъ, надъ которымъ склонялись покрытыя инеемъ, хрустальныя деревья, горѣвшія на зимнемъ солнцѣ ослѣпительными радужными огнями. Тишина была теперь еще глубже, еще таинственнѣе, и онъ былъ радъ, что она все чаще и чаще начинаетъ прокрадываться ему въ душу.
III
Такъ прошло пять лѣтъ. Шатровъ жилъ отшельникомъ, ни съ кѣмъ не видясь, никуда не выѣзжая. Въ уѣздѣ о немъ уже не говорили — онъ превратился въ обычное будничное явленіе. Самъ онъ никѣмъ не интересовался и къ тому же зналъ черезъ управляющаго, о томъ, какъ на него смотрятъ и какія исторіи про него разсказываютъ: «Тѣмъ и лучше, рѣшилъ онъ, — они меня боятся, а мнѣ они ни на что не нужны. Подальше отъ людей, какъ можно подальше».
Между тѣмъ сонъ его прошелъ, онъ уже чувствовалъ что живетъ, что будто выздоровѣлъ отъ долгой, измучившей его болѣзни и что теперь ему надо, ради избѣжанія возврата этой болѣзни, тщательно отстранять отъ себя все то, что было когда-то ея причиной. Первой причиной были люди — ну, такъ не надо людей!
Мало-по-малу онъ началъ интересоваться хозяйствомъ и вникать въ него. Онъ пристрастился къ своему старому, запущенному саду, и съ весны до осени занимался приведеніемъ его въ порядокъ. Построены были парники, теплицы, оранжереи, выписанъ опытный садовникъ, привезены фруктовыя деревья. Все это доставляло Шатрову, къ его собственному иной разъ изумленію, немалое удовольствіе.
Зимою, въ долгіе вечера, тишина которыхъ нарушалась только стучавшимъ въ окна вѣтромъ, Шатровъ отдавался чтенію. Онъ выписывалъ какъ русскія такъ и иностранныя книги въ большомъ количествѣ и жадно поглощалъ ихъ. Вѣдь онъ двадцать лѣтъ только думалъ о службѣ, только работалъ — и почти ничего не читалъ. Теперь онъ наверстывалъ потерянное.
Его здоровье за эти годы очень поправилось. Излишняя тучность, портившая его необыкновенную фигуру, пропала. Его красивое лицо, съ великолѣпными свѣтлыми глазами, дышало свѣжестью и, если бы не быстро сѣдѣвшіе и рѣдѣвшіе волосы, — онъ казался бы совсѣмъ молодымъ человѣкомъ.
— Удивительное дѣло, — съ почтительной улыбкой говорилъ ему управляющій, погляжу я на васъ, Дмитрій Валерьяновичъ, съ каждымъ-то годомъ вы все молодѣете!
Но все же случалось нѣсколько разъ въ году, что, входя въ нему, управляющій останавливался почти въ ужасѣ: передъ нимъ былъ не вчерашній Дмитрій Валерьяновичъ, а какой-то разбитый, измученный старикъ, съ блѣднымъ, усталымъ лицомъ, потухшими глазами и невѣдомо откуда появившимися морщинами.
Этотъ старикъ былъ мраченъ, раздражителенъ, ему ничѣмъ нельзя было угодить и, наконецъ, онъ просилъ Петра Дементьевича уйти, оставить его въ покоѣ. Онъ запирался въ своемъ кабинетѣ-спальнѣ, цѣлый день ничего не ѣлъ и то лежалъ неподвижно на диванѣ, то метался по комнатѣ, какъ голодный звѣрь въ клѣткѣ.
Это старый петербургскій ядъ поднимался со дна души и терзалъ его сердце.
IV
Шатровъ съ начала весны вставалъ очень рано и, выпивъ маленькими глотками стаканъ молока, отправлялся въ садъ, гдѣ и гулялъ часа два, любуясь новыми, проложенными имъ аллеями, разглядывая подсаженныя деревья, отщипывая засохшія вѣточки. Онъ наслаждался дѣломъ рукъ своихъ и живо представлялъ себѣ какимъ будетъ этотъ милый садъ лѣтъ черезъ десять-пятнадцать, когда молодыя деревца разростутся и осуществятся всѣ задуманныя затѣи.
Нерѣдко, послѣ такой прогулки, онъ возвращался домой въ самомъ лучшемъ настроеніи духа, съ разыгравшимся аппетитомъ. Но случалось и такъ, что въ самую тихую и пріятную минуту вдругъ являлась, какъ мрачный призракъ, неотвязная мысль: «да зачѣмъ же, къ чему все это», черезъ десять-пятнадцать лѣтъ онъ будетъ совсѣмъ почти старикомъ, если и доживетъ до того времени… а потомъ — недуги, одиночество… для чего же онъ хлопочетъ, для кого, для кого…
Эта мысль, подкравшись не хотѣла уже уходить — то злобно смѣялась, то плакала и рыдала.
Такъ было и въ то тихое и безоблачное утро начала іюня, когда онъ, подходя къ своей любимой скамьѣ на высокомъ пригоркѣ, круто спускавшемся къ самой рѣкѣ, остановился и долго стоялъ неподвижно, глядя прямо передъ собою и ничего не видя, тоскливо прислушиваясь къ немолчному вопросу: «для чего? для кого?»
…Сладко пѣлъ душа соловушка Въ зеленомъ моемъ саду…вдругъ донеслись до его слуха, съ низу, отъ рѣки, звонкія нотки чистаго, какъ колокольчикъ, женскаго голоса.
Онъ даже вздрогнулъ отъ изумленія и неожиданности.
… Ахъ, та пѣснь была завѣтная, Рвала бѣлу грудь тоской…раздалось уже гораздо выше, почти на самомъ краю пригорка, обрисовалась бѣлая женская фигура. Совсѣмъ молоденькая дѣвушка въ простенькомъ бѣломъ кисейномъ платьицѣ присѣла на скамью и положила возлѣ себя влажную простыню. Затѣмъ она обернула полотенцемъ свои бѣлокурые мокрые волосы и стала вытирать ихъ, просушивать.
Шатровъ остановился неподвижно и глядѣлъ.
«Она была необыкновенно красива!.. ея глаза!»… и совсѣмъ нѣтъ! она была здоровая, свѣженькая и пропорціонально сложенная дѣвушка по семнадцатому году, съ оживленнымъ розовымъ лицомъ и ясными, невинными глазами. Все это очень обыкновенно, просто и естественно, и всего этого за глаза довольно, чтобы признать ее истиннымъ перломъ созданія. А въ то безоблачное теплое утро въ чудесномъ саду Шатрова, среди нѣмого уединенія — конечно, прелестнѣе ея ничего нельзя было себѣ и представить.
Шатровъ былъ увѣренъ въ этомъ. Онъ очень хорошо чувствовалъ, что никогда въ жизни не встрѣчалъ такой красоты, такой граціи и неудержимо манящей прелести. Онъ далъ ей время высушить волосы и заплесть ихъ въ толстую длинную косу. Тогда онъ громко кашлянулъ, чтобы не слишкомъ испугать ее своимъ неожиданнымъ появленіемъ, и медленно приблизился къ скамьѣ. Но, несмотря на принятую имъ предосторожность, онъ все же замѣтилъ, какъ дѣвушка, услышавъ его кашель и увидя его самого, приближавшагося къ ней, вся вспыхнула, смутилась, замерла на мѣстѣ.
Онъ приподнялъ шляпу и привѣтливо улыбнулся.
— Нѣтъ, вы вѣрно меня не узнаете, совсѣмъ забыли, — сказалъ онъ съ какимъ-то невѣдомымъ ему еще безпокойствомъ и вовсе не такъ, какъ хотѣлъ сказать, — а я… вѣдь не могу же ошибиться… вы Соня… то есть Софія Петровна…
— Да, конечно, это я, — робко проговорила дѣвушка, поднимаясь со скамьи и краснѣя еще больше.
— Только… я отлично узнала васъ, Дмитрій Валерьяновичъ, я хорошо васъ помню, тихонько прибавила она, быстро взглянула на Шатрова и опустила глаза.
Она-то, разумѣется, не могла его не помнить. Его пріѣздъ сюда, пять съ половиною лѣтъ тому назадъ, былъ послѣ смерти ея матери, которой она лишилась на девятомъ году, самымъ крупнымъ событіемъ въ ея жизни. Ея отецъ, Петръ Дементьевичъ сдѣлался такъ возбужденъ тогда, такъ хлопоталъ, метался.
Весь строй ея дѣтской жизни былъ почему-то стѣсненъ, нарушенъ. Отецъ запретилъ ей бѣгать въ саду, лазить по деревьямъ, забираться въ развалины барскаго дома, — а вѣдь во всемъ этомъ заключались величайшія ея удовольствія.
Потомъ, въ началѣ осени, за ней пріѣхала тетка, увезла ее въ Москву и отдала въ пансіонъ госпожи Данквартъ. Только недавно Соня перестала ненавидѣть Шатрова какъ злого генія ея жизни: но его образъ навсегда запечатлѣлся въ ея памяти.
Онъ же могъ узнать и назвать ее только только потому, что на-дняхъ Петръ Дементьевичъ говорилъ о скоромъ ея, неизбѣжномъ пріѣздѣ и, въ своихъ объясненіяхъ, называлъ ее Соней. Ему смутно припоминалась какая-то бѣлокурая дѣвочка съ косичкой и въ короткихъ платьяхъ, изъ которыхъ она, очевидно, черезчуръ быстро выростала. А вотъ теперь передъ нимъ это чудо природы, убивающее своей прелестью всю красоту лѣтняго утра!..
Онъ просилъ ее не уходить, присѣлъ рядомъ съ нею и, побѣдивъ ея смущеніе своею простотою, мало-по-малу заставилъ ее разговориться. Она объяснила ему своимъ пѣвучимъ голосомъ, что «папенька» всѣ эти пять лѣтъ ни за что не хотѣлъ ее брать на лѣтнія вакаціи въ Нагорное и что лѣтомъ она всегда жила съ «тетенькой» на дачѣ подъ Москвою. Она отлично знала, что причиною этого былъ Шатровъ или, вѣрнѣе, боязнь «папеньки» досадить нелюдиму присутствіемъ дѣвочки; но она, конечно, объ этомъ не проговорилась. Она объясняла дальше; что бѣдная «тетенька» скончалась прошлою осенью, а потому, послѣ экзаменовъ, ей некуда было дѣваться какъ только въ Нагорное.
И вотъ «папенька» прислалъ за ней въ Москву, къ госпожѣ Данквартъ, ключницу Акулину Семеновну, и онѣ благополучію пріѣхали вчера до солнечнаго заката.
Ничего новаго не сказала она Шатрову, такъ его память внезапно просвѣтлѣла, и оказалось, что онъ помнитъ каждое слово, произнесенное Петромъ Дементьичемъ о Сонѣ, хотя тогда и слушалъ его разсѣянно, слушалъ и но слышалъ. А теперь вдругъ вспомнилъ ѣсе, будто это были самыя важныя, самыя нужныя ему свѣдѣнія.
Мало того, ему хотѣлось бы, чтобы она по десяти, по двадцати разъ повторяла одно и тоже, — и о «папенькѣ», и о «бѣдной тетенькѣ», и о госпожѣ Данквартъ, и о ключницѣ Акулинѣ Семеновнѣ — только бы она говорила, только бы слушать ея голосъ, глядѣть на нее и дышать рядомъ съ ней. Отъ нея вѣяло такой свѣжестью, такой молодостью, такимъ очарованіемъ…
А она вдругъ совсѣмъ смутилась… Она должна просить у него прощенія. Вопреки строгимъ наставленіямъ «папеньки», она сегодня, поднявшись чуть свѣтъ, не утерпѣла и со всѣхъ ногъ кинулась, въ садъ, обѣжала его, поразилась происшедшей въ немъ перемѣной. А потомъ, какъ увидѣла рѣку, такъ совсѣмъ сошла съ ума отъ радости, побѣжала домой за простыней и на своемъ любимомъ, завѣтномъ мѣстечкѣ выкупалась, какъ бывало купалась въ старину, давно-давно, ужасно давно, до его пріѣзда въ Нагорное.
Онъ взялъ ея маленькія ручки, еще свѣжія отъ купанья, заглянулъ ей въ глаза такъ нѣжно и ласково, какъ до сихъ поръ не умѣлъ глядѣть — и просилъ ее гулять гдѣ угодно, когда угодно и сколько угодно.
— Завтра начинается постройка большой хорошей купальни! — объявилъ онъ.
Она глядѣла на него теперь во всѣ глаза — и ничего не понимала: онъ ли это? вѣдь тотъ Шатровъ, «злой геній ея жизни», она отлично его помнитъ, — онъ былъ такой сердитый, непріятный, злой и противный, а этотъ, нѣтъ, это не онъ, не онъ совсѣмъ! ласковый, добрый, милый… а красивый-то какой! какіе глаза! какая улыбка!..
Ей стало хорошо, робость ея исчезла.
Онъ повелъ ее въ цвѣтники, потомъ въ оранжереи, все ей показывалъ, объяснялъ, хвастался передъ нею своими новинками.
Такъ засталъ ихъ Петръ Дементьевичъ, даже покраснѣлъ весь отъ смущенія и сердито взглянулъ на дочь.
— Дмитрій Валерьяновичъ, простите Бога ради эту глупую дѣвчонку… и какъ она сюда попала?!.
— Я попросилъ Софію Петровну, — весело отвѣтилъ Шатровъ, — захотѣлъ похвастаться зачатками тѣхъ персиковъ и сливъ, которыми мы будемъ лакомиться въ концѣ лѣта… Вы вотъ вѣрно почивать до сихъ поръ изволили, Петръ Дементьевичъ, а мы тѣмъ временемъ съ Софьей Петровной ужъ и подружиться успѣли…
— Вѣдь мы друзья, не правда ли? — обратился онъ къ Сонѣ.
— Друзья! — крикнула она и засмѣялась звонкимъ, почти еще дѣтскимъ смѣхомъ.
Управляющій стоялъ совсѣмъ растерянный. Онъ не узнавалъ ни своей робкой, скромной дѣвочки, ни своего отшельника-принципала.
V
Такимъ образомъ неудачи и борьба долгихъ и лучшихъ лѣтъ жизни, тоска и муки подавленныхъ, напрасно рвавшихся на просторъ, силъ и способностей, тяжкое горе сердца, оскорбленнаго несправедливостью судьбы и людей, мрачное и упорное отчужденіе отъ общества, — все, все столь роковое и серьезное, — разрѣшилось шестнадцатилѣтней дочкой управляющаго, наивной, невѣдомо что обѣщавшей пансіонеркой. Иначе оно не могло быть, да и что на свѣтѣ можетъ быть болѣе роковымъ и серьезнымъ, какъ не встрѣча съ «жизнью» именно тогда, когда человѣкъ чувствуетъ, что ни внутри его, ни извнѣ уже нѣтъ никакой жизни…
До сихъ поръ, до сорокапятилѣтняго возраста, Шатровъ не зналъ страстной любви и считалъ себя на нее неспособнымъ. У него бывали, маленькія увлеченія, но ни одно изъ нихъ не задѣло его за живое, ни на минуту не отвлекло его отъ той борьбы, въ которую онъ клалъ всего себя. А похоронившнсь въ Нагорномъ, онъ никогда даже и не думалъ о женщинахъ, благо ихъ и на глазахъ-то не было.
Но природа, о которой онъ забывалъ среди своего исключительнаго существованія, очевидно, все же сторожила его и поймала въ первую подходящую минуту. Прошло нѣсколько дней послѣ его встрѣчи съ Соней — и если-бы онъ могъ дѣлать какія бы то ни было наблюденія, — онъ совсѣмъ бы не узналъ себя, какъ не узнавалъ его Петръ Дементьичъ.
У него будто исчезла память, онъ будто никогда и не страдалъ. Онъ былъ веселъ, бодръ и всюду и во всемъ находилъ новыя удовольствія. Только для этого ему нужно было одно — присутствіе Сони. Отличная купальня была построена; почти ежедневно закладывалась старинная коляска, до сихъ поръ стоявшая безъ употребленія, и Шатровъ, въ сопровожденіи управляющаго и Сони, ѣхалъ то въ одну, то въ другую изъ своихъ пустошей, отличавшихся красивымъ мѣстоположеніемъ. Туда же заранѣе отправлялась телѣга съ самоваромъ, всякой провизіей и камердинеромъ Софрономъ. Софронъ съ каждымъ днемъ становился все мрачнѣе и очень недружелюбно и пытливо вглядывался въ Соню.
А она такъ и прильнула къ Шатрову; она непринужденно болтала ему все, что приходило ей въ голову, пѣла ему своимъ еще не развившимся голосомъ, забиралась даже въ его развалины а рылась тамъ въ его книгахъ. Они гуляли часами по аллеямъ сада, — и оба не замѣчали времени, не чувствовали усталости.
Къ концу іюля, видя, что ихъ ничѣмъ не разольешь, и притомъ не разъ замѣтя слишкомъ пристальный взглядъ Софрона, обращенный на Сошо, Петръ Дементьичъ понемногу сталъ смущаться и нашелъ нужнымъ нѣсколько разъ выразить Шатрову, что онъ уже черезчуръ балуетъ его дочку. Тотъ ничего не понялъ и «баловства» продолжались.
Скоро Шатровъ окончательно пересталъ сознавать, что Сонѣ шестнадцать лѣтъ, а ему уже сорокъ шестой годъ. Онъ не смотрѣлъ на нее какъ на полу-ребенка, не думалъ о томъ, что она и понятія не имѣетъ о жизни. До сихъ поръ онъ былъ скрытнымъ, замкнутымъ въ себѣ человѣкомъ. Онъ никому никогда не открывалъ свою душу, не жаловался, таилъ про себя свое горе, свои чувства. Ни у кого не просилъ онъ участія.
Теперь онъ началъ испытывать, и съ каждымъ днемъ все сильнѣе и сильнѣе, непреодолимую потребность передать живому и сочувствующему ему существу печальную тайну своей жизни. Теперь она давила его какъ никогда — эта старая, истерзавшая его тайна. У него было одно только живое, сочувствовавшее ему существо — Соня, и въ часы долгихъ прогулокъ по аллеямъ онъ, мало по малу, разсказалъ ей все, безъ малѣйшей утайки.
У неопытной, наивной дѣвочки хватило и чувства, и разсудка выслушать его съ настоящимъ интересомъ и понять его. Во время своей исповѣди, продолжавшейся нѣсколько дней, онъ не разъ съ наслажденіемъ и сильнымъ трепетомъ видѣлъ, какъ ея большіе, широко открытые глаза наполнялись слезами, какъ румянецъ волненіемъ покрывалъ ея щеки.
Она принимала его тайну какъ довѣряемую ей святыню и гордилась такимъ довѣріемъ. Она теперь и во снѣ каждую ночь видѣла Шатрова, была вся полна имъ.
— Я никогда не могла подумать, что люди такіе дурные! — повторяла она, — если они васъ, «васъ» такъ обидѣли — я ихъ ненавижу!
Но все же, въ концѣ концовъ, ея хоть и шестнадцатилѣтняя голова подсказала ей то, до чего Шатровъ самъ никогда не могъ додуматься.
— Только вы напрасно считаете себя ужъ такимъ несчастнымъ, Дмитрій Валерьяновичъ! — воскликнула она какъ-то, — отъ большого-то несчастья васъ Богъ избавилъ… Когда вы ушли отъ всѣхъ несправедливыхъ людей — вамъ было куда уйти, въ ваше Нагорное, вы такъ богаты, у васъ все есть… захотите чего-нибудь — и все достанете! А вотъ еслибы вы должны были уйти и у васъ ничего бы, какъ есть ничего бы не было, если бы вы были совсѣмъ, совсѣмъ бѣдный… вотъ тогда бы это было ужъ несчастье!
Онъ задумался и долго шелъ рядомъ съ нею, опустивъ голову
— Развѣ я не такъ сказала? развѣ не такъ? — спрашивала она заглядывая ему въ глаза.
— Нѣтъ, не такъ, Соня! — наконецъ, проговорилъ онъ, — еслибы у меня ничего не было — я долженъ былъ бы работать ради куска хлѣба, и эта работа, можетъ быть, спасала бы меня отъ тяжелыхъ мыслей…
Соня качала головой, она не понимала этого.
— Не правда, но правда, — твердила, она, — какое бы горе ни случилось, быть богатымъ всегда лучше, чѣмъ быть бѣднымъ. У васъ все есть… захотите чего — и достанете…
Ему хотѣлось ее, только ее — и ничего больше. Онъ уже не первый день сознавалъ это, и не разсуждалъ, не изумлялся, не пугался. Хорошо это или дурно, умно или глупо — онъ даже о том ь и не думалъ. Для него это былъ вопросъ жизни.
Онъ взглянулъ на нее и весь похолодѣлъ отъ нахлынувшей страсти.
— Захочу — достану!.. какъ бы не такъ! — прошепталъ онъ дрогнувшимъ голосомъ. — Никакія деньги не дадутъ мнѣ того, что я хочу…
— А вы чего хотите? скажите, что это такое, вотъ тогда и увидимъ!
Что-то сдавило ему горло, что-то шепнуло ему: «не говори»:- но она такъ довѣрчиво и ласково на него глядѣла, она даже взяла его за руку и прижалась къ нему плечомъ, съ дѣтскимъ и женскимъ любопытствомъ нетерпѣливо повторяя: «скажите».
— Я хочу никогда не разставаться съ вами, — задыхаясь шепталъ онъ, — хочу, чтобы мы всегда были вдвоемъ, здѣсь, въ этомъ саду…
— Я и сама хотѣла бы этого! — перебила его Соня, — только вотъ, да… теперь это невозмолено! въ концѣ августа меня увезутъ въ Москву, къ госпожѣ Данквартъ, вѣдь я еще не кончила курса, мнѣ остается цѣлыхъ два года… А потомъ, если хотите, я пріѣду и никуда ужъ не уѣду, буду всегда съ вами… вотъ видите, вотъ и возможно!
Она радостно засмѣялась.
— Ахъ, Соня! — вздохнулъ онъ, — да я въ эти два года умру без васъ… я съ ума сойду…
Онъ схватился за голову, онъ былъ не въ состояніи разсуждать, зналъ одно: уѣдетъ она — и вмѣстѣ съ нею конецъ жизни.
— Поймите… я люблю васъ… больше всего въ мірѣ… я не могу, я не могу жить безъ васъ…
Она остановилась и со щекъ ея сбѣжала краска. Она теперь поняла, и обрадовалась, и испугалась. Вѣдь и она любитъ его больше всего въ мірѣ, больше любимыхъ подругъ, больше отца. Она такъ привыкла къ нему за это время, ей такъ его жалко, онъ такой добрый, милый, красивый…
— И я, и я тоже люблю васъ… — прошептала она, сама не сознавая, что выговорила это.
И она не знала, какъ это случилось… ея голова у него на груди, онъ безсчетно, горячо ее цѣлуетъ, ей такъ тепло, хорошо хочется, плакать, смѣяться…
Въ концѣ августа Соня не уѣхала въ Москву, въ пансіонъ госпожи Данквартъ.
Въ концѣ августа была ея свадьба въ деревенской церкви, при однихъ требуемыхъ закономъ свидѣтеляхъ. Петръ Дементьевичъ чувствовалъ себя на седьмомъ небѣ, да и Софронъ рѣшилъ, что, хоть оно и очень плохо, а все-жъ таки могло быть и хуже. По уѣзду ходили относительно всего этого самыя скандальныя сказки. Шатровъ и Соня жили какъ въ туманѣ, не разставались ни на минуту и только глядѣли въ глаза другъ другу.
VI
Такой праздникъ жизни длился у нихъ и годъ, и другой, и третій. За это время ихъ пустынножительство было потревожено всего только одинъ разъ, на слѣдующее лѣто послѣ ихъ свадьбы. Цѣлые два мѣсяца въ Нагорномъ прогостилъ единственный близкій родственникъ Шатрова, сынъ его сестры, Саша Бобрищевъ.
Тогда это былъ семнадцатилѣтній лицеистъ, ровесникъ Сони, еще не сформировавшійся юноша, съ длинными руками и ногами, пробивающимися усиками и достаточно некрасивымъ лицомъ. Шатровъ, разглядѣвъ его, только удивлялся:
— И куда все это дѣвалось! — воскликнулъ онъ, обращаясь къ Сонѣ, когда юноша вышелъ изъ комнаты. — Ребенкомъ онъ былъ такъ необыкновенно хорошъ, что глазъ отъ него оторвать не хотѣлось… и вдругъ теперь такой длинноносый, смѣшной галченокъ!
— У него глаза очень хороши, — заступилась Соня, — и вообще онъ навѣрное еще выравняется.,
— Будемъ ждать и надѣяться, главное же, чтобы онъ не очень надоѣдалъ намъ… ну да ему въ Нагорномъ навѣрное скучно покажется, и онъ не засидится, — рѣшилъ Дмитрій Валерьяновичъ.
Саша Бобрищевъ оказался очень милымъ, благовоспитаннымъ юношей. Онъ не только никому ничѣмъ не мѣшалъ, но Шатровъ съ первыхъ же дней къ нему привязался, насколько былъ на это способенъ. Онъ все больше и больше напоминалъ ему собственную его юность, его лицейскіе годы. Съ грустной и ласковой улыбкой слушалъ пустынножитель горячія разглагольствованія юноши и часто поддакивалъ ему, не желая отравлять его дѣтской вѣры въ жизнь и людей ядомъ своего опыта. Соня совсѣмъ подружилась съ Сашей. Она ужъ была женщина, онъ еще почти ребенокъ; но все же они были однолѣтки и во многомъ понимали другъ друга гораздо лучше, чѣмъ могъ ихъ понять Дмитрій Валерьяновичъ.
Имъ приходилось иной разъ оставаться и вдвоемъ, когда Шатровъ былъ занятъ по хозяйству, главнымъ же образомъ по заканчивавшейся постройкѣ новаго дома. Тогда они все сводили непремѣнно къ какой-нибудь шалости, бѣгали взапуски по саду и смѣялись сами не зная чему. Имъ обоимъ было очень хорошо и весело. Саша безсознательно уже обожалъ «тетушку»; а она, хоть, и не совсѣмъ удачно, но все же разыгрывала соблазнительную въ ея годы роль «старшей».
Когда лицеистъ уѣхалъ — и Шатрову и Сонѣ стало жаль, сдѣлалось безъ него пусто, но у Шатрова это скоро прошло, у Сони осталось надолго.
Они вернулись къ своей обычной жизни, прерванной появленіемъ «галченка». Что же это была за жизнь? — Чисто жизнь Робинзона и Пятницы на необитаемомъ островѣ.
Въ Нагорномъ попрежнему не бывалъ никто изъ сосѣдей, кромѣ двухъ-трехъ семей, въ концѣ концовъ навязавшихся со своимъ знакомствомъ, не убоявшихся посѣщать «ссыльнаго вольнодумца». Люди эти были невидные, не богатые, терять имъ было нечего, а на свѣчку всегда летятъ мошки. Въ данномъ случаѣ свѣчкой было богатство Шатрова, его петербургскій поваръ-артистъ, чудесные фрукты, созрѣвавшіе въ оранжереяхъ стараго сада и широкое, врожденное гостепріимство Сони. Но эти мошки, прилетавшія на свѣчку, оказывались ничуть не интересными, — онѣ только досаждали.
Петръ Дементьичъ? Соня конечно любила его и была рада, что онъ съ нею. Но онъ не могъ все же доставлять ей собою какія бы то ни было развлеченія и радости. Человѣкъ мало образованный и недалекій, онъ зналъ себѣ «управительствовать», какъ тому наученъ былъ своимъ отцомъ, возился весь день съ крестьянами или объѣзжалъ имѣнія. Толстый, красный, съ хриплымъ голосомъ и непреодолимымъ, хотя и сдержаннымъ стремленіемъ къ крѣпкимъ напиткамъ, онъ умѣлъ только говорить о «хозяйственныхъ статьяхъ» и ни о чемъ больше. Къ дочери онъ относился съ безсознательнымъ подобострастіемъ, что ее часто раздражало и обижало.
Жизнь наполнялась хозяйствомъ, разговоромъ и книгами. Сонѣ хватило всего этого на три года. Шатровъ, человѣкъ образованный, прекрасно владѣвшій иностранными языками, любитель и знатокъ европейской литературы, довершилъ образованіе Сони, начатое въ московскомъ пансіонѣ госпожи Данквартъ.
Разумѣется, она не получила бы такихъ знаній, если бы окончила курсъ въ своемъ пансіонѣ — тамъ не было такого талантливаго и такъ страстно преданнаго своей ученицѣ и своему дѣлу учителя. А ученицей Соня оказалась внимательной и способной. За три года она очень развилась, какъ умственно, такъ и тѣлесно — изъ нея вышла совсѣмъ хорошенькая и совсѣмъ умненькая, образованная, начитанная женщина.
Она усвоила всѣ взгляды своего учителя — по крайней мѣрѣ, разсуждая о прочитанномъ, они почти всегда сходились въ мысляхъ. Соня, естественно, была припечатана «именною печатью» Шатрова. Она попрежнему любила своего мужа, находила его лучшимъ человѣкомъ въ мірѣ, не задумываясь надъ тѣмъ, что вѣдь другихъ-то людей она совсѣмъ и не видала и что никто, конечно, никакъ не можетъ быть хуже самого себя. Она нисколько не заботилась о томъ, что Дмитрій Валерьянычъ старѣетъ, что вокругъ его красивыхъ глазъ и на бѣломъ лбу образуются глубокія морщины, которыя прежде только едва обозначались. Она продолжала съ тихимъ и хорошимъ чувствомъ цѣловать его значительно посѣдѣвшую и облысѣвшую голову и принимать съ благодарной нѣжностью его ласки.
Еслибы кто-нибудь спросилъ ее — счастлива ли она? она, не задумавшись, съ убѣжденіемъ, воскликнула бы:
— Еще бы! какъ мнѣ не быть счастливой! у меня «такой» мужъ, мы любимъ другъ друга, у насъ все есть, даже гораздо больше, чѣмъ намъ нужно, я не знаю никакихъ непріятностей, заботъ и горя… Конечно, я самая счастливая женщина…
А между тѣмъ «праздникъ жизни» кончался, ибо сколько ни длится какой бы то ни было праздникъ, но все же онъ кончается и за нимъ неизбѣжно наступаютъ будни. Будни, мало по малу, незамѣтно, наступили и въ Нагорномъ.
Ярко вспыхнувшая, запоздавшая страсть Шатрова къ Сонѣ видоизмѣнилась въ не менѣе глубокое, но уже спокойное чувство. Онъ привыкъ къ обладанію своимъ сокровищемъ, убѣдился въ реальности этого обладанія. Онъ могъ уже думать о чемъ угодно безъ того, чтобы она врывалась ежеминутно въ его мысли, могъ спокойно прожить безъ нея и часъ, и другой, и третій. Ему достаточно было знать, что она вблизи отъ него, что каждую минуту, когда захочетъ, онъ можетъ ее увидѣть.
Перемѣна эта произошла такъ естественно, сама собою, что Соня, такъ же какъ и онъ, ея не замѣтила. Только теперь у нея оказывалось много «своего собственнаго» времени и нерѣдко, когда всѣ домашнія дѣла (на ея долю ихъ достилалось немного) были сдѣланы, — ей становилось скучно. Она спѣшила въ библіотеку, брала книгу и читала, пока не зарибитъ въ глазахъ.
Не всегда, но по большей части, эти книги были романы, сочиненія лучшихъ европейскихъ и русскихъ художниковъ, красивыя, нѣсколько приподнятыя описанія жизни, съ любовной страстью на первомъ планѣ.
Пустынная тишина стараго сада, развалинъ и новаго дома наполнялась безчисленными призраками. Соня жила съ ними, любила ихъ и ненавидѣла, но все же, въ концѣ концовъ, убѣждалась, что они только призраки, что она одна. И ее начинало тянуть къ живымъ людямъ для того, чтобы провѣрить, на сколько они схожи съ блестящими призраками, созданными творческимъ изображеніемъ ея любимыхъ авторовъ.
Однако она читала не одни романы, повѣсти и поэмы. Она любила путешествія, описанія дальнихъ странъ. Ей бы такъ хотѣлось хоть что-нибудь увидѣть. О заграничной поѣздкѣ она и не мечтала, а хоть бы пожить въ Москвѣ, въ Петербургѣ, съѣздить въ Кіевъ… Вѣдь всю жизнь одно Нагорное, старый садъ, рѣка, пустоши…
Но она ни разу не рѣшилась говорить объ этомъ съ мужемъ. Она поклялась ему передъ свадьбой, что никогда не захочетъ уѣхать изъ Нагорнаго, а онъ сказалъ ей, что до конца своихъ дней останется здѣсь, но если ей станетъ скучно въ его «пустынѣ» — онъ отпуститъ ее куда угодно, — только одну.
Это было сказано торжественно, безповоротно, это являлось именно той дверью, которую жена Синей бороды не должна была отпирать. Такъ ей казалось, по крайней мѣрѣ. И она не могла говорить ему объ этомъ, — потому что это значило бы признаться, что она, значитъ, не такъ его любитъ, какъ прежде. Онъ непремѣнно все такъ себѣ и представитъ. Онъ никогда не пойметъ, что это совсѣмъ не то. Вѣдь вотъ онъ уже не разъ, лаская ее, спрашивалъ:
— Ну что-жъ, моя Соня, не разлюбила ты еще своего стараго мужа? но скучно еще тебѣ въ такомъ одиночествѣ, вдвоемъ съ твоимъ Змѣемъ-Горынычемъ?
Она инстиктивно чувствовала, что если бы онъ хоть на мгновеніе усумнился въ ея отвѣтѣ или въ искренности ея отвѣта — это бы его убило.
Такимъ образомъ между женой и мужемъ легла первая «роковая» тайна.
Къ концу четвертаго года Соня чуть не съ ума сошла, сначала отъ радости, а потомъ отъ горя. Ей показалось, будто она чувствуетъ въ себѣ присутствіе новой, развивающейся жизни… у нея будетъ ребенокъ! Она сознавала, что въ этомъ все ея спасеніе, приближеніе великаго счастья. Это счастье придетъ и озаритъ, наполнитъ всю ея жизнь. Тогда ей ничего, ничего уже не будетъ надобно. О, какъ чудно, какъ весело станетъ тогда въ Нагорномъ, у развалинъ!..
Но она ошиблась, и когда ошибка обнаружилась, Дмитрій Валерьянычъ потемнѣлъ какъ туча, а сама она заболѣла надолго отъ глубокаго отчаянія. Наконецъ она поправилась и ошибки такого рода уже не повторялись. Она больше не вѣрила въ возможность счастья.
Мало по малу она начинала задыхаться у развалинъ…
VII
Прошло еще четыре года. Шатровы, время отъ времени переписывавшіяся съ Сашей Бобрищевымъ, получили отъ него извѣстіе, что онъ взялъ отпускъ и намѣренъ пронести лѣто въ Нагорномъ, куда они ежегодно, но до сихъ поръ безуспѣшно, его звали.
Саша, подобно своему дядѣ, кончилъ однимъ изъ первыхъ курсъ въ Лицеѣ и теперь отличію шелъ по службѣ. У него остались самыя пріятныя воспоминанія о пустынникѣ дядѣ, а главное, о «тетѣ Сонѣ», и онъ давно бы съ удовольствіемъ къ нимъ поѣхалъ, но это все какъ-то не удавалось. Его мать начала сильно прихварывать, ей необходимо было каждое лѣто уѣзжать заграницу на воды, и онъ, единственный сынъ, ей всегда сопутствовалъ. Зимою — сначала ученіе, потомъ служба. Да и петербургская жизнь увлекала молодого человѣка.
Но вотъ, около года тому назадъ, онъ похоронилъ мать, и теперь, съ первыми лѣтними днями, освободившись отъ занятій, спѣшилъ въ Нагорное, — успокоиться духомъ, отдохнутъ въ этой милой по воспоминаніямъ живой пустынѣ…
Онъ нашелъ много перемѣнъ. Новый домъ, оставленный имъ еще недостроеннымъ, теперь имѣлъ видъ давно уже обжитого жилища. Дивный садъ сталъ еще великолѣпнѣе; молодыя аллеи разрослись на славу, всѣ мечты и затѣи «пустынника» осуществились. Однѣ только развалины стояли неизмѣнными.
Но болѣе всего перемѣнъ было въ людяхъ. Эти перемѣны поразили Бобрищова. Дядя, такой моложавый въ первый его пріѣздъ, и притомъ еще молодившійся, теперь смотрѣлъ совсѣмъ старикомъ, даже какъ будто нѣсколько одичавшимъ и опустившимся. Годы подобной исключительно уединенной жизни но могли не отразиться даже на внѣшности Шатрова, не могли не сдѣлать его старомоднымъ человѣкомъ, — и это особенно бросалось въ глаза Бобрищеву, жившему въ петербургскомъ свѣтѣ.
Петръ Дементьичъ необыкновенно растолстѣлъ, потерялъ свою прежнюю подвижность, почти ничего не говорилъ и только добродушно улыбался. Софронъ сгорбился и высохъ. Свою «тетю Соню» Бобрищевъ совсѣмъ не узналъ. Ничего, какъ есть ничего не осталось отъ прежняго полуребенка, съ которымъ онъ шалилъ и бѣгалъ взапуски и который такъ смѣшно и мило игралъ роль его «тетушки». Даже лицо у нея стало совсѣмъ другое. Ей уже исполнилось двадцать четыре года, для нея наступилъ самый лучшій возрастъ женщины. Бобрищевъ сразу почувствовалъ, что она прелестна. Но отчего же она такъ блѣдна, отчего въ глубокихъ глазахъ ея застыло такое грустное и усталое выраженіе? Она несчастна. Но вѣдь онъ помнилъ хорошо, какъ она любила его дядю. Да, любила… Однако этотъ чудный садъ, эта красивая рѣка, эта пустыня… и старики… и отсюда ни ногой никуда, ни разу… Ему не трудно было понять ея несчастье. Онъ удивился, какъ она еще жива, какъ она не зачахла, совсѣмъ не одичала у этихъ развалинъ.
Нѣсколько разъ поговорилъ онъ съ нею о томъ, о другомъ, онъ началъ изумляться еще больше. Тогда въ первый свой пріѣздъ, семнадцатилѣтній мальчикъ не могъ оцѣнить ее, да вѣдь и она, очевидно, была иная. Теперь же онъ поразился ея серьезностью, ея образованіемъ и развитіемъ. И это въ такой глуши, вдали отъ людей и жизни. Разумѣется, хорошъ былъ учитель-дядя, надо ему отдать справедливость, но какова и ученица!
Бобрищевъ былъ совсѣмъ очарованъ своей «тетей Соней» и притомъ чувствовалъ къ ней настоящую, глубокую жалость…
«Похоронили заживо — и вотъ она — такая!! Да вѣдь она могла быть лучшимъ украшеніемъ самаго избраннаго, самаго образованнаго общества!» — думалъ онъ.
А самъ онъ, человѣкъ изъ иного міра, — какое впечатлѣніе произвелъ онъ на «пустынниковъ»? Они тоже его не узнали. Отъ прежняго невзрачнаго галченка съ длинными руками и ногами и съ угловатыми манерами — ровно ничего не осталось. Теперь это быль законченный типъ изящнаго свѣтскаго человѣка, и притомъ красиваго. Соня вѣрно предсказала тогда, что онъ еще выравняется.
Да и какъ еще выравнялся! Глаза были похожи, очень похожи на глаза дяди. Но вѣдь притомъ это были молодые лучезарные глаза, въ которыхъ горѣла жизнь, глаза еще не затуманенные долгими годами неудачъ, страданій и несчастій.
— Каковъ, каковъ галченокъ-то нашъ вышелъ! — повторялъ Дмитрій Валерьянычъ.
— Да ужъ точно, — въ отвѣтъ ему хрипѣлъ Петръ Деменгьичъ, — мужчина за первый сортъ…. помилуй Богъ, ни въ жисть не узналъ бы его!
Софронъ ничего не говорилъ и только во всѣ свои старые слезившіеся глаза глядѣлъ на Бобрищева…
А Соня? Вѣдь этотъ пріѣздъ былъ огромнымъ событіемъ въ ея жизни. Она радовалась, ждала его. Она приготовила Сашѣ, согласно, выраженному имъ письменно, желанію, тѣ три уютныя комнаты въ развалинахъ, гдѣ жилъ Дмитрій Валерьянычъ въ первые годы по пріѣздѣ въ Нагорное и полтора года послѣ свадьбы, до отдѣлки новаго дома.
Войдя въ эти комнаты, сопровождаемый ею, Бобрищевъ сразу же увидѣлъ, что «тетя Соня» ничего, какъ есть ничего не забыла и приготовила ему самое прелестное и удобное гнѣздышко. Онъ глядѣлъ на нее съ сіяющими глазами, благодарилъ ее, цѣловалъ ея руки.
Вообще, несмотря на произведенное ею на него впечатлѣніе, на очарованность ею и свою къ ней жалость, Бобрищевъ, былъ развязенъ, простъ, какъ будто они встрѣтились послѣ недавней разлуки. Но она не могла быть съ нимъ такою. Она многому научилась, многое знала и понимала, но ни мужъ, ни чудный садъ, ни рѣка, ни развалины не научили ее хорошо владѣть собою. Онъ называлъ ее «тетей Соней», шутилъ съ нею, цѣловалъ ея руки. А у нея языкъ не повертывался называть его попрежнему Сашей. Она не называла его никакъ и знала, что если ужъ непремѣнно придется называть, то назоветъ его Александромъ Николаевичемъ.
Ей было тяжело и непріятно, оттого, что онъ шутитъ съ нею, а главное оттого, что онъ цѣлуетъ ея руки.
Ужъ на слѣдующій день послѣ его пріѣзда она сказала себѣ, что было бы гораздо, гораздо лучше, если бы онъ совсѣмъ не пріѣзжалъ. Она чувствовала себя стѣсненной, совсѣмъ выбитой изъ своей обычной колеи. Если бы только возможно было, она она стала бы запираться на цѣлые дни у себя, только бы не встрѣчаться съ нимъ, не разговаривать, не слышать его голоса, не видѣть его глазъ, такъ прямо, такъ смѣло глядѣвшихъ ей въ глаза.
А между тѣмъ вѣдь это былъ тотъ Саша, съ которымъ она когда-то такъ недавно и въ то же время такъ безконечно давно, бѣгала по аллеямъ и каталась въ лодкѣ, которому она цѣлыхъ семь лѣтъ по нѣскольку разъ въ годъ писала длинныя письма какъ старому другу. Да это онъ, онъ самый! сквозь новую оболочку изящнаго и красиваго человѣка, она все чаще и чаще начинала узнавать прежняго Сашу. Только зачѣмъ онъ пріѣхалъ… и вѣдь это не недѣля, не двѣ, онъ пріѣхалъ на цѣлое лѣто…
Она просто боялась его, хотя и не сознавала этого.
VIII
Стали проходить дни, недѣли, желаніе Сони уйти куда-нибудь, скрыться отъ Бобрищева, все увеличивалось. Но она хорошо понимала, что никто не долженъ подозрѣвать ея къ нему отношенія, ея непонятной неловкости въ его присутствіи и еще болѣе непонятнаго ея страха.
А все теперь складывалось именно такъ, что они бывали вдвоемъ гораздо чаще и на гораздо большее время, чѣмъ семь лѣтъ тому назадъ. Сближеніе ихъ росло не по днямъ, а по часамъ — и никакъ не могло быть иначе. Бобрищевъ не хотѣлъ называть себѣ чувства, влекшаго его къ Сонѣ; но онъ уже зналъ, что оно не мимолетно, что оно быстро растетъ въ немъ и крѣпнетъ, что онъ живетъ теперь и дышетъ этимъ чувствомъ. Еслибы онъ былъ старше и опытнѣе, онъ, можетъ быть, подумалъ бы о будущемъ, сталъ спасаться, уѣхалъ бы. Но, несмотря на свою жизнь въ свѣтѣ, гдѣ юность очень коротка и люди быстро дѣлаются адептами холоднаго благоразумія, онъ все же сохранилъ въ себѣ еще много юности.
Когда мысль объ отъѣздѣ мелькнула, онъ тотчасъ же отогналъ ее. Развѣ можетъ онъ теперь уѣхать, оставивъ ее въ такомъ положеніи, погибающей, тающей, какъ свѣчка, у этихъ развалинъ?.. Вѣдь еще годъ-другой подобной жизни, — и она погибнетъ, совсѣмъ зачахнетъ, у нея сдѣлается чахотка или что нибудь такое.
Она можетъ быть, да и навѣрно, не сознаетъ своего положенія. Надо ей открыть глаза, а потомъ открыть глаза и дядѣ, заставить его подумать о ней, заставить уѣхать наконецъ изъ Нагорнаго, показать ей свѣтъ и ее показать свѣту. Тогда она оживится, станетъ дышать полной грудью, тогда появится прежній здоровый румянецъ на ея щекахъ, и милые глаза ея измѣнятъ это страдальческое, усталое выраженіе, отъ котораго скребутъ кошки на сердцѣ.
И вотъ, когда прежняя интимность возстановилась между ними, Бобрищевъ, очень ловко и осторожно, коснулся Сониной раны. Онъ началъ съ дружескихъ откровенностей, съ описаній своей жизни, и это дало ему возможность вводить Соню въ такія сферы, о которыхъ она имѣла, благодаря мужу, совершенно одностороннее представленіе. Она давно догадывалась, на основаніи многаго изъ прочитаннаго ею, что Дмитрій Валорьянычъ черезчуръ пристрастенъ, но теперь передъ нею было живое, осязательное доказательство этого.
И жизнь, и люди вовсе ужъ не такъ отвратительны, какъ увѣряетъ ея мужъ. Вездѣ, разумѣется, есть мракъ, даже много мраку; но есть и свѣтъ. Люди созданы не для того, чтобы уходить въ пустыню; они должны жить среди себѣ подобныхъ, общей жизнью, съ ея радостями и печалями. Да и потомъ, вотъ Саша разсказываетъ о своихъ разнообразныхъ заграничныхъ путешествіяхъ съ матерью. Онъ столько видѣлъ, что еслибы ей увидѣть хоть только половину, — этого бы хватило на всю жизнь для чудныхъ, пріятныхъ воспоминаній.
Она жадно, мучительно слушала, отдавалась этимъ долгимъ разсказамъ.
Теперь она уже не боялась «Саши», а между тѣмъ ея страхъ, страхъ предчувствія, быстро начиналъ оправдываться. Каждая прогулка по душистымъ аллеямъ сада, каждая бесѣда у живописныхъ, обвитыхъ хмелемъ и дикимъ виноградомъ развалинъ приносили ей новую отраву. Она была достаточно подготовлена; но все таки еще многаго не сознавала ясно. Теперь она поняла все — и душа ея возмутилась.
Передъ нею встали, во всѣхъ мелочахъ своего вѣчнаго унынія, эти послѣдніе годы ея жизни, годы насильственнаго пустынно жительства. А онъ, ея безсознательный соблазнитель, говорилъ — такъ и сіяя своими манящими глазами:
— Вѣдь не можете же вы, тетя Соня, не понимать, что нельзя такъ жить, какъ вы до сихъ поръ жили… Такъ можетъ прожить какая-нибудь деревенская поповна, читающая по складамъ «аглицкаго милорда Георга»! Да и та вѣдь имѣетъ свои развлеченія, свою компанію.
— Почему же вы думаете, что я этого не понимаю? — подняла на него Соня свои усталые глаза.
— А если понимаете, такъ зачѣмъ же до сихъ поръ допускали подобную жизнь? Вѣдь это самоубійство! Послушайте, мнѣ кажется, что вы сами во всемъ виною. Дядя васъ слишкомъ любитъ и, хотя обстоятельства его жизни и года сдѣлали его нѣсколько эгоистичнымъ, онъ никогда бы не отказалъ вамъ…
— Въ чемъ? — мучительно воскликнула она, — уѣхать изъ Нагорнаго, жить какъ живутъ всѣ люди? Да, онъ еще давно говорилъ, что отпуститъ меня, если я захочу его покинуть, но самъ живымъ не двинется… Отпустить — и тогда… всему конецъ…
— Мнѣ кажется, что вы клевещете на дядю, вы представляете его себѣ черезчуръ уже каменнымъ, непреклоннымъ. Вотъ я поговорю съ нимъ, я объясню ему то, чего онъ не замѣчаетъ, но что бросается въ глаза со стороны — и увидите мы встрѣтимся этой зимой въ Петербургѣ.
Соня вся похолодѣла.
— Боже васъ избави! — воскликнула она, въ ужасѣ хватая его руку и удерживая ее въ своихъ рукахъ, будто боясь, что вотъ онъ сейчасъ вырвется и побѣжитъ къ Дмитрію Валерьянычу.
— Вы его не знаете, а я знаю… если онъ хоть только на минуту заподозритъ меня — я погибла!
Она слишкомъ долго сдерживала себя, ея нервы были черезчуръ натянуты, да можетъ быть и блескъ его глазъ, ощущеніе его руки, крѣпко сжимавшей ея руку, помогло этому: она вдругъ зарыдала и прерывавшимся голосомъ повторила:
— Да, если мужъ… хоть на минуту заподозритъ меня… я погибла!..
Бобрищевъ совсѣмъ растерялся. Ея рыданія душили его.
— Соня, милая, милая… да успокойтесь же… что-же это такое?!..
Онъ невольно склонился къ ней и цѣловалъ ея руки.
Они были въ бесѣдкѣ изъ акацій, прозрачной, маленькой бесѣдкѣ.
— Кушать подано… баринъ давно дожидаются! — раздался строгій, какой-то сдавленный голосъ.
Они сразу не поняли, что это, кто говоритъ, откуда.
Передъ ними стоялъ Софронъ и глядѣлъ на нихъ злобно и презрительно своими старыми, слезящимися глазами.
IX
Софрону было теперь уже около семидесяти лѣтъ. Когда его баринъ, Дмитрій Валерьянычъ, единственное существо, которому онъ дѣйствительно, и «по закону», и по многолѣтней привычкѣ, былъ преданъ, — рѣшилъ покинуть Петербургъ и поселиться въ Нагорномъ, — онъ очень одобрилъ это рѣшеніе. Оно какъ разъ сходилось съ его желаніями.
— Вотъ, теперь будемъ жить у Христа за пазухой! — радовался онъ, — а то, что тутъ, въ столицѣ-то этой, нѣшто здѣсь жизнь — одинъ грѣхъ и срамъ!..
Софронъ вообще людей не любилъ, а женщинъ, послѣ какой-то таинственной исторіи съ швейкой, жившей на Гороховой, не иначе называлъ какъ «шкурами». Онъ рано отстранялся отъ всякаго знакомства съ ними и говорилъ:
— Дальше отъ этихъ самыхъ шкуръ — дальше отъ грѣха… онѣ всяческой пакости — сѣмя и корень…
Таковое его убѣжденіе было непоколебимо, и онъ весьма похвалилъ своего барина за то, что и тотъ не очень благоволилъ къ «шкурамъ» хотя бы и барскаго роду — «всѣ онѣ на одну стать, какъ въ избѣ, такъ и въ палатахъ, потому естество въ въ нихъ одно, нечистое, ехидственное».
Зажилъ онъ въ Нагорномъ со всякимъ благодушествомъ, думалъ такъ и вѣкъ скоротать, а тутъ какъ нѣкій дьяволъ, прости Господи, объявилась управительская дочка. Это было для Софрона большимъ ударомъ и баринъ съ тѣхъ поръ много потерялъ въ его мнѣніи.
«Ослабѣлъ Дмитрій-то Валерьянычъ, крѣпокъ былъ, а все же таки ослабѣлъ… на „шкуру“, вишь ты, позарился… Срамота одна, глаза бы не глядѣли», — думалъ онъ.
Со свадьбою онъ, въ концѣ концовъ, примирился какъ съ меньшимъ изъ двухъ золъ; но все таки повторялъ про себя:
«Не ко двору намъ управительская дочка, не ко двору… вотъ она ужо себя покажетъ, наплачешься ты еще съ нею, батюшка Дмитрій Валерьянычъ… и по дѣломъ… ослабѣлъ… сѣдина въ бороду, а бѣсъ въ ребро… такъ-то»!..
Когда Соня шалила и бѣгала взапуски съ Сашей Бобрищевымъ, Софронъ глядѣлъ въ оба и со дня на день ждалъ «пакости». Но все обошлось, къ его изумленію, благополучно. Подъ конецъ онъ даже почти примирился съ управительской дочкой, даже иной разъ въ мысляхъ своихъ сталъ называть ее «барыней». Однако съ пріѣзда «оперившагося птенчика», «питерскаго племянничка» въ его старомъ сердцѣ вдругъ закипѣло что-то… «Племянничекъ» показался ему очень подозрительнымъ и онъ сталъ слѣдить за нимъ и за барыней…
Теперь онъ выждалъ нѣсколько дней, убѣдился, что все идетъ по старому, то есть «они» продолжаютъ «бѣгать по саду, да прятаться въ бесѣдкахъ часами», рѣшилъ, что «ноги-то старыя, за ними не угоняешься, не выслѣдишь, да и чего еще ждать-то, ужъ дождалися», улучилъ удобную минуту, вошелъ въ кабинетъ барина и заперъ за собою дверь поплотнѣе.
— Ты что, Софронъ? — спросилъ Шатровъ, съ изумленіемъ вглядываясь въ его, какъ-то странно-скрюченную фигуру.
— А ужъ и не знаю, какъ доложить вашей милости, только умолчать также не смѣю. Сами изволите знать… всю-то я жизнь при васъ, сударь… не видалъ ничего отъ васъ худого… вотъ какъ передъ Истиннымъ… душу за васъ… за мѣсто отца родного… — мялся и шамкалъ Софронъ.
Шатровъ смутился.
— Да говори ты на милость, что случилось? что такое?
— А то, батюшка Дмитрій Валерьянычъ, что прикажите-ка вы племянничку-то со двора съѣхать! — вдругъ пересиливъ свое смущеніе, скороговоркой объявилъ Софронъ.
— Какъ?.. почему?..
Шатровъ не вѣрилъ ушамъ своимъ.
— Потому по самому, что барыню нашу они смущаютъ… въ грѣхъ вводятъ…
— Да ты съ ума сошелъ!.. какъ ты смѣешь, мерзавецъ!
Шатровъ побагровѣлъ, вскочилъ и подбѣжалъ къ старику съ поднятыми кулаками.
— Что-жъ, бейте, сударь… на то я рабъ, а вы господинъ мой прирожденный… моложе былъ — не били… а теперь… бейте…
Софронъ странно присѣлъ и подставлялъ барину свое старое лицо, покрытое щетиной сѣдыхъ, давно не бритыхъ волосъ. Шатровъ опустилъ руки, хотѣлъ проговорить что-то — но не могъ.
— Бейте, а все жъ таки своими глазами видѣлъ, своими ушами слышалъ, — продолжалъ старикъ свистящимъ шопотомъ. — Нешто бы я смѣлъ такъ, зря… Бѣду упредить надо, коли еще не поздно… Намедни, къ обѣду-то опоздали, приказали позвать ихъ… иду мимо сквозной бесѣдки и вижу… барыня въ слезахъ рыдаютъ, «коли мужъ», говорятъ, «что замѣтитъ — пропала я», а племянничекъ ручки у нихъ цѣлуютъ, успокаиваютъ… «милая», говорятъ, «милая Со-ни-чка»…
— Молчать, скотина, молчать!.. лжешь ты, лжешь!.. — не своимъ голосомъ крикнулъ Шатровъ, схватилъ Софрона за шиворотъ, выпихнулъ въ дверь и прислонился къ стѣнѣ, едва удерживаясь на ногахъ, хватаясь за голову, ничего не понимая.
X
Часа черезъ полтора изъ кабинета раздался громкій звонокъ. Вошелъ молодой лакей. Баринъ сидѣлъ въ креслѣ у стола и показался лакею очень больнымъ, лицо осунулось и было блѣдно, только глаза горѣли.
— Попросите ко мнѣ Александра Николаевича, — проговорилъ баринъ.
Минутъ черезъ десять явился Бобрищевъ.
— Что прикажете, дядя?
— Садись, — указалъ Шатровъ рукою на стулъ и продолжалъ, медленно выговаривая слова, тихимъ и глухимъ голосомъ: — на этихъ дняхъ, въ понедѣльникъ, если не ошибаюсь, ты и Соня опоздали къ обѣду. Когда вы пришли, мнѣ показалось, что у жены заплаканы глаза, да и ты имѣлъ озабоченный видъ… Я все ждалъ, что или ты, или она… объясните мнѣ что это такое было… но вы оба молчите… и я вотъ… желаю знать…
Бобрищевъ смутился, но тотчасъ же и рѣшилъ, что такъ, пожалуй, лучше; онъ не виноватъ, если не можетъ исполнить обѣщанія, даннаго имъ Сонѣ… онъ скажетъ все, какъ хотѣлъ того прежде.
Онъ горячо заговорилъ о впечатлѣнія, какое произвела на него, свѣжаго человѣка, Соня. Онъ доказывалъ, что такое существованіе неестественно и для пожилого человѣка, для дяди, а молодую женщину, образованную, всѣмъ интересующуюся, стремящуюся къ жизни, оно совсѣмъ губитъ, губитъ видимо и быстро. Онъ, умолялъ дядю пожалѣть жену и, пока еще время но ушло, все исправить, провести зиму хоть въ Петербургѣ, дать Сонѣ возможность увидѣть свѣтъ, испытать эстетическія удовольствія, которыя даетъ столица. Онъ говорилъ, что это такъ легко устроить, бралъ на себя всѣ хлопоты…
Шатровъ слушалъ его молча и только все острѣе впивался въ него горящими глазами.
— Что-жъ это… это она поручила тебѣ объяснить мнѣ… мои ошибки? она жаловалась тебѣ на меня, на свою жизнь, на свои несчастія? — наконецъ, едва выговаривая слова, произнесъ онъ.
— Своей скуки, тоски ей отъ меня скрыть не удалось, но она не дѣлала мнѣ въ этомъ смыслѣ никакихъ признаній, — сказалъ Бобрищевъ, — она умоляла меня ничего не говорить вамъ, такъ умоляла, что я обѣщалъ… но вотъ теперь, такъ какъ вы сами начали — я очень радъ, что высказалъ вамъ все, милый дядя, и надѣюсь…
— Такъ кто же тебя уполномочивалъ вмѣшиваться не въ свое дѣло? — перебилъ его Шатровъ — и костяная книжная разрѣзалка хрустнула и сломалась въ рукѣ его. — По какому праву ты становишься между мужемъ и женой?.. Я считалъ тебя… деликатнѣе, мои милый… Больше я ничего не имѣю сказать тебѣ.
— Дядя!..
Но Дмитрій Валерьянычъ всталъ, быстро вышелъ въ сосѣднюю комнату и заперъ за собою дверь.
Бобрищевъ поднялся со стула, весь блѣдный.
«Что же это?.. онъ меня… выгоняетъ!.. Необходимо немедля же уѣхать»… — стучало въ головѣ его.
…Онъ почти шатаясь вышелъ изъ кабинета и машинально, пройдя терассу, направился-къ себѣ, къ развалинамъ.
Солнце уже зашло, надвигался душистый вечеръ конца іюля, весь прозрачный, съ едва замѣтными въ тихомъ безоблачномъ небѣ первыми звѣздами.
Лакей постучалъ въ дверь кабинета и, ничего не слыша, рѣшился внести лампу.
Баринъ опять сидѣлъ у стола, передъ раскрытой книгой, хоть и было ужъ совсѣмъ темно.
— Попросите ко мнѣ барыню! — приказалъ онъ.
Соня была въ возбужденномъ состоянія. Она чувствовала такую давящую тоску, какой прежде никогда съ ней не бывало, такую, что ей хотѣлось не плакать, а просто кричать отъ боли. Она уже знала, что надъ нею виситъ какое-то несчастіе. Она видѣла изъ своего окна, какъ Бобрищевъ спустился съ терассы и пошелъ къ развалинамъ. У нея шибко забилось и потомъ замерло сердце… И она ждала.
Ее позвали къ мужу. Она вошла въ кабинетъ, взглянула на Дмитрія Валерьяныча — и не узнала его. Передъ нею былъ совсѣмъ старый и совсѣмъ чужой ей человѣкъ. Но ей это было все равно. У нея въ груди что-то обрывалось, въ виски стучало… Вотъ-вотъ сейчасъ упадетъ на нее… громадное… холодное… — и раздавитъ…
XI
— Ты хочешь уѣхать изъ Нагорнаго? тебѣ здѣсь надоѣло? — прямо началъ онъ, впиваясь въ нее горящимъ взглядомъ.
Она никогда не видала такихъ его глазъ и ужаснулась. Въ ней вдругъ родилась никогда не испытанная ею злоба къ этому человѣку. Еще нѣсколько часовъ тому назадъ, томясь своею тоскою, она не винила его ни въ чемъ. Теперь она чувствовала, что онъ ея настоящій врагъ, ея мучитель.
— Я ничего не хочу, мнѣ ничего не надо, — устало проговорила она.
— Нѣтъ, ты говори, говори прямо, — воскликнулъ онъ, крѣпко взялъ ее за руку и заставилъ ее сѣсть въ кресло. — Разъ ужъ ты дошла до того, что толкуешь о своихъ несчастіяхъ съ первымъ встрѣчнымъ… это надо кончить!
Съ ней произошло что-то неуловимое; но безповоротное. Она внезапно преобразилась. Ея голова поднялась, блѣдныя щеки облились румянцемъ, глаза блеснули, потерявъ свое обычное выраженіе, и, въ свою очередь, пристально и холодно остановились на глазахъ мужа. Она заговорила новымъ голосомъ, котораго никто бы не призналъ за ея голосъ.
— Ну что-жъ, видно такъ надо, да, я не могу больше такъ жить, я давно, давно задыхаюсь — и всему есть конецъ… Я не могу больше… это хуже смерти…
— Значитъ, что-жъ… значитъ, ты просто разлюбила мужа? — разслышала она. — Скажи пожалуйста… развѣ я силой взялъ тебя, развѣ я прибѣгалъ къ какимъ-нибудь ухищреніямъ, недостойнымъ соблазнамъ? Я сказалъ, что люблю тебя — и не лгалъ… ты отвѣтила такимъ же точно признаніемъ, ты клялась, что тебѣ никого и ничего не надо кромѣ меня, что ты никогда меня не покинешь — и лгала…
— Нѣтъ, я не лгала, — все съ тѣмъ же холоднымъ блескомъ глазъ продолжала она, больше отвѣчая себѣ самой, чѣмъ на слова его, — но я никого и ничего не знала, я была ребенкомъ. За тобою осталась вся жизнь, а у меня она еще не начиналась. Моего чувства къ тебѣ было бы навсегда для меня довольно, если-бъ ты хоть немного жалѣлъ меня и думалъ, о моихъ требованіяхъ, или… если-бъ у меня были дѣти… Зачѣмъ же ты не оставилъ меня ничего незнавшей и непонимавшей дурочкой?!. тогда, можетъ быть, я тоже бы справилась… Нѣтъ, ты захотѣлъ поднять меня до себя — иначе тебѣ было бы скучно со мною и я тебѣ скоро бы надоѣла… И вотъ этимъ-то ты и погубилъ меня… Вѣдь восемь лѣтъ я училась, ты же училъ меня, восемь лѣтъ я читала, я думала… Ты вѣдь открылъ мнѣ глаза, ты заставилъ работать мои мысли… Ты указалъ мнѣ на тѣхъ, кому я должна была вѣрить, далъ мнѣ ихъ книги… И я узнала наконецъ, что такъ жить нельзя… я боролась съ собою, терпѣла, молчала, долго терпѣла и молчала… Но!.. всему конецъ… я не живу — и еще не умерла… Мнѣ надо или жизни, или смерти… и сейчасъ, сейчасъ!
Она поднялась съ кресла, схватилась за грудь. Зрачки ея глазъ расширились и въ нихъ мелькнуло мучительное, почти безумное выраженіе.
Шатровъ задыхался.
— Такъ я… я во всемъ виноватъ… — прохрипѣлъ онъ, — я, старый мужъ, заѣлъ твой вѣкъ… и это сразу… такъ… сейчасъ!.. оттого что пріѣхалъ мой племянникъ, съ которымъ ты наговорилась, наплакалась…
Онъ остановился, задохнулся — и вдругъ крикнулъ черезъ силу:
— Съ которымъ ты цѣловалась!.. Не притворяйся же, не лги… скажи мнѣ прямо, что ты его… любишь!
Она вздрогнула. Ея руки опустились; потомъ тотчасъ же поднялись и она стиснула ими себѣ голову.
— Я… я никогда… Боже мой… теперь я чувствую… понимаю… да, да, да!.. это правда… вотъ что это… я люблю, люблю его!
Она пошатнулась, но удержалась на ногахъ — и какъ сумасшедшая выбѣжала изъ комнаты.
XII
Она бѣжала, какъ будто кто-нибудь гнался за нею. Она бѣжала такъ быстро, какъ уже не бѣгала со времени дѣтства.
Она въ саду, среди цвѣтниковъ, отъ которыхъ, послѣ знойнаго дня, такъ и пышетъ теплымъ благоуханіемъ. Она мчится по кленовой аллеѣ, спускается по крутой дорожкѣ къ рѣкѣ, бѣжитъ берегомъ, въ прозрачномъ сумракѣ, среди влажной, покрытой росою травы…
Сердце ея то мучительно колотится, то совсѣмъ замираетъ — и дышать нечѣмъ. И только одно повторяется, безъ конца, все громче, все отчаяннѣй: «такъ, вотъ что это!.. я люблю его… Боже мой… я люблю его»!..
Все кружится у нея породъ глазами. Она видитъ какъ на встрѣчу ей несутся кусты, деревья… Вотъ блеснула ей прямо въ глаза рѣка и тоже понеслась ей навстрѣчу.
Она все бѣжитъ… рѣка разростается… ближе… ближе… Пахнуло запахомъ воды, влажнымъ холодомъ Боже мой… я люблю, я люблю его!..
Онъ глядитъ на нее ясными, нѣжными глазами… онъ цѣлуетъ ея руки… «Такъ вотъ любовь… вотъ»!..
А рѣка надвигается… что это? она летитъ!.. какъ холодно!.. что это, что?!.
И все исчезло. Никто не видѣлъ, среди глухой тишины поздняго лѣтняго вечера, какъ она, охваченая ужасомъ и безуміемъ, мучительной потребностью бѣжать дальше, дальше, все впередъ и впередъ, не сознавая того, что дѣлаетъ, прямо взбѣжала на обрывъ, къ тому мѣсту, гдѣ рѣчныя воды были особенно глубоки, оступилась — и очнулась только тогда, когда стала захлебываться.
Она сдѣлала отчаянное усиліе, выплыла, крикнула; но голова ея закружилась — и она пошла ко дну…
Однако ея отчаянный, предсмертный крикъ былъ услышанъ. Тихимъ, но зловѣщимъ эхомъ повторился онъ у развалинъ, у открытаго окна, гдѣ стоялъ Бобрищевъ, собираясь съ мыслями, рѣшая какъ же теперь быть… Бобрищевъ вздрогнулъ отъ охватившаго его смертнаго холода… узналъ ея голосъ… почувствовалъ послѣдній, безнадежный призывъ ея…
Онъ бросился въ домъ, сзывая людей, полный ужаса и отчаянія. Дмитрій Валерьянычъ, шатаясь, вышелъ изъ кабинета. Кинулись въ спальню, въ уборную — Сони нигдѣ не было…
— Къ рѣкѣ! къ рѣкѣ! — озаренный страшной внезапной мыслью, кричалъ Бобрищевъ, — скорѣй… за мной!..
Только къ полдню удалось найти ея тѣло…
Она лежитъ неподвижная, холодная, влажная. По ней скользятъ и трепещутъ прощальные, безучастные лучи солнца. Дверь въ залу отворяется и твердой, спѣшной поступью, сѣдой, всклоченный, растерянный и страшный — входитъ Дмитрій Валерьянычъ. Онъ увидѣлъ ее — и вдругъ улыбнулся. Онъ подошелъ къ ней, взялъ ея руку.
— Ну, Соня, пора!.. все ужъ готово… всѣ вещи уложены… ѣдемъ!.. — говоритъ онъ и теребитъ ее за руку. — Да проснись же — говорю: пора, лошади поданы… ѣдемъ… Что же она спитъ?.. Саша! гдѣ ты, Саша!
Бобрищевъ появляется у дверей. Онъ едва держится на ногахъ.
Дядя подходитъ къ нему и шепчетъ ему на ухо:
— Она спитъ… а ѣхать пора… какъ тутъ быть? пойди, разбуди ее… можетъ быть, она тебя послушается… вѣдь она тебя любитъ — сама сказала… а я теперь засну, усталъ съ этой уборкой, обо всемъ-то подумать надо… спать какъ хочется!
Онъ зѣвнулъ, потянулся и, безучастно взглянувъ на Соню, пошелъ изъ залы. Бобрищевъ упалъ передъ тѣломъ Сони и вдругъ зарыдалъ громко, неудержимо. Это рыданіе было его спасеніемъ, возвратомъ къ жизни.
1917


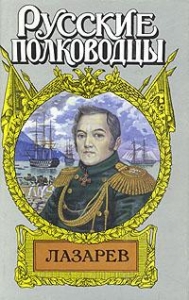


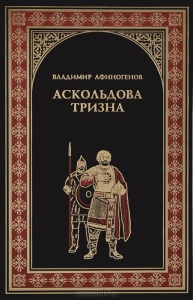
Комментарии к книге «У развалин», Всеволод Сергеевич Соловьев
Всего 0 комментариев