Жозеф Кессель Всадники
Памяти моего отца. Памяти его великой и нежной мудрости.
ВЕЛИКИЙ ПРАЩУР
Грузовики двигались не быстрее, чем караваны верблюдов, а всадники – не быстрее пешеходов. Дорога была такая, что всем приходилось продвигаться с одинаковой скоростью: приближались к Шибару, единственному проходу через величественный и грозный хребет Гиндукуш. Через этот перевал, на высоте 3500 метров, шла вся торговля, все сообщение между Южным и Северным Афганистаном.
С одной стороны дороги – нависали зубчатые, как пила, отвесные скалы, с другой зияла бездонная пропасть. Глубокие рытвины и глыбы камней, оставшиеся от обвалов, мешали движению. Дорога извивалась серпантином и делалась все круче и опаснее.
Караванщики, погонщики мулов, пастухи со стадами овец были измотаны усталостью и холодом, страдали от разреженного воздуха. Вытянувшись цепочкой, словно муравьи, прижимались они к скалам – там хоть риск свалиться был не такой большой.
Другое дело – грузовики. Дорога часто становилась такой узкой, что машина занимала всю ширину ее, и колеса чуть ли не повисали в воздухе, еле прикасаясь к осыпающемуся краю. Малейшая неосторожность или неловкое движение шофера, неполадка в моторе или тормозах – и до срока изношенные, плохо ухоженные машины могли полететь в пропасть. А груз, всегда намного превышающий допустимую норму, на крутых склонах делал грузовики и того менее управляемыми. И дело было не только в излишнем количестве тюков, ящиков, корзин, мешков и узлов.
Поверх своего багажа, на крышах грузовиков, а если крыш не было, то на брезенте, сидели и лежали в изрядном количестве люди.
Тесно прижавшиеся друг к другу, они образовывали живую пирамиду, бесформенную копошащуюся, неустойчивую, прикрытую чувствительными к порывам ветра нищими одеяниями и чалмами, из-под которых выглядывали смуглые лица; и все это качалось, то опускаясь, то подпрыгивая на рытвинах.
На одном из грузовиков, на самой верхушке пирамиды, сидел глубокий старик. Чтобы оказаться наверху, ему не пришлось прилагать никаких усилий. Просто он был настолько изможден, что стал совсем невесомым, стал вообще бестелесным, а народ, накапливавшийся от самого Кабула и образовывавший слой за слоем, выталкивал его из себя, и старика поднимало все выше и выше над плохо натянутым брезентом.
Ступни его касались чьего-то затылка, и, заклиненный между двумя крепкими шеями, он наблюдал за едва заметно – настолько медленно ехал грузовик – проплывавшие мимо цепи и вершины Гиндукуша. Склоны, гребни и пики гор были словно покрыты какой-то серой коркой. Гигантские массивы мрачных гор, их извилины и уступы, все, вплоть до небосклона, стиснутого высоко над головами и заменявшего здесь горизонт, все казалось покрытым серо-зернистым пеплом веков.
Все реже слышались разговоры между едущими в грузовике. Не слышно стало громких реплик и шуток этих от природы жизнерадостных и добродушных людей, не слышно стало рассказов и раскатов смеха, которые поначалу, до самого Шибиргана, скрашивали путешествие. Теперь лишь кто-нибудь изредка громко вздыхал или вскрикивал или же произносил слова молитвы. Но вскоре и эти звуки тоже умолкли. Разговоры уже не помогали переносить эту тоскливую унылость окружающего мира. Единственным способом приободриться осталось сохранение общего тепла живых тел. Каждый старался как можно сильнее втиснуть свой каркас в каркас соседа. В тишине.
А вот тот глубокий старик, что возвышался над всеми, не испытывал ни тревоги, ни печали. За окружающим пейзажем словно вымершей планеты его внутренний взор различал сказочно прекрасные долины, шумные города, безводные пустыни, необозримые степи. И все это был Афганистан. Он знал здесь все провинции, все дороги и все тропы. Прошел вдоль всех границ: иранской и русской, тибетской и индийской. И в любое мгновение мог вызвать в памяти эти картины. Жить для него теперь – означало вспоминать. И он просматривал свои воспоминания, мысленно, неторопливо продвигаясь от одной стороны света к другой.
Вдруг очертания гор и сам небосклон исчезли из его поля зрения. Со всех сторон послышались громкие крики, и он опрокинулся на теперь уже совсем бесформенную груду, в которую превратилась гора тел, брошенная сначала вперед, а потом отброшенная к заднему борту грузовика. Крики резко прекратились. Удивление сменилось страхом. Мотор заглох. Шофер тщетно пытался его завести. Тормоза, выжатые до отказа, бешено скрипели, но не могли сдержать огромную перегруженную машину на подъеме. Она еще не катилась назад, но уже как бы в нерешительности покачивалась туда-сюда, потихоньку сдавая. С каждым мгновением деревянные и металлические части кузова получали все большую нагрузку, превращались в вес, в силу, в волю, неподвластные человеку. Грузовик медленно попятился, медленно сдвинулся на один дюйм, чуть быстрее на второй. До пропасти их оставалось совсем мало… Крики возобновились. Те, кто был в середине кузова, видели только спины да головы соседей и кричали:
– Давай, дайда пайнч![1]
– Чего там делает дайда пайнч? Вцепившись в борта машины, люди отвечали: – Дайда пайнч правильно все делает.
– Он у нас вроде бы расторопный и умелый.
– Да поможет ему Пророк!
– Аллах да вразумит его!
Все эти восклицания и слова одобрения были обращены к подростку, почти ребенку, ехавшему снаружи, прицепившись к заднему борту грузовика, рядом с тормозным башмаком, приблизительно такого же роста и веса, как он сам.
При первом же толчке он соскочил на землю. И теперь отцеплял башмак от крючьев, которыми тот был прикреплен к машине. Грузовик стал пятиться быстрее. Теперь и колеса пришли в движение. Еще один оборот колеса и дальше – падение в бездну. «Дайда пайнч» заблокировал левое колесо, оказавшееся в самом опасном положении. Грузовик покачнулся раз, другой, третий и замер, перегородив дорогу.
Спереди и сзади его послышались нетерпеливые сигналы клаксонов. Из кабины грузовика высунулась голова водителя в чалме. Он крикнул:
– Всем слезть! Подталкивайте сзади и не залезайте в машину, пока я не скажу.
Пассажиры поспешно слезли на землю. Когда пришел черед старика, его сосед, кузнец с густыми черными волосами, сказал ему:
– Сиди, сиди, дедушка. В тебе веса-то нет совсем никакого. Легче птички.
Двигатель заработал, и грузовик проехал вверх, до очередной разъездной площадки. Пассажиры один за другим взобрались на свои места на брезенте. Кузнец вернулся на место рядом со стариком: он был сильный и потому мог делать что хотел. Запыхавшийся, он произнес довольным тоном:
– Уж я толкал, толкал, устал как черт. Даже бояться забыл, до того старался, а поначалу страх был велик.
– А чего ты так боялся? – спросил старик.
– Как чего, смерти, – отвечал кузнец.
– Не надо было, – тихо промолвил старец.
– Легко сказать, – порывисто, но с почтением возразил кузнец, – но легко только таким, как ты, когда и так уже одной ногой стоишь в могиле.
– Неизвестно, кто ближе к ней стоит, сынок, – возразил старец, – ведь ты ее боишься.
– Как и все… – воскликнул кузнец.
– Вот-вот, – подтвердил старик. – А смерть только в этом и состоит, в великом страхе перед ней.
Кузнец задумчиво почесал совершенно ороговевшим от постоянного контакта с наковальней большим пальцем свои густые черные брови.
– Не понимаю, – произнес он с тревогой в голосе.
– Это ничего, сынок, – ответил старец.
Лицо его было таким иссохшим, что прочесть на нем какое-нибудь выражение было уже совершенно невозможно. Испещренная, изрезанная, изрытая глубокими складками кожа напоминала мелкую-мелкую сетку, в которой затерялись, запутались серо-голубые глаза. Но кузнецу показалось, что по мелким морщинкам, от одной к другой, по иссохшим чертам лица, хотя тонкие, как нити, бесцветные губы и не пошевельнулись, пробежало нечто вроде дрожи, некое сочувствие, отчего во взгляде старца мелькнула искорка. Не поняв ничего больше, кузнец все же почувствовал себя увереннее.
При очередном толчке, который, после стольких других, разбросал и снова сбил в кучу тела на брезенте грузовика, кузнец участливо обхватил могучей рукой плечи старика и сказал:
– Меня зовут Гулям, а тебя, дедушка?
– Гуарди Гуэдж, – ответил старик.
– Гуарди Гуэдж, Гуарди Гуэдж, – повторил кузнец и добродушно улыбнулся.
– Ты легкий, легче перепелочки, – отметил он.
Дорога теперь шла по ровной местности. На высоте около четырех тысяч метров над уровнем моря показался Шибирганский перевал.
* * *
Остановку сделали уже после перевала, на первом ровном месте северного склона, на большой каменистой площадке, ограниченной на западе отвесной скалой, а с востока – ущельем, на дне которого шумела река. В этом будто нарочно созданном месте останавливались все торговые караваны, ведущие обмены между обеими частями Афганистана, разделенного Гиндукушем. Тут всегда стояли десятки машин. Те, что приезжали с юга, выстраивались вдоль реки, а другие – вдоль скалистой стены.
По обе стороны площадки тянулись многочисленные примитивные харчевни. Поскольку главным напитком здесь был чай, черный либо зеленый, у всех этих заведений было одно название – чайхана. Каждое из этих саманных сооружений состояло всего из одной комнаты без окон, к которой примыкала терраса под навесом. Здесь-то и располагались путники. Холод и ветер там были злее, чем в помещении, но какой же здравомыслящий человек из-за такого пустяка откажется от зрелища прибытия грузовиков, высадки пассажиров, встречи друзей, путешествующих в другом направлении. Где еще во всем Афганистане, кроме как тут, на Шибаре, можно было встретить на ограниченном пространстве людей из Кабула и Хазареджата, из Кандагара и Джелалабада, из Газни и Мазари-Шарифа! Каждый человек в одежде своей провинции, своего племени: простая рубаха или подогнанная в талии куртка, а то, может, и накидка, тюрбан на голове или каракулевая папаха, шелковая тюбетейка ярких расцветок или высокая мохнатая войлочная шапка. Все они с нескрываемой радостью раскрывали пошире уши, чтобы внимать этому удивительному концерту голосов, обменивались бесконечными рассказами, новостями, правдивыми или явно ложными слухами, а порой и спорили. Поистине эта стоянка была подарком судьбы, настоящим праздником, и было бы безумием потерять хотя бы одно из мгновений этого зрелища.
Вот почему, не успел грузовик, на котором ехал старец, остановиться со стороны ущелья за теми караванами, которым предстояло продолжить затем свой путь на север, как пассажиры нетерпеливо слезли с брезента и побежали к чайханам. Даже кузнец, поспешно снявший старика и поставивший его на землю, крикнул:
– Я ведь больше тебе не нужен, дедушка, не так ли?
И большими шагами удалился.
Старик перебросил через плечо свой легонький мешочек и застыл в неподвижности. Несмотря на то, что он был стар и что порывы ветра не щадили его исхудавшего тела, держался он очень прямо и с мудрой неторопливостью проникался странным величием этой стоянки в самом высоком месте гигантского массива, в самом сердце Средней Азии, с забравшимися сюда тяжелогружеными, запыленными и выгоревшими на солнце машинами, изрядно потрепанными на ужасных дорогах, с водителями и путниками, пристроившимися, кто сидя, а кто лежа, под навесами примитивных харчевен. А вокруг, тут же, громоздились голые скалы, безжизненные камни, слышался вечный шум реки, и ледяным холодом дышали вершины мира. Гуарди Гуэдж стоял и размышлял о насыщенных потоках людей, вынужденных пользоваться этим перевалом между двумя частями вселенной, о волнах, сменявших здесь друг друга, завоевателях прошлого, о полноводных религиозных течениях…
Старику сейчас казалось, что он видел все это своими глазами. Ведь его жизнь началась так давно… Так много он бродил по афганской земле… У воспоминаний его были такие глубокие корни…
Он задумчиво побрел к ближайшей чайхане.
* * *
Там уже находились некоторые из его попутчиков. Первым, самым непоседливым, вечно спешащим, был конюх – высокий, худой, одетый в длинный коричневый халат на подкладке из овечьей шерсти. Одежда выдавала его происхождение. Чапан носили узбеки и туркмены, лихие наездники, населявшие степи на севере Афганистана.
Торопливо вбежав на террасу чайханы, он повел себя там как-то странно. Стал нетерпеливо пробивать себе дорогу между посетителями, не обращая внимания ни на что и ни на кого, буквально наступая на людей, пьющих чай, сидя по-турецки вокруг своих подносов, которые стояли прямо на покрытом истертыми паласами полу. Толкал сидящих на хромоногих табуретах с веревочными сиденьями.
Вслед ему неслись неодобрительные возгласы:
– У, пентюх!
Или:
– Не иначе как свихнулся от высоты.
– Мой мул и тот ступает осторожнее.
Правда, хотя слова были острыми, произносились они довольно благодушно. Всерьез возмутился только один толстый, гладкий мулла. Он пригрозил карами Пророка этому нахалу, чуть не повалившему его наргиле.
А тот, ничего не слушая, продолжал шагать, вытянув шею, чтобы лучше видеть своими напряженно всматривавшимися блестящими раскосыми глазами, примостившимися на скуластом лице. Наконец, возле невысокой стенки, отделявшей террасу от дороги, он увидел то, что искал: чапаны. Таковых оказалось два: один – густо-красного цвета с черными полосами, другой – цвета опавших листьев с зелеными полосами. Люди в этих халатах были уже немолоды. Конюх видел их впервые, но это было не так уж важно. Они были его братьями и по одежде, и по степному образу жизни. Из всей толпы, окружавшей его, где были представлены все уголки афганской земли, только они могли его понять и разделить его чувства.
Чапан густо-красного цвета и чапан цвета опавших листьев потеснились, чтобы уступить место конюху. Он, впрочем, даже не заметил этого.
– Вы в Кабул или оттуда? – поинтересовался он у них.
– Вчера мы выехали из Мазари-Шарифа, – ответил самый коренастый, самый толстый из них.
– Тогда вы не знаете самую важную новость! – воскликнул конюх.
Оба путника в чапанах неторопливо повернули лица в его сторону. В раскосых глазах мелькнуло любопытство, смешанное с беспокойством. Но проявлять эти чувства им мешал их более, чем у конюха, солидный возраст и более высокое, чем у него, положение. Тот из них, который уже удостоил его ответом, спросил ровным, словно сонным голосом:
– Что ты, молодой и к тому же неопытный человек, называешь самой важной новостью?
– Я называю самой важной новостью такую новость, с которой никакая другая и сравниться не может, – сказал конюх.
И хотя он буквально сгорал от нетерпения поделиться всем, что ему было известно, он умолк, чтобы еще несколько секунд насладиться властью человека, знающего великую тайну.
Тут оба путника спросили в один голос:
– Что, неужели в нашу провинцию назначен новый губернатор?
Их собеседник в ответ только покачал головой.
– Может, повысили налог на ткачество? – осведомился тот, который был в чапане цвета опавших листьев, хозяин ковровой мастерской в провинции Меймене.
– Или на выделку каракуля? – переспросил тот, который был в темно-красном чапане и владел отарами тонкорунных овец в степях, окружавших Мазари-Шариф.
– Ну, если бы речь шла только об этом! – ответил конюх.
И, не выдержав, в конце концов он воскликнул, даже не воскликнул, а пропел:
– Слушайте же, слушайте внимательно: могу вам сообщить, что в Кабуле впервые в самое ближайшее время состоится бузкаши.
Конюх не спускал с собеседников глаз. И его надежды оправдались. Оба чапана, сидевшие до того у невысокой стенки с такими неторопливыми жестами и с таким достоинством в речах, вдруг совершенно потеряли самообладание. Рывком вскочив, они закричали одновременно:
– Бузкаши в Кабуле! Ты часом ничего не напутал: в Кабуле будет праздник бузкаши?
– Да еще какой, самый блестящий, самый незабываемый – снова не сказал, а буквально пропел конюх.
– Это у тебя, наверное, просто от горного воздуха голова кругом пошла, – закричал тот, что торговал каракулем.
– Да откуда у этих жителей долин возьмутся нужные кони, да и всадники тоже? – спросил, точнее, прокричал торговец коврами.
На что конюх прокричал еще громче:
– Приедут из наших мест.
От удивления оба купца на секунду потеряли дар речи. А когда попытались снова заговорить, было уже поздно. Их голоса потонули в других голосах.
Обрывки беседы, походившей на спор, резкая и почти непристойная перемена в поведении этих седобородых людей заставили всех встрепенуться от радостного удивления. Три чапана оказались в плотном кольце любопытных. И те, кто сидел за чашкой чая поодаль, тоже побросали свои подносы, чтобы узнать, что же такое случилось. И в соседних чайханах тоже люди повскакивали со своих мест и бежали узнать новости.
В поднявшемся шуме громче всего звучало одно слово «бузкаши… бузкаши». Возникнув на одной террасе и переносясь из уст в уста, оно многократно усиленным эхом повторялось в толпе. При этом большинство путников не знали значения слова: они никогда не бывали севернее горных долин Гиндукуша или таких городов, как Кундуз и Баглан. Поэтому они громко требовали, чтобы им разъяснили, о чем идет речь. Объяснение последовало, передаваемое тоже из уст в уста:
«Игра, да, говорят, игра такая есть, там, у них, в степных районах».
Когда суть новости дошла до всех них, стоящих на холодном пронизывающем ветру, многие испытали горькое разочарование. Стоило вставать с теплых насиженных мест, где их окружали любезные соседи, стоило бросать горячий чай, который теперь наверняка уже остыл! Из-за чего? Из-за игры, в которую играют где-то в далеких, никому не ведомых засушливых степях на севере. Пророк велик! Из-за игры! Как будто им не хватает своих собственных игр и в горных селениях, и в зеленых долинах! Люди из Газни и Кабула, из Кандагара и Хазераджата начали перекликаться.
– Эти бузкаши, про которые нам здесь уши прожужжали, что, разве стоят они наших поединков с шестами?
– Или что, может, они будут покруче боев баранов?
– Разве они такие же жестокие, как у нас бои собак с волками?
– Такие же ужасные, как смертельные поединки верблюдов из-за самок?
– Как бои перепелов, натасканных на то, чтобы раздирать друг другу горло?
Так горцы выражали свой протест. А трое в чапанах и еще несколько присоединившихся к ним северян кричали что есть мочи, пытаясь перекрыть шум:
– Да разве вы можете оценить всю красоту бузкаши?
– Для вас что кляча, что благородный рысак – все едино.
– Даже когда вы оказываетесь в седле, со стороны кажется, будто вы продолжаете ехать на ишаке!
Голоса звучали все громче и громче. Реплики становились оскорбительными. Теперь речь шла уже не об игре, спор теперь затрагивал честь племен, честь провинций.
* * *
Хозяин чайханы со страхом услышал звон раздавленных, разлетающихся на мелкие кусочки побитых пиал, увидел, как из накренившихся самоваров потекли струйки кипятка. Еще немного, и эти безумцы разнесут все в пух и прах. Хозяин стиснул зубы. Это был массивный мужчина с длинными сильными руками и суровым выражением на плоском лице. Но что он один мог сделать при всей своей силе и решительности? Несмотря на троих своих бачи,[2] старшему из которых было только лет пятнадцать!
Он кинулся через толпу на дорогу, чтобы позвать на помощь других чайханщиков и шоферов, своих друзей. И тут увидел того глубокого старика с тощей сумой, которому кузнец помог слезть с последнего грузовика, прибывшего из Кабула.
– Сам Аллах послал его сюда, – воскликнул хозяин чайханы.
И вернулся в орущую толпу. Но понял, что ему не удастся докричаться до них. Роста он был небольшого, а из-за того, что очень долго прожил высоко в горах, голос у него сделался сиплым. Что делать?
Тут к нему пробрался младший из помощников, тринадцатилетний бача, и спросил:
– Что, начинать убирать самовары и посуду?
– Подожди, – остановил его хозяин чайханы. Он поднял мальчика себе на плечи и приказал:
– Будешь повторять во весь голос, но только во весь голос, все, что я тебе скажу.
Бача приложил ладони рупором ко рту и закричал что было силы:
– Остановитесь! Остановитесь! Слушайте! Слушайте!
Детская голова, возвышающаяся над всеми остальными головами, и громкий мальчишеский голос привлекли к себе внимание. На мгновение крики смолкли. Все лица, даже самые негодующие, повернулись к бача. А тот продолжал:
– Зачем так спорить? Я вижу, вижу, как сюда идет тот, кто один, без посторонней помощи, может вас рассудить… Гуарди Гуэдж.
Мальчик помолчал несколько секунд и, набрав в легкие как можно больше воздуха, крикнул изо всех сил:
– Пращур!
В чайхане воцарилась гробовая тишина, и слышен был лишь свист прилетевшего с вершин ветра. И на этот раз тишина возникла отнюдь не от праздного любопытства.
* * *
Должно быть, среди этих людей мало кто встречал в своей жизни старца, мало кто видел его воочию. Но вот имя его слышали все до единого. Из конца в конец земли афганской, из поколения в поколение деды рассказывали внукам о старике и повторяли то, что узнали от него. Ведь не было ни одной деревни, ни одного самого крошечного селения, каким бы отдаленным оно ни было, где бы он не побывал хотя бы один раз. А когда Гуарди Гуэдж посещал какое-либо место, то там его уже больше не забывали.
Бача слез с плеч хозяина. А тот подошел к старику, низко ему поклонился, взял за правую руку и через расступившуюся, словно по мановению волшебной палочки, толпу повел его вглубь террасы. Все с восхищением разглядывали Гуарди Гуэджа.
Сколько лет могло быть этому исхудалому старику с иссохшим, как пергамент, и изрытым морщинами лицом, продвигавшемуся вперед в бесформенной, свисающей широкими складками накидке, опираясь на такого же цвета, как и он, суковатую палку. Этого не знал никто на свете. Откуда он был родом, из какого племени? Ясно было только одно: не из монгольского. Он мог быть родом и из дикого Белуджистана, и из пустынь Систана, и из областей, граничащих с Ираном или с Индией… Он мог быть хазарейцем, пуштуном, таджиком или нуристанцем. Черты иссохшегося лица его были так размыты, так отполированы временем, что невозможно было разглядеть ни признаков расы, ни примет племени. А говорить он мог на любом языке, на любом диалекте, на любом наречии всех провинций. Он не был ни дервишем, ни гуру, ни шаманом. Но, подобно этим посвященным в тайны мудрецам, бродил по путям и дорогам, по тропам и тропинкам просторной афганской земли. Он исходил все долины бурных и шумных горных рек, знал берега Амударьи. Ногам его случалось попирать даже вечные снега Памира, не зря прозванного Крышей мира – человек там ни за что не смог бы выжить без мохнатых яков. А горячий песок пустынь так часто обжигал его босые ступни, что они у него стали черными. Давно ли он ходил вот так? Пожалуй, лишь его стершиеся следы могли бы ответить на этот вопрос. Какая сила вела его? Какая мечта? Мудрость? Фантазия? Вечное беспокойство? Ненасытная жадность до знаний? Он приходил, уходил, вновь появлялся через годы и годы. И везде, где он останавливался, он рассказывал новые чудесные истории. Откуда он черпал все свои знания? Его никогда не видели за книгой. А между тем он, казалось, сохранил в памяти все события многовековой истории Афганистана и имена всех людей, громко прозвучавших в здешних степях, горах и на перевалах. Он говорил о Заратустре, как если бы был его учеником, об Искандере,[3] как если бы следовал за ним от победы к победе, о Балхе, матери всех городов, как если бы был его гражданином, о гекатомбах Чингисхана, как если бы сам был обагрен кровью покоренных народов и похоронен под обломками разрушенных крепостей.
Он рассказывал также и о жизни в наши дни, и тогда образы пастухов и погонщиков верблюдов, чеканщиков по оружию и мастеров ковроткачества, исполнителей на домбре и горшечников из Иссталифа получались у него такими же выпуклыми и яркими, как и легендарные герои и вожди.
Подведя гостя к грубому топчану у стены, хозяин чайханы смиренно произнес:
– Нет у меня ни подушек, ни одеял, чтобы уложить и накрыть тебя, о Пращур… Здесь, на Шибаре, мы очень бедно живем.
Гуарди Гуэдж сел на краешек примитивного ложа, поставил палку перед собой и оперся на нее подбородком.
– Не беспокойся, – успокоил он его тихим голосом. – Мне лишь бы прислонить голову.
Тут в тишине раздался огрубевший и в то же время полный неожиданной нежности голос:
– Знаю, знаю. В тебе ведь веса, как в перепелке, не больше.
И все находившиеся поблизости увидели, как грубое лицо кузнеца покраснело, и от смущения даже его голова как-то втянулась в могучие плечи. Все вокруг засмеялись. А хозяин чайханы посмотрел на Гуарди Гуэджа:
– Они тут чуть не передрались. А теперь вот повеселели. Они уверены, что ты их вразумишь.
От этих слов утихнувшие было страсти вновь разгорелись.
– Не правда ли, о, ты, знающий все, не правда ли, что бузкаши этих крестьян-степняков, игра, о которой мы впервые слышим, ничего не стоит по сравнению с играми наших предков? – кричали одни.
– О, ты, знающий все, не правда ли, что по красоте, мужеству, силе и ловкости участников наш бузкаши, если сравнивать его с развлечениями, которыми хвастаются тут эти невежды-горцы, – это все равно, что сокол перед курами?
И люди с обеих сторон замерли в наивной надежде, что он поддержит именно их мнение. Но на их вопросы он ответил вопросом:
– А почему я должен решать за вас, друзья мои? – спросил он.
И поскольку обескураженная толпа молчала, Гуарди Гуэдж продолжал:
– Каждый имеет право и обязан судить сам. Надо только хорошо знать, о чем судишь. Вот так и с бузкаши. Хотите, я расскажу, а вы послушаете?
Ответом был общий вздох одобрения и благодарности. Разве не сказал он магическое слово? Он расскажет! Это будет его рассказ!
Ведь все же знали, что по возрасту, по своей памяти, по пройденному пути, по мудрости и умению говорить Великому Пращуру не было равных.
Кузнец пробился поближе к старцу и первым уселся у его ног. Затем и остальные тоже, ряд за рядом, уселись внизу. Лишь те, кого не вместила терраса, остались стоять на дороге.
Перед Гуарди Гуэджем образовался своего рода ковер из головных уборов, представляющий все племена и провинции. И под всеми этими чалмами, тюбетейками, меховыми шапками, каракулевыми шапочками кулах на лицах, выдающих самое различное их происхождение, – горцев, жителей долин, степей и пустынь – выражены были общие чувства: ожидание и детское любопытство. Подобно тому, как жаждущий паломник устремляется к источнику влаги, так и все эти люди обратились к старцу, а он всем своим изможденным, лишенным плоти и веса телом аскета ощутил единственное трепетное желание, на какое был еще способен: передать этим трогательно наивным и восхитительно темным людям хоть немного из того, что он знал, дабы каждый из тех, кто его слушал, повторил его рассказ другим, и чтобы те, в свою очередь, передали его от отца к сыну, от соседа к соседу, чтобы все растекалось во времени и пространстве подобно тому, как вода течет, стекаясь и растекаясь по бесчисленным крошечным канальчикам и арыкам, чтобы человек приобщался к вечности, которую несправедливые боги хранили только для себя.
Гуарди Гуэдж выпустил из рук свою дорожную палку (а кузнец с почтением ее подхватил), выпрямил спину и шею и заговорил. Голос его был тонок и слаб. Но доносился он очень далеко, подобно тому, как слышится звон колокольчика из надтреснутого хрусталя.
* * *
Гуарди Гуэдж начал так:
– Пришло это с Чингисханом, – сказал он.
И, словно эхо из глубокого колодца, толпа шепотом ответила:
– Чингиз, Чингиз…
Ибо не было на афганской земле такого затерянного селения, где бы даже самые отсталые и невежественные люди, где бы даже дети не знали этого грозного имени и не испытывали бы при этом суеверного страха, несмотря на то, что столько веков пролетело после походов завоевателя.
– Чингиз, Чингиз… – перешептывались путники.
И ветер Шибара уносил этот шепот к вершинам Гиндукуша.
А Гуарди Гуэдж подумал:
«Вот уж поистине руины великолепных городов, обращенные в безжизненные пустыни плодородные поля, истребленные, вплоть до грудных младенцев, народы, оставляют о покорителях более глубокий след в народной памяти, чем самые благородные, самые гармоничные сооружения… Страх – вот самый надежный хранитель славы».
Взгляд Гуарди Гуэджа упал на группу дорожных рабочих в выгоревших бледно-голубых лохмотьях, группой стоявших у края дороги. Они слушали, опершись на лопаты, которыми с утра до вечера набрасывали в рытвины на дороге гравий, пыль от которого горный ветер разносил вокруг. Это были хазарейцы из племен, ютящихся на суровых плоскогорьях и в тесных ущельях Гиндукуша с той стороны, где солнце садится.
– Чингиз, Чингисхан, – тихо перешептывались слушатели Гуарди Гуэджа.
Дорожные рабочие, те молчали.
«Знают ли эти несчастные, – думал старый рассказчик, – что название их народности имеет монгольские корни и означает „сотня“, и что сотня была у Покорителя мира главной цифрой, которую он всегда держал в голове, когда создавал и исчислял непобедимые свои орды?»
Нищие потомки неумолимых всадников, оставленных когда-то здесь своим предводителем, чтобы они властвовали в этих краях вечно, сейчас смотрели на Гуарди Гуэджа, и он читал на плоских их желтых лицах с узкими раскосыми глазами лишь бесконечное тупое терпение.
Гуарди Гуэдж продолжал:
– Монголы жили в седле и умирали в седле. И когда они играли, они могли предаваться этому тоже только верхом на лошадях. Но всем своим играм, будь то скачки, стрельба из лука на полном скаку, охота с собаками или с соколами, предпочитали они бузкаши. Воины Чингисхана принесли эту игру во все страны, где побывали их кони. И до сих пор, семь веков спустя, она сохранилась на наших северных равнинах такой же, какой была в те древние времена.
Кузнец, сидевший у ног Гуарди Гуэджа, не вытерпел и на правах старой дружбы, установившейся у него в пути с его спутником, воскликнул:
– Так расскажи же нам, наконец, о Пращур, в чем заключается эта игра!
И вся толпа, приободренная этими словами, стала просить Гуарди Гуэджа: —Да, да, расскажи!
– Прежде всего, закройте глаза, – отвечал старец.
Кузнец, удивленный, заколебался. Гуарди Гуэдж прикрыл ему веки одной из своих сандалий и потребовал от всех:
– И вы тоже, друзья мои!
Когда все глаза перед ним были закрыты, голос старого рассказчика, подобный звону колокольчика из треснувшего хрустального бокала, зазвучал еще громче:
– Приготовьтесь сделать усилие. Усилие над собой. Я хочу, о, люди, никогда не покидавшие склонов и тенистых ущелий гор, я хочу показать вашему умственному взору великие степи Севера.
По интенсивной серьезности лиц с закрытыми глазами Гуарди Гуэдж видел, что они безраздельно отдаются ему.
– Хорошо, – сказал он. – Сейчас вы будете думать о долине. Но о такой долине, какую никто из вас не видел никогда в жизни… О более широкой и длинной долине, чем самая длинная и самая широкая из всех долин, по которым вам когда-либо довелось ездить.
Послышались голоса людей, будто потерявших над собой контроль:
– Более длинная и более широкая, чем долина Газни?
– Чем Джелалабадская долина?
– Чем Кохистан?
Гуарди Гуэдж отвечал:
– В сто раз более широкая и более длинная.
И закричал:
– А теперь, друзья мои, за работу: раздвиньте, опрокиньте все скалы и стены гор… Слева и справа, спереди и сзади… Толкайте… еще толкайте… Дальше… все дальше… Ведь огни удаляются, уменьшаются, не так ли? Исчезают… Падают… Их больше нет.
– И в самом деле, и в самом деле, – шептали люди в толпе… Нет больше ничего!
– Не открывайте глаза, – приказал Гуарди Гуэдж. – А теперь внутренним взором посмотрите на эту долину, бесконечную, бескрайнюю, плоскую, голую, свободную от всяких препятствий, с небом в качестве единственной границы со всех сторон.
– Видим, видим! – кричали люди, словно в экстазе, не открывая глаз.
– И там, – продолжал Гуарди Гуэдж, – до самого края земли раскинулся ковер из трав, и, когда дует ветер, то он доносит оттуда горький запах полыни. Самый быстроногий конь может галопом скакать до тех пор, пока не упадет от усталости, и самая проворная птица может лететь, пока силы не иссякнут в крыльях ее. И все время они будут видеть одну только степь, только всё травы, травы, травы с их полынным духом.
Гуарди Гуэдж тяжко вздохнул и тихим, усталым голосом, похожим на шелест птичьего крыла, проговорил:
– Такова степь.
– Степь, – повторили взволнованными голосами люди.
Громче других воскликнули люди в чапанах. И вовсе не из-за гордости за свой край. А потому, что поразились тому, как Гуарди Гуэдж открыл им глаза на красоту их земли, которую они, привыкнув к ней, разучились замечать. А когда они открыли глаза, то поразились, что их окружают и подавляют нависшие над ними каменные глыбы, подобные гигантским и мрачным тюремщикам. И такое же удивление испытали и остальные путники, даже те, которые прожили среди этих гор всю свою жизнь.
Гуарди Гуэдж не дал им времени забыть только что увиденную ими картину. Он сказал:
– Да, такова степь, прародительница бузкаши. Во всей вселенной только у нее такое обширное чрево, чтобы вынашивать и вскармливать всех людей и всю свою живность.
– Расскажи им про наших коней! – крикнул конюх.
– Не все они крылатые, словно птицы, – отвечал Гуарди Гуэдж. – Но богачи на Севере, которых там зовут ханами или баями, выращивают и дрессируют коней, предназначенных исключительно для особо важных игр. Они, эти кони, прекрасны, как принцы, быстролетны, как стрелы, отважны, как самые лютые волки, умны и послушны, как самые преданные собаки. Им не страшны ни ледяной холод, ни зной, и они могут скакать галопом с утра до вечера без остановки.
– Есть там такие, что стоят сто тысяч афганей! – воскликнул конюх.
– Сто тысяч афганей… – повторили недоверчиво путники (для большинства из них эта сумма превышала весь их жизненный заработок)… – Сто тысяч афганей… не может быть!
– И, тем не менее, это правда, – подтвердил Гуарди Гуэдж. А чтобы оседлать таких коней, нужны чопендозы — всадники исключительно высокой выучки.
– Да еще и не всякий может стать чопендозом, – крикнул конюх. – Они должны пройти сотни и сотни бузкаши, и из тысяч и тысяч участников должен выделяться кто-то один. Но и этого мало. Когда участник становится знаменитым во всех трех провинциях, собираются самые старые, самые строгие чопендозы. И кандидат проходит испытания перед ними. И вот только тогда, если они сочтут, что все прошло хорошо, он получит право на гордое звание и на шапку из лисьего или волчьего меха. Тогда какой-нибудь хан или бай возьмет его к себе на службу. У него не будет других обязанностей, кроме как участвовать в бузкаши. И зарабатывать он будет за это около ста тысяч афганей в год.
– И это тоже правда, – снова подтвердил Гуарди Гуэдж.
– Сколько денег… Сколько денег…
Шепот был печальным, как вздох, и болезненным, как жалоба.
– Сколько денег… сколько денег… – шепотом переговаривались в толпе.
– А вот в чем состоит игра, – сказал Гуарди Гуэдж. – В стаде выбирают козла. Забивают его. Потом отрубают голову. Чтобы сделать тушу тяжелее, ее набивают песком и заливают водой. Ну и кладут в небольшую яму, совсем неглубокую, чтобы шерсть была на уровне земли. А недалеко от ямки обводится негашеной известью небольшой круг. Называется этот круг Халлал, что на туркменском языке означает Круг справедливости. Справа от круга, где-нибудь в степи, вкапывается высокая мачта. И слева, на таком же расстоянии, – еще одна, такая же. Расстояние может быть разным. Оно может равняться расстоянию, необходимому, чтобы поскакать галопом за час или за три, или за пять часов. Судьи каждого бузкаши по своему усмотрению решают, каким должно быть расстояние.
Старый рассказчик окинул взглядом толпу и продолжал:
– Итак… Яма, а в ней туша козла… Неподалеку – круг, обведенный известью. А вдалеке, иногда очень далеко друг от друга – мачты… Всадники собираются возле туши.
– Сколько? – спросил кузнец.
– Когда как, – ответил Гуарди Гуэдж. – Иногда десять, иногда пятьдесят, а иногда и несколько сотен. По сигналу судьи все накидываются на обезглавленную тушу. Кто-то ее выхватывает и мчится прочь. Остальные устремляются за ним в погоню, а он направляется к той мачте, которая находится справа. Туша сначала должна быть доставлена туда, чтобы всадник обогнул мачту, потом проскакал с тушей к левой мачте и, наконец, доставил ее в Халлал. Победителем становится тот, чья рука швырнет обезглавленного козла в центр белого круга. Но этому предшествует столько схваток, столько погонь, нападений, скачек и потасовок! Разрешаются любые удары. За несколько часов туша много раз переходит из рук в руки, из седла в седло, огибает обе мачты и устремляется к цели. В конце концов ею завладевает кто-нибудь из участников, выхватывает козла, ускользает от последних противников или опрокидывает их, скачет во всю прыть с тушей в руках, подлетает к белому кругу, потрясает тем, что от нее осталось, и…
– Голос рассказчика потонул в улюлюканье.
В резком, оглушительном улюлюканье, диком, безумном, родившемся в бескрайних ковыльных степях и заполнившем небо и землю пронзительным сумасшествием.
– Халлал! Халлал! – кричал конюх.
– Халлал! Халлал! – отвечали люди в чапанах.
А поскольку скалы и ущелья Шибара возвращали эти крики в виде тысячекратно усиленных откликов, горные демоны еще долго-долго повторяли:
– Халлал! Халлал!
Когда они наконец умолкли, наступила удивительная тишина. И тогда Гуарди Гуэдж сказал:
– Такая вот игра, друзья мои, была привезена Чингисханом. Теперь вы знаете, что это такое.
– Благодаря тебе, знающий всё Пращур! – закричала толпа.
Диссонансом в этом хоре похвал прозвучал только один возмущенный и вместе с тем как бы жалующийся голос, голос человека, сидевшего у самых ног Гуарди Гуэджа.
– А какой же мне толк, дедушка, знать правила такой прекрасной игры, если я никогда ее не увижу.
– И то верно… В самом деле… Этот кузнец правильно говорит.
Так ворчали жители горных долин и селений высокогорья, составлявшие почти всю толпу. И они стали вставать один за другим, задумчивые и как бы отрезвевшие, – тем более что водители грузовиков подавали знаки, что пора трогаться в путь. Но Гуарди Гуэдж поднял палку, чтобы задержать их еще ненадолго и сказал:
– Никто из смертных не имеет права сказать «всегда», но никто не может сказать и «никогда». И вот еще одно тому доказательство: впервые с незапамятных времен состязания бузкаши будут проведены по ту сторону Гиндукуша, в окрестностях нашей столицы, Кабула.
Шоферы перестали сзывать пассажиров, а те застыли в тех позах, в каких застали их слова Гуарди Гуэджа, стоящими кто на коленях, кто в полусогнутом состоянии.
Они спрашивали:
– Как?
– Почему?
– Когда?
– Потому, – отвечал старик, – что властелин земли афганской Мухаммед Захир-шах повелел, чтобы отныне каждый год в день рождения короля, в месяце мизане,[4] лучшие участники бузкаши приезжали бы на самых прекрасных степных скакунах соревноваться в Баграм, рядом со столицей.
– В месяце мизане!
– В ближайший мизан!
– Я поеду смотреть!
– И я поеду!
– Пусть мне даже для этого придется продать мою последнюю овцу!
– Последний мой инструмент!
– Чадру моей жены!
Уже рычали моторы, уже путники взобрались на грузовики, а крики все продолжались и продолжались.
* * *
Кузнец сообщил Гуарди Гуэджу:
– Деревня, где женится мой брат, стоит в стороне от дороги. Так что я пойду туда пешком. А ты, дедушка?
– А я продолжу свой путь, – посмотрел на него Гуарди Гуэдж.
– А куда же он лежит? – спросил кузнец.
– В степи, – отвечал Гуарди Гуэдж. – К тем, кто проводит бузкаши. Решение короля изменит не одну жизнь.
– Ну и что из этого? – опять спросил кузнец.
– Тому, кто знает много историй из прошлого, доставляет большое удовольствие, когда ему удается увидеть, как рождаются новые истории, – сказал Пращур.
Часть первая КОРОЛЕВСКИЙ БУЗКАШИ
I ТУРСУН
Заря еще только едва-едва занималась в этой части прилегающей к русской границе провинции Меймене на севере Афганистана.
Старый Турсун лежал на спине, которая у него была такая широкая, что она занимала всю ширину чарпая, деревянного топчана. Он и сам походил на большую деревянную наспех отесанную колоду.
Он уже привык к тому, что по утрам его тело отказывалось сделать малейшее движение, даже самое простое и легкое. Привык к такому ощущению, будто все суставы у него, от ступней до самой шеи, закованы в кандалы, опутаны железными цепями. А кожа его, ороговевшая и словно уже мертвая, не чувствовала ни грубой поверхности, ни веса покрывавшей его ткани.
А потом – неизвестно, как и почему? – постепенно кожа начинала распознавать тепло и швы на мешке, набитом хлопком и служившем матрасом, а под ним – веревочную сетку, натянутую на шершавой деревянной раме. А потом – опять же неизвестно, как и почему? – сустав за суставом, звено за звеном, цепи и кандалы, сковывавшие его, расслаблялись и распадались. Тяжелая, могучая, узловатая, застывшая масса мускулов и костей начинала оживать.
И старый Турсун ждал, ждал, когда тело его соблаговолит начать вновь ему подчиняться. При этом он не испытывал ни нетерпения, ни огорчения. По-настоящему сильный человек должен равнодушно воспринимать невзгоды, с которыми невозможно справиться. Старость, а затем и смерть – вещи неизбежные, не так ли?
Постепенно, как и прежде, каждое утро, но с каждым утром все позднее и позднее, наступил момент, когда старый Турсун почувствовал, что он опять, и на этот раз тоже, владеет всем своим телом. Тогда он медленно положил на края топчана огромные свои мозолистые руки, изборожденные морщинами и напоминающие бугристые корни столетнего дерева, оперся на них и сел. Сидел не долго, ровно столько, сколько нужно, чтобы проверить, как чувствует себя поясница. Боль была обычной по утрам – но с каждым утром все более сильной, все более острой. Турсун тяжело наклонился набок и опустил на глинобитный красноватый пол сперва левую, а потом и правую ногу.
У изголовья чарпая стояли две тяжелые грубые трости. Турсун взял их, и их рукоятки исчезли в его массивных ладонях. Прежде чем воспользоваться ими как рычагами, Турсун сделал минутную передышку. Тут надо было подумать о предстоящей, пронзительной и одновременно обжигающей боли в коленках: эта операция становилась с каждым утром все мучительнее. Причем испытание это надо было выдержать беззвучно, без гримасы, не моргнув глазом. Неважно, что Турсун находился в четырех стенах один. Для него важен был один-единственный свидетель: он сам.
Наконец, он оперся на две трости и встал. На нем была длинная рубаха. В комнате, кроме чарпая, стоял только низенький стол. Турсун сделал два шага, бросил на только что оставленную постель одну палку, продвинулся вперед еще немного и бросил вторую. Туловище находилось в вертикальном положении, сохраняло равновесие и не нуждалось в подпорках. Он почувствовал, как ровно течет кровь в жилах, согревая тело и размягчая суставы. Оделся. Сначала надел чапан, облачивший его всего от шеи и до пят, старый изношенный и потертый настолько, что черные полосы стали уже почти неразличимы на сероватом фоне, таком привычном для Турсуна, что он казался ему его второй кожей. Полы чапана он стянул, как кушаком, скрученным куском ткани. Ноги сунул в бабуши из твердой кожи с заостренными и загнутыми вверх, будто клювы хищных птиц, носками.
Однако самое трудное было впереди: обмотать чалму так, чтобы она выглядела достойной его ранга, его возраста и его репутации. Для этого руки приходилось поднимать высоко вверх и в таком положении работать. За пыткой, которой подвергались поясница и колени, следовала пытка для плеч.
Разумеется, старый Турсун мог избежать всех этих мучений – и он не сомневался в этом, – стоило ему только крикнуть. Бача, спавший на полу перед его дверью, тут же прибежал бы и с гордостью одел бы его. Был он почти еще ребенком, но любой – в имении и в окрестностях – любой взрослый и сильный, заслуженный человек, любой счел бы тоже за честь оказать ему эту простую услугу. Помочь такому лицу, как Турсун, значило бы не унизиться, значило бы через этот обыденный жест снискать себе почет. Все это знали, и он сам – в первую очередь.
Но старый Турсун знал также, что право на знаки уважения и на готовность услужить подтверждает подлинную силу и величие лишь в том случае, если человек может без этого обойтись.
Один и тот же чапан, верблюд или каракульский баран, преподнесенный богатому господину, является знаком внимания и почета, а подаренный бедняку – становится милостыней, подачкой.
Чем больше Турсун терял силу, тем резче отвергал он всякую помощь. Он не хотел стать попрошайкой. Причем не только из чувства собственного достоинства. Срабатывала и его проницательность. Ведь истинно мудрый человек должен точно знать свои возможности, особенно если они все время уменьшаются!
И каждый день Турсун проверял их истинную меру через испытания, которым он их подвергал, выжимая из них все, что только можно.
Вот почему, несмотря на боль в плечах, в шее и кистях рук, тяжелые, раздувшиеся потрескавшиеся пальцы Турсуна по многу раз завязывали, развязывали и вновь завязывали чалму, пока она не принимала великолепную форму диадемы и гибкость лианы, обвившейся вокруг самой себя.
В комнате не было зеркала. С тех пор как Турсун почувствовал себя зрелым мужчиной, он больше никогда не пользовался этим предметом. Женщинам и детям дозволено сколько угодно любоваться своими гримасами. Мужское же лицо остается как бы испачканным после такого нечестивого раздвоения. Только вода, над которой он склонялся, чтобы попить, была достойна отразить облик мужчины. Вода утоляла жажду и была творением Бога.
Головной убор приобрел, наконец, ту нужную форму и ту изящную волнистость, которые требовались. Турсун медленно опустил руки, и они повисли по бокам туловища. Оставалось сделать последнее движение, чтобы достойно начать день, и этот жест был как бы платой за все муки и освящением всех трудов, благодаря которым он, ценой стольких усилий, привел в подобающий порядок, а затем облачил свое заржавевшее, непослушное тело. Он взял плетку, лежавшую на постели в том месте, где она пролежала всю ночь, рядом с его щекой, и засунул ее за пояс.
Короткая ручка заканчивалась металлическим шарниром, обеспечивавшим хлысту и полную свободу, и резкость удара. А сам хлыст был сделан из плотно сплетенных сыромятных ремней со свинцовыми шариками на каждом конце. Нагайка так давно служила Турсуну в разных скачках, гонках, играх, бесчисленных стычках и раскроила так много всяких морд и физиономий, что буквально насквозь пропиталась потом и кровью, как человеческой, так и звериной, отполировалась и блестела, будто лакированная.
Турсун направился к двери. Походка его была, конечно, тяжелой, но уверенной. Опирался он только на одну палку, причем так, чтобы та выглядела даже не помощницей, а атрибутом величия. А прижатая к халату плеть при каждом движении извивалась, как живая.
Стариком на грани бессилия Турсун был лишь в четырех стенах своего жилища. За порогом же его это был, как всегда, сильный и внушительный Главный Конюший, отвечающий за всех лошадей.
* * *
Дверь перед Турсуном раскрылась словно сама собой, и Рахим, его бача, отступил, пятясь, чтобы пропустить хозяина. Худенькое личико мальчугана было еще заспанным, а дырявый чапан — весь в пыли, так как спал он прямо на красноватой земле. Но он был уже на ногах, готовый выполнять свои обязанности, и держал в руках глиняный кувшин с водой для омовения.
Старому Турсуну стоило лишь сказать, и он имел бы все многочисленные удобства и даже роскошь, какими пользовались другие важные люди в имении: управляющий, главный садовник, агроном. Они находились на службе у самого зажиточного в провинции бая, и тот демонстрировал по отношению к ним щедрость, соответствующую его богатству. Турсун был среди них старшим и по возрасту, и по сроку службы, да и распоряжался он самым благородным из всех достояний имения: лошадьми.
Но разве чистота воды зависит от стоимости сосуда, в который она заключена? Так что зачем загружать комнату душными толстыми коврами, обоями и шпалерами, пыльными подушками, коль скоро всем видам сидений он всегда предпочитал седло?
Турсун посмотрел на слугу. Шея Рахима и кувшин в его руках были наклонены под одним углом, и было в этой позе нечто благородное и нежное. Турсун опять на мгновение приостановил свои движения, но теперь уже не из-за своей слабости, а из желания полюбоваться этой гармонией. Готовая политься вниз вода в кувшине трепетала у самого горлышка, и он подумал:
«Рахим держит грубый кувшин, словно это драгоценный сосуд, сделанный кем-нибудь из самаркандских мастеров, или ваза тончайшего персидского фаянса. В отличие от многих взрослых, для этого подростка ценен не столько материал, из которого изготовлен предмет, сколько его назначение…»
И еще Турсун подумал, что такой же расторопности, точности движений и покорности можно было бы добиться от любого слуги с помощью плетки, – и Рахим испытал это на себе, как и многие до него. Но вот такого слияния тела и души не добьешься никаким наказанием, даже самым тяжелым.
Турсун протянул к кувшину свои огромные старые ладони. На них полилась вода, еще холодная от ночной свежести. Турсун смочил ею щеки, покрытые короткой седой бородой, жесткой, как кабанья щетина, а затем вытер лицо краем своего длинного кушака.
Веки его остались еще на несколько мгновений прикрытыми. И эти несколько мгновений образ хозяина целиком принадлежал Рахиму и его изумленному вниманию. В том мире, в котором жил бача, никто не мог сравниться с Турсуном. Ни у кого не было такого внушительного торса, таких широких ладоней, такого величественного чела. Ни у кого другого плоть не несла на себе столько отметин славы, как у него: перешибленный нос, сломанная надбровная дуга, перемежающаяся с морщинами, рубцы и шрамы, разбитые кисти рук и вывихнутые колени. Каждая рана была свидетельницей боя, гонки, победы кентавра, о которых из уст в уста передавали легенды пастухи, конюхи, садовники и мастеровые. Для ребенка сказки не имеют возраста. В глазах Рахима старость Турсуна ничего не значила. Герой, кумир живут вне времени.
Когда Турсун открыл свои раскосые глаза, они выражали неколебимую энергию и вызов. У него было ощущение, что годы не властны над ним, что колени его по-прежнему способны сломать ребра чересчур ретивого коня, что рука его по-прежнему в состоянии на полном скаку вырвать у стаи разъяренных всадников тушу козла, этот самый ценный трофей в глазах всех участников игр, да и вообще всех жителей степного края.
«Ну вот, немного свежей воды, и все в порядке», – подумал Турсун.
На самом же деле – но ни тот, ни другой об этом не догадывались – такова была способность наивных глаз, которыми бача смотрел на хозяина и в которых Турсун, словно в волшебном зеркале, увидел свою нерастраченную и почти бессмертную силу.
* * *
Когда они вышли из дома, краешек солнца на востоке уже выглянул из-за горизонта. Свет, не встречавший на плоской земле никаких препятствий, ровной волной разливался по степи. Турсун и бача повернулись в ту сторону, где за горами, долинами и пустынями находилась Мекка. Был час первой молитвы, когда чистота утренней зари становится залогом удачного дня. Рахим легко опустился на колени и коснулся головой земли. Принять такую же позу Турсуну стоило бы много времени и неимоверных усилий. Старик остался стоять и лишь склонил, насколько мог, голову в тюрбане, опершись обеими руками на посох.
Но величие и мощь плеч, шеи и головы Турсуна, согнутых невидимой силой, были таковы, что, по сравнению с этим простым поклоном, преисполненным веры и смирения, телодвижения распростертого юноши выглядели детской игрой.
Правда, для Рахима главное было не столько молиться, сколько молиться вместе с Турсуном у его ног, угадывая в высоте над собой склонившуюся, будто могучее древо, массу и габариты, повторять ритуальные слова, нараспев произнесенные его тихим низким голосом, разделять святую славу этого утра с самым прославленным чопендозом во всем степном краю.
Конечно, другие слуги, работавшие на кухне, в комнатах, в саду, на конюшнях или при стадах, имели кое-какие привилегии по сравнению с Рахимом, – им перепадало больше еды, да и свободы у них было побольше. Но зато с какой нескрываемой завистью смотрели они на Рахима, когда он передавал им – или придумывал – рассказы Турсуна.
Старик постепенно вывел из состояния неподвижности суставы, поднял голову, выпрямил шею, расправил плечи. Рахим мгновенно вскочил на ноги с криком:
– Этот день будет хорошим.
И на его худом лице с приплюснутым носом и сверкающими, как ягоды граната, глазами было написано:
«Хорошим день будет потому, что мне выпало счастье начать его с тобой, о великий Турсун».
Старик медленно проговорил:
– Время года такое.
Жаркая пора миновала. В степи воцарилась сухая, пронизанная нежарким светом осень.
Опираясь на посох, с величественно вздымающейся вверх чалмой, Турсун стоял, щиколотками ощущая приятную свежесть росистой травы, подставив спину первым лучам солнца и жадно вдыхая расширяющимися ноздрями и всей своей широкой грудью чистый воздух, еще не запыленный ни южным ветром из пустынь, ни проходящими мимо стадами, ни быстро скачущими всадниками.
Вокруг него простирались земли имения – пастбища, огороды, цветники и сады, орошаемые благословенной, журчащей в арыках водой. Дальше простирались во все стороны зеленые рощи.
Однако раскосые монгольские глаза Турсуна, глубоко запрятанные в глазницы и прикрытые мохнатыми бровями, видели, вспоминали и дорисовывали за этой листвой бескрайнюю равнину, по которой он так много скакал.
Меймене, Мазари-Шариф, Каттаган.
Первая из этих провинций, родная провинция Турсуна, начиналась у иранской границы, а последняя упиралась в отроги Памира, и жители каждой из них хвалились, что у них – самый лучший каракуль, самые красивые ковры, самые прекрасные скакуны. Все эти люди были одной крови. Их предки пришли в одних и тех же ордах завоевателей из нагорий Центральной Азии.
Они говорили на одном и том же языке. Дети их учились ездить верхом тогда же, когда учились ходить.
Меймене, Мазари-Шариф, Каттаган.
Эта земля с ее невысокими рыжими холмами, где редкие немноговодные реки испокон веков определяли, где быть земледелию и где быть поселениям, являлась единственной родиной Турсуна.
Конечно, на юге, если по перевалам, соседствующим с небом, преодолеть эту колоссальную преграду Гиндукуш, то там тоже продолжался Афганистан. Но Турсун, сын степей, знал и признавал только степь. За Гиндукушем, как ему говорили, начинается странный, чуждый мир высоких плоскогорий и головокружительных вершин. Люди там ходят не в чапанах, носят длинные волосы и говорят на другом языке. Оттуда приезжали губернаторы провинций, чиновники, офицеры, писаря – люди, выглядевшие в седле, как какие-нибудь деревянные колы или набитые чем-то мешки.
И вот там-то, через несколько часов, Уроз…
Турсун сжал узловатыми своими руками ручку трости. Он запретил себе думать о предстоящей поездке своего сына Уроза в Кабул.
До сей минуты это удавалось ему без труда. Преодоление сопротивления собственных конечностей и одежды, омовение и молитва заполняли все его мгновения. Но вот первая передышка, а с ней…
– Не в ту сторону посмотрел, – подумалось Турсуну.
И он резким движением повернулся на север, да так неожиданно, что худенькое подвижное лицо отрока-слуги вытянулось от удивления. Турсуну сразу стало легче. В ту сторону родная степь простиралась без края, до бесконечности.
Недалеко, в двух часах быстрой езды на лошади, текла степная река Амударья. За ней начиналась русская земля. Но по обе стороны реки была одинаковая равнина, в воздухе висела одинаковая пыль летом и лежал одинаковый снег зимой, а весной расцветали одни и те же цветы, колыхались одинаковые высокие травы. И у людей по обе стороны реки были одинакового шафранового цвета лица, раскосые глаза, и все они считали, что не существует на земле большей ценности, чем дар божий, каковым является прекрасный конь.
Все это Турсун видел сам, когда в молодости сопровождал отца в поездке за Амударью. В те времена там правили эмир бухарский и хан хивинский, подчинявшиеся, правда, великому северному царю. В ту пору доступ туда для людей одной веры и одной крови был свободен…
А какие там мечети, какие базары в Ташкенте и Самарканде!
Какие ослепительные ткани, сверкающие шелка, чеканное серебро, драгоценное оружие!
Толстые, потрескавшиеся губы Турсуна, невольно растянувшись в полуулыбку, повторяли выученные тогда слова. А ведь с тех пор прошло тридцать лет, да еще случилась какая-то удивительная революция, которая все перевернула на том берегу реки и наглухо перекрыла мосты и броды.
– Хлеб… Земля… Вода… Лошадь… – тихо повторял старец русские слова.
Рахим угадывал смысл этих слогов, распознавая их рисунок на губах Турсуна, и мысленно переводил их.
Ведь Турсун часто рассказывал слуге свои воспоминания, – так они получались более яркими. И эти рассказы бача предпочитал остальным. В них говорилось о стране, такой близкой и вместе с тем чудесной, доступ к которой по обе стороны Амударьи надежно охраняли грозные солдаты. И он часто старался заставить Турсуна вернуться к тем воспоминаниям, задавая ему вроде бы наивные, но подсказанные лукавой надеждой вопросы.
В то утро бача мог не прибегать к подобной хитрости. Турсун сам заговорил, да еще как заговорил. Ему тоже хотелось отвлечься от настоящего.
В который уже раз, пока солнце подымалось над степью, Турсун рассказывал – прежде всего для самого себя – рассказывал, глядя поверх головы ребенка, худощавого, тщедушного, болезненного отрока, закрывшего глаза, чтобы лучше запоминать то, что рассказывал старец: про киргизские караваны, про татарские базары, про воинственные танцы, про ханские дворцы и сады, про самые прекрасные в сердце Азии, самые богатые оазисы.
Однако когда Турсун умолк, а сегодняшний рассказ был длиннее обычного, у маленького слуги возникло ощущение, будто он что-то недополучил. Турсун поговорил обо всем, кроме главного. Рахим выдержал паузу из вежливости, а также, чтобы убедиться, что Турсун действительно закончил свой рассказ.
Только после этого он своим тоненьким, самым что ни на есть невинным голоском, спросил:
– А бузкаши, о великий Турсун?
Старик только сделал движение вперед подбородком и сдвинул брови. Этого оказалось достаточным, чтобы лицо его приняло выражение просто неумолимой жестокости. Рахим отлично знал это выражение. Он с ужасом подумал: «В чем я провинился? Ведь о бузкаши он любит говорить больше всего на свете».
И в голове мальчика пронеслись образы, навеянные прежними рассказами Турсуна. А тот-то не просто видел эти картины. Ведь жеребец, который рассекал плотное скопление коней и людей, сбившихся в единую массу, который опрокидывал тех и других, кусал, расталкивал и топтал, был его конем. А всадник на нем, скакавший галопом на одном стремени, всем телом откинувшийся набок, чтобы подлететь к другому такому же демону в седле и вырвать на скаку тушу козла, не кто иной, как он сам. И победитель, швырявший трофей в круг, тоже был он сам, великий, самый великий из чопендозов.
Но это воспоминание отнюдь не успокаивало Турсуна, а, напротив, удваивало его ярость. Ему было ненавистно личико, с наивным страхом спрашивавшее: «Почему? О, почему?» Ответа он не мог дать никому.
Он поднял свой чудовищный кулак, чтобы уничтожить вопрос прямо на лице бачи.
Рахим не отшатнулся, не моргнул даже глазом. В великом Турсуне он читал все, в том числе и несправедливость.
И старик прочел это в глазах отрока. Он уронил занесенную было руку, узловатую, похожу на булаву длань, и резко, с места в карьер, зашагал прочь своей тяжелой походкой. После нескольких шагов он, не оборачиваясь и не останавливаясь, приказал:
– Иди за мной!
II БЕШЕНЫЙ КОНЬ
Они прошли через все двенадцать загонов, разделенных невысокими глинобитными стенками с соединяющими их узкими проходами. Все двенадцать были одинаковыми четырехугольниками с голой, потрескавшейся от жары землей под ногами, горячей даже сейчас, ранним утром, когда солнце еще не добралось до зенита. В каждом углу загона стояла оседланная лошадь, только что выведенная из конюшни и привязанная на коротком поводке к столбику.
Все они были ослепительно красивы, просто невероятно красивы. Их длинные, густые гривы были тщательно расчесаны, и их шерсть сверкала, как шелковая. Могучие высокие холки, широкие выпуклые груди, мускулистые, красиво изогнутые шеи выдавали редкую силу, выносливость и пылкое упорство.
Всего в этих загонах стояло сорок восемь скакунов – вороных, гнедых, рыжих, белых – по четыре в каждом.
Нетрудно было понять, что Осман-бай, которому принадлежало поместье, был богатейшим в провинции Меймене человеком, коль скоро он мог только ради славы своей собрать, вырастить и содержать столько лошадей, да еще таких прекрасных. Единственное их предназначение состояло в том, чтобы участвовать в бузкаши, из которых многие возвращались ранеными и искалеченными.
Истинным и всеми признанным хозяином этих ханских конюшен был Турсун. И когда кони Осман-бая одерживали победы, честь воздавалась прежде всего Главному Конюшему.
И это было справедливо: богач давал лишь деньги. А всем остальным занимался Турсун. Он ведал покупкой жеребят. Он же принимал решение о случках. Следил за кормом, за подстилкой. Руководил обучением, тренировками, дрессировкой. Решал, когда допускать коня к первой игре. Ездил с ними, исправлял недостатки, развивал таланты. Лечил раны и переломы. А если благородного коня в схватке безнадежно калечили, он сам, своей рукой, с должным уважением убивал его.
Турсун знал сильные и слабые стороны не только всех лошадей Осман-бая, но и всех всадников, нанимаемых им для игр. Все сопоставляя, взвешивая способности тех и других, он назначал, он соединял всадников и коней так, чтобы сочетание их было ближе всего к совершенству.
Переходя из загона в загон, Турсун совершил, как он делал это каждый день, доскональный осмотр одного за другим всех сорока восьми коней. Перед каждым подолгу останавливался. Конюхи и слуги участвовали в осмотре, соблюдая почтительное, как бы даже суеверное, молчание. Они понимали значимость этого обхода.
В конце весны, из-за усталости коней и наступающего зноя, сезон бузкаши заканчивался, чтобы затем возобновиться по осени. За это время Турсуну надо было исправить сухожилия, мышцы, кровь и даже костный мозг животных, измученных и побитых за месяцы изнурительных боев.
Сначала лошадям давали полный покой. Их не выводили из просторных, проветриваемых и светлых конюшен, пол в которых для мягкости ежедневно посыпался свежей смесью песка с сухим навозом. Ночью коней кормили ячменем и овсом. А днем им давали особую смесь из сырых яиц и кусочков сливочного масла.
Они быстро восстанавливали силы, но в то же время тучнели, становились слишком тяжелыми. Тогда их подвергали испытанию под названием кантор. Коней седлали, взнуздывали и заставляли стоять летом по нескольку недель, с рассвета до заката, привязанными по углам открытых загонов, где от жары и от света воздух накалялся, как на пожаре. Солнечные лучи сжигали жир, пропитывали зноем мускулы и нервы, приучали к терпению, к страданиям.
Была середина осени. В то утро Турсуну предстояло принять решение.
Пока он переходил из загона в загон, за ним образовался хвост по крайней мере из десятка человек. Одеты они были, как и прислуга конюшен, в видавшие виды, выцветшие на солнце чапаны из дешевой ткани, обуты в старые стоптанные башмаки из грубой кожи, но за поясом у каждого торчала, как у Турсуна, нагайка, сплетенная из коротких твердых ремешков, и головными уборами им служили не грязные, бесформенные тряпки, как у других, а надвинутые едва ли не на самые брови круглые шапки, верх у которых был из каракуля, а края – из лисьего или волчьего меха.
Рахим смотрел, не отрываясь, на эти шапки, пахнущие диким зверем, подчеркивавшие грубые черты скуластых лиц узбеков и туркменов, узкий разрез их глаз. Право носить такие шапки имели только чопендозы, получившие от строгих судей этот титул за мастерство в бузкаши.
– Ты знаешь, как их зовут? – спросил Рахим у конюшенного слуги, оказавшегося рядом.
– Как же не знать? – отвечал тот с гордостью. – Я всегда вижу их, когда они приходят за лошадью для тренировки и приводят ее обратно. Вот этого зовут Ялвач… а этого Бури…
– Ялвач… Бури… – повторил Рахим дрожащим от волнения голосом.
Как и все мальчишки его возраста, он видел уже много бузкаши. Но то были деревенские развлечения любителей, скакавших на первых попавшихся лошадях. Тогда как чопендозы участвовали в играх высокого класса, соревнуясь между собой или защищая честь своей провинции.
Зрители, побывавшие на таких памятных встречах, по возвращении домой только и говорили об их славных подвигах. Их соседи пересказывали затем их рассказы другим, непременно добавляя что-нибудь от себя. Передаваемые из уст в уста на базарах и в чайханах, на дорогах и на узких тропах рассказы разлетались по округе, превращались в легенды. До самых отдаленных юрт долетала слава выдающихся наездников.
Так что и Рахим знал их имена, как знали их все слуги в имении, подпаски и поварята, мойщики посуды и ученики столяров, подмастерья-кузнецы и помощники садовников. Но эти имена принадлежали недосягаемым существам. И вдруг…
– Это вот Менгу… – говорил конюшенный слуга. – А вот это Музук…
– Менгу… Музук! – повторял бача.
И при каждом его вздохе жалкого маленького уборщика навоза все больше и больше распирало от гордости. Ведь он, как и они, служил на конюшне Осман-бая.
– Вот видишь, бача, – сказал слуга в заключение, – у нас и кони самые красивые, и чопендозы самые лучшие.
Рахим затянул потуже невероятно грязную тряпку, которой был подпоясан его драный чапан, вытер нос рукавом и ответил:
– Зато это мы их отбираем.
И побежал догонять Турсуна, переходившего уже в следующий загон.
Это был последний из двенадцати загонов, отведенных для кантара. Турсун остановился посередине и подал знак. Его окружили чопендозы.
Рахим встал поближе к ним с горлом, пересохшим от волнения. Он просто не верил своему счастью. Раньше его никогда не пускали в эти загоны. И вот он прошел их все, а теперь прямо перед ним Турсун делал самое важное из всех своих дел. Бача смотрел, не смея мигнуть: боялся, что вот сейчас мигнет и все это зрелище исчезнет, как сон…
В центре загона величественно возвышался тюрбан Турсуна. Вокруг – меховые шапки чопендозов. За ними – служители конюшен. По углам загона замерли, словно окаменелые, в струящемся по ним пламени уже высоко поднявшегося солнца великолепные могучие кони. А за невысокими стенами до самого горизонта тянулись рощицы, округлые холмы, пастбища.
Рахим вспомнил о своем отце, бедном пастухе. Где-то там, далеко, пас он с овчаркой, бегающей поблизости, и дудочкой в руках отары овец Осман-бая. «Если бы он мог сейчас меня видеть рядом с такими прославленными людьми!» – подумалось Рахиму.
До чего же они были великолепны, эти чопендозы! Все! И молодые, и седобородые. Стройные, кость да нервы, с лицами, контурами своими напоминающими хищных соколов, натасканных на охоту, или же с массивными торсами, с тяжелыми челюстями, похожие на огромных псов, что бродят с караванами кочевников. В глазах бача не имели значения ни возраст, ни черты их лиц, ни фигуры всадников. Главное, что возвышало их над всеми остальными смертными, были полученные ими шрамы и рубцы. Важны были также, даже у самых поджарых, внушительность кулака и запястья, созданных затем, чтобы вырывать у противника, а потом удерживать до конца бузкаши тушу козла, ставку в игре. Главное же в их внешности, в их взгляде, в походке была небрежная и горделивая уверенность в своем превосходстве над другими людьми. Их чапаны могли быть протертыми и грязными, и всего-то добра у них могло быть хижина или юрта да несколько коз на клочке скудной земли, а, тем не менее, выглядели они в своих меховых шапках более гордыми, более свободными и более богатыми, чем считающиеся весьма и весьма зажиточными местные ханы и баи.
Опершись на свою палку, молча стоял Турсун. И люди в шапках, опушенных шкурками диких зверей, ждали, не шевелясь. Взгляд Турсуна останавливался то на одном, то на другом, как бы взвешивая каждого из них в последний раз. Казалось, он хотел проникнуть им под кожу, к глубинным тканям, добраться до самой сути, до скрытых пружин, до секретов их силы и решительности, ловкости и храбрости.
Наконец, он назвал имена пятерых наездников и после каждого – кличку лошади. Затем сказал:
– Вот они поедут в Кабул, в столицу.
У Рахима мурашки пробежали по спине. Значит, правда… значит, не напрасно говорили в конюшнях и на кухнях, в кузницах и в мастерских шорников…
Бузкаши там… самый большой… первый… в Кабуле… за Гиндукушем, за высоченными горами, заслоняющими на юге весь горизонт, в Кабуле, в большом городе. Городе короля. Чопендозы, названные Турсуном, подошли к нему поближе.
«А что будут делать другие?» – мысленно спросил себя бача.
Он с ужасом, со сладким замиранием сердца ожидал гвалта хриплых и грубых голосов, гневных криков, громких возражений, обещаний божественной мести, проклятий и протестов против несправедливого и возмутительного приговора – всего того, что обычно сопровождало вкупе с бурной жестикуляцией решения такого рода. Горячая кровь степняков требовала подобной отдушины для гнева, даже у самых обездоленных, даже когда они имели дело с баем, с ханом или с судьей. Ведь от разочарованного чопендоза, оскорбленного в лучших своих надеждах, можно было ожидать всего.
Но ничего не произошло. Всадники, отстраненные от великолепного бузкаши, смотрели в разные стороны, кто на облака, проплывавшие в бездонном небе, кто на трещины в глинобитных стенках, кто на коней, неподвижно стоявших по углам загона. Они даже не смотрели на своих собратьев, обступивших Турсуна.
«Вот это да… – подумал Рахим. – От него они согласны стерпеть все».
Когда Турсун закончил давать указания, Ялвач, самый пожилой из чопендозов, с профилем старой хищной птицы, спросил:
– Мы не видели Уроза, сына твоего… Разве он не поедет в Кабул?
– Поедет, – ответил Турсун.
– Но на каком коне? – спросил Ялвач. – Ты же раздал нам самых лучших.
Широкая ладонь Турсуна легла на плечо чопендоза, и он заметил ему ворчливо:
– Борода твоя седа, Ялвач, а ты еще не усвоил, что в дела между отцом и сыном никто не должен вмешиваться?
И толкнул его так, что отнюдь не слабый в битвах и играх Ялвач пошатнулся.
– Ну, пошли, – повернулся Турсун к Рахиму.
* * *
Они прошли через сады, огороды, виноградники, бахчи и вышли на целинную часть имения. И не останавливаясь, продолжали путь дальше. Турсун шел вперед твердыми большими шагами. Старость потеряла свою власть над ним. Благотворными маслами вливались лучи солнца в его кости.
Голая степь сменилась кустарниками. Турсун и следовавший за ним бача долго шли по тропинке через колючие кусты ежевики, потом обогнули заросший кустарником холм. За холмом увидели рощу, имевшую форму почти идеального круга. Деревья там росли, прижавшись так плотно друг к другу, а листва их была такой густой, что, казалось, будто пройти среди них совершенно невозможно. Турсун раздвинул палкой две ветви, и за ними обнаружилась дорожка.
Когда Рахим вышел из плотного кольца зелени, он оказался на краю широкой и тоже круглой поляны. Посередине ее был пруд с каменной скамьей возле него, а у скамьи стоял привязанный к ней конь. Бача сразу впился в него глазами. Это был гнедой жеребец с вишневым отливом, с длинной гривой и такой высокий в холке, с такой могучей грудью, такими мускулистыми и легкими ногами, что по силе и красоте он намного превосходил любого, даже самого драгоценного из коней Осман-бая.
«Откуда явился такой красавец? – подумал Рахим. – Не иначе как с небес, где на нем скакал сам Пророк».
Бача возвел глаза к небу, но не нашел в сияющей бездонной синеве никакого ответа. Рахим опустил взгляд на землю. Турсун направился к большой юрте на опушке рощи по ту сторону пруда.
Не успел он подойти к ней, как из юрты вышел мужчина, очень низко поклонился и воскликнул:
– Добро пожаловать, хозяин!
– Мир тебе, Мокки, – приветствовал его Турсун. Мужчина выпрямился. Это был юноша, почти подросток, но такой высокий, что чалма Турсуна доходила ему лишь до подбородка. У него было очень плоское лицо, высокие скулы, широкий рот. Поношенный чапан, слишком короткий для него, касался середины мускулистых икр, а из кургузых рукавов высовывались могучие, как у Турсуна, запястья.
Ясный, открытый взгляд Мокки встретился с глазами Рахима. Он улыбнулся мальчику безо всякой причины, просто потому, что улыбаться приятно.
Турсун вернулся, обошел пруд и остановился перед скакуном. Мокки и Рахим тоже приблизились к нему.
Турсун вернулся, обошел пруд и остановился перед скакуном. Мокки и Рахим тоже приблизились к нему. Он жестом велел им отойти и остался один. Он стоял перед жеребцом, опершись обеими руками на палку, неподвижный, как истукан.
Конь почувствовал это внимание, отреагировал на него. Он продолжал, как его научили, стоять неподвижно под солнцем, словно статуя, но под гладкой его шерстью дрогнул сначала один мускул, потом другой, и еще один, и еще, и еще… Грудь его расширилась, глаза загорелись. А ноздри раздулись, как у хищника.
На круглой поляне, скрытой от мира густой рощей, стояла полная тишина. Сверкала вода в пруду.
– Думаю, конь находится в хорошей форме, – произнес, наконец, Турсун как бы про себя.
Мокки в два прыжка очутился возле него.
– В хорошей форме! – воскликнул юноша. – О, хозяин, этого мало сказать! Приделай ему крылья, так он и тогда не полетит быстрее, чем скачет сейчас. Заставь его биться с десятью дикими жеребцами, и он затопчет их всех. Прикажи ему что угодно, и он поймет, он выполнит все лучше любого слуги, даже самого умного, самого верного… Этот конь, это… это…
Мокки громко щелкнул языком, как будто отведал вкуснейшего яства. И, удивившись своему красноречию и щелчку языком, он засмеялся, как мог смеяться он один, долго-долго, широко раскрыв рот и расправив грудь. Губы его растянулись до ушей, зубы сверкали белизной. И было в этом радостном хохоте столько здоровья и невинного самозабвения, что на лице Турсуна, не привыкшего улыбаться, отразилось что-то похожее на веселость.
– Ты хороший саис,[5] Мокки, – произнес он почти нежным голосом.
Потом резким тоном спросил:
– Кто последним садился на коня?
– Вчера вечером твой сын, Уроз… а сегодня утром я, – ответил Мокки.
– Ну и как? – поинтересовался Турсун.
– Мечта, – был ответ Мокки.
Произнес он это слово вполголоса, полузакрыв глаза, словно ему все еще дул в лицо ветер от резвого галопа. Взгляд Турсуна перешел от его лица, будто вдруг повзрослевшего, на его мощные руки и широкие, сильные запястья.
– Из тебя выйдет хороший чопендоз, – подвел итог своему осмотру Турсун.
Мокки опять рассмеялся, как только он один умел смеяться, и воскликнул:
– На этом коне любой сможет стать чопендозом.
Второго такого никогда не будет.
– Довольно болтать попусту, – проворчал Турсун.
Веселья на лице Мокки тут же как не бывало.
Ему показалось сразу, что он слишком шумно себя ведет, слишком много занимает места. Он застеснялся своего роста, своего смеха.
– Пойду еще почищу седло, – сослался он.
Долговязый саис исчез в юрте, согнув спину и вобрав голову в плечи, чтобы казаться ниже ростом.
Турсун сел на каменную скамью. А над ним стоял гнедой с красиво изогнутой шеей конь.
«Нет, – размышлял старый чопендоз, – такого коня никогда больше не будет. Потому что не будет Турсуна, чтобы сотворить такого же. Чтобы подобрать родителей. Чтобы следить за кормлением жеребенка в первые три года, когда тот свободен от всяких забот. Седлать, взнуздывать и ездить на нем три следующих года. А потом еще три года обучать шаг за шагом, тренировать мускул за мускулом в упражнениях, приучать к огромным нагрузкам и вольтижировке».
Ведь конь, предназначенный для бузкаши, должен обладать самыми редкими и самыми противоречащими друг другу качествами: буйным нравом и терпеливостью, бешеной скоростью и упорством вьючного животного, смелостью льва и сноровкой дрессированной собаки. Иначе разве сможет конь от малейшего движения хозяйского колена, уздечки или шпор, вдруг остановиться посреди безумного галопа, перейти от погони к преследованию, то избегать всякого столкновения, то устремляться в гущу схватки, увертываться, чтобы тут же броситься в атаку. И вот ни один из этих удивительных коней не мог сравниться с жеребцом, чье горячее дыхание сейчас ласкало морщинистые щеки Турсуна. Он превосходил всех своих соперников, настолько же, насколько старый чопендоз превосходил иных замечательных всадников. В настоящих испытаниях конь еще не участвовал, ему шел лишь десятый год, еще не наступил зрелый возраст. Но в упражнениях и играх он проявил качества, превосходящие все требования. Казалось, Турсун каким-то загадочным образом передал ему свою собственную необузданную волю, свою расчетливую смелость и свое умение.
В памяти старого чопендоза промелькнули все этапы, заботы, тревоги и радости, испытанные за последние девять лет. И после каждого такого воспоминания он повторял про себя – то ли с гордостью, то ли с грустью? – «Нет, такого больше не будет никогда, не будет никогда».
Чей-то вздох прервал его раздумья. За спиной стоял Рахим.
Любопытство одолело мальчика: эта круглая поляна, изолированная от остального мира… а посредине – старик и конь, такие же неподвижные, как та скамья, на которой сидел Турсун, да еще легенда, которую прислуга передавала порой шепотом из уст в уста.
– Эта лошадь и есть тот самый Джехол… Тот самый Бешеный конь? – спросил Рахим.
И не успел сказать, как ладони его инстинктивно потянулись к лицу, чтобы защититься от удара, который вот-вот непременно должен был последовать, который должен был наказать его за такую нескромность.
Но Турсун, казалось, не слышал вопроса. Бача поклялся себе, что больше не скажет ни слова, но тут же спросил:
– Почему люди прозвали его так?
– Потому что этот конь умнее, чем они могут себе представить, – сказал Турсун, не пошевельнувшись.
Рахим вздохнул. Голова у него шла кругом. Невероятно, но старый чопендоз ему ответил. И он тотчас спросил:
– И это твой конь, да, твой собственный?
И вновь Турсун ответил. Может быть, сам того не осознавая, он привел маленького слугу сюда только затем, чтобы высказать вслух одолевавшие его мысли. Ибо только доверие, преданность и наивность подростка могли подтолкнуть гордого старика передать ему груз своих воспоминаний. Это не было исповедью Турсуна своему слуге. Это было не в его привычках.
Не отрывая глаз от красавца-жеребца, Турсун поведал ему:
– У меня всегда был конь, мой собственный конь. Как и у моего отца, и у отца моего отца, и у отца того отца. Все они были превосходными наездниками. Никто из них не был богат, потому что любому богатству они предпочитали хорошего коня для бузкаши. Ты ведь знаешь, что такие лошади очень дорого стоят, и что во время игр их не жалеют. Я поступил так, как мой отец и все его предки. Я воспользовался их знаниями, а кроме того мне везло. Первая лошадь мне досталась, когда в двадцать лет я выиграл у самых лучших чопендозов. Был тот жеребец из Бактрии, из края издревле знаменитого своими скакунами. Звали его Джехол, и всех моих коней после него люди по своей глупости стали звать так же.
Турсун опять взял свою палку и, держа ее обеими руками, оперся на нее подбородком.
– Потом у меня было еще пять коней, – продолжал он. – И каждый был прекраснее своего отца, потому что я научился лучше подбирать кобылиц, да и опыта у меня с возрастом прибавилось в дрессировке. И вот – самый прекрасный из моих коней, последний из Джехолов…
Турсун умолк. Однако он понимал, что рассказал все это лишь потому, что его не покидала одна мысль: «Да, это последний Бешеный конь. Но я-то, я-то ведь уже не могу участвовать в его первом бузкаши… Да еще каком бузкаши!»
Как хотелось Турсуну высказать эту мысль вслух, как ему было это необходимо! Но он не мог решиться. Гордость не позволяла старику изливать свою печаль даже отроку с чистым сердцем.
Турсун встал с каменной скамьи. Он сделал это без труда. Несмотря на то, что, как показалось ему, груз на плечах увеличился даже по сравнению с утренними мгновениями, когда одеревеневшее тело не хотело его слушаться.
Из юрты вышел Мокки. Над головой он нес сбрую. Солнце сияло на сверкающей коже и на металле, и вместе с ним сиял саис.
– Смотри, хозяин, смотри, – воскликнул он, – Джехол не уронит себя в великом городе Кабуле, в городе короля.
– Сегодня вечером получишь мои последние наставления, – кивнул головой Турсун.
Старый чопендоз потянулся было к морде коня, но остановился.
– До вечера, и ты тоже, – произнес он. Рахиму же он сказал: – Жди меня здесь.
– С Джехолом? – вскричал Рахим.
Турсун ушел, не ответив.
А Рахим воздел глаза к небу, благодаря его за такую удачу.
III ДВА СВЕТИЛА
От поместья Осман-бая до Даулатабада два часа езды рысью.
Это был всего лишь крошечный городок, но он играл роль столицы для жителей того обширного степного края, большую часть территории которого занимали пастбища, а кишлаки насчитывали столь мало людей, что обычно состояли всего лишь из нескольких глинобитных мазанок или же кучки юрт полукочевого типа. В Даулатабаде жил глава района, стоял небольшой гарнизон, имелись полицейский участок и старинный базар, занимавший центр города, а у входа в него красовалась новенькая школа.
Турсун направился к базару. Проезжая мимо школы, он заметил, что утренние уроки закончились. Однако большая группа школьников толпилась у высокого забора, скрывавшего школу и прилегающий сад. Дети были разного возраста и, судя по одежде, самого разного состояния.
Крупная лошадь, взятая Турсуном из конюшни имения, остановилась сама: толпа детей заняла и часть дороги. Они были необычно тихими и тянулись на цыпочках, раскрыв рты, со сверкающими, сосредоточенными взорами, обращенными к школе.
Из седла Турсун легко разглядел того, кто, прислонившись к стене, овладел вниманием полудиких и обычно невероятно озорных мальчишек.
«Да это же старый рассказчик Гуарди Гуэдж», – подумал он.
Опустив поводья, он сказал с чрезвычайным почтением:
– Приветствую тебя, Пращур, да будет благословенно твое возвращение.
– Мир тебе и почет, о Турсун, бывший самым славным чопендозом этого края, – отвечал старец слабым, но слышным далеко, как звон надтреснутого стеклянного колокольчика, голосом.
Турсун покачал головой. «Признал меня, – подумал он… – Надо же… После стольких лет отсутствия, после стольких путешествий… повидав тысячи и тысячи разных людей…»
Тут дети закричали:
– Расскажи, расскажи скорее!
Больше всех старался тщедушный мальчонка на костылях.
– Я повидаю тебя на обратном пути, Пращур, – сказал Турсун.
Коснулся шпорой бока лошади и въехал в город.
* * *
Базар в Даулатабаде был одним из самых старинных в округе, и в середине нашего века еще сохранял цвета, запахи, очертания и обычаи среднеазиатских рынков, какими они стали еще в давние времена.
В лабиринте улочек, переулков и тупиков, среди лавочек, мастерских ремесленников, сквозь соломенные навесы и сплетения живых растений над головами лучи солнца создавали контрастную игру света и тени; яркие одежды, ткани, лица, металлические украшения, фрукты сверкали на солнце, а затененные места были загадочно таинственными. Бедный дырявый чапан мог выглядеть там как роскошный бархат. Раскосые глаза старика-торговца, примостившегося в какой-то нише, казались скрывающими все лукавство мира. Огромные медные самовары сверкали, как золотые. На прилавках с варварской необузданностью громоздились огромные куски разрезанных мясных туш, увесистые кисти винограда, разрезанные кроваво-красные арбузы. Привязанные лошади всхрапывали, отмахиваясь от тучи мух. Порой раздавались долгие крики верблюдов. Так, век за веком, шла торговля товарами, прибывающими теми же путями, с теми же попытками сбить или поднять цену, с неизменным чаепитием в обстановке привычной смиренной нищеты или спокойного изобилия и богатства.
Животные и люди толпились вперемешку в главных проходах и в лабиринте мелких проулков. В этой тесноте мало что значили богатство и ранг. Богач с неменьшим трудом пробивался сквозь толчею, чем нищий. И только чопендозы не испытывали этого неудобства. При появлении своеобразных головных уборов вокруг возникал мощный счастливый ропот. Популярные и любимые имена передавались по рядам. И какой бы плотной ни была толпа, в ней, как по мановению волшебной палочки, образовывался проход, по которому герой бузкаши шел свободно своей тяжеловатой, из-за высоких каблуков на сапогах, походкой. Слева и справа слышались приветствия, похвалы и благословения, ему протягивали ломти дынь, арбузов, грозди винограда. Он отвечал с барской любезностью, благодарил, смеялся, шутил, а кого-то награждал дружеским тычком.
И сквозь щелочки в чадре за ним следили мечтательные взоры женщин, ни одна из которых испокон веков не имела права присутствовать на всенародном игрище.
В центре базара у самого богатого торговца тканями была лавка в виде открытой со стороны улицы, просторной и глубокой крытой террасы, отделенной перегородками от соседей. В этом прохладном и полутемном помещении собрались важные лица: глава района, именовавшийся «малым» губернатором, в отличие от «большого», управлявшего всей провинцией Меймене, распорядитель бузкаши, Осман-бай и еще два других владельца конюшен, от которых выделялись кони для участия в королевских играх возле Кабула.
В их честь приказчики расстелили поверх обычных ковров другие, более мягкие и более дорогие. Облокотившись небрежно на свертки атласных и шелковых тканей из Персии, Индии и Японии, гости возлежали, попивая из русских фарфоровых чашек душистый зеленый чай, привезенный из Китая.
Присутствие именитых людей, как бы выставленных напоказ на подмостках, привлекало покупателей и прохожих. Хозяин не разгонял их: ему хотелось, чтобы весь базар был свидетелем того, какую ему оказали честь. Так что Турсуну, чтобы подъехать к этой лавке, пришлось поработать плеткой, заставляя лошадь растолкать грудью толпу зевак.
Слезть с коня оказалось не столь трудно. Пол террасы с громоздившимися на нем тканями располагался как раз на уровне стремян. Приказчики и слуги помогли ему сойти с коня, подложили подушки, предложили чаю. Прежде чем воспользоваться их услугами, Турсун поприветствовал, как подобает, хозяина дома и его гостей. И хотя по рангу, положению и богатству они были выше его, они ответили ему как равному, с той же вежливостью, с тем же почтением. Затем, пока Турсун не спеша располагался, медленно и с шумом пил горячий чай, все хранили молчание. Все знали, что старик не любит, когда ему докучают вопросами. Когда он хотел что-то сказать, он говорил, выбирая момент по своему усмотрению.
Юный бача подставил Турсуну наргиле. Турсун поднес наконечник его к губам и вдохнул дым, освеженный водой. И только после этого, обращаясь одновременно к распорядителю бузкаши, к «малому» губернатору и к Осман-баю, промолвил:
– Я сделал выбор.
Он назвал имена всадников и коней, назначенных им для поездки в Кабул, и умолк. В этой стране, где красноречие не редкость, Турсун говорил мало. Тем больше уважения, смешанного даже с некоторой опаской, он внушал.
– Все отлично, как всегда у тебя, – сказал распорядитель бузкаши, ведавший командами чопендозов по всей провинции.
В свои шестьдесят лет он был высок, строен, с правильными и благородными чертами лица. Великолепный чапан зеленого шелка в широкую белую полоску ниспадал на брюки серебристо-серого цвета и доходящие до колен сапоги из очень мягкой кожи. Лицо его, голос и манеры выдавали в нем знатную персону. Однако если Турсун поклоном отблагодарил его за похвалу, то это относилось исключительно к тому, что восседавший перед ним человек знал лошадей и всадников почти так же хорошо, как он сам.
– Чопендозы, кони и саисы отправятся на грузовиках, – продолжал распорядитель бузкаши. – Им понадобится несколько дней, чтобы привыкнуть к воздуху Кабула.
– Это правильно… ведь столица на шесть тысяч футов выше наших мест, – сказал Осман-бай со своей вечной улыбкой на жирном лоснящемся лице, с помощью которой он будто извинялся за свое богатство.
Опять наступила пауза. Наргиле пошло по кругу. Турсун прикрыл глаза. Осман-бай вопросительно посмотрел на «малого» губернатора, и тот, коснувшись рукой колена распорядителя бузкаши, прошептал ему на ухо:
– А Уроз?.. Только ты можешь задать этот вопрос.
Тут распорядитель, поглаживая своей очень красивой холеной рукой рукоять нагайки с серебряной инкрустацией, произнес:
– Извини, достопочтенный Турсун, если я покажусь тебе нетерпеливым, что не слишком приличествует нашим седым волосам. Долг меня, однако, обязывает… Нам еще не известно, какого коня ты предназначаешь для твоего сына Уроза.
– Сын мой должен был быть с вами, – отвечал Турсун, по-прежнему не открывая глаз.
– Его видели на базаре, – заметил «малый» губернатор.
– Где? – спросил Турсун.
– Возле боя верблюдов, – ответил Осман-бай, улыбаясь.
– Он что, не знает, что вы здесь собрались? – спросил Турсун, так и не подняв век.
– Он хочет досмотреть бой до конца, – сообщил «малый» губернатор.
Турсун медленно открыл глаза и оглядел своих собеседников.
– Бача, – приказал он мальчику, как раз в этот момент подававшему ему наргиле, – пойди и скажи Урозу, что я здесь.
* * *
С южной стороны базар в Даулатабаде ограничивали развалины древней крепости. Кривые крытые улочки внезапно выходили на широкую площадь, обрамленную зубчатой стеной из красноватой глины. Из полумрака и тесноты узких проходов человек внезапно выходил на простор, ярко освещенный степным полуденным солнцем.
Обычно в знойное время суток это место пустовало. Лишь у подножия полуразрушенных стен, в узенькой полоске тени порой можно было видеть горы больших тюков, снятых караванщиками с верблюдов. Но в этот день весь пустырь был заполнен людьми. Плечом к плечу стояли одни мужчины, и общее волнение, сильное и грубое, охватывало их, превращая толпу в единый организм. А над чалмами метались в диком сражении две покрытые липкой слюной, оскаленные, уродливые головы верблюдов на длинных узловатых и скрученных шеях.
В Даулатабаде, как и повсюду в Афганистане, любимым зрелищем толпы были бои животных, бьющих, душащих или раздирающих друг друга: петушиные бои, драки бойцовых псов, поединки баранов и перепелов. Но из всех кровавых состязаний подобного рода любимейшими были бои верблюдов, потому что это зрелище было самым редким. Для него отбирались особенно сильные и особенно свирепые экземпляры, но даже и такие готовы были биться насмерть только во время гона.
Как раз в этот момент по стечению обстоятельств и период был благоприятный, и в караване, пришедшем из Бадахшана, оказалось два могучих, очень агрессивных самца, и хозяевам их хотелось извлечь максимум выгоды из этого дикого зрелища.
Даже в минуты покоя два мохнатых гиганта темной масти внушали страх своею злобностью. А теперь, в смертельной схватке, они выглядели наполовину хищными зверями, наполовину чудовищами. Их длинные мускулистые ноги натыкались друг на друга, сплетались, хрустели в суставах, едва не ломаясь, и вновь сплетались, подобно клубку огромных, уродливых, покрытых клочьями шерсти змей. А над темными всклокоченными горбами, дергающимися от яростных атак, раскачивались и переплетались еще два гигантских подобия пресмыкающихся: шеи сцепившихся самцов. Их увенчивали разинутые пасти, а из обвисших огромных губ, дергающихся в отвратительном тике, извергались потоки густой слюны со сгустками крови.
Два черных гиганта бились коленками и копытами, кусались, падали, вставали, сцеплялись, расходились, сбивались в кучу и пытались вцепиться друг в друга зубами, задушить, выпустить внутренности. Торчащие члены, неукротимый зов плоти, но вместо яростного совокупления – неистовый бой, словно пришедший из мрака ночных глубин вселенной, жестокая схватка, а в небе – кружение ястребов и степных орлов над руинами крепости, над резко выделявшимися на фоне ослепительного неба зубчатыми стенами из красной и розовой глины.
Схватка сопровождалась постоянным ревом, то торжествующим, то угасающим, соединившим в себе и жалобу, и ярость, и воинственный клич, и клокотание жизненных соков, и напоминание о неизбежности смерти. На каждое движение, на каждый рев животных, охваченных жестоким безумием, отвечал вопль толпы, разгоряченной палящими лучами солнца, запахом крови, пота и мочи, обильно выделяемой верблюдами.
Но был в толпе один зритель, который, хотя и стоял в первом ряду, внешне казался совершенно не вовлеченным в общее исступление. Руки его неподвижно висели вдоль коричневого чапана, а на лице с тонкими хищными чертами под меховой шапкой чопендоза ни один мускул не выдавал волнения. Лишь изредка подрагивание губ, похожее на волчий оскал, выдавало его интерес к бою. Но когда бача торговца тканями потянул его за руку, обжигающий взгляд сузившихся глаз показал, что и этот человек тоже, хотя и втайне, находился во власти всеобщего безумия.
– Что тебе надо от меня, клоп ты базарный? – прошипел он, сдерживая злость.
Бача вобрал голову в плечи и быстро проговорил:
– Тебя срочно ждут у моего хозяина.
– Я ведь уже сказал: когда кончится бой, – ответил чопендоз.
– Но…
А чопендоз уже забыл о существовании посланца. Толпа издала вопль еще более пронзительный, чем все предыдущие. Шеи верблюдов переплелись в судорожном усилии, и раздался хруст ломаемых позвонков. Неужели конец одного из бойцов? Но кто именно сейчас рухнет?
Волчий оскал опять вздернул губы чопендоза. В таком состоянии ничто не могло дойти до его сознания. Однако хватило одного имени.
– Турсун… – произнес бача.
Тот невольно прислушался.
– Достопочтенный Турсун, твой отец, приехал и зовет тебя…
Еще несколько мгновений человек в меховой шапке выжидал, надеясь, что бой вот-вот закончится, и все, таким образом, решится само собой. Но верблюды расцепились и ревели изо всех сил, задирая морды к раскаленному небу, к зубчатым красным стенам, словно призывая их на помощь в последней схватке.
– Твой отец… великий Турсун… – лепетал бача.
И чопендоз покинул место боя.
* * *
Уроз шел с высоко поднятой головой, глядя своими слегка раскосыми глазами лишь на узкий проход, освобождаемый для него толпой, создаваемый ею в своем собственном теле еще с большим основанием, чем для любого другого чопендоза.
Разве не он был самым знаменитым?
Уроз, казалось, не видел проявлений этого исключительного почтения и, казалось, не слышал похвал в свой адрес, а если и слышал, то внимал им без удовольствия, скорее даже с неприязнью. Дело в том, что он был весь во власти противоречий. С одной стороны, им владела сильная, можно сказать, единственная страсть: жажда славы. Без нее он не мог жить. Она нужна была ему любой ценой. Как хлеб, как вода. И слава ему принадлежала, преследовала его, шла за ним, сияющая, верная и покорная. Но кто дарил ее ему? Толпа… чернь… Вонючая потная масса. Простодушные взоры. Безвольные рты… И вот он, Уроз, чья честь требовала, чтобы он никогда и ни в ком не нуждался, зависел от этого стада в самом главном, в том, что составляло для него смысл жизни.
Слава. Да. Солнце в степном небе – да. Песнь ветра в высоких травах – да. Но только не эти голоса! Только не эти лица!
Не слышать их. Не видеть их. Шагать будто с шорами на глазах. Сжав зубы, крепко сжав зубы…
Так шел Уроз на высоченных каблуках, человек, не желавший жить без почестей, даруемых людьми, и в то же время отвергавший их право распоряжаться этими почестями.
На его лице, хищном и ясном, заостренность которого подчеркивала клинообразная бородка, от стиснутых зубов ходили желваки под кожей и еще четче выступали скулы. А базар шушукал:
– Он совсем не такой, как все остальные.
– От него ни слова не услышишь…
– Никогда не улыбнется.
– Такой гордый. Такой неприступный.
– Ни с кем не дружит.
– Даже с лошадьми жесток.
– Смотреть страшно.
– Волк, а не человек.
И за это вот удивление и за внушаемый им страх толпа восхищалась Урозом еще больше. А ему этот испытываемый людьми страх обычно доставлял большое удовольствие. Гордыня его упивалась этим чувством.
Обычно. Но не в этот день. «Сегодня я сам боюсь, – размышлял Уроз. – Сегодня я сам похож на собаку, лежащую лапками кверху. Мне свистнули, и я бегу». Перед глазами промелькнула драка верблюдов, конца которой он не дождался, и он сказал себе:
«Клянусь Пророком, мне не нужно ничего и мне никто не нужен. Я ничего и никого не боюсь. И докажу ему это».
* * *
Наргиле, обойдя по кругу всех, оказалось в руках Осман-бая. Благодаря своему богатству и привилегированному положению, он лучше всех других гостей умел ублажать свои чувства. И предвкушение удовольствия уже отражалось на его лоснящемся лице, но вдруг, насторожившись, он выпрямился и приподнялся на подушках, которыми был обложен со всех сторон.
Сначала издалека донесся неясный шум, и на улице возникла толчея, потом в толпе стал образовываться проход, что казалось просто невероятным, – настолько толпа была плотная. Покупатели, зеваки, продавцы воды, лотошники и даже упрямые погонщики ослов – самые упрямые в мире люди – все теснились, отступая к прилавкам лавочек. Так образовался узкий проход, а в самом конце его появился мужчина в меховой шапке.
Турсун первым увидел и узнал его. Он тихо и небрежно произнес:
– А вот и Уроз.
И это имя, словно вырванное из его уст толпой, вернулось к нему многократно повторенное торжествующим эхом:
– Уроз… Уроз… Уроз… Уроз…
Сам не замечая своего движения, Турсун мало-помалу оторвал спину от подушек. Он слышал теперь:
– Уроз… Уроз… сын Турсуна.
Опершись на свои огромные ладони, Турсун сидел, выпрямившись всем своим массивным телом. Такой дар судьбы нельзя принимать лежа. Турсун давно свыкся с мыслью, что давно умерли в нем, стали безразличными и сладко щекочущее нервы чувство гордости, и ощущение горячего дыхания славы. С тех пор как он удалился в имение Осман-бая, давным-давно его лицо и широкая известность разошлись друг с другом, ибо легенда смазывает черты живущих героев. Старый Турсун хорошо знал: если сейчас к имени Уроза прибавляли его имя, то это делалось по привычке, по древнему обычаю, подобно тому, как когда-то они кричали:
– Турсун, Турсун, сын Тонгута.
Неважно! После столь долгого молчания до него вновь доносится голос толпы.
И поскольку этот восхитительный клич раздавался в воздухе благодаря его сыну, Турсун внезапно счел простительным то, что раздражало его и не нравилось в Урозе. Недостаточно широк в плечах? Зато какая гибкость, какая удивительная быстрота движений. На лице нет шрамов, почетных примет чопендоза? Но это же лишнее доказательство его искусства! Чересчур легкая походка, недостойная уважающего себя сорокапятилетнего мужчины? Зато как ловок в седле! И даже этот волчий оскал на лице, против которого в детстве оказалась бессильна даже плетка, все прощал ему сейчас Турсун, слушая крики толпы, где их имена произносились вместе, чем он был вправе гордиться.
Уроз подошел к террасе торговца тканями. И не стал подыматься по ступенькам, а прыжком, лишь слегка опершись о край помоста, очутился на покрытом коврами возвышении.
Купец и его гости встали, чтобы поприветствовать его. Встали все, кроме Турсуна. Какое ему было дело до того, что Уроз был лучшим во всей провинции чопендозом. Он, Турсун, был так же славен до него. Этот чопендоз был всего лишь его сыном.
Когда Уроз увидел монументальную фигуру Турсуна, восседающего по-турецки на ковре, то невольно подумал: «Все остальные здесь и богаче его, и знатнее, и могущественнее этого старика. Но господин здесь он».
И, поборов гордыню, Уроз поклонился, как положено, до плеча Турсуна, коснулся плеча лбом и произнес слова уважения и покорности почти раболепные, но обязательные для сына, приветствующего отца, несмотря на то, что он ненавидел его вот уже почти тридцать лет.
Покорность Уроза в присутствии боготворящей его толпы на мгновение пробудила в Турсуне отцовские чувства.
Он встал и поднял руку. Сразу же наступила тишина, и Турсун сказал:
– Я не люблю бесполезных слов. Стало быть, слушайте, я буду краток. У меня есть новый жеребец, готовый участвовать в играх. Имя ему – Бешеный конь.
– Нам это имя известно, – закричали в толпе.
– Конь, о котором я говорю, – последний отпрыск носивших это имя коней, причем самый лучший, – продолжал Турсун.
– Тогда, – пришел к выводу распорядитель бузкаши, – тогда ему нет равного во всех трех провинциях.
– Я тоже так думаю, – согласился Турсун. – Поэтому на нем будет скакать в Кабуле мой сын Уроз.
Турсун перевел дух. Он сказал то, что хотел сказать. Теперь он мог вернуться на свое место среди подушек. Но вместо этого он вновь поднял руку, показывая, что речь его не кончена.
Что испытывал он? Желание продлить в себе ощущение горячей любви толпы, подобно тому, как человек, долго живший в полночных странах, не может насытиться теплом солнечных лучей? Или же не хотел остаться в долгу у Уроза?
– Слушайте все, кто здесь есть, – медленно произнес Турсун, – вы, которые слышите и разнесете по округе мои слова, будьте свидетелями. Если в Кабуле, нашей столице, мой Джехол выиграет Королевский бузкаши, он тут же станет собственностью Уроза, моего сына, и будет принадлежать только ему.
Сообщив о своем решении, Турсун сел, выпрямив грудь и скрестив ноги.
Еще не успел он закончить этих телодвижений, как послышались возгласы, крики и суждения. В них смешивались правда, ложь, фантазии. Всех поразила щедрость подарка. Все кричали, восхваляя этот поступок:
– Отдать такого жеребца!
– Такую ценность!
– Такую гордость!
– Вот поистине добрый и щедрый отец!
– Как же он любит своего сына!
И Турсун с удивлением подумал: «А ведь, наверное, так оно и есть. Раз я так поступил, значит, должно быть, люблю его».
Уроз смотрел на Турсуна, и на его горделивом и жестоком лице застыло почти детское выражение удивленного недоверия. Он, презревший традиции, презревший обычаи рода и семьи и никогда не имевший коня, так как предпочитал тратить заработанные деньги на праздничные пиры, на дорогие сапоги да шапки, на бои баранов, петухов, собак и перепелов, он, добивавшийся победы только на чужих лошадях, вдруг получает Бешеного коня. В собственность. Ведь он уже ездил на нем. И они друг к другу уже привыкли. А значит, им сам бог велел выиграть королевские игры.
И когда после этого Уроз склонился, чтобы поцеловать плечо Турсуна, впервые в жизни он делал это охотно и с радостью. В голове у него вертелось: «Это же мой отец, мой настоящий отец. Я горжусь им и люблю его».
* * *
В глубине лавки гостям было предложено угощение. Турсун и Уроз сидели рядом, но говорили друг с другом мало. Но все равно, разламывая теплую и нежную лепешку или запуская пальцы в душистый плов с десятком разных пряностей, в бешбармак или беляши, протягивая руку за овечьим сыром, чувствовали, что делят не только пищу.
Застолье было долгим. Наконец, слуги стали поливать на руки гостей воду из кувшинов-кумганов. Распорядитель бузкаши тут сказал:
– Благодарю хозяина дома и прошу извинить меня… Мне пора.
На опустевших улочках базара начинало темнеть. «Малый» губернатор проводил своих друзей до главной площади Даулатабада, где находилась его резиденция. Там стояла американская машина старой модели, большая и вся сверкающая. Верх ее был откинут. Шофер Осман-бая, в чапане и с чалмой на голове, открыл дверцы. Хозяин машины пригласил распорядителя бузкаши и Уроза сесть на почетные передние места. Сам же с двумя местными богачами сел сзади.
В связи с такой важной миссией шофер постарался извлечь из мотора и сигнала как можно больше оглушительного шума. Автомобиль совершил круг почета на площади. Сидевшие в нем кричали, смеялись, махали руками. В воздухе колыхались ткани тюрбанов и ярких чапанов. Только шапка Уроза из волчьего меха оставалась неподвижной. Турсун смотрел, как она скрылась за поворотом. Он вдруг почувствовал, что в груди его сразу стало как-то пусто. Чужой человек вместе с другими чужими людьми уехал по пыльной дороге, ведущей через Меймене и Мазари-Шариф, к перевалам через Гиндукуш… А там… Турсун ощутил горечь во рту… На том небывалом бузкаши, что состоится в Кабуле в присутствии короля, на своего Бешеного коня сядет не он.
«Малый» губернатор спросил:
– Не хочешь ли ты, о Турсун, оказать мне честь и попить со мной чаю, зеленого или черного, какого пожелаешь?
– Нет, – резко ответил Турсун.
У него сейчас было одно лишь желание: как можно скорее оказаться посреди круглой поляны с прудом, возле своего любимца.
* * *
Проезжая перед школой, Турсун увидел Гуарди Гуэджа, прислонившегося к темной стене, на этот раз одного. Турсун поприветствовал старика и хотел было проехать мимо. Однако вдруг, неожиданно для самого себя, остановил лошадь и произнес:
– Сделай мне удовольствие, о Пращур, прими мое бедное гостеприимство.
– Буду счастлив и сочту за честь, – отвечал Гуарди Гуэдж.
Он поставил ногу на сапог всадника, протянул ему тощую руку и тот, подсаживая старика на круп лошади, удивился: до чего легок, почти невесом был старец.
– Прежде всего, – сказал Турсун, – я покажу тебе моего скакуна.
– Джехола, последнего Бешеного коня, – молвил старый сказочник.
Впервые имя гнедого прозвучало во всей красе и значимо – с тем тайным смыслом, который понимал только Турсун. Тут старый чопендоз понял, что пригласил к себе Гуарди Гуэджа потому, что после столь необычного дня ему нужен был рядом человек более мудрый, чем он сам.
Ехали они быстро и молча. В имении Осман-бая Турсун постарался обогнуть главную усадьбу и службы так, чтобы добраться до своей поляны, никого не встретив.
Возле зеленой изгороди из деревьев сидел Рахим со счастливым лицом и любовался тихим и легким небосклоном, на котором уже были видны первые признаки приближения сумерек. Он прожил самый прекрасный день в своей жизни.
Заметив Турсуна, бача побежал ему навстречу, чтобы помочь спуститься с коня. Продолжая сидеть в седле, Турсун спросил:
– Что ты тут делаешь?
– Ты же позволил мне остаться здесь, хозяин, – широко улыбнулся Рахим.
– Почему ты не рядом с Мокки и с конем? Бача от удивления попятился назад.
– Хозяин, разве ты не знаешь? Взгляд Турсуна остановил Рахима.
– Что не знаешь? – спросил Турсун.
– То, что они уехали… уехали в Кабул, – ответил Рахим.
– В Кабул? Не подождав моего возвращения? Я же приказал саису…
Голос Турсуна был тихим и хриплым.
– А что он мог? – воскликнул мальчик. – Приехал грузовик с солдатами малого губернатора, и у них был приказ распорядителя бузкаши увезти Джехола.
– Здесь распоряжаюсь я, и только я, – грозно промолвил Турсун. Молчи, неверный бача.
И с высоты седла, задев локтем старика-рассказчика, сидевшего позади, Турсун дважды ударил Рахима плеткой по лицу. Свинцовый шарик, закрепленный на конце ее, разорвал кожу, и на обеих щеках слуги мгновенно выступила кровь. Турсун ускакал крупной рысью.
Рахим стоял с опущенными вниз руками, не стирая кровь. Он не плакал. И не сердился на Турсуна. Старый наездник был для мальчика воплощением судьбы.
* * *
Имение Осман-бая с одной стороны омывалось небольшой речкой Шириндарья, медленно несущей между глинистыми красноватыми берегами свои мутные воды, обильно засоренные овечьим навозом.
Лошадь с Турсуном и Гуарди Гуэджем осторожно спустилась с крутого берега, прошла по мокрой чавкающей глине и легко перешла речку вброд. Вода не доходила до стремян. Труднее было подниматься на противоположный берег, такой же крутой и скользкий. Наверху копыта пошли легче по каменистой сухой равнине. Быстрой рысью Турсун добрался до небольшого, имеющего форму полумесяца плато, прислонившегося к склону холма. Там стояло несколько убогих мазанок. Посреди плато виднелась большая юрта традиционного узбекского типа, нечто среднее между шатром и шалашом. Круглое в основании, конической формы, это одновременно и походное, и оседлое обиталище было сделано частично из войлока, частично из тростника.
Когда всадники проезжали мимо мазанок, старый сказочник тихо промолвил:
– Калакчекан.
А когда сошли с коня возле юрты, Гуарди Гуэдж сказал Турсуну:
– Жилище это поставил здесь твой дед, когда выменял этот участок земли за несколько ожидавших окота овец.
Хотя и знал Турсун, какова память у Гуарди Гуэджа, услышав эти слова, он был очень удивлен. Но виду не показал и повернулся к тут же подошедшему к ним согбенному дехканину в лохмотьях, за которым следовал столь же бедно одетый мальчик.
Те помогли всадникам спешиться. Мальчик взобрался на лошадь и отвел ее. Дехканин выслушал распоряжения Турсуна. И только после этого, внешне не проявляя любопытства, старый чопендоз спросил:
– Как тебе удается, о Пращур, запоминать все на свете?
– Глаза и сердце хорошо запоминают то, что им полюбилось, – отвечал Гуарди Гуэдж. – Дед твой выбрал это место, потому что оно очень на него походило: нагорье это бедное и невысокое, но человек здесь чувствует себя хозяином и отсюда далеко видна степь.
Сколько раз, вот в такую же вечернюю пору, Турсун окидывал взглядом равнину, уходящую вдаль, до самого горизонта, и сердце его наполнял покой, душа освобождалась от всех мелочных забот, свет заката озарял бескрайнюю степь, и небогатая здешняя растительность превращалась в легкие, прозрачные, драгоценные травы, по которым хотелось скакать, скакать и скакать…
Слова Гуарди Гуэджа вызвали у него в памяти образ старого, некрасивого, даже уродливого деда, и впервые в голову ему пришла мысль, что вот с этих же мест и с таким же ощущением счастья окидывал тот долгим взглядом степь и что была она для него, как вот сейчас для Турсуна, великой страницей мудрости, на которой каждая неровность, каждая ложбина были словно буквами в алфавите вечности.
– Скажи, – задумчиво спросил Турсун, – ты видел столько разных земель и людей, но многие ли из них полюбились твоему сердцу?
Гуарди Гуэдж слегка покачал головой.
– Много мест есть на свете и много людей, достойных любви, – заметил он. – Ты не находишь?
– Нет, – возразил Турсун. – Нет. Друг для всех – значит ни для кого не друг.
– Ну а что и кто были дороги для тебя? – спросил Гуарди Гуэдж.
– Вот это, – показал Турсун на степь. – И еще прекрасные кони. И несколько хороших чопендозов.
Мальчик вернулся из деревни. Он вытащил из юрты скамью, потом – тяжелый, грубо сколоченный стол.
– Скоро ты, о Пращур, сможешь подкрепиться, – произнес Турсун.
Оба они сели рядом, лицом к плато и к простиравшейся ниже плато бескрайней равнине. Солнце медленно опускалось. На гребнях далеких холмов двигались стада овец. Черными силуэтами выделялись на фоне неба верховые пастухи с ружьями. Некоторые из них играли на тростниковых дудках. В степной тиши до Турсуна доносились их примитивные и ясные мелодии. Он с детства привык к этим жалобным звукам. Для него они были одним из элементов сумерек. Но тут ему вдруг показалось, что он никогда не ощущал печали и одиночества этих мелодий, и почувствовал где-то глубоко в груди нестерпимую пустоту и холод. И неожиданно спросил:
– Скажи, Пращур, как называется та местность возле Кабула, где будет проходить Королевский бузкаши?
– Баграм, – сказал Гуарди Гуэдж.
– Велико ли там поле? – спросил опять Турсун.
Старик ответил вопросом на вопрос.
– А почему ты не захотел сам повидать его? Тебе ведь предложили, как я полагаю, поехать вместе с чопендозами, чтобы достойно представить там ваш край.
– Слишком стар я стал, – глухим, грубым голосом ответил Турсун.
– Не так-то ты и стар, – возразил Гуарди Гуэдж. – Ты же ведь страдаешь от сознания, что стареешь.
– Объясни получше, – сказал Турсун.
– Настоящая старость, – объяснил Гуарди Гуэдж, – наступает, когда кончаются все мучения. Когда забываются муки гордости, не остается больше никаких сожалений, когда перестаешь огорчаться. Старость не завидует силе своей собственной крови.
Турсун наполовину выпрямился, опершись руками на шершавую поверхность стола, и вопросительно посмотрел на своего собеседника:
– Почему ты говоришь мне это? Почему?
Не спуская своих утративших возраст глаз с горизонта, Гуарди Гуэдж ответил:
– Ты ненавидишь своего сына, своего единственного сына, как никогда и никого не ненавидел, потому что не Турсун, а Уроз швырнет, быть может, обезглавленную тушу козла в меловой круг к ногам короля.
Голова старого чопендоза слегка склонилась, и он еще сильнее оперся о стол своими огромными ладонями.
– Ты не можешь простить Урозу, – продолжал старец, – что он вместо тебя поскачет на Бешеном коне, хотя ты же сам и подарил его сыну.
Неукротимая шея Турсуна склонилась еще ниже.
– И, желая отомстить сыну, изуродовал счастливое лицо мальчика, – закончил Гуарди Гуэдж.
Турсун откинулся на скамью, ослабевший, сломленный. Посадив вечного сказочника на круп своего коня, он приблизил к себе истину. И понял теперь: именно этого ему в глубине души и хотелось.
Такой прямой в поступках, так хорошо знающий, чем он обязан людям и чем они обязаны ему, человек цельный, никогда не знавший внутреннего раздвоения, он, Турсун, провел весь этот несчастливый день, сам не зная, чего он по-настоящему хочет, и, испытывая то одно неясное чувство, то другое, еще более непроницаемое, мучился от слепой ярости и бессилия, как норовистый конь, пойманный арканом. В одиночку он не мог развязать этот затянувшийся на его шее узел. Он был рожден, чтобы решительно рубить. Но не более того. Вот поэтому-то он и позвал на помощь Гуарди Гуэджа.
И помощь подоспела. Турсун, пожелавший узнать о себе мнение со стороны, сохранив при этом достоинство, услышал то, что отказывался знать из-за своего горделивого упрямства.
Сначала он удивился, что так вот принял с поникшей головой, такое суждение постороннего о себе, высказанное голосом, напоминающим звон надтреснутого стеклянного колокольчика. Но потом понял, что, к счастью, нашел этого необыкновенного старого и мудрого человека, который сумел, не унизив его, великого Турсуна, показать ему его собственные мучения, его стыд и его несчастье.
Подняв голову, он вымолвил:
– Ты прав, Пращур. Но что же мне делать?
– Побыстрее постареть, – отвечал Гуарди Гуэдж. Они помолчали. Тем временем сутулый дехканин принес им блюдо с горячим пловом, миндальную халву с изюмом, кислое молоко, нарезанный арбуз и чай. Но Гуарди Гуэдж и Турсун сидели, глядя в небо.
Надо сказать, что это был период полнолуния. Месяц уже взошел, хотя солнце еще не скрылось за горизонтом. Так что, разделенные небосводом, видны были с одной и с другой стороны сразу два светила. И наступил момент, когда оба они оказались вместе, повисли в равновесии на одном уровне над землей, одного цвета и одной величины. Их красные диски словно остановились, чтобы вечно обрамлять Калакчеканское плоскогорье.
А потом солнце, опускаясь, стало огненно-красным, а луна, поднимаясь, приняла золотистый оттенок. Дневное светило скатилось в бездну, а ночное поднялось на темнеющем небосклоне.
Сутулый дехканин с укором посмотрел на Турсуна:
– Плов и чай остынут, и гостю их вкус покажется менее приятным.
– Ты прав, – ответил Турсун.
И повернулся к Гуарди Гуэджу:
– Извини меня, Пращур. Я задумался о другом.
Они принялись за еду. Дехканин удалился.
– У тебя хороший слуга, – отметил Гуарди Гуэдж.
– Да, хороший, – согласился Турсун. – А Мокки, его сын, станет когда-нибудь хорошим чопендозом.
Пока что он служит саисом при Бешеном коне.
Тут внезапно вся пища показалась горькой Турсуну, и он перестал есть.
– Ты же видел сейчас небо, – сказал Гуарди Гуэдж. – В жизни ничто не остается в постоянном равновесии. Одно поднимается, другое опускается.
– Да, – сказал Турсун, сжимая кулаки. – Да, но завтра солнце опять встанет.
– И мы тоже, быть может, – отвечал Гуарди Гуэдж.
Луна ярким светом заливала равнину. В какой-то хижине заброшенного крошечного селения Калакчекан послышались негромкие звуки домбры и бубна.
IV ДЕНЬ СЛАВЫ
Запели, зазвенели кавалерийские трубы.
Небо было ясное, солнце грело в полную силу, а со стороны снежных вершин долетал свежий ветерок. Колыхались, хлопая на ветру, словно танцуя и припевая, флаги, знамена, стяги и вымпелы, окаймлявшие весь Баграм. Здесь, на высоте в шесть тысяч футов, должен был состояться первый Королевский бузкаши.
Поле было обширное, но не бескрайнее. Всадники не могли надолго исчезнуть из поля зрения публики, желающей видеть все этапы скачки и борьбы наездников, не могли раствориться на час или два, а то и больше, в бесформенном пространстве, как они имели обыкновение это делать в своих родных степях.
К северу от поля глинобитные кишлачные домики, свежевыкрашенные в розовые и голубые тона, создавали на фоне гор праздничное обрамление. По западному краю тянулась длинная каменная стенка. С восточной стороны пестрая колонна грузовиков, сверкающих всеми цветами радуги, выполняла функцию еще одной ограды. Ну и, наконец, с южной стороны за дорогой, ведущей в Кабул, возвышался холм.
И повсюду – вдоль стены и вдоль грузовиков, на плоских крышах и в складках местности – везде пестрели халаты, шаровары, разноцветные куртки и тюрбаны, вибрирующие в пронизанном солнцем и ветром воздухе. Глядя на это скопление людей, можно было подумать, что в Кабуле не осталось никого – ни молодых, ни стариков, ни детей.
А трубы все пели и пели.
Их веселые звонкие голоса, разносимые ветром, придавали бодрости тысячам и тысячам людей, большая часть которых прошла с утра пешком по пыльной дороге восемь километров, отделявших столицу от ристалища. А люди все подходили и подходили. Над дорогой висели облака пыли, сквозь которые с трудом пробивались солнечные лучи. Путники изнывали от жажды и, когда они, наконец, добирались до холма, расположенного к югу от дороги, то первым делом шли к эфемерным чайханам и к лоткам, наспех сколоченным накануне расторопными торговцами винограда и дынь, арбузов и гранатов. Люди более состоятельные громко подзывали мальчишек с наргиле, шнырявших в толпе и получавших монеты за каждую затяжку дымом.
А трубы все пели и пели.
Напротив холма, с другой стороны, проходившей у самого подножия холма, стояли вплотную к игровому полю, даже вдавшись слегка в него, построенные специально по случаю праздника три павильона светлого дерева, обтянутые яркими тканями. Народ, еще не освободившийся от воспоминаний о кочевой жизни, называл их большими шатрами.
Афганские сановники в европейских одеждах, но с шапочками кулах, напоминавшими пирожки, заполняли шатер справа. Высокопоставленные иностранцы располагались в левом шатре. А вот в центральном павильоне, где посередине стояло большое красное кресло, пока никого не было. Там ждали короля.
Люди в каракулевых шапочках разглядывали иностранных гостей. Среди них были люди, воплощавшие знание, богатство и силу самых могущественных стран мира. Но глаза афганцев не останавливались на этих высокопоставленных офицерах, на этих ученых, на этих главах дипломатических миссий. Как зачарованные, не веря своим глазам, смотрели они на женщин, находившихся в павильоне для иностранцев. Удивление было понятно: в огромной массе народа, скопившейся вокруг поля, не было ни одной женщины – только здесь, в этом маленьком уголке. Даже под чадрой, прячущей женщину с головы до пят, даже за тройной волосяной сеткой, удушающей маской, скрывающей лицо, ни одна женщина, хоть на севере, хоть на юге от Гиндукуша, будь она хоть самого скромного, хоть самого знатного происхождения, не должна была и не могла присутствовать ни на каком публичном зрелище, даже освященном традицией, вошедшем в плоть и кровь народа.
Проходили один за другим века, но степнячки никогда не видел игр, о которых с увлечением говорили, которыми жили, которыми бредили их отцы и мужья, братья и сыновья. И когда, наконец, праздник дошел до столицы и проводился во славу короля, то все подданные его, до последнего кабульского нищего, были приглашены порадоваться зрелищу, все, но только не королева, жена короля. Задумчиво сидели афганские сановники, слушая громкие разговоры и звонкий смех иностранок с обнаженными руками и голыми шеями.
А трубы все пели и пели. И колыхались знамена.
Вот два солдата пронесли перед почетными трибунами большую обезглавленную тушу козла. Из шеи туши еще струилась кровь. Над крышами домов, над грузовиками, по склонам холма пронеслись выражающие нетерпение хриплые крики. Послышались взвизгивания иностранных дам.
Солдаты положили волосатую массу в неглубокую ямку, неподалеку от все еще пустой королевской трибуны, как раз напротив красного кресла. Слева от ямы, на таком же расстоянии от королевского шатра, блестел на солнце выкрашенный известью Круг справедливости. А еще ближе к трибунам, вдоль трех почетных павильонов, был вырыт для страховки широкий и глубокий ров с почти отвесными зацементированными откосами, предохраняющий монарха и его гостей. Такой был совет специалистов, прибывших из степных районов. Уж они-то знали, что разгоряченные пылом борьбы наездники не будут считаться ни с кем и ни с чем, даже с королем, в честь которого, собственно, они и собирались рисковать жизнью.
Еще громче, еще звонче запели трубы. До трибун донеслась пыль от остановившихся на дороге автомобилей. Послышалось звяканье оружия, взятого «на караул». Толпа зашумела. В королевский шатер вошел в сопровождении свиты Захир-шах. Высокий, стройный, породистый, в европейской одежде, с шапочкой кулах из самого драгоценного каракуля на голове, он медленно приблизился к балюстраде.
После этого на огромном поле, обрамленном солдатами в касках, конными солдатами, у которых пики были украшены алыми плещущими на ветру флажками, шумной, яркой толпой, а за ней – цепями гор под ярким небом, начался парад, открывающий Королевский бузкаши.
На другом конце поля, там, где виднелся розово-голубой кишлак, до этого едва заметная группа всадников колыхнулась и торжественно, неторопливо стала приближаться к королевской трибуне. Впереди, выстроившись треугольником, ехали три трубача, наигрывая веселую и шаловливую, как походка девушки, мелодию, разлетающуюся на ветру. В нескольких шагах от них, красиво сдерживая великолепного арабского скакуна, ехал молодой полковник, родственник короля, назначенный руководителем и главным судьей состязаний. За ним ехали три седовласых всадника, пожилых, но настолько натренированных наездников, что они – это было сразу заметно, – явно чувствовали себя в седле лучше, чем на мягчайших подушках. Каждый из них привел с собой свою команду – из провинций Меймене, Мазари-Шариф и Каттаган, где с незапамятных времен водились самые выносливые, самые быстрые и прекрасно обученные кони и где жили самые сильные и ловкие всадники, достойные более чем кто-либо еще показать свое искусство самому королю.
Распорядители бузкаши были одеты в шелковые зеленые чапаны в белую полоску.
За ними ехали три команды, в каждой – по двадцать всадников, развернувшихся в цепочку. Неторопливо, шаг за шагом, приближались и росли на глазах шестьдесят самых лучших, самых знаменитых чопендозов, отобранных после сотен беспощадных, изнурительных испытаний, ехали на самых прекрасных конях Трех Провинций.
На этот раз чопендозы были одеты не в обычные чапаны. У каждой команды был теперь свой костюм, специально задуманный и пошитый для Королевского бузкаши. Те, кто приехали из Каттагана, были в белых рубахах в зеленую полоску и широких серых брюках, заправленных в черные сапоги выше колен. Наездники из Мазари-Шарифа красовались в куртках и брюках ржаво-коричневого цвета и рыжеватых коротких сапогах, доходящих до середины икр. А вот всадники из Меймене обуты были так же, но их темно-коричневые жокейские куртки были короче и просторнее. И на спине у них, словно звезда, красовалась белая шкурка каракулевого ягненка. На голове у всех чопендозов была круглая шапочка с грубым мехом вокруг и острой верхушкой, сделанная, в зависимости от провинции, из толстой шерсти или из грубой кожи.
Вот в таком облачении медленно двигались они, с нагайками в руке, на великолепных конях всех мастей – от вороных до безупречно белых, шестьдесят героев степей, выстроенных в ряд, во всю ширину поля, ехали за трубачами, неустанно извлекавшими мелодии из своих инструментов, и за своими пожилыми предводителями.
Лица их, казалось, были вырезанными из дерева или же выкроенными из самой жесткой кожи. Желтоватый цвет лиц, жесткая складка губ на скуластых лицах, раскосые хищные глаза.
Шеренга из шестидесяти всадников подъехала к королевскому шатру. Чопендозы остановили лошадей и выпрямились в седле.
Слева – двадцать бело-зеленых курток.
Посередине – двадцать курток красновато-коричневого цвета.
Справа – двадцать коричневых курток с белым пятном на спине.
Каттаган.
Мазари-Шариф.
Меймене.
* * *
Как лучшего чопендоза своей провинции, Уроза поставили в середину команды из Меймене. Хотя и вправо, и влево от него выстроился целый частокол знакомых ему торсов, знакомых до запаха их пота в бою, Уроз, одетый в такую же жокейскую куртку, с такой же шапкой на голове, так же волнующийся, как его товарищи, все равно чувствовал себя находящимся вне команды, находящимся над ними, словно он был другой крови. Их грубое самодовольство, их удовлетворенное тщеславие не вызывали у него ничего, кроме отвращения. Как же им достаточно оказалось выехать на параде всем вместе наподобие дрессированных обезьян, и они уже возгордились! Слава, разделенная на шестьдесят человек. «Даже если бы нас было всего двое, все равно один был бы лишним», – думалось Урозу.
Король встал и, подняв руку к своему головному убору, поприветствовал всадников. Возле него, у балюстрады, стояло знамя, которое победитель, получив его из монарших рук, должен был отвезти на целый год в свою провинцию.
«Знамя будет мое», – мысленно говорил себе Уроз. Он представил себе лицо и фигуру Турсуна, осененные этим трофеем, какого еще не знала их степь.
Захир-шах сел в красное кресло. На лице Уроза появился оскал, заменявший ему улыбку. Комедия подходила к концу. Начинался первый королевский праздник бузкаши.
* * *
Начало было торжественным и медленным. В полной тишине, шаг за шагом, наездники медленно окружали яму, где лежала туша жертвенного животного. Когда они остановились, вокруг ямы образовалось компактное кольцо. Оно состояло из трех частей разного цвета: одна треть была бело-зеленая – команда из Каттагана, другая треть, выкрашенная в коричневый цвет, – команда из Меймене, и, наконец, еще одна, рыжая – команда из Мазари-Шарифа. На какое-то время этот огромный венчик трехмастного цветка замер.
И вдруг в воздух взметнулись плетки, взвились, словно головы бесчисленных змей, шипящих и свистящих над меховыми шапками, послышались буйные, дикие крики, слившиеся в один жуткий вопль, наполнивший все пространство над полем. Тушу козла закрыла своей массой толпа людей и животных. Никто даже и не уловил того момента, когда упорядоченное и торжественное движение превратилось в суматоху и яростный, не поддающийся описанию вихрь. Свист, нечленораздельная брань, угрозы… Нагайки хлестали по мордам лошадей, а заодно и по лицам противников… В схватке люди метались в разные стороны… Кони вставали на дыбы над спинами сбившихся в кучу людей. Приливы и отливы… Всадники, свесившись с лошади вниз головой, царапая каменистую почву руками, сбивались в кучу, стараясь добраться до обезглавленной туши, схватить ее за мохнатый бок и, вырвавшись из окружения, ускакать с добычей. Но стоило одному из них добраться до туши, как другие руки, не менее сильные и ловкие, не менее хищные вырывали ее. Так несчастный козел переходил из рук в руки, взлетая над шеями лошадей и перед их мордами, пролетая под их животами, снова и снова падая на землю. И тогда, словно из недр кипящей волны, возникал новый поток конских крупов, грив и голов, устремлялся к центру, превращаясь в настоящий вал с новыми всадниками, и новые плети хлестали направо и налево по крупам, по головам, по спинам. Вал нарастал, превращался в водоворот и уступал место следующей волне, накатывающейся извне.
Только один всадник с белым знаком провинции Меймене на спине не участвовал в этой безумной схватке. Он все время был рядом с дерущимися на самой кромке водоворота, но не давал втянуть себя в вихрь яростных схваток.
«Тут они еще злее и безумнее, чем у нас, – думал Уроз, наблюдая своими жестокими и коварными глазами за атаками чопендозов. – Ведь и здесь, как и там, это безумие – лишь напрасная трата сил. Ведь того, кто вырвется с козлом, тут же настигнут другие».
Уроз заставил своего Джехола попятиться назад. Водоворот как раз двинулся в их сторону.
«И ведь все они понимают это не хуже меня», – мысленно говорил себе Уроз.
Он внимательно следил за ударами и вибрацией тел, за наскоками и откатами, за приливами и отливами массы дерущихся всадников, попавших в ловушку и теряющих голову в этой драке, запах которой, смешивающийся с запахом пыли, становился все более острым, все более крепким.
И тут Уроз подумал:
«Я ошибался. Они уже ничего не понимают».
Парадная одежда уже была испачкана потом, пеной, кровью. А лица всадников, на миг возникавшие между людскими плечами и конскими гривами коней, измазанные глиной, исполосованные нагайками были похожи на растянутые маски с застывшим на них выражением боли и одновременно счастья, и на них уже было невозможно прочитать больше ничего, кроме инстинкта насилия.
И еще Урозу подумалось:
«Они играют ради игры… А я – ради выигрыша…»
И тут же резким движением удержал Джехола, бросившегося было вперед. Конь встряхнул головой. Уроз медленно погладил ему шею. И сказал вполголоса:
– О, Джехол, тебе тоже хочется поиграть… Еще рано… Учись сохранять силы для единственного броска, для победы. Это трудно истинному бойцу… По себе знаю…
Уроз продолжал следить за всеми перипетиями не утихающей схватки. В памяти его всплывали иные бои, те, в которых участвовал совсем молоденький юноша в простой чалме, ибо он еще не имел тогда права на шапку чопендоза и превосходил своей горячностью и напористостью всех остальных.
– Я тоже когда-то был таким, о мой Джехол, – сказал Уроз своему жеребцу.
На какую-то долю секунды он вновь ощутил, с тоской вспомнив о ней, ту грубую прежнюю ярость, ту варварскую радость, которые передаются от бойца к бойцу даже без видимой причины и объекта для нападения и зажигают огонь в крови мужчин.
И опять Джехол устремился вперед. Уроз осадил его так круто, что жеребец взмыл на дыбы и громко заржал. Безжалостная гримаса опять исказила скуластое лицо Уроза. Участвовать в игре бузкаши по-умному его учили не уздечка и не удила, а уроки Турсуна.
«Когда Аллах не дает силу рукам и плечам, он рассчитывает на мозг всадника».
Сказанные давно, эти слова перекрывали шум дикой суматохи. А низкий голос Турсуна с его обидной интонацией добавляли, как и в былые времена, к сказанным словам еще и слова невысказанные, подразумеваемые.
«Эх ты, заморыш несчастный, ты только посмотри на мое тело. А теперь посмотри на свое. Зачем ты пытаешься играть по моим правилам?»
Невыносимое унижение. Но и полезное.
– Я понял, я все тогда понял, – сказал Уроз непонятно кому: жеребцу, самому себе или отцу.
Тут на него стал надвигаться новый вихрь обезумевших людей и лошадей. И снова он заставил Джехола отступить. А слова все искали выхода:
– Это было труднее перенести, чем дать себя растоптать, раздавить, растерзать… как вот они сейчас…
Уроз глубоко вдохнул горный воздух, впервые смешавшийся с запахом пота, кожи, ранений, с запахом бузкаши. Вспомнил он и презрительный смех, каким награждали его поначалу за упорное нежелание вступать в стадную драку. Он отдалился, берег свои мускулы и дыхание и подкарауливал, как волк, как коршун, удобный момент, подкарауливал одинокого всадника, оказавшегося близко к цели, и тогда с нерастраченными силами, на отдохнувшем коне, со спокойными нервами нападал, отнимал добычу и выигрывал, выигрывал, выигрывал. Выигрывал всегда. Выигрывал везде. Те, кто смеялся и оскорблял его, давным-давно умолкли. А его осторожность принесла ему славу.
Но тут колени Уроза резко сдавили бока жеребца. Веки на ни на секунду не ослабевающих свое внимание глазах дрогнули. Схватка переместилась ближе к трибунам.
«Сегодня они, похоже, прочно тут завязли, – подумал Уроз. – Разъярились, наверное, еще и от присутствия короля».
И тотчас подумал:
«А ведь он и сейчас на меня смотрит, смотрит и видит, что я в сторонке держусь, в укрытии, как пес какой-нибудь трусливый, робеющий перед этой сворой. У нас в Меймене, в Мазари-Шарифе, в Каттагане все бы поняли. Там меня знают, знают, что я собой представляю. А здесь – кто такой Уроз для этих принцев, для короля, для знати, для иностранных господ из заморских стран? Трусишка и только».
Рука Уроза нервно сжала ручку нагайки. Стоит ударить ей, и он окажется в самом центре сражения. Он поднес плетку ко рту и впился зубами в кожу. Нет, он не поддастся ложному стыду. Он будет вести игру по своим правилам. А вот когда он сбросит в Круг справедливости добычу, ради которой дерутся эти дураки, когда из его горла вырвется крик «Халлал! Халлал!», самый прекрасный клич на свете, вот тогда и чужеземцы, и принцы, и король вынуждены будут признать его победу.
«Потерпи, потерпи! – говорил Уроз коню, хотя тот и так стоял, не шелохнувшись. – Сейчас кто-то из них вырвется, я уже чувствую».
Через несколько секунд ему показалось, что это наконец произошло.
В середине схватки появился всадник на вздыбившемся коне, державший над гривой своего коня тушу козла, из которой уже вылилась половина крови вместе с остальным содержимым. Его сразу окружили человек двадцать дико орущих безумцев с искаженными от ярости лицами, с руками, протянутыми, как гигантские клещи. Но державший тушу всадник был так высок, а конь его так монументален, что остальным никак не удалось дотянуться до добычи. Они стегали его, били великана рукоятками нагаек по лицу, по запястьям, но все было тщетно. Это был Максуд, сам «грозный» Максуд, известный среди чопендозов Мазари-Шарифа своей легендарной силой, огромным ростом, богатством и отличными скакунами.
«Максуд не отпустит, Максуд выскочит!» – подумал Уроз неожиданно для себя – настолько тяжело далось ему ожидание – и пожелал успеха самому ненавистному противнику, сыну богача, чье имя он ненавидел пуще всего на свете.
Он про себя давал ему советы, указания, руководил им:
«Давай, давай, Максуд, ну, бей же левой… Ты же так силен, что должен сбросить этих двоих, которые на тебя насели. А потом отпусти коня. И опять бей. И скачи, пробей кольцо, вырвись и скачи! Давай, Максуд, давай!»
Всаднику-великану, слишком медлительному, слишком тяжелому, не хватило всего лишь одного мгновения, чтобы осуществить маневр. И этим опозданием воспользовались обезумевшие противники. На руках его повисли десять рук, столько же вцепились в уздечку и в гриву его коня. Под их весом Максуд осел до их уровня и исчез из поля зрения.
«Поросенок несчастный! Осел безмозглый, теперь все надо начинать сначала», – проворчал Уроз. И подумал: «Эх, Турсун бы на твоем месте…»
И он представил себе отца, – таким, каким видел его много раз, – вознесшимся над кучей голов в меховых шапках, над буйно мечущимися гривами и разбушевавшимися плетками с презрительной усмешкой на устах, с зажатой в кулаке обезглавленной тушей, всегда умевшим вырваться из окружения. Сердце Уроза наполнилось застарелым жгучим восхищением. И невыносимым страданием – быть сыном Турсуна и не иметь возможности сравниться с ним. Тут Уроз мысленно сказал себе:
«Да, но у него всегда был Джехол».
И тут же возразил себе:
«Так ведь сегодня и у меня тоже есть Джехол. Ну…»
Сам того не замечая, он осадил жеребца раз, другой. Напрягши спину и колени, незаметно для самого себя пригнулся к гриве. Глаза его сузились и превратились в едва заметную щелку, чтобы лучше видеть темную мохнатую массу, переходившую из рук в руки, то между крупами лошадей, то между их головами, а то и под их животами.
Одинокий вопль Уроза, высокий и долгий, как вой вышедшего на охоту волка, внезапно разрезал общий шум. Подстегнутый хлыстом и шпорами, Джехол ворвался в кучу дерущихся. Никто из чопендозов не ожидал нападения сзади, да еще такого мощного и внезапного. Уроз сразу прорвал их кольцо и благодаря правильному расчету оказался рядом с обезглавленной тушей. Он схватил ее на лету, вырвал из чьих-то рук, поднял Джехола на дыбы, заставил повернуться и через не заполнившуюся еще брешь вырвался и поскакал.
И тотчас сзади послышался галоп погони. И Уроз понял, что как ни стремителен Джехол, его все равно догонят. Иначе и быть не могло. Даже если бы он первым доскакал до мачты, вокруг которой должна объехать туша козла, на обратном пути его неминуемо должны были встретить другие всадники. К чему тогда тратить силы в ненужной глупой гонке? Он только что проявил перед всеми свои бойцовские качества. Хватит. Сейчас надо было замедлить галоп, отделаться от туши, изобразив борьбу за нее, а потом опять занять выгодную позицию в ожидании удобного момента. Так победа была бы обеспечена. Но в Урозе проснулась другая страсть, более сильная и древняя. На протяжении двадцати лет обучения он старался смирить ее и, казалось, смирил навсегда. Но тут, дав ей на минуту волю, он почувствовал себя камнем, выпущенным пращой и летящим незнамо куда, – молодая сила несла его прямо перед собой. Вместо того, чтобы придержать Джехола и предоставить другим драться за тушу козла, изматывать силы и ранить друг друга, Уроз, закусив плетку, прижав теплую тушу к седлу, подгонял жеребца коленями, шпорами и голосом, разделяя его нетерпение и наслаждение от скачки.
Какое это счастье – избавиться от тисков неторопливого расчета, терпеливого, осторожного ожидания и отдаться горячей энергии бушующей крови, мускулов, нервов, стать яростной скоростью, необузданной страстью.
– Давай, Джехол, скачи, мой принц, скачи же, мой король!.. Мы самые быстрые, мы самые сильные!
Так кричал, так пел Уроз совсем не своим голосом, а голосом заговорившего в нем, овладевшего им всемогущего демона.
И Джехол первым пришел к мачте. Далеко отстали даже чопендозы из Каттагана, более низкорослые и более легкие, чем мужчины из Мазари-Шарифа и Меймене, сидящие верхом на лошадях более быстрых и проворных, одетые в белые куртки в зеленую полоску, они были похожи издали на рой ос. Даже самые стремительные из них следовали за Урозом на значительном расстоянии. А он обогнул мачту и потряс, будто знаменем, тушей, чтобы распорядители бузкаши всех трех провинций и уполномоченный короля, и вся толпа убедились, что обезглавленный козел преодолел первый этап. Затем Уроз вновь прижал тушу к бедру и устремился на запад, ко второй мачте, до которой было добрых четыре километра.
Тут Уроз увидел едущих навстречу ему всадников, решивших не тратить понапрасну силы на преследование, а перехватить его на обратном пути. Их было человек двадцать, не меньше.
На что мог надеяться Уроз, пытаясь пробиться сквозь свору, готовую вот-вот наброситься на него? Но он все же попытался. Как если бы окровавленная туша, мягкая и мокрая, прижатая к его ноге, стала вдруг ему дороже собственной жизни, для сохранения ее, этой мохнатой шкуры, из которой все еще сочились кровь, жир и внутренности, он употребил все, что он знал, все, чем он был – всю свою ловкость, свою удивительную гибкость и скорость в движениях, отлично сохранившиеся у него с молодых лет, а еще силу, пришедшую с возрастом, несравненное искусство вольтижировки, многократно осмысленный опыт, накопленный за тридцать лет участия в играх, и, наконец, тот порыв пьянящей юношеской горячности, которому он отдался сегодня. Три старых распорядителя бузкаши, видя это, одобрительно кивали головой и в восхищении поглаживали седые бороды. Никогда еще Уроз не играл так блестяще, да и не было на долгой их памяти, как они ее ни напрягали, другого такого удивительного наездника. Он нападал, увертывался, делал обманные движения, уклонялся от схватки, возвращался, проносился как стрела между двумя нападающими. Сбрасывал с коня одних, ускользал от других. Свесившись то на один бок коня, то на другой, то прижавшись к самой гриве, когда тот вставал на дыбы, то исчезая под животом жеребца, он не боялся наскоков, разгадывал хитрости противников и, по-прежнему не выпуская тушу, продвигался вперед. Джехол великолепно помогал ему. Не только скоростью и силой превосходил он лучших коней, но еще больше – интуицией и умением. Он не просто выполнял каждое желание, каждый приказ хозяина. Он постоянно делал все лучше, чем смел надеяться Уроз. Обнаруживал большую силу и большую ловкость и в нападении, и в уклонении от схватки в хитром обмане и в неожиданном повороте. Мало того, иногда даже казалось, что коню недостаточно было просто выполнять самые трудные задачи Уроза. Или даже угадывать, предвосхищать их. Он сам придумывал трюки. Он играл для себя и собой. И инстинкт никогда не подводил его.
«Ты великий чопендоз, о Джехол», – думал в такие минуты Уроз.
Но уловки, хотя и позволяли увернуться от нападавших, заставляли снижать скорость, менять направление. Многие всадники были уже рядом и готовились вступить в борьбу за добычу.
Уроз слышал со всех сторон близкие голоса и дыхание противников. Надо было срочно что-то предпринимать.
Кто почувствовал слабое место в подвижном кольце всадников, загораживающих путь вперед, кто выбрал участок, охранявшийся только двумя противниками, к тому же наименее опасными? Уроз? Джехол? Оба одновременно? Уроз не приказывал коню.
Навстречу им скакали два всадника, но не в лоб, так как их кони не смогли бы остановить, не смогли бы выдержать атаку слишком сильного для них, слишком скорого коня, а навстречу, с двух сторон, так, чтобы схватить Уроза и Джехола каждый со своей стороны, чтобы зацепиться за них. Они встретили свою добычу одновременно, встретили ее с громким победным улюлюканьем. И тогда Джехол встал на дыбы, заржал и, повернув голову налево, укусил противника за руку, а Уроз, почти отделившись от коня, встал в стременах и ударил рукоятью плети другого чопендоза в грудь так сильно, что выбил его из седла.
«Все же я пронесу козла за вторую мачту», – подумал Уроз.
Тем временем вокруг него образовалась плотная стена из мускулистых тел. Подняв глаза, Уроз увидел вдруг где-то высоко над собой глаза Максуда Грозного, увидел узкие щелки на таком плоском лице, что оно казалось недоделанным. И в глазах Максуда, знавшего, с каким презрением относится к нему Уроз, читалась дикая радость человека, готового вот-вот утолить свою ненависть. И прежде чем Джехол успел увернуться от вставшего перед ним коня, равного ему по силе и весу, Максуд схватил Уроза за шею, поднял его, будто какого-нибудь щенка, из седла и, схватив свободной рукой тушу козла, закричал:
– Ага, решился, наконец, играть, как все! Так на же тебе, несчастный недоносок!
Великан сбросил Уроза с коня, пришпорил коня и понесся галопом к мачте. Опустошенный, одураченный, ничего не соображающий, смотрел Уроз вслед Максуду. Щеки его коснулась грива. Влажные глаза Джехола, сверкающие от нетерпения, глядели на него. Уроз встрепенулся. Он был сброшен – да еще как! – с такого коня. Его посрамили в глазах его верного друга… И еще более горькая мысль пронеслась у него в голове… Никогда Турсун…
Одним прыжком легкий, как в самые юные свои годы, Уроз оказался в седле. Шпоры вонзились в бока Джехола. И плетка тоже добавила коню прыти. Он мчался теперь уже не за козлом, за головой Максуда.
Великан был еще не слишком далеко. Ему пришлось отбиться от трех всадников из Каттагана, один за другим подскочивших к нему. Все они были маленького роста и легкие, но горячие и напористые. Так что каждая стычка хоть ненадолго, но задержала Максуда. Теперь он мчался прямо на запад. И Уроз был уверен, что догонит его.
Джехол был не слабее той лошади, а по скорости превосходил ее, да и весил Уроз вдвое меньше Максуда, причем он, как никто среди степняков, умел извлечь из своего коня все, на что тот был способен. Он быстро обогнал остальных преследователей и вздохнул с облегчением. В стычке с Максудом им нужно было остаться один на один. Другие люди и кони могли бы помешать в свалке, могли притушить его ярость и жажду крови… Вот это ему удалось… Больше никого, только он и Максуд… А расстояние все уменьшалось и уменьшалось…
Внезапно ему захотелось придержать Джехола и отказаться от погони. Что он станет делать, догнав Максуда? Убьет его? Но как? Что могут его руки и плетка против гиганта из Мазари-Шарифа? Эх, был бы у него нож, как в прошлые безжалостные времена, когда разрешалось резать поводья и подпруги!
Но Джехол все ускорял и ускорял свой галоп. Цель приближалась. Он опять играл в свою игру. И губы Уроза вновь скривились в волчьем оскале. Джехол был его лучшим оружием. А он об этом и не подумал. Все сделал за него инстинкт. С правой стороны, там, где находился Максуд, он освободил ногу, привстал в седле, слез с него и, держась на одном стремени, вцепившись в гриву, прижавшись вплотную к левому боку Джехола, закричал прямо в ухо жеребцу, испустил дикий-дикий, безумный вопль. Джехол сделал огромный скачок. А Уроз все вопил и вопил, вопил, не останавливаясь. При этом он направлял своего коня так, чтобы тот плечом, словно ядром, толкнул лошадь Максуда со всего размаха прямо в шею.
«Он упадет, а вместе с ним и Максуд, после чего эта гора мускулов окажется растоптанной до смерти, будет растерзана, размазана копытами по земле».
Так думал Уроз, и крики его прямо в ухо Джехола становились все более пронзительными.
Максуд услышал его, он оглянулся и пришел в ужас… С расширенными ноздрями и дико выпученными глазами мчался на него взбешенный неистовый зверь без всадника, несущийся сам по себе, один, несомый неведомой, родившейся из ярости силой… Чтобы хоть как-то смягчить удар, Максуд вытянул в его сторону руку с тушей козла. Рука эта была так могуча и так напряжена, что смогла изменить направление бега Джехола. На какое-то мгновение. Но в эту же секунду Уроз привстал над седлом и ударом сапога с острым каблуком переломил Максуду запястье.
Пальцы разжались. Туша козла выпала из них. Уроз на лету подхватил ее и поскакал дальше, пока Максуд, оставшийся позади, разглядывал непослушную руку, странно торчащую, изогнутую под каким-то необычным углом.
* * *
Уроз пронес свой трофей и вокруг второй мачты. И снова впереди оказалась целая свора чопендозов. На этот раз тут собрались все, кроме раненых, чьи лошади, громко окликаемые конюхами, бродили по полю. Все сжигаемые страстью, страстью, достигавшей верхнего предела ярости. Страсть эту подстегивало понимание того, что игра вступила в последнюю фазу. Теперь тот, кто владел тушей козла, мог стать, если ему хватит силы, ловкости и удачливости, если он сумеет так или иначе домчаться до Круга справедливости, победителем Королевского бузкаши.
И свалка возобновилась, такая же, как в самом начале игры. Опять тушу перехватывали друг у друга всадники на вздыбленных лошадях, опять поднялся вихрь грив, шапок и плеток, и лица, взмокшие от пота, опять принимали на себя удары нагаек со свинцовыми грузилами на концах. И опять один из всадников вырвался вперед. Но это был не Уроз. А он вместе со всеми остальными, кинулся в погоню. Как все остальные, он догонял, дрался, нападал. Туша то оказывалась в его руке, то уходила от него и снова возвращалась, и снова уходила. Но это уже не имело для него значения. Ему хотелось теперь только одного: бить и хлестать, без конца бить и хлестать.
Погоня и отход, обманные выпады, удары сбоку, стычки один на один и групповые потасовки, и движение вперед вместе с кричащей толпой, постепенно приближавшейся к белому кругу, отмеченному известкой. Блестя на солнце, он был уже в поле зрения дерущихся. В этот момент трофей находился в руках чопендоза из Меймене. Он пытался вырваться из окружения. Рядом с ним оказался всадник из Каттагана, который вырвал тушу козла и помчался вперед. Еще немного, и он бы оказался возле Круга справедливости. Но дорогу ему случайно преградила лошадь без всадника, что заставило каттаганца сделать крюк и потерять, таким образом, несколько секунд. А когда он вышел напрямую, на его пути уже возникло препятствие из дюжины чопендозов. Он видел и слышал, как его окружают. Но не мог же он допустить этого у самой цели. Он повернул к трибунам и помчался к ним. Остальные бросились за ним. Как от них уйти? Перескочить ров, отделяющий трибуны от поля? Почетные гости настолько явственно увидели это желание в широко раскрытых от ужаса глазах всадника, что невольно отпрянули назад. Однако в последний момент всадник в полосатой бело-зеленой куртке осознал, что ров слишком широк, что надежды на спасение там нет, что в лучшем случае он просто разобьется о бетонный бруствер. И тогда он свернул вбок, поскакал вдоль трибун, а все чопендозы — за ним. Скорость гонки, азарт, написанный на лицах, крики наездников ни у кого не оставляли сомнения в том, что ради своей истерзанной, жалкой козлиной шкуры эти степные всадники, если бы могли, не задумываясь, растоптали бы и самого короля.
Доскакав до края трибун, чопендоз оказался перед стеной из грузовиков, заполненных зрителями в развевающихся на ветру чалмах. Для каттаганца оставалось два выхода: слева – тяжелые грузовики, то есть, рано или поздно, – тупик, справа – узкий и короткий проход на кабульскую дорогу. Туда он и кинулся. Там стояли машины королевского эскорта. Каттаганец проскакал между ними и оказался перед склоном холма, сплошь усеянным людьми, буквально забитым густой толпой с палатками, с лотками, с огромными медными самоварами.
Чопендоз не стал раздумывать. Удар шпорами, свист плетки, – и лошадь врезалась в толпу. Те, кто скакал за ним, поступили так же. Склон холма вмиг опустел. За всадниками остался след из поваленных прилавков с фруктами, самоваров, шапок, тюрбанов и брошенной обуви. Толпа, спасаясь от лошадей, давила и топтала тех, кто стоял сзади и кого не задели лошади. Над холмом во все стороны разносились крики испуга и дикое улюлюканье, нечто похожее на стенания земли и скал.
Неужели ему удалось израсходовать всю свою дикую ярость? Или же он увидел и узнал скульптурное лицо человека в красном кресле? Так или иначе, но перед королевской трибуной Уроз внезапно пришел в себя.
Умелым движением руки он придержал Джехола, и когда толпа чопендозов устремилась в проход, ведущий к холму, он за ними не последовал.
А там, на холме, крики перепуганной толпы не стихали. Уроз поехал в сторону. В создавшейся неразберихе уже ни у кого не было никаких шансов догнать каттаганца. Уроз решил поджидать его у подошвы холма, вблизи трибун для почетных гостей, рядом со рвом и защищающим их ограждением.
Тот, кто владел сейчас тушей козла, должен был неминуемо проехать мимо него, на расстоянии протянутой руки, чтобы добраться до сверкающего рядом на солнце мелового круга.
Поблизости никого не было, если не считать одинокого наездника огромного роста, Максуда, с рукой на красной перевязи, бесцельно, теперь уже в качестве зрителя, прогуливающегося на коне взад и вперед.
«Бывший Грозный», – равнодушно подумал Уроз.
Он вернулся в свое нормальное состояние. Окружающие теперь снова были для него лишь фигурами в игре. Наклонившись к гриве Джехола, он погладил его, чтобы тот был готов к нападению.
Все произошло, как он и предполагал. Каттаганец вернулся на кабульскую дорогу, одним скачком пересек ее и кинулся к проходу. Уроз выскочил из засады и, прежде чем тот сообразил, кто нападает и откуда, прежде, чем первый из преследующих его всадников успел подскочить, плечо Джехола мощно ударило коня каттаганца. Сидевшему на нем человеку в полосатой куртке едва удалось удержаться в седле. Но еще прежде Уроз схватил трофей и один устремился к цели. Достиг ее, остановился у сверкающего Круга справедливости, высоко поднял руку с остатками туши. Замахнулся, чтобы швырнуть ее, и набрал воздуха для победного крика «Халлал!»… Однако тут в густую шерсть козлиной туши вцепилась огромная рука, здоровая рука Максуда. Помешать Урозу бросить добычу в цель тот не мог, но зато ему удалось как бы присоединиться к его движению и вместе с ним швырнуть тушу в центр круга. На мгновение все затихли в растерянности. А потом чопендозы Меймене и Мазари-Шарифа в едином порыве повернули взмыленных, почерневших от пота, белых от пены коней к королевской трибуне. И сорок глоток стали хором кричать, кричать поверх бетонного рва. В руках их свистели плетки. И те, кто был в рыжих куртках, и те, у кого на спине была белая метка в форме звезды, одинаково неистово требовали, чтобы победа была присуждена именно им.
– Мы победили, – надрывались чопендозы из Меймене. – Мазарец лишь прикоснулся к туше в самый последний момент. Вор, собака! Стыд, позор!
– Наглая ложь! – кричали те, кто приехал из Мазари-Шарифа. – Козла держал в своей руке Грозный. И швырнул его он!
Те и другие размахивали плетками, и убеленные сединами распорядители бузкаши не без опаски поглядывали на них. Пыль от топчущихся на месте коней клубилась над королевской трибуной. Сквозь пыль монарх видел грубые, искаженные ненавистью, обезображенные конвульсиями и ранами лица, лица, похожие на отвратительные маски, заляпанные грязью и кровью, орущие ругательства и проклятия.
Король поднял руку, и наступила тишина. И он сказал:
– По закону справедливости надо разделить успех пополам. Половина победы принадлежит Меймене, а половина – Мазари-Шарифу. И начать игру сначала.
* * *
Чопендозы получили передышку. Понадобилось некоторое время, чтобы забить другого козла и отрезать ему голову. Самые богатые из всадников воспользовались паузой, чтобы поменять коней. Кое-кто утолял жажду, жадно вгрызаясь в большие ломти арбузов, которые им протягивали их саисы, или ощипывая кисти винограда. Кто-то прилег, не выпуская, однако, из рук уздечек, кто-то покуривал с приятелями. Распорядители бузкаши, сидя в седлах, уговаривали земляков не играть, как они только что делали, каждый за себя, а отстаивать командой честь родного куска степи.
Уроз, верхом на Джехоле, стоял в стороне, а Мокки тем временем обтирал коня соломенным жгутом. Взгляд Уроза был направлен в сторону снежных горных вершин. Там далеко-далеко за ними находилось имение Осман-бая. Справедливо ли было решение короля? Не так уж важно! Оно все равно не помешает ему привезти и воткнуть в землю перед Турсуном королевское знамя.
Мимо прошли двое солдат, волоча за собой обезглавленную тушу козла.
* * *
Туша уже побывала у обеих мачт. И вот теперь битва за нее разгорелась примерно в полутора тысячах футов от цели. Всадник, которому удалось бы вырваться с добычей отсюда, реально мог надеяться на успех.
Уроз следил за схваткой на небольшом, точно рассчитанном расстоянии. Он играл упорнее, чем обычно. Хотя при этом старался не слишком рисковать: отнимал козла у игроков-одиночек, а когда его догоняли, не стремился удержать его во что бы то ни стало. Но сейчас он чувствовал, как во всем его теле, от стремян до уздечки, зарождается нечто вроде холодной лихорадки – именно в этом состоянии он был всегда особенно опасен.
В поле зрения Уроза был и кишлак с розово-голубыми домами в северной части плато, и холмы на юге, пестрые от развевающихся на ветру одеяний зрителей, и трибуны, где сидел Захир-шах в окружении гостей, солдат и полицейских, в окружении пеших и конных людей в военной форме. И еще видел Уроз чистое легкое небо над горами, за которыми солнце заканчивало свой бег раньше, чем там у него в долине. Вместе с тем он ни на секунду не терял из виду главного. Именно сейчас начиналась самая горячая схватка дня. Все чопендозы понимали, что, скорее всего, это будет последняя и решающая битва.
Как это не раз с ним случалось, Уроз и сейчас мысленно спрашивал себя, почему эти схватки не длятся бесконечно. В копошащейся массе плеч, спин, голов все противники друг друга стоят, и лошади их – тоже. И все же всегда кто-нибудь из них, один из них, нырнув куда-то вниз или в сторону, вдруг выхватывал мохнатую тушу, возвращался в седло, вырывался из кольца и галопом уносился прочь. Кому это удастся на этот раз?
Уроз решил, что даже если удача улыбнется кому-нибудь из его команды, он все равно не даст ему победить. Сегодня, считал он, никто, кроме него, не имел права крикнуть священное: «Халлал! Халлал!»
Но вот толпа дерущихся, которая, казалось, навсегда запуталась в самой себе, вдруг распалась, и из нее вырвался один боец, который стал прокладывать себе дорогу, кидая коня то влево, то вправо, изо всех сил работая плеткой. Использовав удивительный по ловкости и скорости финт, он миновал последний ряд всадников, отделявший его от свободного пространства. Он несся стремительно, прижимаясь корпусом к левому боку лошади, защищавшей его от преследователей, а свободной рукой тащил по земле мохнатую тушу. Вырвавшись на свободное пространство, отделявшее его от цели, он с пронзительным победным криком направил туда своего коня.
Урозу оказалось достаточно отпустить поводья. Отдохнувший Джехол сгорал от нетерпения. Сутолока схватки, от участия в которой хозяин удержал его и на этот раз, а также резкие запахи горячили ему кровь. Он резко рванулся вперед.
Всадник из Мазари-Шарифа беспощадно гнал свою лошадь. Ведь цель была так близка. Но тщетно. Крупный жеребец скакал гораздо быстрее. Несколько скачков, и Джехол догнал его. Несколько секунд они мчались бок о бок.
И тут Уроз смог, наконец, осуществить тот маневр, к которому готовился с начала игры, самый трудный, но в то же время самый красивый прием бузкаши. В самый разгар скачки он откинулся вбок, держась – чудо эквилибристики – лишь одной ногой в стремени, и секунду висел в воздухе, вытянув руки вперед. Расчет оказался верным. Руки его коснулись туши, вцепились в нее, а инерция броска, удвоив их силу, помогла ему выхватить, вырвать трофей.
Оставалось только вернуться в седло с этой ношей и доскакать до цели. Подобное восстановление равновесия не представляло для бывалого чопендоза никакой трудности. А ведь Уроз к тому же считался лучшим из лучших.
Однако когда он стал выпрямлять корпус, то почувствовал вдруг, что мышцы ему не повинуются, что он неловко, беспомощно болтался, не в силах что-либо сделать. Уроз не сразу понял, что случилось. Им овладело какое-то тупое удивление, когда он понял, что волочится по земле, что лицо его исцарапано колючками, а сам он тянется за конем, как мешок… Нога при этом еще оставалась в стремени. Достаточно было бы опереться на нее, схватить Джехола за гриву и подтянуться. Но между ступней и коленом не было никакой связи, никакого контакта. Значит, случилось что-то более серьезное, чем растяжение, чем вывих, чем повреждение связок или мышц. Уроз не раз испытывал подобные неприятности, что не мешало ему тут же вскакивать в седло и побеждать в гонке. Так что же сейчас? Как? И почему?
Урозу было некогда раздумывать. Джехол резко остановился, и ступня выпала из стремени.
В ту же секунду в самой черепной коробке Уроза, как ему показалось, раздался топот копыт десятков коней, и поднялась буря диких криков. Команды из Каттагана, Меймене и Мазари-Шарифа кинулись все вместе к туше, которую он все еще продолжал держать в руке.
«Сейчас меня растопчут и раздавят, – подумалось ему. – Превратят в такую же вот тушу, в какую превратился этот козел». Но выпустить добычу ему и в голову не приходило. Он не испытывал страха. Он не боялся ничего, и уж тем более смерти. «Ну, все, конец», – мелькнуло у него в голове. И еще он подумал: «Это напомнит Турсуну те времена, которыми он так гордился, времена, когда не проходило ни одного настоящего бузкаши без гибели хотя бы одного чопендоза».
С безумным улюлюканьем налетела на Уроза орда. Но достать его не могла. Джехол встал над ним, упершись в землю могучими трепещущими ногами, как живыми колоннами. Встал и всем туловищем, выдвинутой вперед грудью, копытами, зубами защищал хозяина. А Уроз прижимал к себе шкуру козла крепче, чем когда-либо в прошлом.
Но долго продолжаться это не могло. Пальцы его были все в крови от ударов рукоятками нагаек. Руки всадников протягивались уже между ногами Джехола, хватали Уроза за пояс, за волосы, другие тянули изо всех сил за тушу. Наконец, один из чопендозов выхватил обескровленного, лохматого и почти уже лишенного внутренностей козла. Остальные кинулись к нему.
Только тут Уроз ощутил по-настоящему позор своего поражения и понял, что останется жив… Откуда-то послышался леденящий душу вопль сирены, которая приближалась, росла. Машина скорой помощи с флажком Красного Полумесяца подобрала чопендоза и повезла его в больницу…
А от Круга справедливости донесся хриплый, опьяненный победой крик:
– Халлал! Халлал!
В ярости Уроз изо всех сил ударил кулаком по переломанной ноге, чтобы боль физическая заглушила мучительную мысль о поражении.
* * *
Больница находилась на окраине Кабула в большом парке, где было много цветов. Оборудована она была хорошо. Уроза встретили как нельзя более приветливо. Ведь король объявил, что чопендозы — его гости.
В операционной дежурный хирург, молодой афганец, учившийся у французских профессоров в Кабульском университете, сказал Урозу, что немедленно вправит большую берцовую кость в месте перелома и наложит гипс.
– Скоро нога твоя будет в полном порядке, – сказал он.
Уроз ничего не отвечал, ничего не понимал и ни во что больше уже не верил. В его сознании не осталось места ни для чего другого, кроме чувства стыда. Стыда, не имеющего названия, стыда безмерного.
Скорая помощь, манипуляции санитаров, – в степи никто и никогда не позволил бы себе обращаться с ним таким образом. Там, обхватив рукой шею товарища, он доковылял бы до лошади на одной ноге и вернулся бы домой, в свою юрту, как мужчина, в седле. Потом пришел бы костоправ, одетый, как все, в чапане на плечах, или же знахарь с магическими заклинаниями, и все было бы сделано втайне, как подобает. А тут он лежал на железной койке какой-то немыслимой формы, а за него все решал, как за глупого младенца, какой-то парень в белом халате. Причем – верх позора – его раздела какая-то иностранка, и она же побрила ему волосы на раненой ноге. Боль от операции просто не шла в счет по сравнению с этим бесчестием.
Затем его отвезли в огромную палату с отвратительным запахом, где лежало полно несчастных больных, и все они смотрели, как его везли к кровати. Хорошо еще, что стояла она в углу, возле приоткрытого окна, откуда доходил свежий вечерний воздух из парка, напоенный запахами цветов. Из уважения к чопендозу для него специально освободили эту койку, переведя лежавшего на ней больного в другую палату.
Теперь у Уроза было время поразмыслить о своем несчастье. Ни на секунду ему не приходила в голову мысль, что все произошло по его вине. Для чопендоза такого ранга это было немыслимо. Тогда по воле случая? Для Уроза случая не существовало.
Все, что ускользало от его воли и понимания, всегда происходило из-за происков каких-нибудь духов, демонов, таинственных сил, очень хитрых и мстительных. Но чем он заслужил сегодня их гнев? Ненароком воспользовался левой рукой, совершая омовение? Забыл в какой-нибудь решающий момент прикоснуться к старому кожаному мешочку с травой везения, висящему на шее у Джехола, как и у всех его предшественников? Как ни старался Уроз, он не мог вспомнить ни единого дурного поступка. Значит, сглаз, наведенный кем-нибудь из недругов, но кем? Кто этот завистник?
А тут еще, сделав резкое движение, Уроз ощутил какую-то странную тяжесть на левой ноге. Он приподнял одеяло, приподнял простыню, увидел на ноге гипс и пришел в ужас. Худшего предзнаменования нельзя себе и представить на теле живого человека. Маленький гробик! С каким сожалением, любовью, с какой призывной мольбой подумал Уроз о мазях, о бальзамах и травах, о змеиной коже, настоянной на молоке кобылицы, о волчьих клыках и скорпионовых жалах, растертых в тонкий порошок и хранимых в бараньем роге, – обо всех тех безотказных снадобьях, которые извлекал из своей сумки с соответствующими ритуальными жестами и заговорами знахарь с луноподобным лицом, лечивший чопендозов в Меймене.
Эти люди в Кабуле, что они, все сумасшедшие или же все настроены против него и хотят его погубить? Губы Уроза сделались сухими-сухими и горели от жара, а лоб и волосы взмокли от охватившей его тревоги.
Он резко опустил одеяло и простыню. К нему приближалась женщина-иностранка, которая брила ему ногу. Она была высокого роста, сильная, еще молодая, и лицо ее лучилось спокойной чувственной радостью. От этого ненависть Уроза к ней усилилась еще больше. С трудом подбирая слова, она обратилась к нему по-афгански. Но он ничего не понял. Тогда сосед по койке, кабульский лицеист, перевел ему. Несмотря на поздний час, в знак особого к нему уважения, Урозу разрешили принять посетителя.
По залу шел Мокки, смущаясь от стольких обращенных на него взоров и вобрав голову в плечи, чтобы хоть как-то уменьшить свой рост. Но, подойдя к Урозу и отвернувшись от остальных, саис выпрямился, и плоское лицо его расплылось в улыбке до ушей.
– Мне сказали, что Пророк уберег тебя и что скоро ты станешь таким же, как прежде, – сказал он.
И, не переводя дыхания, добавил:
– Джехол стоит в конюшне, он напоен, накормлен и перевязан. Подстилка хорошая. Овес хороший. Почти как у нас.
– А кто крикнул «Халлал»? – резко спросил Уроз. – Мазар или Каттаган?
По залу раскатился громкий смех Мокки.
– Замолчи, сын осла, – обругал его Уроз. – Чего ты расхохотался?
– Королевский бузкаши выиграл не мазариец и не каттаганец, нет, как бы не так, выиграл наш. Ты рад?
Уроз только зубы сжал. Это было хуже всего. Его команда смогла победить без него.
– Кто?
– Салех!
– Как Салех? Его же конь был на последнем издыхании.
Мокки поднял к потолку одну из своих огромных рук и воскликнул:
– Аллах вразумил его. Джехол ведь оказался без всадника. И он вскочил на него.
Все тело Уроза судорожно сжалось. Он вновь почувствовал тяжесть гипса на ноге. Итак, его же собственный конь еще и поспособствовал бесчестию хозяина. И он ничего не мог возразить: товарищ по команде всегда мог воспользоваться более свежим конем, если его хозяин выбывал из игры.
А Мокки все смеялся, но из уважения к Урозу теперь уже беззвучно.
– Так что ты теперь дважды благословен, – сказал он. – Меймене получает знамя короля, а Джехол с этого дня принадлежит тебе.
Поймав непонимающий взгляд Уроза, долговязый саис склонился над ним и шепотом сказал:
– Ведь Бешеный конь победил. Значит, он твой.
И тут Уроз вспомнил слово в слово торжественный обет, данный Турсуном перед толпой на базаре, в Даулатабаде:
«Если как то и должно быть, – сказал тогда Турсун, – мой Бешеный конь победит на Королевском бузкаши, то он будет принадлежать с того самого мгновения моему сыну, и только ему».
И вспомнил Уроз, как впервые в жизни испытал он признательность и нежность. Ему захотелось сплюнуть, – горечь переполнила его рот. Прекраснейший жеребец степей стал его конем. Но благодаря другому всаднику.
Опять подошла сестра. В руке ее была трубочка, поблескивавшая ртутью. Сосед по койке сказал, что это термометр, и объяснил, что ему нужно вставить его в задний проход.
– Не может быть, я ни за что не поверю, и никто на свете не заставит меня…
Поднявшись над подушкой, весь бледный, несмотря на постоянный свой желтоватый цвет лица, Уроз грозился, выкрикивал бессвязные ругательства, задыхаясь от стыда и ненависти.
– Я пришлю попозже кого-нибудь из афганцев, – пообещала в ответ сестра.
Мокки смотрел ей вслед, покачивая своей круглой головой. Он тоже был возмущен и не знал, как реагировать на такое бесстыдство. Затем он сказал Урозу:
– Салех и все наши из Меймене просят тебя извинить их за то, что они не пришли к тебе сегодня. Они сейчас на празднике, во дворце короля. Завтра ты всех их увидишь здесь.
– Нет, – грубо возразил Уроз. – Здесь я больше никого не увижу.
Хотя они разговаривали на узбекском, непонятном для кабульцев, языке, Уроз все же понизил голос и шепотом продолжал:
– В полночь подойдешь к моему окну, с Джехолом и с моей одеждой.
– Но ведь вход в больницу охраняют солдаты, – сказал Мокки.
– В карманах моего чапана есть деньги, – сказал Уроз. – Их там более чем достаточно, чтобы подкупить охрану. А если не согласятся, то переберись через забор и потом поможешь мне перебраться. Ты ведь у нас достаточно длинный для этого. И достаточно сильный.
– И к тому же я так хорошо понимаю, что говорит тебе твое сердце, – сказал Мокки.
* * *
Тем из больных, кому жар или боли мешали спать, довелось увидеть в ту ночь нечто странное: чопендоз, который лежал в углу палаты, приподнялся полуголый, доковылял на загипсованной ноге до окна, подтянулся, открыл окно, высунулся наружу и исчез.
Мокки тихонько усадил Уроза в седло. Тот взял в руки поводья. Они проехали через полуоткрытые ворота больничного парка. Сторожа в это время спокойно сидели в своем помещении.
Когда они выехали из парка, Мокки спросил:
– Как ты думаешь, они погонятся за тобой?
– Конечно, погонятся, – отвечал Уроз. – Но им ни за что меня не догнать.
Уроз остановил Джехола и сказал:
– Прежде всего, надо перебороть злосчастье. Иди-ка, принеси сюда камень.
Мокки принес огромный булыжник, из которых была сделана дорога. Уроз протянул ногу в гипсе и приказал:
– А теперь разбей этот маленький гробик!
Мокки ударил изо всех сил.
Уроза обожгла столь дикая и неожиданная боль, что он невольно так сильно дернул поводья, что конь взмыл на дыбы. Но проклятая коробка разлетелась на куски.
– В моей сумке лежит бумага, а на ней написано несколько строчек, – сказал Уроз. – Несколько строчек самого Пророка. Это один мулла из Даулатабада переписал их для меня из Корана.
Когда Мокки достал священный листок, Уроз приказал:
– Приложи его к ране и обвяжи твоим кушаком.
Что и было сделано.
Часть вторая ИСКУШЕНИЕ
I ЧАЙХАНА
Дорога в объезд Кабула была длинной, а для не знающих ее – еще и очень трудной. Но Уроз, хоть и спешил отъехать как можно дальше от больницы, счел, что это будет все же лучше, чем пересекать город. Ведь за несколько дней он повидал здесь столько полицейских, столько патрулей, казарм, офицеров и чиновников, что весь город представлялся ему огромной ловушкой. Он был уверен, что все эти люди получат, – если уже не получили, – приказ догнать его, арестовать и опять бросить на позорную койку, где им будет распоряжаться та бесстыжая иностранка. Мокки тоже так считал. Откуда же им, степнякам, было знать, что для сильных мира сего судьба какого-то чопендоза, даже очень знаменитого, не имела большого значения?
За ориентир они приняли бесконечную полуразрушенную стену, которая когда-то защищала подходы к Кабулу, то взбегая на вершины холмов, то спускаясь в овраги. Они поехали на значительном расстоянии от стены с внешней ее стороны. Уроза успокаивало то, что стена была довольно высокая. В отличие от создателей ограды, воздвигавших ее для того, чтобы обороняться от угрозы извне, для него она была защитой от города, такого огромного, слишком многолюдного и слишком шумного города, где никто в толпе ни разу даже не узнал его.
* * *
Тропинки, по которым беглецам приходилось ехать, петляли по крутым пригоркам, были все неровные, в рытвинах и осыпях. Но луна освещала местность достаточно хорошо, и Джехол ступал вполне уверенно. Когда вечные снега на знаменитых хребтах Гиндукуша окрасились розовым цветом зари, Мокки, оглянувшись, уже не увидел отрогов древней стены.
– Кабул остался далеко позади, – заметил он.
– Мы не теряли даром времени, – согласился Уроз.
– Что за конь! – воскликнул Мокки.
И грубой своей огромной ладонью он на удивление нежно погладил жеребца по шерсти. Джехол ответил ему веселым ржанием. Саис рассмеялся своим громким нескончаемым смехом. На этот раз и Уроз тоже почувствовал в своей груди отзвук этого смеха. Заря, перемещающаяся от вершины к вершине, как бы подтверждала: да, ему удалось перебороть свое ранение, свое поражение, свой позор, больницу и только что прошедшую ночь. Он снова является хозяином своей судьбы и едет верхом на собственном коне. Он увидал, как орлы медленно поднимаются в небеса. Один из них взлетел прямо перед ним. Лучшая из примет…
– Я слезу, – сказал он Мокки. – Совершу намаз.
Солнце уже встало.
Мокки спросил:
– А ты не повредишь рану, преклоняясь к земле?
– Не имеет значения, – ответил Уроз.
– Аллах милостив к страждущим, – настаивал Мокки. – Старый Турсун знает это: при том, что он такой набожный, он все же молится стоя. А ты можешь помолиться в седле.
Вот теперь-то, после этих слов, уже ничто на свете не могло помешать Урозу действовать так, как он решил. Равняться с отцом в инвалидности он никак не желал.
Опершись здоровой ногой на стремя, он перенес другую ногу через круп Джехола, держась за холку, выпрямился и вынул ногу из стремени, опустил ее на землю, согнул в колене, коснулся двумя ладонями земли и только после этого выпрямил переломанную ногу. Касаясь лбом земли, он вложил в молитву всю свою веру и все свое суеверие.
Распростертый позади него саис с детской доверчивостью повторял вполголоса священные слова молитвы.
Уроз выпрямился первым и начал повторять в обратном порядке все движения, которые он совершил, опускаясь на землю. Убедившись в своих возможностях, он поднялся слишком быстро. Слишком. Сломанная нога коснулась земли, и часть веса тела перенеслась на нее. Это продолжалось какую-то долю секунды, и давление на ногу было совсем слабым. Но этого оказалось достаточно. В сломанной кости послышалось некое подобие хруста. Дикая боль насквозь пронзила Уроза, и он подумал: «Ну, это уж слишком. Сейчас я упаду». Но он не обмяк и не позвал Мокки на помощь, а схватил Джехола за гриву, подтянулся на руках, вставил в стремя здоровую ногу и перебросил другую, нехорошую ногу, на другой бок лошади. Потом сквозь зубы произнес:
– Затяни повязку потуже, Мокки.
Прежде чем затянуть повязку, саис ощупал голень.
– Я чувствую острие сломанной кости, которое торчит из кожи.
– То, что случается после молитвы, не может причинить вреда, – отвечал Уроз.
И улыбнулся своим волчьим оскалом. У него опять появился повод бороться – на этот раз с болью. До этого она не сильно беспокоила его, как бы оставляла его в покое. Теперь же она будто пилой пилила по нервам. Бороться с ней, побеждать ее, игнорировать страдания – вот чем он был теперь занят.
Уроз крикнул:
– Садись скорее на круп!
Джехол пустился в путь с радостью.
«Он скакал во время бузкаши лучше всех других коней! – подумал Уроз. – А с середины ночи везет на себе без передышки двух мужчин, да еще по такой дороге. И не заметно у него ни усталости, ни раздражения!» Уроз потрепал рукой по боку Джехол а. Конь фыркнул и зашагал еще быстрее. Вдруг он вытянул шею, пошевелил ушами, громко втянул ноздрями воздух. Бока покрылись легкой испариной. Походка его стала более осторожной, более внимательной.
– Наверно, почуял какого-нибудь зверя, – предположил Мокки.
Уроз направил Джехола чуть в сторону от тропы, петляющей среди голых острых темных скал. И тут оба мужчины тоже услышали шум и поняли, что прямо перед ними, за складками местности, проходит дорога, ведущая на север. Единственная дорога, ведущая через Гиндукуш в степные районы. Только по ней могли туда попасть жители всех центральных, южных и восточных провинций, жители Кабула и Пешавара, Гардеза, Газни и Кандагара.
* * *
Вокруг царила осень, заканчивался пятимесячный период засухи. И хотя было еще совсем раннее утро, от бесчисленных колес, ног, копыт и лап уже поднималась легкая, тонкая пыль, образуя полупрозрачную завесу с завихрениями, которыми лучи солнца, пробивавшиеся сквозь пыль, играли почти так же, как в иных местах они играют поутру, пронзая сетку тумана. В этом облаке летучей пыли катили, шли, текли густым потоком машины, люди, животные.
Никаких правил обгона, никаких предписаний относительно разъезда при встречном движении тут не существовало. Все было пущено на волю случая, благодушия, гордыни, скромности, беззаботности, все тут полагались на судьбу.
Шум стоял в этом хаосе соответствующий. Людские голоса, ржание лошадей, блеяние овец, вопли ослов, лай собак, свист, сигналы машин, рычание моторов – все сливалось в один голос; пешеходы, всадники, пастухи, шоферы грузовиков, караванщики кричали на языках пушту, таджикском, хазарейском, узбекском, нуристанском, на языках племен, сменивших на этом древнем пути орды арийцев, фаланги Александра Македонского, толпы последователей Будды…
Купцы, пастухи, люди, отправлявшиеся куда-то в поисках работы и приключений или возвращавшиеся в родные пенаты, – все перемешались в этом потоке из людей разных рас, облаченных в разные одеяния, увенчанных разными головными уборами, запрягавших своих коней разной упряжью…
С небольшого возвышения у этой ведущей на север дороги Уроз и Мокки молча разглядывали этот поток, в который им предстояло влиться. Торопить Джехола они не собирались.
– А ведь мы здесь проезжали, – произнес, наконец, Мокки с наивным удивлением.
Уроз не ответил.
– Правда, ты ехал в большом красивом автомобиле Осман-бая, а я в грузовике, – добавил Мокки.
Погладив круп коня, он добавил:
– И Джехол тоже.
Уроз окинул взглядом иссохшую, словно выжженную огнем землю за дорогой: рыжую, охристую, теплого коричневого цвета. А вдали небо, такое чистое, такое чудесно светлое, опиралось своими краями на неподвижные волны гор. Глаза Уроза вернулись к дороге, к ее движению, к ее шумам…
Мокки увидел, что он подбирает плечи, собирает в руках уздечку.
Джехол стал медленно, осторожно спускаться с пригорка. Когда он спустился, Уроз коротким гортанным криком приказал ему войти в пестрый, шумный, неровный поток.
В первый момент степные всадники думали лишь о том, как бы не дать себя оглушить, зацепить, унести. Но пыли здесь оказалось не больше, чем в их краях, дышать и смотреть было тоже не труднее. А уж толкотни и грубости вокруг было гораздо меньше, чем во время бузкаши.
Через некоторое время раздался веселый хохот саиса. Мокки сказал Урозу:
– А ты знаешь, мне даже больше нравится ехать вот так. В том ящике на колесах, который привез нас в Кабул, ничего не было видно по сторонам, и к тому же я все время боялся за колени и бабки Джехола из-за толчков и дерганья машины.
Уроз ничего не ответил. Он думал о том, как еще далеко до Меймене, думал о солдатах и полицейских, которые, должно быть скакали, пытаясь его настигнуть. Только гордость мешала ему ежеминутно оглядываться, как убегающему от погони человеку.
– Джехолу тоже так лучше, – продолжал Мокки.
Жеребец сам приучался к новым правилам игры на большой афганской дороге, к пробкам, завихрениям, затишью, пустотам и толкотне, он уступал, подталкивал, объезжал, обгонял.
А дорога, подобно огромной книге с картинками, показывала им свои чудеса.
– Смотри, смотри! – кричал то и дело восхищенный Мокки.
Вон спускаются с летних пастбищ Нуристана стада коз, какие они черные, лохматые, веселые, какой у них гордый вид! А у юного чабана глаза-то голубые.
А вон идет слепой изможденный старик в лохмотьях, – Джехол чуть было не толкнул его грудью; этот старик идет один среди запруженной дороги, выставив вперед руки, будто крылья, идет, закинув голову назад, белки глаз подняты к солнцу, а он его и не видит: куда он так идет?
Вот едет телега с деревянными колесами, которую тянет пара быков, а в телеге сидят упакованные с головы до пят в непроницаемые одежды женщины. На лицах – паранджа.
Там бродячий музыкант тащит на спине свой громоздкий, тяжелый струнный инструмент, совсем не похожий на легкие домбры, звуки которых были так знакомы Мокки с детства.
Дальше два индуса-купца идут пешком рядом с мулами. Между вьюками – сундук без крышки, а в нем ткани, шелковые и хлопчатобумажные, посуда, ножи, и весь этот прилавок-витрина раскачивается на ходу.
А еще дальше – бродячие фокусники, дервиши, пилигримы или какие-то явно очень богатые люди, направляющиеся на соколиную охоту с хищными птицами на руке.
А еще грузовики.
Все машины – и самые хилые, и новые, мощные, были обклеены, как наверху, начиная с ветровых стекол, так и по бокам, со всех сторон, яркими, красочными картинками с изображениями отдельных цветов, букетов, деревьев, птиц, животных. Глядя на картинки, Мокки хохотал от радости. Он восхищался создавшими их неведомыми художниками. Он видел в них хорошее средство против усталости и неизбежных в путешествии неожиданных неприятностей.
– Смотри, смотри! – то и дело кричал он Урозу.
Но тот не отвечал. И глаза Мокки возвращались к чудесным картинкам. Грузовики, конечно, вещь отличная, но они ехали слишком быстро. Не разглядишь все как следует… То ли дело караваны… Слава Пророку, хоть караваны двигались со скоростью человека, причем человека неспешащего. Люди и животные в них не жалели времени на дорогу… Их можно было как следует разглядеть.
– Смотри, смотри! – говорил Мокки Урозу.
Но Уроз не хотел ничего видеть. Не ребенок же он, который кричит, не в силах утаить свою радость при виде любой новинки. Ну и что, что кругом то и дело обнаруживали себя невиданные чудеса незнакомой земли. У него была лишь одна забота: проехать ее поскорее, уехать от нее и у себя, в родном краю, вернуться в свой мир. В этом хаосе, царившем на дороге, Уроз видел только одно удобство: безопасность. Ведь среди этих движущихся людей, стад, грузовиков и караванов он был теперь подобен травинке в степи! И даже пыль, даже крики на дороге были его сообщниками. Они укрывали его, обволакивали, прятали и защищали. О своих врагах в Кабуле он уже больше не думал…
* * *
День достиг своего апогея, жара стала совсем нестерпимой. Небо поблекло, горы потеряли окраску, на земле не осталось никаких теней. От жары пыль превратилась в некое подобие раскаленной золы.
Количество путников сильно уменьшилось. Кочевники устраивали стоянки рядом с дорогой, не устанавливая палаток, и вместе с навьюченными верблюдами пережидали жару, чтобы с первыми признаками прохлады вновь двинуться дальше.
Эти чайные дома были расставлены по обе стороны дорог. При въезде в селения, большие и малые, всегда стояла чайхана, чаще – несколько.
Где бы они ни находились, какие бы ни были их размеры, как бы хорошо или плохо они ни снабжались, примитивное их обустройство осталось таким же, как много веков назад, таким, к какому привыкли сменявшиеся поколения путников и караванщиков Средней Азии. Кубический саманный дом, побеленный известкой, а в нем – темная комната. В фасадной стене – узкие, без какой-либо тщательности сделанные отверстия, выходящие на главную часть чайханы: земляное возвышение под навесом, обрамленным высохшими листьями когда-то зеленых вьющихся растений. Поддерживающие все это грубые, почти не отесанные, кривые столбы. Старые, изношенные до дыр паласы, прикрывающие землю. Еще какое-то тряпье цвета пыли. Вот и все.
Но эта бедность никого не печалила. Она была одинакова для всех, как и прием хозяев. В чреве огромных самоваров пела, закипая, вода. Вдоль побеленных стен блестели на полках чашки. В крохотных клетках попискивали перепелки. Фасады домов были расписаны наивными яркими цветами и арабесками. И повсюду, на фоне гигантских гор и деревьев, среди рек и долин, чувствовалась атмосфера дикой, полной свободы.
* * *
Солнце казалось навсегда, до скончания дней повисшим в зените своей орбиты. Двигавшиеся еще кое-где люди и животные едва передвигали ноги. Но Джехол, хотя и вез на себе двоих всадников, хотя бока его покрылись потом, шел по-прежнему споро, не меняя скорости.
Проезжая мимо то одной, то другой чайханы, Мокки видел путников, отдыхавших в тени навеса, до него доносились запахи шашлыка и яичницы на бараньем жире, он слышал позвякивание чашек, наполненных, как он знал, в зависимости от вкуса клиента, то зеленым китайским чаем, то черным индийским. Все его крупное тело страдало от жары, от жажды, от голода. Ему хотелось, наклонившись к плечу Уроза, крикнуть:
– Давай сделаем, как все! Давай же, наконец, остановимся!
Но он стыдился признаться в своем нетерпении, стыдился своей усталости перед человеком старше его по возрасту, менее сильным, да еще и раненым. Тогда он стал прибегать к хитростям, которые казались ему очень удачными, и говорил:
– Посмотри, Уроз, в этой чайхане есть говорящая птица, заморский дрозд.
Или, например:
– Смотри, смотри, Уроз, вон самовар, по-моему, это самый толстый из всех, которые мы только видели.
Или еще:
– Вон там люди из грузовика вышли, такие, наверное, диковинные истории рассказывают!
Но все усилия оказывались напрасными. Сидя будто влитой в седле, сжав губы, Уроз по-прежнему направлял коня прямо перед собой по опустевшей, огнедышащей дороге. При этом он страдал от жары и жажды гораздо сильнее, чем Мокки. Рана давала себя знать. У Уроза усилился жар, и он все сильнее жег ему кожу, внутренности, горло. Нога все тяжелела и тяжелела, а боль становилась все нестерпимее. Когда же, чтобы нога не казалась такой тяжелой, он заносил ногу в стремя, возникало вообще ощущение, будто кости разлетаются на куски. Тряпка, прикрывавшая рану, превратилась в скользкий, покрытый пылью комок, вокруг которого роились огромные мухи.
На подъезде к каждой чайхане Уроз чувствовал, как откуда-то из глубин костного мозга возносится нечто вроде молитвы: скорее уйти под навес, спрятаться от солнца, растянуться на ровной поверхности, снять с ноги дикую тяжесть и пить, пить, пить сперва прохладную воду из глиняного кувшина, а потом горячий черный чай, очень сладкий и бодрящий. Но именно оттого, что зов страдающей плоти был так силен, Уроз отказывался внимать ему. Более того: он испытывал жестокую радость от своего оскорбительного невнимания к нашептываниям этого внутреннего голоса. Горячее раскаленного неба и внутреннего жара жгло его желание доказать своему телу, что, как бы ни были сильны страдания, все же не оно, а он здесь хозяин. Что он может заставить свое тело сидеть в седле вечно, страдать без надежды на снисхождение.
Подъем, спуск… снова подъем. Уроз правил Джехолом, словно перед ними простиралась вечность…
Вот они подъехали к более крутому, чем до этого, подъему. Мокки спрыгнул на землю и пошел рядом с конем. «Он понял, что Джехол устал», – мысленно сказал себе Уроз. Разумеется, конь шел по-прежнему ровно. Но дыхание его едва заметно участилось, а походка стала чуть напряженнее. Уроз сжал зубы. Он не отступится. Он не сменит тот бескрайний, ничем не ограниченный мир, которого он достиг одной своей волей, на мир, по-прежнему подчиненный ограничениям. Он заставит Джехола продолжать путь, как он заставляет самого себя продолжать до той цели, у которой нет предела, до полного распада и самоуничтожения. Но потом самый сильный инстинкт Уроза, его воспитание, традиции его народа, его степь – все восстало, объединившись против него. Мужчина из Меймене, наездник, чопендоз не имел права так поступать со столь благородным конем, каковым был Джехол.
– Мокки, – произнес Уроз вполголоса, – найди для коня самую лучшую чайхану.
Когда Мокки сделал, наконец, свой выбор, движение на дороге успело несколько оживиться. В стороне от дороги, в низине, расположился большой, напоминавший сердце своими очертаниями, кишлак, посреди которого протекал ручей. Чайхана располагалась на самом острие «сердца». Была она похожа на все другие заведения такого рода, но у самой ее террасы протекал чистейший горный поток, орошая небольшой сад из нескольких ив.
Уроз направил туда коня и, когда тот остановился, не стал опираться на плечо, подставленное Мокки, спрыгнул на здоровую ногу.
– Не надо, – сурово отверг он услуги мальчика-слуги, подбежавшего с ватным матрасиком.
Потом приказал Мокки:
– Займись лошадью!
Когда саис вернулся, Уроз лежал совершенно неподвижно на красноватой земле. Руки его были вытянуты вдоль туловища. Если бы не подрагивание век, его можно было бы принять за мертвеца.
Мокки стало стыдно за то, что он так вот бросил Уроза, страдающего от жажды, а сам напился прямо из ручья, жадно припав к воде рядом с мордой Джехола. Он крикнул:
– Бача… срочно сюда… Сейчас я позову…
– Только ты и никого больше, – шепотом произнес Уроз.
Любое постороннее лицо, любой чужой голос были ему невыносимы. Как только он вытянул сломанную ногу на свежей глине садика и расположил тело так, чтобы поменьше болела рана, Уроз получил от контакта с землей, от ручья с его журчанием, от дерева с его тенью такой заряд блаженства, что ему уже ничего не хотелось ни от кого-либо, ни, в первую очередь, от самого себя.
– Сейчас, сейчас… я тебе обещаю… ты сейчас все получишь… – воскликнул Мокки.
И побежал во внутреннее помещение чайханы.
– Ладно, ладно… – тихо сказал Уроз. Единственным его желанием было как можно скорее вкусить это удивительное счастье – перестать существовать и знать об этом. Но человеческое тело не позволяет слишком долго игнорировать его требования. Когда Мокки приподнял голову Уроза и поднес к потрескавшимся губам голубой исталифский кувшин, полный воды, Уроз опустошил его, не отрываясь, и отрывисто, даже грубо потребовал: «Еще!» А когда он утолил жажду, его стал терзать голод. Он с жадностью стал раздирать теплые, мягкие, тонкие лепешки, принесенные Мокки, заворачивал в них горячие жирные куски шашлыка, сорванные с шампура, и жадно, как волк, поедал. Едва насытившись, он почувствовал смертельное желание немедленно уснуть и действительно заснул, прислонившись спиной к стволу ивы.
Только после этого Мокки уселся рядом с ним по-турецки на землю и тоже стал есть. Он не отрывал от Уроза взгляда и после каждого глотка покачивал головой со счастливым выражением лица. Как же он хорошо поел, Уроз! Как же он крепко спит!
Мокки всю свою жизнь был слугой, работал то чабаном, то конюхом, всю свою жизнь он был обязан ухаживать за животными и людьми. Поскольку он был по натуре добр и физически силен, то не уставал радоваться жизни. Баран, нагулявший, благодаря его уходу, много жира и шерсти, конь, ставший гладким и сильным, в полной мере удовлетворяли его самолюбие и его потребность в нежности.
С такой же нежностью и гордостью смотрел он на спящего Уроза. Он не задумывался над тем, любит ли он его, как не спрашивал он себя и о том, любит ли он Джехола, когда почищенный скребницей, накормленный и напоенный им жеребец засыпает на свежей, приготовленной им подстилке. И вот сейчас, покачивая головой и улыбаясь всем своим почти безусым широким лицом, в узких глазах которого светились преданность и радость доброго веселого парня, Мокки думал о том, что доставил бы Уроза в родные степи Меймене целым и невредимым, даже если бы ему пришлось нести его до дома на руках.
* * *
Жара постепенно спадала, небо слегка потускнело. В листве дерева, под которым спал Уроз, послышались первые, пока еще совсем негромкие голоса невидимых птиц, возвещавшие приближение вечера.
А Уроз все спал. Разбудил его шум, когда в чайхану ввалилась большая группа вышедших из автомобиля людей. Они приехали с севера в старой, буквально держащейся на честном слове машине и стали заказывать одновременно кто черного чаю, кто зеленого голосами, осипшими от дорожной пыли и гуляющих по горным перевалам Гиндукуша ледяных ветров.
Не открывая глаз, Уроз потянулся, пошевелил сначала руками, потом здоровой ногой. Осторожно попробовал, как двигается другая нога. Острая боль тут же дала о себе знать. Но это уже была привычная, послушная ему боль, как бы ставшая частью его самого. Уроз с облегчением вздохнул. Он чувствовал себя хорошо. Усталость прошла. Преследовавшие его страхи и чувство стыда тоже исчезли.
В листве над его головой все громче, все слаженнее звучал хор пернатых, аккомпанировавший мыслям Уроза, который пришел к выводу, что в конечном счете его падение было случайностью, досадной случайностью. Конечно, из-за нее ему не удалось выиграть Королевский бузкаши. Но теперь ведь такие игры будут проводиться каждый год. Главное – поскорее добраться до родных мест и выздороветь. А там видно будет… Он остается все тем же Урозом, и к тому же теперь ему принадлежит Джехол.
Тут он открыл, наконец, глаза и встретился взглядом с саисом, сидевшим на корточках напротив. Он произнес умиротворенно:
– Я хорошо поспал, Мокки.
– Клянусь Пророком, ты прав, – воскликнул саис. – А сейчас ты получишь самый черный, самый горячий и самый сладкий чай, какой только бывает, чтобы взбодрить кровь человека! Бегу, бегу за ним.
Уроз взглянул на гигантские горные вершины и на небо над ними. По мере того как солнце садилось, все принимало свой изначальный цвет, все оживало. Небосклон словно вибрировал всеми оттенками голубизны, а на склонах гор появлялись там и сям алые краски, предвестники пурпурных сумерек.
Но Урозу, привыкшему к бескрайними равнинам, не нравились эти каменные стены вокруг. Они приближали горизонт, зажимали его в скалистые тиски. Опустив взгляд, он вернулся в свой привычный мир. Чайхана в степи, чайхана в горной долине, чайхана на головокружительном перевале, обдаваемом ледяным дыханием вершин и ущелий, и даже чайхана в безводной и безжизненной пустыне – это всегда все равно чайхана, всегда один и тот же приют для путника. Та же негромкая песня великана-самовара из красной меди, тот же запах бараньего жира, тот же аромат душистого чая, те же крики слугам-мальчишкам. Здесь Уроз чувствовал себя, как дома.
Да и путники, сидевшие тут и там по-турецки, были ему не совсем чужими. Купцы из Кандагара, ездившие закупать кожи каракуля и мерлушки в Мазари-Шариф и ковры в Меймене, – он часто встречал точно таких же в этих двух провинциях на базарах, на террасах постоялых дворов и узнавал их по особой свойственной им манере завязывать чалму и по длинным бородам, обильно сдобренным хной.
Саис вернулся с подносом, уставленным чайниками и чашками, и присел напротив Уроза.
– Джехол устал еще больше, чем ты. Спит до сих пор.
– Ему надо как следует отдохнуть. Мы двинемся дальше только завтра, – сказал Уроз.
Он посмотрел на усталые глаза Мокки, покрасневшие от пыли, солнца и бессонной ночи, на дырявый, состоящий практически из одних лохмотьев чапан, до смешного короткий на его длинном теле, и подумал: «Мне давно уже надо было купить ему другой».
Уроз при этой мысли не задавался вопросом, любит ли он Мокки, но на этот раз его улыбка не походила на волчий оскал.
* * *
Чай они пили, шумно втягивая его в себя вместе с воздухом, поскольку он был очень горячий. К тому же так он казался им более вкусным. Наслаждались чаепитием они молча. Тем временем птичий гомон в ветвях ивы становился все громче. Тень от дерева добралась уже до плеч Мокки. А косые лучи солнца, проникавшие под навес, придавали яркости и красномедному цвету самоваров и красочной посуде, и ярким рисункам на побеленном фасаде дома.
Кандагарские купцы закончили трапезу и расплатились. Хозяин чайханы вышел проводить их. Это был очень подвижный седобородый старичок, походивший из-за своего вытянутого профиля, седоватых волос и живого выражения глаз на серую мышь. Он сказал:
– Дорога дальше хорошая и надежная, и вы скоро будете в Кабуле. Жалко все-таки, что вы опоздали на один день. Вчера в это же время там состоялся Королевский бузкаши.
Услышав эти слова, Мокки вздрогнул и открыл рот. Резким жестом Уроз заставил его молчать и не шевелиться. Потом провел рукой себе по лбу. Возможно ли? Вчера! Только вчера!
Хозяин чайханы продолжал со вздохом и явным сожалением в голосе:
– Люди-то в Кабуле, небось, только об этом и говорят. Вот будет интересно послушать!
Старейший из купцов, судя по длине и обильной окраске бороды, ниспадавшей на богатые одеяния, возразил так, будто его уязвили в самом его достоинстве:
– Будь спокоен, меня они не удивят. Бедняги! До вчерашнего дня ждать своего первого бузкаши. В то время как я… Такого, как видел я, они никогда не увидят!
– Расскажи, о почтеннейший, расскажи и нам! – стал упрашивать хозяин чайханы.
И, не дожидаясь ответа, повернулся к террасе с криком:
– Бача! Эй, бача! А ну, неси сюда поживее мои подушки, мой чай, мои печенья, мое варенье.
Толстый купец медленно погладил свою огненную бороду, словно колеблясь, но ноги его уже начали медленно складываться, готовые вот-вот превратиться в сиденье. Спутники его последовали его примеру.
Нет, не успеть им к назначенному часу в Кабул. Такое здесь дело! Время проходит… А хороший рассказ остается.
* * *
Все необходимое – чашки, чайники, угощения и сладости – были тут же принесены, расставлены и разложены перед всеми. Оба бачи не меньше хозяина хотели услышать рассказ. Обслужив, они тоже уселись по-турецки в круг любопытных.
А между тем кандагарский купец не спешил. Спешить не полагалось по этикету, да и надо было разогреть любопытство. Он с наслаждением попил чаю с медовым печеньем, отведал варенья на бараньем жире и поблагодарил хозяина. Выдержал паузу. Затем обеими руками провел по своей огненной бороде. Все приготовились слушать.
– Много-много лет тому назад, – сказал он, – отправился я раз верхом, как все в ту пору, в поездку по северным провинциям. Хотелось купить самые лучшие шкурки каракуля. Это оказалось делом нетрудным. В Меймене они все отличные. Моим партнером был Осман-бай, богатейший и честнейший во всей округе человек.
Прислонившийся к дереву Уроз и Мокки, сидящий на собственных пятках, обменялись долгим взглядом. Осман-бай! Услышать его имя так далеко от дома!
Купец продолжал:
– Так вот, в ту пору Осман-бай женил своего младшего, своего любимого сына. Люди добрые! Что это был за праздник! (Тут рассказчик вознес глаза к небу, а борода его колыхнулась, словно язык пламени на ветру.) Что за свадьба! Она продолжалась семь дней и семь ночей. К Осман-баю в гости съехались губернаторы и генералы из трех провинций. И вожди племен – тоже. Некоторые приехали даже из Ирана.
А на седьмой день праздника им показали бузкаши.
Финиш, или Круг справедливости, как они испокон веков его там называют, – вы-то об этом услышали только вчера – этот самый Круг справедливости находился напротив того места, где сидел Осман-бай и его самые именитые гости. У ног его были свалены шелковые чапаны, драгоценные ковры, инкрустированные серебром ружья. А чуть в стороне чабаны сторожили каракулевых овец и породистых верблюдов, украшенных помпонами и перьями. И все это – чапаны, ковры, оружие, скот – все предназначалось победителю игр и наездникам, которые проведут самые блестящие атаки и покажут самые интересные приемы.
– Возможно ли такое? Раздавать столько богатств? – воскликнул хозяин чайханы.
В ответ купец только возвел к небу свои огромные карие глаза, обведенные краской. Ну что можно сказать по поводу такого невероятного невежества?
Мокки прошептал на ухо Урозу:
– А ты знаешь, он ведь говорит правду. Свадьба состоялась как раз в тот год, когда я родился и…
– Молчи, – ответил Уроз беззвучно, одними губами, побелевшими от волнения.
Ну как можно быть таким глупым и ничего не понимать? Он даже не почувствовал, как при имени Осман-бая пришла в движение какая-то могучая сила и что теперь надо было только внимательно, от слова к слову, следить, улавливать, подстерегать ее приближение.
– Перед началом состязания, – продолжал рассказчик, – с десяток наездников в старых чапанах и круглых шапках с оторочкой из лисьего или волчьего меха подъехали поприветствовать Осман-бая. Это были его чопендозы. С ними был один человек, вид которого меня удивил. Он весь был седой с лицом, покрытым морщинами. Передвигался он с трудом, что свидетельствовало о неоднократном переломе у него костей. На лице его сохранялись следы старых шрамов. Среди молодых и гибких всадников он выглядел не на месте. Я спросил у соседа: «А этому сколько лет?» И тот ответил: «Столько, сколько надо, чтобы вон там, среди чопендозов нашего хозяина, мы могли видеть его сына». «Ах вот оно что! – сказал я. – Значит, старик не участвует в бузкаши». «Участвует, как и все остальные, – ответил мой сосед. – Вся разница состоит в том, что он сидит на своем собственном коне».
Кандагарский богач, увлекшись воспоминаниями юности, резким взмахом развел руки в стороны от бороды.
– Так вот, в первой же схватке, – воскликнул он, – клянусь Пророком, этот старейший из чопендозов доказал, что он является одновременно и самым опасным. Во всех баталиях он был всегда в самой гуще борьбы и ближе других к туше козла. А конь его превосходил всех остальных и в силе, и в резвости, и в сообразительности… Да, друзья мои, уверяю вас, что этот старый наездник был прекрасен и на него было приятно смотреть. А поскольку Осман-бей, гостеприимство которого было беспредельно, велел оседлать для меня лошадь, я смог вблизи наблюдать за стариком в течение всей игры.
– Велик Аллах и велик Пророк его, – сказал хозяин чайханы. – Ну, а дальше, дальше-то что?
– Если бы я стал все рассказывать, то никогда бы не закончил, – сказал кандагарец. – Много часов прошло, и много верст они проскакали, много коней уже гуляли на свободе, чьи хозяева валялись в степи, выбыв из игры, раненые и покалеченные, когда старый чопендоз завладел тушей козла. Но что интересно, он не стал пытаться, как остальные, державшие тушу до него, вернуться и прорваться к Кругу справедливости. Он поскакал прямо вперед. А поскольку конь его был самым резвым и самым выносливым, то он увлек за собой в бесконечную степь и всех остальных.
Сложился ли у него в голове такой план заранее? Возможно, что и так: ведь он знал местность лучше других. Или же он просто воспользовался случаем? Не знаю, не могу сказать. Но вот как все было… В степи вдруг появилась одинокая пастушеская хижина, и он придержал коня. Другие тут же подскакали к нему. И вот тут старик впервые подстегнул лошадь, и они понеслись к домику с такой скоростью, что я было уже подумал: ну вот, сейчас разобьются о стену. Но в последний момент жеребец вдруг взмыл в воздух и полетел, да-да, полетел и опустился на плоскую крышу хижины.
У кандагарца пересохло в горле. Он захотел налить себе чаю. Но чайник оказался пуст. Молоденький слуга помчался к самовару с криком:
– Ради Аллаха и его Пророка, подожди меня, не рассказывай дальше.
Уроз неподвижно сидел с закрытыми глазами, с застывшим лицом, с окаменевшим телом. Только плетка в судорожно сжимавших ее рукоять пальцах слегка извивалась, будто умирающая змея.
– Вот, достойнейший господин, пейте, – сказал бача, вернувшийся с чаем.
Кандагарский купец напился и продолжал:
– Да, тот прыжок, какой совершил старый чопендоз на своем жеребце, был поистине необыкновенен. Лучшие всадники трех провинций на лучших конях того края напрасно попытались, но не смогли повторить того, что сделал он. Многие не сумели вовремя свернуть и разбились с размаху о стену дома. Другие же рванулись, заставили своих лошадей прыгнуть, но ни одна из них не обладала такой сноровкой и силой, как его конь. Многие лишь покалечили своих скакунов. А тех, кто подскакивал до уровня крыши, старый чопендоз ударом плети по лицу отбрасывал назад. А некоторых, чтобы поиздеваться над ними, бил просто мохнатой тушей козла, что приводило их в бешенство.
Но победителем старик в этот момент еще не был. Десятки уцелевших наездников на здоровых лошадях окружили дом, как стая волков окружает жертву, достать которую она еще не может, но уже не сомневается, что достанет.
Тут сын старого всадника крикнул изо всех сил:
– Что я могу сделать для тебя?
– Ждать, – отвечал отец, поглаживая по шее своего взмыленного скакуна.
Ах, друзья мои! Я и сейчас еще вижу ту степь в лучах заходящего солнца. Вижу одиноко стоящий домик. А на нем – великолепного скакуна и старика с иссеченным шрамами ужасным лицом.
– Вижу, и я тоже вижу! – воскликнул хозяин чайханы, – Но что было потом?
– Он стал насмехаться над теми, кто был внизу, оскорблять их, доводя до бешенства. При этом он поворачивал коня то в одну, то в другую сторону, словно хотел подхлестнуть его и броситься вниз. И всякий раз чопендозы кидались из стороны в сторону. А он, внимательно наблюдая за их перемещениями, вдруг увидел, что в том месте, где находился сын его, кольцо окружавших оказалось тоньше, чем повсюду, и он крикнул:
– Освободи проезд, сынок!
И юноша накинулся на ближайших к нему всадников, не жалея ни их, ни себя. Всего лишь на одно мгновение ему удалось образовать брешь. И старый чопендоз великолепным прыжком соскочил с крыши, и конь его ветром помчался по степи.
В конце концов он без помех доскакал до цели и победил.
Кандагарский купец откинулся на подушки, сложил на животе руки, покрывая их медно-рыжей бородой и поглядывая на слушающих, покашливал от удовольствия. По их лицам он видел, что рассказ произвел впечатление.
Наступила пауза, после которой они наперебой закричали:
– Да продлит Аллах твои дни за то, что ты рассказал нам все это.
Мокки посмотрел на Уроза и испугался. Тот прикрывал себе глаза правой рукой, словно от лучей солнца. Но солнце уже успело опуститься за гору. Наступили сумерки.
– Тебе плохо? – шепотом спросил саис.
И тут тоненьким от любопытства голосом хозяин чайханы спросил:
– А как звали того старого чопендоза, ты помнишь, о достойнейший?
– Пока я буду жив, я сохраню в памяти его имя, – ответил кандагарец.
Уроз опустил руку.
– Его звали Великий Турсун, – сообщил купец.
– Великий Турсун, – воскликнул с почтением чайханщик.
– Великий Турсун, – повторили купцы.
– Великий Турсун, – откликнулись слуги. Самый младший из них скромно спросил:
– А ты помнишь имя сына, который так хорошо помог отцу?
Купец посмотрел на мальчика, помотал своей огненной бородой и сказал:
– Знай, о бача, что память, чтобы оставаться хорошей, не должна засоряться второстепенными именами.
Путники направились к автомобилю. Их провожал хозяин чайханы. Слуги убрали посуду и остатки еды. Странная тишина воцарилась в начавшем погружаться в ночь саду. Мокки изнемогал от усталости. Он мельком взглянул на Уроза. У того лицо было напряжено до предела. Глаза его блестели, как у помешанного.
– Я лягу спать рядом с тобой, чтобы тебе было теплее, – предложил Мокки.
– Сейчас ты оседлаешь Джехола, – ответил Уроз.
– Но ты… ты же сказал… – забормотал саис.
– Я сказал: иди седлать Джехола.
Голос Уроза оставался тих и спокоен. Но интонация была повелительной. Мокки поплелся к лужайке возле ручья, где стоял конь. Он шел медленно, ноги его были, как ватные.
– Быстрее! – крикнул Уроз.
Никогда, никогда не думал он, что бывают такие страдания, какие он пережил в этой чайхане. Теперь и садик, и ручей, и деревья, и гомон певчих птиц – все превратилось для него в муку. Все отравляло кровь, плавило мозг. Даже та ива, к которой он прислонился, жгла ему спину. И ствол ее, и ветви казались теперь уже не деревом, а человеком, непобедимым стариком с узловатыми конечностями и переломанными костями, стариком, легенды о давних подвигах которого продолжали и по сей день пересказывать по другую сторону Гиндукуша… тогда как он, он, Уроз, вместо того, чтобы победить в первом Королевском бузкаши, все еще пребывал в тени отцовской славы.
Опершись на обе кисти рук, он напрягся и затем диким усилением бросил тело вперед. Он не рассчитал своих сил. Главным для него было избавиться от удушающей опеки. Сломанная кость с хрустом ударилась о землю. Дикая боль на секунду отвлекла его от каких бы то ни было мыслей. Но потом он подумал: «Уехать? Да. Это легко. Но зачем? Чтобы спокойно продолжать путь по этой вот дороге? Делать благоразумные остановки? Чтобы в каждой чайхане тебя догоняли на грузовиках люди из Кабула, и слышать, слышать, слышать их рассказы о Королевском бузкаши? А в конце пути увидеть перед собой Турсуна».
И, не отдавая себе отчет в том, что он говорит вслух, Уроз прошептал:
– Этому не бывать.
Каким волшебством? Каким чудом? Благодаря какому везению? Об этом он не задумывался. И только все повторял: «Этому не бывать».
Хозяин чайханы, проводив купцов из Кандагара, подошел к нему. Еще раньше, чем тот смог вымолвить хотя бы слово, Уроз спросил его:
– Ты ведь хорошо знаешь здешние проселочные дороги, так ведь?
– Конечно, знаю, – ответил хозяин. – Я в этой деревне родился.
– Тогда скажи мне, как проехать отсюда в провинцию Меймене? – спросил Уроз.
– Это очень далеко, – сказал хозяин чайханы. – Для нас Меймене все равно, что другой мир. Знаю только, что надо ехать через Бамиан, через долину Великих Будд. Старую бамианскую дорогу, по которой раньше ездили, я могу тебе показать, а там спросишь…
– Вот и хорошо, – сказал Уроз. – Сколько я тебе должен?
– Постой, – воскликнул его собеседник, напоминавший всем своим видом серую мышь. Взгляд его находился в постоянном движении и лишь иногда на мгновение останавливался то на измученном, впалом лице Уроза, то на почерневшей повязке на ноге. – Постой. Я должен тебя предупредить: дороги тут очень ненадежные и крутые, а ночью здесь стоит ледяной холод, и к тому же нет ни одной чайханы, как моя, вообще ничего.
– Понятно. Ну, так покажи же мне путь, – сказал Уроз.
Глаза его наконец приняли живое выражение. Чем больше препятствий возникало в его воображении, тем резвее билось его сердце.
– Так что сам видишь, – закончил хозяин чайханы, – лучше поезжай по большой дороге.
– Да, но в каком месте надо свернуть, чтобы попасть на старую дорогу?
От удивления бегающие глазки его собеседника остановились совсем.
– Ты что же, хочешь, несмотря… – спросил хозяин чайханы.
– Я тороплюсь, – ответил Уроз.
– Часто бывает, что не самый короткий путь быстрее приводит к цели, а уж тем более… – начал было его собеседник.
Но не договорил. Рядом с Урозом выросли силуэты Мокки и Джехола. И он после короткой паузы продолжил:
– Хотя верно и то, что у тебя отличный конь и сильный слуга, которые тебе помогут.
Уроз встал на здоровую ногу. Хозяин шагнул вперед, желая ему помочь.
– Не надо, – отказался Уроз.
Он вцепился в луку седла и в гриву Джехола. Мгновение спустя он был уже на коне. Мокки уселся на круп.
Хозяин чайханы быстро проговорил:
– Сворачивайте по тропинке налево. Она приведет вас к колодцу. Там увидите другую тропу, которая круто поднимается в гору. По ней поднимайтесь до караван-сарая на вершине. Торопитесь. Туда надо добраться до наступления темноты. А то, не дай Бог…
– Мир тебе, – произнесли одновременно Уроз и Мокки.
Джехол двинулся в путь. А хозяин чайханы только горестно протяжно вздохнул. Вот и эти странные путники, побывав в его саду, тоже унесли с собой какую-то тайну.
II ТРУП
Первые отроги гор начались сразу за кишлаком. Крутая, скользкая дорога поднималась, петляя, между скалами и пропастью. Несмотря на то, что Джехол шел бодро, путники еще не добрались до караван-сарая, когда наступила полная тьма.
Мокки спешился и повел коня под уздцы. Свободной рукой он ощупывал контур скалы, к которой лепилась дорога, чтобы не сорваться в невидимую бездну.
Он вдруг произнес совсем каким-то детским голосом:
– Уроз, я боюсь.
– И Джехол тоже, – заметил Уроз. – Я чувствую это.
– Я не столько даже свалиться боюсь, – прошептал Мокки, – сколько…
– Знаю, – ответил Уроз.
Он тоже чувствовал невидимое присутствие бесчисленных существ, бесчисленных и бесформенных, с крючковатыми когтистыми крыльями, то голых, то мохнатых чудовищ, всяких привидений, духов-вампиров, птиц и пресмыкающихся с черепами вместо головы, которые ползали, летали, скользили, носились над склонами гор, над пропастью, погруженной во тьму и как бы опускающейся куда-то на дно огромного черного озера. Он слышал, как они проносились со вздохами, свистом и хохотом. Их омерзительное дыхание обдавало холодом его лицо, и порой по коже пробегали мурашки от легкого, но отвратительного прикосновения чьих-то лапок, крыльев, усиков, перьев, языков и рогов.
– Да, знаю, – повторил Уроз.
– И не боишься? – покорно спросил Мокки.
– Нет, – ответил Уроз. – Не боюсь.
И сказав так, сам настолько удивился своим словам, что даже остановил Джехола. Как? Неужели и впрямь среди всего этого ужаса в горах, ночью, он не дрогнул, не испугался? Уроз прислушался к ударам крови в висках. И с чистым сердцем снова повторил:
– Нет, я не боюсь.
– Ну, ты храбрый, – шепотом проговорил Мокки. – Второго такого в мире не сыскать.
И хотя саис не мог видеть его в ночи. Уроз медленно кивнул головой. Ему подумалось, что над другими людьми его возносила вовсе не смелость, а безразличие к несчастью.
Уроз снова отпустил уздечку. И когда конь зашагал, ласково потрепал Мокки по плечу.
– Пусть рука твоя останется на мне, – попросил саис.
И он опять принялся ощупывать контуры и неровности каменного карниза, единственного его ориентира в кромешной тьме. Так они продвигались по узкой ленточке-тропинке между стеной-скалой и пропастью, – всадник, опираясь на пешего, а пеший – прижимаясь к темному граниту.
Когда начался еще более крутой подъем, Уроз спросил:
– Ну, как твой страх, Мокки?
– Твоя рука помогает, – ответил саис.
Но голос его был тихим и жалким.
– Хоть бы парочку звезд увидеть.
– Скоро увидим, всему свое время, – пообещал Уроз.
И они увидели звездочку, но не на небе. Выйдя из-за очередного поворота, они вдруг увидели огонек – далеко-далеко и очень высоко, но не настолько высоко, чтобы принять его за звезду. И хотя огонек был не сильный и трепетный, он показался им ярче любого светила. В каменной пустыне, среди иссушающего душу холода, пронизывающего все тело до мозга костей, этот огонек был отблеском людского тепла, пламенем, зажженным человеческими руками.
– Караван-сарай! – закричал Мокки.
И он выпрямился, освободившись от страха и от своих наваждений. Рука Уроза покинула его плечо. Но он этого даже не заметил.
* * *
От поворота к повороту тропа становилась все шире и превратилась в дорогу, выходящую на плато, куда сходились и другие дороги. На их пересечении стоял караван-сарай.
Внушительных размеров здание было полуразрушено. Даже в темноте было видно, что стены его плохо сохранились. Через трещины и проломы пробивался свет. Для запоздалых путников в горах свет этот казался дивным маяком и предвещал победу над тьмой, но внутри дома оказалось, что идет он от единственной лампы с закоптелым грязным стеклом. Слабое свечение не рассеивало как следует даже мрак, царивший в помещении, где вперемешку лежали люди и животные.
Уроз без труда въехал на коне через высокие обветшалые ворота. Лавируя между лежащими телами, а порой и перешагивая через них, Мокки отвел Джехола в еще не занятый угол. Приподнялось несколько голов… слабо проблеял ягненок в мохнатой массе отары. Сквозь сон проскулила собака… поднял на длинной своей шее могучий верблюд испачканную слюной морду… И все. Хотя вход в караван-сарай был не более чем распахнутой дырой, хотя крыша его сплошь зияла дырами, а стены казались беспорядочным нагромождением кирпичей, входя сюда и люди, и животные чувствовали себя наконец-то защищенными от дорожных испытаний, сбрасывали с себя вместе с грузом вьюков бремя тревог и крепко засыпали после изнурительного дневного перехода. Время от времени из мрака ночи возникал кто-нибудь новенький. Тем лучше. Чем больше народу, тем в большей безопасности они себя чувствовали.
Пока Джехол шел по огромному помещению, Уроз неподвижно сидел в седле. Он чувствовал, что если бы захотел, то еще смог бы перекинуть здоровую ногу через холку Джехола и спешиться, ступив на нее. Но для этого надо было захотеть, а он больше ничего не хотел.
Мокки, привыкший щадить гордость чопендоза, поначалу не делал ничего, чтобы помочь ему. Но потом все же осторожно спросил:
– Можно я помогу тебе слезть?
– Можно, – не отверг его предложения Уроз.
– И правильно, – одобрил Мокки. – Здесь нас никто не увидит.
Уроз не удостоил его ответом, но подумал: «То же самое я сказал бы и при всем народе в Кабуле или в Меймене».
И вдруг все тело его напряглось. Мокки взял его за сломанную ногу в самом месте перелома. Но не зря же саис много раз видел, как лечат, да и сам лечил переломанные ноги баранов, лошадей, верблюдов. Его огромная кисть умела так обхватить и удержать место перелома, что боль снижалась до минимума. Уроз разжал зубы. И почувствовал, как другой рукой Мокки поднимает его и, как ребенка, нежно опускает на земляной пол.
– Подожди, подожди, сейчас тебе будет хорошо, – сказал саис.
Он собрал валявшиеся на полу битые кирпичи, какие-то другие вынул из стены, сложил их в виде примитивного желоба и положил в него раненую ногу.
– Постой, сейчас увидишь… подожди… Да… я тебе обещаю, – говорил Мокки.
Говорил он это скорее самому себе. Ему надо было слышать свой голос. Слова не имели значения. Это был как бы гимн небывалому счастью: прощайте, прощайте, ночные ужасы; гимн беспредельной преданности: о, рука неустрашимого Уроза среди этих напастей!
Мокки снял с Джехола седло и положил его под голову Уроза. Своим чапаном накрыл раненого. Жеребца он уложил рядом с Урозом, а сам лег с другой стороны. И, делая все это, постоянно тихонько напевно приговаривал: «Ты отдохнешь, как следует… вот так… положим голову на седло… а ноги и живот, и грудь тоже накроем теплым чапаном… И Джехол прикроет тебя от холодного ветра из щелей, а если тебе что-то понадобится… то я рядом, ведь ты же знаешь, что я рядом, правда?»
– Ну, конечно, конечно, – тихо ответил Уроз.
Саис лежал рядом, и он видел его глаза и счастливую улыбку.
– Я здесь, Уроз, – прошептал еще Мокки.
В рассеянном свете лампы были видны только его зубы. А глаза уже закрылись.
– Я здесь… я здесь… я здесь, – повторяло дыхание Мокки по мере того, как крепкий сон снимал с его мышц и нервов усталость, страх и не менее утомительную радость.
* * *
А Уроз не спал. И не страдал от этого.
Блаженство от того, что после долгой и опасной дороги удалось наконец лечь, наслаждение от тепла после леденящего мрака, отсутствие невыносимой боли – все способствовало тому, чтобы в первые мгновения Уроз как бы отгородился от всего мира, замкнувшись в бесценных телесных ощущениях.
Только чуть позже он постепенно вышел из этого бездумного состояния. И так же постепенно открыл для себя удивительное соответствие между тем, что его окружало, и своим ощущением счастья.
Шея его лежала во впадине седла, этого благороднейшего изобретения человека, которое вот уже двадцать лет неизменно сопровождало Уроза во всех его перемещениях. Время от времени Уроз ворочал головой, чтобы лучше прочувствовать форму седла и узорчатый рисунок на поверхности кожи.
При этом запах теплой прекрасной кожи отлично гармонировал с другим запахом, самым для него приятным и исходившим от боков его благородного коня. А, кроме того, ветер, гулявший между полуразрушенными стенами, разносил запахи шкур, шерсти, тканей, запахи людей, много шагавших и много поработавших под солнцем. Уроз с удовольствием ловил расширившимися ноздрями эту смесь запахов, этот дух своего народа, неотделимый от запаха овечьих отар, от запаха других домашних животных.
У крепкого сна обитателей караван-сарая был и свой язык. Он исходил из людей и животных вместе с их испарениями. Урчания, вздохи, лай, храп, стоны, присвист, кашель, блеяние, ржание, мычание, стук копыт, клацание зубами, позвякивание колокольчиков и удил образовывали вместе тихий непрерывный ропот, полулюдской, полуживотный. В этом огромном смешанном ходе сливались воедино голоса охрипшего от тяжести лет старика, изможденной, выбившейся из сил женщины, испуганного младенца, плотно поужинавшего мужчины, нервной лошади, бдительно дремлющего пса, козы, барана, мула, осла, верблюда – все они и во сне продолжали бродить по своим тропам и лугам. Уроз отчетливо различал эти звуки, эти голоса, это специфическое сонное дыхание людей и разных животных, и он испытывал несказанную радость от узнавания их, словно опять вдруг, став маленьким мальчиком, внимал колыбельной, отгонявшей прочь все страхи и беды.
А ночь тем временем вступила в новую фазу. Теперь сквозь щели в кровле видны стали звезды. Уроз смотрел на них рассеянным взглядом. Они зажглись слишком поздно. И горели слишком далеко. Ко всему, что его окружало, они не имели никакого отношения. И Уроз отвернулся от них.
Он стал теперь смотреть на лампу, убогий источник света. Фитиль, опущенный в растопленный бараний жир, сильно коптил. Сажа и грязь толстым слоем лежали на выщербленном, треснувшем стекле. Но именно это наслоение как раз и придавало в глазах Уроза свету, исходившему от лампы, некое особое очарование. Такой же неяркий, как самый бледный цветок шафрана, он мягко ласкал его глаза. Это слабое, рассеянное свечение преобразовывало нищету, грязь, все неприглядные стороны караван-сарая и его спящих обитателей.
Обычно быстрый и жестокий взгляд Уроза мгновенно обнаруживал на лицах и телах людей их изъяны и недостатки. У этого вот мужчины некрасивый рот, у того – рабский подбородок, у кого-то трусливый, испуганный взгляд, у кого-то еще – глупый лоб, а вот у того – скользкая, коварная улыбка. А безвольные плечи, согбенная шея, впалая грудь, хилые ноги, вздутые животы… А хромые, кривоногие, сопливые, пучеглазые, кривые… С каждым годом Уроз чувствовал все большее презрение к стаду себе подобных, и это презрение питало и его спесь, и его любовь к одиночеству. Но в эту ночь свет закоптелой лампы стер в попутчиках Уроза все их недостатки. Были лишь пастухи и путники, погруженные в сон, завернутые в жалкие, грязные лохмотья, которые волшебство полумрака превратило в мягкие благородные одеяния, а на полуразрушенных стенах развесило шпалеры из шелка и бархата. А если порой на неотчетливо видневшемся лице приоткрывались веки, то глаза между ними блестели, как драгоценные камни.
«А что, разве я так уж от них отличаюсь?» – вдруг спросил себя мысленно Уроз.
Это случилось с ним впервые в жизни… Ему вдруг стало жарко. Кожа, казалось, горела. Он сбросил с себя чапан Мокки. От этого движения или, может быть, от порыва ветра (фитиль в лампе сильно закачался), а может, и от укуса какого-нибудь насекомого, Джехол во сне забеспокоился. Он приподнял голову, тряхнул густой длинной гривой. И тут же опять уснул. Но дыхание его и подергивание мышц подействовали на Уроза как напоминание о порядке, царящем в мире. Он весь напрягся.
И драгоценное седло, на котором лежала его голова, сразу перестало быть простой подушкой больного.
Ну и в самом деле, разве мог хозяин Джехола считать равными себе эту дорожную чернь, этих несчастных, которые только и умеют, что шагать, да еще ковыряться в земле, да еще пасти коз!
Между тем жар у Уроза усиливался. Кровь его становилась все более горячей, а голова – все более легкой. И возникло у него перед глазами видение. По бескрайней степи, покрытой густой травой, скакали два десятка великолепных лошадей, сильных, неустрашимых, хмельных от простора, от духа соревнования, звонким волшебным галопом, барабанящим по земле. И всадники, сидевшие на них, были самыми лучшими в их краях. Среди них особенно выделялся один, который удалился от остальных так далеко, что они просто исчезали позади в пыли. А он продолжал один скакать, просто ради того, чтобы скакать.
Уроз узнал себя. И сердце его гулко застучало, будто праздничные барабаны, приветствующие успех и славу.
Потом внутреннее пение вдруг прекратилось. Прекратилось то ли от усталости и бессонницы, то ли от тяжести неподвижной ноги, а может, и от запаха горелого жира в светильнике или от жадного чмоканья младенца, прильнувшего губами к материнской груди? Теперь Уроз уже не отождествлял себя с победительно скачущим всадником. С каждой минутой этот человек становился для него все более чужим, еще даже более непонятным, чем незнакомцы в караван-сарае. С этими все было ясно: они устали и спят, а наступит день, они опять отправятся в путь до следующего караван-сарая, и так будут идти, идти до самого того места, куда им нужно добраться. Тогда как этот… Куда же несся он, словно сумасшедший, куда скакал с этим своим беззвучным смехом на как бы расширившемся от ветра лице? Кого хотел он догнать, зачем? Чего хотел он добиться в своем неистовстве? Неужели хотел добраться до горизонта? Но как? Ведь горизонт все отступает и отступает, и конца этому не бывает.
Этот безумец начал раздражать Уроза. Он закрыл глаза. И увидел роскошный базар. Такой роскошный, что он был богаче, чем в Даулатабаде, обширнее, чем в Мазари-Шарифе, ярче, чем в Акче. А бесчисленная толпа, заполнявшая тенистые проходы и солнцем залитые улицы, почтительно расступалась, давая проход человеку, который шел, не оглядываясь, по сторонам, постукивая сапогами на высоких каблуках и высоко неся голову под шапкой, отороченной волчьим мехом. Это был всадник, только что скакавший по степи. «Конечно… я скакал ради этого… – подумал Уроз. – Конечно».
Он все еще никак не мог понять: столько усилий, ловкости, риска, упорства, обещаний, стремлений – и все это, чтобы добиться чего? Похвал этих вот трусливых и глупых торгашей, похвал обманутых ими простаков-покупателей? Какая злая насмешка! Как же коротка и неверна эта слава, ради которой в каждой схватке приходится рисковать своей жизнью. Простейший несчастный случай… оступился конь… дрогнул мускул… И что тогда – презрение, забвение?.. А базарная толпа расступается уже перед кем-то другим.
Когда Уроз размышлял таким образом, он вдруг увидел, что у всадника, приветствуемого толпой, было не его лицо. Оно обрело черты Салеха, победителя Королевского бузкаши. Но вместо мук унижения, которые он должен был бы испытать, Уроз почувствовал к победителю – и это стало причиной самого сильного удивления, испытанного им в эту ночь, – какую-то странную высокомерную жалость.
«Иди, малыш, иди… – мысленно говорил он ему. – Твоя несчастная головка все еще верит в это. Давай… пусть тебе льстят и обещают счастье… до следующего падения. Давай… Меня больше в такие игры не втянут».
Уроз почувствовал, как от жара шумит у него в ушах, и ему показалось, что его несет во время весеннего паводка степной поток. Сильный-сильный поток. И много тепла – настоящая жара. И мысли неслись все резвее. Какая ширь! А ну, вперед…
О, да! Он слишком долго участвовал в этом недостойном торге. И с той, и с другой стороны – одни лишь лакеи, рабы, люди без достоинства! Все без исключения! И те, кто гонится за славой. И те, кто разевает рот от восхищения, когда он приближается, и с бараньим блеянием провожает его взглядом. Довольно!
Тело Уроза обмякло и плотнее прижалось к глиняному полу. Шея же по-прежнему покоилась на седле. И кругом витали все те же запахи, звуки, тени и отблески полутемного караван-сарая. Мирные. Здоровые. Сочувствующие. Уроз подумал: «Вот они отныне мои спутники».
Они даже не знали, ни что такое бузкаши, ни кто такие чопендозы. Среди них не нужно было задирать голову выше всех и всего, выше радостей и горестей, чтобы принимать только почет и платить только гордыней. (О Аллах! Как же это тяжко – быть полубогом!) А если бы он был инвалидом, так он им, наверное, станет. Ни побежденным, ни падшим. Просто инвалидом. Принятым в их среду. В среду людей такой же судьбы… того же племени… одинаковых перед лицом одной и той же жизни… и они пойдут вместе.
По ущельям, долинам, равнинам шел убогий, очень бедный караван. И он, Уроз, тоже был в этом караване. На плохонькой лошаденке, на муле, на ишаке. Да, на ишаке… И даже на костылях… Да, на костылях. И все ему улыбались так же, как улыбается Мокки.
Звезды погасли. Уроз подумал: «Небо отказалось от гордыни: оно счастливо». И погрузился в забытье.
* * *
Мокки зевнул, потянулся, вздохнул, шумно почесался. Его телу требовалось гораздо больше отдыха, чем то, что оно получило. Но он не мог позволить себе этого. Солнце и Мокки вставали вместе.
Едва он пришел в себя, как первой его мыслью была мысль об Урозе и Джехоле. Оба еще спали – хорошо. Мокки прошел через весь караван-сарай; там и сям люди, столь же чувствительные, как и он, к зову солнечных лучей, выплывали из забытья. Выйдя через полуразрушенный вход наружу, он протер глаза своей тяжелой, медлительной ладонью. Дремота еще не совсем покинула его лица, так же как ночь все еще цеплялась за почву плато. Но чем выше поднимал голову Мокки, тем более светлыми казались голые скалы. На вершинах и по кромкам пиков, словно озаренная их остриями, трепетала тонкая, нежная и прозрачная лучистая бахрома. И было ужасно холодно.
Мокки машинально пошел на звук журчащей воды и, сделав несколько шагов, оказался у ручья. Опустил в него руки, сполоснул лицо. Вода была еще более ледяной, чем воздух. И когда она высохла на коже, Мокки уже не чувствовал больше ни усталости, ни заторможенности. Он помахал в разные стороны руками, потом огромными кулачищами начал бить себя в грудь. Сильнее, еще сильнее, еще и еще сильнее. В тихом утреннем воздухе долго слышались его удары. Ритм их опьянял Мокки. Он был и кузнецом и наковальней одновременно. Сильнее, еще и еще сильнее.
Внезапно этот ритм, как при молотьбе, замер. Мокки поднял голову и застыл, обращенный к небу. Он ничего не понимал.
Там, на фоне горных склонов, он увидел освещенные зарей пастбища – маки и полынь. Заря быстро разгоралась. Мокки впервые наблюдал ее в высоких горах и потому не сразу узнал этот столь привычный ему момент рождения дня.
В степных краях небосклон и земля просыпаются в унисон. Свет нарастает равномерно, как вода в половодье, и заливает весь горизонт, из конца в конец. Небо становится морем света, а равнина – ковром из трав, усыпанных росой.
А здесь утро наступало какими-то рывками, продвигалось какими-то прыжками. Между двумя гигантскими горами давно уже простиралось большое светлое полотно неба, а за склоны вершин еще цеплялась тень. Вдруг загоралась какая-нибудь одинокая вершина. Вдруг начинала ярко сверкать скала. А другие, что напротив нее, стояли темные, словно погасшие.
Световой разнобой все нарастал. Со стороны востока, через разрывы в горах, словно через амбразуры, через трещины и щели закипала пена зари. Лучи ее казались то бесчисленными копьями, то начинали полыхать кострами. При этом солнце все еще не появлялось.
Воздух становился светом, а свет – холодом. Мокки сделал глубокий вдох. Горное утро вошло в его грудь. Поток его был так чист и так могуч, что Мокки в экстазе зажмурился. Ему захотелось смеяться, кричать, петь о своем счастье, но вдруг он почувствовал на веках теплое, нежное прикосновение. Начал медленно открывать глаза, и сквозь сетку ресниц увидел розово-огненный полумесяц.
Солнце… наконец-то… настоящее солнце.
Мокки в мгновение ока оказался на земле простертым головой в сторону Мекки.
Жесты и слова, столько раз повторенные, что в них уже все стерлось, не осталось ни силы, ни смысла, на этот раз подействовали вдруг на Мокки самым чудеснейшим образом. От волнения сердце его чаще забилось, в горле запершило. Стоя на коленях на пороге зарождающегося нового дня, он распознал в обычной своей утренней молитве новый язык, понадобившийся ему, чтобы возблагодарить эти горы, пославшие ему после стольких ужасов и страхов такой восторг.
И другие голоса тоже повторяли те же самые слова. Их произносили люди, распростертые у двери и у стен караван-сарая. Но Мокки, не отрывавшему лба от холодной земли, казалось, что он слышит только свой голос. Усиленный стократным эхом.
* * *
Когда Мокки встал с земли, то увидел молодого человека почти такого же роста, как и он сам, но только горбатого и худосочного; тот дружеским взором смотрел на Мокки. Большие карие миндалевидные глаза его были печальны. Он заговорил, и голос его оказался таким же мягким и проникновенным, как и взгляд:
– Хвала тебе, что в твоем возрасте ты способен вкладывать всю душу в молитву.
– Я? – воскликнул Мокки.
Печальные глаза улыбнулись, и Мокки показалось, что взгляд их осветил ему самому то, что происходило в нем. Он почесал шею и сказал:
– Ну, может быть… в этот раз. Но так у меня получилось в первый раз, я тебя уверяю.
– Еще более достоин ты похвалы, – отметил горбатый юноша, – что сотворил эту молитву в моих скромных владениях.
– Как? Ты хозяин караван-сарая? – спросил Мокки.
Юноша тихо засмеялся, но этот слабый смех странным образом придавал силу и уверенность тем, кто его слышал.
– Слишком громко звучит по отношению к владельцу этих развалин, – сказал он. – Но правда и то, что я, Гулям, получил в прошлом году караван-сарай в наследство от отца моего, Хайдара, который получил его от своего отца, Фархада, основателя караван-сарая. Вот того ты бы действительно мог называть хозяином. Он был богат и влиятелен. В те времена грузовиков не знали. Всю поклажу перевозили на вьючных животных, и все караваны на ночь останавливались в специально для этого построенных домах. Теперь большие караваны есть только у кочевников, а, как тебе известно, они не ночуют в домах. Поэтому ты сам видишь, во что превратился мой дом.
Взошедшее солнце беспощадно высвечивало все недостатки огромного здания из красной глины. Осевшее и выщербленное, оно походило не столько на пристанище, сколько на груду обломков. Теперь из этого логова выходили люди и животные, проведшие там ночь и готовившиеся вновь отправиться в путь.
Мокки изо всех сил ударил себя кулаком по лбу. Как же это он мог бросить Уроза и Джехола в такой сутолоке?
У входа ему пришлось пропустить выходящих на улицу болезненного, облезлого верблюда, израненных ишаков в лишаях и струпьях, подгонявших их людей в лохмотьях, вооруженных заостренными на конце палками. Там, внутри, они уже группировались в жалкие караваны, в тощие стада. Животные были уже навьючены, и женщины привязывали малых детей себе на поясницу. Мокки пробрался между крупами и вьюками к своим спутникам. И только там вздохнул с облегчением. Несмотря на шум, Уроз еще спал. Конь же начал проявлять некоторые признаки нетерпения. Но успокоился, как только почувствовал прикосновение знакомых рук.
– Ну, потерпи, потерпи, – нежно сказал ему Мокки. – Все будет хорошо. Сейчас я вернусь.
* * *
Мокки ошибался. Уроз хотя и лежал с закрытыми глазами, но не спал. Шум довольно скоро прервал его беспокойный сон. Увиденное оказалось много непригляднее, чем то, что мерещилось ему ночью. Дневной свет сменил полумрак лампы. И заколдованный зал оказался отвратительной развалиной с паутиной на стенах. Тени в благородных одеяниях оказались жалкими нищими людьми, жалкими животными, более чем когда-либо несчастными в момент такого вот общего пробуждения, когда все вместе начинают кричать, лаять, блеять и реветь.
Все теперь раздражало душу и плоть человека, лежавшего с седлом под головой, все вызывало отвращение его больного тела, его ожесточившегося сердца. Он не имел ничего общего с тем человеком, который заснул несколько часов назад ночью, освободившийся было от своих бесов. Оборванцы, окружавшие Уроза, теперь вызывали у него тем большее презрение и гнев, что на какое-то мгновение ему захотелось разделить их судьбу, порадовавшись их милосердию. Вспоминая это низкое желание, которое могли внушить разве что злые духи, живущие в этих развалинах, Уроз ощущал во рту горький вкус желчи. Время от времени он с нетерпением наблюдал сквозь полуоткрытые веки, как люди и животные исчезают в дверном проеме. Пусть же пропадут они пропадом все… все эти люди, рядом с которыми он, Уроз, почувствовал себя счастливым оттого, что освободился от своей гордыни.
* * *
На улице главы уезжавших семейств рассчитывались за пребывание в караван-сарае. Цена, хотя сама по себе и смехотворная, для некоторых все же была слишком высока. Тогда они с важным видом говорили Гуляму:
– Да вознаградит тебя Аллах!
И Гулям с важным видом склонял голову. Мокки сказал ему:
– Я хотел бы сначала попить чаю, а потом приобрести овса или ячменя.
– Здесь нет корма, достойного такого коня, как ваш, поскольку обычным нашим гостям он не по карману, – ответил Гулям.
Сказано это было без желания кого-либо оскорбить, и люди, которых он имел в виду, слушали, не обижаясь.
– Недалеко отсюда есть кишлак, – продолжал горбатый юноша. – Вот там тебе продадут все, что нужно. А что касается чая, то обойди дом и сам увидишь. Там этим занимается мой младший брат.
Чайхана представляла собой земляную завалинку у южной, наиболее солнечной стены караван-сарая. Над ней имелся навес из веток и желтых листьев. Посредине в стене виднелось довольно существенное углубление. Худощавый подросток пек там лепешки на костре, время от времени подбрасывая в старый медный помятый самовар углей.
Мокки, получив из его рук пиалу, стал, не садясь, пить мелкими глотками обжигающий черный чай, как вдруг заметил на другом конце завалинки человека, лежащего на спине. Кто мог вот так лежать на ледяном утреннем холоде, прикрытый только тонким хлопчатобумажным тряпьем? И почему торчали из-под тряпок голые ноги, выглядевшие твердыми, как камень? Мокки подошел поближе посмотреть на лежащего. На иссохшем, задубелом, странно маленьком, словно сжатом тисками, лице, он увидел открытые незрячие глаза. Глаза мертвеца.
Мокки пришел в себя от того, что его ложка, задрожав, звякнула несколько раз о край чашки. Он вернулся к людям, окружавшим самовар, и крикнул:
– Там же мертвец лежит!
– Да я знаю, – ответил из ниши, не прекращая своего занятия, младший брат Гуляма. – Я нашел его замерзшим на рассвете.
– А я даже видел, как он умер, – сказал старый пастух. Он приехал одновременно с нами, вечером, вместе с артелью бродячих горшечников. Он сидел на единственном их ишаке. А потом не слез с него, а просто свалился. И, как оказалось, уже не дышал. Вот они взяли и положили его здесь.
– Да, они только что уехали и осла увели с собой, – подтвердил младший брат Гуляма.
И тут же закричал веселым голосом:
– А ну, кому еще горячего чаю черного, крепкого, чаю зеленого, душистого, лепешек горячих, пропеченных, вкусных!
Путники продолжали пить, есть, рассказывать разные истории, смеяться, а труп смотрел на них своим совсем уже не человеческим взглядом.
Чай утратил во рту Мокки всякий вкус. И горы, с их острыми пиками, вонзившимися в небо, будто зубы дракона, снова стали его пугать. До безвестного мертвеца ему не было никакого дела, так же как и остальным путникам, но он подумал о спящем Урозе… А может, он не спит… может, что-то хуже…
* * *
Наконец, Уроз остался один. Так нет же, все еще нет… Кто-то приближался к нему, кто-то шел, бежал, запыхавшись… Мокки склонился над Урозом и застонал: лицо, как восковое… щеки ввалились, губы – ни кровинки… Уроз еще дышал, но как-то прерывисто, с хрипом. Мокки не выдержал. Присев на корточки перед Урозом, он опустил голову и закрыл лицо ладонями. Когда он отвел их, глаза Уроза смотрели прямо на него, на плоское, добродушное, искаженное горем лицо саиса. От невыразимого отвращения тонкие ноздри Уроза расширились. Ему показалось, что он стал предметом жалости и нежности.
– Где ты шлялся? – спросил он бесстрастным голосом.
И, не дожидаясь ответа, приказал: —Чаю!
– Конечно, конечно! – вскричал Мокки. – Сейчас получишь и сразу почувствуешь себя лучше, а то у тебя неважный вид… Но ведь тебе удалось все-таки хорошо поспать, и довольно долго, правда?
– Чаю! – повторил Уроз.
Мокки кинулся к дверям. Уроз смотрел вслед ему с ненавистью.
Этот недоумок смеет его опекать. Уроз начал шепотом бормотать: «Ну, вы еще увидите. Все… Все увидите». Он по-прежнему ведет игру, по-прежнему распоряжается судьбой. Какую игру? Какой судьбой? Он и сам не знал, но это не уменьшало его решимости.
III ПИСАРЬ
– Ну, вот, чай горячий… лепешки горячие, мягкие… ничего другого здесь нет, но то, что есть, все вкусное, – приговаривал громким голосом Мокки, ставя нагруженный поднос.
Каждое движение этого сильного, пышущего здоровьем парня, именно оттого, что оно выражало силу и здоровье, воспринималось Урозом как оскорбление. Особенно раздражал его подчеркнуто добродушный тон, добродушный голос, каким говорят, когда хотят ободрить больного ребенка или пугливую лошадь.
Уроз с жадностью выпил все содержимое чайника, но от лепешек отказался.
– Ну, попробуй, ради Аллаха… эту лепешку только что испекли специально для тебя, – стал умолять Мокки.
Уроз схватил лепешку, скомкал ее в мягкий комок и швырнул на пол. От ярости лицо его казалось еще более худым, а скулы еще более выпятились вперед. Мокки подумал: «Я его убиваю». И сказал с неумелой притворной веселостью:
– Ты прав… Есть через силу нехорошо. Голод сам подскажет, когда надо есть. К тому времени будет готов и шашлык, и самый наилучший рис… Я сам пойду куплю… Здешний хозяин, Гулям, весь в твоем распоряжении. И брат его тоже.
– Мне никого не нужно, – отвечал Уроз. – Накорми Джехола, а потом купи все, что надо в дорогу. Вот, больше ничего не надо.
– Какая дорога? – пробормотал Мокки. – Опять в гору! Еще выше, еще холоднее, еще безлюднее?
– Боишься? – спросил Уроз.
– Поговорил бы ты с Гулямом! – воскликнул саис. – Он мне рассказал, какие тут опасные тропы…
– Конечно, для горбуна… – сказал Уроз.
– Он слышал от проезжих, а они-то знают, – настаивал Мокки.
– Ты до такой степени боишься? – спросил Уроз.
В наивных глазах саиса появились слезы. Для блага Уроза он согласился бы на переживания в тысячу раз более страшные, чем те, что ему довелось испытать накануне. Но помогать ему губить себя он не мог. И он произнес на одном дыхании:
– Да, я очень боюсь. Ты не перенесешь дорогу через горы. Я только что видел труп. И не хочу, чтобы по моей же вине мне пришлось везти твой труп. Как после этого я бы посмел появиться перед Турсуном? Как?
Мокки набрал в легкие воздуха и с отвагой, подсказанной отчаянием, крикнул:
– Не могу. Я не могу ехать с тобой.
Он упал на колени, поцеловал руку Уроза и очень тихо произнес:
– Нет, это действительно так: я не поеду с тобой.
По этому жесту и по его голосу Уроз понял, что ни приказ, ни просьба, ни угроза не заставят его саиса подчиниться. Дрожь пробежала по его телу. Он вдруг понял, что без него он не может ничего, что без него он ничего не значит. И от этого он почувствовал вдруг к нему такую ненависть, с которой ничто не могло сравниться. Ледяная, она проникала буквально в каждую каплю его крови.
– Ты дрожишь. Тебе холодно? Настолько холодно? – спрашивал его Мокки.
Он заметил, что его чапан, в который ночью он укутал Уроза, сполз и накрывал теперь чопендоза только до середины его тела. Но когда он попытался поправить его, Уроз вырвал халат из рук саиса и грубо отбросил в сторону. Сломанная нога обнажилась. От грязной намокшей ткани, покрывавшей место перелома, потянуло неприятным запахом. Джехол понюхал воздух, пошевелил ноздрями, встряхнул головой и, чтобы быть подальше от вони, начал вставать. Рука Мокки ухватила его за гриву и прижала к земле. Жеребец дружелюбно заржал и опять вытянулся, прижав шею к боку Мокки.
«Они оба настроились против меня, – мысленно сказал себе Уроз. – И мой саис, и мой конь».
Лежа у их ног, он смотрел, не мигая, на эту пару. Мокки и Джехол. Мощные… Простые… Созданные друг для друга. Так бы и содрал с обоих живьем кожу!
От такого взгляда Мокки еще глубже запустил руку в гриву коня, еще сильнее прижался к нему.
В углах рта Уроза выступили капельки желтоватой пены. «Мой саис уже считает, что мой конь перешел к нему, – мелькнуло у него в голове. – Что он отныне принадлежит ему… Клянусь Пророком!»
Тут Уроз почувствовал, что дыхание в его груди совсем прекратилось. Он воззвал к Пророку. И Пророк ответил. Эта внезапная и мгновенно промелькнувшая мысль, осветившая его сознание, могла прийти только от Него. И только от Него. И благодаря этой мысли все чудеснейшим образом разрешалось.
Грудь Уроза наполнилась воздухом, а в сознании укрепилась уверенность. Да, с помощью Пророка именно то самое оскорбление, которое было ему нанесено, и давало ему в руки инструмент для самого утонченного и самого великолепного возмездия.
Когда Уроз поднял на саиса глаза, губы его, опаленные жаром и желчью, были уже растянуты в волчьем оскале.
Эта странная улыбка и необычная благожелательность во взгляде Уроза должны были бы напугать Мокки. Но он в своей наивности подумал: «Гнев его прошел… он согласен…» Пальцы саиса в густой гриве Джехола разжались.
– Ты поедешь со мной, – сказал Уроз.
Рука Мокки опять сжалась в кулак. Джехол чувствовал, что это его так гладят, и по его коже на шее пробежала легкая волна удовольствия.
– Но я же тебе объяснил… – прошептал Мокки.
– И я очень хорошо тебя понял, – кивнул Уроз.
Опираясь на седло, он стал постепенно подниматься. Когда спина его приняла вертикальное положение, он медленно произнес:
– Слушай внимательно и понимай теперь ты. Ты отказываешься идти за мной, чтобы не способствовать моей гибели? Это ведь единственная причина? Не так ли?
– Так, так… единственная причина… Аллах да будет мне свидетелем! – воскликнул Мокки.
– Так вот, – еще медленнее продолжал Уроз, – до моей судьбы тебе не должно быть никакого дела. Я освобождаю тебя от всякой заботы на этот счет, и да будет Всевышний моим свидетелем также. Моим несчастьем займусь я сам, слышишь? Я один и больше никто.
Мокки хотел возразить.
– Я еще не закончил, – сказал Уроз. – Поедешь ты со мной или нет, я все равно поеду по той дороге, какую для себя выбрал.
– Один? Один? Не может быть, – закричал Мокки.
Пальцы его дрожали в гриве коня.
– Еще как может, – возразил Уроз. – То, что я говорю, я всегда выполняю, несмотря ни на что. И ты это знаешь.
– Это для тебя верная смерть, – прошептал Мокки.
– Разумеется, – согласился Уроз. – И для меня, и для Джехола.
– Для Джехола!
Услышав этот стон, в котором прозвучало его имя, конь поднял на Мокки свои большие, горделиво сияющие глаза.
– А какой другой конец ожидает его одного, потерявшегося без хозяина в этой каменной пустыне? – спросил Уроз.
– О, нет, – прошептал Мокки. – Аллах не допустит.
– Я тоже так думаю, – подтвердил Уроз.
– Но как, скажи мне, как?
– А так, что ты будешь с нами, – объяснил Уроз.
И продолжал, говоря быстрее:
– Ты молод, силен и не боишься усталости, ты терпелив и ловок. Благодаря тебе мы достигнем цели.
– Я всего лишь, я всего лишь несчастный слуга, – вскричал Мокки. – А если ты, несмотря на все мои усилия, не вынесешь дороги?
Над холкой Джехола к Урозу тянулось лицо, от страдания сделавшееся почти детским. Уроз понял, что наступил решающий момент. Опустив веки, он замаскировал блеск внутреннего своего желания. Чтобы обмануть наивность, искушение должно принять вид наивности.
– Да, – продолжал Мокки дрогнувшим голосом… – Да, если несчастье все же случится, что тогда? Что?
Уроз развел руками. Между своими разведенными ладонями он как бы давал проход судьбе.
– Тогда Джехол будет твоим, – сказал он.
Мокки выпрямился, тряхнул своим взмокшим лбом и пробормотал:
– Я… как… я… Уроз… я не понимаю.
Уроз широко открыл глаза. Теперь он точно знал, что выражает его взгляд. И повторил с остановкой после каждого слова:
– Тогда – Джехол – будет – твоим.
– Что ты говоришь? Что ты говоришь? – вскричал саис.
Он выдернул руку из гривы коня, как из горящего куста. Джехол подумал, что с ним играют. Он поймал руку Мокки зубами и покрыл ее своими большими нежными губами.
– Вот видишь, – сказал Уроз.
Он почувствовал в груди такую сухость, будто она превратилась в выжженную солнцем пустыню.
– Ну, как? – спросил он.
– Постой, постой, – умолял Мокки.
Голова его шла кругом. Он не смел шевельнуть рукой, удерживаемой Джехолом. Сейчас ему казалось, что в жилах коня и в его собственных жилах течет одна кровь, что они принадлежат одной семье. Но при таком родстве он не забывал своего места – самого скромного. Представить себе такое, чтобы отпрыск легендарных коней, творение великого Турсуна, по воле Уроза мог вдруг стать собственностью нищего саиса Мокки. Лицо его покрылось потом, густым, как слюни Джехола на его руке. Он смотрел по сторонам, не зная, на чем остановить взгляд, и яркие полосы пыли в воздухе цвета солнца, лучи которого пробивались сквозь бесчисленные щели в стенах, усиливали его головокружение. Он крикнул:
– Это же невозможно, Уроз… Это бред… Ты с ума сошел. У тебя просто жар.
– Нет, Мокки, нет, верь мне, – сказал Уроз.
Голос его звучал так искренне, так дружелюбно, что он сам удивился.
– Разве есть на свете какой-нибудь другой человек, который заслуживал бы Джехола так, как заслуживаешь его ты? Кого еще он так любит? Кто будет ухаживать за ним лучше тебя? И если он выберется из этих грозных гор живым с тобой и благодаря тебе, то укажи мне человека, которому я должен его оставить.
– Остановись, остановись! – умолял Мокки.
Он грубо вырвал руку из губ Джехола, отвернулся от него и шепотом продолжал:
– Остановись, Уроз. Ты говоришь, как будто ты уже умер.
Уроз склонил голову и вновь развел в стороны ладони, чтобы шире и легче был путь для прохода судьбы. И, глядя на это исхудалое тело и обескровленное изможденное лицо, Мокки вновь вспомнил о трупе, увиденном в чайхане. А тем временем вставший на ноги Джехол положил голову на плечо саиса. И тут, чтобы заставить Уроза замолчать и лишить себя всякой надежды, Мокки воскликнул:
– Что бы ни случилось, никто и никогда, никогда не поверит, что такой конь принадлежит мне. Меня сочтут обманщиком и вором.
– Ты прав, – согласился Уроз. – Позови горбуна.
Мокки кинулся к входу с криком: «Гулям! Гулям!» Он стремился не столько выполнить волю Уроза, сколько побыть в стороне от него.
Джехол посмотрел вслед саису, пока тот не исчез, потом перевел взгляд на Уроза. Тот протянул руку и погладил морду жеребца. Он на него не сердился. Не сердился он и на Мокки, не сердился ни на кого на свете. Он готовился к самой трудной и самой важной скачке в своей жизни.
– Чем я могу быть тебе полезен, гость мой? – спросил хозяин караван-сарая обычным своим тихим голосом.
– Ты – ничем, – отвечал Уроз. – Но вот скажи мне, есть ли в округе писарь?
– В деревне есть, – сказал Гулям.
– Опытный? – спросил Уроз.
– Всех в округе он устраивает, – ответил, улыбаясь, горбатый юноша.
– Приведи его, – приказал Уроз Мокки. Саис направился было к выходу.
– На Джехоле, – уточнил Уроз.
– Ты… ив самом деле… Думаешь… что лучше… – спросил Мокки, не глядя на коня.
– Ну, конечно, – утвердительно кивнул головой Уроз, – скорее все сделаем, ведь мы спешим.
Мокки стал взнуздывать Джехола. Вобрав голову в плечи, опустив плечи, он двигался очень неловко, как человек, чем-то напуганный. Джехол, которому не терпелось выйти на воздух, подергивался всеми своими мускулами, и они красиво пробегали вдоль всей спины от холки до крупа.
– Я в своей жизни ездил только на ослах, – сказал Гулям. – И мы здесь не знатоки в лошадях. Но такого коня стоило бы иметь просто для того, чтобы видеть, как он живет.
– А если бы ты видел, как он скачет, – произнес Уроз. – Правда, Мокки?
Саис, не отвечая, собрался было сесть на лошадь без седла.
– Возьми седло, – приказал Уроз.
– А ты? – спросил робко Мокки.
– Я подожду тебя снаружи, прислонившись к стене. Наш хозяин мне поможет.
* * *
Прислонившись к старой глинобитной стене, едва начавшей согреваться от ранних лучей солнца, Уроз смотрел в ту сторону, куда уехал Мокки. Вскоре он увидел вдали Джехола, а на нем силуэты двух людей.
«Ну и стар же он! – подумалось Урозу, когда он разглядел человека, сидевшего за спиной саиса. – Сразу видно, что грамотей… от старости руки, небось, так трясутся, что прочесть будет невозможно то, что он напишет».
Но когда Джехол подъехал к караван-сараю, к гневу Уроза добавилось еще и недоверие. К тому, что лицо окажется не лицом, а кожей, дрябло свисающей, как тряпка, да нелепо торчащими костями, Уроз был уже подготовлен. Но в довершение к этому вместо глаз он увидел пустые впадины, вместо бровей – серую пену, невообразимо дряблые веки, а в ужасных глазницах – тусклые бельма.
Гулям с братом тут же кинулись помогать приехавшему старику слезть с коня, взяли под руки и повели. А тот шел с головой, задранной кверху, как это бывает у многих слепых, очень внимательно прислушиваясь ко всему вокруг, что свойственно обычно людям, которым слух восполняет отсутствие зрения.
Долгожданный писарь и в самом деле оказался слепцом.
Только всевластное на афганской земле уважение к старости помешало Урозу взорваться от ярости. Все свое возмущение он вложил в выразительный взгляд, обращенный к Гуляму. Хозяин караван-сарая ответил ему самой что ни на есть любезной, дружеской улыбкой и усадил старца у стены рядом с Урозом.
– Мир тебе, всадник, приехавший издалека, – поприветствовал его писарь.
– И тебе тоже мир и благодать, о человек, столь умудренный годами, – ответил Уроз почтительнейшим голосом.
А хозяину караван-сарая он грубо бросил:
– Ну, а теперь что, горбун?
Ему ответил слепой. Он поинтересовался:
– Прикажешь начать сейчас же?
– Я не приказываю, почтеннейший, но я спешу, – снова посмотрел на него Уроз.
Ему хотелось прежде всего как можно скорее покончить с этим обманом.
– Вот и хорошо, – согласился старик.
Он отвязал от кушака свой рабочий инструмент: длинный черный пенал, украшенный розовыми цветами и содержавший перо и чернильницу, потом – дощечку с прикрепленным к ней листом белой бумаги. С каждой стороны страницы, сверху донизу, торчали мелкие гвоздики, образуя узкие, ровные интервалы.
Он положил пенал на землю, а дощечку – себе на согнутые колени и сообщил:
– Я готов.
– Так вот, – начал Уроз, – пиши, что я, Уроз, сын Турсуна, заявляю перед свидетелями и клянусь, что в случае смерти во время путешествия, в которое мы отправляемся, отдаю моего коня Джехола, сына Джехола, и всю упряжь к нему в полную собственность моему верному саису Мокки в знак признательности за его преданность.
Гулям взглянул на Мокки и не увидел на его лице ничего: ни мысли, ни чувства, ни даже каких-либо признаков жизни. А Уроз со свирепым вниманием следил за каждым жестом слепого писаря. Неужели тот надеется справиться с задачей?
– Повтори, пожалуйста, твое имя, – сказал старик. – Два других имени по дороге сюда молодой человек мне уже назвал.
– Уроз, сын Турсуна, – сказал Уроз.
– Хорошо, – ответил писарь.
Он приложил свои длинные ладони, худые, почти прозрачные, к бумаге, касаясь с одного и с другого края дощечки пальцем верхнего гвоздя. Потом рука с пером стала медленно-медленно, почти незаметно двигаться справа налево.
И Уроз увидел, как из-под пальцев стали появляться буквы не просто разборчивые, а удивительно правильные. И когда между двумя металлическими ориентирами оказалась заполненной первая строка, то было совершенно невозможно обнаружить там какую-либо неточность, какое-либо несоблюдение расстояния между буквами и пробелами, какую-либо неправильность в начертании знаков. Написанное вполне могло сойти за произведение искусства.
– Как, как это у тебя получается, старец, лишенный света? – воскликнул Уроз.
– У меня было достаточно времени со времен Абдуррахмана, чтобы приобрести навык письма в потемках, – ответил старик.
– Ты сказал со времен Абдуррахмана? – переспросил ошеломленный Уроз.
– Да, именно так.
Хотя казалось, что голос старца неспособен передавать чувства, в нем все же прозвучала нотка того удовлетворения, какое испытывают очень старые люди, вспоминающие о том, что они были свидетелями событий и современниками людей, ставших уже достоянием истории.
– Абдуррахмана… – повторил Уроз.
Великого эмира прошлого века… который обманул англичан, умиротворил Хазареджат, завоевал Кафиристан, покорил многих вассалов, собрал афганские земли… Воитель. Дипломат. Мудрец. Легендарный вождь.
– Он умер задолго до твоего рождения, а я уже был тогда зрелым человеком, – сказал старик. – И слепым уже многие годы.
Пальцы его в этот момент писали буквы второй строки. Он продолжал:
– По милости Аллаха, еще в школьные годы рука моя научилась письму. Мало кто умел писать в ту пору. Вот почему еще молодым человеком я был назначен хайдаром, сборщиком налогов, в богатой долине Кохистан… Я ездил на муле из кишлака в кишлак, собирал налоги, подати и поборы, установленные по справедливой милости господина моего Абдуррахмана.
Вторая строка получилась такой же безупречной, как и первая. Писец с безжизненными глазами приступил к следующей. Он так блестяще владел своим искусством, что продолжал рассказывать, не прерывая своей работы.
– Однажды вечером, закончив все, что было намечено, я проезжал через большое селение, где кончался базарный день. При выезде из кишлака я увидел крепкого мужчину, медленно несущего три мешка, небольшие, но очень тяжелые. Мой мул без труда догнал его. Это был бродячий мясник, человек общительный и веселый, и звали его Рустам. Он распродал все мясо и баранье сало, которые у него были, и возвращался домой с хорошей выручкой. В трех мешках, оттягивавших ему плечи, как раз и лежали серебряные монеты. Идти ему было далеко. До моего кишлака дорога у нас была одна. «Положи на мула твою поклажу, – сказал я. – Все не так устанешь». Он не стал отказываться. Человек он был простой и любил пооткровенничать. Чтобы показать, как он любит порядок, он, привязывая к вьюку мешок, говорил, сколько в нем монет и сколько он весит: самые крупные монеты он сложил в один мешок, средние – в другой, а самые мелкие – в третий. Так мы и двигались, мирно беседуя. Рустам рассказывал о двух своих женах, о сыновьях, об ишаке, которого он вот-вот собирался купить. Доехали, наконец, до моего кишлака. И Рустам захотел забрать свои мешки.
Тут старик перестал писать и уставился глазами прямо на ослепительное солнце, потом продолжал:
– Только Аллах ведает заранее, какое зло, сам того не зная, задумывает человек. До того дня я был набожен и честен. Но когда я увидел, что Рустам сейчас вот отвяжет свои мешки, то вдруг подумал: «Отниму-ка я у него его деньги». Что толкнуло меня? Его радость, что он так много заработал? Или, может быть, особенно то, что его ждали такие хорошие жены? Я тоже хотел, чтобы у меня была хоть одна, хотел бы жениться на девушке из хорошей семьи, чтобы мне было легче подниматься по жизненной лестнице. А ты знаешь, какой огромный калым требует от жениха отец, отдавая такую дочь.
Старик продолжал сидеть с поднятой головой. А исхудалая рука его продолжала также старательно вырисовывать буквы на бумаге, и голос его монотонно продолжал рассказ:
– Я оттолкнул Рустама и сказал, что эти мешки принадлежат мне. Он, само собой, стал громко кричать. Сбежались люди. Чтобы доказать им, что я прав, я назвал сумму в каждом мешке и какие монеты в них лежали. А Рустам как ни объяснял, что это я узнал от него, доказать ничего не мог. Я утверждал, что это я ему сообщил такие сведения. Одним словом, разгорелся спор. Но я-то был хайдаром, а он – простым мясником. Дело попало в окружной суд, но он не пришел ни к какому решению. Передали дело в суд провинции. Тот же результат. И в Кабуле тоже ничего не решили. Слухи об этом деле дошли до Абдуррахмана, и он вызвал нас в свой собственный суд, тот суд, где он обычно решал споры на людях.
Слепец перестал писать.
– Если бы я мог предвидеть все это, то никогда бы не стал пытаться отнимать деньги у Рустама. Одна только мысль, что я, виноватый, предстану перед великим государем, столь же грозным, сколь и мудрым, приводила меня в трепет. Но что делать? Не явиться на суд – значило признать себя виновным. Кто зашел слишком далеко, должен идти до конца. И потом доказательств-то не было, не было у эмира, как не было их и у других судей.
И действительно, допрос в его присутствии ничего не дал. Я чувствовал себя все более и более уверенно. Великий эмир в своем высоком суде не мог осудить меня. И я спокойно ждал его решения. Но вместо того, чтобы произнести приговор, Абдуррахман вдруг приказал: «Пусть принесут сюда котел с кипятком». И спросил сперва у Рустама, а потом и у меня: «Согласен ты, чтобы, если ты лжешь, этот кипяток сжег тебе глаза?» – «Да, государь!», – ответил мясник без запинки. Что мне оставалось делать, раз я довел свою ложь и свою жадность до суда самого эмира, что мне оставалось, кроме как крикнуть еще громче: «Да, государь!»
И Абдуррахман сказал: «Очень хорошо». И он приказал бросить все монеты, ради которых я дал столько лживых клятв, в кипящую воду. Все молчали: судьи, писец, солдаты, палачи, простой народ. Никто не понимал замысла эмира. А он вдруг повернулся ко мне с убийственно спокойным лицом. И сказал: «О, бесчестный хайдар, воспользуйся же в последний раз своими глазами. Посмотри на поверхность воды, видишь множество пятен от бараньего жира? Чьи руки обычно бывают в жиру? Руки хайдара? Или руки мясника?»
Эмир подал знак палачам, которые тут же схватили меня и, раздвинув мне веки, залили глаза кипятком.
Все, кто слушал этот рассказ шестидесятилетней давности о наказании молодого хайдара, отреагировали на него по-разному. Мокки застонал и закрыл руками лицо, словно защищаясь от огня. Гулям и его брат, слышавшие эту историю много раз, кивали головами и сочувственно вздыхали. А Уроз сказал:
– Чтобы придумать такое судилище с кипятком, надо быть великим государем, каким был Абдуррахман.
– Величайшим из всех, – подтвердил слепой писец с выражением спокойной уверенности. Он отправил меня сюда, в деревню, где я родился. И я научился писать вслепую, чтобы быть полезным людям, которые в этом нуждаются, как вот тебе сегодня.
Старик положил перо на дощечку. Он так рассчитал свой рассказ и работу, чтобы закончить их одновременно. Под последней строкой документа он поставил свою подпись.
– А ты писать-то умеешь? – спросил он у Уроза.
– Только собственное имя, – ответил тот.
– Ну большего и не требуется, – сказал писарь. Потом он обратился к Гуляму.
– Сделай как обычно. Заверь от себя и от имени своего брата, раз он неграмотный.
Потом слепой старик аккуратно убрал в пенал письменные принадлежности, вытащил гвоздики, державшие бумагу на дощечке. А Уроз сложил лист вчетверо и сунул его за пазуху. Потом заплатил старику и произнес:
– О, мудрейший из писцов, живи еще долгие и долгие годы.
– Если Аллаху будет так угодно, я буду и дальше искупать свою вину.
Гулям еще добавил:
– Чтобы как можно дольше уберегать нас от искушений и их напастей.
Произнося эти слова, он смотрел на Мокки. Саис все еще стоял, закрыв лицо руками.
* * *
Потом все попили чаю. А затем Мокки отвез писаря верхом на Джехоле в его деревню.
Там он купил все, о чем говорил Уроз: продукты, кое-какие вещи в дорогу, четыре одеяла, два тяжелых овчинных полушубка с длинными рукавами и узорчатой вышивкой, называемых в Афганистане пустинами, кинжал. Он ничего не забыл, но делал все, как во сне: без ясных мыслей и не испытывая никаких чувств.
Вернувшись в караван-сарай, он с таким же безразличием стал собираться в дорогу. Когда все было готово, он молча помог Урозу сесть в седло.
– Вот и хорошо, – отозвался тот. – Еще светло. А где горбун? Он что, не хочет, чтобы мы ему заплатили?
Мокки пошел в чайхану, встретил по дороге Гуляма, вытиравшего о штаны измазанные глиной руки.
– Мы уезжаем, – сообщил Мокки.
Голос у него был какой-то тусклый, взгляд – пустой.
– Мне очень жалко, что я не смог быть с вами в последние минуты вашего здесь пребывания. Я вмазывал в землю котел.
– Котел… котел… – машинально повторил Мокки.
Он вдруг задрожал всем телом. Страшная тоска исказила его лицо. Он положил руку на горб Гуляма и прижался к нему плечом.
– Брат, – простонал он, – помолись, очень прошу тебя, чтобы в дороге твоя молитва охраняла меня.
– Пусть тебе будет дано еще встречать солнце, как встретил ты его сегодня утром, – тихо произнес Гулям.
Услышав их голоса, Уроз подъехал к ним на Джехоле; в зубах его была плетка.
IV ДОМБРА
В тот момент, когда Уроз, Мокки и Джехол покинули караван-сарай, направляясь на запад к опасным перевалам Гиндукуша, солнце уже коснулось гребня гор. А вот по другую сторону гигантского хребта дневное светило еще вовсю сияло над степью. Оно находилось еще высоко в провинции Меймене, над мирным плато, несущем на себе кишлак Калакчекан.
Там, перед своей юртой, сидел Турсун, а рядом с ним – старый рассказчик Гуарди Гуэдж, и они пили зеленый чай.
Они сидели, поджав по-турецки ноги, на жалком коврике, постеленном прямо на земле – больше для почета, чем для удобства.
Между этими людьми с такими разными фигурами: у одного – массивный торс, словно ствол могучего дерева, у другого – иссохшая кожа да кости, стояли медный, очень помятый тусклый самовар и поднос с незамысловатой посудой.
Рот Гуарди Гуэджа походил на лишенную жизни складку кожи, тогда как рот Турсуна, напротив, по цвету своему, да еще из-за толщины и трещин напоминал скорее лопнувший от избытка соков плод инжира. Но оба они выражали одинаковое чувство покоя.
Вторая половина дня была их любимым временем. Утро любит молодых наездников, полных надежд. А вот плотная полуденная еда и тяжелый сон после нее подходят для людей зрелого возраста. Тогда как ожидание вечера – удел стариков.
Солнце, утомленное длинным дневным переходом из одного конца в другой конец степи, не обжигает, а впитывается в каждую складку морщин, помогает крови течь по жилам, не подгоняя ее, согревает холодеющий костный мозг и льет бальзам на страдающие суставы.
Этот свет уже не слепит глаза. Он щадит усталые органы зрения, повидавшие столько летнего зноя. Откуда-то с краев и изнутри земли начинают пробиваться тени; их игры и танцы заполняют и расцвечивают бесконечную равнину, создавая узоры из потоков воды и букетов цветов до самого горизонта.
А то, что эти легкие веяния принесут с собой – сон или смерть, не так уж важно. Теперь для них каждая минута – отстраненность и мудрость, и в каждой из них содержится вечность.
Голосом, напоминающим своей отчетливостью звон бубенцов каравана, Гуарди Гуэдж сказал:
– Солнце садится вглубь моего тела.
Турсун медленно кивнул своим широким, изборожденным шрамами, отмеченным следами переломов лицом. Ему тоже случалось погружаться в созерцание, свободное от материи, от сознания, превращаться в пустую оболочку, открытую сумеркам с их сладким медовым ароматом, ласковой прохладой и предзакатными лучами. Но Турсуну трудно было столь же долго, как это делал Гуарди Гуэдж, сохранять это совершенное слияние себя с концом дня. В сердцевине полного блаженства, когда движение духа словно повисает, вдруг начинает шевелиться оживающий червячок мысли.
И тут закрывался для человека светлый мир, возвращались тревоги и одиночество.
«Мы приехали сюда, – подумалось Турсуну, – вечером того дня, когда чопендозы из Меймене отправились в Кабул на Королевский бузкаши. Я думал провести в своей юрте только одну ночь. Но вот уже седьмая ночь на подходе, а Пращур и не замечает этого».
Турсун заметил, что в этот момент Гуарди Гуэдж тоже словно отдалился от него, так же как и прекрасный, наполнившийся сумерками вечер. Только что они втроем были так счастливы. Теперь же небо стало недоступным, и очень, очень далеко от него две жизни, два изолированных друг от друга существования. У Турсуна от этого стало горько на душе. Он стал размышлять. Помочь делу было невозможно. По другую сторону древнего самовара сидел человек, хоть и истощенный и почти невесомый, как бы превратившийся просто в силуэт, но человек, обладавший своим внутренним весом, своей судьбой, своей тайной.
«Ведь он постоянно находится в движении, – продолжал думать Турсун, – двух ночей обычно под одной крышей не спит, а тут вдруг будто прирос к этой юрте. Дело явно не в желании отдохнуть: как бы рано, до зари, я ни встал, он уже на ногах. Пища? Да он лишь из вежливости притрагивается к ней. И все время проводит в кишлаке, беднее которого не найти. В этом убогом селении он слушает, что говорят старики, дети и даже женщины, приближаться к которым из-за его возраста ему ничто не мешает».
Турсун готов был воскликнуть:
«Скажи мне, скажи, о Пращур, что удерживает тебя здесь?»
Но так и не решился спросить. Ведь Гуарди Гуэдж, как всегда, способен был ответить вопросом на вопрос: «А тебя самого, о Турсун?»
Руки старого чопендоза, лежавшие плашмя на раздвинутых коленях, вдруг сжались в два огромных, тяжелых, как кувалды, кулака. И сердце ему тоже сжала какая-то тяжелая рука. Не было больше радости, не было больше дружбы на окрестных холмах, на вечерних травах. Турсун думал о подстилках для лошадей, о корме, за которым он не следил вот уже целую неделю, о жеребых кобылицах, о больных и раненых лошадях, о жеребятах, отнятых от матки, о молодых конях, дрессировку которых он предоставил безответственным конюхам. Да, хорош бы он был, если бы спросил с удивлением у Гуарди Гуэджа, что его здесь удерживает. Ведь у Гуарди Гуэджа нет никаких обязанностей, и он свободен, как ветер, тогда как он, Турсун, Главный Конюший, хранит нагайку в юрте, как какой-нибудь инвалид, калека или престарелый приживал.
«Почему? Почему?» – снова и снова спрашивал себя Турсун.
Голова его поникла, и он стал ворочать ею справа налево и слева направо, как будто отгонял надоедливого овода.
В полной тишине со стороны кишлака послышались звуки домбры и стали приближаться к юрте.
Кулаки Турсуна разжались: теперь он имел право говорить, мог отвлечься по приличному поводу. И он воскликнул:
– Прислушайся, Пращур, вот и Нияз идет сюда.
Гуарди Гуэдж немного помолчал. Он слышал хуже Турсуна. Потом отозвался:
– Теперь и я слышу. Его обычное время. Солнце опустилось до уровня наших глаз.
Из-за юрты появился карлик в лохмотьях, запаршивевший, с седеющими волосами, с ужимками, искажавшими его лицо. Двигался он неровными толчками, и все у него плясало и сотрясалось: плечи, суставы, морщинистые щеки, губы в растерянной улыбке, вздутые вены на шее, зоб на горле. И вместе со всем этим грациозно плясала меж его пальцев тонкая двухструнная домбра, степная певица. Звуки он извлекал из нее настолько чистые и верные, что Гуарди Гуэдж тихо произнес:
– Поистине, юродивые живут рядом с богами.
Вместо приветствия карлик подбросил в воздух домбру, которая дважды перевернулась в воздухе и, не переставая звучать, упала ему на ладони.
«Соседей, что кормят его каждый день, и меня, видящего его со дня рождения, Нияз часто забывает и не узнает. А вот его, Пращура, узнает безошибочно».
Карлик, не переставая играть, уселся по-турецки возле Гуарди Гуэджа.
«Он пришел сюда только ради него», – подумал Турсун.
Домбра взлетела в воздух еще раз, опустилась на ладони Нияза и вдруг заиграла в другом ритме. Струны издали долгий, настойчивый, жалобный звук, потом повторили его еще и еще, снова и снова. И вечный путник Гуарди Гуэдж узнал мелодию, так как слышал ее лет сорок или пятьдесят тому назад, а может и раньше, слышал по ту сторону Гималаев, на дорогах Тибета.
Где и как этот уродец из глухого кишлака, не видевший ничего, кроме своего пригорка и имения Осман-бая, да еще, может, чуточку городишко Даулатабад, где и как узнал он эту жалобную песню? И все другие мелодии и слова, которые он безошибочно повторял? Песни пастухов, воинов, влюбленных. Современные и старинные песни. Напевы своего края, и те, что пели в Ташкенте и Бухаре, в Хивах и Самарканде? Песни афганские, русские, китайские, песни всей Средней Азии, огромных территорий, степных и пустынных, стран верблюжьих караванов и неутомимых наездников.
Конечно, размышлял Гуарди Гуэдж, в степном краю можно встретить разных людей, а на базарах толкутся путники отовсюду. Но какой надо иметь тонкий слух, какую память, чтобы запомнить музыку, услышанную один-единственный раз, исполненную на дудке, свирели, домбре, на бубне или с одного только голоса негромко напевающего прохожего.
Вот уж поистине справедлива традиция, пришедшая из тьмы веков, традиция почитания шутов и блаженных. Небожители лишили их рассудка лишь для того, чтобы вложить в их пустые головы то, что им подскажет их божественная воля. Одним – дар предвидения, другим – предсказания, третьим – дар проклятия, четвертым – святость. Этому карлику достался дар бессмертного песнопения.
«И ты, и я, блаженный и мудрец, созданы для одной цели, – думал Гуарди Гуэдж. – Один собирает сказки, другой – песни, но здесь блаженный справляется лучше, чем мудрец. Сказка, даже самая лучшая, рассказывается медленно, слово за слово. Песня же крылата. Привет тебе, мой бедный брат, мой учитель».
И Гуарди Гуэджу давно уже позабывшему, что такое желание, вдруг очень сильно захотелось подарить карлику хорошую песню.
Но где же найти ее? Нияз помнил их так много, а память Гуарди Гуэджа на мелодии была вовсе не так хороша, как на рассказы. Он уже совсем было отчаялся вспомнить, как вдруг начала пробиваться как бы сама собой сквозь омертвелые слои памяти незатейливая, с простеньким напевом детская песенка. Никто в мире уже не мог помнить эту колыбельную. Она пришла из его младенческих лет. Из той поры, когда кишлаки были как орлиные гнезда, а благодатные долины Кафиристана еще сохраняли свои древние названия. И когда эмир Абдуррахман еще не покорил огнем и мечом воинов, являвшихся потомками воинов Александра Македонского, и не сжег деревянные изображения их богов.
А карлик все играл и играл. Потом вдруг его длинный палец нажал на струны, и инструмент умолк. Нияз повернулся к Гуарди Гуэджу. Плоское лицо его было невыразительно, губы и морщины оставались неподвижными, но во взгляде, как у животных, отражались чувства, чувства очень простые и самые сильные. Глаза карлика как бы говорили: «Ты! Ты! Единственный мой друг, не хочешь больше слушать мою домбру, не хочешь слушать меня?»
Тут Турсун, который сидел, опустив тяжелые веки и незаметно следил за этой сценой, испытал крайнее удивление. Пращур, подняв правую руку, закрыл ладонью лицо карлика. И начал напевать странную песню с непонятными словами.
Когда Гуарди Гуэдж рассказывал свои сказки, голос его был хотя и слабым, но чистым. А когда он стал петь, проявился возраст его: старческий голос стал звучать, словно надтреснутый и совсем расстроенный инструмент. Однако он все пел и пел свою колыбельную, под которую лет сто назад засыпали младенцы в подобном орлином гнезде, ауле, от которого сохранились лишь разбросанные как попало, опаленные огнем пожарищ камни.
Все дряхлое тело его тихо повторяло ритм песни. И Ниязу вдруг показалось, что иссохшая рука, лежащая на его лице, стала жить самостоятельной жизнью. Звуковая волна коснулась его лба, ласково погладила по волосам, и пальцы его пришли в движение, побежали по струнам. Гуарди Гуэдж умолк. Дальше можно было не петь. За него пела домбра, спокойно, без усилий, голосом чистым, как вечерний свет.
Странная дрожь пробежала по телу Гуарди Гуэджа, по морщинистой коже его лица. Когда он старался вспомнить колыбельную, он лишь хотел по возможности как можно лучше передать ее мелодию другому. Теперь же, когда она возвращалась к нему свежим, точным, новым, наивным напевом, у него возникло ощущение, будто он подбросил в воздух горсть камешков, и они вдруг звонко покатились в глубь времен. И от их падения в таинственную бездну ему послышались звуки и вздохи, казалось бы, давно и навеки угасшие.
И тут Гуарди Гуэдж, чье тело словно износилось и стерлось на нет, а способность чувствовать иссякла из-за старости, наступившей давным-давно, Гуарди Гуэдж задрожал от тревоги и прилива нежности.
Память у него была необычайная, но до этого ему никогда не удавалось воскресить самые ранние свои воспоминания, свои воспоминания новорожденного о первых впечатлениях от окружающего мира: о цветах, звуках, прикосновениях, запахах, вкусе пищи. Струны домбры словно извлекали их из пропасти, где они лежали под наслоениями годов. И несмотря на возраст и жизненный опыт, которые поставили Гуарди Гуэджа как бы вне человеческой судьбы, несмотря на то, что, подобно дереву с поврежденными корнями, он все больше и больше приближался к своей неизбежной кончине, он не смог сдержать дрожи своего старого, успокоившегося уже совсем было сердца, не смог не разволноваться оттого, что вернулись к нему туманные, как молоко, и разноцветные, как радуга, мгновения, когда, едва выйдя из тьмы небытия, он ощутил впервые окружающий мир и свою в нем жизнь.
Запах горящих дров… потрескивание сучьев в очаге… пляска искр… нежное дыхание теплого воздуха… ощущение покоя от надежных стен и сводов… Привычные движущиеся тени… безмятежность спеленатого и защищенного со всех сторон тела… блаженное ощущение во рту от теплой, густой, жизнетворной жидкости, вкус которой остается на губах вместе со вкусом самого дающего ее источника, бесконечное и сладостное наполнение живота. И в центре этого прекрасного изобилия – добрый, теплый голос, который поет, поет, поет до самого порога сновидений, поет крылатую песню о полном счастье, о доверчивости и о любви.
А солнце опускалось все ниже и ниже, теперь вершину холма освещали лучи, идущие не сверху, а от края степи. Утонченно-нежное освещение необычайно волновало чувства, и домбра настолько точно повторяла движение волн света, что пение ее казалось созданным для успокоения всей земли, для успокоения не только тех, кто лежит в колыбелях, но и для всех, кто испытывает страх перед приближающейся ночью.
Кончался день… кончалась и песня.
Для чего, размышлял Гуарди Гуэдж, для чего нужна жизнь, длившаяся дольше всех других, если и она тоже вот-вот прервется, как и самые короткие? И зачем нужно столько мудрости, если единственная польза от нее – он это вдруг ясно понял – состоит в том, чтобы заставить человека примириться с прекращением жизни?
Между тем там, далеко в степи, огненный гребень от солнечного диска превратился в тоненькую пурпурную нить.
Звуки домбры уже не достигали слуха Гуарди Гуэджа, хотя он видел, что пальцы Нияза продолжают касаться струн, а Турсун покачивает своей массивной головой в такт песне.
«Во имя дружбы твоей ко мне, не прекращай пение!» – хотел было крикнуть Гуарди Гуэдж карлику. И в этой не произнесенной мольбе как бы выразилось все его горе. Смерти он не боялся, слишком давно уже он жил бок о бок с ней, но ему хотелось, ах, как хотелось, чтобы в свой смертный час, хотя бы еще раз, всего один только раз, дано было бы ему услышать голос матери, который, обволакивая его любовью, скрасил бы ему его одиночество, так давно ставшее для него чем-то вроде семьи, чтобы голос тот, как младенца, усыпил бы его, мудрого столетнего бродягу.
Но пальцы карлика, похожие на отвратительных гусениц, лежали неподвижно.
И степь мгновенно стала пепельного цвета.
* * *
Турсун выпрямился. Кожа его еще не ощутила первых, едва заметных движений прохладного воздуха. Но суставы уже почувствовали холод. Голова карлика качнулась, резко опустилась на впалую грудь, рот его открылся, нижняя губа отвисла.
Гуарди Гуэдж закрыл глаза с глубокой, бесконечной грустью, свойственной таким людям, как он. И подумал: «Никто в мире не может мне помочь. Так, может быть, я сам еще смогу кому-то прийти на помощь…»
Он сказал Турсуну:
– Я видел Айгыз.
– Айгыз, – проворчал Турсун. – Айгыз.
Ему показалось странным и неприличным, что кто-то напомнил ему о женщине, потерявшей способность к деторождению после того, как она родила Уроза. Он давно дал ей развод. По закону и обычаю, на почетных условиях. За сорок лет он забыл о ее существовании.
– По-моему, у нее есть все, что нужно, – отозвался Турсун.
И это было верно. Он дал Айгыз дом в кишлаке и обеспечил ее средствами существования.
– Она хочет поговорить с тобой, – настаивал Гуарди Гуэдж.
– По какому праву? – грубо спросил Турсун.
– Она умирает, – ответил Гуарди Гуэдж.
Турсун пошевелил своими массивными плечами. Если бы умирал мужчина и позвал бы его, он тут же отправился бы в путь. Но достойно ли угождать капризу женщины, даже если это – последняя воля умирающей? Он сказал:
– Умирает? Ну и что из этого? Разве она еще не состарилась?
– Умирать в одиночестве всегда рано, – возразил Гуарди Гуэдж.
– Ты думаешь? – проворчал Турсун.
И хотя слова мудреца показались ему непонятными, он с трудом встал – чтобы выполнить странную просьбу Пращура.
* * *
В кишлаке Калакчекан было всего десятка два домишек, бедных глинобитных мазанок, прижавшихся к скалистому краю холма. Жилище Айгыз было последним, у речки. Оно ничем не отличалось от других – низенькое, с навесом из засохших веток перед входом, с одной-единственной комнатой внутри глинобитных стен, без окон и без дымовой трубы.
Турсун вошел внезапно. Влияние Гуарди Гуэджа сейчас на него уже не действовало. Этот дурацкий визит вызывал теперь у него чувство стыда и гнева. Когда он встал на пороге, перегородив своим крупным торсом весь дверной проем, комната оказалась полностью лишенной остатков сумеречного света. Он сделал шаг вперед и увидел в углу, возле самовара, двух старух. Которая из них Айгыз? Наверное, вот эта, толстая, с шумным дыханием, прислонившаяся к стене на горе подушек. Да, это и в самом деле была она, и она заговорила:
– Турсун, ах, Турсун.
И тотчас одряхлевшее, бессильное тело засуетилось. Голосом, перекрывающим сипенье, она стала с нетерпением приказывать, просить, счастливая и обеспокоенная одновременно.
– А ну поживей, бестолковая служанка… Подай на что сесть… зажги светильник… подай чаю.
Турсун сделал еще один шаг вперед.
– Мне ничего не надо, – запротестовал он. – …Мне некогда.
– Цц… цц… цц, – отвечала Айгыз.
И снова, обращаясь к прислуге:
– Скорей… скорей…
Из темного угла служанка вытащила ватный матрас, расстелила его на полу у ног Турсуна, зажгла масляный светильник, налила в чашку горячего черного чаю. После чего, семеня, удалилась, не оглядываясь. Пока дверь оставалась открытой, Турсун заметил, что перед домом собрались жители деревни. Хозяин Калакчекана, великий Турсун, пришел к своей отвергнутой жене. Это ж надо!
Турсун почувствовал, как вспыхнули его щеки, будто стали такими же горячими и такими же красными, словно только что вынутые из огня кирпичи. Он глубоко вздохнул. И в ноздри ему ударил жуткий запах. Конечно, ему приходилось в жизни встречать и более отвратительные зловония. Конюшни и стойла из его детства… Караван-сараи, случайные чайханы, хижины, где семьи жили вместе со скотом. Но вонь самых нечистоплотных людей и запущенных животных и даже запах испражнений, к которому он привык, были менее удушающи и тошнотворны, чем прокисшее зловоние, сладковато-горький запах тухлятины, которым было пропитано это жилище. Омерзительная, непристойная вонь, вонь больной женщины.
Турсун все еще стоял, опустив руки поверх чапана и сжав кулаки, и глаза его из-под безукоризненно повязанной чалмы в упор смотрели на расплывшиеся груди и живот Айгыз. Ему вспомнились те больные кобылы, которых он отказывался лечить. Их переполненные гноем внутренности лопались, превращая все тело в чудовищные бурдюки.
«И эта тоже сдохнет, – подумал Турсун. – Только этой надо, чтобы я ее сперва пожалел».
Как раз в это мгновение Айгыз снова заговорила. Она сказала:
– Мир тебе, о Турсун. Позволь… твоей рабе… оказать тебе честь… принять тебя.
Голос ее был хриплым, задыхающимся, прерываемым спазмами и икотой, но в нем звучали смирение и достоинство… А Турсун никогда в жизни не позволял себе уступать кому-либо в вежливости. И вынужденный признать вежливость Айгыз, он, несмотря на свое отвращение, повел себя подобающим образом. Он поблагодарил и сел по-турецки на матрас, стал, звучно прихлебывая, пить предложенный ему чай.
Теперь его голова была на уровне головы Айгыз. Свет от лампы, стоящей на полу, падал снизу на опухшее лицо старухи, все в фиолетовых прожилках и безобразных морщинах. «Ну разве, встретив ее, я смог бы догадаться, что это она?» – подумал Турсун и спросил:
– Как это ты сразу меня узнала?
– А как же? – ответила Айгыз.
Взгляд ее, почти невидимый из-за вспухших век, слабо блеснул.
– Твои плечи, – продолжала она… Такие же… Ведь все эти годы, каждый раз, когда ты шел в свою юрту и выходил из нее… я видела тебя… ты проезжал на коне…. такой же прямой, как в наше время.
Айгыз оторвала спину от стены. Какая-то странная сила помогла ей наклонить все тело к Турсуну. И торопливым шепотом, на одном выдохе она сказала:
– Как настоящий чопендоз.
Турсун откинул голову назад. Подумал: «Она пошевелилась, и вонь стала еще сильнее».
Он страдал и сердился даже не столько от усилившегося отвратительного запаха. Оказывается, когда он и думать перестал о существовании женщины, которую отверг, она продолжала в мыслях быть с ним на протяжении всей своей одинокой жизни. Чего она добивается? Хочет заявить о каких-нибудь правах на него? Пытается околдовать. И уже добилась своего, раз он сидит здесь, у ее безобразных ног.
– Настоящий чопендоз, – повторила Айгыз. – Настоящий…
Голос ее вдруг прервался. Она взмахнула руками, широко открыла фиолетовый рот, издала резкий стон. По жирному животу волной прошла судорога, от которой голова ее откинулась к стене.
Турсун смотрел на нее с отвращением. Она явно вот-вот умрет. И добилась того, что он присутствует при ее кончине… Чтобы пожалеть ее… утешить… Ох, женщины! Женщины!
Айгыз приоткрыла веки и прошептала:
– Останься…
Потом:
– Это пройдет.
Турсун подождал, придерживая рукой заправленную за пояс плетку. Огромный живот опустился, успокоился, горло освободилось от спазм.
– Вот… вот… – прошептала Айгыз.
С большим усилием она приподняла веки. В выцветших глазах дрожали белые старушечьи слезы. Пальцы Турсуна сжимали кожаное плетение нагайки. Теперь Айгыз расплачется, чтобы вызвать в нем жалость. Белесые слезы свисали, не падая, как у слепцов.
– Расскажи мне об Урозе, сыне моем, – попросила старуха.
– А зачем я буду рассказывать? – проворчал Турсун.
Голос его испугал Айгыз. Толстые щеки ее задрожали. Она со стоном сказала:
– Прошу тебя, не сердись, о Турсун. Это твой сын, он только твой сын, я знаю, знаю.
Сперва Турсун не понял. Потом смутно припомнил, как о чем-то почти не имеющем к нему отношения, как он бил молодую красивую женщину за то, что своими поцелуями, песенками, дурацкими сказками и прочим баловством она пыталась размягчить, изнежить маленького мальчика, приходившего домой в царапинах и ушибах, измученного, но гордого своими первыми успехами в верховой езде.
Толстые губы Турсуна передернулись. Совсем сдурела… Она что, думает, что она все еще его жена и может оспаривать право на их ребенка… Уроз теперь принадлежит только своим демонам: гордыне и погоне за славой.
Айгыз смиренно продолжала:
– Я просто надеялась, что ты мне скажешь, может пришли какие новости из Кабула… Кто там победил?
– Ничего не знаю, – ответил Турсун таким тоном, что щеки и грудь испуганной Айгыз опять задрожали.
– Извини, – пробормотала она, – …извини меня. И то правда: бузкаши — не женское дело.
– Замолчи! – крикнул Турсун.
Конечно, задавая такой вопрос, она нарушила обычай: испокон веку женщина не имела права присутствовать на игрищах мужчин-степняков. Но разве в этом было дело!
Вопрос, который так робко задала Айгыз, вот уже неделю был у всех на устах в конюшнях, в чайханах, в садах Осман-бая и с каждым днем он звучал все настойчивее.
Турсуну хотелось заткнуть уши, чтобы не слышать его. Ведь именно из-за этого он и удалился в свою юрту. Чтобы не выходить оттуда, чтобы не участвовать в лихорадочном ожидании, в отсчете часов, сначала остававшихся до Королевского бузкаши, а потом – бесконечных часов неизвестности, пока имя победителя не доберется от Кабула до Меймене, оттуда до Даулатабада и оттуда, наконец, до дома Осман-бая.
Чтобы отвлечься от всего этого, чтобы забыться, он и прибег к помощи россказней старика и музыки дурачка.
– Ты прощаешь мне? – прошептала Айгыз.
– Что прощать? – спросил Турсун.
Он был рад, что она остановила бег его мыслей. У него теперь было только одно желание: оказаться как можно дальше от этого запаха, от этого тела, от этого лица. Турсун встал со словами:
– Ну, мне пора…
– Есть хочешь? – спросила Айгыз.
– Очень, – сказал Турсун.
Он ответил бы что угодно, лишь бы поскорее выйти из ее лачуги.
Айгыз подняла к нему лицо, и все его складки, мешки под глазами, все ее черты пришли в движение, будто от какого-то внутреннего кипения.
«До сих пор она держалась, – подумал Турсун. – А сейчас разревется».
Он смотрел на нее сверху вниз, готовый уйти при малейшем стоне, при малейшем всхлипе или жалобе. Но как он ни вглядывался в это лицо, ему так и не удалось обнаружить признаков отчаяния или даже просто горя. Можно было подумать, что в глубине этого тела как раз наоборот происходила какая-то загадочная работа, постепенно снимавшая уродство с этого огромного, опухшего лица.
Сначала Турсун просто не поверил тому, что происходило у него на глазах. Чтобы убедиться, он склонился над Айгыз. И вздрогнул, словно присутствовал при каком-то магическом действе. Глаза Айгыз, высвободившиеся из вспухших, гноящихся век, широко раскрылись, полные покоя и нежности. Они все больше раскрывались, становились все более блестящими, но уже не из-за слез. Турсун еще сильнее склонился надо лбом Айгыз. И по мере того, как он наклонялся над умирающей старухой, он обнаруживал, что рот ее, только что выглядевший ужасно, теперь выражал легкими, дрожащими складками, идущими от уголков губ, столько признательности, дружбы, счастья, что Турсун узнал изгиб и форму почти детской улыбки, замеченной им в день свадьбы в зеркале, куда молодоженам разрешили взглянуть, чтобы они впервые увидели друг друга.
– Иди, Турсун, иди, поешь, – прошептала Айгыз. – У тебя что, все такой же хороший, прекрасный аппетит, как и раньше?
И Турсун снова солгал:
– Такой же, – произнес он.
Этот взгляд, эта улыбка, этот голос. Они становились невыносимыми. Но дело теперь уже было не в отвращении. Он подумал: «Она заботится обо мне… Она!.. Обо мне!..»
Сам не понимая почему, он сказал:
– Я никогда потом не ел такого вкусного плова, какой готовила ты.
Затем резко коснулся пальцами волос Айгыз и буркнул:
– Мир тебе!
И вышел, не дожидаясь традиционного ответа.
* * *
Турсун медленно шагал к себе в теплой, легкой ночи. Он ни о чем не думал, прислушиваясь лишь к шуму собственных шагов по каменистой дороге. Когда он увидел очертания своей юрты, освещенной переносным фонарем, Турсун понял, что она уже не может служить для него убежищем.
Нияз исчез. На скамье, обхватив голову руками, сидел перед столом только Гуарди Гуэдж.
– Все, – сказал Турсун, – последний вечер я здесь.
– Я так и думал, – ответил Гуарди Гуэдж. – Вести из Кабула вот-вот придут.
Он говорил, не отрывая от головы тонких и настолько исхудалых пальцев, что свет от фонаря проходил сквозь них, словно сквозь стекло.
– Ты выглядишь сегодня усталым, Пращур, – сказал Турсун.
– Устало не тело, – сказал Гуарди Гуэдж. – Мы уйдем отсюда вместе.
Дехканин с согбенной спиной, прислуживающий Турсуну, принес горячие лепешки, простоквашу, крутые яйца, варенье с бараньим салом и виноград. Налил чаю. Гуарди Гуэдж не дотронулся ни до чего.
Турсун покачал головой и, сев, резко придвинул к себе еду. Все, что он ел, показалось ему безвкусным. Отодвинул одно за другим блюда и сказал:
– Когда она поверила, что у меня хороший аппетит, она тут же переменилась.
– Айгыз? – спросил Гуарди Гуэдж.
– Она, – ответил Турсун.
И рассказал, как на безобразном лице умирающей старухи вдруг на какое-то мгновение появились взгляд и улыбка очень красивой, очень молодой женщины. И Гуарди Гуэдж сказал:
– Вот видишь, не зря сходил.
– Это какое-то колдовство, – воскликнул Турсун. – Но я же не колдун.
Гуарди Гуэдж улегся на скамью, подложив под голову сумку.
«Колдовство? – подумал он. – Может быть. Но исходит оно от человека и существует на земле столько же лет, сколько и он сам».
Гуарди Гуэдж забыл о Турсуне. Он вспоминал древние легенды и прекрасные стихи о любви. Временами произносил вполголоса целые строфы.
И тогда Турсун кивал головой. Он узнавал и не удивлялся этому. От Каспийского моря до Индии веками распевались и декламировались эти знаменитые стихи, будь то под навесами базаров или на собраниях утонченных поэтов, в семейном кругу или у костров в степи. Они становились достоянием и ученого, и бродячего певца, и обездоленного пастуха. Даже женщины в заброшенных горных кишлаках знали наизусть длиннейшие поэмы.
– Фирдоуси, – шептал Турсун.
Или:
– Хайям.
Или:
– Хафиз.
Наконец Гуарди Гуэдж кончил декламировать и открыл глаза. Степное небо переливалось звездами. Лицо Турсуна в свете фонаря походило на деревянную скульптуру.
Гуарди Гуэдж с мягкостью в голосе сказал:
– Это колдовство любви, о чопендоз, существует во всех людях и для всех.
Гуарди Гуэдж оперся на стол, чтобы лучше разглядеть Турсуна.
– Айгыз тебя не ждала и не надеялась увидеть.
Но ты вошел в ее дом. И она поняла, что всегда считала тебя самым давним и самым дорогим другом.
Турсун хотел ответить.
– Нет, послушай, – остановил его Гуарди Гуэдж. – Для тебя она уже давным-давно никто. А для нее ты по-прежнему супруг, прекрасный и единственный, суженый на веки веков.
– Женщины, – проворчал Турсун.
– Женщины, – повторил Гуарди Гуэдж, но с совсем иной интонацией.
И в нем опять запела кафиристанская колыбельная. Он дал ей прозвучать в нем и продолжал.
«Турсун беспокоится обо мне, Турсун меня защищает», – подумала Айгыз и почувствовала себя счастливой. А ты, рассказав о своем голоде, сделал еще больше. Ты вернул ее в те годы, когда ее руки работали, чтобы тебя покормить, одеть тебя… Сегодня вечером каждая секунда твоего присутствия была для нее бесценным даром. И все же она отправила тебя ужинать. Она опять о тебе заботилась.
– Женщины, – проворчал Турсун.
– И не только они, – возразил Гуарди Гуэдж.
Он сделал еще несколько глотков чаю и продолжил:
– Верь мне, о чопендоз, чтобы не задохнуться в собственной шкуре, каждый должен чувствовать, что он нужен другим.
– Я ни о ком не забочусь и чувствую себя хорошо, – сказал Турсун.
– В самом деле? – спросил Гуарди Гуэдж. – А что с тобой станет, Главный Конюший, если тебя вдруг освободят от работы с лошадьми? Твое сердце по-прежнему будет таким же горячим и здоровым?
– Тут надо подумать, – сказал Турсун.
Он мысленно увидел перед собой лошадей, ожидавших его в конюшнях Осман-бая, жеребят, плохо стоящих на ногах в первых своих играх, великолепных жеребцов, выращенных для жестоких испытаний… Ту большую кобылицу, глаза которой умоляли: «Вылечи меня», а потом, когда он спас ее, сияли благодарностью.
И ему так захотелось повидать их всех, что он почувствовал, как его старая кровь (еще более старая, чем у Айгыз, невольно подумалось ему) закипела, будто он вдруг помолодел. И говорило в нем не чувство ответственности, не жажда наживы, не страх перед хозяином. В этих гривах, в этом ржании, в этих влажных взглядах он хотел увидеть свои заботы, свой уход, свой успех, и почувствовать свою гордость и свою власть, – все, что составляло его жизнь. Ибо ведь в самом деле стоило ли жить, если бы не эти четвероногие, его подопечные?
– Это всего лишь животные, – подумал вслух Турсун.
– Пожалуйста, утешай себя таким образом, если хочешь, – сказал Гуарди Гуэдж. Я знаю, ты очень сильный человек, о Турсун… Только вот бывают дни, когда и самый сильный, и самый слабый нуждается в помощи и хочет любить эту помощь. Человеку важно быть то покровителем, то находиться под чьим-то покровительством.
Кулак, тяжелый, как обломок скалы, опустился на стол рядом с лампой.
– Только не для меня, – произнес Турсун.
– Ты уверен? – не согласился с ним Гуарди Гуэдж.
Голос его был слаб, как усталое дыхание. Его одежда свисала со всех сторон так, будто в ее складках не было никакого тела. От лица остались лишь кости, да и те хрупкие, как тонкое стекло. Турсун со страхом подумал: «Аллах всемогущий, вот сейчас он и скончается… Аллах всемогущий, я не хочу этого». Он с каким-то суеверным страхом вдруг понял, какую огромную помощь он попросил у Гуарди Гуэджа и получил от него с того вечера, когда они вместе молча любовались сперва закатом солнца, а затем восходом луны и тем, как оба светила застыли на небосклоне, уравновешивая друг друга. И его кулак в свете лампы размяк, превратился в подобие мягкого корневища.
* * *
Они лежали рядом под куполом юрты. Время от времени топчан скрипел.
– Ну, а тебе, Пращур, – спросил вдруг Турсун, – если тебе понадобится помощь, кто тебе окажет ее?
– Домбра, – ответил Гуарди Гуэдж.
Турсун помолчал немного, потом снова спросил:
– Ты, который угадываешь все наперед, скажи, как тебе кажется, Уроз победил в Королевском бузкаши?
И опять Гуарди Гуэдж ответил вопросом на вопрос:
– В этом ли состоит, о Турсун, твое истинное желание?
V НАГАЙКА
Турсун с Гуарди Гуэджем, сидевшим на крупе лошади у него за спиной, были уже на землях Осман-бая, когда им встретился устремившийся им навстречу всадник. Турсун узнал одного из своих конюхов.
– Мир тебе, Главный Конюший, – сказал он. – Я как раз направлялся к твоей юрте.
Гуарди Гуэдж увидел, как напряглись сразу плечи и спина Турсуна.
– Что, пришли какие-нибудь новости? – спросил он.
Саис, теребя гриву своего коня, быстро произнес:
– Не все.
– Тогда говори, – грубо сказал Турсун. – Что там с Урозом?
– Аллах не был милостив к нему, – промолвил саис, опустив глаза. – Но…
– Молчи, – сказал Турсун. – Где гонец?
– Спит у нас в конюшне, – ответил саис.
– Иди быстро и разбуди его, – приказал Турсун. – Хочу все услышать только от него.
Всадник исчез за зеленой стеной деревьев, а Турсун выругался. Потом быстро проговорил:
– Позор на свою голову, бездарный сын, базарный чопендоз! Ты проиграл в первом бузкаши в честь короля, хотя ни твой отец, ни отец твоего отца, ни дед твоего отца никогда не терпели поражения на крупных скачках.
Он умолк, почувствовав прикосновение руки Гуарди Гуэджа к своей шее:
– Ты страдаешь, Турсун? – спросил сказочник.
– И буду страдать до самой смерти, поскольку задета честь моего рода, – ответил Турсун.
– А за себя самого тоже страдаешь? – спросил Гуарди Гуэдж.
– После подумаю, – ответил Турсун.
Интонация его голоса была угрожающей. Он резко наклонился вперед, как будто хотел распутать поводья, но на самом деле, чтобы не соприкасаться больше с Гуарди Гуэджем. Эти невесомые руки, этот беззвучный голос вдруг стали ему невыносимы. Вот уже неделю он из-за них казался себе нерешительным, глупым, встревоженным, находящимся не в ладу с самим собой. Но хватит. Он вернулся на свою территорию. К своим корням. Теперь он мог отличить истину от лжи, приличное от недостойного.
Турсун направил коня к своему дому, сказав:
– Я пойду по делам, а ты окажи мне честь и отдохни под моей крышей.
– Спасибо тебе, – поблагодарил Гуарди Гуэдж.
У порога их поджидал Рахим. На правой щеке его был виден длинный, еще не зарубцевавшийся шрам. Турсуну он был ненавистен.
– Помоги моему гостю слезть с коня, – крикнул он мальчику. И заботься о нем лучше, чем даже обо мне.
Гуарди Гуэдж слез с лошади и попрощался с Турсуном:
– Мир тебе, чопендоз.
– И тебе тоже, Пращур, – ответил ему Турсун. – Скоро увидимся.
– Да будет так угодно судьбе! – пробормотал Гуарди Гуэдж.
* * *
Турсун нашел отправленного из Даулатабада гонца в первом же загоне для лошадей. Это был худой тщедушный человечек в потертом чапане. Учитывая важность исполняемой им миссии, он ревниво оберегал тайну, выдавал ее скупо, по крупицам окружавшим его конюхам и батракам. Турсун, однако, все ему испортил. Схватив гонца за рукав, он крутанул беднягу и приказал:
– Докладывать будешь только мне. И живо.
– Я не виноват, – смиренно отвечал гонец, – что так поздно выехал. Телеграмма шла два дня до Меймене и еще один день до Даулатабада.
– Ладно. Что там сказано об Урозе? – спросил Турсун.
– Уроз, сын Турсуна, сломал ногу, – продекламировал гонец выученный наизусть текст. – Сейчас он в безопасности и находится в лучшей больнице страны, в Кабуле.
Послышался шепот соболезнования присутствующих с выражениями надежды на скорое выздоровление. Лицо Турсуна было непроницаемо. Так полагалось. Но про себя он подумал: «Получается, значит, что наши чарпаи и наши лекари уже недостойны моего сына».
Жестом приказав всем молчать, он вновь обратился к посланцу.
– А что тебе известно о коне, на котором скакал Уроз?
Мужичок выпрямился и нараспев сказал:
– Бешеный конь… конь славы. На нем Салех, да продлит Пророк его дни, выиграл Королевский бузкаши.
Послышались крики:
– Слава Салеху! Слава Осман-баю, у которого есть такой чопендоз!
– Слава! – повторил Турсун с высоко поднятой головой и непроницаемым лицом.
От гнева и стыда на шее у него вздулись вены: все свое искусство, все сердце вложил он в самого великолепного во все времена и во всей степи скакуна, и вот результат: победил самый ничтожный из всех чопендозов, служащих под его началом! И через несколько дней он увидит торжество Салеха. Поздравить его приедут, облачившись в парадные одежды, все знатные люди провинции и все вожди племен. И ему, Турсуну, придется произносить в его честь хвалебную речь. А его сын, которому он обязан таким унижением, тем временем будет нежиться в Кабуле на мягком ложе.
Из кармана широких штанов Турсун вынул горсть бумажных денег и швырнул их гонцу:
– Ты хорошо справился с заданием, – сказал он. После чего повернулся к старшему саису.
– Все лошади на месте? И старший саис ответил:
– Как обычно.
И, как обычно, Турсун вошел своим медленным, тяжелым шагом в лабиринт загонов, где от солнца потрескалась земля.
* * *
Люди, сопровождавшие Турсуна, впоследствии клялись на Коране, что ничто в его поведении не предвещало тех поступков, которые он вскоре после этого совершил. Да и кто бы мог распознать – настолько умело Турсун спрятал свои чувства за обычным своим поведением – овладевшее им бешенство и позывы его мускулов, которые от этого бешенства перестали чувствовать свой возраст.
Обход продолжался как обычно, строго по порядку. Из загона в загон, от стойла к стойлу. Турсун тяжелым взором осматривал привязанных лошадей, замечаний делал мало. В его отсутствие делалось все, чтобы животные находились в наилучших условиях. Вдруг, в третьем загоне он пошел прямо к лошади, находившейся в противоположном углу. Там стоял вороной жеребец среднего роста, изумительной силы и красоты. Едва Турсун подошел к вспотевшему боку его, как тот начал фыркать, ржать и вставать на дыбы.
– Слишком ожирел. Норов показывает, – сказал Турсун. – Сколько дней его не седлали?
– Семь, – ответил главный саис.
– Почему? – спросил Турсун.
Старый конюх посмотрел на хозяина с опасливым удивлением.
– Ты же знаешь, – сказал он, – что этот конь предназначался для Уроза, твоего сына, пока ты не отдал ему Джехола. А Уроз запретил мне давать кому бы то ни было садиться на него.
– Это было до его отъезда, – сказал Турсун.
– А с тех пор… с тех пор я… я не получал никаких других указаний, – сказал старший саис, избегая взгляда Турсуна.
А тот подумал: «Он упрекает меня в том, что я долго здесь не был». Но в какой-то момент все исчезло из глаз Турсуна, словно смылось волною гнева. Потом он опять увидел жеребца. Ноздри у того были расширены, непокорный взгляд выражал вызов, презрение. Турсун сказал старшему конюху:
– Прикажи принести мое седло, и пусть его оседлают.
– Для кого?
– Ты видел когда-нибудь, чтобы на моем седле сидел кто-то, кроме меня? – спросил Турсун.
– Но… как?., этот конь… ты хочешь… он и так самый буйный из всех… а тут еще, после семи дней…
Старший саис вдруг умолк.
Лицо Турсуна и все шрамы на нем расплылись в беззвучном смехе. Вороной нервно дергал за привязь и бил копытом, поднимая столб пыли.
– Вот видишь, он понял, – сказал Турсун.
Пришлось двоим конюхам держать жеребца, пока третий его седлал. И не то чтобы конь противился или уклонялся. От нетерпения он буквально плясал на месте. Когда удила и поводья были на месте, а подпруги затянуты, Турсун очень медленно обошел вокруг жеребца и остановился перед его головой. Тут он одной рукой захватил нижнюю челюсть коня, а другой – верхнюю часть головы. В таких тисках вороной замер, а неподвижный взгляд Турсуна проник вглубь его влажных, блестящих и буйных глаз. Постепенно конь перестал дрожать. Еще трепетали лишь веки с длинными ресницами. Турсун провел по этим векам большим пальцем, словно желая их разгладить.
– Хорошо, – сказал Турсун. Он отпустил голову коня. Один из саисов придерживал стремя, готовый подсадить хозяина в седло.
– Назад, – пробурчал Турсун.
И не успел сказать, как понял значение этой команды. Обычно, как и все люди его возраста и ранга, он оказывал слугам честь, разрешая помогать ему сесть при посторонних на коня. По общему согласию это было правилом и даже долгом. Таким способом удавалось избежать каких-либо проявлений слабости, неточных движений, смешных поз, жалости и сочувствия свидетелей, исключалась возможность болезненного унижения уважаемого всадника. А своим отказом от помощи Турсун поставил себя вне правил игры. Теперь власть возраста не была защищена обычаем. Ни его старость, ни его должность, ни легендарное прошлое не имели больше никакого значения. Он сам так решил, сам этого захотел.
На какое-то мгновение Турсун почувствовал себя голым в средоточии всех устремленных на него взглядов, почувствовал себя выставленным на обозрение любопытных – со своим усталым телом, со своими поврежденными суставами.
«А если я поскользнусь, – подумал он, – или сорвусь… или плюхнусь, как мешок… В моем возрасте никто не стал бы подвергать себя такому риску».
При этой мысли он ощутил такую горделивую, такую чудесную радость, что она оторвала его от земли и вознесла вверх. Тело его стало невесомым. Все суставы, от ступней до шеи, стали послушными. Одним махом Турсун оказался в седле, держащим уздечку в руках, безмерно довольный, что точно рассчитанное, уверенное движение вернуло его в лучшую пору его жизни.
Неважно было, что конь под ним пытался вздыбиться и понести. Против этой лошадиной страсти на стороне Турсуна были его вес, масса его тела, подобные тискам колени, железная хватка рук и весь его опыт. Конь почувствовал это, причем настолько быстро, что это даже разочаровало Турсуна. Он бы хотел вступить в схватку с непокорным, ретивым жеребцом, чтобы проявилась в полной мере сила, чудесным образом омолодившая и кровь, и весь его организм. Ему захотелось удилами и шпорами спровоцировать бунт слишком быстро смирившегося жеребца и продемонстрировать все свое мастерство дрессировщика, давно уже им не применяемого. Но он вовремя вспомнил о своем положении и о своих семидесяти годах. Не мог же он перед подчиненными, отлично понимающими, что возникает естественно, а что является трюкачеством, пусть даже самым ловким, не мог же он заниматься акробатикой, как какой-нибудь безусый чопендоз. Сопровождаемый почтительным гулом одобрения в связи со смирением коня, Турсун шагом выехал из загона и медленно поехал дальше. Все мускулы жеребца страдали от этой медлительности, воспринимаемой им как насилие. Но и старый наездник страдал от нее не меньше.
* * *
Когда они отъехали подальше от имения, перед ними на востоке открылась степь, такая бесконечная, что впору закружиться голове. И тогда Турсун пригнулся к трепещущей холке коня и прямо в ухо ему издал переливчатый, пронзительный и такой долгий крик, что он, казалось, заполнил собой все пространство до горизонта и даже дальше, сотрясая небо и землю.
Конь рванул вперед и понесся, как бешеный. Турсун был готов к этому. Этого он и хотел.
Вот это была скачка! Никогда прежде Турсуну не удавалось добиться такой стремительности. Тысячи раз скакал он галопом по этим местам. Но то было привычное исполнение своего долга, своего права. А на этот раз он скакал вопреки своему возрасту, вопреки своему утратившему гибкость телу, и это была скачка, посланная ему самим небом, Аллахом. Судя по всему, последняя: чудеса на то они и чудеса, чтобы не повторяться. И коль скоро это была последняя скачка, она стала самой прекрасной в его жизни, самой драгоценной.
Из-под копыт поднимался горький запах полыни, настолько пьянящий, что в нем смешались все остальные ароматы степи, которыми дышал Турсун на протяжении многих-многих лет. Встречный, идущий от самого горизонта ветер, казалось, обдавал его лоб свежим дыханием всех утренних зорь, которые он видел в своей жизни.
Зубы его крепко сжимали кожаное плетение нагайки, рукоятка которой болталась возле его плеча. Заслуженная нагайка. Более древняя, чем он сам. Единственный подарок отца, с медной отделкой, более толстая и более жесткая, чем нынешние со свинцовыми шариками, более крупными, чем делают теперь, на конце каждого ремешка. В твердой от времени коже Турсун узнавал вкус столько раз ее орошавших пота, пены и крови.
«Ты уйдешь со мной в могилу, – думал Турсун. – Ну а пока, раз уж выдалось такое утро, такой праздник, то пой, моя дорогая, пой, моя жестокая нагайка».
Выхватив из зубов плетку, он взмахнул ею над головой, к светлому небу. Опускать ее не понадобилось. Одного свиста оказалось достаточно. Конь и так ускорил свой галоп.
– Вот видишь, видишь, – кричал Турсун. – Всегда можно сделать больше, чем кажется возможным.
Он слегка коснулся ремешком бока лошади. Потом еще и еще, и еще раз. И при каждом прикосновении – полуласке-полуугрозе – бег скакуна набирал бешенство, набирал безумие.
«Словно горный поток… словно молния… словно орел… словно молодость», – думал Турсун, щекой прижавшись к шее коня. Лицо его было мокрым от пены, слетавшей у того с губ и ноздрей. Турсун беззвучно смеялся. Потом сжал зубы. Словно горный поток… но поток уносит деревья и подмывает берега… молния сжигает кишлаки… орел нападает на добычу… Молодость летит в будущее… А он, старый безумец…
Далеко справа показалось что-то вроде дыма. Туда и направил Турсун своего скакуна. Скоро они достигли облака пыли. Это двигалось стадо овец, а с ним три пастуха в лохмотьях и две лохматые собаки.
Кто принял решение? Молодой жеребец, только что натренированный для бузкаши, или старый наездник, отлученный от игры, в которой он был легендой. Так или иначе, но ржание лошади и улюлюканье всадника раздались одновременно, когда они бросились на перепуганное стадо.
И хотя нападение было таким лихим, что все стадо закрутилось вихрем, жеребец не поранил ни одной овцы. А Турсун сумел выбрать момент, чтобы, оторвавшись от седла, наклониться к самому крупному барану и схватить его за шею.
Когда же он выпрямился, острая боль вдруг огненным кольцом обхватила поясницу, и ему даже показалось, что он не закончит свой маневр. Однако он все же вернулся в седло, вернулся на полном скаку, с нагайкой в зубах и добычей в руке.
Горный поток… молния… орел… молодость… Всегда можно сделать больше, чем кажется возможным.
Придерживая барана у холки коня, Турсун галопом вернулся к стаду, постарался его собрать и успокоить сбившихся в группки перепуганных мохнатых овец.
Пастухи лежали, распластавшись на земле, лицом вниз, зарыв голову в траву. Зато обе собаки, опьянев от злобы, с покрасневшими от ярости глазами, явно решившие так это дело не оставлять, все кидались и кидались на Турсуна. А он обращался с ними так, как обращался бы с двуногими противниками, осыпал их бранью, дразнил, размахивал бараном то слева, то справа перед их оскаленными мордами, всякий раз вовремя отдергивая его. Жеребец делал обманные движения, крутился, лягался. А Турсун беззвучно радостно смеялся. Вдруг он почувствовал, как щиколотку что-то схватило и укололо. Одной из собак удалось укусить его. Турсун взмахнул плеткой, и свинцовый шарик на конце хлыста ударил псу прямо между глаз. Собака рухнула навзничь.
Турсун поднял коня на дыбы над пастухами, прижавшимися к земле, швырнул барана вниз так, что у того захрустели переломанные ноги, вытащил из чапана деньги и трижды кинул их из горсти на головы несчастных чабанов, прокричав:
– Это за барана! Это за собаку! Это за страх!
И поскакал галопом к востоку.
Блеянье перепуганного стада стало ослабевать и наконец затихло. Когда вокруг восстановилась тишина, Турсун перевел коня на рысь, потом на шаг…
Он потрогал рукой, еще сохранявшей запах бараньей шерсти, взмокшие от пота щеки и лоб. Провел рукой по затылку. Пальцы его коснулись растрепавшейся ткани. «Моя чалма», – мысленно сказал себе Турсун. Важнейшая часть одеяния, призванная подтверждать достоинство человека, оказалась в полном беспорядке, что было совершенно неприлично.
Он на мгновение увидел себя таким, каким увидели его пастухи: седовласым мужчиной, напавшим на мирное стадо и играющим в бузкаши с двумя голодными псами. «Старый придурок», – подумал Турсун. И еще подумал: «Мне бы следовало устыдиться такого неприличного поведения». Тем не менее он спокойно ехал дальше по степи. Старый – это точно. Придурок – возможно… Но зато какая победа над самим собой!
Турсун погладил взмыленную шею коня. Рука его хотела и умела передать радость. Жеребец тихо заржал. Турсуну этот ответ был понятнее человеческой речи: «Хвала тебе, спасибо тебе за все, что ты сделал со мной сегодня, – говорил ему конь. – Я твой раб, и я люблю тебя…». Турсун протянул вперед руку и твердыми, как рог, ногтями, несколько раз провел между глаз коня. Радостная дрожь пробежала по блестящей от пота шерсти. «Конечно, он не стоит моего Джехола, – подумал Турсун, – но в то же время он и не так уж далек от него». Странное чувство испытывал он к этому коню. Первый Джехол был для Турсуна словно брат. Следующих он воспринимал как своих сыновей. А этому жеребцу – молоденькому, свежему еще, еще зеленому в большой игре, но уже участнику и свидетелю сегодняшнего триумфа – Турсун улыбался, как дед внуку. Медленно ехали они по бескрайней полынной степи под полуденным солнцем.
И тут он увидел в степи домик.
Он сразу узнал его. То был привычный ориентир, очень ценный для тех, кто проводил большую часть времени в этой однообразной степи, – для всадников, пастухов, кочевников. Но для Турсуна этот домик был больше, чем ориентир. С высоты его крыши, куда он взлетел однажды благодаря чудесному прыжку своего коня, он когда-то дразнил лучших чопендозов трех степных провинций. До сих пор люди продолжали говорить и слагать песни об этом славном подвиге.
Обычно, когда Турсун проезжал неподалеку от этого дома, от этого загона для скота, он отворачивался от него. Всадник, каким он стал теперь, не имел ничего общего с всадником той поры. Но в это волшебное утро Турсун устремил свой взор прямо на крышу глинобитного дома. Чопендоз, который сейчас ленивым шагом направлял своего коня, мог без сожаления и без стыда вспомнить о том, другом чопендозе. Они были равны. Он был одновременно и тем, кто медленно подъезжал к дому, и тем, кто там, на крыше, вздымая коня на дыбы, оскорблял стаю беснующихся в бессильной ярости противников. Турсун вновь ощутил радость и гордость, владевшие им тогда. Он вспомнил поднятые к нему лица, искаженные злобой и завистью. Слышал брань и проклятия в свой адрес. А над всем этим гвалтом, пронизанным ненавистью, звучал, как тогда, молодой, чистый голос, вибрирующий от преданности, гордости и беспредельной дружбы.
– Отец, – кричал этот голос, – чем я могу тебе помочь?.. Отец, отец, ты мной доволен?.. Отец…
И, как тогда, Турсун почувствовал удивительную радость, наполнившую ему грудь, и прошептал:
– Уроз… сын мой… мальчик… мой малыш…
Вдруг конь остановился. Уши его затрепетали. Никакой видимой причины для беспокойства не было. Кругом была выжженная южным солнцем степь. Ни малейшего дуновения ветра, ни движения в сухой траве. В небе ни ястреба, ни какого-либо другого хищника. И сам Турсун тоже не мог ничем напугать лошадь. Колени, каблуки, плетка были неподвижны. Поводья по-прежнему мирно лежали на холке. Но инстинкт коня отличается большей тонкостью, чем грубый язык жестов. Дыхание его стало короче… мускулы напряглись… Не было больше мира и дружбы в его теле, этого составлявшего единое целое с телом человека.
Турсуну показалось, что рот его наполнился горьким вкусом степной полыни. А ведь только что уста его были полны нежных слов в адрес мальчика, привставшего на стременах, у стен этого дома.
«Сын мой… мой малыш…»
И вновь произнес Турсун эти слова. Но только на этот раз голос его прозвучал со свистящей интонацией, потому что вылетевшие слова были сказаны сквозь сжатые зубы. И тяжелые губы исказила отвратительная ухмылка. Теперь нежные слова, звучавшие раньше как колыбельная, относились к чопендозу в расцвете лет, жестокому, высокомерному и скрытному.
– Сын мой… дитя мое… мой мальчик, – пробурчал Турсун.
И заскрипел зубами. Он подумал: «Ну вот, и я ничем не лучше, чем Айгыз… Распустил нюни… Будто подыхающая старуха».
В густом плевке выплюнул всю свою злобу. Жеребец, почувствовав попавшую на ногу слюну, от неожиданности сделал два шага. Рука Турсуна грубо одернула его. Он так резко потянул за удила, что железо, впившись в уголки конского рта, поранило животное до крови. Конь вздыбился.
И с высоты вставшего вертикально коня Турсун увидел крышу дома и в мыслях себя на ней. И непобедимый чопендоз прокричал на всю степь слова оскорбительного вызова. Но кругом никого не было, кому можно было бы их адресовать. Только он, он один.
– Ну, давай, старикашка! Давай, согбенная твоя спина, колени-крючья, щиколотки-уродины! Давай! Попробуй догнать меня! – кричал Турсуну его воображаемый двойник.
И, казалось, Уроз тоже был там и не сводил с него своего неподвижного, безжалостного взгляда.
Турсун ударил каблуками жеребцу под бока, хлестнул его изо всех сил и направил прямо на дом. И в коротком этом разгоне, когда каждый его мускул был готов к прыжку, чтобы взлететь на крышу верхом на коне, Турсун повторял, повторял про себя команду жеребцу, просьбу, приказ и угрозу:
«Ты будешь, будешь наверху… Ты можешь… Ты должен…»
И конь, подгоняемый страхом, волей и телом седока на подвиг выше его сил, превзошел себя и прыгнул. Уже брюхо его было на уровне крыши. Надо было только удержать его там. Турсун предчувствовал победу. Но тут в поясницу ему словно вонзились когти. Больше от неожиданности, чем от боли, он на мгновение присел на седло. А конь-то был на высшей точке своего прыжка. И он осел. Едва-едва, но этого оказалось слишком много. Задние ноги ударили по воздуху как раз на уровне крыши. Ему хватило сил лишь на то, чтобы избежать удара о стену и свалиться на землю. И лачуга, рядом с которой оказался Турсун, показалась ему на этот раз страшно высокой. А под ним дрожал, дрожал жеребец… Подгоняемый, вдохновляемый на чудо Турсуном, он был способен совершить сверхъестественное усилие. Но теперь он выдохся и был без сил. Повторять было бы бесполезно и смешно – Турсун знал это, чувствовал всеми фибрами тела. И все же отвел коня на нужное расстояние и вновь попытался… А потом еще раз… И еще…
Каждый раз прыжок был тяжелее и хуже предыдущего. Турсун упорствовал, как вошедший в азарт спорщик или игрок, явно против рассудка, который проигрывает все до последнего афгани. В конце концов, не в состоянии оторваться от земли, конь уткнулся в стену. Партия была проиграна. Турсун смотрел на крышу бессмысленным взором.
«Я должен был там быть, – думал он. – При первом прыжке конь сделал то, что должен был сделать…»
Поводья лежали на шее лошади. Под полуденным солнцем царила тишина. Турсун еще раз подумал: «Виноват только я… На моем месте Уроз…»
Он на мгновение задержался на этой мысли… Потом внезапно из его искаженного дикой ухмылкой рта вырвалось:
– Возможно. Но ты, бестолковый сын, ты даже на Джехоле, которого я тебе дал, не сумел выиграть Королевский бузкаши.
И от этих своих слов Турсун испытал, может быть, самую пьянящую – оттого, что она самая нечистая, – из всех доступных человеку радость, радость от получившей реванш зависти.
То ли удивившись собственному скрипучему голосу, нарушившему покой земли и неба, то ли почувствовав какую-то несоразмерность своего счастья, но миг вкушения упоительной отравы был недолог. Несмотря на полуденную жару, холод вдруг пробежал по его спине и проник вглубь тела. И у него возникло ощущение страха.
Страха перед кем? Страха перед чем? Турсун мотнул головой, и концы развязавшегося тюрбана ударили ему по щекам. Главное, главное – не спрашивать себя… Ни о чем не думать… В Калакчекане ему это удалось. Удалось и тогда, когда он узнал о падении Уроза. В первом случае – благодаря своеобразному отупению. Во втором – с помощью бешеного гнева. А что делать теперь? Он почувствовал, что с каждым мгновением в глубине его сознания остается все меньше места, куда бы он мог спрятаться от мыслей о самом себе. Оставался один выход: бежать, да так, чтобы скорость движения не давала места раздумьям. Жесточайшим ударом нагайки Турсун бросил коня в обратный путь.
И конь постарался сделать все, на что он был способен. Но после бессмысленных попыток взлететь на крышу глубинные силы его иссякли. Это стало видно сразу: что бы ни делал всадник, конь не мог бежать быстрее. Турсун понимал это лучше, чем кто бы то ни было. Понимал, что станет с жеребцом, если пытаться гнать его быстрее. Понимал и страдал от этого.
Турсун вспомнил, как резво они скакали вдвоем, как были счастливы и дружны. Самый мощный инстинкт цельного существования, чувство долга, правила чести – одним словом, самые сильные движения души старого чопендоза подсказывали ему и умоляли его слезть с коня, приласкать его, поблагодарить, обтереть ему бока степными травами, дать отдышаться и медленно отвести на конюшню. И Турсун глаз бы отдал, чтобы сделать это. Если бы не страх. Страх, перешедший из коня, слишком несправедливо наказанного, чтобы продолжать испытывать его, в человека. Турсун нанес жестокий удар плеткой по и без того уже исполосованному боку.
Порыв вконец измученного коня оказался настолько слабым и жалким, что Турсун, опять подняв плетку, почувствовал, что руку его сдерживает стыд. Но он сказал мысленно себе:
«Ну и пусть! Своему собственному сыну я желал еще большего горя».
Хлыст опустился мягко, без размаха, без свиста. Турсун отпустил уздечку. Пытаться бежать было бесполезно. И дело тут было даже не в том плачевном состоянии, в каком оказался конь. Чтобы убежать от признания, вырвавшегося у него в момент презренной радости, испытанной им возле домика в степи, нужен был крылатый конь Пророка.
Лошадь Турсуна робко перешла на рысь, а потом и на шаг. Турсун предоставил ей свободу. Куда теперь спешить и к чему? Теперь, когда он увидел себя со всей ясностью и определенностью, видел себя нагим… «Шагай, бедная лошадка, смелый, благородный мой конь, шагай, как хочешь!» – думал Турсун. Ему нужно было время, чтобы привыкнуть к тому новому своему облику, видеть который он так долго и так ожесточенно отказывался.
Он, наследник славы, освященной победами стольких поколений чопендозов, он, распорядитель знаменитых конюшен Осман-бая, он, воспитатель легендарных скакунов, наконец, он, Турсун, отец Уроза, одновременно предал все, предал то, чем был обязан своим предкам, предал доверие своего господина, предал несколько поколений Джехолов и, что хуже всего, предал кровь своего рода. С тех пор, как разнеслась весть об организации Королевского бузкаши, он жил в страхе, да-да, в страхе, что как бы Уроз не вышел в нем победителем.
О, если бы речь шла об игрищах в пределах трех северных провинций, какими бы славными они ни были и какими бы ценными ни были призы, Турсун охотно уступил бы почести Урозу. На этом уровне он позволил бы ему все – ведь за свою жизнь он выиграл столько призов. Но только не в Кабуле! Только не знамя из рук короля. Нельзя же, чтобы впервые в истории времен по ту сторону Гиндукуша воспевали бы и прославляли не его имя, а имя другого чопендоза! И если уж надо смириться с судьбой – то есть со старостью, – если уж победителем в Кабуле должен стать не Турсун, то пусть им будет кто угодно, но только не этот худощавый, молчаливый мальчишка, так долго бывший в его повиновении, выросший в его тени, а теперь вот вырвавшийся на волю неблагодарным, скрытным и спесивым, с волчьей ухмылкой на губах. Да, раз такова воля Аллаха, мужчина может в конце жизни согласиться с потерей славы. Но чтобы инструментом такого поворота стал собственный сын, чтобы ему была честь от падения отца, чтобы он еще гордился этим, нет, такого Всемогущий и Всеблагостный не позволит, конечно же, не позволит!
«Вот почему, – сказал себе Турсун, – в глубине моего сердца, втайне от всех и от меня самого, я вынашивал желание, чтобы Уроз проиграл, чтобы гордыня его была сломлена, а моя слава осталась на высоте». А потом еще сказал себе: «И вот это случилось… Уроз упал…».
Конь в конце концов остановился. Солнце повисло над их головой, и тени их слились. Турсун машинально дернул поводья. Уроз упал не по своей вине. Нет! Такой наездник, такой акробат, как Уроз… Какая-то посторонняя сила выбросила его из седла, сломала ему ногу. Его сглазили. Навели порчу. И кто на свете мог успешнее сделать это, чем отец, лучше всех вооруженный против своего сына, против своей собственной крови?
Не успел Турсун прийти к этой очевидной мысли, как каблуки его вонзились в бока лошади, а нагайка пошла плясать справа налево и слева направо.
Но сейчас это не было бегство. Теперь для Турсуна важно было не убежать от позорных мыслей. Теперь он тревожился только за сына. Лучшая больница… лучшее лечение… никакого беспокойства… так говорите. Неправда. Это было бы слишком просто. Слишком было бы легко. Недобрый глаз отца имеет слишком сильную власть. Урозу грозит что-то ужасное. Ибо этого захотел он, Турсун.
И опять в ушах прозвучал юный голос: «Отец, отец, чем я могу тебе помочь?» И снова заходила ходуном нагайка. Острое лезвие плети рассекло в нескольких местах дымящуюся кожу жеребца. Тот кинулся в галоп.
«Заставить коня бежать в таком состоянии может только ужасная боль», – подумал Турсун.
И с этой минуты рука его не переставала хлестать. От этого галоп был неровным, механическим. Турсун знал, что не дать выдохшемуся коню остановиться при такой скачке можно только, если не позволять ему привыкнуть к одной и той же муке. Страдания должны все время обновляться и усиливаться. И Турсун постоянно разнообразил пытку. На туловище коня, превратившемуся в сплошное месиво из грязи, пота, крови и пены, он отыскивал нетронутые места и посылал удары туда. Или же бил по кровавым ранам. Дыхание жеребца стало таким хриплым и громким, что оно перекрывало топот копыт. Турсун прекрасно понимал, что он убивает стоящего немалые деньги скакуна, скакуна, который ему не принадлежит, за которого он отвечает и который честно отдал ему все свои силы. Но что значило это преступление по сравнению с тем преступлением, которое он совершил по отношению к Урозу?.. Скорей доскакать… скорее узнать – только это сейчас и имело значение. И Турсун коленями, чреслами, всем своим телом поддерживал умирающую лошадь. И он преуспел в своем намерении. Вороной жеребец свалился лишь тогда, когда доскакал до конюшен.
* * *
В первое мгновение саисы от страха разбежались. В этом старике с горящими глазами и остановившимся взглядом, без чалмы, с непокрытой всклокоченной головой, и в этой грязной, изможденной и окровавленной лошади невозможно было узнать тех превосходных, составляющих прекрасную пару всадника и жеребца, которые совсем недавно выехали из загона. Наконец кто-то из них воскликнул:
– Аллах всемогущий! Это же ведь великий Турсун!
Кто-то спросил:
– Неужели в степи объявились волки?
– Или разбойники?
Они приблизились к Турсуну, но тут же отпрянули. Конь тяжелой глыбой свалился с ног. Конюхи кинулись помогать старому чопендозу. Но им не пришлось вытаскивать его из седла, не пришлось поднимать. Турсун давно понял, что именно так окончится его скачка, и был готов к этому. Конюхи смотрели, как он стоит над агонизирующим скакуном.
Они спрашивали дрожащими голосами:
– Что случилось? Что случилось, о Турсун?
Турсун, словно не слыша их, буркнул:
– От Уроза новости есть?
Вопрос этот, судя по всему, испугал саисов больше, чем все, что они только что увидели. Они переглянулись с суеверным ужасом.
– Откуда… как ты узнал?.. – пробормотал старейший из них.
Турсун схватил старика за край его ветхого чапана. Изношенная ткань разорвалась пополам.
– Какие новости? – крикнул Турсун.
– От «малого губернатора» прискакал гонец… – пробормотал саис. – Уроза уже нет в больнице… Он разбил окно и исчез… И с тех пор больше никаких вестей…
Турсун покачнулся… Казалось, сейчас он рухнет рядом с конем. Но он устоял на ногах. Послышался почтительный шепот:
– Как он страдает!
– Как он любит сына…
Турсун смотрел на коня. У того из ноздрей пузырями пошла кровавая пена. Он издыхал.
«Я наказал его вместо себя? – думал Турсун… Или хотел наказать себя таким образом?»
Он подумал о Джехоле… тот не смог помочь Урозу победить, а помог другому… который сломал ногу Урозу… Несравненный конь, лучший во всех трех провинциях… И стал инструментом колдовства… Джехол… Даже Джехола у Турсуна не осталось… Неужели у него действительно теперь ничего не осталось?
Он вдруг резко повернулся и зашагал к своему дому. Там отдыхал Гуарди Гуэдж… Единственный человек на свете, который все понимал, знал все заранее и не осуждал. О, как сейчас Турсуну нужен был Гуарди Гуэдж!
* * *
– Пращур ушел вскоре после тебя, – сказал вполголоса Рахим.
– Куда? – спросил Турсун.
– Он никому не сказал, – ответил Рахим по-прежнему вполголоса. – Только очень просил передать тебе привет и огромную благодарность от него.
Турсун прилег на чарпай, закрыл глаза. И внезапно ощутил такое одиночество, что ему на мгновение показалось, будто и собственное сердце перестало его слушаться… «Уроз! Уроз! Где ты?» – кричала душа Турсуна… И он понял вдруг, что только сын ему и нужен. «Но тогда что же получается, – спрашивал себя Турсун, – значит, я люблю его?» И тут же у него в голове возник новый вопрос:
«А если бы он вернулся победителем?»
Турсун представил себе горделивое, презрительное, торжествующее лицо сына и на мгновение почувствовал к нему ненависть… Но потом увидел в этих глазах, беспощадных к другим, взгляд, обращенный к нему с надеждой, с тайным желанием быть признанным, одобренным. Те же глаза, что тогда, перед домом в степи.
«Уроз… Уроз…» – прошептал Турсун… Он зажал себе рот рукой, чтобы заглушить стон отчаяния и нежности, стон, через который выходила из него его великая гордыня.
Больше Турсун думать не мог. Во всем его теле начались страшные боли. Когда первый приступ прошел, Турсуну вспомнилась сегодняшняя скачка.
«Это я расплачиваюсь за мою молодость сегодняшнего утра, – подумал он. – В моем возрасте такие вещи даром не проходят».
Ему послышался голос Гуарди Гуэджа. «Старей быстрее», – говорил тот.
* * *
– Чем я могу тебе помочь, о Турсун? – спросил Рахим.
Открыв глаза, Турсун увидел шрамы на щеках мальчика. Его первая несправедливость… первая низость… Нагайка… Она лежала рядом, в изголовье… Любимая, священная… Ременная плетка рядом с лицом… Отвратительный запах кожи, крови, пота… Замученный конь…
– Возьми нагайку, – сказал Турсун Рахиму. – Спрячь ее, закопай… Не хочу больше ее видеть… никогда.
Часть третья ПАРИ
I ДЖАТ
Плато, на котором находился караван-сарай, было небольшим. Очень скоро Уроз и Мокки добрались до ущелья, прорытого горным потоком. А полуразрушенный караван-сарай исчез за поворотом.
Уроз повернулся к саису, шедшему позади Джехола, и сказал:
– Недолгим будет переход. Посмотри на небо.
Солнце опускалось меж двух вершин, словно втягиваемое в гигантский колодец. Оттого, что свет его был ограничен двумя стенами, диск солнца казался еще более тяжелым, еще более огненным. И цвет его был странным: темно-пурпурным, чуть ли ни черным. Мокки сказал сиплым голосом:
– На солнце уже ночь.
– Иди впереди коня, – сказал Уроз. – Я буду чувствовать себя спокойнее.
Долговязый саис повиновался. Проходя мимо Уроза, он вопросительно взглянул на него своими покорными, несчастными глазами. «Почему он мне так говорит? – читалось в этих глазах. – Какая опасность тебе грозит, когда я иду позади?»
Мокки обогнал Джехола и пошел вперед, сутулясь больше обычного. «Трусливая, рабская душа, как сырые дрова, гнилые и безжизненные, – подумал Уроз. – Ничего, придет время – я сумею разжечь в тебе огонь».
Они недолго искали место для ночлега. Сумерки еще не окончательно сгустились, когда тропа, по которой они поднимались, неожиданно расширилась, превратившись в овальную площадку, где речка, успокоившись, образовала небольшое озерцо. Вокруг росли жесткие кусты и узловатые деревья. Лучшего места для отдыха не придумаешь.
– Ссади меня с коня! – приказал Уроз.
– Сейчас, сейчас. Минутку, – заторопился Мокки. Обычно такой быстрый и счастливый, когда речь вдет об оказании услуги, тут он подошел к Джехолу нерешительно. Сильные его руки, так хорошо помогающие, на этот раз были глупо неловкими, медлительными. Чтобы приподнять Уроза и опустить на землю, ему потребовалась уйма времени. При этом он чувствовал, как из-за этих неловких движений все тело Уроза, пышущее жаром, судорожно сжимается. Коснувшись ногой земли, Уроз хрипло и пронзительно вскрикнул. То был стон человека, не умеющего, не привыкшего стонать.
– Я тебе сделал так больно? – воскликнул Мокки.
Левая нога Уроза изогнулась под каким-то невероятным углом.
– Нога, нога… – прошептал Мокки.
Он встал на колени, протянул руки к сломанной ноге. Уроз оттолкнул его, схватил обеими руками сломанную кость и вправил ее, не издав ни единого звука. Потом плавно откинулся назад. Лицо его оказалось напротив лица Мокки. То ли от сгустившихся сумерек, то ли от невероятной усталости у его лица был пепельно-мертвенный цвет.
– Это я сделал тебе так больно? – повторил саис.
– Недостаточно, чтобы убить, – ответил Уроз.
Сказал, словно выдохнул из себя жар, смешанный с желчью.
Мокки отшатнулся от него и опустился на колени.
– Уроз… о Уроз… – воскликнул он.
Он качнулся вперед, как при молитве, и тихо повторил:
– Уроз… о… Уроз.
И еще раз совсем тихо, как шепот воды:
– Уроз… о… Уроз.
Но человек, к которому обращались слова, исчез. Мокки казалось, что в потемках, быстро сгустившихся у земли, он еще различает что-то больше похожее на тень или на неровность почвы, чем на человеческое тело. Уроз, поглощенный землей?.. Погребенный…
– Не может быть, – прошептал Мокки.
Ему хотелось дотронуться до неотчетливой материи, лежавшей перед ним, он вспомнил об ужасном подозрении Уроза, сына Турсуна, своего хозяина. Подозрении в его адрес, верного слуги Мокки.
– Не может быть! – повторил он.
У него вдруг заболела голова. Он медленно встал. Огляделся вокруг и не узнал местности. За несколько мгновений наступила ночь, быстрая и неслышная. Мгла охватила склоны ущелья, и лишь наверху видны были гребни гор. Мокки помотал головой, отказываясь верить своим глазам. Он ничего не понимал и не верил ничему из того, что его окружало. Почему и как он здесь оказался? В этом колодце, в этой засаде?
– Нет, нет, не может быть, – крикнул он в эту пришедшую с гор ночь.
На его хриплый крик ответило ржание. Джехол… Тот звал его… звал на помощь… Джехол, его друг, его дитя… Мокки показалось, что все вокруг опять стало обретать жизнь, смысл, что на горизонте забрезжила истина. Теперь он снова понимал, что надо делать и в каком порядке. Снять с Джехола мешки и седло. Напоить его и накормить. Зажечь костер… Приготовить пищу. Конь встряхнулся от удовольствия, когда Мокки взял его под уздцы.
– Идем, брат, идем! – шептал саис. Все сделаю, ты будешь, как принц. Идем!
Не успел он ступить и шага, как из темноты послышался резкий приказ:
– Оставь коня на месте. Возле меня, – произнес голос Уроза.
Горло Мокки пересохло. Лишь в силу привычки он сумел спросить:
– А как же напоить его, Уроз? Как напоить?
– Стреножь его прямо здесь и оставь вожжу достаточно длинной, чтобы он мог подойти к воде, – сказал Уроз.
– У тебя сейчас жар. Не будет ли он тебе мешать спать, если останется рядом с тобой? – спросил Мокки.
– Мне будет спаться еще хуже, – ответил Уроз с коротким смешком, – если я оставлю Джехола, а значит и себя, в твоей власти…
Мокки не мог понять, что имел Уроз в виду. Смысл этих слов витал где-то за пределами его понимания. Однако его охватила безысходная тоска и чувство полного одиночества.
– Я сделаю все, как ты хочешь, – пообещал он.
Мокки снял с Джехола поклажу, седло и привязал его длинной веревкой к выступу скалы, к которой прижался спиной Уроз. Вынул из мешков толстые шерстяные одеяла с начесом. И кухонную утварь. И продукты. Из сухих веток соорудил костер. Все это Мокки проделал с обычной обстоятельностью. Только не было сейчас у него радости, не было веселого настроения, которые обычно доставляла ему работа. И даже когда в ночной холодной тиши заплясало пламя костра и запела вода в котелке, не возникло в его душе от них привычного ощущения счастья.
Уроз жадно поедал пищу. Нетерпеливо запускал пальцы в котелок, выхватывал жирные куски баранины, обваливая их в рисе, и без передышки, почти не пережевывая, заглатывал эти комки. При этом он не спускал с Мокки глаз, в которых сверкали красные искры от костра. Из-за этого взгляда саису казалось, что голод хозяина был нездоровым, ненастоящим. «Когда желудок кричит от голода, – думал саис, – глаза у человека смотрят только на пищу. Ест он сейчас плов, а сожрать хочет меня».
Не умея скрывать своих мыслей, он сказал:
– Я никогда не видел, Уроз, чтобы ты так много ел.
– А просто никогда, – отвечал Уроз, – у меня не было такой нужды набраться как можно больше сил.
– Ты прав, ты прав, – воскликнул Мокки, обрадовавшись, что наконец-то получается нормальный разговор. – Тебе надо набраться сил, чтобы бороться против болезни.
– И против той выгоды, которую можно из нее извлечь, – отвечал Уроз.
Он облизал пальцы, выпил одну за другой три пиалы черного чая, несколько раз рыгнул. После этого, согласно обычаю – слуге остатки барской еды – оттолкнул от себя саису котелок, опустошенный более чем наполовину. Мокки доел все до последней росинки. Но ни вкуса, ни радости от этого не почувствовал. Доел лишь потому, что бедняк не имеет права отказываться от того, что посылает ему судьба, тем более – от плова с бараниной.
Веки Уроза были опущены. В отблеске костра щеки выглядели совсем впавшими, а нос – настолько заострившимся, что казалось, будто он вот-вот прорвет тонкую кожу. А когда порыв ветра приходил с его стороны, то он доносил такой сильный запах гниющей плоти, что даже чистейший горный воздух становился неприятным.
«От него уже тянет мертвечиной», – мелькнуло в голове у Мокки. Еще несколько часов тому назад при одной лишь мысли, что Уроз может умереть, у него от панического ужаса помутился бы рассудок. Его кончина означала бы конец света. Теперь же, думая об этом, он ничего не испытывал. Пусть исполнится судьба. Все в руках Аллаха…
И все же, что бы Мокки ни делал, он не мог помешать своим мыслям так или иначе возвращаться к листку бумаги, засунутому Урозом себе за пазуху.
Не отрывая глаз, Уроз пробормотал разморенным голосом:
– Я немножко посплю.
– Да снизойдет на тебя покой! – сказал ему по привычке Мокки.
Уроз вытянулся, повернувшись спиной к Урозу и к коню. Обратив лицо к огню, он стал следить за языками пламени. Те, изгибаясь, взлетая и падая в бесконечной пляске, втянули его мысли в свою игру. Он все забыл. Он стал частью хранимого ночью покоя. У него возникло ощущение полного согласия со звездами, светившими так ярко, что некоторые, казалось, потрескивали от своего горения в ограниченных кругом столпившихся гор глубинах неба, полного согласия с искрами костра, озарившего ущелье, с шумом речки и запахами трав, кустов, воды.
Раздавшееся вдруг ржание Джехола показалось Мокки самым ужасным звуком на свете: оно нарушило покой, столь же сущностный и важный, как сама вибрация звезд. Саис подбежал к нему. Джехол встал на дыбы и так сильно тянул за веревку, что зашатался огромный камень, выступ скалы, возле которого лежал Уроз.
– Наверняка где-то поблизости ходит какой-то дикий зверь, – предположил Уроз.
Мокки положил левую ладонь на глаза коню, а правой погладил ему ноздри. Он прошептал:
– Зверь приближается… Джехол дрожит все сильнее.
И тут со стороны, противоположной той, откуда они пришли, Уроз и Мокки услышали странный голос. Одновременно грубый и ласковый, хриплый и мелодичный, то высокий, то низкий, говоривший в песенном размере:
– Мир вам, братья, сделавшие своей юртой ночное небо. Мир и спутнику вашему с длинной гривой. Не надо бояться. У моего зверя только запах дикий.
Голос во мраке постепенно приближался. Потом на колеблющейся грани тьмы и света от костра появился силуэт. Он приближался очень медленно, легкий и спокойно-величественный.
«Кто это может быть с речами, как у древнего поэта, и такой королевской походкой?» – подумал Уроз.
Из тьмы вышла женщина и остановилась на краю площадки.
Уроз и Мокки, несмотря на все то, что их сейчас разделяло, прижались друг к другу. Их сблизил страх, страх перед сверхъестественным. И в самом деле, как можно было поверить, что в этом ущелье ночью спокойно прогуливается женщина, да-да, женщина?
«Однако – подумал Уроз, привыкая постепенно к видению, – почему на ней этот полушубок, это длинное платье и обувь на меху… И мешок… Привидениям не бывает ни холодно, ни голодно… Наверняка – колдунья…»
Он вспомнил, как произносил слова голос из тьмы, и спросил у Мокки:
– А разве не мужчина говорил только что?
Но ответ последовал не от Мокки. Стоя неподвижно, незнакомка пояснила.
– В моем народе у женщин, рожденных, чтобы петь, в горле несколько голосов.
– В каком народе? – спросил Уроз.
Женщина не ответила на вопрос и, не двигаясь с места, произнесла что-то на незнакомом языке. Из ночи, опираясь на большую палку, вышло вразвалку существо, похожее на коренастого человека, только гораздо ниже ростом. Оно остановилось возле женщины. Уроз и Мокки разглядели обезьяну, покрытую густой коричневой шерстью.
И сразу опасения, беспокойство и даже любопытство покинули Уроза. Он понял, с кем имеет дело.
– Джат, – сказал он, словно выплюнул.
Прозвучавшее в его голосе презрение было таким древним и казалось ему таким естественным, что ему даже и в голову не пришло скрывать его. У него не возникло и тени опасения, что представительница этого народа, испокон веков презираемого всеми, возьмет вдруг да и оскорбится. А как еще относиться к людям, неизвестно откуда пришедшим, говорящим на языке неизвестного происхождения, не имеющим ни крова, ни пастбищ, ни скота, ни оружия? Живущим рядом со многими народами, но везде чужим. Вечно находящимся в движении. Промышляющим в качестве жестянщиков, гадалок или дрессировщиков медведей, собак, обезьян.
– Точно, это джат, – сказал Мокки.
На его круглом, плоском лице тоже появилось непривычное для него выражение отвращения и недоверия.
Да и кто может по-другому относиться к этому нечестному племени! Правда, Мокки сам никогда не видел их дурных поступков, хотя джаты часто проходили по землям Осман-бая. Но он с детства столько раз слышал обвинения в адрес этих вечных бродяг, что готов был прямо поклясться, что видел их проделки своими глазами. В народе говорили, что после их ухода в имении всегда недосчитывались кур и даже овец. А то и лошадей – преступление из преступлений. Мокки бдительным оком посмотрел на Джехола.
Однако джат будто и не заметила этого оскорбительного отношения к себе и к своему народу. Может, притворилась? Или привыкла? Или была выше этого? Или ей это было безразлично? Она неподвижно, не мигая, смотрела на огонь. Костер ярко освещал ее. Была она высокого роста, а из-за тяжелого мешка высокие плечи ее отклонились назад. Она выглядела старой, и ее коротко подстриженные седые волосы, выбивавшиеся из-под меховой шапки, поблескивали, словно стальные. В ней присутствовала та величественная, дикая красота, какой бывают наделены некоторые пожилые люди с благородной осанкой. Глядя на нее, Уроз уже не удивлялся, что она бродит в потемках по холодным ущельям, бродит, куда ей хочется, куда ведет ее судьба, куда глядят глаза.
Старуха потянула за цепочку, к которой была привязана обезьяна, и сделала шаг вперед.
«Она поняла, – подумал Уроз. – Сейчас она пойдет дальше своим путем».
Однако джат лишь приблизилась к костру. Сбросила на землю мешок, присела на корточки и протянула руки к костру. Обезьяна сделала то же самое.
В движениях старой женщины не было ни вызова, ни грубой самоуверенности. Но не было и страха или угодничества. Она поступала лишь так, как ей подсказывало естественное право всех времен. Право прохожего быть принятым. Уроз не только признал это право, но и порадовался, что старуха не усомнилась в его гостеприимстве. Она произнесла с почтительностью в голосе:
– Мир очагу моего хозяина!
На что он ответил таким же тоном:
– Добро пожаловать путнику, оказавшему мне честь.
Потом Уроз крикнул:
– Мокки, давай вскипяти воду для чая, разогрей рис и лепешки.
– А как же я отпущу Джехола? – сказал саис. – Он все еще дрожит.
Не переставая греть над огнем свои длинные худые ладони, джат сказала Урозу.
– Позволь саису отойти на минуту от лошади, и я ее успокою.
– Как же ты это сделаешь? – спросил Уроз. – Ведь конь тебя не знает.
– Сейчас увидишь, – пообещала джат. Уроз приказал Мокки:
– Сделай, как она просит!
Саис снял ладонь с глаз Джехола и отошел. Но недалеко, готовый в случае чего вмешаться. Однако этого не потребовалось.
Сунув два пальца в рот, у самых уголков, старуха начала свистеть. Первый звук был коротким и громким, но не резким. Просто предупреждение: «Слушай меня». Уши Джехола встрепенулись, и он повернул голову в сторону темной массы у огня. А старуха продолжала свистеть. Звуки стали более протяжными и более нежными. Джехол встрепенулся. Перестал дрожать. Большие влажные глаза его вернулись в нормальное состояние. Их уже больше не расширял страх.
«Ну иди… иди сюда…» – как бы говорил тихий, нежный, покоряющий звук. Словно притягиваемый невидимой веревкой, Джехол сделал шаг вперед, потом еще, еще. Губы джат теперь были сомкнуты, и из них исходил ровный, плавный звук, похожий на шум журчащей воды, прокладывающей себе путь сквозь стоячую воду пруда. Джехол подошел к старухе, наклонил голову и коснулся ноздрями ее щеки. Грива коня покрыла седые волосы старухи. Обезьяна ревнивым движением положила подбородок на другое, свободное плечо женщины. Та развязала мешок, лежавший у ее ног, вынула оттуда горсть сахарного песку и дала лизнуть сначала одному, потом другому животному.
– Вот, – сказала старуха. – Теперь они стали друзьями. Они по-своему разломили хлеб-соль.
– Ты колдунья… – воскликнул Мокки. – Как все джат… Меня предупреждали… Колдунья.
Старуха отодвинула от себя обезьяну, коня и медленно встала. На лице ее, спокойном и сильном, появилось высокомерное гневливое выражение.
– Колдунья! Колдунья! Так глупые и трусливые дети обзывают людей, чьи знания и власть они не в силах понять.
– А ты где научилась этому? – спросил Уроз.
Старуха запустила руку в гриву Джехола, прижавшегося к ней, и, высокая и прямая, сказала со спокойной гордостью в голосе.
– Я Радда, дочь Челдаша. А от Сибири до Украины не было человека, умеющего лучше покупать, продавать и дрессировать лошадей, чем цыган Челдаш.
– Что это за племя? – спросил Уроз.
– Это так по-русски называют тех, кого вы зовете джат, – сказала Радда. – В других краях нас зовут «рома» или еще «жиганами». Но везде мы с давних времен являемся единым народом и говорим на одном и том же языке, пришедшем из Индии.
Мокки готовил чай и рис.
– Так что ты, значит, русская? – спросил Уроз.
– Мой отец и мой муж были оттуда, – сказала Радда. – Но с тех пор, как они погибли во время великого бунта, я превратилась просто в джат, которая все время находится в пути.
– Ты совсем одна? – спросил Уроз.
– Нет, не одна, – отвечала старуха. – То с одной зверюшкой, то с другой.
– И сколько же лет так ходишь? – спросил Уроз.
– Считай сам, если хочешь. Мне нечего считать годы, – ответила Радда.
Она присела, скрестив ноги, перед уже тремя почерневшими от огня камнями, на которых у самого костра кипела вода и варилась пища. Ела она медленно, молча, с должным уважением к тому, что делает.
Время от времени старуха вынимала из мешка куски какого-то непонятного месива и давала их обезьяне. Вокруг костра до тех пор, пока джат и ее спутник не кончили есть, царило молчание. Тут она спросила обезьяну самым естественным тоном.
– Ну как, наелся, Сашка?
Обезьяна кивнула головой и почесала живот. Потом, прижав руку к сердцу, низко поклонилась Урозу и Мокки.
– Это она нас благодарит, в самом деле, она нас благодарит, – восторженно закричал саис.
На его круглом, плоском лице было написано чисто детское восхищение. Теперь все мысли его были обращены к этой игрушке. В жизни своей он не видел такого и даже не мечтал увидеть. Обезьяна сделала поклон еще ниже. И тут в холодной ночной тишине раздался громкий хохот Мокки, которому еще совсем недавно казалось, что он отныне навсегда разучился смеяться. Морда обезьяны расплылась в улыбке. Она любила, когда люди смеются. Обезьяна видела в смехе подтверждение: ее труд не пропал даром. Ну а этот смех превзошел по громкости и благодарности все, что она слышала до сих пор. И ей захотелось вызвать его еще раз. Ее быстрый, печальный взгляд перешел от сучковатой палки, валявшейся на земле, к старой цыганке. Та слегка наклонила голову. Обезьяна схватила палку, приложила ее вертикально к левому плечу, выпрямилась и прошла строевым шагом шесть шагов вперед, сделала поворот кругом, прошла шесть шагов назад и остановилась перед Мокки.
– Как солдат! Я угадал!.. Теперь она солдат, – крикнул Мокки, хлопая в ладони. – Еще!
Обезьяна изобразила всадника, потом пьяного. Радость саиса была беспредельной.
– Довольно, – вдруг выразил свое недовольство Уроз.
Он не любил эти дурацкие игры, и тем более ему не нравилась радость Мокки. Обращаясь к старой женщине, он спросил:
– Ты всегда заставляешь работать обезьяну, Радда? А сама-то ты чему-нибудь научилась у своих родичей?
– Гадать, например? – спросила старуха.
– Например, – согласился Уроз.
Он знал, что отлично владеет своим лицом и голосом, и был уверен, что никто не догадается о его суеверной жажде узнать будущее в этот решающий для него момент жизни. Однако когда Радда присела у костра и устремила на него свои бездонные глаза, он понял, что она все видит.
– Я не читаю будущее по линиям руки или по чаинкам, – сказала Радда. – Я вижу людей насквозь, узнаю, что они скрывают от других и сами от себя.
А уж они пусть понимают сами.
– Делай, как считаешь нужным, – сказал Уроз.
Джат прищурила глаза, почти закрыла их.
– Гордыня, – сказала она, – не заменяет дружбу к самому себе. А жестокосердие не заменяет смелость.
– Все? – спросил Уроз.
Он сказал это высокомерно, но ладони его, несмотря на холод, вспотели, и ему стало легче, когда старуха отвернулась, сказав:
– Если ты тот, каким я тебя считаю, этого тебе должно хватить.
Тут за плечом цыганки послышался робкий, почти детский шепот.
– А мне, – сказал Мокки, – что мне ты можешь сказать, бабушка такой бесподобной обезьяны?
Не поворачиваясь и не удостоив его взглядом, джат ответила:
– Простодушие не всегда залог невинности.
Уроз пожал плечами.
– К чему с ним разговаривать, – сказал он. – Все равно, что с моим жеребцом.
– С твоим жеребцом? – тихо спросила цыганка. – А разве ты не знаешь, что в его гриве сплелись нити ваших судеб?
Уроз не пытался ответить. Он почувствовал во всем теле тяжесть, такую тяжесть, будто стал каменным. Но тут какая-то странная сила стала вливаться в него, и он потянулся к старухе, склонившейся над костром. Та начала петь. Песня ее поднималась в небо, в темноту, к звездам, била вверх подобно струе горячего фонтана. В ней слышались то удары бубна, то звон тарелок, то резкий рев труб, то низкое, томное звучание струн. То звоном меди, то мягкостью бархата отдавала эта песня, похожая на скачку демонов, на полет духов одиночества, духов ночи, духов огня. Никогда еще Уроз не оказывался во власти такого волшебства. Никогда еще у него не было ощущения такого яростного, великолепного полета, ощущения такой гордой и безграничной свободы… не слышал он такого зова бесконечности, никогда раньше останавливающего дыхание и снова возвращающего к жизни. Сломанная, искалеченная нога Уроза перестала болеть. Он чувствовал себя где-то далеко-далеко, и грудь его была широко раскрыта, чтобы суметь вместить в себе все молнии, все бури, все звезды.
Песня резко оборвалась, как отрезанная косой. У Уроза возникло ощущение, что ему нестерпимо не хватает ее. Ему захотелось вновь услышать песню, повторить хотя бы несколько слов из этого гимна отваге и славе. Но он вдруг осознал, что язык, на котором пела старуха, ему незнаком.
– Это были русские слова? – спросил он.
– Нет… Цыганские, или джат, если тебе будет угодно, – ответила Радда.
Она смотрела в затухающий костер, где еще краснели, словно рубины, несколько угольков среди золы.
– Слова эти достойны того, чтобы их запомнить? – спросил Уроз.
Чтобы ответить, старуха медленно повернулась к нему. Как раз в этот момент в костре вспыхнуло пламя и озарило ее сухой, благородный профиль. В таком обрамлении она вдруг сделалась похожей на почерневшую от времени бронзовую скульптуру.
«Она не просто смуглая, – подумал Уроз. – От глиняной пыли многих дорог у нее сделалась вторая кожа».
Старуха спросила:
– Так, значит, ты хочешь понять слова?
Уроз кивнул головой.
– Ты прав. Это как раз песня для всадников, – сказала джат.
Закрыв глаза, она добавила:
– Подожди, мне нужно мысленно перевести.
Какое-то время в тишине слышалось только позвякиванье цепи. Обезьяна чесалась. Потом старуха сказала Урозу:
– Я предупреждаю, это будет не так красиво, как на цыганском языке. Чтобы слова взлетали в небо, они должны звучать на родном языке. В переводе они теряют крылья.
– Ничего, ничего, – воскликнул Уроз.
Будто желая раззадорить его еще больше, старуха начала, не раскрывая рта. Голос ее от этого был еще загадочнее и грубее.
«Видать, и в горле у нее тоже есть что-то от пыли пройденных дорог», – подумал Уроз.
Нетерпение в нем прошло, и он полностью отдался ритмичному шепоту, поднимающемуся все выше, выше, становящемуся постепенно гудением, гулом, громом. И песнь началась. Вот ее слова:
Гей! Гей! Огонь горит в крови моей, И конь мой скачет ветра быстрей, А степь просторна, широка, Крепки стремена, рука крепка. Гей! Гей! Товарищ мой, лети вперед! Стрелы быстрее твой галоп, В угрюмом мраке тонет степь, К рассвету сможешь ты успеть. Гей! Гей! Навстречу небу поспешай, Мой конь, уж близок его край. Но только гривой не задень, Луну-принцессу не задень.Старая джат глядела на костер, уткнув острый подбородок в ладони. Мужчины слушали, не шелохнувшись.
– О, матушка, матушка! Откуда в тебе столько силы? – воскликнул вдруг Мокки, не осознавая, что называет святейшим именем презреннейшую из женщин.
– Замолчи! – грубо крикнул ему Уроз.
И чтобы вернуть, чтобы продлить действие чар, повторил шепотом:
– Но только гривой не задень Луну-принцессу… Луну-принцессу…
Но тщетно. Чары исчезли. Он повернулся к старой женщине и сказал:
– Если бы Пророк был чопендозом, эта песня ему бы подошла. Спасибо, что спела ее мне.
– Это не для тебя. Это для твоего жеребца, – сказала Радда. – Мой отец был бы от него в восторге.
В последних словах цыганки прозвучала вдруг удивительная нежность, отчего голос ее словно сорвался. Она еще ниже склонилась к костру.
– А какие-нибудь другие песни ты знаешь? – спросил Уроз.
Тут губы и веки цыганки дрогнули. Она знала сотни и сотни песен. Выучила их еще девчонкой, бродя с отцом с ярмарки на ярмарку, от базара к базару, на берегах Дона и Днепра, Урала и великой Волги. Слышала их на пирушках, которые устраивал отец, когда удавалось обмануть хитрых перекупщиков скота. На стоянках табора вокруг костров, подобных тому, что грел ее сейчас. А позже ее муж, искусно игравший на гитаре, научил ее многим песням, древним, как сам их народ. Никто не исполнял их лучше, чем она. Женщинам и девушкам табора позволялось лишь подпевать хором да хлопать в такт, в то время как танцовщицы и танцоры выделывали вокруг них умопомрачительные коленца. Песни о любви. Застольные песни. Песни о вечном движении. Прекрасные мотивы и прекрасные слова теснились в памяти и в горле старой Радды. Но у этих двух мужчин был недостаточно тонок слух, чтобы воспринимать все оттенки печали и радости, все оттенки страстей, наполняющих эти песни. Да и не стоило будить тени прошлого. Они отнимают силы, помогающие пережить их. В огонь… воспоминания. В пепел… Все ее прошлое теперь умещалось в котомке, которая лежала у ее ног.
Старая джат схватила ее и перекинула за спину.
– Нет, больше ничего не знаю, – сказала она.
Затем, не коснувшись руками земли, волнообразно качнула корпусом и встала.
«А встала, как молодая», – подумал Уроз. И почувствовал огромную усталость.
– Спасибо за угощение, – поблагодарила его Радда.
– Еще большее спасибо тебе, – поблагодарил в свою очередь Уроз, – спасибо за такой ценный подарок.
Мокки смотрел, не понимая. Его рука, лежавшая на мягкой голове обезьяны, задрожала. Зверушка мягко освободилась от нее и подошла к хозяйке. Мокки воскликнул:
– Матушка! О, матушка! Ну зачем уходить в ночь? Лучше переночуй у дружеского костра.
Старая джат запахнула полы своей пустины, поправила котомку на спине и сказала:
– Люблю идти навстречу утру… Как в песне.
Взяв цепочку идущей к ошейнику обезьяны, она добавила: —Мир вам!
– Мир тебе! – ответили мужчины.
И проводили ее взглядом, пока она шла, выпрямив спину и высоко подняв голову, по освещенной костром поляне. Когда приблизилась вместе со своим спутником-получеловеком к зыбкой черте, за которой начиналась холодная ночная тьма, Уроз подумал: «Смелая, гордая, свободная, как никто в мире… А ведь женщина… Старая женщина…» И, сам того не замечая, прошептал: «Шагай, шагай долго, Радда… Шаги твои земле приятны».
Джат ушла в потемки. Джехол тихо заржал.
– Матушка! О, матушка! – проговорил Мокки.
Джат обернулась… Ее уже не было видно. О том, что она обернулась, можно было догадаться лишь по отблескам костра в ее глазах и на светлой вышивке ее пустины. Мокки крикнул ей вдогонку:
– Матушка, прошу, очень прошу, скажи, что люди твоего племени не крадут лошадей…
Голос медью ответил из темноты:
– Хорошая лошадь, как и красивая женщина, принадлежит по праву тому, кто лучше других умеет ее любить.
Уроз откинулся к скале, к которой привязан был Джехол, потом сполз на землю. Мучительная боль пронзила все его тело. Он спросил очень дружелюбно:
– Ты слышишь, Мокки?
И лег навзничь на спину. Жар наполнил его уши звуками бубенчиков и колокольчиков. Он так и не понял, кто это пел вдали, болезнь или цыганка:
Но только гривой не задень, Луну-принцессу не задень.* * *
Мокки подбросил дров в костер и, свернувшись клубком, уснул. Уроз некоторое время терпеливо прислушивался к его глубокому, шумному дыханию. Потом выпрямился, отвязал веревку от выступа камня и стал подтягивать ее к себе… Когда Джехол оказался совсем близко, он взял плетку, хлестнул жеребца по морде и отпустил веревку. Конь вздыбился с гневным ржанием, прыжком отскочил в сторону и исчез в темноте, там, где слышался шум воды.
– Что случилось? – закричал Мокки, вскочив на ноги еще раньше, чем крик Уроза достиг его сознания.
– Конь убежал, – ответил Уроз.
– Куда?
– Вот туда.
– Сейчас приведу… не беспокойся… – заверил его Мокки.
Он уже бежал, когда его остановил пронзительный крик.
– Именем Пророка, вернись немедленно, – кричал Уроз.
Саис вернулся, после чего Уроз продолжил:
– Поклянись на Коране, что не уедешь на Джехоле и не присвоишь его, бросив меня здесь умирать.
Мокки откинулся назад, будто его ударили по лицу. Вместо ответа он жалобно, глухо застонал.
– Клянись, – приказал Уроз… – На Коране.
– Да, да, на Коране, – бормотал Мокки, единственным желанием которого было не слышать больше этот ужасный голос…
Джехол убежал недалеко. По первому же зову Мокки он подошел к нему.
– Наверное, веревка отвязалась, когда он натянул ее, почуяв джат, – объяснил Уроз, пока Мокки вновь завязывал узел вокруг большого камня.
– Да, наверное… конечно, – бормотал Мокки.
Он говорил, не придавая значения словам. И непрестанно думал, со страхом и одновременно с сожалением, о том, с какой нежностью там, в темноте, Джехол прижался к нему своей мордой. А голос джат все звучал, все звучал в его ушах: «Хорошая лошадь принадлежит по праву тому, кто лучше других умеет ее любить… Умеет ее любить… Умеет любить…»
Мокки отошел подальше от Уроза и от костра, в темноте повалился на холодную землю и, приглушив голос, произнес: «Матушка! О, матушка! Ну почему я так одинок?»
И тут Уроз заснул.
* * *
Рассветало. От костра остались лишь покрытые пеплом угли. Среди золы и дыма светились только три точки, три темно-красных рубина. Путников разбудил резкий, пронизывающий до костей холод… Уроз, однако, продолжал лежать неподвижно. Первым делом Мокки было раздуть огонь и вскипятить чай. Пил он с такой поспешностью, что обжег себе рот. Тепло от чая и от возрожденного костра разлилось по всему его большому телу. После этого он понес пиалу с чаем лежащему, скованному холодом Урозу. Тот не шевелился. Отблески костра играли на его исхудавшем до костей, неподвижном лице, на восковой, обрамленной щетиной коже.
«Умер», – подумал Мокки. И рука его сама потянулась к тому месту, где была спрятана бумага, написанная слепым писарем.
– Слишком торопишься, – сказал Уроз. – Сперва дай чаю.
Чтобы он мог пить, Мокки пришлось приподнять и поддерживать ему голову.
– Еще покрепче и послаще! – приказал Уроз.
После чего сам, без посторонней помощи, подтянулся и прислонился к скале.
– Почему ты не дал мне замерзнуть? – спросил он.
– Как можно оставить умирать правоверного? – ответил Мокки, сжав зубы.
– Понимаю, – кивнул головой Уроз.
Мокки принес ледяной воды в тазике. Уроз опустил в воду руки, смочил лицо. От холода вздрогнул. И тут же проснулась и распространилась по всему телу боль.
– Выпрями мне ногу, – попросил Уроз.
Грубые пальцы саиса с неожиданной ловкостью развязали зловонные, скользкие тряпки, намотанные вокруг раны. Обнажилось место перелома. Рана с окружавшими ее корками засохшей крови, вспухлостями и трещинами напоминала по цвету и общему виду гнилой баклажан. Сквозь изъязвленную кожу торчали осколки сломанной кости. Мокки покачал головой.
– Будет больно, – предупредил он. – И быку не пожелал бы.
– Давай, – буркнул Уроз.
Саис взял одной рукой ногу выше перелома, другой – ниже и почти неуловимым, но быстрым, сильным и точным движением вправил одну часть кости в другую. Щеки Уроза ввалились еще больше, а на скулах выступили красные пятна.
– Не шевелись, – сказал Мокки.
Жесты его были по-прежнему быстры и точны. А были они совершенны потому, что боль Уроза нисколько его не беспокоила. Он разорвал пополам мешочек из-под съеденного ими накануне риса. Одну половинку ткани он наложил на инфицированную рану, а другую разорвал на бинты и туго перевязал ногу.
Вокруг распространилось ужасное зловоние.
– Это от перевязки лопнули пузырьки гноя, – объяснил Мокки.
Затем он наложил две шины из срезанных и обструганных веток; тем временем бинты успели снова пропитаться скользкой, вонючей жидкостью. После этого саис быстро собрал вещи и оседлал Джехола. Когда все было готово, он подошел к Урозу и предложил:
– Могу посадить тебя в седло.
Уроз, по-прежнему сидевший, прижавшись спиной к скале, спросил:
– Ты что, стал таким же нечестивцем, как обезьяна той джат? Смотри!
Мокки повернулся в ту сторону, куда показывал Уроз, и еще раньше, чем смысл собственных действий дошел до его сознания, рухнул на колени. Все костры, сады и цветники утренней зари осветили уже гребни и верхние склоны гор, и над ними всходило солнце, призывая людей совершать первую молитву.
Мокки вспомнил, как прошлым утром в этот же час кто-то внутри него был преисполнен прекрасной молитвы. Сегодня всполохи, крылатые отблески и кружева света были далеки и от его глаз, и от его сердца, так же холодны, как земля, к которой он приник. И непонятны ему были слова молитвы, которые он бормотал все быстрее и быстрее.
Проговорив последнюю молитву, Мокки взглянул на Уроза и увидел его преображенного. Оторвав спину от скалы, склонившись вперед, тот сидел, сложив руки на груди, на щеках его играл румянец, а глаза искрились светом.
«Он еще молится, – подумал саис. – Да еще как молится!»
И в самом деле, никогда еще Уроз не обращался к Богу с такой самозабвенной силой. Ни перед одним бузкаши. Даже перед королевским. Он молил о такой милости, перед которой бледнели все его прошлые заклинания. День уже восстал полностью, а Уроз все еще общался с Тем, кто знает все и может все.
II ГОЛОС НОЧИ
Именно в тот день путники познали все коварство диких гор по отношению к чужим для них людям.
Предательские осыпи и камнепады… Тропы и тропинки, где можно пройти только по одному. Подъемы и спуски головокружительной крутизны. Пропасти, внезапно открывающиеся за поворотом ущелья. Ни одной прямой линии, ни одного метра ровной, надежной поверхности. Постоянно что-то, возникающее прямо перед глазами. Или отвесная скала, или темная бездна. Малейшая ошибка – оступилась вдруг нога, дрогнуло колено, закружилась голова, качнулся торс, – и смерть тут как тут ждет тебя, зовет своей зияющей пастью.
Страх вцепился в Мокки с первых же минут и не отпускал весь день. Все лежало на нем. Он должен был распознать, найти, придумать проход в этом хаосе каменных глыб, вершин, коридоров, расщелин, буквально на ощупь проверяя степень крутизны адских подъемов и спусков, упираясь вдруг в завал, возвращаясь, отыскивая другой проход, спотыкаясь и с трудом удерживая равновесие над краем пропасти.
Одновременно с этими движениями и жуткими акробатическими номерами, к которым непривычны были ни мышцы, ни нервы, ни глаза, ни инстинкт степного пастуха, надо было наставить, провести удержать и поддержать коня, тоже привыкшего только к степным краям.
Сначала всякий раз, когда ему казалось, что препятствие непреодолимо, что ловушка захлопнулась, Мокки в поисках помощи, в поисках спасительного совета вглядывался в лицо Уроза. Ни разу не дождался он ответа. Уроз собирал воедино все свои силы, чтобы удержаться в седле, чтобы бороться с усталостью, жаром, болью, толчками от безжалостных подъемов и спусков. Ничего другого для него не существовало. Лицо его было непроницаемо. Взгляд – отсутствующий.
И Мокки перестал обращаться к этой маске. А чувство одиночества в столь опасном месте удвоило его страх. Страх же породил ненависть. Мысленно он говорил Урозу: «Это ты придумал такой безумный поход. А теперь вот сидишь, безразличный к опасностям, которым подверг и меня, и этого великолепного коня. Будь же ты проклят!»
Шли часы. Солнце меняло положение. А вокруг царил все тот же хаос скал, гребней, пиков и извилистых ущелий, подобных огромным уродливым, исковерканным тискам.
И был такой черный, длинный тоннель, где слышался шепот духов, населяющих недра гор.
И встретился им такой крутой подъем, что пришлось снять с Джехола весь груз и оставить на милость гор скарб, одежду, одеяла и пищу.
А карниз, которого они достигли в сумерках и откуда они, наконец, увидели долину, был так узок, что Мокки, спускаясь по горным спиралям, часто вынужден был закрывать глаза, чтобы не поддаться зову пропасти, по зубчатому краю которой он ступал.
* * *
Пока они находились на грани жизни и смерти, ни Уроз, ни Мокки, ни Джехол не испытывали желания пить. Но когда они достигли площадки, жажда буквально овладела ими. Из них троих лошадь была наделена более тонким чутьем, более мощным инстинктом. Уроз и Мокки знали это.
Джехол поднял свою длинную голову и медленно-медленно описал ею полукруг. Ноздри и губы его, покрытые сухой желтой корочкой, шевелились, принюхиваясь к легкому вечернему ветерку. Уроз и Мокки смиренно ждали его решения. Наконец, конь тихо заржал, двинулся вперед, ускорил шаг, а потом вообще перешел на рысь. Чтобы поспеть за ним, Мокки пришлось бежать. Каждый толчок болью отдавался в измученном теле Уроза. На каждый шаг горло Мокки, пересохшее настолько, что слюна там уже не выделялась, реагировало хриплым звуком. Ни тот, ни другой этого не замечали. Им казалось, что к шороху ветра в кустах примешивается какой-то другой чудесный звук. Шелестели не только листья и ветки. Шелестела также, скорее даже пела волнующим, ни с чем не сравнимым голосом, текущая вода.
Наконец, эта песня стала прекраснейшим в мире гимном, громом, грохотом. И вот в расщелине скалы показался водопад. Вода падала с большой высоты; отверстие, откуда она выходила, располагалось на полпути между основанием и вершиной скалы. Освещавшие ее лучи заходящего солнца превращали вытекавшие из чрева горы струи в кипящее золото с алым оттенком. Потом светлая волна уходила в тень и разбивалась там о камни, падая в огромный темный водоем, созданный ею на протяжении веков, оттуда перетекала в другую впадину, менее глубокую, затем в третью и так далее, пока поток не выбегал в долину, где тек быстро, но уже спокойно. Последний естественный резервуар находился почти на уровне земли.
Лошадь первой опустила голову, за ней – Мокки, которому ледяная, обжигающая слизистую оболочку вода тут же наполнила рот. Он обо всем забыл и стал счастлив, как растение, изнывающее от бесконечной засухи и вдруг напоенное обильным дождем. И даже удара плетки по шее почти не почувствовал. Второй удар разорвал ему ухо. Мокки выпрямился, все еще не понимая, в чем дело.
Джехол все еще продолжал пить, а над ним на одном стремени стоял Уроз. Стоял и ждал. Его пепельного цвета лицо, провалившиеся, пылающие глаза, бледные запекшиеся губы испугали саиса больше, чем плеть, свистящая над головой. На ощупь, так как глаза ему застилала красная пелена, он отцепил от пояса бурдюк из козлиной шкуры, опустил его в воду и положил, полный сверкающей, льющейся через край влаги, на седло хозяину. Уроз пил очень медленно, чуть ли не по капле. Казалось, он дает таким образом урок Мокки. На самом же деле ему просто было трудно поднять бурдюк и наклонить его ко рту.
В воздухе резко похолодало. Порывы ветра были короткими, но от кустов, травы и воды поднялся печальный, загадочный шум. Шум вечернего ветра, предвещающего холодную ночь. Широко взмахивая крыльями, орлы полетели к вершине горы, склоны которой солнце уже не освещало. Там, где только что была вода, теперь зияла черная дыра. Мокки следил за полетом птиц к гнездам и думал о том, что впереди у него с Урозом долгие-долгие часы, на протяжении которых им предстоит ждать восхода солнца, ждать в этой высокогорной долине, в темноте и холоде, без пищи и одеял. Ведь добро их полетело в пропасть, когда потребовалось облегчить лошадь. Теперь у них не осталось абсолютно ничего, чтобы укрыться от ночного холода.
– Если на этот раз я стану ночью замерзать, что будешь делать? – спросил неожиданно Уроз.
– Ничего, – ответил Мокки.
– Потому что смертельно меня ненавидишь или чтобы заполучить коня?
– И то, и другое, – ответил Мокки.
Несмотря на всю свою усталость, Уроз на какое-то мгновение обрадовался. Он заставил Мокки сказать то, что хотел услышать. И сказал:
– Хорошо. Поехали.
Надо было ехать, потому что боль усилилась. Шины на сломанной ноге давным-давно съехали. Острые края кости разрывали плоть, усиливали жар. От этого источника страданий исходили горячие потоки боли, превращавшиеся в сознании Уроза в ветви с нестерпимо острыми отравленными шипами. Их обжигающий яд проникал во все мышцы, во все внутренности, во все суставы. Щиколотка и коленная чашечка болели так, что невозможно было ими прикоснуться к боку коня. А что такое всадник без коленей? Все дрожало перед глазами, все кружилось в голове: темная масса кустов, уши Джехола, силуэт, в котором он уже не узнавал Мокки, и когда от особенно сильного толчка голова его отбрасывалась назад, небо опрокидывалось, осыпая его своими первыми звездами. Будто огненными камнями. Одновременно обручи лихорадки оглушительно стучали где-то рядом с висками.
Зато с необычайной до этого остротой воспринимал теперь Уроз запахи. Он различал доносимые издалека ароматы трав, древесной коры и даже воды. В ветре с гор он различал даже запах различных камней. Вдруг он поднял голову и стал принюхиваться к темноте. Оттуда навстречу ему потянуло чем-то отличным от запахов растений, речки и камней. Он подумал вслух:
– Откуда этот дым?
Мокки остановил коня. Что?.. Дым… огонь… люди…
– Что ты говоришь? Что ты сказал? – закричал он.
Уроз его не слышал. От резкой остановки он покачнулся.
«Бредит», – подумал Мокки. И пошел дальше. Уроз держался в седле, сам того не замечая. Он потерял сознание. А когда наполовину пришел в себя, запах дыма стал сильнее. Он наполнил все его тело, укрепляя дух. Уроз открыл глаза. Голова больше не кружилась. И боль тоже слегка утихла. Он спросил:
– Где юрта?
– О какой юрте ты говоришь? – спросил Мокки.
– О той, дурак, от которой идет дым, – ответил Уроз.
– Дым… ну, да… дым, – шептал Мокки, – дым от твоих бедных мозгов… дым…
Но тут же перестал шептать, перестал даже размышлять. Теперь и он почувствовал запах, от которого забыл все прочие запахи: воды, камней и деревьев. Это был плотный, почти осязаемый запах дыма, весь пропитанный, будто благовонием, ароматом растопленного бараньего жира. Мокки потянул Джехола и сам почти побежал.
– Скорей, – говорил Уроз. – К юрте, скорей!
От холода, пронизывающего до костей, от одиночества и изнуряющей болезни, запахи очага и кухни, сменяющие друг друга, подгоняющие друг друга, тут же превращались в манящие образы. Жаркий огонь… горячий медный самовар… стены… крыша, уходящая ввысь… ковры, подушки, одеяла ярких цветов, лежащие на земле, на чарпаях… И чапаны, плетки… Родные, дружеские, спокойные лица…
Такой была степная юрта, тяжелая внизу, легкая и заостренная вверху, сделанная из прутьев и войлока, в которой родился и провел свое детство Уроз. И теперь, когда в голове смешались все времена и все места, именно к такой юрте и вели его спирали горячечного воображения. А толчки седла казались качанием колыбели.
– Ну вот, – крикнул Мокки. – Добрались!
Уроз открыл глаза, потом закрыл, снова открыл. Тщетно. Где был тот магический круг? То былое пристанище? Откуда взялся этот бедный, задымленный очаг, где горело чуть-чуть хвороста? Эти криво висящие грязные и дырявые куски коричневой ткани? Эти изнуренные лица? Эти драные одежды?
Длинный, худой мужчина и необъятных размеров женщина вышли и низко поклонились путникам.
– Добро пожаловать к нам, и да приютит вас наша бедная лачуга наилучшим образом, – сказали они одновременно.
Раболепие их поз и даже их голосов было так отвратительно, что к Урозу вернулось чувство реальности. В горных долинах Гиндукуша степные юрты не привились. И попал он, со своей болью и усталостью, не в семью благородных всадников, а к людям еще более презренным, чем джат, – к людям малого кочевого племени, живущим грабежом и попрошайничеством. На сезонные работы их нанимали за смехотворные цены. Причиной всеобщего презрения к ним была вовсе не их бедность. Гордая нищета вызывает скорее уважение. У этих же страх перед бедностью пересилил и честь, и желание соблюдать приличия. Не было такого недостойного поступка, который бы они не согласились совершить за самую что ни на есть малую мзду.
Грузная женщина и мужчина с тоненькими, как у паука, конечностями склонились перед Джехолом. По мере того, как из тени, преодолеваемой светом от костра, отчетливее проступали формы великолепного коня, они опускали головы все ниже, гнули спины все сильнее.
– Позволь нам, о благородный, о могучий, о роскошный, позволь Смагулю, главе нашего семейства, и мне, Гюльджан, его супруге, позволь нам поухаживать за тобой сегодня вечером, – произнесла женщина голосом, полным алчности и подобострастия. А муж ее прошептал так тихо, что его почти не было слышно:
– Гюльджан правильно сказала.
Гюльджан слева, Смагуль справа взяли Джехола под уздцы и провели его несколько шагов до брезентового пристанища. Оттуда высыпали мужчины, женщины и дети, чтобы воздать почет, соответствующий богатству путника. Одни кланялись до земли, другие сгибались в коленях, третьи ловили руки и стремена, чтобы их облобызать.
– Назад… все в палатку… идите и сидите там, – крикнула Гюльджан.
Все члены презренного племени послушно вернулись в палатку и уселись на корточки посреди ее. Уроз успел, однако, разглядеть их. Его взгляду, словно взгляду ясновидящего, с детства было дано моментально проникать сквозь толщу тени и плоти до самой сути вещей; вот и на этот раз сквозь маски лиц и толщу кожи он без труда разглядел скрытые движущие мотивы представших его взору людей. И дело было не в грязных лохмотьях этих мужчин и женщин, не в возрасте и не в состоянии их здоровья и даже не в выражении их глаз… Урозу показалось, он буквально видел, как в глубине этих существ шевелится страх, продажность, покорность, хитрость, лживость и бесчестие. И даже дети под своими нежными и жалобными улыбками тоже уже несли в себе эти свойства.
«Такими они и родятся: трусливыми и испорченными, – подумал Уроз. – Свобода любит жизнь в палатке, но этой палатке не хватает именно свободы, а нищета их происходит от низости».
Съежившиеся в тряпье на голой земле, продуваемой ночным ветром из-за дыр в палатке, четыре седеющих мужчины и пять женщин помоложе смотрели на Уроза глазами, в которых читалось странное горячее желание повиноваться. Уроз подумал:
«Эти рабы готовы отдать себя, даже не зная, чего они могут ожидать от меня. Их раболепство худшее из всех: ему ничего не надо, оно самодостаточно». Он вспомнил свое видение… юрта… степные наездники… Усталость опять обрушилась на него, да так, что он чуть было снова не потерял сознание.
Тут Гюльджан сказала:
– Обопрись о мое плечо, о господин, чтобы слезть с коня и войти к нам.
В голосе ее послышалась ласка, отчего Уроз даже вздрогнул. Словно к нему прикоснулось что-то постыдное. Он посмотрел на одутловатое, бесстыжее лицо женщины, грубо намазанное дешевыми румянами, и гордость придала ему силы:
– Я хочу провести ночь на улице, мой саис обо всем позаботится, – я хорошо заплачу, – сказал он громким и твердым голосом.
Он объехал на Джехоле вокруг палатки и остановился за ней, возле примитивного хлева, где дрожали несколько осликов.
Слабый, дымящийся огонь осветил камни и колючие кусты вокруг. Это Мокки нес факел из скрученной соломы, смазанной бараньим жиром.
– Земля еще слишком холодна, чтобы я спустил тебя сейчас на нее, – сказал саис. – Скоро мы получим все, что надо. Гюльджан позаботится, она здесь всем распоряжается.
Две женщины принесли чапаны, пустины, одеяла, ковры. Сплошное рванье. За ними следовала Гюльджан. Она крикнула:
– Я сняла со своих людей все, что на них было, и они рады оказать тебе помощь, господин.
Из этих рваных одеяний и ковров получился довольно толстый утепляющий слой. Мокки усадил Уроза в середину. Женщины принесли охапки хвороста и угли из костра. Огонь вспыхнул так близко от Уроза, что языки пламени почти достигали его лица. Рядом с ним поставили чайник с горячим чаем и рис, сваренный в жире.
– Мир тебе под звездами, – улыбнулась ему Гюльджан.
На лице ее, несмотря на румяна, были написаны простодушие и щедрость. Однако она тут же добавила:
– По твоему указанию, о господин, и только по твоему указанию, я вручила саису счет.
Уроз извлек из пояса горсть бумажных денег. Гюльджан схватила их жирными пальцами, скомкала с чувственным, взволнованным смехом, после чего ушла и увела женщин.
Уроз никак не мог утолить жажду горячим черным чаем, который обжигал ему рот. Мокки молча съел весь рис, съел до последнего зернышка.
Джехол, привязанный рядом с Урозом, заржал. Для него у кочевников не нашлось ничего. Мокки подошел к нему и погладил его по гриве. Он вспомнил, что во время кантара, испытания, которому подвергают коней, участвующих в бузкаши, те целыми днями ничего не едят. Но то в пору летнего зноя… Он задумался, погрузив пальцы в гриву коня, о степи, где под солнцем широко разливается во все стороны горький запах полыни.
Куча тряпья тяжким грузом давила на переломанные кости Уроза. Боль усиливалась с каждой минутой. Он хотел было уж приказать саису разбинтовать ногу, как вдруг увидел склоненную над собой голову. На ней были длинные волосы, заплетенные в косы, и Урозу мгновенно стало неприятно оттого, что женщина – да еще из такого племени – видит его обессилевшим. Он грубо отодвинул голову и спросил:
– Ты кто? Чего тебе надо?
– Меня зовут Зирех, – сообщила женщина. – Я помогала принести сюда хворост, одежду, еду.
Голос ее был тих, но очень отчетлив, как у человека, привыкшего говорить по секрету.
– Мне ничего не надо, – отмахнулся от нее Уроз. Тут подошел Мокки. Уроз добавил:
– У меня есть саис.
– Он не может помочь твоей ноге, а она в очень плохом состоянии, – ответила Зирех. – Я научилась от матери, а та от своей матери собирать травы, полезные для лечения ран, мои руки умеют делать мази, настои и порошки.
– Гюльджан, значит, не успокоилась, раз прислала тебя сюда? – сказал Уроз с отвращением.
– Клянусь, Гюльджан и не знает, что я вышла из палатки, – заверила его Зирех. – Я дождалась, когда все уснут, и пришла.
Хотя голос ее был тих, но было в нем нечто, свидетельствующее о необычной настойчивости.
– Понимаю, – внимательно посмотрел на нее Уроз. – Ты хочешь, чтобы тебе заплатили отдельно и по секрету.
– Сколько бы денег ты ни предложил, я не возьму их, – прошептала Зирех, и в голосе ее звучала все та же решимость. – Я пришла…
Она вдруг опустилась на колени. При этом сделала головой такое движение, чтобы косы ее коснулись руки саиса, находившегося позади нее.
– …только из-за твоей раны, господин, – закончила Зирех.
И прежде чем Уроз успел ответить, она приподняла тряпье и, отбросив его в сторону, обнажила сломанную ногу. Уроз испытывал теперь такую боль, какой не испытывал никогда прежде. До сих пор он не позволял себе концентрировать свое внимание на постигшем его несчастье. А эта женщина внезапно заставила его подумать о нем.
Зирех оглянулась на Мокки, и волосы ее опять коснулись его руки. На этот раз прикосновение было более сильным и более продолжительным.
– Принеси чайник, большой саис, – прошептала Зирех.
В колеблющемся свете костра ее глаза странно блестели, и у Мокки возникло что-то похожее на головокружение, когда он увидел с высоты своего роста эти бездонные, влажные глаза. Свобода движений и способность выполнить волю Зирех вернулись к нему лишь когда она повернулась в другую сторону.
В чайнике не осталось воды. Зирех перевернула его, вынула оттуда мокрые листочки чая и сделала из них тампоны.
– Теперь, большой саис, зажги факел и подойти с ним, – велела она.
Когда дымящийся и пахнущий жиром факел осветил рану, Зирех наклонилась к ней вплотную, принюхиваясь к зловонию.
– Пора, – пробормотала она, – о да, пора!
И принялась обтирать кожу тампонами. Пальцы ее были удивительно легкими и умелыми. Уроз не контролировал спазматические подергивания мышц. Зирех остановилась, прошептала:
– Я сделала тебе слишком больно, господин?
Уроз слегка приподнялся на локтях и внимательно вгляделся в ее лицо. Она не могла понять выражение, придававшее такую жесткость взгляду его потемневших от жара глаз. Она знала чувство страха, зависти, покорности, хитрости и даже гнева. А вот такое чувство как гордыня или высокомерие в окружавшем ее мире отсутствовало.
– Кто позволил тебе допрашивать меня? – отреагировал Уроз.
Его слова дышали таким отвращением, а серые, будто пепел, губы были сжаты с таким презрением, что Зирех получила представление о еще одном чувстве, о существовании которого до сих пор тоже не подозревала. Чувство, переносить которое бывает еще труднее, чем любые оскорбления или побои. К оскорблениям и побоям она привыкла. Она была рождена для смирения и покорности. А вот тут с помощью Уроза она познала еще и чувство униженности. И почувствовала в эту же минуту такую ненависть к нему, какую в ней не вызывал еще никто. Ее пальцы возобновили свою работу. С прежней ловкостью и нежностью.
Боль стала стихать. Гной постепенно выходил из раны. Выдавив последние его капли, Зирех достала из-за пазухи четыре матерчатых мешочка и подняла их к свету факела, который держал Мокки. На каждом из них нитками разного цвета был вышит какой-то знак. Зирех положила три из них обратно к себе на грудь и открыла тот, который был помечен голубым кружком. В нем находилась мазь темного цвета. В нос Урозу ударил сильный запах заплесневелой коры. Он, тем не менее, не соизволил даже повернуть голову и продолжал смотреть на небо, на звезды. Эта женщина со своими снадобьями была для него не более чем инструментом, к тому же столь презренным, что ее существование не стоило даже внимания.
– Свет мне больше не нужен, большой саис, – прошептала Зирех.
Факел угас. Уроз почувствовал приятную апатию. Сначала он подумал, что причиной тому было возвращение темноты. Но покой проникал все глубже, глубже, овладевая всем телом. И у Уроза возникло странное ощущение замешательства, как если бы какая-то часть его, необходимая для равновесия, стала вдруг ускользать от него, исчезать, растворяться в воздухе. Он перестал страдать. Это было невероятно. Инстинктивно он стал искать переломанную ногу. Она была на месте, намазанная каким-то скользким веществом.
«Травы Зирех, – подумал Уроз. – Значит, она не обманывала».
Он посмотрел на женщину, обладающую такими знаниями. До этого он совсем не обращал внимания на ее черты. А теперь разглядел при свете костра лицо, еще не потерявшее приятность от возраста, солнца, пыли и усталости, лицо с выступающими вперед острыми скулами, большими карими глазами с длинными ресницами и темным цветом кожи.
«Бесстыжая смесь рас, – подумал Уроз. – В ней смешались узбекская, пуштунская, индийская кровь, всего понемногу. А что удивительного? В этих семьях мужья и отцы за несколько афгани продают своих жен и дочерей первому прохожему».
Так размышлял Уроз, радуясь такой вопиющей безнравственности. Ему бы не хотелось чувствовать себя чем-то обязанным этой женщине. Столь низкое ее происхождение освобождало его от всякой благодарности. Выражать благородное чувство такой, как Зирех, значило бы оскорблять само это чувство.
«Я отплачу ей щедрой пригоршней денег. Собственно, только этого она и хочет», – рассудил Уроз.
Это была последняя отмеренная им, людям и вещам, мысль. Ничто больше его не касалось. Слишком велико было поселившееся в нем ощущение счастья. Какой-то чудесный полог накрыл его: тело перестало болеть.
Тут Зирех приподняла руки и еще какое-то время подержала их над раной, готовая, если потребуется, продолжить лечение. Ни один мускул, ни один нерв Уроза не шевелились. Женщина с глубоким вздохом опустила руки. Тело ее размякло. Мокки стоял все на том же месте, сзади нее. Он почувствовал, как голова, как плечи Зирех, откинувшись назад, оперлись на его бедра, на его колени. Его вдруг охватила странная, сладкая истома. Он услышал шепот, как будто откуда-то издалека голос говорил ему:
– Ему больше ничего не нужно… он спит…
В то же самое мгновение Зирех, будто какой-то быстрый и гибкий зверек, была на ногах, лицом к Мокки. Он увидел, что она очень маленькая. Лоб ее доходил ему лишь до груди. От этого чудесная слабость в нем только возросла.
– Пойдем, – позвала Зирех… – Мне холодно.
Он перешел за ней на другую сторону костра и бросил в него охапку хвороста.
* * *
Потрескивание огня, шум ночного ветра, дрожание кустарника, журчание воды – все это Уроз слышал, сам того не замечая. Эти приглушенные звуки были для него лишь отголосками глубинных шорохов, зарождавшихся в его собственном теле: шороха текущей по венам крови, шелестящего звука равномерного дыхания, вибраций стихающей лихорадки. Это были такие же отзвуки его покоя, его блаженства.
Когда же появился звук, нарушающий гармонию волшебных голосов, поющих внутри него, Уроз не осознал этого. Только вдруг появилось ощущение какой-то странной печали. Ему по-прежнему не было больно, но он почувствовал, что нарушилась гармония темноты и земли. Ему по-прежнему не было больно, но он начал обретать самого себя и осознал, что лежит на куче тряпья. Между тем шум усиливался, вносил в сознание дискомфорт, перекрывал другие шумы, приходящие с неба, гор, от листьев, воды и огня. И из-за этого он, наконец, отчетливо услышал и распознал этот шум. Это было прерывистое, хриплое дыхание, равномерное и как бы извлекаемое из нутра некой счастливой мукой, а к нему еще примешивалась какая-то протяжная жалоба, нечто вроде всхлипывания. И хотя оба голоса были явно человеческими, походили они прежде всего на сладострастный крик животных.
Уроз тотчас понял, что это за звуки.
«Мокки и Зирех», – мысленно сказал он себе.
То, что они совокуплялись, его не волновало. Здоровый парень и продажное брюхо… Ничего более естественного нельзя и придумать… Он и сам не пропускал таких девок, готовых отдаться кому угодно. Уроз стал их вспоминать. Их было не так уж много – случай редко представлялся – и они плохо ему запомнились. Такие похожие одна на другую встречи: воля случая… грязная ночлежка… темнота… резкое, короткое удовольствие… Презрение до того… презрение во время… презрение после… В памяти всплыло почти забытое лицо… его жена… Умерла от холеры, беременная, в первый же год после женитьбы.
«Я еще тогда испугался, что это станет дурным предзнаменованием, – вспомнил Уроз. – Оказалось, что ошибся… Тогда я выиграл свой первый бузкаши в Мазари».
По другую сторону костра послышался громкий, долгий вздох. Словно кто-то утолил долгую и сильную жажду. Пара за неопалимой купиной утихла. И Уроз тут же забыл о существовании Зирех и Мокки. То, что они делали, и кем они были, не имело ни малейшего значения. Темноту вновь наполняли звуки долины. Они вновь баюкали Уроза. А он, отрешившись от мыслей, вернул себе покой, свободу ветра, камней и растений.
Но в тот самый момент, когда он готов был заснуть, ему помешал это сделать донесшийся до него голос. Он не нарушал ночной гармонии звуков. Простой, нежный и напевный, он вполне сочетался с шепотами и шорохами земли. Был он чист, как голос земли, но именно его чистота и способствовала пробуждению сознания Уроза. Какой женщине мог он принадлежать, этот голос, невинный, как у ребенка, очнувшегося от счастливого сна, веселый, как у птиц, приветствующих зарю? К кому он мог быть обращен? Уроз слушал, слушал. Сначала он не различал слова. Но потом ветер переменился, и он стал лучше слышать.
– Мой большой саис, мой большой саис, – пел голос, – я пришла лишь из-за тебя… Как только я увидела тебя у нашей палатки, я сразу сказала себе, что приду к тебе.
Наступила короткая пауза, потом голос продолжал тише, но так же четко:
– Большой саис, большой саис, большой саис…
Тут ветер опять переменился. Но Уроз услышал уже достаточно. Ему нужно было поверить в невероятное. Голос ребенка, голос журчащего ручья принадлежал Зирех.
«Надо же, девка, – подумал он, – к тому же самая отвратительная! Проститутка, причем самая что ни на есть продажная!..»
Он не смог идти дальше в своих мыслях, словно его остановила на пути какая-то преграда. Продажная, это уж точно, причем с самого рождения… и зародилась в пороке, но только не этой ночью. Такие интонации не покупаются ни за какие деньги.
«Что же это такое?» – возник в голове у Уроза вопрос.
За огненным занавесом костра вновь послышался голос Зирех, нежный и чистый. Слова по-прежнему уносил ветер. Но сейчас это не имело значения. Внутри него слова ритмично следовали друг за другом, музыкой накладываясь на голос Зирех:
Теперь, когда дано мне было Увидеть свет, идущий от тебя, Любая другая дорога Дорогой ночи станет для меня. Тебя любить я буду бесконечно, Насколько хватит мне дыханья, Любить, пьянея от любви…Уроз никогда раньше не чувствовал красоту этого выученного в школе стихотворения Саади. Однако когда он проезжал на коне мимо юрты, где мелькал силуэт девушки, или когда думал о невесте, приглашенный на богатую свадьбу, слова эти вспоминались ему. Но в такие моменты вместо того, чтобы умилиться или предаться мечтам под влиянием этих сладостных строк, живущих в веках, Уроз испытывал лишь одно дикое желание, желание овладеть, испортить, взять силой этих невинных девственниц с нетронутой грудью и робкими ресницами. И вот сейчас тоже, хотя он и лежал, прибитый к земле, искалеченный, чуть ли не парализованный, у него возникло это же желание. Все оставшиеся силы в нем переместились в середину его тела и вздыбили его, словно кол. Ему вдруг дико захотелось эту женщину, которую отделяли от него огонь и дым костра. Это была уже не Зирех. Это была песнь чистоты и мечтаний, лилия, воспетая в стихотворении. У Уроза возникла потребность мять ее, терзать, рвать на части. Он сейчас позовет ее, он ее…
Но внезапно это желание уступило место апатии. Голос ребенка, щебетание птички, журчание ручейка опять сменились вздохами, прерывистым дыханием, животными стонами.
«Сука… настоящая сука…» – говорил про себя Уроз.
Усталость его была так велика, что впоследствии, очнувшись, он так и не смог понять, уснул ли он в тот момент или впал в беспамятство.
* * *
Луч солнца коснулся его век. Из-за вершины, напоминающей трезубец, поднимался солнечный диск. Первый взгляд Уроза был в сторону Джехола. Первым жестом была проверка: на месте ли завещание. Конь щипал траву, размягченную росой. Лист бумаги лежал за пазухой.
«Больше никогда не буду, до самого конца пути больше не буду засыпать таким вот образом», – подумал Уроз.
Он провел рукой по сломанной ноге. Она по-прежнему была в благополучном состоянии.
Осмотревшись, увидел Мокки; тот спал, как убитый, возле погасшего костра. Рядом с ним никого не было.
Уроз подобрал камушек и, прицелившись, швырнул в слугу. Острый кремень, задев надбровную дугу, поцарапал ее. Мокки лишь слегка пошевелился. Второй камень попал прямо в лоб. Мокки тряхнул головой, увидел, что рассвело, осмотрелся вокруг, никого не увидел, огромными ладонями прикрыл лицо, как бы защищая его от нападения, и медленно встал.
Оказавшись на ногах, он опустил руки. От удивления Уроз чуть было не ахнул. Лицо Мокки показалось ему неузнаваемым. Наивная уверенность в себе, нежная горячность, восторг в глазах, неосознанная полуулыбка на припухших губах создавали такое впечатление, словно он весь находится в лучах славы. Уроз подумал:
«Он даже, можно сказать, красив».
И еще:
«Пропустил первый намаз, а выглядит так, будто сотворил самую святую молитву и был за это щедро одарен милостью».
Мокки двинулся было к палатке.
– Куда пошел? – встрепенулся Уроз.
– За чаем, – наклонил голову Мокки.
– Не надо, – мотнул головой Уроз. – Уезжаем прямо сейчас. И так уже опаздываем.
– Но… но… Тебе же надо подкрепиться, – попытался было воспротивиться саис.
– Мне надо только закрепить в неподвижном положении кости ноги, – сказал Уроз.
Мокки пошел, срезал две здоровые ветки, остругал их и закрепил, как шинами, сломанную ногу. Потом заметил:
– Я вижу, тебе уже не больно.
Это было правдой. Но от сознания, что его вылечили руки Зирех, Урозу было противно признаться в этом и себе, и Мокки. А тот закричал:
– Ты выздоровел, тебя вылечила Зирех.
Саис закрыл глаза и с нежным, восторженным смехом повторял:
– Зирех… Зирех…
Странный взгляд Уроза его не смущал. Уроз же ведь ничего не мог знать. Он крепко спал. И Зирех нарочно так сделала… Зирех…
Мокки не переставал повторять это имя, пока Джехол, оседланный и взнузданный, не встряхнул гривой от нетерпения скорее двинуться в путь и согреться после ночного горного холода. И тут Мокки показалось, что жизнь остановилась. До него дошло, что он покидает стоянку кочевников. Его взгляд растерянно искал хоть что-нибудь, что могло бы задержать отъезд. Напрасно. У них ничего не осталось – ни мешка, ни котомки. Мокки вспомнил, что все пришлось оставить в горах.
– Чего ты ждешь? – крикнул Уроз.
– Слушай, слушай, – бормотал Мокки. – Нельзя… нельзя же уйти… вот так… прямо сейчас.
– Почему же это? – спросил Уроз.
– Да потому что… потому что… – лепетал Мокки.
Внутренне он молил Аллаха, умолял его: «О Аллах! О Аллах! Сжалься над сердцем моим и телом моим, подскажи какую-нибудь причину, чтобы нам остаться здесь еще хоть чуть-чуть».
И нашел в конце концов причину, нашел ее в той, кто был причиной его замешательства.
– Ну как же, – уже более уверенным тоном сказал Мокки, – ведь исцеление тебя нужно оплатить, разве не так?
– Я заплачу, не бойся, – заверил его Уроз. – За все заплачу.
Не спуская глаз с Мокки, он добавил:
– Заплачу, когда мы будем проезжать мимо палатки. Ну, а теперь подай мне коня.
– Вот он, вот он, – заторопился саис.
Сейчас для него главное было вновь увидеть Зирех, обменяться с ней хотя бы несколькими словами, может, прикоснуться к ней… Дальше время не простиралось.
Гюльджан низко поклонилась путникам. Она стояла в окружении мужчин. Женщины стояли в сторонке. Но Зирех среди них не было.
III МОСТ
Заросшая травой тропинка проходила у самой речки. Была она такой гладкой, а шум воды таким ровным и певучим, что и слепой мог бы по ней пройти совершенно спокойно. А Мокки и в самом деле шагал, как слепой, хотя и с открытыми глазами. Он не видел ни золотистого утра, ни свежей долины. Он все еще пребывал в своих ночных переживаниях. Запах Зирех, вкус ее кожи, жар ее дыхания, отблески костра в ее зрачках, звук ее голоса заменили ему и растения с их ароматом, и ветер с его порывами, и солнце с его лучами, и реку с ее песнью.
Он вдруг перестал верить в то, что произошло.
Возможно ли такое, чтобы он, бедняк из бедняков, никогда не прикасавшийся к женщине, он, кому судьба батрака запрещала даже мечтать об этом, возможно ли, чтобы он, костлявый и неловкий парень, выросший из своего чапана, обладал ею, этим чудом, слышал из ее уст самые прекрасные на свете слова? Нет. Должно быть, ему приснились и эти видения, и эти слова. Просто Аллах послал ему один час счастливого безумия. А то разве не пришла бы Зирех проститься с ним?
Мокки поднес кулаки ко лбу и сделал резкий поворот вокруг. Он хотел убедиться хотя бы в одном: в том, что палатка кочевников действительно существовала. Ее не было, она скрылась за поворотом реки, стертая складками местности. Все, что осталось от нее, – так это только тонкая струйка серого дыма в дрожащем воздухе.
Длинная фигура Мокки загородила тропу. Джехол остановился, упершись в его грудь. Взгляд Уроза упал сверху на лицо, отмеченное печатью одержимости и отчаяния. Он спросил:
– Это была первая в твоей жизни женщина?
Мокки вздрогнул, но не от смущения или удивления, а от радости. Уроз знал: значит, сон был явью.
– Ну да, первая, первая, – закричал Мокки.
– И теперь все твои мысли только об этой продажной шлюхе, – утвердительно заметил Уроз.
– За то, что она тебя вылечила, Зирех не попросила ничего, а у меня, ты же знаешь, у меня нет даже и пол-афгани, – возразил саис.
Когда он произносил это, его плоское, некрасивое лицо вдруг сделалось каким-то необычайно благородным и даже красивым.
Уроз грубо ткнул рукояткой плети своему саису в ребра и проворчал:
– Давай, пошел! Хватит болтать об этой суке.
– Ты ничего не понимаешь в мире, о Уроз, – промолвил с нежностью Мокки.
Сердце его было преисполнено силы, внушаемой уверенностью. Глазами, ноздрями, губами и всей кожей впитывал он в себя доброту солнца, красоту утра и величие гор. Травы и листья с последними каплями росы были для него полем, усыпанным бесчисленными звездами.
Мокки наклонился, собрал воедино все мускулы, сжал плечи и пошел широкими, быстрыми шагами.
Из-за такой скорости саиса и Джехол тоже пошел быстрее. Уроз его не удерживал. Они догнали Мокки. Тот шел с высоко поднятой головой, что-то напевая. Когда Уроз обогнал его, он ему улыбнулся.
«Куда делось его вчерашнее желание убить меня?» – подумал Уроз.
Теперь песня Мокки слышалась сзади. Но Джехол шагал быстро. И скоро песня пропала, а слышен был лишь шум ветра да журчание воды.
Из-за резкого поворота, который делала река, Урозу пришлось остановиться. Гюльджан сказала ему, что переправиться на тот берег надо именно в этом месте. Другого моста больше не было во всей долине.
Уроз заколебался. Перед ним лежали два бревна, два почти не очищенные от веток ствола дерева, плохо пригнанные друг к другу, с мокрой корой, круто спускающиеся к другому берегу, который был намного ниже. Уроз оглянулся. Саиса не было видно.
«Неужели мне все время нужна будет нянька?» – подумал Уроз и направил Джехола на узкий скользкий мосток.
Конь приблизился к нему с крайним отвращением. Медленно и очень осторожно провел правой передней ногой по древесине, поцарапал ее, пощупал копытом и наконец поставил ногу. То же самое проделал и левой ногой. Затем одну за другой поставил задние ноги. Сделал шаг и остановился. Все мускулы коня дрожали. Уроз подумал о том, что хорошо было бы вернуться на тот берег, который он только что покинул. Невозможно. Мост был слишком узок, чтобы конь мог развернуться, а из-за наклона нельзя было пойти и вспять. Надо было идти на риск. В конец концов горная речка была хотя и быстрой, но не широкой.
Урозу не потребовалось понукать Джехола. Коню было все труднее стоять на месте. Он пошел вперед сам. Один нерешительный шаг… другой… Половина мостика была пройдена. И тут Уроз почувствовал такой сильный толчок, что только инстинкт акробата спас его от падения. Восстановив свою позицию в седле, он увидел, в какую беду попал. Копыто правой задней ноги Джехола поскользнулось на мокрой коре и провалилось между двумя бревнами. Они, словно капкан, зажали ногу коня на уровне бабки.
Конь замер на месте, и только бока его раздувались от неровного дыхания. Он безучастно опустил голову, словно отказываясь верить в то, что с ним произошло. Затем с диким ржанием выгнулся всем телом и дернул застрявшую ногу. Безрезультатно. Попытался еще раз и потом еще и еще. Все было тщетно.
Сотрясаемый этой обезумевшей, конвульсивной и вдруг ставшей бесполезной силой, Уроз впервые в жизни запаниковал. И услышал, как внутренний голос ему говорит, говорит, говорит:
«Джехол раненый, изувеченный, искалеченный, навсегда потерянный… раненый… изувеченный… искалеченный… навсегда потерянный…»
Из растерянности Уроза вывел еще один толчок, более сильный, чем другие. Инстинкт одного из лучших степных наездников подсказал ему, что на этот раз конь был очень близок к тому, чтобы вырваться из беды. Еще какая-нибудь доля секунды, еще одно, последнее, чуть более мощное усилие, и нога должна была освободиться. Но Джехол сделал все, что было в его силах. Зад коня опять пополз вниз.
«Позор, позор мне! – подумал Уроз. – Если бы я помогал ему вместо того, чтобы мертвым грузом давить на него, он бы высвободился».
Джехол опять стал бороться. И каждую из его новых вибраций Уроз воспринимал как сигнал, как особую речь. Он ждал самого сильного, самого яростного рывка, усилия на пределе возможностей, чтобы движением собственного корпуса помочь коню. Но в этот самый решающий момент Уроза пронзила с левой стороны, от пятки до плеча, пронзила и парализовала тем более дикая боль, что он уже успел забыть о ее существовании. Он бессильно уронил свою сломанную ногу и грузно осел в седле. Мазь Зирех исчерпала свои возможности.
Джехол больше не шевелился.
«Он подает мне знак, что пока я нахожусь на его спине, он не будет даже и пытаться высвободиться», – подумал Уроз.
И ненависть к самому себе придала ему нужные силы. Он лег на холку Джехола, вытащил здоровую ногу из стремени, перенес ее на левую сторону, вцепился в гриву коня и, повиснув на ней с согнутой больной ногой, опустился вниз и дотянулся до бревна. И снова боль, настолько сильная боль, что от головокружения и тошноты он поскользнулся единственной ногой, на которой мог стоять, и споткнулся. Оказавшись спиной к реке, он последним усилием подался всем корпусом вперед, чтобы упасть под животом у Джехола, лицом на бревна.
Он думал, что потеряет сознание. Но боль помешала ему.
* * *
Вскоре подошел Мокки. Урозу и ему не потребовалось слов. Хватило одного взгляда: прежде всего надо спасать Джехола.
Мокки встал на колени позади лошади, вставил огромные кисти между бревнами, закрыл глаза, задержал дыхание и, собрав все силы в ставших рычагами руках, коротким резким движением попытался раздвинуть стволы деревьев. Они почти не шевельнулись. Мокки с глазами, налившимися кровью, предпринял вторую попытку. Ловушка открылась на мгновение и ровно на ширину копыта. А больше и не потребовалось. Конь был свободен.
Мокки бочком-бочком прошел вдоль Джехола, схватил уздечку и, пятясь спиной, вывел лошадь на берег. Затем вернулся, поднял на руки Уроза и, балансируя им в воздухе, как шестом, перенес и уложил рядом с конем.
Уроз лежа, а Мокки стоя на коленях и по-прежнему молча, осмотрели Джехола. Над бабкой из-за трений о дерево оказался содранным кусок кожи. Ссадина слегка кровоточила. Но других повреждений не было.
Мокки обильно промыл рану и, приложив к ней пучок травы, сделал перевязку. Затем, действуя в том же направлении, укрепил шины на ноге Уроза.
А тот не спускал глаз с мостка. Два бревна… два несчастных бревна… И он не мог по ним проехать. А теперь Мокки сможет рассказать и будет рассказывать об этом всем на свете.
Уроз ногтями царапал землю, рвал пальцами траву. Нет, этого никак нельзя допустить.
Видит Пророк, нельзя!
– Посади меня в седло! – приказал Уроз, обращаясь к Мокки.
Саис повиновался не сразу. Бессильно опустив руки, он смотрел на противоположный берег и искал в себе остатки того солнца, следы того огромного счастья, которое еще совсем недавно не покидало его. Однако ничего от него не осталось. Ни единой искорки. Бурная речка разделила его жизнь пополам, как делила она вот эту долину. Зирех на той стороне, а он на этой. Был ли у них шанс когда-нибудь увидеться вновь?
– Ну? – произнес Уроз.
Мокки усадил его на коня и пошел по тропе.
Это была узкая полоска каменистой земли, протоптанная в траве людьми и копытами животных. Она вела прямо к горному массиву, закрывавшему горизонт с запада, к огромному, дикому плато без вершин и углублений.
«Дорога простая и такая, что и ребенок не заблудится, – сказала Гюльджан. – За мостом всего одна дорога пересекает всю долину. А потом она переходит в тропу, одну-единственную, по которой вы легко перейдете горы. А там прямо выйдете на старую бамианскую дорогу… До города два дня пути, не больше. Можешь мне верить… Мы знаем эту дорогу наизусть».
Уроз помнил эти слова и верил женщине-великанше. Она не зря командовала в этой группе кочевников. Послезавтра они будут в Бамиане… в Бамиане… А это уже половина пути.
Джехол осторожно шел за Мокки. Уроз натянул поводья, как будто конь шагал слишком быстро.
«Полпути… – думал он, – уже полпути… А как же обстоят у меня дела?»
Мокки, сутулясь, опустив голову, скорее тащился на полусогнутых ногах, чем шел. Уроз подумал:
«Мне уже совсем было удалось… он меня возненавидел… Захотел получить коня… и в сердце его зародилась мысль о преступлении… А тут появилась эта шлюха. Теперь он только о ней и думает… Кобель несчастный… Тряпка, дурак… Теперь все надо начинать сначала… Но как?»
Тем временем характер долины постепенно менялся. Растительность тут была уже не такой зеленой, как на том берегу реки. Низкая и сухая трава, хилый кустарник. И хотя солнце поднялось высоко и грело лучше, путники из-за холодного встречного ветра все чаще поправляли свои чапаны.
Все дело в том, что приближались горы. И вот путники вошли в ущелье. Был полдень, время, когда почти нет теней. Не было видно ни малейшей зазубринки у основания сверкающих белизной скал. Однако внезапно Уроз заметил небольшое коричневое пятнышко у отрога горы. Быть того не может. Уроз приложил ладонь к своим узким, сверкающим, как у сокола, глазам и разглядел, что это была женщина, сидящая у каменной глыбы. Еще мгновение, и он ее узнал.
– Вот шлюха! – пробормотал Уроз вполголоса. А громко произнес:
– Зирех!
Саису, шагавшему, понурив голову, почудилось, будто Уроз ударил его между лопатками и пронзил сердце. Он повернул к нему лицо, приоткрытый рот и застывшие черты которого сделали его неподвижным, словно маска.
– Вон там, – кивнул в ее сторону Уроз.
И саис, тоже увидев ее, хотел было броситься к ней бегом. Но Уроз схватил его за шиворот и прошептал.
– Клянусь Аллахом, если ты уронишь мужскую честь, я свинцом моей нагайки выбью тебе оба глаза. Ты что, не знаешь, что она должна первая приветствовать мужчин?
И Зирех подошла к ним, не глядя на Мокки, встала на колени перед Урозом и, прижавшись лбом к стремени, стала просить его:
– Возьми меня, возьми меня, о господин, в твой поход! Я буду самой покорной, самой молчаливой и самой верной служанкой, исполнительницей всех твоих желаний! Умоляю, не оставляй меня с людьми, которые остались в палатке. После того, как умер мой муж, они сделали меня рабыней. Я работаю на них. Ем остатки их пищи. Мужчины ложатся на меня, когда захотят, а жены их за это меня царапают и нещадно бьют. Позволь служить тебе, о великодушный. Мне не нужно никакой платы. Горстка риса и одеяло – вот все, что надо бедной Зирех.
Первой мыслью Уроза было отшвырнуть бессовестную шлюху, осмелившуюся приставать к нему. Он не заблуждался на ее счет. Она была здесь, на коленях, из-за Мокки и только из-за него.
И он уже приготовился было ударить Зирех каблуком по голове, но тут она подняла к нему лицо. Солнце, ярко освещавшее ее черты, сделало вдруг тщетными уловки и притворство. Под раболепной мольбой, под краской, размытой лживыми слезами, Уроз неожиданно увидел редкую силу, целеустремленность и решимость. Он взглянул на Мокки. Саис дрожал, как младенец, как больной. В его глазах читались сменяющие друг друга обожание, надежда, тревога.
Волчья ухмылка, давно не посещавшая Уроза, слегка приподняла его бледные губы. Зирех испугалась, снова прильнула лбом к стремени. И громко застонала:
– Пожалей, о господин!
Эхо дикого ущелья повторило жалобный стон. Уроз коснулся Мокки своей плеткой и приказал: —Ступай!
Джехол шагнул вперед. Стремя обожгло, оцарапало все еще коленопреклонной Зирех щеку.
– Можешь идти за нами, – смилостивился Уроз.
Зирех поднялась и, как полагается, пошла позади лошади.
* * *
Расщелина прорезала массив плато сверху донизу по прямой линии. Тропа, проходившая по дну ущелья, была без трудных подъемов. Путники пересекли горы быстро и легко.
При выходе из ущелья они увидели высоко над головой каменную осыпь в виде арки, соединяющей обе стенки расщелины. Пройдя под этим подобием монументальных ворот, Мокки, Уроз и Зирех оказались на дороге. По другую сторону ее стояла одинокая чайхана, как бы нависшая над бескрайним пейзажем. До самого горизонта видны были лишь одни пустынные плоскогорья, с почвой цвета обожженной глины, с неглубокими зелеными долинами.
Уроз направил Джехола к чайхане. Мокки привязал жеребца к одной из корявых опор, поддерживавших навес, снял с седла Уроза и положил его на один из поставленных в глубине террасы чарпаев, чтобы от ветра его защищала стена, а от солнца – навес. Чего бы только он не сделал для человека, вернувшего ему Зирех?
Харчевня была крайне бедна. В ней не было даже тех протертых до дыр паласов, которые прикрывают топчаны и землю даже в самых небогатых заведениях. Под навесом вокруг наргиле сидели три старика. Кожа у них цветом своим и структурой напоминала корку лимона. Прямоугольная форма лиц, курносый нос и глаза такие узкие и раскосые, что их можно было принять за морщины, но только чуть побольше, чем остальные, в которых виднелись две черные слезинки.
«Хазарейцы, – мелькнуло в голове у Уроза. – Здесь, надо полагать, начинается их земля».
Мокки наклонился к Урозу и сказал:
– Странное место. Не вижу ни одного бачи. Да и внутри никого нет.
Хазареец, сидевший возле самовара, лениво проговорил:
– Чертов мальчишка сегодня на рассвете удрал с караваном. Захотел попутешествовать.
– Тогда позовите хозяина, – сказал Уроз. Не вставая, хазареец медленно повернулся.
– Это я и есть, – молвил он со вздохом.
– Чего же ты ждешь, почему ничего не подаешь? – вопросительно посмотрел на него Уроз.
– Не подаю чего?
Старик почесал щиколотку и продолжил:
– Сукин сын удрал, ничего не приготовив. У меня остались только старые лепешки.
– А для коня? – спросил Уроз.
– На лугу, который ты видишь возле дороги, травка растет, и мой ослик считает, что она вкусная, – отвечал хозяин.
– А чай? – продолжал расспрашивать Уроз. И, не дожидаясь ответа хозяина, добавил:
– Наверное, твой ишак и его считает вкусным? На мгновение хазареец застыл в растерянности, но потом в глубине его глаз-морщинок блеснули черные капельки, а беззубый рот раскрылся в беззвучном смехе.
– Слыхали? Слыхали? – крикнул он своим приятелям.
Двое остальных уже разделяли всеми своими морщинами веселье хозяина. И тот сказал Урозу:
– Ты мне нравишься, всадник; несмотря на ранение, ты предпочитаешь шутить, а не злиться.
– Ты мне тоже нравишься, – ответил комплиментом на комплимент Уроз. – Несмотря на твое ремесло, ты предпочитаешь лень скупости.
– А я не виноват, – оправдался хазареец. – У тех, кто долго был в рабстве, труд не в почете.
Он со вздохом встал.
– Ладно, я заварю тебе чаю, очень крепкого чаю, – пообещал он. – Вот только посуда грязная. Бача, сукин сын, дал деру, ничего не помыв.
Хозяин ушел мелкими шажками, согнувшись в три погибели.
«Лет семьдесят ему, никак не меньше, – подумал Уроз. – Я был еще мальчишкой, когда эмир Хабибулла дал свободу этим племенам, находившимся в рабстве за их вечные бунты и восстания».
Уроз покачал головой… Рабы… потомки всадников, оставленных когда-то здесь великим Чингизом, чтобы стеречь этот край.
Тут Мокки набрался духу:
– Кажется, я тебе не нужен… Можно я отведу коня на луг?
Голос саиса был тихим и смущенным.
«Говоришь о коне, а думаешь о шлюхе», – мысленно сказал себе Уроз. Но жестом позволил тому уйти.
Мокки увидел Зирех сразу же, как только вышел из-под навеса. Она сидела, прислонившись к невысокой стенке, замыкавшей террасу. Одежда ее, ситцевые лохмотья, и по цвету, и даже как бы по самой материи своей была похожа на ту глинобитную стенку, к которой она прислонилась, и оттого имела вид кучки тряпья, забытой кем-то возле чайханы. Увидев ее так близко, такой доступной после долгого-долгого пути, пройденного в разлуке, когда из-за Уроза, возвышавшегося между ними на лошади, он и оглянуться на нее не смел, Мокки был так взволнован, что не мог сдвинуться с места. Зирех тоже не шевелилась и ничего не говорила. Страсть, толкнувшая ее на путь, по которому шли Уроз и Мокки, была сильнее всего, что она познала в жизни. И поясница, и живот ее пылали огнем. Как он прекрасен и силен, этот саис, рядом с таким великолепным жеребцом! Зирех казалось, что она видит его впервые. Грудь ее, поднявшаяся от волнения, пошевелила складки ее лохмотьев. Однако опыт трудной подневольной жизни научил ее скрывать свои чувства.
«Осторожность… осторожность. Терпение… терпение… – мысленно говорила себе Зирех. – Я и так слишком далеко зашла в своей смелости. Теперь нужно продвигаться пядь за пядью, шаг за шагом, действовать так, чтобы меня не оттолкнули… А то одно лишнее движение, и все рухнет. Хозяин и так постоянно следит за мной своими волчьими глазами».
Так, невинность у одного и расчетливость у другой прикрывали их любовь, равно всепоглощающую и абсолютно чистую с обеих сторон.
Мокки подошел к Зирех. Лоб ее, цвета бронзы, находился сейчас на уровне колен саиса. Среди этих тряпок на выброс лицо ее показалось Мокки еще прекраснее, чем при свете костра. Но к дивным радостям, познанным тогда и вернувшимся сейчас, к нежности, желанию, восхищению, благодарности прибавилось чувство, вызывающее страх и боль. Порожденное, вскормленное и усиленное всеми другими чувствами, оно, взяв от каждого из них их сладость и силу, делало их инструментом безмерных, нестерпимых страданий. И это страдание имело способность удивительным образом связывать Мокки и Зирех еще сильнее, чем светлое счастье. Видя у ног своих в позе просительницы, в позе нищенки любимую женщину, Мокки познал еще и безмерную власть чувства жалости над любящим человеком.
Условия жизни обездоленных никогда не удивляли Мокки. В мире есть бедные и есть богатые. Таков закон природы. Но мысль о том, что Зирех, сидящая у стенки на земле без хлеба, без чая, должна ждать, пока Уроз и он сам не съедят все запасы чайханы, вызвала в нем возмущение несправедливостью этого мира.
– Что ты тут делаешь? – воскликнул он.
– А ты что, видишь для меня какое-нибудь иное место? – в свою очередь тихо спросила Зирех.
Мокки качнулся вперед, потом назад, снова вперед, будто от неожиданных ударов. Что мог он ответить? Устами Зирех говорили значимость и порядок освященных веками обычаев. О чем он думал? Женщина. Последняя из последних. Да еще без мужа. Да еще без средств. Да еще без чадры… Чтобы она была принята в общественном месте? Ведь даже он сам, Мокки, был бы поражен и возмущен, увидев что-либо подобное. Значит, правильно и хорошо, что Зирех остается за стенкой, как собака, страдающая от жажды, от голода, тогда как они, мужчины…? Нет, только не Зирех… Но почему она одна? И Мокки будто воочию увидел за той, кого он любил, бесконечную череду ее сестер по несчастью и почувствовал себя повинным в грехе, о котором он ничего не знал, кроме того, что жертвой этого греха была половина рода людского.
Он опустил на волосы Зирех свою слегка дрожащую руку и шепнул ей на ухо:
– Я вернусь, клянусь Аллахом! Я вернусь…
Перед Урозом еще не было подноса с чаем. Но внешне он выглядел достаточно благодушным. Мокки подошел и присел на корточки у чарпая.
– Ну как, прав ли хозяин, хороша ли трава для Джехола? – поинтересовался Уроз.
– Еще лучше, чем было сказано, – заверил его саис, даже и не взглянувший на траву.
– Ну, тогда, значит, все в порядке, – решил Уроз.
– Нет, не все в порядке, – осмелился не согласиться Мокки.
Он вытянул голову вперед и, лицом к лицу, заговорил быстрым, задыхающимся голосом:
– Я видел Зирех, она сидит на улице… вышла на рассвете, еще раньше нас… И у нее ничего нет – ни поесть, ни попить. Надо ей помочь.
– И что же ты предлагаешь? – тихо спросил Уроз, полузакрыв глаза.
– Я готов… – начал саис.
– Отнести ей питье и еду, – перебил его Уроз тем же голосом. – Знаю… Но я скорее убил бы тебя. Недостойное поведение саиса позорит его хозяина.
– Позволь тогда прийти ей сюда, – прошептал Мокки.
Взгляд Уроза сверкнул, как лезвие бритвы. Зато голос стал еще более дружелюбным.
– Сюда? – удивился он… – Сюда? И только-то?..
Даже если бы было в моей власти настолько унизить хозяина чайханы и его гостей, кто захотел бы обслужить такую вот девицу? Самый последний бача и тот отказался бы. А тут и вообще нет ни единого бачи.
Тело Мокки обмякло и осело, голова втянулась в плечи. Он обещал Зирех, что вернется к ней. Но как? С пустыми руками?
Уроз, прищурив глаза, наблюдал за Мокки с чем-то похожим на сладострастие. Этот худющий верзила, вчера еще безвольный, инертный, пустопорожний, вдруг стал что-то чувствовать, готов что-то делать!
– Вставай, балда, – приказал Уроз. – Приведи ее.
– Но… но… ты же только что сказал… – забормотал Мокки.
– Я сказал, что служанку не будут обслуживать, – уточнил Уроз. – Но она сама может и должна прислуживать. Иди, скажи ей это.
Мокки не пошел, а прыжком перемахнул через стенку.
А хозяин с порога спросил у Уроза:
– Эта женщина, что там сидит, здесь для того, чтобы тебя обслуживать?
– Да, – согласился Уроз.
– Клянусь Пророком, если бы все путники поступали так, это место превратилось бы в прихожую рая! – воскликнул хозяин.
Подумав секунду, продолжил:
– Хорошая служанка – это лучше, чем все поганые бачи на свете. Помню, когда наше племя освободили, хозяева брали в жены для своих сыновей беззубых старух, лишь бы удержать в доме прислугу.
И старик вернулся к своим друзьям. Там они продолжали молча курить. В глубине дома послышался шум каких-то приготовлений, позвякивание посуды.
Потом появилась Зирех, легко несущая тяжелый поднос.
– Какая чистая посуда, – вдруг обратил внимание один их хазарейцев.
– И чай такой душистый, – поддакнул другой.
– Она разогрела черствые лепешки, и они опять стали мягкими, – возрадовался третий.
Мокки, сам того не замечая, кивал головой со счастливой улыбкой на лице.
Зирех поставила еду перед Урозом. Но он к ней не прикоснулся. Его тошнило от вида еды. Мокки, несмотря на свой голод, съел всего одну лепешку.
«Он все оставляет шлюхе, – подумал Уроз. – Если я не вмешаюсь, она скоро за мужчину его не будет считать».
Уроз подставил пустую чашку, чтобы Зирех ее наполнила, взглянув на Мокки, распорядился:
– Джехолу надоело ходить шагом. Давай-ка расшевели его, чтобы он ноги немного размял!
– Как… ты хочешь… ты и в самом деле хочешь… чтобы тут, перед всеми? – удивился саис.
Он сказал «перед всеми». Хотя думал только об одной Зирех.
– Ступай, – приказал Уроз.
Мокки бросился к Джехолу, пощипывавшему траву в оседланном виде, взялся за холку и впрыгнул в седло, не касаясь стремян.
И тем, кто смотрел с террасы, показалось, что у них на глазах он мгновенно превратился в другого человека. Куда подевалась неловкость, неуклюжесть этого долговязого парня? Рост, масса и сила, обычно так стеснявшие Мокки, вдруг обрели естественную легкость. Руки, доставлявшие ему столько забот, оттого что казались ему слишком длинными, слишком неуклюжие ладони и слишком тяжелые запястья, слишком толстые ноги вмиг превратили всю его фигуру в нечто достойное уважения. Плечи, избавившись от сутулости, развернулись и стали великолепно широкими, а понурая прежде голова высоко поднялась. Во взгляде, вместо выражения обычной для него детской наивности, появилось новое выражение твердости и воли, а накопленный жизненный опыт вместе с вытекающей из него настороженностью раньше времени наложили на лицо маску возмужалости и взрослости.
Мокки резко натянул удила. Джехол вздыбился во весь рост. И хотя саис не пользовался стременами, корпус его не опустился ни на дюйм – так крепко были зажаты бока жеребца сильными и твердыми, как тиски, бедрами и коленями. Голова всадника и коня оказались на одном уровне, и горный ветер одинаково развевал концы чалмы и гриву жеребца. Три старика-хазарейца на террасе застыли с раскрытыми ртами. Ведь они-то имели дело лишь с жалкими мулами да ослами. Им казалось, что этот человек и этот конь превратились в одно целое, в одно удивительное существо.
Мокки удерживал Джехола в вертикальном положении, пока тот не начал терять равновесие. Передние ноги его с силой били по воздуху. Колени задних ног дрожали все сильнее и сильнее. Саис все еще не позволял коню встать на четыре ноги. Казалось, он решил увековечить это двуглавое чудище, взвившееся к небу. Силу, ловкость, опыт, инстинкт – все использовал Мокки, чтобы исправлять и дополнять беспорядочные движения Джехола. То откидываясь назад и безжалостно натягивая удила, когда жеребец пытался опуститься, то упираясь всем весом на холку, когда тот грозил повалиться спиной на всадника, Мокки выпрямлял, прижимал к себе, поднимал коня.
Внезапно он отпустил поводья, расслабил колени и погнал жеребца вперед.
Одним броском Джехол кинулся в галоп. Но лужок был слишком мал, вернее, слишком узок для такого аллюра. Еще несколько секунд, еще пару прыжков, и конь на полном ходу влетит в чайхану. Старики в страхе закрыли лица руками. Зирех, откинувшись назад, с широко раскрытыми глазами, с остановившимся взором, со ртом, открытым от внутреннего немого крика, повторяла про себя: «Сейчас разобьется… сейчас разобьется».
Уроз не разделял этих опасений. Он знал, что сейчас сделает саис. И действительно, в последний момент, у самой стены, Мокки откинулся всем телом на бок Джехола и коленом, грудью и рукой заставил его отклониться вбок и вплотную к фасаду пролететь вдоль чайханы. От топота копыт терраса задрожала. А Мокки уже делал другой поворот, направлял коня на луг, снова пускал его в галоп.
Уроз уже не сидел, откинувшись к стене. Наклонившись вперед, он видел сквозь рваную рубаху саиса, как дышит его грудь, широкая, выпуклая от великолепных мускулов. И ему казалось, что он сам находится там, внутри этой груди – настолько точно он предугадывал, понимал и разделял каждое движение Мокки. В эти минуты саис был для Уроза таким же человеком, как и он сам: всадником.
И тут он услышал, как чей-то голос рядом шепотом произнес:
– На своем коне он похож на принца.
Уроз повернулся, увидел Зирех и пришел в себя. Этот восхищенный голос, это сияющее лицо… Он добился большего, чем ожидал. Эта скрытная девка уже не владела собой. Теперь она никогда не забудет Мокки на Джехоле. «На своем коне», – сказала она. «На своем коне»…
Уроз подал саису знак спешиться. Мокки слез с коня. И опять стал выросшим из чапана юнцом.
– Мы уходим, – поставил Уроз в известность хозяина чайханы.
– К вечеру ты доберешься до хорошего караван-сарая, – пообещал тот. – И уж там сможешь отдохнуть как следует.
Уроз спросил счет.
– Счета не будет, – отвечал старый хазареец. – Я тебе много больше должен за все, что ты нам показал.
Уроз стал было настаивать. Старик тихо промолвил:
– Оставь бедняку его единственное богатство.
Когда путники, Мокки впереди, Уроз на Джехоле посередине и Зирех позади вышли на дорогу в Бамиан, хозяин чайханы вернулся к своему наргиле и затянулся дымом. Друзья его ждали каждый своей очереди. Бывшие рабы молча смотрели, как серый дымок поднимается по трубке через воду и улетает через сухие ветки навеса.
IV СЕРЕДИННАЯ ЛИНИЯ
Старая дорога на Бамиан осталась такой, какой она была с незапамятных времен: узкая и извилистая, покрытая в сухое время года пылью, словно толстым одеялом, в период дождей она превращалась в поток грязи с неровными краями и огромными рытвинами посередине. Одним словом, это была обыкновенная разбитая проселочная дорога. Колесный транспорт здесь не мог продвигаться. Вся торговля, все обмены между Югом и Севером совершались по большой дороге, по которой Уроз и Мокки ехали в течение нескольких часов после их бегства из Кабула.
А старая бамианская дорога, тихая и заброшенная, теперь служила только местным жителям: крестьянам, ремесленникам, пастухам, торговцам в разнос, случайным проезжим, а главное, дважды в год ею пользовались для перегона скота: весной – в горы, осенью – обратно в долины. Сейчас был октябрь. Стало быть, стада спускались и шли этим путем каждый день.
Во второй половине дня Уроз с высоты своего седла первым увидел на горизонте что-то вроде столба рыжего дыма, двигавшегося навстречу. Столб дыма быстро приближался. Появились и другие, подобные ему. Постепенно они все соединились в облако цвета глины, поднимавшееся в небо настолько высоко и создававшее такую плотную пелену, что оно совсем закрыло солнце на середине его пути от зенита до заката. Когда время от времени ветер создавал просветы, внизу было видно какое-то движение, то ли войска, то ли стада. Наконец, в просветах стали возникать животные и люди, кое-где вдруг сверкали, освещенные косыми лучами солнца, медь, сталь конской упряжи или оружия.
Мокки остановился, поджидая Уроза. Подошла и Зирех, держась за крупом Джехола. Она ни секунды не колебалась.
– Большие кочевники.
Она не выделила голосом слово «большие». Однако простой ее внутренней уверенности в глубоком, истинном и важном значении этого слова уже было достаточно. Для Зирех не было ничего общего между теми «малыми кочевниками», к которым принадлежала и она сама, и этими, гордо шагавшими сейчас в лучах золотистого солнца.
– Что это за племя? – вопросительно посмотрел Уроз на женщину.
– Это пуштуны с высокой границы, оттуда, откуда восходит солнце, – объяснила Зирех.
– Пуштуны… – посмотрел в том направлении Уроз.
Он никогда не встречал их караваны, проходившие в период перегона скота намного южнее степных районов. Но, как всякому афганцу, это название было ему более чем привычно. Пуштуны с восточных перевалов, пуштуны из крепостей, прилепившихся к горам, подобно орлиным гнездам… Пастухи и непобедимые воины. В своих мастерских они ковали сабли, пики, изготовляли ружья. Они завоевали долины до самой Амударьи, покорили хазарейцев, обратили язычников Кафиристана в истинную веру. Они изгнали из своих долин, после вековой партизанской войны, даже английских солдат, непобедимых в других местах. Пуштуны, племя господ… Кланы, поставлявшие стране королей… Вот уже тысячи и тысячи лет каждую весну они шли в горы, пересекая всю страну по всей ее ширине, от Индии до Ирана, шли при оружии, не заботясь ни о каких законах и ни о каких границах.
– Пуштуны, – эхом отозвался Мокки.
В его приглушенном голосе прозвучала тревога. В Меймене, его провинции, главы районов, сборщики налогов, высшие и средние армейские и полицейские чины, то есть все, кто командовал, присматривал и наказывал, всегда были пуштунами. Людьми другой крови, потомками победителей, присылаемыми из Кабула, из-за Гиндукуша, чтобы править степняками.
И Мокки снова протянул:
– Пуштуны.
Движущийся пыльный полог затянул из края в край всю долину, и завитки его поднимались высоко в небо. Подобно теплой еще золе от мирового пожара.
– Ступай, – подтолкнул саиса Уроз.
Тот сделал несколько неуверенных шагов, повернулся и, глядя на Зирех, шагавшую за Джехолом, предположил:
– А может, нам лучше свернуть на какую-нибудь тропу, которая проходит по лугу?
– Почему? – вопросительно посмотрел на него Уроз.
– Пуштуны занимают всю дорогу, их стадо – это все равно, что туча саранчи, и к тому же они с оружием, – пояснил Мокки.
– Дорога принадлежит всем прохожим, – не согласился Уроз. – Ступай!
Мокки вобрал голову в плечи и повиновался.
А поток пыли уже поглотил их и двигался дальше. Они не видели ничего. Слышны были лишь неясный топот со всех сторон, позвякивание металла, негромкий говор людей, но громче всего – ржание, блеяние, крики ослов, верблюдов, лай собак.
Зирех подбежала к Урозу, обхватила обеими руками его правую ногу и закричала:
– Я тебя умоляю, хозяин, свернем хотя бы на обочину.
– Почему? – недовольно тряхнул головой Уроз.
– Пуштуны всегда едут по самой середине дороги, – попыталась объяснить Зирех. – Они считают, что иначе их постигнет неудача.
– Я тоже так считаю, – нахмурился Уроз.
На лицах их оседало все больше пыли. И эта пепельная маска еще больше усиливала на лице Зирех выражение страха. Она простонала:
– Горе мне, дочери малого кочевого народа. Они растопчут меня ногами.
– Делай, как считаешь нужным, я тебе разрешаю, – снизошел Уроз.
Женщина поцеловала его в щиколотку и в три прыжка оказалась в канаве, идущей вдоль дороги. Мокки тоже кинулся было к этой хрупкой, тщедушной фигуре, но остановился на полпути.
– Иди, иди, – кинул ему Уроз презрительный взгляд.
Мокки присоединился к Зирех, взял ее за руку и почувствовал, как она дрожит в его огромной ладони.
– Смотри, – крикнула Зирех. – Твой хозяин поехал дальше. Он не иначе как с ума сошел.
– Просто он гордый, – отозвался Мокки.
– А чем это он гордится? – вновь вскричала Зирех. – Что он, настолько богат?
– Это не имеет значения! – объяснил Мокки. – Во всех трех северных провинциях нет чопендоза лучше его, и к тому же он сын великого Турсуна.
Зирех ничего не знала о бузкаши и о его славных героях. Когда она увидела, что при этих словах на лице саиса проявились те же чувства, какие она испытывала по отношению к «большим кочевникам», Зирех почувствовала что-то вроде обиды. Никто, никто в мире не мог сравниться с господами пуштунами!
– Чопендоз он или нет, мне на это наплевать, и если его порубят в куски, мне и на это тоже наплевать, – возразила она. – Но он не имеет права подвергать опасности твоего коня.
Мокки почувствовал, как кровь прилила ему к голове.
– Джехол не мой конь, – не согласился он.
– Этот конь создан для тебя, – воскликнула Зирех, и в голосе ее саис почувствовал какие-то почти дикарские ярость и упрямство.
Она прижалась к Мокки и тихо добавила:
– На лугу перед чайханой ты был прямо как принц.
Уроз по-прежнему ехал на Джехоле по самой середине дороги, привстал правой ногой в стремени, прикрыл глаза рукой и остановил коня. В ту же секунду Зирех отпрянула от Мокки, как испуганный зверек, и закричала:
– Вот они! Вот они!
Из глубины пыльного облака появился караван. То была лишь головная его часть, но и она уже занимала всю дорогу вместе с обочинами. Сквозь шевелящийся полог пыли, сквозь образовавшиеся по воле ветра прогалины Уроз, восседавший на коне, и Мокки с Зирех, стоявшие рядом с дорогой, увидели за передними рядами каравана главную часть стада. У него не было конца. И формы тоже не было. Стадо заполняло всю долину, от края до края. Ни Уроз, ни Мокки, ни даже Зирех никогда не видели такого стада. Казалось, гигантская река в половодье катила на них свои шерстистые волны. Из-за осевшей на них пыли и лошади, и мулы, и ослы, и рогатый скот выглядели особенно мохнатыми.
В этом море скота были свои течения, остановки, замедления и ускорения. То и дело слышались лай, крики, хлопанье кнутов. Пастухов и собак, руководивших движением, не было видно – настолько плотно их закрывала пыль. Что же касается всадников, то из пыли выглядывала обычно только верхняя половина человека на верхней половине лошади. Над этой плывущей массой величественно возвышались только верблюды. Они шагали по два в ряд плотными цепями. Вьючные и беговые, увешанные тюками с палатками, ярким скарбом, коврами, паланкинами с целыми семьями – все они шли одинаковой походкой: ленивой и высокомерной. На длинных, гибких шеях раскачивались кричащие, дикие морды. Впереди шли самые крупные и самые сильные. На них были удивительные украшения. Сверху донизу они были увешаны яркими бантиками, бахромой, лентами, помпонами, сетками и пучками перьев. При каждом их шаге слышался звон привязанных к этим украшениям бубенчиков. И они шли, шли вперед, эти полусонные, мохнатые и напыщенные драконы, раскачиваясь, как на волнах, над пыльным потоком каравана.
Уроз лишь мельком взглянул на этот поток, медленно надвигающийся на него с неотвратимостью стихии. Все его внимание было приковано к первой паре животных. То были великолепные представители племени двугорбых верблюдов, вышедших когда-то из исторической провинции Бактрия, самых больших, самых выносливых, самых сильных и агрессивных верблюдов. Эти двое были намного крупнее тех, что следовали за ними. Их длинная, густая, дико всклокоченная рыжая шерсть была везде, включая морду, шею, спину, горбы, брюхо, ноги, выкрашена хной, а кроме того, увешана ярко-красными и золотистыми ленточками, талисманами, плюмажами. Седла же на них были изготовлены из красной кожи, украшенной причудливыми узорами.
На чудище, которое шло справа, сидел мужчина. На том, что шло слева, ехала женщина.
Мужчина был еще довольно молод. В его короткой, густой, иссиня-черной бороде, доходящей до тюрбана, не было ни одного седого волоса. Она служила своего рода обрамлением, будто сделанным из черного дерева для весьма выразительного лица, на котором сразу привлекали внимание продубленная солнцем и ветром кожа, горделивый нос с горбинкой и глаза глубокого цвета камней вулканических пород. Под нижней губой виднелся плохо зарубцевавшийся шрам. За поясом видны были два кинжала, а на коленях его лежало ружье с длинным стволом и инкрустированным прикладом.
Женщине, если судить по гладким щекам, сверкающему взору, нежному лбу и свежим губам, не было, скорее всего, и двадцати лет. Однако из-за неподвижности ее черт она выглядела очень зрелой и властной. В лице ее сочетались яркость цветка и повелительная инертность маски. На ней были шелковые одеяния свободного покроя, темно-синего, ярко-красного и огненно-желтого цветов. А из-за множества серебряных ожерелий, широких и толстых, из-за тяжелых браслетов на руках и на щиколотках она казалась облаченной в доспехи. На локте у нее лежало такое же роскошное ружье, как и у вождя.
С высоты своих гигантских бактрианов и мужчина, и женщина издалека увидели всадника, остановившегося как раз по центру дороги. Но они ничем не показали, что увидели его. Верблюды продолжали шагать так же, как и до этого. Лица наездников оставались все такими же высокомерными и неподвижными. Даже друг к другу они не повернулись.
И Уроз вел себя так же. Казалось, он не замечал двух надвигавшихся на него великанов, хотя он уже чувствовал даже запах хны, которой была окрашена шерсть верблюдов, а ветер уже доносил до него капельки слюны с их морд. Он ни секунды не думал притворяться, делать вид, что не боится. В этой игре – а это была смертельная игра, где ставками оказались честь и достоинство – видимость принималась в расчет, и главное было соблюсти правила, освященные обычаем. Поэтому, не спуская глаз с узкого промежутка между двумя передними бактрианами, Уроз, полностью владея собой, своими нервами, рассудком и мускулами, стоял, прямой и величественный, как монумент посреди дороги. Только в раненой ноге ровно, этакий маятник страдания, бился пульс жизни и времени: штурм, отбой, штурм, отбой.
Промежуток между двумя гигантами вдруг закрылся. Перед Урозом образовалась волосатая стена из верблюдов, прижавшихся друг у другу.
Над ним послышался хриплый ровный голос:
– Мир тебе!
Только теперь Уроз поднял голову, и раскосые глаза его встретились с темными, как вулканическая лава, широкими глазами человека со шрамом.
– Мир тебе, глава могучего племени. А через тебя мир всему племени.
Уроз не упомянул особо женщину, сидящую с ружьем на таком же, как у вождя, верблюде, даже еще ярче украшенном. Он вообще старался как можно более демонстративно отвернуться от нее, показывая, что он игнорирует ее присутствие. Если в обычаях этого племени было относиться к женщине как к равной, Уроз с этим ничего поделать не мог. Но чопендоз, сын и внук чопендозов, не мог нарушить закон своего народа, бросив его честь под ноги верблюдов, раскрашенных, как проститутки.
Пуштунский принц молчал. Неимоверный шум каравана с его тысячами криков и воплей бился в ушах Уроза, усиливая и без того мучающий его жар. Рана причиняла ему острую боль. Он с трудом сдерживал Джехола на месте.
Вдруг что-то твердое ударило его в правый бок, между ребер, и заставило его склониться в ту же сторону. Он оказался повернутым лицом к женщине с ружьем, сидевшей на дамском ярко-красном седле и смотревшей на него с высоты своего бактриана. Она небрежно укладывала ружье на место у локтевого сустава.
«Она ударила меня прикладом», – подумал Уроз. Огромным усилием воли он не выдал своего возмущения. Она была на такой высоте и прикрыта такой длинной и широкой шеей чудовища с головой рептилии, что Уроз не мог достать ее даже нагайкой. В случае, если невозможно ответить тем же, честь требует встать выше оскорбления и сохранять спокойствие.
Уроз так и поступил. А женщина с ружьем поинтересовалась у него более грубым и заносчивым, чем у мужа, голосом:
– Что ты тут делаешь, глотая нашу пыль?
Уроз так резко развернул Джехола, что тот встал крупом к хозяйке каравана. Обращаясь к вождю пуштунов, он объяснил:
– Я жду, когда освободится проход.
Предводитель кочевников как бы невзначай оглянулся на огромное скопление скота и людей, по-прежнему надвигающегося и заливающего, словно половодьем, всю долину, затем посмотрел на Уроза:
– Почему, увидев нас, ты не свернул на свободную боковую тропинку у подножия гор?
– Мой путь всегда проходит посередине дороги, – сообщил Уроз.
Шрам на лице вождя племени слегка покраснел.
– Ты что же, думаешь… – начал он…
Не закончив фразу и не оборачиваясь назад, он показал широким жестом назад, на свое войско и на огромную массу скота, а затем продолжил:
– Мне даже нет нужды давать команду воинам. Я поеду прямо, а через минуту от тебя и твоего коня останется только кровавое месиво, мясо да кости.
– Действительно, ты это можешь, – согласился Уроз. – Именно поэтому ты и должен пропустить одинокого безоружного человека.
– Посередине дороги? – с недоумением поднял брови вверх пуштунский вождь.
– Но я-то уже нахожусь посередине, не так ли? – ответил Уроз.
Женщина выпрямила грудь. Под шелком ее туники выпятились два бугра. Звякнуло серебро браслетов и ожерелий.
– Да что ты его слушаешь? – крикнула она мужу. – Если он сумасшедший, пусть Аллах примет его останки.
Глаза вождя пуштунов, неотрывно глядящего на Уроза, продолжали сверлить его.
– Даю тебе минуту и только одну минуту, чтобы сойти с пути, – решил повелитель племени.
Но тут натиск сзади, которого он не смог сдержать, сдвинул все вокруг.
Всадники, которые сидели на верблюдах, следовавших непосредственно за вождем и его женой, все видели и поняли причину остановки. И тоже остановились. Те, что ехали за ними, хотя и не знали причины, но тоже остановились. Однако из-за большого расстояния, на которое растянулся караван, и из-за расположения его на местности, остальные не видели, что голова колонны остановилась. Караванщики, всадники и пешие продолжали идти вперед. Пастухи и собаки продолжали подгонять стада. Волна набегала на волну. И прилив настиг, наконец, передних бактрианов-гигантов.
Они устояли. Хозяева не дали им команду двигаться вперед, а они слишком кичились своей силой, своей статью, своим положением, чтобы подчиняться давлению каких-то там низших животных. Вросшие в землю огромными эластичными ножищами, они продолжали стоять, будто каменные, сопротивляясь всем своим весом, всей своей мощью. Это равновесие длилось несколько секунд, как раз те несколько секунд, когда вождь кочевников заканчивал разговор с Урозом. Но нажим все нарастал, и гиганты-верблюды начали поддаваться напору. Половодье оказалось сильнее.
Они покачнулись, ноги их оторвались от пыльной дороги и дюйм за дюймом стали скользить навстречу вставшим перед ними коню и всаднику. Передней паре наступали сзади на ноги, их толкали, давили на них металлическими и кожаными украшениями, терлись о них, раздражали звяканием тысяч бубенчиков, от чего они в конце концов утратили способность воспринимать волю хозяев. Они дико закричали, и из их разверзшихся пастей хлынул поток слюны.
Этому бешенству стихий нужен был объект. И лучшей мишенью для ярости оказались эти гномы – конь и всадник – смехотворное препятствие, которое ничего не стоило повалить, растоптать, раздавить и, смешав с дорожной пылью, превратить в кашу. И они сделали шаг в сторону всадника.
Рефлекс Джехола оказался более молниеносным, чем мысль Уроза. Конь возненавидел этих двух гигантских уродов. Незнакомый ему запах хны, побрякушки и плюмажи, отвратительный дождь их брызгающей слюны, упрямство, с которым они преграждали ему путь, – все это с самого начала встречи инстинктивно настроило его против них. Когда же они вздумали наступать, Джехол их опередил. Громкое, пронзительное ржание коня перекрыло голоса врагов. Он чуть отступил для разгона, встал на дыбы и пошел в атаку. Этот зверь, вдруг вставший перед ними вертикально, его гневный вызывающий крик, внезапность нападения вызвали удивление бактрианов, отчего они опешили, и их порыв угас. Не успели они сдвинуться с места, как жеребец кинулся на них. При всем их росте, при всей их силе они испугались и расступились.
Уроз, пригнувшись к гриве коня, заметил расщелину в стене, покрытой темным и густым мхом. Джехол устремился вперед. Ноги Уроза вплотную прижались к раздутым мохнатым бокам, и из-за сломанных своих костей он вновь ощутил такую нестерпимую боль, что ему захотелось тут же умереть. А когда он увидел, что ему противостоит целая колонна плотно прижавшихся друг к другу, спаянных друг с другом верблюдов, то подумал:
«Ну и пусть! А если меня убьют, то по крайней мере я умру на серединной линии…»
Перед огромной, плотной массой животных, сквозь которую он не мог пробиться, Джехол опять встал на дыбы. Первый ряд отступил, второй – тоже. И третий тоже отступил. Какой-то момент длилось равновесие сил.
Но вот конь опустился на передние ноги. Дыхание его было хриплым и учащенным, взгляд – безумным. Ему не хватало места для маневра и битвы. В одном шаге перед ним стояла стена верблюдов, гнев которых нарастал. Со всех сторон его окружали бактрианы, причем так тесно, что он буквально слышал, как бурлит в их животах гнев. И Уроз, и Джехол почувствовали одновременно, что вот сейчас их задушат и раздавят.
Со сломанной ноги Уроза слетела повязка, штаны внизу порвались. Обнажились сломанные кости и гниющая плоть. Принц кочевников задумчиво посмотрел на него.
– Я не могу иметь противником человека в твоем положении, – сообщил он Урозу о своем решении. – Проезжай!.. Дарую тебе жизнь, поскольку ты уже был ранен.
– А я дарую тебе жизнь, оттого что у тебя такой конь, – смилостивилась и женщина с ружьем. – Проезжай…
Вождь племени обернулся, отдал распоряжение и приказал своему гиганту двигаться дальше. Соседний, на котором восседала женщина, пошел рядом. Послышалось мерное позвякивание их бубенчиков. Пыль из-под их ног накрыла Уроза с головой. А Джехол двинулся прямо вперед по узкой дорожке, образуемой расступившимися верблюдами с панашами, по мере того как передавалась от ряда к ряду вглубь каравана команда вождя. Он ехал по осевой линии.
* * *
– Подними меня повыше, – повернулась Зирех к Мокки.
Из-за сутолоки на дороге они потеряли из поля зрения Джехола и Уроза. Когда караван вновь тронулся в путь, они не знали, что с теми произошло.
Мокки легко поднял над головой Зирех, такую маленькую и такую богатую счастьем. Сквозь пыль она увидела в лучах заходящего солнца, как внутри каравана, в самой середине его, прокладывается какая-то борозда, прокладывается всадником, движущимся навстречу стаду.
– Это он, – наклонился Зирех к саису. – Он едет по серединной линии…
– По-другому он бы не согласился, – пошевелил шеей Мокки.
Каким-то кошачьим движением, неожиданным, гибким и быстрым, Зирех отцепила пальцы Мокки от своей талии и соскользнула на землю вдоль его тела. Глаза под выпуклым, упрямым лбом горели гневом.
– Гордишься им, да? – крикнула она. – А если бы конь погиб?
– Да цел Джехол, раз Уроз на нем едет, – успокоил ее Мокки.
– Еще неизвестно, как все кончится, – настаивала на своем Зирех. – Он не доехал и до середины каравана.
– Тогда пошли к нему, – позвал ее саис.
Зирех не стала раздумывать. Та пара на первых верблюдах, которая внушала ей священный ужас, успела удалиться в облаке пыли. Теперь мимо них ехали и шли люди, которые по-своему положению, одежде и поведению казались ей менее опасными. К тому же они шли вместе со стадами. А к животным Зирех была такая же привычная, как и Мокки. Они вошли в поток четвероногих.
Шли долго. Хотя по опыту, превратившемуся в инстинкт, они знали, как вернее и быстрее двигаться между шагающими животными, чтобы те и ноги не отдавили, и рогом не подцепили, и клыками не ухватили, их то останавливало плотно идущее стадо, то уносило вбок течением. То к ним приставали собаки, то им грозили кнутами конные пастухи. Они шли зигзагами, неравномерно, среди толчеи, в облаке пыли. Однако постепенно стада становились все менее плотными. Это была уже хвостовая часть каравана. Мокки и Зирех могли теперь ускорить движение, бежать между разрозненно бредущими животными. И в тот момент, когда Джехол вышел, наконец, на свободное пространство, они догнали Уроза.
И тут, совершенно непроизвольно, не сговариваясь, конь, саис и его спутница остановились и глубоко вдохнули вечерний воздух. Им всем троим, вышедшим из животного потока, нужно было отдохнуть, перевести дух, почувствовать себя стоящими на твердой земле. За ними затухали шумы каравана.
– Аллах всемилостивый! – прошептал Мокки. –
Посмотри, Зирех… посмотри на его ногу!
Та посмотрела на зияющую рану с воспаленными и разорванными краями, источающими кровь и гной.
– Это от трения о шерсть животных, – сказала она.
– Можешь помочь ему прямо сейчас? – вопросительно посмотрел на нее Мокки.
– Могу, – кивнула головой Зирех.
Когда саис хотел сообщить об этом Урозу, тот с трудом пошевелил бескровными губами на исхудалом до костей лице:
– Я слышал.
И направил Джехола вперед.
* * *
В конце дня они достигли караван-сарая, стоявшего в стороне от дороги, в излучине речушки, окружавшей заведение с трех сторон. С четвертой стороны был крутой склон холма. Это был приземистый дом, не такой большой, как тот, где слепой писарь написал завещание Уроза, но зато более прочный и находившийся в хорошем состоянии. Путников встретили во дворе двое слуг с факелами; старший из них после традиционных приветствий обратился к Урозу:
– Ты хочешь спать со всеми другими путниками или вместе со своими слугами в отдельной комнате?
– Я хочу быть один, – с трудом выговорил Уроз… – Я и мой конь.
Бача взял Джехола под уздцы и провел вновь приехавших через весь общий зал для спанья. Зал был на удивление чистым, и в нем не было заметно того беспорядка, который обычно бывает свойствен такого рода пристанищам. Погонщики мулов там держались вместе, пастухи овец – тоже, равно как и погонщики верблюдов. И животные, их окружавшие, держались отдельно – стадо от стада. Одинокие путники, как пешие, так и конные, или ремесленники со своим инструментом – все имели свои места. Керосиновые лампы с чисто протертыми стеклами освещали все эти группы. Затем следовал широкий коридор, по обе стороны которого находились ячейки со сводчатым потолком, где могли поместиться несколько человек и даже лошадь. У входа стояли корыто с водой и кормушка с сеном. У стены напротив входа лежали вязанки соломы, чтобы на них спать.
Когда Уроз лег, яркий свет фонаря, висевшего в углу, осветил рану во всем ее ужасном состоянии. Запах от нее шел такой, что бача отшатнулся. Зирех шепотом попросила Мокки:
– Попроси у него кипятку и чистых тряпок.
Саис выполнил ее просьбу. Женщина из малых кочевников не имела права отдавать приказы даже слуге караван-сарая.
На неподвижном, суровом лице Уроза лежала маска из пыли, поднятой караваном. Зирех обмыла рану и открыла свой мешочек. Но не успела она сунуть в него руку, как резко отдернула ее. Плетка, с которой Уроз не расставался, хлестнула ее по руке.
– Больше никаких мазей, никаких трав, никаких порошков, – просвистела, почти не разжимая зубов, глиняная маска с мертвыми веками.
Тем же свистящим, почти невнятным голосом Уроз приказал слуге:
– Черного чаю… очень крепкого… очень сладкого… немедленно…
Слуга бегом удалился.
– Мокки… завтра… на заре… перевязать ногу… А теперь… она и ты… вон отсюда.
В коридоре саис и Зирех увидели молодого слугу, прижавшегося к стене: он подслушивал.
– Скажи мне, скажи, – обратился тот шепотом к Мокки, – он не умрет?.. У нас такого еще не было.
– Нет, обещаю тебе, – заверил его саис. – Он очень устал, день был тяжелый… Чай его подкрепит.
– У нас всегда наготове два самовара с кипятком, – похвастался бача.
Они прошли в общее помещение. Там осталась зажженной только одна лампа. Большинство людей и животных уже спали, лежа на чистом полу, на отведенных им местах.
– Хозяин, надо думать, здесь умный, – отметила Зирех.
– О, он… – ответил бача. – Он не намного меня старше. Всем руководит его мать, вдова.
Мокки и Зирех стояли над спящим царством. Сам того не замечая, саис переступал с ноги на ногу, снова стесняясь своего большого роста… Но в эту ночь, в этом большом помещении, полном сонных звуков, смущение Мокки имело причиной не столько его долговязость и неловкость, сколько нетерпение, в природе которого он не решался признаться. Он сделал нерешительное движение в сторону угла, где спали одиночки, и взглянул на Зирех:
– Ну что, пойдем спать?
Та молчала. Мокки вынужден был продолжать. Голос его показался и самому ему фальшивым, когда он произнес:
– Ты, наверное, очень устала… идем.
Зирех впилась ногтями в его руку и, не говоря ни слова, потащила его наружу.
Они вышли во двор. Над входом в дом висел небольшой фонарь. Зирех прильнула грудью к Мокки.
– Мой большой саис, – сказала она, – мой большой саис, весь день я ждала, еле дождалась.
И вдруг отпрянула. В полутьме раздался громкий, решительный женский голос:
– Прекращайте.
Голос, казалось, исходил из стены. Мокки и Зирех увидели над фонарем узкое окно, бывшую амбразуру. При свете сального фитиля в глубине окошка видна была бесформенная масса в черном одеянии и с капюшоном на голове. Видны были только глаза, сверкающие в ночи. Мокки прошептал: —Привидение, Зирех…
– Успокойся, – возразила она ему тоже шепотом. – Это всего-навсего хозяйка караван-сарая, вдова… которой не спится.
Голос из-под капюшона вновь заговорил:
– Блудите, где хотите, но только не у меня… Убирайтесь отсюда прочь!
Мокки торопливо потащил Зирех к воротам. Она обернулась у выхода и сделала тремя пальцами оскорбительный жест, ругнувшись сквозь зубы:
– Холера на твою голову, святоша несчастная, даже ночью не снимающая чадру! Холера на твою голову, старая ведьма, завидующая молодым женщинам, которых еще можно любить.
От резкого холодного ветра у Зирех зуб на зуб не попадал. Мокки распахнул свой чапан, накрыл ее полой и привлек к себе. Его рубашка была такой же рваной, как и платье Зирех. Через дыры в одежде их тела соприкасались. Они пошли куда глаза глядят, то и дело спотыкаясь. Только звезды освещали их путь. Ручей, огибавший караван-сарай, не стал для них помехой. Мокки взял Зирех на руки и, легко перепрыгнув его, оказался на другом берегу. И продолжал нести ее на руках, сквозь густой кустарник. Их царапали колючие ветки, но они этого не замечали. Скоро колючки кончились, и Мокки почувствовал под ногами траву. Полянка оказалась крошечной, длинной и шириной в человеческое тело. Зирех обвила руками его шею, ногами – его талию и сильным толчком повалила его на мох, мокрый и холодный.
Нежный мир спустился на них, а потом они неясно почувствовали, что в их отношениях что-то переменилось. К взаимной симпатии и сказочному наслаждению прибавились еще доверие, уверенность, плотская дружба. Их счастье было безоблачно.
Холод вывел их из состояния блаженства. Они пытались ему сопротивляться. Тепло их тел, сплетавшихся в экстазе, было так велико, что оно согревало их долго. Зирех нежно гладила грудь Мокки, натыкаясь пальцами на дыры в его рубашке. Сейчас желания ее были утолены, и впервые в жизни она познала чувство, объектом которого была не она сама. Дотрагиваясь сквозь рваную одежду до этой кожи, она прикасалась к царящей в мире несправедливости.
«Почему, – размышляла Зирех с такой болью в душе, что голова у нее начинала кружиться, – почему люди сделали так, что лучший из них ничего не имеет, кроме этих лохмотьев, тогда как другие…»
Зирех вдруг сказала очень спокойно:
– Эта лошадь должна принадлежать тебе.
Мокки больше думал о легких движениях ее пальцев, чем о произносимых ею словах, и потому мирным голосом ответил:
– Джехол станет моим только в случае, если Уроз умрет.
– Почему это? – спросила Зирех.
– По завещанию, – сообщил Мокки.
– По какому завещанию? – удивилась она. – Расскажи-ка мне. Я должна все знать.
Мокки рассказал, где и как Уроз продиктовал свою волю. Пока он рассказывал, Зирех, чтобы лучше слышать, отстранилась от него. Когда рассказ окончился, оба они почувствовали, что холод буквально обжигает их отделившиеся друг от друга тела.
И они одновременно встали. Зирех стояла на своем:
– Мертвый он или живой – это не имеет значения. Мы найдем способ увести лошадь.
– Без завещания меня отдадут под суд, – не согласился с ней саис.
– А почему тебя вдруг станут арестовывать? – повернулась она к нему.
– Этого коня, достойного Пророка, знают все, – воскликнул Мокки.
– Все? Где это его знают все? – спросила Зирех.
– Да везде. И в Меймене, и в Мазари-Шарифе…
Она рассмеялась нежным смехом:
– Для тебя вся страна сводится к этим твоим захудалым степям.
Но смех ее вдруг резко оборвался. Зубы ее отбивали дробь от холода. Мокки опять прикрыл ее полой своего чапана.
– Афганская земля очень большая, она широкая и длинная, – продолжала Зирех. – И каждая долина – это все равно, что отдельная страна… Так что, мой большой саис, мы можем до конца своих дней бродить из края в край и жеребца твоего никто не узнает.
– Нет… прошу тебя, без завещания я бы никогда не избавился от страха, – по-прежнему не соглашался саис.
Зирех погладила ему руку, как успокаивают испуганного ребенка.
– И бумагу мы тоже возьмем, – пообещала она.
– А на что мы будем жить? – вполголоса спросил Мокки.
– Ты будешь зарабатывать на скачках, – был готов ответ у Зирех.
– Но ведь бузкаши проводятся только у нас, – попытался возразить Мокки.
Зирех опять засмеялась и провела ладонью между тканью и согревающим ее плечом.
– Опять ты про свои степи, – ласково сказала она. – Кроме бузкаши существуют и другие скачки. А на этом скакуне такой всадник, как ты, всегда будет победителем…
Она помолчала мгновение и закончила так:
– Там, перед чайханой, ты был прекрасен, как принц…
Вспомнив об этом, она снова обмякла от желания, но сумела удержаться. Потом, потом… когда они будут одни, когда смогут распоряжаться собой… когда станут хозяевами коня.
– Вернемся, – предложила она.
Мокки обнял Зирех, и пока они шли из кустов, пока он переносил ее через ручей и пока шли к караван-сараю, она шептала ему:
– С таким конем, чтобы не вызывать подозрения, нам нужна хорошая одежда. Ты сильный. Я ловкая. Мы сможем зарабатывать каким-нибудь ремеслом. И будем откладывать каждый афгани. На одежду мы быстро заработаем. И тогда…
Тут Зирех так сильно прижалась лбом к его мускулистой груди, словно ей захотелось проделать в ней для своей головы нишу.
– И тогда, тогда, слушай, саис, – продолжала она, и в голосе ее послышалась интонация, с какой признаются в давней и страстной мечте. – Слушай меня. Если отсюда идти туда, где заходит солнце, то через много дней дойдешь до Хазареджата. Это горный край, и на его плоскогорьях царит свобода. Там нет таких дорог, по которым можно ездить на колесах. Посередине там есть луга неописуемой красоты. Я никогда их не видела, но знаю о них, знаю.
Тут в темноте появились неясные очертания караван-сарая.
– Постой, давай постоим, дай мне договорить, – остановила Зирех его.
Мокки еще крепче прижал ее к себе и подставил ухо к горячим губам молодой женщины.
– В тех местах полгода никто не живет, – грезила она вслух. – Все бывает покрыто снегом… Но весной появляется трава, свежая, густая и такая зеленая, что глаз радуется. Распускаются цветы. Они покрывают склоны гор до самой середины лета. И тут приходят, один за другим, караваны пуштунов, как тот, который мы видели сегодня, только этот возвращался к себе, сейчас осень… Так большие кочевники перегоняют свои бесчисленные стада в Хазареджат, чтобы там их пасти. И когда они все там собираются, слушай, слушай, мой большой саис, то проводится большая-большая ярмарка. Все эти такие гордые, такие богатые племена в праздничных одеждах… Их там пятьсот… сто тысяч людей… везде расставлены шатры с роскошными коврами и драгоценным оружием. Музыканты и танцоры, радости хватает на всех. И мы тоже будем вместе с ними. Не будем бояться, будем хорошо жить. На нас будут новые одежды, и мы с тобой будем сидеть на самом прекрасном в мире коне, я позади самого большого, самого сильного, самого ловкого всадника, и все будут нам завидовать…
Приглушенный, страстный голос Зирех вибрировал где-то у самой груди Мокки, еле прикрытой дырявыми лохмотьями. Ему казалось, что этот голос исходит из его собственной груди. И так ему захотелось скорее подарить Зирех этот чудный город из шатров, что он резко опустил ее на землю, склонился к ней, приблизил губы к ее уху:
– Ладно, пошли забирать Джехола.
Зирех сжала лицо саиса обеими ладонями и долгим поцелуем выпила все его дыхание до полного изнеможения.
* * *
Во дворе караван-сарая фонарь светил хуже, чем раньше, а дымил сильнее. В нем, скорее всего, осталось мало растопленного жира. Мокки и Зирех украдкой взглянули в бывшую амбразуру и вздохнули с облегчением. Там никого не было.
– А что, если, услышав шум копыт, опять появится хозяйка? – забеспокоился Мокки.
– Ты ответишь, что ведешь коня купать в реке по приказу хозяина, – шепотом подсказала ему Зирех.
Они быстро и бесшумно прошли по общему залу и остановились у входа в ячейку, где лежал Уроз. Тот лежал, не шевелясь. Его лицо по-прежнему было похоже на маску смерти.
– Займись конем, – распорядилась Зирех, почти не разжимая губ. – А я займусь завещанием, у меня рука легче.
Мокки отвязал Джехола, заставил его встать. Конь слегка встряхнулся и лизнул саису щеку. Зирех склонилась над Урозом и пальцами, такими легкими, словно в них не было никакой субстанции, пробежала вдоль туловища. Она нащупала бумагу, сложенную пополам, схватила ее кончиками ногтей. Тут маска тихо промолвила:
– Чтобы заполучить бумагу, надо сперва меня убить.
Зирех отдернула руку и, чтобы не закричать, закрыла ею рот. Мокки не упал только лишь потому, что держался за гриву Джехола. Колени его подогнулись.
– Привяжи Джехола обратно и оставайся возле него, – сказал ему Уроз. – Как рассветет, займешься моей ногой. А шлюха пускай убирается. Немедленно.
Зирех убежала. А Уроз, прежде чем поддаться, наконец, желанию заснуть, ощутил в голове такую ясность и беспощадную решимость, как перед началом великого бузкаши.
V ГРОМ И БИЧ
Солнце приближалось к зениту. С самого рассвета они ехали без помех. Дорога плавно поднималась в гору среди скоплений тополей, небольших полей пшеницы и бобов, а иногда и виноградников. Вода была в изобилии. Ручьи, ручейки, потоки, маленькие речки держали землю в своих сотканных из серебряных нитей сетях. Даже на каменистой почве весело зеленела густая трава. Все чаще встречались селения, больше стало попадаться людей. Прохожие были спокойны и любезны. Они приветствовали путников жестом, здоровались. Некоторые останавливались, дабы призвать милость Аллаха на гордого всадника и его верного слугу.
Их похвалы досаждали Мокки. Покидая караван-сарай, он отмыл лицо Уроза от пыли, промыл и перевязал рану, наложил шины на место перелома, и при этом раненый, несмотря на боль, не издал ни звука. И Мокки вскричал в своем сердце: «Прости… Прости меня, сын Турсуна! Дьявол вселился в меня, и я захотел обокрасть тебя и оставить одного, беззащитного». А теперь он все время повторял: «Я подумал, что он неизлечим, обречен, потому что пожелал его коня. Я был убийцей… Клянусь Аллахом, никогда, никогда больше, даже в мыслях, я не причиню вреда человеку, который дал мне Зирех».
Мокки часто поглядывал через плечо на свою спутницу. Она шла позади с низко опущенной головой. И лоб ее, под подобием платка, покрывающим волосы, казался еще более выпуклым и упрямым…
Так прошел день.
К вечеру путники подошли к ущелью, еще на заре веков промытому в горах рекой Бамиан, и остановились: они не знали, как назвать их ощущения.
Внезапно мир заполыхал огнем. И причина пожара была не столько в лучах заходящего солнца, наполнившего собой анфиладу гигантского ущелья, сколько в цвете самой горной породы. Снизу и доверху, куда ни глянь, вертикальные склоны, между которыми шумела и пенилась река, были красными. Колоннады, фронтоны, портики, выпуклости и углубления – все было красным. Каждый гребень, каждая складка сверкала ярко-красным, алым и пурпурным огнем. Там, где стены были гладкими, пламя от них отражалось, словно были они гигантскими зеркалами, повисшими над водой в самом сердце пожара. А огромные руины крепости, господствующей над ущельем и опирающейся на красные скалы, были подобны костру, зажженному в незапамятные времена и собирающемуся гореть вечно.
– Аллах! О, Аллах! – встрепенулся Уроз.
– О, Всемогущий! – не меньше его удивился Мокки.
– О, Всемилостивейший, – прошептала Зирех.
Как ни разделены были они между собой, в эту минуту они оказались во власти одного и того же, причем очень странного чувства. Это был страх, но такой, который не подавлял, не замораживал кровь в жилах. От ужаса захватывало дыхание, но сердце не замирало. Это было похоже на колдовские чары, на головокружение, пугающее и вместе с тем вызывающее желание, чтобы оно продолжалось без конца.
– Аллах! О, Аллах! – повторил Уроз.
А Мокки:
– О, Всемогущий!
И Зирех:
– О, Всемилостивейший!
Говорили они опять все вместе, ибо и чопендоз, и саис, и кочевница были вылеплены из одной и той же глины, и для защиты от этого мира им нужен был тот, кто эту глину замесил.
Уроз был не в состоянии выдержать это больше одного мгновения. Он направил коня по дороге, протоптанной бесчисленными ногами и копытами, между пенящейся водой и огненного цвета горой.
Постоянно поднимаясь, они шли вдоль бурного потока с водопадами, завихрениями и порогами. Сверкающая река оглушала их своим победоносным гимном. А великолепный пожар все продолжался. Наконец подъем стал менее крутым, река чуть спокойнее. Стены из пылающих скал расширились. И вдруг они увидели долину Бамиана.
Путники вновь остановились. На этот раз удивление смешивалось с восхищением. Перед ними простирался огромный оазис, редкое явление, на высоте почти в десять тысяч футов. Он весь сверкал ртутью водных протоков посреди изумрудной зелени рощ, садов, огородов, между которыми виднелись многочисленные дома. Слева от оазиса вдаль уходила могучая сливающаяся с небом цепь гор. А справа, вдоль дороги, по-прежнему возвышалась стена краснеющих скал.
Мимо проходили стада, медленно двигались направлявшиеся на ночлег караваны верблюдов. Из крыш спрятанных в зелени домов поднимались дымки. Их становилось все больше. Путники поняли, что перед ними был Бамиан. И сразу почувствовали, как они устали от изнурительного перехода. Захотелось найти укрытие. Но, пройдя еще немного, они снова остановились.
В стене головокружительной высоты, гладкой и окрашенной в кровавый цвет, у подножия которой они стояли, они увидели огромное углубление, явно сделанное человеческими руками. Углубление имело форму куба, над которым находилась выемка в виде купола. В глубине, у стены, стояло существо колоссальных размеров. Высота его была раза в три больше сторожевых вышек, поставленных друг на друга. Тело заполняло все помещение. А голова занимала весь объем купола. Овал головы был кругл и мягок, но лица не было. Оно исчезло, словно было отрублено. Однако в полутьме углубления сохранившийся лоб изваяния казался живым, даже способным думать.
Благодаря передаваемым испокон веков из уст в уста рассказов путников, караванщиков, сказителей, Уроз, Мокки и даже Зирех знали, что в Бамиане существуют огромные памятники, воздвигнутые в честь древнего бога по имени Будда. Но после всех доставшихся на их долю испытаний, после всей накопившейся в них усталости каменный гигант их просто испугал. По сравнению с ним всадник выглядел букашкой.
– Аллах, только Аллах – истинный бог, – воскликнул Уроз.
– Воистину! Воистину! – сказали вместе Мокки и Зирех.
Через несколько минут за высокими тополями они увидели кишлак.
Вдоль дороги вытянулись дома с плоскими крышами, оштукатуренные и побеленные известкой. В них помещались мастерские ремесленников и мелкие лавочки. В самом большом доме располагался постоялый двор. В нем было просторнее и более удобно, чем в обычных чайханах.
Урозу предоставили отдельную комнату, а Джехолу – место в конюшне.
– Пусть смотрят за моим конем, как за принцем, – наказал Уроз хозяину.
Он сразу же заснул глубоким сном. Такая возможность спокойно поспать была слишком драгоценна, чтобы терять минуты. Другая такая возможность могла возникнуть очень нескоро.
Саис нашел Зирех прислонившейся к стене харчевни. На белом фоне стены, там, где кончалась терраса, она смотрелась, как маленькое коричневое пятнышко. Мокки сел рядом, не прикасаясь к ней. Медленно проплыли силуэты прохожих. В соседнем доме громко играл граммофон с трубой, слышалась монотонная и чувствительная песня, прерываемая потрескиванием старой пластинки.
– Я видела конюшню, – прошептала Зирех. – Огромный бача лежит там рядом с конем… Этой ночью не будем пытаться.
– И в следующую тоже, и потом, и потом тоже, никогда больше не будем, – более чем охотно согласился Мокки.
– Ты так перепугался… – проговорила тихо Зирех, – потому, что… вчера нам не удалось?
В полутьме она увидела, как Мокки отчаянно мотает головой.
– Украденный конь принесет мне несчастье, – настаивал он.
Зирех просунула ладонь в рукав чапана Мокки, погладила его руку, тихо засмеялась и сказала:
– Я знаю все заговоры против несчастья.
– Нет, нет, клянусь Пророком! – воскликнул Мокки.
И умолк, испугавшись собственного крика.
– Успокойся, прошу тебя, большой саис, – изменила тактику Зирех. – Чего ты волнуешься? Ты же ведь знаешь, кто из нас двоих решает и повелевает. Не я же, в конце концов. Я всего лишь женщина.
И Мокки поверил, поверил и успокоился. И никогда любовь его не была так сильна и так смиренна.
Зирех пошла спать в отделение для прислуги, а саис — на солому в конюшне. Между ним и Джехолом лежал здоровенный парень. И Мокки был рад этому.
Лунный свет лился на скалы с Буддами. В глубине гигантских ниш из тени едва-едва выступали неясные контуры колоссальных статуй. А в соседнем доме граммофон все крутил и крутил одну и ту же заезженную пластинку.
* * *
Мокки встал на рассвете. Бодрящий воздух нагорья был свеж и чист. Саис умылся в арыке, одном из тех, что несут воду на поля из горной реки. И вода тоже была холодной и чистой и так же бодрила. В этот момент гребень красных скал озарился первыми лучами солнца. И Мокки с чистой совестью совершил молитву. Беспредельны были милость Аллаха и благолепие мира сего.
Ему захотелось чаю с лепешками, и он побежал на кухню.
Мокки полагал, что в столь ранний час увидит там какого-нибудь одинокого слугу, зевающего и потягивающегося возле только что зажженного очага. Как же велико было его удивление, когда он застал в полном сборе всех работников постоялого двора. Все мужчины и женщины были заняты своим делом. Одни засыпали горящие угли в большие медные самовары. Другие месили и раскатывали тесто. Кто-то расставлял посуду на подносы. Кто-то варил горы риса, пек лепешки, резал дыни и арбузы, разливал кислое молоко по пиалам, наполнял корзины миндалем и виноградом, разбивал и взбивал яйца, ощипывал птицу, нарезал мясо и сало, нанизывая затем куски их на шампуры.
– Сегодня базарный день, – крикнул бача на ухо Мокки. – Два раза в неделю такой бывает.
– И в самом деле, и в самом деле, – кивнул Мокки.
Гвалт голосов, смех, распоряжения, брань, позвякивание чашек, стук горшков и котелков, шипение жаркого, шум закипающей воды, запах пряностей и пригорелого мяса – все это оглушило и ошарашило Мокки. Он увидел Зирех, вместе с другими женщинами готовившую пищу. Ловкие, легкие руки ее работали, а глаза жадно смотрели то на мясо, то на молоко, то на рис, то на горы сладостей. Никогда в своей жизни не видела она так много вкусной пищи сразу. Мокки не решился позвать ее. Получив чайник, он тут же ушел на террасу.
И там тоже Мокки оказался не первым. Торговцы уже раскладывали там свой товар на ткани, в которые он был завернут: старые ручные часы, огромные замки и ключи к ним, глиняные детские игрушки из Исталифа, окрашенные в желтый, коричневый или синий цвет, изображающие львов, коз, петухов, всадников, сидящих на конях или на верблюдах. Был там и слепой музыкант, настраивавший свой струнный инструмент. А поводырь его, мальчик лет десяти, спал, положив голову на бубен.
По старой дороге, вдоль которой и выросли дома Бамиана, пастухи гнали на продажу овец, коз, ослов и мулов с тем, чтобы потом на обочине этой же дороги ими и торговать. Ремесленники везли на верблюдах ковры и ткани. Прошла семья цыган. Глава ее вел на цепи гималайского медведя. У женщины на плечах сидели обезьянки, привезенные из Индии. Мокки не переставал удивляться при виде стольких людей, идущих из больших и малых кишлаков, чтобы продавать скотину, продукты или свое умение развлекать народ.
Чем выше поднималось солнце, тем больше становилось на улице торгового люда. Оазис пустел, базар разрастался. По обе стороны дороги расставлялись лотки и прилавки, высились горы дынь, арбузов и фруктов, выстраивались ряды скота, подобранного так, что в одном месте была только одна масть, в другом – другая. Улицы уже не хватало, и рынок подступал к пещерам, высеченным в красных скалах. Сидя на террасе, Мокки видел, как из гротов, из тени, проступают постепенно гигантские фигуры. При виде их его охватывала дрожь. Он спрашивал взглядом соседей, но никто не обращал внимания на страшные статуи. Боги прошлого стали частью их жизни.
Вдоль террасы прошел бача. Он кричал: «Саис самого прекрасного в конюшне коня! Саис раненого всадника! Тебя зовет хозяин…»
Во дворе Мокки встретил Зирех. В глазах у той горел жесткий, как у сороки-воровки, огонек.
– Ты видел, видел, – прошептала она, – видел, какой базар? Я только на минутку выскочила. О, Аллах, какие ткани, какие гребни, какие пояса, какие ожерелья!
И повторила:
– О, Аллах всемогущий!
Желание купить побольше тканей и драгоценностей отразилось на ее лице в виде страдальческой гримасы. Саис, никогда в жизни не задумывавшийся о деньгах, тут почувствовал себя виноватым в том, что он такой бедный. О, как хотелось ему подарить любимой все богатства со всех прилавков! Не глядя на Зирех, он произнес:
– Я должен идти.
В комнате Уроза зловоние было удушающим. Тот лежал с лихорадочным блеском в глазах и румянцем на скулах.
– Уходим, – распорядился он.
– Как? Прямо сейчас? – воскликнул Мокки.
– Немедленно, – подтвердил Уроз.
– А покупки? Ты же знаешь, что все наше добро осталось в горах, – вскричал Мокки.
– Купим все, что нужно, по дороге, – нахмурился Уроз. – Иди, приготовь Джехола.
– Но сегодня же здесь базар, – жалобно проговорил саис.
– Какой еще такой базар? – удивился Уроз.
– Огромный, правда-правда, просто чудесный базар, – закивал головой Мокки. – Музыканты, рассказчики, джат…
Уроз нетерпеливо пожал плечами. Потом отрывисто спросил:
– А бои животных будут?
– Конечно, конечно, обязательно будут, – закричал Мокки. – Я даже видел, как вели двух бойцовых баранов: просто потрясающие! Одного зовут Гром, а другого Бич.
– Гром и Бич, – повторил Уроз. Затем приказал:
– Приди за мной к началу первого боя.
* * *
На севере над дорогой, вдоль которой выстроились в то утро лотки, возвышалась скала Будд. С другой стороны легкий склон вел к реке. Неподалеку от нее, на ровной площадке, была устроена примитивная арена для боя. Полукругом были забиты колышки, которые соединили между собой колючими ветками и таким образом обозначили границу арены. На берегу росла короткая, нежная трава. Прямая изгородь закрывала дальнюю часть арены, а в ней была калитка. За ней виднелось несколько заброшенных мазанок, а живые изгороди из ив, тополей и высоких камышей вокруг них скрывали русло реки, откуда доносилось приятное журчание. Зато со стороны дороги подходы и вид были открыты, а небольшой наклон берега создавал подобие трибун для зрителей. Кроме того, вдоль ограждения были разложены ковры и подушки для тех, кто выделялся по званию или по богатству.
Когда Уроз подъехал на Джехоле, которого вел под уздцы Мокки, они увидели плотную толпу возбужденных людей. Но ему не пришлось просить пропустить его вперед. Народ расступился, движимый естественным благородным желанием оказать гостеприимство приехавшему издалека человеку. К тому же раненому, которого следует защищать. И уж, конечно, хозяин такого великолепного коня и такого могучего саиса мог сидеть не иначе как в первом ряду.
Мокки выбрал такое место, чтобы солнце светило сзади, спустил Уроза с седла, усадил на гору подушек и стреножил Джехола, позаботившись, чтобы тот находился как можно ближе к ним.
Как и подобает, Уроз поблагодарил двух мужчин, любезно подвинувшихся, чтобы предоставить ему побольше места. Судя по всему, это были люди знатные.
Тот, что сидел слева, был явно очень богатым человеком, о чем свидетельствовала и тонкая ткань его одежды, и мягкая кожа его сапог с острыми мысками, и полные цветущие его щеки, и ухоженная седеющая, подстриженная веером борода. Однако богатство, похоже, не сделало его ни горделивым, ни капризным. Своим добродушием и простотой в обращении он напомнил Урозу Осман-бая из Меймене, славного владельца благородных скакунов.
Другой сосед Уроза был в грязной одежде, лицо имел желчное, в оспинах, с невыразительными глазами и острым подбородком, на котором в беспорядке торчали пучки редких седых волос. Но чопендоз обратился именно к нему первому со словами благодарности. Ибо его зеленый тюрбан, свидетельствовавший о совершенном им паломничестве в Мекку, ставил его выше даже самых богатых и самых могущественных людей.
– О, святой человек, – сказал ему Уроз, – обещаю тебе, что пронесу до самого дома, до моей далекой провинции хвалу паломнику из Бамиана, великодушно уступившему место проезжему всаднику.
– Если только гниющая твоя нога позволит тебе дожить до этого дня, – съязвил человек в зеленой чалме скрипучим голосом. – Посмотри.
Он поднял палец к небу. Уроз посмотрел наверх. Низко над ним кружил огромный черный ворон. Худшего предзнаменования невозможно было и придумать. В этот момент над Урозом склонилась голова саиса, загородившего ему поле зрения.
– Джехол в хорошем месте и тут, рядом, – сообщил он.
На сердце у Уроза отлегло. Мокки загородил его от беды.
– Тебе сейчас ничего не нужно? – спросил саис.
– Ты сделал как раз то, что было надо, – посмотрел на него Уроз.
Потом повернулся к соседу слева и спросил:
– Не скажешь ли ты свое имя Урозу, сыну Турсуна, чтобы он мог оказать тебе подобающую честь?
– Меня зовут Амджяд Хан, – ответил толстяк с любезностью и достоинством.
– Запомню на всю жизнь, – продолжал Уроз. – И если я обращаюсь к тебе, о Амджяд Хан, столь поздно, то, клянусь Аллахом, это вовсе не от неблагодарности или от грубости. Как ты видел, мне не позволил это сделать святой человек… по своей доброте.
При этих словах, от беззвучного смеха в Амджяд Хане все пришло в движение: блестящие и такие сладостные глаза, что они казались помазанными маслом, пухлые губы, толстые щеки, прикрывающий его живот шелк, и даже четки из лазурита в его жирных, гладких пальцах.
– Не придавай большого значения, сын Турсуна, словам Хаджи Замана, – тихо посоветовал он ему. – Что ему в голову придет, то его уста сразу же и сообщают.
– Уста Истины, – взвизгнул Хаджи.
– Истины, Истины святого Али, – закричал другой, очень странный голос.
Глубокий, хриплый, надтреснутый, словно карканье вороны, он принадлежал человеку в лохмотьях, усевшемуся рядом с Мокки, прямо за тем, кто был в зеленой чалме. Он был такого же роста, как и саис, но выглядел намного выше из-за своей неестественной худобы. Сквозь дыры в одежде можно было пересчитать у него ребра. Лицо его украшал большой крючковатый нос.
– Али, Али, – прокаркал странный голос.
Уроз подумал, что речь идет о зяте Пророка, праведнике-калифе, которого в северных провинциях почитают наравне с самим Мухаммедом. Он вспомнил о мечети в его честь, сверкающей лазурными куполами в Мазари-Шарифе, столице степей. И ему тут же показалось, что он воочию видит чудесные стаи голубей, тысячами садящихся на его могилу.
Тут он резко откинулся спиной на поддерживающие его подушки. Его ослепили взмахи больших черных крыльев…
Ворон с карканьем уселся на голову человека, чей голос так напоминал его собственный. Оперение птицы было трудно отличить от иссиня-черных, ниспадающих до плеч волос человека. На этом фоне ярко выделялись яркого совершенно кровавого цвета клюв и когти ворона.
– Не удивляйся, – тихо объяснил Амджяд Хан Урозу. – Хозяин птицы, Хозад, покрывает ему клюв и когти красным лаком, чтобы украсить Али.
– Так Али… это, значит, имя ворона? – спросил Уроз.
– Что поделаешь! – со вздохом признал Амджяд Хан. – Хозад уверен, что его черную птицу посещает дух великого калифа.
Затем, понизив голос, добавил:
– Посмотри, как он худ, какие у него глаза…
– Вижу: ни дня не может прожить без гашиша, – сообразил Уроз.
– В Священном Писании нет ни единого слова, запрещающего правоверным пользоваться травами, если им этого хочется, – взвизгнул Хаджи Заман.
Ему ответили надтреснутый смех и долгое карканье. Уроз вздрогнул. Он не мог отличить голос смеявшегося от карканья. Ворона от хозяина.
Тут вдруг вокруг него все пришло в движение. Все встали и стали кого-то приветствовать. Амджяд Хан тоже встал. Остались сидеть только Уроз из-за своей раны и Хаджи Заман, как обладатель зеленой чалмы.
Сквозь толпу шел молодой человек в европейской одежде, с шапочкой из каракуля на голове. Лицо его было худым, губы – суровыми. Его сопровождал полицейский офицер в униформе.
– Наконец-то соблаговолил явиться глава района, – счел нужным возмутиться Хаджи Заман. И этот чинуша заставляет ждать паломника из Мекки! И даже сейчас не спешит. Прохлаждается, видите ли…
– А зачем спешить, о святой человек? – спросил его Уроз.
– Затем, что я пришел сюда, чтобы играть, – крикнул Хаджи Заман.
Бесстрастные до этого черты его лица приняли напряженное выражение. В его блеклых глазах запрыгали искорки. И поскольку в Хаджи Замана вселились демоны риска, у Уроза появилось ощущение гораздо большей своей близости именно к этому неприятному человек, чем к благодушному Амджяд Хану, спокойно перебиравшему свои четки.
Глава района уселся рядом с Амджяд Ханом. Полицейский подал сигнал свистком. Открылись дверцы домишек, стоявших по краям арены. В каждом из проемов появилось по барану.
* * *
Глава района наклонился к Амджяд Хану:
– Они правильно подобраны, и оба очень хороши.
Уроз согласился с ним.
Бараны были одного роста, высокие, но не слишком, оба были каракулевой породы, с густой шестью пепельно-серого цвета, только у одного – в коричневую полоску, а у другого – с голубоватыми пятнами. Лбы их украшали веретенообразные рога, закрученные, как змеи.
Хаджи Заман откинул голову назад и выразил свое недовольство Хазаду, гладившему своего ворона:
– Избалованы и ленивы.
Уроз не стал ему возражать.
Ни один из баранов, вышедших на арену, не старался утвердиться в своем превосходстве, толкаясь или пытаясь пройти первым. Они мирно шествовали друг за другом. Первым один из них вышел просто потому, что выводивший его пастух сильнее, чем другой, потянул за рог.
В толпе, состоявшей в основном из покупателей, покинувших ради зрелища рынок, раздались добродушные крики:
– Эй, Гамаль, да ты торопишься больше твоего барана.
– Ахмад, а ты смотри, как бы твой кудрявый не заснул у тебя на коленях.
– Эти бараны, наверное, думают, что они попали в овчарню, а не на арену.
Бараны… Бараны… Разве можно так вот сразу понять, кто из них настоящий боец?
Гамаль и Ахмад, еще совсем молодые люди в чистых куртках и брюках, в тщательно закрученных чалмах, только краснели от смущения. И каждый из них стал, насколько им позволял их голос, расхваливать своих питомцев.
– Он самый умный, самый сильный…
– А мой – настоящий султан в своем стаде.
– Непобедимый борец…
– Давай, ставь на моего барана, и станешь богачом.
– А мой приносит мне столько афгани, сколько кудрей на его спине.
Все эти слова были не более чем ярмарочной похвальбой. Все это знали, в том числе и сами пастухи. Они своими криками сами себя разогревали. И в конце концов стали верить в то, что говорят. Лица, руки, тело, складки одежды – все в них выражало полнейшую убежденность. Она передавалась и зрителям, которые испытывали сильнейшую потребность быть обманутыми.
– В бой! В бой! – кричали они.
Кое-кто начал заключать пари.
Уроз с удивлением обнаружил, что его рука мнет пачку денег в поясе. Сколько там афгани? Уроз не знал. Он не любил считать. Полный карман или пустой – таковы были его единственные ориентиры. Во всяком случае, поскрипывающая пачка была довольно толстой. Когда Уроз отправлялся в Кабул, Осман-бей и Турсун проявили щедрость. В столице, до начала великого бузкаши, у него не было ни времени, ни желания тратить деньги. А после…
– На которого из них ты поставишь? – спросил Уроз у соседа слева.
– Ни на кого, – взглянул Амджяд Хан на него с извиняющейся улыбкой. Они оба принадлежат мне, я отдал их на развлечение добрых людей. Так что если я стану делать ставки, то они подумают, будто я извлекаю доход от знания особенностей этих баранов и от моего влияния на пастухов.
Тут послышался желчный голос Хаджи Замана.
– А не думаешь ли ты, чужестранец и гость наш, что афгани благочестивого человека стоят столько же, сколько деньги самого, что ни на есть, богатого хана?
Уроз взглянул на лицо под зеленой чалмой. Кроме скупости, которую он уже успел в нем распознать, там появилось еще и выражение вызывающего высокомерия. «Он хочет и унизить меня, и прибрать мои денежки», – подумал Уроз. Щеки его зарделись. Он почувствовал, что им овладевает азарт, азарт странный, абсолютный, тем более сильный оттого, что для него было всегда важно не столько выиграть деньги, сколько выстоять в схватке с человеком, испытать свою судьбу.
Уроз вытащил из пояса и опустил в углубление между своим торсом, прислоненным к подушкам, и ногам, бесформенный комок бумажек. Хаджи Заман в свою очередь благочестиво поднял руки к чалме и извлек из нее длинный портмоне из шелка-сырца. Он с нежной заботливостью зажал его коленями и вынул оттуда пачку банкнот по сто афгани, таких новеньких и гладеньких, будто по ним только что прошелся тяжелый утюг. Смочив языком пальцы, он отсчитал одну за другой пять бумажек и разложил их на почетном коврике, общем у него с Урозом. Затем спросил:
– Такая ставка тебе подходит?
Уроз швырнул рядом с деньгами Хаджи бумажки, скомканные как мусор.
Развернув и посчитав их, Хаджи Заман обнаружил, что несколько мелких бумажек оказались лишними, и вернул их Урозу. Тот, не оглядываясь, передал их назад Мокки со словами:
– Тебе на развлечения!
Между тем пастухи закончили словесную перепалку. Гамаль отвел своего барана на правую сторону арены, Ахмад – на левую.
– Кому выбирать баранов? – спросил Уроз.
– Гостю, гостю, – ответил Хаджи Заман, склонив тюрбан.
– Благодарю тебя, – сказал Уроз.
Он мог бы обойтись и без этой любезности соседа, поскольку ничего не знал об этих баранах. Он показал на того, которого держал Гамаль только потому, что тот был на правой, то есть на праведной, стороне от него.
Глава района поднял руку. Ахмад и Гамаль руками подтолкнули сзади своих питомцев на середину арены.
Бараны медленно начали двигаться навстречу друг другу. Строго по прямой. Можно было подумать, что у каждого в его опущенной голове был магнит, притягивающий его к противнику. Те, кто мог, так же как и Уроз, видеть морды животных сбоку, заметили, как в их глазах, упрятанных в завитки шерсти, появился и начал разгораться огонек тупой ненависти.
«Бесхитростные животные… игра без удовольствия», – подумал Уроз.
Он откинулся на подушку. Ставка не могла ни разорить его, ни обогатить. Единственное удовольствие, которое ему осталось, это угадать заранее и как можно точнее перипетии боя.
«Сперва вызов», – подумал Уроз.
В то же самое мгновение бараны остановились, подняли головы и уставились друг на друга взглядами, пылающими самой примитивной злобой.
«Теперь нападение», – сказал про себя Уроз.
Не успел он это подумать, как бараны накинулись друг на друга.
Какая-то внутренняя, удивительно мощная пружина вдруг оторвала от земли этих животных, медлительных и тяжелых, утолщенных и утяжеленных огромной своей шубой. Направление разгона было абсолютно прямым, как у летящей пули. Опущенные головы не отклонились ни на градус. Удар пришелся лоб в лоб.
Воздух зазвенел. По своей звучности и силе удар напоминал звон медных тарелок. Толпа ответила хриплым, раскатистым гулом, который поднялся по рядам, перекатился через дорогу, донесся до красных скал, проник в гигантские гроты. И те, словно огромные раковины, тоже зазвучали у ног Будд.
Удар был так силен, что должен был, казалось, пробить лбы баранам, но он лишь на мгновение их оглушил. Помотав головой, они слегка отступили для нового разбега и бросились в еще более яростную атаку.
– Бам! Бам!
– У! У!
Толпа кричала, выдыхала, ахала, а лбы все бились и бились, все сильнее и звонче.
Урозу это единоборство было безразлично. Эта тупая ярость не имела ничего общего со смелостью, смекалкой, воображением. Колотильщики, и ничего больше. Они будут стукаться так головами, пока один из них не свалится и не сдохнет. Не имеет значения который.
Еще одна атака, и еще, и еще. Трест стукающихся друг о друга рогов не прекращался.
«Они чем глупее, тем выносливее…» – подумал Уроз. Он был бы рад, если бы баран, на которого он поставил, проиграл, чтобы тут же вышла другая паpa. Он начал следить взглядом за линией тополей, которая, поднимаясь, уступами шла из конца в конец долины, повторяя изгибы реки Бамиан. Дальше идти предстояло вдоль нее, вверх по течению.
Тут его внимание вновь привлекла арена. В регулярном постукивании лбов стали возникать перебои. Уроз понял почему. Один из баранов начал уклоняться от атак. «Он что, наименее глупый из них?» – подумал Уроз. Ему стало интересно: это делал баран, на которого он поставил. Другой же потерял равновесие из-за атаки впустую, покачнулся и упал на колени. Глаза Уроза блеснули, и он подумал: «Сейчас мой воспользуется падением его противника, нападет сбоку, повалит…» И окружавшие кричали то же самое. Ахмад, пастух барана, оставшегося на ногах, поощрял его голосом и жестами. Но животное не шевелилось. Зрачки его были направлены на первый ряд зрителей и переходили с одного на другого. Когда взгляд его встретился с взглядом Уроза, тот не обнаружил в них ни капли той грубой, смертельной ярости, какой они только что пылали. В этих глазах видно было лишь отупление. А тем временем его противник успел встать. Он пошел в атаку с удвоенной от падения ненавистью. И тут ошалелый, отупевший и ошеломленный баран Ахмада бежал. Шумная брань, шутки, насмешки и проклятия неслись ему вслед. Стиснув зубы, Уроз слышал в этом реве только голос соседа в зеленой чалме. Он кричал громче всех, язвительнее всех, и Урозу казалось, что все эти оскорбления и насмешки адресовались, через барана, ему.
– Хорошее у тебя хозяйство! Делает честь тебе, – кричал он соседу слева.
Алые губы Амджяд Хана не сразу выпустили трубку наргиле. Он медленно дал выйти дыму изо рта и, пока тот таял в воздухе, тихо объяснил мягким голосом:
– Знай, о всадник степей, я не специализируюсь в выращивании бойцовых пород, доводящих бой до смертельного исхода. Я просто даю их, чтобы народ немного поразвлекался. И когда это бывает угодно Пророку, у меня это получается. Вон, погляди!
Внезапно насмешки и оскорбления утихли. Толпа принялась безумно хохотать. Люди держались за животы, вытирали слезы от смеха. Кто-то начинал хлопать по спине соседа, даже если это был незнакомый человек.
Перепуганный баран на арене убегал. Бежал наугад, совершая беспорядочные движения, невпопад прыгая, неловко подскакивая, пускаясь в грузный галоп. Шерсть его волочилась по траве. Жирный курдюк раскачивался вправо и влево, как плохо привязанный мешок. Другой баран бросился за ним в погоню. Несколько раз он почти настигал свою жертву. Но жертва от страха кидалась в сторону, ускоряла бег. Так они бегали по арене круг за кругом, наконец, преследуемый баран заметил давно уже открытую дверцу, мимо которой он несколько раз пробегал, не замечая ее. И устремился к ней.
* * *
Амджяд Хан вновь взялся за наргиле. Прежде чем поднести трубку ко рту, он наклонился с улыбкой к Урозу:
– Ярость гонялась за страхом. Но у того ноги оказались резвее. Спектакль стоил несколько афгани, не так ли?
Прежде чем Уроз успел ответить, чья-то напряженная рука легла ему на ляжку.
– Кажется, я могу располагать ставкой, – полувопросительно, полуутвердительно посмотрел на него Хаджи Заман.
Уроз щелчком отправил святому человеку банкноты, которые тот так старательно перед этим раскладывал, и воскликнул:
– Ну что это за ставка! Подачка какой-нибудь старухи и то, наверное, принесет тебе больше.
И в сердцах бросил на траву все оставшиеся у него деньги.
– Что… что это? – спросил Хаджи Заман голосом, в котором не слышалось привычной уверенности.
– Моя следующая ставка, – пояснил Уроз.
Пальцы Хаджи Замана, убиравшего выигрыш, слегка тряслись.
– Тут много, очень много афгани, – определил он сразу.
– Надо ли говорить такому игроку, как ты, о святой человек, что чем больше ставка, тем интереснее игра? – спросил Уроз.
Его тон и его взгляд провоцировали собеседника, оскорбляли его. Ему хотелось продлить свою игру. Но Хаджи Заман не понимал его. Жадность овладела им полностью. Он раскладывал, разглаживал, ласкал помятые бумажки и вполголоса считал их. Его бормотание, монотонное называние чисел напоминало богослужение, молитву.
– Тринадцать тысяч двести шестьдесят четыре, – с глубоким вздохом подвел наконец итог своим подсчетам Хаджи Заман.
Он смотрел на Уроза. В его глазах можно было прочитать и сладострастие, и вожделение одновременно.
– Ты знаешь, сколько ты ставишь? – спросил Хаджи.
– Знаю и хочу поставить, – ответил Уроз.
– А знаешь ли ты, – спросил Хаджи Заман, – что теперь моя очередь выбирать барана?
– Порядок есть порядок, – посмотрел на него Уроз. – Без порядка нет и игры.
Хаджи Заман закрыл лицо руками и стал медленно раскачиваться торсом на скрещенных по-турецки ногах. Потом закричал:
– Хозад! А Хозад!
– Я тут, – прокаркал хозяин ворона.
– Я жду сигнала, – призвал Хаджи Заман того на помощь.
Костлявое лицо приникло к голове птицы, и бледные губы беззвучно зашевелились. Ворон, сойдя с левого плеча Хозада, обогнул его шею и остановился на правом плече.
– Ну, как? – кинул на него вопрошающий взгляд Хаджи Заман.
– Решай сам, о глубокочтимый, – прокаркал Хозад.
Святой человек, раскачивавшийся взад и вперед, дождался, когда туловище откинется назад, повернул голову и сквозь пальцы взглянул на птицу.
– По воле Аллаха, правая сторона будет верным ответом, – нараспев, как пономарь, проговорил он.
Кончив раскачиваться, он опустил руки и предупредил Уроза:
– Ты сам этого захотел, самонадеянный всадник.
Эти слова, произнесенные безразличным голосом, не привлекли внимания соседей Уроза и Хаджи Замана. Там подсчитывали свои убытки и делали новые ставки. Только Мокки, следивший за каждым жестом и каждым словом Уроза, понял, как рисковал хозяин. «Если он опять проиграет, – подумал саис, – у нас не останется ни одного афгани. А надо еще покупать продукты и одежду, чтобы перейти через горы, все более высокие и пустынные!» Мокки видел, как человек в зеленой чалме вытащил из портмоне, один за другим, большие банкноты и сложил их в аккуратненькую стопочку. Все внутренности саиса кричали: «Умоляю тебя, Уроз, останови, останови эти руки! Уменьши свою ставку вдвое или хотя бы на четверть…» Но он ничего не сказал. Он был всего лишь очень молодым слугой. И не имел права мешать Урозу.
В это время послышались голоса, предвещавшие появление новых баранов.
Этих подталкивать было не нужно. Этих приходилось сдерживать. Иначе они выскочили бы и кинулись друг на друга раньше времени. Их вели и за ними присматривали не простые пастухи со скромным заработком, а сами скотоводы, люди солидные и с достоинством. И бараны их не были новичками. Они заранее знали и место, и правила, и нравы, и сразу же сами заняли нужную позицию. У одного была длинная белая шерсть с черными пятнами. Другой был коричневой масти с рыжими подпалинами.
Зрители встретили их громкой похвалой.
– Слава тебе, беспощадный Бич, – кричали первому из них.
– Почет тебе, Гром! Ты всегда побеждаешь и никогда не сдаешься, – приветствовали другого.
По этим крикам Уроз мог оценить достоинства и популярность обоих баранов. На протяжении ряда лет они участвовали во многих боях и все еще были живы. Они победили десятки противников, оглушенных, потерявших сознание или убитых. Но между собой они бились впервые. Так что это был великий день.
Баранам явно нравились похвальные крики, раззадоривавшие их. Они поднимали морды навстречу крикам, которыми их подбадривали. Передними своими копытами они рыли землю.
– Эти бойцы тебе, конечно, нравятся больше, чем мои, – не удержался Амджяд Хан.
Уроз согласился:
– Прошу, забудь и прости мне невежливые мои слова, но признайся, что и тебе эти бараны тоже нравятся больше.
– Из чего же это видно?
– Ты даже забыл о своем наргиле, – подметил Уроз.
Амджяд Хан засмеялся в свою красивую широкую бороду:
– Ты прав, степной всадник. Так уж устроены люди, что самые миролюбивые из них рады зрелищу, где кого-то ожидает смерть. Из этих двух баранов один не уйдет с арены живым. У каждого из них слишком много гордыни и честолюбия.
– В самом деле, – сказал Уроз, – и Гром, и Бич достойны моей ставки.
VI ЕДИНОРОГ
Крики прекратились. Зрители заключали пари. Бараны замерли. Глядя исподлобья, они изучали друг друга.
Рядом стояли их хозяева. Они не подбадривали их ни словом, ни жестом. Только изредка позволяли себе массировать им ноги.
От этого поведение бойцовых животных менялось удивительным образом. Тело их освобождалось от грубого напряжения. Мускулы расслаблялись от доверия, дружбы, участия. Баран сам поднимал одну ногу за другой и, прежде чем положить копыто на ладонь хозяина, тихонько царапал его шершавым рогом. Потом, совсем как нежный ягненок, клал свою рогатую голову на плечо человека и держал ее там на протяжении всего времени, пока умелые пальцы разминали мышцы и сухожилия ног.
Ни напряженный профиль не шевельнулся под высоким тюрбаном, ни губы среди пучков редкой растительности. Прикрыв рукой седую бороденку и до предела сощурив глаза под дрябло нависшими веками, Хаджи Заман рассматривал то одного, то другого барана с таким напряженным, с таким яростным вниманием, что оно превращалось у него буквально в страдание.
Гром или Бич?
Оба были равны по росту, весу, натренированности, количеству побед, и ничто в их облике и поведении не подсказывало, кого следует предпочесть. Надо было искать что-то еще помимо таких внешних признаков, как мощь, скорость, ловкость, надо было найти, угадать какие-то внутренние достоинства, скрытые пружины, которые должны были решить исход боя: смелость, выносливость, бойцовская смекалка, воля к победе.
Хаджи Заман хорошо помнил бои, проведенные каждым из баранов во всей долине. Страстный любитель таких игрищ, он сохранил в памяти все их достижения. Но друг с другом они не встречались. Как угадать? Вот если бы был в прошлом хотя бы один бой! Смешное пожелание… Между бойцами такого ранга, таких кровей, двух боев быть не может.
Гром или Бич?
Бич или Гром?
От этого выбора зависели такие суммы! Несколько раз алчный взгляд Хаджи Замана скользил по деньгам, лежавшим на расстоянии вытянутой руки, словно прося их вдохновить его на правильное решение. Но банкноты не давали совета.
– Я жду, святой человек, – поторопил его Уроз. – Все ставки уже сделаны.
Хаджи Заман закрыл глаза и, не меняя позы, позвал:
– Хозад!
Голова скелета под черными крыльями ворона склонилась к зеленой чалме. Хаджи Заман что-то шепнул ему на ухо. Хозад невнятным шепотом передал сказанное своей птице. Ворон тяжело взлетел и стал летать над ареной. Трижды облетел он ристалище. Взмахи его широких крыльев становились все медленнее, тише. Наконец он пролетел, не шевеля ими, над Громом. Его тень полностью накрыла барана. Казалось, алые клюв и когти источают кровь.
– Ставлю на Бича, – решился наконец Хаджи Заман.
Человек с лицом, похожим на череп, отпрянул от зеленой чалмы. Хозад медленно выпрямил свое худосочное длинное тело. Ворон вернулся на его правое плечо. Мокки встал на колени и, сделав так, что услышать его мог только Уроз, стал умолять его:
– Забери деньги обратно… Ты имеешь на это право… Тут явно было колдовство…
Грубый толчок рукоятью нагайки под подбородок прервал саиса.
«Дурак! – подумал Уроз. – Разве я сам не вижу, кто тут колдует? И неужели же я не сумею разрушить это колдовство?»
Он сжимал рукой под рубашкой кожаный амулет, который всегда носил на шее. Уроз схватился за него в тот самый момент, когда ворон взлетал, чтобы не отпускать его до конца встречи.
Поединок начался. Глава района поднял руку. Хозяева баранов одновременно, одинаковым движением руки легко подтолкнули бойцов навстречу их судьбе, и был этот жест одновременно и командой, и знаком доверия, и дружеской лаской.
После чего оба присели на корточки с бесстрастными лицами и отсутствующим взглядом.
Гром шел справа, а Бич слева. Шли они с чрезвычайной осторожностью. Копыта их словно измеряли, прощупывали почву. И в такт шагам опущенные морды слегка равномерно покачивались, а глаза, напряженные и проницательные, не переставали следить за головой, грудью, боками и ногами противника.
Зрители замерли. Они чувствовали, как с каждым шагом в этом сближении нарастает неумолимая воля. Самая что ни на есть восхитительная тревога поселилась в их сердцах.
Наконец, сблизившись футов на пятнадцать, бойцы остановились. Промежуток времени, в течение которого они стояли, упершись копытами в траву, оказался столь ничтожным, что его просто никто не заметил. Толчок ног и всего тела был таким мощным, что зрители практически не увидели, как бараны преодолели разделявшее их расстояние. Всем показалось, что стук рогов раздался незамедлительно после рывка вперед. И тут же Гром и Бич отскочили, словно огромные шерстяные мячи, на расстояние большее, чем в первый раз. Они готовились к новой атаке.
Более проворным оказался коричневый с подпалинами, сверкавшими на солнце огнем. Он обогнал Бича на одно мгновение, на один шаг. Этого казалось достаточно, чтобы получить преимущество в скорости и мощи. Когда лбы с великолепно закрученными рогами стукнулись, Бича отбросило назад. Раздался первый крик толпы. Но белый баран с черными пятнами не упал и не дрогнул. Он сохранил равновесие и сообразительность. Гром, не переводя дыхания, повторил атаку. Бич отскочил в сторону. Противник скользнул вдоль его бока. Только шерсть слегка всколыхнулась. Он бросился вперед, чтобы заставить противника, которого ему уже удалось обмануть, потерять равновесие. Тщетно. Гром, не останавливаясь, повернулся кругом, уперся ногами в землю, вобрал шею в плечи. Лоб Бича ударился о такой же каменный лоб.
По-прежнему сидя на корточках с непроницаемыми лицами, хозяева баранов позвали тех длинным, странно модулированным голосом. Гром и Бич тотчас вернулись на исходные позиции. Хозяева стали ощупывать суставы животных. Еще до того как кончился осмотр, Гром ринулся вперед. Никто из присутствующих не смог бы сказать, повиновался ли он только собственному инстинкту или какому-то движению пальцев, утонувших в шерсти. Хозяин Бича, неприлично выругавшись, встал и обеими руками подтолкнул барана. Но было уже поздно. Гром пробежал половину расстояния, отведенного для разбега. Земля уже звенела, как бубен, под его копытами, а Бич только еще делал первый шаг. Инстинктивно он догадался, что атака лоб в лоб не оставляет ему никаких шансов. Когда до Грома оставалось два шага, он отскочил влево. Но дважды обмануть противника одним и тем же способом у него не получилось. Он развернулся, сохранив всю инерцию разбега, и изо всех сил ударил Бича в плечо. Казалось, что именно из этого удара родился гортанный, глубокий крик толпы. Ветер донес его до самых скал, и гроты с Буддами откликнулись эхом.
Мокки прислонился щекой к щеке Уроза, и губы его пропели:
– Клянусь Пророком, твой сильнее. Ты выиграешь.
Уроз локтем ударил саиса по лицу, оттолкнул (удача сопутствует лишь тому, кто не пытается высказываться вместо нее) и еще крепче сжал амулет в ладони, взмокшей от пота.
Удар, нанесенный Бичу, подбросил его вверх и опрокинул на спину.
Крики превратились в вой. Уроз с трудом удерживался, чтобы не присоединиться к нему. Гром собрался, напрягся и кинулся на противника, бессильно лежащего вверх животом… Наступала минута умерщвления.
В ту же секунду Бич дважды перевернулся с непостижимой ловкостью и быстротой. Противник атаковал пустое место, где еще не выпрямилась трава, на которой только что лежал массивный Бич.
Теперь всеобщий крик был обращен к другому барану. Бич стоял на ногах. Бич несся навстречу противнику, который возвращался. Преимуществ разгона не было ни у кого из них. Их силы выровнялись. И они откровенно рвались в бой. В глазах у них горели одинаковые искры ярости. Но на этот раз рога их стукнулись совершенно без пользы. Оба стояли, целые и невредимые, не отступив ни на шаг, упершись мордой в морду. Хозяева отозвали их к себе.
Все сразу заметили, что Бич идет слишком медленно. Походка его была неуверенной, дыхание учащенным. Одни кричали, что у него треснула ключица, другие, что вывихнуто колено, третьи, что от сильного удара повреждены легкие, а кто-то считал, что ему больше не хочется драться. И все сходились на том, что Гром бегает быстрее, что он более выносливый и что теперь победа ему обеспечена.
Когда Бич подошел к человеку, вырастившему его, тренировавшему и дрессировавшему его, он первым делом приподнял и слабо пошевелил ногой с белым носочком над копытом. Он положил ее на раскрытую ладонь и тихонько забрал обратно.
Зрители притихли. Когда они вновь заговорили, голоса их были сдержанными, неуверенными. Люди обменивались репликами:
– Он, что, просит приободрить его?
– Уж не прощается ли он с хозяином?
– И с жизнью тоже?
– Никак, он просит прекратить поединок?
Хаджи Заман, вместо того, чтобы разглядывать барана, на которого он поставил, повернулся к нему спиной. Бледное лицо его тянулось к скелетоподобному типу, сидевшему за ним.
– Хозад! Хозад! Когда ворон накрыл своей тенью другого барана, это значило, что я не должен был его выбирать, да? Это он так сообщал мне, что тот родился под плохой звездой?
Хозад ответил ему, не мудрствуя:
– Ну откуда мне знать, о святой человек, как надо толковать предсказания? Это же ведь не я ходил в Мекку.
И тут же добавил, заискивающе и жадно:
– Но ты все-таки дашь мне, дашь денег на траву сновидений?
Но теперь он увидел перед собой под зеленой чалмой только жирную морщинистую шею. Хаджи Заман уже не думал о нем.
Бич и Гром вновь приготовились к бою.
И тут произошло нечто, удивившее даже самых мудрых и опытных знатоков. На полпути Бич, движения которого были тяжелыми и замедленными, упал на бок и стал дергать ногой в белом носочке. Удивленный этим, противник замедлил разбег и осторожно подошел к лежащему. Белая нога протянулась к одной из рыжих ног и стала гладить ее жалобным движением.
Раздались крики толпы:
– Он просит пощады!
– Трус!
– Предатель!
– Ложная слава! – кричали те, кто поставил на Бича.
А другие кричали:
– Никакой пощады!
– Биться до конца!
– Добивай!
– Бей его рогом в живот!
– Доканчивай его, бесподобный Гром!
И первые, разгоряченные жаждой мести, присоединяли свои крики ко вторым, жаждущим крови.
Уроз, тоже весь охваченный этой страстью, сделал резкое движение всем телом вперед. Неожиданно нестерпимая боль от перелома заставила его потянуться той рукой, которой он держал амулет, к ноге…
В тот же момент Гром отступил на шаг и наклонил голову, готовую нанести смертельный удар. Но тут Бич изогнул шею, хребет и изо всех сил нанес невероятной силы удар рогом снизу вверх в наклонившуюся над ним морду. Послышался хруст ломаемых костей и хрящей. Бич ударил еще раз и тем же способом. Голова противника замоталась во все стороны от неимоверной боли. Нижняя ее часть превратилась в месиво из мяса, слюны и крови. У нее не было больше ни носа, ни нижней челюсти. Из этого месива шло тонкое, жалобное и наивное блеяние, как у самого маленького ягненка. Бич встал, не спеша, отступил на нужную дистанцию и бросился вперед. Его рога со всего размаху ударили в сонную артерию стонущего барана. Гром пошатнулся, но не упал. Бичу пришлось атаковать трижды, чтобы добить противника. Когда все было кончено, победитель вернулся к хозяину и протянул ему лапу в белом носочке.
Хаджи Заман в первом ряду беснующихся зрителей схватил все деньги, лежащие перед ним, и потряс ими как трофеем. Уроз машинально поднес руку к амулету и опустил ее. Мокки сидел за ним и плакал. А Хозад все внушал своему ворону:
– О, Али! Травка чарующая… О, Али! Травка поющая…
* * *
Когда шум стих и присутствующие немного утихли, Амджяд Хан что-то сказал на ухо главе района, и тот утвердительно кивнул головой.
– Айюб! Подойди, – крикнул он.
Хозяин Бича вместе с бараном подошел к ним. Поклонился с почтением и достоинством.
– Богатый и благородный Амджяд Хан и я, – проинформировал счастливчика глава района, – полагаем, Айюб, что обычная плата и выигрыши, доставшиеся тебе в споре с противником, недостаточны, чтобы вознаградить твой труд по воспитанию и такому обучению животного. Амджяд Хан предлагает тебе выбрать в его отарах, а они у него самые большие в нашем районе, двух молодых баранов, какие тебе понравятся.
Айюб прижал к груди правую руку и низко поклонился Амджяду Хану.
– Со своей стороны, – продолжал глава района, – я заявляю и повелеваю, чтобы с сегодняшнего дня во всей Бамианской долине все называли Бича принцем бойцовых баранов.
При этих словах потрепанная чалма Айюба едва не коснулась земли. Он долго стоял, согнутый пополам. Наконец разогнулся, и правая его рука оторвалась от груди и легла на один из великолепных рогов Бича. Глаза его излучали счастье.
– Да поможет тебе Аллах, ваша милость, и детям твоих детей, – сказал он. – А мои дети и внуки никогда не забудут твою доброту.
И все закричали:
– Слава принцу бойцовых баранов Бамиана! Слава!
Глава района поднял руку. Крики утихли.
– Да будет так, – подтвердил он. – Если только, и это будет справедливо…
Он выдержал паузу, подождал, когда тишина станет абсолютной, и закончил:
– Если только не найдется соперника, который оспорил бы это звание. Я прав, Айюб?
Хозяин Бича еще крепче ухватился за рог и воскликнул:
– Мудрость и справедливость говорят твоими устами, о господин наш. Мой баран только и ждет нового поединка, а я ставлю на кон все, что он мне дал.
Айюб умолк. Легкая улыбка, уверенная и горделивая, освещала его лицо. Глава района обернулся к зрителям, вопрошая их взглядом. Никто не отвечал. Ни одна рука не поднялась.
– Никто здесь вызова не принимает! – решил глава района. – Так что я объявляю…
Он не успел закончить. Из последнего ряда послышался голос, хриплый и уверенный:
– Одну минутку, если ваша милость позволит… Одну минутку. Я иду.
Человек быстро прошел через толпу. Он был настолько подвижен, настолько мускулист, что контуры его тела казались острыми. Подойдя к ограждению арены, он легко перепрыгнул через нее и встал рядом с Айюбом, который оказался на голову ниже его. Зрители разглядели длинное, впалое, обветренное лицо. У него был орлиный нос и очень черная, густая борода. Затянув потуже пояс с патронташем на куртке из грубой коричневой ткани, он поправил на плече длинное ружье с резным прикладом и сказал главе района:
– Да извинит меня ваша милость, что я не сразу откликнулся. Я был в последнем ряду и полагал, что кто-нибудь, конечно, объявится до меня.
Глава района с нескрываемым любопытством смотрел на незнакомца.
– Что именно ты хочешь, незнакомец? – спросил он.
Человек с ружьем стал говорить с простодушием, в которое можно было бы поверить, если бы не искорка нахальства в его взгляде.
– Только то, что предлагает ваша милость: выставить на арену моего барана против нового принца Бамиана.
Послышались крики удивления, и глава района спросил:
– Поистине, поистине, видел ли ты, как баран Айюба победил своего опасного соперника?
– Поистине, очень хорошо это видел, – не смутился незнакомец.
– И ты полагаешь, что твой баран способен потягаться с таким победителем? – продолжал он недоумевать.
Незнакомец опустил глаза на свои ноги, обутые в сандалии из грубой кожи с заостренными и загнутыми вверх мысками, что придавало его облику нечто сказочное. Он скромно предложил:
– Об этом будет судить ваша милость.
Главу района не обманывала эта притворная сдержанность и, не скрывая сарказма, он поинтересовался:
– И где же он, этот неизвестный чемпион?
Незнакомец в упор смотрел на собеседника.
В глазах его по-прежнему играла дерзость и ирония. Он ответил спокойным голосом:
– Я приказал слуге, сопровождающему меня, отвести барана к входу на арену.
– Покажи нам его, наконец, – приказал глава района.
Незнакомец заложил в рот три пальца и издал такой громкий, дикий свист, что все зрители вздрогнули. Бедняки – от неожиданности. Богачи – от страха. Любители приключений – от удовольствия.
Мальчик в одежде из такой же ткани, как и у человека с ружьем, открыл дверцу и выпустил на арену барана. Тот в несколько прыжков оказался возле хозяина. И тут мнения всех зрителей свелись к одному: они отказывались верить в то, что видели. Баран по высоте едва доходил до колен хозяина. Чахлая, запыленная шерсть его не имела определенного цвета. Местами ее и вовсе не было, и вместо шерсти виднелись розоватые пятна, которые и за кожу-то можно было принять с трудом. И, наконец, у животного был всего один рог, левый. Другой был сломан у самого основания, причем из-за шерсти можно было только догадываться, где именно проходит слом. Пока баран человека с ружьем терся, как собака, о его ногу, все с недоверием сравнивали эту несчастную зверюшку с великолепным черно-белым Бичом. Удивление дополнялось возмущением. Этот чужеземец, что, пришел в Бамиан, чтобы поиздеваться над людьми? Оскорблять их гостеприимство? Послышались гневные реплики и ничего хорошего не предвещающий ропот. Айюб отвел своего Бича на несколько шагов, как бы для того, чтобы избежать оскорбительного контакта. Послышался возмущенный голос главы района с угрожающими нотками:
– Какой демон, о незнакомец, заставляет тебя глумиться и унижать этих порядочных людей, а в моем лице и короля, твоего властелина? Не думаешь ли ты, что останешься ненаказанным?
Человек с ружьем приложил правую руку к груди, чтобы подтвердить искренность своих слов. – Глумиться? – воскликнул он. – Над кем глумиться? Может быть, над самим собой? Ведь я подтверждаю вызов, и вот моя ставка.
Он вынул из своей куртки кошелек и развязал шнурок, подал его главе района. Тот опустил в кошелек руку и вынул горсть золотых монет.
– Там, по крайней мере, еще столько же, – заверил незнакомец.
Глава района раскрыл кошелек пошире, заглянул внутрь, взвесил на руке и тихо промолвил:
– Действительно…
Когда он поднял глаза, в них отразилось совсем другое отношение к незнакомцу. С невольным уважением он задал еще один вопрос:
– Как тебя зовут?
– Хайдал, – ответил тот.
– Откуда ты?
– С высоких восточных перевалов, где люди сами куют себе прекрасное оружие и хорошо владеют им.
Глава района передал кошелек Амджяд Хану, который заглянул в него и утвердительно закивал своей широкой бородой. Глава района громко крикнул:
– Айюб и Хайдал! Вы можете выпускать в бой ваших баранов.
Затем он спросил у хозяина Бича:
– Сохраняешь ли ты всю ставку?
Айюб пожал плечами и пробормотал:
– А чего мне сомневаться? Пусть хоть тот позор, который наносит моему барану такой поединок, принесет мне побольше денег.
– Тогда займи свое место, а ты, Хайдал, займи свое, – приказал глава района. – Но прежде, чем начать, подождите, чтобы люди сделали ставки.
Но на этот раз, впервые во время боя баранов, пари никто не заключал. Все ставили только на Бича. Только безумец, по мнению публики, мог дать хоть какой-то шанс этой хилой, паршивой, однорогой твари, которую ее хозяин заставлял биться с принцем бойцов.
Хаджи Заман заметил Урозу голосом, в котором были одновременно и мед, и желчь:
– Ты ведь тоже – и это понятно – боишься ставить на чужеземца… я-то ведь, по всем правилам и по справедливости, могу поставить только на моего победителя.
Уроз смотрел прямо перед собой, ничего не слыша, ничего не видя. Он чувствовал себя зачумленным и проклятым. Не потому, что все проиграл. А потому, что у него ничего не осталось, чтобы иметь возможность проиграть еще раз.
Мокки воскликнул:
– Чего тебе еще надо, святой человек? Ты со своим вороном отнял у моего хозяина все! Все! Все!
Слова эти прозвучали громко. Их услышали. Амджяд Хан повернулся к Мокки. На круглом, детском лице саиса, как в открытой книге, читались отчаяние и горе.
– Всадник степей, – обратился Амджяд Хан к Урозу, – поверь, я буду рад и сочту за честь одолжить тебе столько, сколько захочешь. Никакой моей заслуги в этом нет. Можно уверенно давать в долг человеку, у которого есть такой конь, как у тебя.
Уроз в том состоянии, в каком он пребывал, сначала даже не понял, о чем идет речь. Он только почувствовал в голосе щедрость и доброту и наклонился к Амджяд Хану. Чья-то огромная рука схватила его за локоть, и он услышал взволнованный шепот.
– Уроз! Уроз! Молю Пророком, Аллахом всемогущим, не играй! Не играй, о, не играй на Джехола.
Угадал ли Мокки замысел хозяина, о котором тот даже сам еще ничего не знал? Уроз оттолкнул руку Мокки и, глядя ему в глаза, возразил:
– А почему бы и нет?
Мокки перешагнул через Амджяд Хана, встал на колени перед Урозом.
– Ты не должен, не можешь, не сделаешь этого, – стал просить он.
Умоляющая поза Мокки перед возлежащим Урозом, – иначе и быть не могло, – но голос его вовсе не умолял. На его постаревшем и огрубевшем лице чопендоз легко читал побудившие саиса вмешаться чувства. «Джехол не только твой, – говорили глаза Мокки. – Он принадлежит прежде всего Турсуну, сделавшему его таким, какой он есть… и мне тоже, потому что я выходил его и люблю больше, чем самого себя… наконец, он принадлежит нашему краю, нашим степям. И ты посмеешь выбросить его, как кусок мяса, на рынок азартных игр, чтобы увидеть, как его кто-то куда-то уведет!»
Волчий оскал исказил лицо Уроза как никогда прежде. Ибо никогда еще он не ощущал так сильно, так остро, так всеобъемлюще радость и муку от собственной гордыни, от собственной жестокости по отношению к людям, к судьбе и к самому себе. Одним поступком он сейчас объединял в их высшем проявлении риск и святотатство. Он бросал вызов и всему, что было святого в прошлом, и всему, на что он мог надеяться в будущем. И, наконец, он нашел надежный способ, чтобы раз и навсегда разрушить лояльность и верность Мокки.
Уроз крикнул главе района:
– Пусть ваша милость даст мне несколько минут. Я предлагаю в качестве залога в этом бою моего коня, Джехола.
Слова эти произвели самое сильное впечатление. Все, кто видел приезд Уроза, восхищались его жеребцом.
– Но где ты найдешь участников пари? – удивился глава района. Ты же видишь, все желающие заключить пари оказались на одной стороне.
– Да, но я-то на другой стороне, – озадачил его Уроз. Я выбираю, чтобы защищать мою ставку, барана Хайдала, чужеземца.
Шепот, прошедший по толпе, походил на вздох сострадания и тревоги. Люди сетовали.
– Какая жалость!
– Такой благородный конь!..
– Пропадет ни за что…
– Даром достанется…
– Хозяин спятил из-за своей раны.
Мокки, не вставая с колен, закрыл лицо руками.
– Раз такова твоя воля, всадник, то для того, чтобы все могли оценить ставку, – сказал глава района, – прикажи, чтобы привели коня.
Рукояткой своей плетки Уроз коснулся плеча Мокки и распорядился:
– Ты слышал, саис?
Тяжелыми, неловкими шагами, словно стреноженный цепью, Мокки пошел к тополю, к которому привязал Джехола. О, как горестно было ему слышать радостное ржание, с каким его встретил конь, чувствовать теплоту языка, лизнувшего его ладони. Видеть мягкий свет больших влажных глаз, искавших встречи с его глазами.
Он отвязывал повод, когда услышал за спиной самый дорогой для него голос, сказавший шепотом:
– Саис, большой саис…
Обернувшись, Мокки увидел бесформенное существо, завернутое в какой-то темный саван, с лицом, закрытым черной маской.
– Зирех… ты… как? – пробормотал Мокки.
Задыхаясь, она нетерпеливо показала на вершину холма и ответила:
– Я была там… с другими женщинами… Им позволено смотреть… вдали от мужчин и только в чадре… Я выпросила одну для себя…
Она с остервенением дернула за маску, как бы желая сбросить ее с себя.
– Этот мешок и эта тряпка, я в них задыхаюсь. Дочери кочевников, хоть больших, хоть малых, никогда их не носят.
– Я узнал бы тебя по блеску глаз из тысячи. Это мои звезды, – признался Мокки.
Зирех тряхнула капюшоном, торчащим у нее на голове, и крикнула:
– Могут ли мои глаза помешать пропасть навсегда нашей лошади?
– Ты уже знаешь? – прошептал Мокки.
– Ребятишки бегают все время туда-сюда и приносят нам новости. В эту новость я просто не могла поверить. Но увидела тебя… Значит, правда?
– Правда, – ответил Мокки так тихо, что Зирех догадалась о том, что он произнес, только по движению его губ.
Она вцепилась в руку саиса, притянула его к себе, встала на цыпочки. Ее пылающий взгляд сквозь прорезы в ткани встретился со взглядом Мокки.
– И ты дашь его украсть? – гнула свое кочевница. – Ничего не сделаешь, чтобы спасти этого коня, единственный наш шанс?
– Я убью Уроза, – пришел к выводу Мокки.
– Когда хозяином коня станет уже кто-то другой! – воскликнула Зирех. – Нельзя терять ни секунды. Прыгай в седло… А я сяду на круп. И мы помчимся вдвоем как ветер…
Смелый и страстный голос, ослепительный блеск ее глаз не позволяли Мокки думать, прикидывать возможности… Он рывком отвязал уздечку, вставил ногу в стремя. Но тут Зирех уцепилась за полу его чапана.
– Стой, – приказала она. – Даже и этого уже нельзя сделать. Наверное, там догадались, увидели, что тебя долго нет.
К ним направлялся вооруженный полицейский. Зирех скрылась за тополями. А Мокки повел коня в сторону арены.
* * *
Джехол стоял в загоне на фоне камышей, цветущих кустарников и деревьев, обрамляющих берег реки. Время от времени он бил копытом от нетерпения. И тогда его мощь и красота – надо сказать, что конюхи постоялого двора постарались навести глянец на его шерсть, – заставляли пробегать по рядам ропот уважения и восхищения. А Мокки, стоя возле Джехола, сгорал от стыда и горя. Он привел на торги этого коня, свою гордость, свое сокровище, свою душу!
Уроз продолжал улыбаться.
Сначала глава района обратился к зрителям:
– Люди добрые, вы видели жеребца?
– Прекраснее не бывает, – был общий ответ. Глава района взглянул на Уроза:
– Во сколько ты сам оцениваешь его, всадник?
– Пусть назначит цену благородный Амджяд Хан, – повел рукой Уроз. – Он здесь самый знающий, мудрый и честный.
Амджяд Хан, перебиравший свои четки из лапис-лазури, не раздумывая, решил:
– У такого скакуна нет цены. Тот, кто получит его за сто тысяч афгани, – которые я готов выложить сегодня же, – сделает выгодную покупку.
– Я согласен, – кивнул головой Уроз.
– Сто тысяч… сто тысяч… сто тысяч…
Слова эти пробежали по всем рядам, все были ошеломлены, особенно самые обездоленные. Но больше всех – человек в зеленой чалме.
– Как жаль, ах, как жаль, что у меня нет таких денег, – нервно бормотал Хаджи Заман в свою короткую и редкую бороденку. Этот безумец из степей – подарок Всевышнего.
Он закричал через голову Уроза:
– Амджяд Хан, ты один здесь можешь купить эту лошадь. Один можешь пользоваться ею. Тебе надо соглашаться с теми ставками, какие потребует всадник.
– Я согласен, – был ответ Амджяд Хана.
– Я готов принять любое пари, – заявил Уроз.
Глава района приказал сопровождавшему его писарю записать ставки и имена. Заман с жадной торопливостью вытащил все содержимое своего старого портмоне. И первым объявил:
– Пятьдесят две тысячи триста афгани.
Писарь с естественным уважением вопросительно взглянул на Амджяд Хана.
– Запиши на меня, – заверил он, – все те деньги, которых не хватит до назначенной мной суммы, когда все желающие заключат пари.
Воздержавшихся не оказалось. Каждый был уверен, что выиграет. Каждый, кто больше, кто меньше, подчищал карманы. Даже глава района не преминул. Последним записался сам писарь.
Амджяд Хан взял список, положил его на колени, под свои четки из ляпис-лазури, и повернул голову к Урозу:
– Сто тысяч афгани покрыты, храбрый всадник.
– Спасибо тебе, – поблагодарил Уроз.
Вежливость его была чисто внешней и машинальной. Сто тысяч, или пятьсот тысяч, или два афгани – ему было все равно! Главное для него было, что он поставил на кон свое возвращение в Меймене, свою победу над Мокки, самого себя и весь мир, свою честь и свою душу – все отдал на волю случая и своего инстинкта. Один против всех. Королевское могущество. Фантазия богов. И даже если он проиграет, он все равно выйдет победителем. Такая игра с судьбой стоила всей жизни, всей смерти.
Хайдал подошел к Урозу. Баран его, которого он не держал, бежал за ним, как собачка.
– Ты доверился моему барану, всадник, – произнес он отрывисто. – Это большая смелость или безумие чистой воды. Я люблю и уважаю и то и другое. Спасибо.
Уроз внимательно посмотрел на чужеземца с ружьем, украшенным серебряной чеканкой. В глазах у того уже не играли насмешливые искорки. Хайдал вернулся на свое место.
– Пусть уведут коня и хорошо его охраняют, – приказал глава района. – До конца поединка он – наша общая собственность.
Затем:
– Айюб и Хайдал, начинайте бой.
Заждавшиеся зрители с нетерпением одобрили эти слова. Запись ставок была долгой. Солнце припекало все сильнее. Нервы у людей устали от напряжения, вызванного столь сильными и неожиданными эмоциями. Ко всему этому добавлялись азарт и жадность. Выигрыш был бесспорным. А значит, скорее бы положить его в карман.
Первая атака это вожделение разочаровала. Стычки не получилось. В момент, когда она должна была произойти, маленький баран, благодаря своему росту, так быстро и ловко увернулся, что Бич, хотя и был настороже, но промахнулся. Его черно-белое руно пронеслось вплотную к редкой и жесткой шерсти противника, не нанеся ему ущерба. Бич тотчас развернулся и пошел в атаку. Опущенный лоб его, словно летящий молот, был точно направлен в цель. Знатоки радостно и громко обменивались мнениями:
– То была лишь примерка!
– Он прощупывал наглеца.
– Примерялся.
– Сейчас он его уложит.
Две головы, одна великолепная, другая комичная, понеслись навстречу друг другу. Во всяком случае, все в том были уверены. Однако ожидаемого стука не послышалось. Вообще ничего не было слышно. И баран Хайдала, целый и невредимый, легонький и проворный, первым уклонился от удара. В рядах зрителей послышался шепот.
– Опять схитрил, сатана.
– Но как?
– Он подставил бок, где у него нет рога.
– Да! Это так! Я понял!
Голова Бича проскользнула, унесла его.
– Ну теперь-то он знает и накажет его.
И действительно, Бич проявлял теперь все признаки гнева и осторожности одновременно. Он не разгонялся. Против такого малого веса ему не нужна была скорость. Он делал короткие атаки, раскачивая головой, чтобы не дать противнику увернуться, а в прищуренных, налившихся кровью глазах ярость подправлялась проницательностью.
«Атакуй… атакуй, – говорил этот взгляд. – Ну на этот раз я тебя прибью».
А зрители, поскольку они были наделены даром речи, кричали то, что было в мыслях у Бича.
Только вот нападения не получилось. В двух шагах от противника баран Хайдала, хоть и разогнался вовсю, резко остановился. И принялся танцевать вокруг Бича, как собачонка. Оказывался то слева от него, то справа, то спереди, то сзади. И каждый раз наносил головой четкий, резкий удар. Для могучего Бича эти удары были не опасны. Но они его нервировали, злили, постоянно вынуждали к коротким ответам, сбивали ему дыхание.
Гул прошелся по рядам зрителей. Это не был гул удивления или недовольства. Толпой овладел страх. Страх за свои денежки. За свой здравый смысл. Послышались гневные крики:
– Этот дьявол ведет себя не так, как того требуют правила.
– Он только изматывает Бича.
– Это не бой.
– Остановите поединок…
Глава района не успел обдумать трудное решение. Хайдал все так же величественно и вальяжно поклонился, чтобы показать зрителям, что готов сообразовываться с их желаниями. Он заложил в рот два пальца и свистнул. На этот раз свист получился коротким, но ужасно резким. С этого момента действие стало развертываться так стремительно и настолько удивительным образом, что даже Уроз, сидевший в первом ряду, не мог понять, что происходит.
Баран Хайдала вдруг перестал дразнить Бича, отступил для разбега, собрался и бросился вперед. Не успел его растерявшийся и недоумевающий противник прийти в себя, как тот был перед ним. Но вместо того, чтобы ударить в лоб или в грудь, он лишь расцарапал ему скакательный сустав той стороной головы, где не было рога. Опять было послышались насмешки и протесты, но вдруг наступила настороженная тишина. Из ноги Бича лилась кровь, окрашивая белую шерсть. Бич с удивлением смотрел на эту красную струю. Потом медленно опустился на передние колени. А маленький баран с невзрачной шерстью был уже тут как тут. Невероятно быстрым, точным и сильным ударом он попал рогом между глаз противника, в переносицу, самое уязвимое у баранов место. Потом мгновенно отскочил, словно мячик, и замер, наблюдая с холодным любопытством, как Бич встречает смерть. Первым закричал Айюб. Он вопил:
– Это вероломство! Низкий обман! Без хитрости тут дело не обошлось!
Он подбежал к маленькому барану, который терся о ногу хозяина, как собачонка, провел ладонью по тому месту, где был сломанный рог, и поднял высоко над головой руку, показывая ее зрителям. На ладони был глубокий порез.
– Надлом рога заострен как кинжал, кинжал убийцы, – кричал Айюб.
Глава района не дал толпе излить свой гнев.
– Что ты скажешь, Хайдал? – крикнул он.
Человек с ружьем подошел к Бичу, поставил ногу в сандалии на ногу в белом носке и сказал:
– Пусть Айюб скажет вашей милости, мог ли этот негодяй сам научиться применять свой маневр, как он это сделал только что.
Хайдал выдержал паузу, ровно столько, сколько надо было зрителям, чтобы перевести дух, и продолжал:
– А ты, Айюб, князь среди скотоводов, скажи, почему, вместо того, чтобы плевать на моего барана, ты не подошел и не посмотрел на сломанный рог до начала боя, а не после, как ты это сделал.
Наступила тишина. Все были удивлены, раздосадованы, огорчены и возмущены. Но в то же время они вынуждены были задуматься. В их сознании происходила трудная внутренняя борьба между гнусной скаредностью и честным разумом.
Жители Бамиана были наделены чувством справедливости. И справедливость восторжествовала.
– Если мы и были ослеплены, – говорили люди со вздохом, – то значит, такова была воля Аллаха Всемогущего.
Но вот Хаджи Заман не смог справиться со своими переживаниями и своей злобой. Он стукнул по костлявому колену Хозада и возроптал:
– Почему ты меня не предупредил, лжекудесник? А Хозад все подпрыгивал, сидя на месте и напевал:
– Травка мечтает, травка смеется, травка поет… Ворон приоткрыл свой ярко-красный клюв и нежно каркнул.
– Победило мужество, о всадник степей, – поздравил Амджяд Хан Уроза, – и поверь мне, скажу от всего сердца, я радуюсь этому больше, чем кто-либо другой.
Он приподнял свои четки со списка ставок и передал его главе района, а тот проинформировал Уроза.
– Через час ты в своей комнате получишь из моих рук всю сумму.
– А я вручу тебе то, – сообщил ему Амджяд Хан, – чего будет не хватать до ста тысяч афгани.
Тщетно пытался Уроз обрести радость. Он чувствовал глубокую, бесконечную усталость.
– Коня, – тихо потребовал он.
Мокки подвел Джехола и посадил Уроза в седло.
– Вот видишь, – посмотрел Уроз сверху вниз на саиса.
Мокки тоже посмотрел на Уроза, только молча, посмотрел неподвижным взглядом, не выражающим никаких чувств. Он ему не простил и не собирался прощать. И это было единственное, причем такое мимолетное удовольствие, какое Уроз получил после победы.
Когда они выехали на дорогу, над которой возвышалась красная скала и гигантские Будды, мимо Мокки прошла в чадре Зирех.
– Ты помнишь, – прошептали невидимые губы, – что ты мне пообещал, когда отвязывал коня?
– Помню, – прошептал Мокки.
– Все помнишь?
– Все.
– И о нем тоже? – спросила Зирех порывистым голосом.
При этом капюшон кивнул в сторону Уроза.
– И о нем тоже, – подтвердил саис.
– Тогда доверь мне делать все самой, – предложила Зирех.
Она смешалась с толпой возвращавшихся женщин, похожая, как и они, в своей маске на унылое привидение.
Часть четвертая ПОСЛЕДНЯЯ КАРТА
I ВЕДРО
На чарпае, в изголовье Уроза, лежали, сложенные аккуратными пачками, тщательно пересчитанные сто тысяч афгани, принесенные Амджяд Ханом и главой района. Уроз позвал Мокки, едва заметным кивком головы показал на деньги и, слабо шевеля губами, почти неслышно вымолвил:
– Возьми сколько хочешь… Без счета… Купи, что надо в дорогу. Потом поедем.
– Зирех пойдет со мной, – пообещал саис. – Она лучше меня знает толк в базарных делах.
Уроз заметил необычный взгляд Мокки, тяжелый, без былой наивности и светлого сияния. И в словах слуги не слышалось обычного повиновения. Чопендоз хотел было даже порадоваться этому, но не смог. В этот момент ему все было безразлично, ничто не имело значения. Только покоя хотел он, и тишины, чтобы побыть одному, дать отдых разыгравшимся нервам, уставшим мускулам, чтобы прошла адская боль в ноге, которая сейчас наказывала его за то, что в азарте игры он слишком много ею шевелил. Восковое лицо приняло землистый оттенок, а губы стали серыми. Глаза казались провалившимися куда-то за орбиты. От раны исходило отвратительное зловоние.
«Долго он не протянет», – подумал саис.
И опять эта мысль напугала его. Но страх теперь был иным. Боялся он не смерти Уроза. Боялся, что не сможет поучаствовать в ней.
Зирех, сняв чадру, вернулась на кухню. Она сидела в углу, задумчиво и безучастно. На маленьком ее лице, над полузакрытыми глазами, брови сдвинулись в одну резкую черту. Услышав, как саис позвал ее со двора, она не спеша встала и вышла. Брови ее по-прежнему казались сросшимися.
Мокки позвал ее:
– Пошли на базар. Ты выберешь, что нужно в дорогу.
– На какие деньги?
Мокки разжал свой огромный кулак. Сначала Зирех молчала, глядя на них с суеверной недоверчивостью. Потом пробормотала:
– Сколько денег! Аллах! Сколько денег! Все мое племя за свою жизнь и половины этого не имело. Пошли, пошли скорее.
Но когда они подошли к лавочкам, она замедлила шаг и шепнула саису:
– Лавочники не должны видеть, что мы торопимся. Эти жулики тут же удваивают цену…
Брови Зирех опять сошлись на лбу. И до самой последней покупки эта черная полоса не разжималась, подчеркивая бдительность и решительность ее намерений. А саис шел за ней, как послушный ребенок, и восхищенно смотрел на эту незнакомую, новую для него женщину. Такую серьезную! Властную! Так верно рассуждающую о людях, вещах и деньгах!
А Зирех думала только о тех покупках, которые заранее решила сделать, и только о них. Хитроумные торговцы тщетно пытались ее соблазнить, подманить, уговорить, навязать ей кружева, ткани, украшения. В том, что касается цен, она тоже была непреклонна. Прежде чем на что-либо согласиться, она перерывала все, чуть не переворачивала лотки, прилавки, лавчонки, спорила о происхождении товара, принижала их качество, выражала сомнение в пригодности, высмеивала внешний вид, одним словом, торговалась с таким дьявольским терпением и хитроумным азартом, что ей сдавались самые жадные и упрямые. Ведь никто из них не прошел такую школу нищеты, не приобрел привычки знать цену любой, даже самой ничтожной вещи.
Так Зирех приобрела именно то, что нужно было для приготовления пищи и для ночлега: юрту, провиант, теплую одежду.
Когда мешки и сумки были набиты, Мокки вскричал:
– Как же быть? Джехол не унесет всего этого.
– Давай купим хорошего мула, – ответила Зирех. И со вздохом добавила:
– Эту покупку придется делать тебе.
Рынок тягловой и вьючной живности находился в конце селения, на дороге, против самого огромного из Будд. Мокки обошел всех мулов, щупал ноги, бока и холку, осмотрел у всех зубы, копыта, глаза и выбрал наконец крупного мула серой масти.
– Вот этот мне нравится, дедушка, право слово, нравится, – сказал он старому хитрому хазарейцу со сморщенным лицом, молча разглядывавшему покупателя.
– Он сильный и умный. В жизни мало таких видел. Назови цену, дедушка.
Хазареец назвал, и Мокки заплатил, не торгуясь. Повел к Зирех и радостно сказал, ласково трепля мула, как он делал со всеми животными, которых ему поручали:
– Видишь, я тоже умею выбирать.
– И давать себя обкрадывать тоже. Переплатил, по крайней мере, вдвое.
Мокки был уязвлен в своей невинной гордости и впервые в его словах, обращенных к Зирех, прозвучало раздражение:
– Какая разница! – возразил он. – Уроз денег не считает.
Та долгим и внимательным взором посмотрела на саиса. Брови ее сейчас сдвинулись особенно строго.
– Деньги принадлежат не Урозу, а нам. Все деньги… – не согласилась она.
Мокки перестал чесать пальцами холку мула. Его нижняя челюсть дрогнула, как от неожиданного удара. Он тихо спросил:
– Все деньги?… Как… Сто тысяч афгани?
– Все сто тысяч, – нисколько не смутилась Зирех.
– Но это же он их выиграл, – пробормотал Мокки.
– Ты что забыл, под какой залог? – напомнила она ему.
– Я не забыл, – отвечал саис. – Но…
Молодая женщина опять прервала его, чтобы спросить:
– Ты хочешь, чтобы он умер? Хочешь по-прежнему?
– Хочу, – признался Мокки.
Тут они подошли к лавке, возле которой сложили покупки. Зирех понизила голос. Но как ни пыталась она контролировать свою ярость, Мокки испугался злобной интонации в ее голосе.
– И ты, и я, мы оба хотим, чтобы он умер, и можно считать, что это дело решенное, – шепотом проговорила она. – Так много ли трупу нужно?
Саису нечего было ответить. Устами Зирех говорил разум. И все же Мокки не мог с ней согласиться. В глубине души он понимал, что надо отказаться от замысла. Устами Зирех говорил разум. Разум. Но не истина.
Смерть Уроза – согласен. Это было бы справедливо. Он продал свой степной край, свой народ, свой род. Сохранить Джехола – согласен. Это тоже справедливо. Уроз отрекся от него. Но вот деньги – нет! Нет!
Тот, кто возьмет их, воспользуется преступлением, сам станет преступником. Тогда за что же наказывать Уроза?
Зирех приняла молчание Мокки за согласие.
– Ну вот, видишь, – продолжала она, – надо быть дураком, чтобы отказываться от этих денег.
Тут неясный и странный гнев охватил Мокки. Как найти довод, способный убедить Зирех? Глаза его метались от тюков с постелями к мешкам с провизией, от кухонного скарба к юрте, которая лежала у его ног. Все это надо было навьючить на мула. Он ткнул ногой в ближайший тюк и спросил:
– Так что, ты довольна, что у нас теперь столько добра?
Презрительная гримаса вновь свела брови молодой женщины вместе.
– Чем довольна? – воскликнула она. – Любая семья, не считая таких нищих, как я, имеет больше добра, и оно лучше.
И тут вдруг Мокки показалось, что он потерял Зирех. Лицо женщины, спорящей с ним, было не ее лицом. На нем была написана только отвратительная жадность и надменная уверенность в своей правоте. Как, эта девка в лохмотьях, еще вчера голодная нищенка, имеет наглость с презрением и отвращением говорить о дарах, посланных ей судьбой, которые она должна была бы ценить, как сокровища! Да еще высказывать все это таким властным, таким оскорбительным тоном! Она говорит как барыня. Она командует. А его уже и за мужчину не считает.
Мокки вцепился пальцами в гриву мула, чтобы удержаться от желания ударить эту новую, неузнаваемо-отвратительную женщину.
– А если для тебя этот осел является пределом счастья… – крикнула Зирех.
Саис не дал ей закончить. Прерывающимся от гнева голосом он крикнул:
– Замолчи! Перестань насмехаться и приказывать. Или я вырву твой язык, порочащий все, о чем он говорит. Тебе бы хвалить Аллаха за его благодеяния. А ты плюешь на все. Ты жадная воровка, степная сорока. В тебе нет ни капли чистой крови.
Зирех бросилась к Мокки. Их отделяло не более трех шагов. Но этого крошечного расстояния хватило, чтобы она полностью преобразилась. Юная женщина, перехватившая руку саиса, не имела уже ничего общего с той, которую он только что возненавидел. Лоб ее был безмятежно гладок. Брови вновь приняли свою естественную форму гибкой арки над глазами, горящими самым нежным волнением.
– Саис, о большой саис, – молвила она, и голос ее дрожал возвышенной мольбой, – как же ты ошибаешься в своей рабыне. Она ведь думает только о тебе. Она не может больше видеть тебя в таком состоянии, в каком ты находишься. Посмотри…
Зирех подняла руку Мокки и показала обтрепанный рваный край рукава, едва-едва прикрывающего локоть. И ему стало стыдно. Не столько из-за нищенской одежды, сколько из-за мускулистой руки, из-за широкого запястья, торчавших из-под изношенной одежды, из которой он давно вырос.
– Ну как можно смотреть на эту дикую несправедливость, – продолжала Зирех со сдерживаемым волнением, – когда за столько твоих трудов тебе заплатили лишь этим смехотворным чапаном. Тогда как ты, такой красивый, заслужил самые роскошные одежды, просторные и мягкие. Ведь ты такой добрый, ты – самый благородный, ты – великий наездник. Я вижу тебя прекрасно одетым, в великолепном тюрбане.
Обе руки Мокки были теперь в руках молодой женщины, и она притягивала его к себе. И в ее сияющем, влажном взоре он как бы увидел себя таким, каким она его обрисовала.
Глаза Зирех распахнулись еще шире и засверкали еще ярче, словно перед ними появилось еще какое-то видение.
– Неужели ты хочешь, – продолжала она, – чтобы я всегда носила эти лохмотья и ходила босиком? Или ты находишь меня безобразной и недостойной носить платья из китайского шелка, из индийского кашемира, ожерелья из золота и серебра, сверкающие драгоценные камни, источать аромат жасмина и роз, шагать по коврам из Исфахана и Самарканда?
И Мокки взволнованно воскликнул:
– Клянусь Пророком, ни одна женщина не является более достойной, чем ты, чтобы носить все эти украшения.
И Зирех так же искренне ответила:
– Это ведь в твою честь я буду украшать себя. Твоей чести ради, мой саис!
Она трижды повторила эти слова. Лицо ее стало таким, как у человека, видящего сон наяву, а голос пел, как у сказительницы.
– И твоей чести ради, – продолжала она, – у тебя у самого будут саисы и бачи, пастухи и вожаки верблюдов, великолепные кони, тучные, тяжелые от шерсти стада и гигантские верблюды из Бактрии…
И так же твоей чести ради ты дашь мне наконец тоже служанок, прях, прачек и вышивальщиц… И они все составят целое племя. А ты будешь их властелином… Мы поедем на великую летнюю ярмарку в Хазареджате, ты – на самом высоком верблюде… Но тут Мокки воскликнул:
– Я хочу ехать только на Джехоле.
– Его шерсть выкрасят хной, – продолжала Зирех. – Он будет великолепен… А мне, мне ты дашь ружье… И я рядом с тобой поведу караван…
Тут серый мул фыркнул. Мокки успокоил его, и дружеская ласка его была неподдельной. Ведь мул – скотина бедняков…
Глаза Зирех под полуприкрытыми веками лишились мечтательной вуали. На Мокки был устремлен острый взор.
– Саис, большой саис, – произнесла она так тихо, что ему пришлось наклониться, чтобы расслышать, – вот для чего, говорю я тебе это от всего сердца, нужны нам эти афгани. Так говорит мне мое сердце. А ты – голова, ты – хозяин.
В голове у Мокки сталкивались, менялись местами, заслоняли друг друга образы, мысли, желания, сомнения и ответы на вопросы. Ему виделись мертвый Уроз и пачки ассигнаций в его поясе. Взять их? Отвратительное преступление… Оставить? Для кого? Кому? Ветру, снегу, чтобы они сгнили и истлели? Чтобы птицы разнесли? Чтобы поживились мародеры? Или же… передать деньги единственному человеку, имеющему на них право?.. Турсуну… Турсуну… отцу покойного… покойника, убитого… убитого им, Мокки. Нанести такой удар Турсуну, великому Турсуну, его господину, его кормильцу… А эта женщина, которая стоит перед ним, такая маленькая, такая слабая, беднее самых бедных, с того самого первого крика, как она появилась на свет, женщина, которой во всем было отказано, всю ее жизнь… женщина, чьи самые смелые желания он мог сейчас удовлетворить.
Зирех потерлась волосами о ладонь саиса и прошептала:
– Сделаем, как ты решишь.
Мокки оперся о мула. Голова его шла кругом.
– У нас будет караван, – вымолвил он, наконец, глухим голосом.
Больше они не разговаривали и принялись готовить тюки. Зирех напевала печальную дорожную песню. Она умолкла только на короткое мгновение, чтобы спросить:
– Теперь ты счастлив, большой саис?
– Счастлив, – ответил Мокки.
Он лгал. Хотя решение его и казалось ему неизбежным, оно заставляло его ненавидеть себя. Зирех ли была в том виноватой? Или он сам? Или кто-то еще, кого он не мог назвать?
* * *
Бача, принесший чай, увидел, что всадник, выигравший пари благодаря однорогому барану и тем прославившийся в округе, лежит, словно мертвый, с незабинтованной раной. Бача подбежал к нему и плеснул немного горячего чая в полуоткрытый рот лежащего.
– Еще, – выговорил Уроз, не открывая рта.
Не шевелясь, он лежал и глотал чай, и так опорожнил весь чайник. Бача пообещал:
– Господин, клянусь Пророком, я бегом помчусь и приведу Человека, который Лечит.
Все было круглым у этого лекаря: лицо, живот, глаза, толстые очки и даже его ладони, сложенные ковшиком. И только большой нос его был крючком. Он принюхался с порога к тлетворному запаху, стоявшему в комнате, бросил взгляд задумчивой совы на рану Уроза и приказал баче.
– Принеси кипятку, чистые повязки и ровные гладкие дощечки. Неси, дитя мое любезное.
Голос круглого человечка был удивительно веселым, дружелюбным и звучал как песня.
– Будь благословен, ученый здешних долин, – слабым голосом приветствовал его Уроз. – Что ты можешь сделать для меня?
– Я расспрошу твою рану, сынок, и она сама даст мне совет, а я поступлю, как она скажет, – отвечал лекарь.
И он склонил над раной Уроза свою круглую голову, покрытую круглой бархатной, шитой золотом тюбетейкой, и поднес сложенные ковшиком ладони к сломанной ноге в месте перелома. При этом он ни пальцем, ни ладонью к больному не прикоснулся. Казалось, он действительно спрашивает о чем-то сломанную костью и гниющую плоть. Прежде чем убрать руки, он нараспев проговорил:
– Ах, сынок, сынок, зачем такая небрежность по отношению к своему телу, так верно тебе служившему? Теперь ему нужен долгий, очень долгий покой и тщательный, тщательный уход.
– Я должен сегодня же отправиться в путь.
Совиный взгляд, дружелюбный и мудрый, уставился сквозь толстые стекла очков на бескровное лицо Уроза.
– Я вижу, ты такой же игрок, когда речь идет о ноге, как и в бараньих боях, – сказал врачеватель. – Будь осторожен. На этот раз ставка больше, чем все золото мира.
– И даже больше того, – согласился Уроз.
– Что ж, тогда не будем об этом и говорить, – весело кивнул круглый человечек.
Бача принес все, что велел врач. Тот бросил в кипяток травы, принесенные им, промыл рану, перевязал ее смазанными мазью повязками и закрепил шины. Руки его были такими легкими, что, казалось, будто он лишь трогает, когда он нажимал, и лишь касается, – когда трогал.
– Ну вот, теперь до завтра, сынок, ты можешь полежать спокойно, если только не сдвинешь шины, – заверил он его. – Но потом готовься к худшему.
– Спасибо за лечение, ученый и умелый человек, – ответил Уроз, – а еще больше, за то, что сказал правду.
Он показал на пачки денег, лежавшие в изголовье, и продолжал:
– Будь добр, возьми сам плату, которая никогда не будет вполне соответствовать тому добру, которое ты делаешь.
Лекарь взял одну-единственную ассигнацию, положил ее в складки чалмы и осведомился:
– Ну, а разложенные на виду деньги, это что, тоже пари? На человеческую природу?
– Можно и так понять, – согласился Уроз.
Круглые совиные глаза долго всматривались в него. Уроз спросил:
– Что ищешь ты на моем лице?
– Видишь ли, сынок, у меня есть два набора трав. В одном из них, предназначенном для больных, находятся луговые травы, лесные травы, болотные и горные травы. В другом же – для меня одного и никого больше – только коренья, собранные на ложах страданий. Ты – редкое растение, сынок, причем опасное…
Так высказался лекарь и неслышно ушел.
Когда Мокки пришел с базара, он увидел, что Уроз сидит очень прямо, прислонившись спиной к стене. Саис взглянул на пустое место у подушки.
– Не беспокойся, деньги в надежном месте, – понял его мысли Уроз.
Он распахнул верх чапана и рубашку. По обе стороны от амулета свисал небольшой, но туго набитый и тщательно затянутый мешочек.
– Завещание и состояние, – пояснил Уроз.
Он вновь запахнул чапан, затянул пояс. Мокки видел там кинжал.
– Моя личная покупка, – упредил его вопрос Уроз. – А ты свои закончил?
– Все закупил, – утвердительно кивнул головой Мокки.
– Тогда приведи Джехола, – сказал Уроз.
* * *
Дорога проходила у подножия красных скал, в которых виднелись тысячи пещер, вырытых буддийскими монахами, образовывавшие огромный улей, освещенный клонящимся к закату солнцем.
Они направились на запад. Гигантские статуи, прячущиеся в своих темных нишах, остались у них за спиной. Впереди ехал Уроз. Рядом с его стременем шагал Мокки. За ними, в нескольких шагах позади серого мула, шла Зирех.
Она шагала, опустив голову к поднимаемой ее ногами пыли. Губы ее беззвучно шевелились. Можно было подумать, что она молится. На самом же деле она собирала лучшие и самые живые силы своего духа и своей алчности, своей нищеты и своей любви, чтобы продумать, подготовить и застраховать от малейшего риска убийство Уроза. В ее распоряжении было три дня и три ночи. По сведениям, собранным в Бамиане, по рассказам, запомнившимся из жизни в лагере ее племени, по расчетам Мокки получалось, что у нее есть именно такой запас времени. И она мысленно раскладывала все по часам, так же как на базаре все взвешивала, ощупывала, прикидывала, терпеливо и хладнокровно, оценивала, принюхивалась и присматривалась, размышляла, какой час выбрать, чтобы с наименьшим риском нанести смертельный удар ненавистному чопендозу.
«Нападать надо не в первый и не в последний день, – рассуждала Зирех. – Следы насилия не скроешь: свернутая шея, рана в животе. В этой долине, так же как и на подходах к Меймене, опасность больше. Там его все знают. Здесь он тоже стал известен после боя баранов. Значит, не в эту ночь, и не в последнюю. Стало быть, завтра… Разве что…»
Зирех сомкнула губы. Не хотела она, даже про себя, высказывать свои мысли.
Разве что представить дело так, что смерть наступила сама по себе, от несчастного случая, от болезни… Состояние Уроза сейчас такое, что все легко поверят… тогда прислуга оказалась бы вне подозрения… Кто в Бамиане… или в Меймене сможет обвинить Мокки? Кто может оспорить право на завещание у верного слуги, который, не находя себе места от горя, привезет труп своего господина? Да, да, она имела в своем распоряжении еще три долгих дня и три еще более долгих ночи.
Она подняла голову и обратила к небу нежную улыбку. Сейчас она все обдумает и рассчитает.
Внезапная остановка мула прервала размышления Зирех. Она увидела, что Джехол тоже остановился и что к ним приближается облако пыли. «Опять караван», – подумала она с беспокойством, вспоминая прошлый случай.
Движущееся облако вдруг озарилось вспышками огня. Зирех еле удержала рванувшегося в сторону мула. А вспышки за завесой из пыли следовали одна за другой. Урозу показалось, что мимо его головы пролетел рой шершней. В бок Джехолу попали осколки камней с дороги, отбитые пулями. Уроз резко натянул поводья. Кое-кто из двигавшихся перед ними по дороге людей с громкими испуганными криками бросились врассыпную, ища спасения в придорожных кустах и в поле. Среди животных тоже возникла паника.
– Пойди, посмотри, что там такое, – приказал Уроз слуге.
Согнувшись вдвое, саис большими скачками побежал по краю дороги и пропал в густом облаке пыли.
Там опять раздался залп. Зирех больше ни о чем не думала, кроме как о судьбе Мокки. Не случится ли там что-нибудь с ним? Попадет еще в стычку между кланами. В схватку между племенами. Может, уже ранен?.. Или убит?.. И все из-за этого инвалида, который сидит тут, гордится своим конем, на которого больше не имеет никаких прав…
Наконец у нее из груди вырвался вздох облегчения: Мокки вынырнул из рыжего облака. Задыхаясь, он крикнул:
– Ничего страшного… просто свадьба… Жених едет в один из тех вон калебов забирать себе жену…
Прищурив глаза, Уроз оглядел прекрасные дома, разбросанные по всей долине, между дорогой и рекой. За высокими, побеленными известкой зубчатыми стенами с башенками почти не видны были верхушки фруктовых деревьев и крыши служб, подсобных помещений, жилищ для прислуги, для крестьян, садовников, ремесленников, окружающих дом господина. Эти белые островки в зеленом море долины были одновременно и имениями, и поселками, и крепостями. В прозрачных сумерках они выглядели как островки процветания и горделивого порядка.
А Уроз подумал о девственнице-невесте, живущей в одном из этих домов, которая в эту ночь… На какое-то мгновение для него эта девушка, защищенная от внешнего мира стенами своего дома и своей невинностью, вобрала в себя свежую смущенную улыбку, чистоту слегка покрасневшей шеи, приподнявшуюся от волнения грудь, удивленный, наивный взгляд – черты всех тех девушек, которых он видел воочию или мысленно на каких-нибудь праздниках, на пороге какой-нибудь юрты, где-нибудь у колодца, и которые все вызывали у него страстное желание напасть на них, наброситься и грубо овладеть, причинить боль, надругаться, обесчестить. И в этот момент безумство всех его этих желаний было обращено на ту незнакомку, которая готовила сейчас себя к брачному вечеру в одном из калебов просторной долины Бамиана.
– Вот они, вот они! – закричал Мокки.
Видение Уроза затуманилось и рассыпалось. Ничего не осталось от его навязчивой, тяжелой страсти, от отравлявших его мозг жестоких наслаждений, остались только доходящие до отвращения усталость и безразличие.
Между тем внутри движущегося облака уже вырисовывался кортеж. На пыльном таинственном фоне, будто хранящие какую-то тайну тени, один за другим появились еще плохо различимые силуэты. Крики и рокот бубна, отбивающего такт шествия, казалось, производил этот вот рыжий туман, поднимающийся от ног шагающих людей. Впереди ехал всадник. Он двигался самым медленным шагом, чтобы не мешать танцам и не сбить с такта хоровод, который вели окружавшие его сородичи. Их было десятка два, все очень молодые, мускулистые, с резкими абрисами лиц. Их длинные черные прямые волосы ниспадали на плечи. Расширяющиеся книзу свободно сидящие одежды были схвачены в талии кушаком, а просторные шаровары, подвязанные у щиколоток, не мешали движениям. За ними шел высокий мужчина с бубном. Из-за пыли лица его было почти не видно, но по мощной его фигуре, по достоинству, с каким он вышагивал, было ясно, что он самый старший в этой группе. Огромный бубен в его руках казался маленьким и невесомым. Он то подбрасывал его над головой, то над одним плечом, то над другим, вытягивал руки во всю длину, наклонял к уху, как бы для того, чтобы прислушаться к его пению. Выверенность его жестов и поз, некоторая слегка высокомерная вальяжность, вполне приличествующая его возрасту, ничуть не мешали его длинному туловищу точно соблюдать радостный ритм, отбиваемый пальцами с завидной силой, как будто и кровь его тоже билась в такт музыке. Согнет шею, качнет плечами, топнет ногой, и мужественная сила его вспыхивала, озаряя все вокруг. При этом ни на секунду не переставала петь натянутая кожа бубна, да так что живой ритм ее заставлял сердца биться, а ноги сами шли в пляс.
Эта пляска поднимала и уносила юношей, которые кружились, подпрыгивая, отступали на шаг, устремлялись вперед, вставали на колено и вновь кружились в вихре, а черные их шевелюры развевались, как крылья над головой. Так и двигались они разомкнутым кругом, то ускоряя, то резко замедляя движение. И казалось, будто каждый позвонок у них, каждый сустав, каждая складка одежды и прядь волос исполняет свой собственный танец. Но эти свободно летающие тела были связаны друг с другом какой-то внутренней магической силой, и их растрепанный хоровод подчинялся порядку, более строгому, чем все совершаемые ими движения. Они создавали с помощью танца образ счастья и славили молодость, мужскую дружбу и славный триумф, который ждал в этот вечер одного из них.
Крики, пение, прыжки, веселый рокот бубна – все это Уроз воспринимал с мрачным безразличием, как ту пыль, что добралась теперь до него, окружила его. Она пройдет… эти безумцы тоже… и дорога будет свободна. Но вот взгляд его оживился. Откуда появилась эта девушка, что стояла перед Джехолом? Ее хрупкая шея колебалась как стебелек над платьем из ситца в цветочках. Медные сережки мягко блестели на мочках маленьких ее ушей, а под красным платком, прикрывающим волосы, виднелся, маня, гладкий, целомудренный затылок. Совсем рядом, только руку протянуть. Как в его видениях, самых потайных, самых жарких.
И тут он различил слова:
– Саис… большой саис… Только на одну минутку… посмотрим вместе… предсказание.
Уроз внутренне ругнул себя. Из-за каких-то нескольких новых тряпок он не узнал эту неизвестно от кого зачатую кочевницу, эту шлюху Мокки!
Зирех прижалась к саису. Их накрыло облако пыли. В нескольких шагах от них кружился хоровод. И ей казалось, что на коне перед ними восседает не какой-то незнакомец, а Мокки на Джехоле, и что едет он не куда-нибудь, а за ней, чтобы увезти ее на брачное ложе.
Громкие крики оглушили Уроза.
– Дорогу! Дорогу! – кричали парни.
Они кружились так близко от Уроза, что он видел под их шевелюрами блеск безумных глаз, опьяненных пляской. Бубен колотил без умолку.
Минуту назад Уроз готов был отвести своего коня на обочину, чтобы уважить свадебную процессию. Но эти крики, блеск этих глаз заставили его переменить решение. Тот, кто требует или угрожает, теряет право на вежливость. И Уроз не шевельнулся.
– Дорогу! Дорогу! – повторяли танцующие, все громче и все грубее.
Им ничего не стоило объехать одиноко стоящего всадника. Но горячая их кровь, непрестанно разгоняемая несмолкаемым упрямым бубном, не могла стерпеть, чтобы кто-то им перечил. Тот, кто вел хоровод, встал перед Джехолом и поинтересовался у Уроза:
– Ты что, оглох?
Идущий за ним тоже остановился и тоже задал вопрос:
– Ты что, ослеп?
Рядом с ними встали еще парни. Поскольку Уроз не разжимал рта и не шевелился, они закричали:
– В канаву его! В канаву!
Причем их руки и ноги ни на мгновение не прекращали дергаться, повинуясь деспотическим повелениям бубна. Джехол встал на дыбы. Кто-то схватил его за поводья. Уроз взмахнул плеткой. Еще мгновение, и он направил бы коня вперед, на людей, опрокидывая их и пробивая себе дорогу. Кто-то плечом толкнул его сломанную ногу. Острая боль остановила его. «Теперь, – подумал он, – если Джехол рванется и понесет, я упаду… И тогда – позор, да еще от этих безусых прыгунов».
Уроз зажал нагайку в зубах, чтобы иметь возможность выхватить из-за пояса кинжал.
Но тут юноши замерли – с открытыми ртами, вытянутыми руками, сжатыми кулаками, в тех позах, в каких их застала внезапно наступившая удивительная тишина. Ибо барабан умолк.
Человек, игравший на бубне, осторожно положил его на обочину, выпрямился во весь свой рост и направился к Урозу. Молодежь расступилась, давая проход ему и бежавшему за ним, как собачка, маленькому барану без одного рога.
– Привет тебе, о Хайдал! – спокойно сказал Уроз.
– Мир тебе, дорогой мой всадник, – ответил Хайдал. – Я вижу, ты продолжаешь спорить и делать ставки, один против всех. Я узнал тебя по этой черте и только потом разглядел лицо.
– И опять я выиграл благодаря тебе. Спасибо тебе за это, – сказал Уроз.
Хайдал слегка пожал плечами, да так быстро, что если бы не ружье, качнувшееся у него за спиной, Уроз и не заметил бы этого движения.
– Ты расплатишься со мной, когда я заеду в ваши степи и поставлю на тебя в споре во время большого бузкаши.
Услышав это, Уроз вновь остро ощутил и боль в сломанной ноге, и ее бессилие. Он грубо спросил:
– Ты что, разве не видишь?
– Что не видишь? Сломанную ногу, что ли? – воскликнул Хайдал и коротко усмехнулся. – Да брось ты! Ты вроде моего барашка. Из недостатка ты сделаешь преимущество.
Хайдал был так высок, что лоб его был очень близко, почти на уровне лица Уроза, и тот увидел, как на какую-то долю секунды, за насмешливым, жестоким взглядом, за спесивой позой возник другой человек, надежный, способный на искреннюю дружбу. И ему стало хорошо, хотя сам он ни за что бы не признался в этом. Однако самым естественным и как бы случайным движением тот все же заставил Джехола сместиться на обочину дороги.
– Спасибо от имени жениха, о дорогой моему сердцу всадник, – крикнул Хайдал, – у него, небось, кровь кипит, как вода в раскаленном самоваре.
– Он твой друг? – осведомился Уроз.
– Не больше, чем твой, – ответил Хайдал. – Когда я повстречал их на пути, мне стало жаль, что у них так уныло играет бубен. И я стал им играть как у нас, в стороне восточных перевалов. И жених поклялся, что его счастье будет неполным, если я не приду к ним на свадьбу. И я подумал о жареных барашках, о плове с пряностями, о меде, о фруктах, услаждающих рот после острых пряностей, о песнях и танцах. Эге-гей!
Глаза и зубы Хайдала сверкали. И предчувствие всеобщего веселья, передаваемого от одного к другому, превращающего собрание людей в костер, где сердца горят огнем, а тела превращаются в пылающий хворост, вызывали у него ритмичные, резкие движения, от которых трепетало все тело.
– Эге-гей! В путь, друзья! – крикнул Хайдал. – Эге-гей!
Он заложил в рот два пальца и свистнул так, что Урозу вспомнился посвист зимней бури в далекой степи, когда во тьме демоны дуют в свои трубы-раковины, чтобы вызвать метель и ночной ураган.
Джехол и конь жениха попытались было встать на дыбы, но всадники сумели их удержать. Однако большой серый мул остался без присмотра. Перепуганный свистом, он, со всеми мешками и вьюками, кинулся вперед, прямо на Хайдала, поднявшего бубен над головой, и на танцоров, замкнувших хоровод. Парни схватили его за уши, за вьюки, за хвост. Все это под громкий смех и крики. Но Хайдал хриплым от гнева голосом спросил у Мокки:
– Почему ты, глупый саис, оставил скотину без присмотра, почему она тут мешает нашему веселью?
– Это не он должен был следить, – сказал Уроз.
– А кто? – крикнул Хайдал.
– Служанка, – отвечал Уроз.
– Эта женщина… причем такого низкого происхождения… и это она посмела недосмотреть? – спросил Хайдал, не столько рассерженный, сколько удивленный.
– Воистину, – отозвался Уроз.
Один шаг, и Хайдал был перед Зирех, которая из-за его роста видела его где-то далеко-далеко вверху. Он грозно сказал:
– Служила бы ты у меня, я шкуру бы с тебя спустил.
С перепугу Зирех оглянулась на Уроза. От страха во взгляде ее появилось что-то детское, невинное. Странное тепло вдруг разлилось по чреслам Уроза. Он бросил Хайдалу свою плетку со словами:
– На, накажи ее за меня.
Со всей силы и со всей высоты своего роста тот обрушил на спину Зирех толстую ременную плеть со свинцовыми шариками на концах. От сильного удара та упала на колени. Второй удар пришелся на поясницу.
– Хватит! Хватит! – кричал Мокки.
Только это он и мог себе позволить. Его держали за руки несколько парней. Трижды Хайдал ударил Зирех. Нагайка порвала тонкий ситец платья. Уроз не шевелился. Только веки и ноздри его едва заметно подрагивали.
Наконец Хайдал вернул ему плетку. Однако, поднимаясь, Зирех направила пылающий беспощадной ненавистью взгляд свой не на него, а на Уроза.
– Эге-гей! Где мой бубен! – крикнул Хайдал.
Он опять сверкнул зубами и запел хриплым голосом свою ритмичную песню. Плечи его плясали. Конь жениха фыркнул и двинулся дальше. Хоровод продолжил свой путь под мерный рокот бубна, веселыми раскатами сопровождавшего прыжки молодых людей. И пыль снова рыжим пологом завесила свадебный кортеж.
* * *
Когда была вода и дров для костра хватало, – а в долине Бамиана того и другого было в достатке, – Уроз обычно делал остановку лишь после того, как серые сумерки переходили в темную ночь. В тот вечер это правило не было соблюдено.
Солнце еще не село за высокие горы, темневшие на западе, когда, переправившись через ручей, Зирех легла на берег, чтобы охладить кровавые рубцы на спине и груди, оставленные Хайдалом. Саис остановил Джехола, чтобы подождать Зирех. А Уроз вдруг почувствовал, что все его тело взмолилось с просьбой не ехать дальше. Это не было следствием боли или усталости. Действие лечения и мазей, примененных врачевателем, еще продолжалось. Но какое-то глубокое и настойчивое томление, проникающее до мозга костей, требовало немедленного расслабления в тепле, покое и мягком забытьи. «К чему откладывать стоянку? – подумал Уроз. – Спешить некуда. Место подходит вполне: ручей… луг у самой дороги… Кругом кустарники. И все необходимое для роскошной стоянки под рукой – стоит только развьючить мула».
– Поставь юрту! – велел Уроз саису. – И чтобы моя постель была пышной, мягкой и теплой! Хочу этой ночью спать, как эмир.
Мокки перепрыгнул через ручей, помог Зирех подняться. Намокший верх порванного платья прилипал к ее телу, будто покрытая цветной татуировкой кожа.
– Слышала, что сказал Уроз? – тихо спросил Мокки у Зирех.
– Слышала, – прошептала Зирех, и пересохшие губы искривились от ненависти. – Ему будет хорошо спаться, я тебя уверяю. Ни у кого, как ты знаешь, не бывает такого хорошего сна, как у покойника.
Мокки не удивился этим словам. Он их одобрял всем своим существом.
– Чем я могу тебе помочь? – все так же шепотом спросил он.
– Ничем, – сказала Зирех на выдохе. – Он мой. Он принадлежит мне одной.
Она глубоко вздохнула и возмущенно прошептала:
– Он даже не захотел марать свои руки о меня. Воспользовался другим, а сам наслаждался, пес безногий.
– Как ты это сделаешь? – не удержался Мокки.
– Узнаешь, когда я запричитаю над покойником, – отвечала Зирех.
В нее вселилась небывалая сила. Она схватила под уздцы мула и вывела его на бережок, где Уроз поджидал, сидя в седле.
– О, хозяин, – пообещала ему Зирех, – не успеет спуститься ночь, как для тебя будет готово ложе, достойное самого Али, а изголовье – достойное Пророка. Может быть, тогда ты простишь мне совершенную мною ошибку.
Голос ее был безмятежен и певуч. А лицо выражало самую униженную рабскую покорность.
«Сердце рабыни и тело потаскухи. Только кнутом вас и возьмешь», – подумал Уроз. Больше он о ней не думал. Ему не терпелось скорее отдаться сладостному отдохновению.
А Зирех подгоняла, подталкивала Мокки, не переставала сыпать советами. И сама тоже яростно трудилась. С раннего детства, на бесчисленных стоянках и ночевках, родичи кулаками и палкой вколачивали в нее искусство кочевой жизни. Каждый жест ее и каждое распоряжение были направлены на то, чтобы как можно скорее и как можно лучше создать уют. Как она и обещала, когда солнце только-только опустилось за зубчатую стену гор, и розовая заря еще не успела погаснуть на небосклоне, юрта уже стояла, прочная как дом, стояла посреди луга, под войлочной крышей, а внутри нее была сооружена постель, и костер пылал в очаге из трех больших камней.
Мокки вытер о штаны ладони с прилипшими к ним землей, травой и веточками и подошел к Урозу, чтобы снять его с седла. По его лицу и взгляду Уроз понял: «Он злится на меня за наказание его сучки больше, чем она сама».
Даже во времена, когда саис еще почитал и любил сына Турсуна, он никогда не был так внимателен, предан и ловок, как сейчас, когда он нес хозяина на руках. Между ненавистью, какой дышало лицо Мокки, и нежностью его рук противоречие было так велико, что Уроз почувствовал необъяснимое беспокойство. Но подбежала Зирех, приложила ладони к месту перелома, чтобы не допустить малейшего смещения осколков костей и малейшего их соприкосновения, и Уроз подумал: «Она хочет во что бы то ни стало искупить свою вину, за которую ее отхлестали. А он пляшет под ее дудку».
Зирех мягко и плотно придерживала ногу Уроза. Он был доставлен в постель без малейшего толчка. Для устройства ложа и украшения юрты Зирех использовала самые лучшие вещи, закупленные в Бамиане. Когда Уроза уложили на мягкий и нежный матрас, подперев ему спину пуховыми подушками, а ноги согрели легчайшими одеялами, веса которых он почти не ощутил, когда у изголовья, на импровизированном столике в виде перевернутого ящика, покрытого золотистой тканью, зажглась лампа, мягко осветившая юрту, эта непривычная роскошь обрадовала его до глубины души. Все его мышцы и конечности, его поясница и вся его кровь выражали признательность, на которую сам он был неспособен.
– Клянусь Пророком, – пробормотал он, закрыв глаза, – здесь славно поработали.
И тут Зирех склонилась низко-низко, чтобы поцеловать его свисавшую с ложа руку. Она думала таким образом усилить доверие Уроза к себе. Но тут она просчиталась. Неожиданное и благочестивое прикосновение ее губ вызвало у Уроза тревогу. В нем проснулся инстинкт самосохранения. Он незаметно приоткрыл веки и через щелочку увидел на лице поднимавшейся с колен женщины знакомое выражение жадности, решимости и хитрой осторожности. Он подумал: «Проучили тебя плеткой, сука несчастная, так теперь ты выслуживаешься – ладно! Но я-то знаю: душонка твоя трусливая способна только завидовать и ненавидеть, меня не обманешь».
– Пусть Джехол стоит рядом со мной, – распорядился Уроз. – До самого утра.
Мокки взглянул на Зирех.
– Ты что, не слышал, что сказал хозяин? – крикнула та с раболепным усердием.
И тут она тоже просчиталась.
«На этот раз они хотят заполучить не коня, – подумал Уроз. – Значит, деньги… А все их старания, чтобы получше меня усыпить…»
Он подавил ухмылку, начавшую было образовываться в уголках рта. Прежде всего, не вспугнуть Зирех. Обмануть обманщицу. Сохранить у нее ощущение полной безопасности. Направить ее по ложному следу.
– Он пил? – спросил Уроз у саиса, когда тот через высокий проем ввел Джехола в юрту.
– Да, хорошо попил, – ответил Мокки. – И поел. В Бамиане он получил двойную порцию овса.
– Стреножь его, и пусть стоит у самой моей постели, – настоятельно порекомендовал ему Уроз.
Он очень внимательно и с большим беспокойством смотрел, как Мокки привязывает Джехола. Велел поближе к постели вбить колышек, получше завязать путы.
Саис с радостью повиновался. «Давай… давай… – подумал он. – Заботься о коне. А Зирех позаботится о тебе».
Наконец Уроз дал им знать, что он всем доволен.
Зирех принесла поднос с чаем и пропела, а не проговорила:
– А вот и чай, самый крепкий, самый горячий, самый сладкий чай!
Уроз следил за всеми ее жестами, когда она ставила поднос на ящик-столик в изголовье, когда наливала темный от заварки чай. Ничего подозрительного он не заметил. Но ведь она могла еще снаружи бросить в чайник какое-нибудь снотворное зелье.
– Попробуй сначала сама, – приказал Уроз. – Не хочу обжигать рот, если чай слишком горячий.
– Хозяин оказывает мне большую честь, – выразила свое удовольствие Зирех самым смиренным и нежным голосом.
Она смело выпила полную чашку. Затем тщательно ополоснула и налила вновь.
– Дай ему немного остыть, и твой рот будет доволен, – заверила она его. – А я пойду приготовлю поесть.
Выйдя из юрты, Зирех присела у огня, который развел Мокки.
– Да поможет нам Аллах! – прошептал саис.
– Да будет благословенно имя Его, – подтвердила Зирех. – Дурак-то наш за коня успокоился и теперь блаженствует.
Она жалобно, по-детски застонала. До сих пор ее ярость, напряженный труд, хитрости и опасения отвлекали ее от физической боли. Но тут, когда появилась возможность расслабиться, разморенная теплом, идущим от костра, она почувствовала, как горит все ее тело, словно с нее содрали кожу. Она прикоснулась кончиком пальцев к начавшим покрываться корочкой рубцам, оставленным плеткой вокруг шеи и на спине. Эти движения сопровождали жалобные стоны:
– Больно! Так больно… Ой, как больно!
Мокки инстинктивно протянул к ней руки, чтобы обнять Зирех, и не решился прижать к себе это израненное тело.
– Ты бы полечилась, – посоветовал он хриплым голосом. – Мазями… бальзамами…
– Да, конечно, бальзамами… порошками, – прошептала она.
Брови ее сошлись. Мокки показалось при трепещущем свете костра, что лоб ее надвинулся и навис над лицом.
– Поставь лучше варить рис, – дала Зирех ему задание.
Он начал выполнять поручение, а сама она попробовала снять с шеи висящие на шнурке мешочки, с которыми никогда не расставалась. И резко отдернула руку, словно прикоснулась к раскаленному предмету. Шнурок прилип к голой коже, впился в окровавленную шероховатую поверхность шеи. Зирех оторвала полоску ткани от платья и намочила ее в воде, где варился рис.
– Дай я тебе сделаю, больно не будет, клянусь, – пообещал Мокки и взял у нее тампон.
Его большие пальцы привыкли оказывать помощь, и он сдержал обещание.
Он показал ей шнурок, как трофей. На нем висели пляшущие мешочки. Спросил:
– Развязать этот? Или этот? Для бедной твоей спины? Для шеи?
Зирех схватила его за руку и прошептала:
– Не трогай. Ты ничего не понимаешь в травах.
Там их столько же для смерти, сколько и для жизни.
Отобрав мешочки у саиса, она поднесла их к огню и стала пристально изучать метки из разноцветных ниточек на каждом из них. Покачала головой. Чуть приоткрытые губы неслышно повторяли заклинания. Мокки, не шевелясь, смотрел на нее. Он тихо поинтересовался:
– Ты говорила о смерти. Что смерть Уроза висит на этом шнурке?
– Потерпи, большой саис, мы слишком много болтаем, – медленно проговорила Зирех, кинув быстрый взгляд в сторону юрты.
Она начала тоненьким голосом напевать неизбывно печальную колыбельную кочевников, словно ей надо было успокоить разволновавшегося ребенка. Не переставая петь, развязала мешочек, помеченный красной ниткой, взяла щепотку травы и развела ее в небольшом количестве горячей воды, оторвала еще одну полоску ткани от платья и смочила ее полученной микстурой.
– Приложи и прижми тряпочку ко всем моим ранам, – велела она Мокки.
Когда он закончил, она надела тяжелое платье из плотной шерстяной ткани с широкими карманами. В правый она положила все мешочки, кроме одного, отмеченного темно-коричневой звездой, который она положила в левый карман. Шерстяная одежда согрела ее, и у нее вырвался вздох облегчения. Она деревянной ложкой зачерпнула горячего риса, попробовала и занялась приправами.
* * *
В юрте царил покой. Джехол спал, лежа на боку, пламя лампы за закопченным стеклом казалось неподвижным. Черные тени на стенках юрты не шевелились. Неподвижно лежал и Уроз, откинувшись спиной на подушки. Мозг и чувства его словно застыли. Он позволил им полностью расслабиться. Он знал, что может рассчитывать на них в случае опасности. И знал также, что опасность возникнет именно этой ночью.
Он услышал невнятный шепот за пологом, прикрывавшим вход в юрту.
«Ну что, уже?» – подумал Уроз.
Полог внезапно отбросили, и Уроз увидел темный силуэт Мокки на кровавом фоне костра. Он нес казанок с горячей ароматной пищей. Саис вошел, и полог упал. Мокки подошел к ящику у изголовья Уроза, поставил дымящийся казанок и отступил на один шаг.
– Постой! – повел бровями Уроз.
Был ли это действительно тот самый момент опасности, возникновения которой он ожидал, не зная, когда она придет?
– Постой!
Прищурив глаза, Уроз разглядывал Мокки. От него можно было ожидать только прямого грубого нападения. «Он не более чем оружие в руках своей бродячей сучки, – подумал Уроз. – Но это оружие в ловких руках может стать смертельным».
Уроз повернул голову к казанку, понюхал запах, идущий от еды, и вымолвил:
– Запах плова вкусен и приятен. Как жаль, что у меня пропал аппетит и мне не хочется есть одному.
Уроз вновь посмотрел на Мокки и непринужденным тоном продолжил:
– Поэтому я приглашаю тебя вместе с твоим прекрасным аппетитом разделить со мной трапезу.
– Меня? – округлил глаза Мокки.
Мешочек Зирех… Тот самый, с коричневой звездой… Он не думал, что она подсыпала тот порошок в пищу. Но можно ли быть уверенным, что он видел все ее жесты?
– Я за твоим столом? – снова выразил свое удивление Мокки.
– В пути нет хозяина и нет саиса, а есть только спутники, – сказал Уроз.
Голос его вдруг стал более грубым.
– Садись напротив! – приказал он.
Мокки присел на пятки по другую сторону ящика.
– Начинай есть! – сделал жест рукой Уроз.
Мокки вспомнил шепот Зирех перед тем, как он вошел в юрту: «Делай, что он скажет. Все, что он скажет». И протянул правую руку к казанку… Рука вдруг повисла в воздухе. Хоть и хитра Зирех, но предусмотрела ли она, что Уроз потребует…
– Тебя сегодня еще и упрашивать приходится, – настаивал Уроз.
Взгляд его потемнел от подозрительности, которую он даже и не пытался скрывать. Он вглядывался в лицо Мокки. Саис понял: сейчас если он хотя бы секунду промедлит, подозрение хозяина станет уверенностью. И по его вине заговор будет раскрыт… Опасение за судьбу Зирех взяло верх над страхом перед ядом. Мокки опустил три пальца в горячий, жирный рис, скатал шарик, положил его в рот и проглотил одним глотком.
Некоторое время оба сидела молча, не шевелясь. Потом Уроз поинтересовался:
– Ну как, вкусно?
– Так вкусно, что сам Пророк остался бы доволен, – шепотом ответил Мокки.
И почувствовал, как холодный пот выступил у него на затылке и потек по шее. Эти капли показались ему райской росой. Он отведал плова и остался жив. И вдруг, обнаруживая благословенный аппетит, сунул всю ладонь в казанок, сделал огромный комок и с шумом стал жевать. И еще, и еще. И даже не заметил, как Уроз после каждого его глотка немного поворачивал котелок. Когда, наевшись, Мокки начал облизывать один за другим пальцы, в казане не осталось места, где бы его рука не зачерпнула пищу.
– Ну, теперь моя очередь, – решился наконец Уроз.
Он ел без особого аппетита, только чтобы подкрепить силы. И это ему удалось, до того все было вкусно. Рис пропитался жиром. Для вкуса Зирех добавила туда еще бараньи мозговые кости. А главное – плов был обильно заправлен специями, наперчен так, что даже самый закаленный по части блаженного пламени острых приправ рот почувствовал бы их жар.
Уроз отодвинул казан, несколько раз громко рыгнул, затем жестом приказал Мокки удалиться.
Вход в юрту вновь открылся. Вошел Мокки, а за ним Зирех. Он – с наполовину полным ведром, она – с мокрым бурдюком.
– Прости, что помешали твоему покою, о хозяин, – пропела Зирех. – Саис подумал о Джехоле, а я подумала о тебе.
Мокки поставил ведро перед спящим конем, а Зирех прицепила бурдюк к углу ящика, который стоял возле Уроза. Полог входа поднялся и вновь опустился. Два силуэта, большой и маленький, исчезли, как и отблеск костра.
«Хотят, чтобы я уснул, – подумал Уроз. – Рассчитывают на усталость, на мою уверенность в безопасности, на обильный ужин…»
Уроз вытащил из-за пояса кинжал и засунул его в голенище сапога, который был на здоровой ноге. Началось его бдение…
* * *
Костер догорал. Мокки подбросил в него охапку хвороста. «В третий раз», – прошептал он. Зирех жестом велела молчать. Ее нервы были на пределе. Они ждали уже несколько часов. Ждали, когда в ночной тишине из юрты послышатся крик, стон, хрип. Напрасно. Зирех опять, еще раз, прижавшись животом к земле, подползла, гибкая и легкая, как змея, ко входу в юрту и бесшумно приподняла край полога. Уроз лежал неподвижно и, казалось, спал крепким сном. Она, также ползком, вернулась к Мокки. Саис прошептал ей на ухо:
– А что, если он проспит до самого отъезда?
Она так же тихо ответила:
– Плов… он ведь достаточно много съел… ты ведь сам сказал…
Мокки энергично закивал головой.
– Жажда свое возьмет, – уверенно заявила Зирех.
Почти в этот же момент Уроз почувствовал, что губы, нёбо и горло его пылают, как в огне, и, несмотря на желание оставаться недвижимым, чтобы обмануть противника, он решил попить. Он отцепил бурдюк, еще не просохший снаружи, повернул отверстием вниз и, приблизив его ко рту, с жадностью вцепился в дно бурдюка. Небольшое нажатие, и прохладная блаженная струя утолит невыносимую жажду. Но пальцы Уроза застыли; их будто сковал мгновенный паралич. Зато в голове мысли проносились одна за другой со скоростью молний.
Смерть поджидала его в бурдюке из козлиного меха… Страх Мокки перед пловом?.. Притворство… чтобы устранить опасения… А острая приправа… Мешает уснуть… Специально для того, чтобы усилить жажду… Так, значит, что? Яд…
Рука Уроза вновь обрела способность двигаться. Он положил ее на грудь. Сердце билось учащенно.
Сидя у костра, Мокки и Зирех услышали пронзительный крик из юрты. Они кинулись туда. Уроз сидел, прямой, со сверкающим взором.
– Пить! – потребовал он.
– Но… но… в бурдюке… Разве там недостаточно воды…
– Джехол, – ответил Уроз.
Только тут саис и Зирех обратили внимание на то, что конь стоит на ногах, бодрствует.
– Ему очень хотелось пить, – слукавил Уроз. – Свою воду он выпил. И я налил ему своей.
– И он выпил ее? – закричал Мокки с отчаянием.
– Возможно, – ответил Уроз.
Саис одним прыжком подскочил к Джехолу, оттолкнул его, опрокинул ведро. Уроз, не мигая, смотрел на Зирех.
– Большой дурак спросонья неловок, – объяснила она.
Ей не удалось избежать взгляда Уроза. И тот понял, что ее-то он не обманул. Она сообразила. Он ее обыграл. Причем на ею же подготовленном поле. Она, не дрогнув, признала свое поражение. До следующего раза. И сердце Уроза возрадовалось: схватка будет славной.
– Извини меня, о хозяин, – опустила голову кочевница.
Она вернулась с кувшином, полным воды. Уроз не стал заставлять ее пить первой. Он схватил кувшин и стал пить долгими, большими, блаженными глотками. Он чувствовал, что для Зирех в эту ночь он был бессмертен.
II ПСЫ
Крутой, бесконечный подъем. Тропа поднималась, поднималась между отвесными стенами, и ей не видно было конца. А склоны, казалось, уходили в небо. Уроз оглянулся в седле на выступ скалы у входа в ущелье. За ним осталась Бамианская долина. Только что видна была серебристая река, высокие тополя, белеющие поместья-крепости, красные скалы… Все это так близко… А Урозу уже казалось, что ничего этого не было. Только что там сияли первые лучи солнца, отражаясь в сверкающей поверхности весело бегущих вод, освещали свежую зелень садов, играли красками на стенах. А здесь был мир густых потемок. На вертикальных склонах ущелья никакой растительности. Никого и ничего в этом краю, одинаковом в любое время года.
«Все было, словно мираж, словно сон… – размышлял Уроз. – Оазис… Юрта… счастье от победы… Какой там победы? Победы над кем?»
Над этим дурачком со скошенным затылком, который шел перед ним, этакий мешок с мускулами, которого ведет в жизни не честь и не храбрость… а шлюха? Дочь греха, потаскуха-кочевница, велика же заслуга понять, что она все сделает, чтобы украсть у него деньги, спрятанные у него за пазухой! Уроз сплюнул густую горькую слюну. Во время боя баранов ему померещилось, что на него снизошла божественная благодать, потому что баран с обломанным рогом исхитрился распороть бок другому. Ничтожная слава! В прошлую же ночь он возомнил себя бессмертным от того, что одержал верх над пропащей девкой.
«Итак, что же?.. Нет риска – нет и радости… Значит… все с начала… вечно повторять игру?» – спрашивал себя Уроз. На него свалилась безмерная усталость. Каждый мускул его налился свинцом. Кровь сделалась как лед. Бамианская долина находилась на высоте в десять тысяч футов. А дорога в ущелье все поднималась. В сумраке, никогда не пробиваемом солнечными лучами. По темному дну ущелья гулял только ледяной ветер со снежных вершин.
Вернулась боль, липкая, гнилостная и острая, она распространялась по всей ноге, от колена до подошвы. Уроз вспомнил бамианского лекаря. «Лечение и мази помогут, но ненадолго, – сказал ему круглый человечек. – А потом тебе будет угрожать смерть». И вот смерть, этот отвратительный червь, точит его тело, грызет кости и превращает алую кровь в зловонный гной… «Я уже не могу даже прилично держаться на коне», – думал Уроз, расслабленно сидя в седле.
Мокки остановился, забрался на груду камней у тропы и крикнул оттуда:
– Скоро ущелье кончится.
Это повторило крик, и Урозу показалось, что слова эти пролетели над ним, сквозь него и предназначались только Зирех. Он подумал: «Я для них уже покойник. Они уже чувствуют себя хозяевами и коня, и денег».
Он попытался рывком выпрямиться и почувствовал, как у червя появилось много-много новых ужасных колец, которыми тот сдавливает и перемалывает все нервы его тела. Ему все же удалось выпрямиться. А затем усилившийся жар помог ему. Он выехал из ущелья с высоко поднятой головой. И с этого момента уже не принадлежал себе.
Перед ним простиралось бесконечное плато. Оно было покрыто пылью цвета золы, крупной, твердой и зернистой. Это было царство ослепительной смерти, царство холодного солнца. Наполненное светом до такой степени, что всякий свет становился здесь густым и незрячим, более безжизненное, чем голая остывшая черная лава, более безутешное, чем слезы ангелов, более прекрасное, чем сама красота. Поднятая на высоту пятнадцати тысяч футов над уровнем моря, эта равнина не была землей людей.
Этот мир астральных степей окружали горы. Он был так близок к небу, что отделяла их друг от друга лишь цепочка гор на горизонте, отчего казалось, будто это какие-то боги, не известные ни одной религии, воздвигли под ледяным небосклоном ограду по образу и масштабу этого величественного и устрашающего плоскогорья. Эта стена была выстроена из скал и света. Из них же созданы были ориентиры, орудия и знаки, предназначенные для неведомых сказочных посетителей. Гигантские корабли из порфира, бросившие якорь во льдах веков. Коралловые плоты, висящие над лазурью. Пики, подобные гигантским маякам, светящим для далеких звезд отраженными лучами солнца. Порой на розовой окаменелой пене возникали еще уродливые драконы и колоссальные идолы.
Подняв к небу голову, Уроз не спускал глаз с гигантских загадочных творений, опирающихся на горные вершины. Ему казалось, что и сам он лишился телесной ткани, стал призраком, тенью.
Мокки, тот просто испугался. А Зирех и того сильнее. Она тщетно искала вокруг себя признак какой-нибудь жизни, следы человека. Наконец она увидела, далеко справа, у подножия горы, на краю плоскогорья, слабый дымок. Потом еще один. Она показал на них Мокки. Тот взглядом задал вопрос Урозу. Тот ничего не увидел. Мокки свернул в сторону дымков, и Джехол пошел за ним. Уроз этого не заметил. Чтобы вывести его из того неопределенного состояния, в котором он оказался из-за усталости, жара, боли и экстаза, вызванного этими ощущениями высокогорного одиночества, этими сверхъестественными камнями, понадобились собаки.
Когда их маленький караван стал приближаться к северной гряде гор, со стороны дымков послышался странный звук. Он напоминал шум, создаваемый порывами ветра в зимнюю непогоду. Но здесь воздух был неподвижен. Сияло солнце. Далекий шум не обладал ни голосом, ни крыльями ветра. Он был низким, хриплым, неровным и, казалось, исходил из земли. Шум приближался, разрастался, усиливался. Высота, безмерность простора, голая поверхность плато, гранитные фигуры и каменная тишина пустыни придавали этому не смолкавшему ни на мгновение шуму какую-то власть, превосходящую самые загадочные силы природы. Словно скалы и небо, песок и солнце плакали, смеялись и рычали все вместе. Как будто демоны, сорвавшись с цепи, предвещали ужасный крах сошедших с ума небес.
Уроз не почувствовал ни страха, ни удивления. Этот путь мог вести только к концу всех дорог. Не удивился он и тому, что Мокки остановился, а рядом с ним и Джехол: конь и саис ждали, когда каменная пустыня расколется и под ногами разверзнется земля. И когда Уроз услышал, наконец, яростный лай, он подумал: «Вот она, проклятая свора, живущая в преисподней, о которой сказано, что выйдет она оттуда только в последний день рода человеческого и звезд небесных».
Из каменной пустыни одновременно появились три зверя. Уроз принял их именно за тех, кого ожидал. Были они сильные, узловатые, все из массивных костей и дергающихся мускулов. Короткая шерсть цвета серы стояла на них дыбом от ярости. Огромные челюсти и сверкающие клыки были испачканы белой пеной. Злоба налила их глаза кровью. И на их огромных головах не было ушей.
Плотные и вместе с тем легкие, псы неслись как хищные звери большими стелющимися прыжками. Тот, что бежал впереди двух других, бросился к раненой ноге Уроза, безжизненно висевшей на боку Джехола. Уроз замахнулся плеткой. Он знал, что обороняться от зверя-демона из преисподней бесполезно и смешно. И все же инстинкт заставил его хлестнуть по белой пене разинутой пасти, по красным от ярости глазам. После чего он опустил руку, готовый встретить смерть. Но пес взвыл от боли и злобы и отскочил назад. В ту же секунду Джехол поднял копыто для удара, и пес отпрыгнул в сторону. «Клянусь Пророком, плеть его пронимает, а копыто пугает… это простая собака», – понял Уроз.
Пес решил повторить атаку. Уроз изо всех сил хлестнул его по голове, лишенной ушей. Зверь упал с долгим воем. «Славный демон», – подумал Уроз, устыдившись. «Да, славный демон, прекрасный сторож овечьих отар, которому хозяин отрезал уши, чтобы степным и горным волкам не за что было уцепиться».
Тем временем две другие собаки вместе кинулись на Уроза со стороны раненой ноги. «Запах открытой раны, крови, падали», – подумал Уроз. Рассудок его пробудился и был ясен. Его нервы развеселились от этой внезапной схватки. Он почувствовал прилив сил. Стал крутить Джехола и так и сяк, и конь вставал на дыбы, брыкался задними и передними ногами, а хозяин хлестал, хлестал, хлестал изо всех сил и с нарастающей радостью. Мокки хотел было ввязаться в драку, набрав острых камней. Но Зирех подбежала к саису и приказала:
– Брось камни, бесполезно. Собаки от них становятся только злее. Таких много у кочевников… Я их знаю…
Она перевела дыхание. Уроз продолжал отбиваться, работая плеткой.
– А он, он не свалится с седла, не бойся, – продолжала Зирех. – От драки он становится только сильнее. Теперь я его знаю.
– Но они могут покусать коня, – выразил опасение Мокки.
– Не должны, – ответила Зирех.
– Что же делать? – вскричал саис.
– Главное, – порекомендовала ему Зирех, – не ходи сейчас за мной.
И Мокки с ужасом увидел, как она направилась к вихрю, в который превратилась схватка, откуда доносились лай, ржание, топот копыт, свист и щелканье плети. Псы, не переставая, нападали на Уроза. Ослепленные яростью, они даже не обратили внимания на Зирех. Та подошла поближе. Одна из собак, спасаясь от копыт Джехола, откатилась и оказалась рядом с Зирех. Устрашающая оскаленная голова без ушей с налившимися кровью глазами и мордой в пене возникла прямо перед молодой женщиной. Та не сделала ни малейшего движения, чтобы уклониться. Собака зарычала, вся подобралась, подготовилась к прыжку…
Несмотря на запрет Зирех, Мокки все-таки хотел бежать к ней. Но его остановил крик, хриплый и резкий, с необычной модуляцией. Не могла же Зирех, такая хрупкая и тонкая, издать этот крик. «Тогда кто же?», – подумал саис… Все мышцы его напряглись, чтобы броситься вперед, и тут же расслабились. Огромный пес, услышав окрик, покорно припал к земле у самых ног маленькой кочевницы. Крик повторился, и два других пса, оставив Уроза, подбежали к тому, который уже лежал. Вдруг успокоившись, все три собаки вопрошающе и внимательно смотрели необыкновенно умными взглядами на женщину. «Они ждут ее приказов. Так, значит, это она кричала?» – подумал Мокки. Словно отвечая ему, Зирех протянула руку в сторону дымков.
Злобные глаза животных мигнули раз, другой. Потом длинными прыжками все три безухих демона понеслись в ту сторону, откуда появились.
– Как, как ты научилась такому крику? – с восхищением спросил саис у Зирех.
– Так это же собаки кочевников, – ответила та. – Хороша бы я была, если бы забыла команды, которым они подчиняются.
Уроз проехал перед Мокки и Зирех, словно не видя их. Волнение схватки, счастье боя исчерпали свои возможности. Толчки и беспорядочные движения больной ноги во время нападения собак усилили его страдания. Только одно средство от боли знал Уроз: ехать вперед, согласовывая с шагом коня движения пилы, туда-сюда, мучившей его плоть, доводя себя до полуобморочного состояния, и таким образом перенести свою жизнь в убежища, где человек оказывается невосприимчивым ни к радости, ни к боли, и где есть место только для игры воображения и мечтаний. На помощь Урозу пришли лихорадка с ее все усиливающимся звоном в ушах и поднявшееся в зенит солнце, залившее все белым, как расплавленный металл, светом. Боль, казалось, постепенно вышла куда-то наружу. Она была по-прежнему тут, но как бы не в нем. Она вцепилась во всадника, сидевшего рядом с Урозом, в его седле, но это уже был не Уроз. Этот несчастный двойник, которому он отдал свое раненое тело, ехал, раскачиваясь вместе с ним, расслабленный, раздавленный, растерзанный. А настоящий Уроз гарцевал в вышине рядом с самыми высокими горами. Он был сказочной вершиной, а вершина была им. Он плавал на огромных плотах, и небо было его парусом. Он гладил гигантских драконов с клыками в виде снежных вершин. И в храмах, которым невиданные горы служили всего лишь опорами, он узнавал молитвы, неизвестные даже самым набожным паломникам, даже самому ученому из богословов, молитвы, превосходившие все их проповеди по глубине истины, совершенству праведности и яркости излучаемого света.
Давно замер, умолк лай безухих собак. Только копыта Джехола нарушали тишину. Мокки и Зирех ступали беззвучно. Саис шел за конем, рядом с Зирех. Он уже не нужен был Урозу, чтобы выбирать дорогу, идя рядом со стременем, и предохранять хозяина от толчка, удара или падения. Теперь он только этого и хотел. «Падай, падай, мешок с гнильем, ну упади же, – повторял про себя Мокки, преисполненный презрения к этому обмякшему в седле телу, едущему в позе, недостойной наездника. – Падай же, и пусть солнце иссушит, а ночь заморозит твой труп».
Он взглянул на Зирех. О чем она думала? Лицо ее было видно в профиль и ничего не выражало. Спросить? Но как? Это чертово молчание скал, неба и солнца не оставляло места для звука человеческого голоса. И все же Зирех заговорила: она умела высказывать свои мысли на манер немых. Она сказала:
– Если он упадет, мы его прикончим.
– Да, да, – тихо согласился Мокки. И одними губами она добавила: – А кочевники будут свидетелями нашей невиновности.
– Да, да, – снова отозвался Мокки.
Слова эти были не громче дыхания. Но воздух был так тих и легок, что вибрация их долетела до Уроза. Во всяком случае, до его двойника, до того, кого удерживало в седле и в человеческом каркасе одно лишь страдание. Пока другой Уроз, недосягаемый для всех, по-прежнему плыл от вершины к вершине, этот почувствовал тревогу. Так умирающий волк чует, как по его следу идут хищники, питающиеся падалью.
С такой же алчной надеждой Мокки и Зирех молча, бесшумно, шли за всадником, теряющим остатки сил… Падение… Удар в висок… Еще удар… Смерть… И все признаки несчастного случая… Скорее: завещание, деньги… Юрты кочевников… Оплакивание… Похороны… И наконец свобода. И богатство. Чтобы исполнилось это неодолимое желание, достаточно было потери сознания, толчка, неверного шага коня.
А солнце тем временем поднималось все выше… тени становились все короче, а потом и вообще пропали. Сжавшееся, скрючившееся тело, раскачиваясь, продолжало держаться в седле. А ровная каменная пустыня простиралась без конца, без края. У Мокки не хватило терпения шакала или гиены. Он шепнул на ухо Зирех:
– Я сброшу его.
Она наклонила свой выпуклый лоб.
Мокки подобрал тяжелый камень, по размерам широкой ладони, и побежал. Джехол шел очень медленно. Саис быстро догнал его. Еще мгновение, и он бы схватил, стащил Уроза с коня. Но в эту секунду Джехол повернул голову в сторону саиса и вдруг пошел быстрее. Мокки застыл, стоя на одной ноге. В больших, влажных глазах коня он прочел выражение, в которое не мог поверить… Такая строгость, такая враждебность к нему, саису, кормильцу, другу, брату…
«Не может быть… это не Джехол… и не я… мне показалось… полуденный свет на такой высоте обманчив», – подумал Мокки. Он с силой топнул зависшей в воздухе ногой, ускорил шаг, снова догнал коня и вновь увидел его взгляд. На этот раз сомнения быть не могло. Джехол отказывался подпустить его к себе. «Почему? – подумал Мокки. – Почему?»
Он почувствовал себя скованным холодом, парализованным. Он не мог признать себя отвергнутым единственным существом на свете, которого он всегда понимал, защищал, холил, обожал и со стороны которого видел только благодарность, наполнявшую его счастьем. Такой порядок был таким же естественным и необходимым, как само солнце. «Так почему же, почему?» – недоумевал Мокки.
«Может, из-за камня, который я держу в руке…» – подумал Мокки. Он разжал пальцы, позволив камню упасть и, словно судье, показал Джехолу пустую ладонь. Конь по-прежнему был настороже. Мокки начал приближаться. Джехол быстро отскочил на почтительное расстояние, чтобы быть недосягаемым для саиса, но сделал это мягко и осторожно, чтобы не нарушить равновесия Уроза. И опять пошел ровным, широким, упругим шагом. Мокки смотрел, как он удаляется, не в состоянии ни сделать какой-то новый жест, ни собраться с мыслями, пока Зирех, коснувшись его плеча, не спросила:
– Чего ты ждешь?
– Ничего, – ответил Мокки еле слышно… – конь не хочет, чтобы я его трогал.
– Ты что, с ним разговаривал?
– Нет, – помотал головой Мокки.
– Позови его. Он всегда слушается тебя, – настаивала Зирех.
– Сейчас не послушается, – возразил саис.
– Как это так?
Лицо саиса выражало странное разочарование и одновременно гордость. Он тихо объяснил ей:
– Великий скакун бузкаши до самой смерти защищает своего наездника против человека, который затаил против него злобу.
– Да откуда конь может знать? – спросила Зирех.
– Он знает, – отвечал Мокки.
В его голосе и в глазах были такая убежденность и такая вера, что она не смогла ему возразить. Только подумала: «Если я понимаю язык собак, сторожащих юрты, то почему большой саис не может понять то, что говорят степные скакуны?»
Джехол достаточно удалился от Мокки и Зирех, чтобы Уроз был вне досягаемости брошенного камня. Конь убавил шаг. Но время от времени оглядывался. Его настороженный взгляд говорил, что он намерен сохранять эту дистанцию.
Каждый раз Мокки тяжело вздыхал. И каждый раз Зирех шептала ему на ухо:
– Когда-нибудь он остановится.
Так они и двигались по огромному плоскогорью. Всадник в полуобморочном состоянии, защищаемый инстинктом его коня. А далеко позади – большой саис, переживающий, оттого что потерял единственного друга, и маленькая кочевница, вся в своих мечтах о богатстве.
Долгим, очень долгим был их путь. Казалось, ни усталость, ни голод, ни жажда, не смогут сломить Уроза и его коня. Солнце перевалило за полдень и стало склоняться к горным вершинам. А Джехол все шел и шел. Снова появились тени. У трех путников появились и стали расти странные спутники, прозрачные и словно струящиеся, которые, не отступая от них ни на шаг, плясали у них под ногами на каменистой почве. А Джехол все шагал. И вот уже лишь узкая полоска неба отделяла красное солнце от самых высоких гор. Сумерки придавали горным хребтам такую же мистическую тональность, как и базальтовым чудовищам, разбросанным по равнине. И на всей поверхности плато воздух приобрел такой же печальный пепельный цвет, как и земля. А Джехол все шагал и шагал.
Шел ли он сам по себе? Уроз ли управлял им, машинально сокращая свои мышцы? Понять это в вечерних сумерках и на том расстоянии, на котором находились от него Мокки и Зирех, было невозможно.
– Может, он уже умер, – предположила Зирех.
В течение всего этого долгого пути без остановок, без еды, без воды, она молчала, чтобы сохранить дыхание. Голос ее стал тихим и приглушенным. Саису показалось, что щеки его коснулось крыло летучей мыши.
– Да, он умер… – прошептала она еще раз.
Однако вместо радости, которую она должна была бы испытать при этой мысли, она почувствовала какое-то странное беспокойство. Солнце вот-вот должно было коснуться края гор. А значит, вот-вот должна была наступить холодная ночь со всеми теми бедами, что таит в себе пустыня, сотворенная демонами высоко над миром.
Рука Зирех коснулась руки Мокки. Она просила помощи.
– Если хозяин умирает в седле, то как поступает степная лошадь? – спросила Зирех шепотом.
Мокки вздрогнул. Он ответил через силу.
– У нас она останавливается, опустив гриву… А здесь… не знаю… ничего не знаю.
– И тогда, – прошептала Зирех, – тогда придется идти за ним? В темноту, в ледяной холод? И потерять его… И потеряться самим?
– У нас есть все для ночевки в любое время, – ответил Мокки и потянул за веревку усталого мула.
– А конь, а деньги? Ты хочешь от всего отказаться? – спросила Зирех.
– Никогда, – ответил Мокки.
Он уже не надеялся на добычу, но чувствовал, что и он тоже не сможет остановиться. Кто же тянул их за Урозом? Мокки посмотрел на полоску неба, оставшуюся между красным светилом и вершинами гор. Она сузилась до предела. Сумерки начали скрывать от них силуэт коня. Мокки от страха даже зажмурился. Он только сейчас понял, что происходит. Перед ним был не Уроз, мертвый или живой, а… Мокки хотел дальше не думать, но ему это не удалось. Всадник-призрак… Всадник-призрак…
Зирех по-прежнему держала в руке кисть Мокки. Она почувствовала, как вдруг ускоренно и неравномерно забился его пульс, и спросила:
– Тебе плохо?
Мокки словно не слышал ее. Пальцы Зирех почувствовали скользкую жидкость. Ей знаком был этот пот, и она прошептала:
– Ты сейчас боишься еще больше моего. Почему?
Напрасно Мокки искал нужные слова. Как передать ночные страхи малых детей, забившихся и забытых в самом темном углу юрты, когда они слушают старых пастухов, торговцев вразнос, бродячих рассказчиков, сидящих вокруг самовара? Все рассказы у них всегда страшные. От страха прямо сводит живот. Хоть засовывай в рот кулак, чтобы не закричать от страха. Кровожадные цари, жуткие колдуны… Но самое ужасное – это всадник без лица, едущий день и ночь, ночь и день, по скалам и пескам, по колючкам и камням. Едет он едет, едет годами и никуда не приезжает. И всех, кого ни встретит, забирает с собой, забирает беспощадно и безвозвратно, до скончания мира. И вот сейчас этот детский страх вновь охватил Мокки. Пот лил с него все обильнее и обильнее. Зубы стали отбивать дробь. Он показал на тень человека, привязанную к тени лошади, едва различимую в ночи и пробормотал:
– Ты не знаешь… ты не знаешь… Всадник-привидение.
Грубым движением Зирех отшвырнула его руку. Эта охватившая его паника заставила ее позабыть свои страхи. Она опять взяла его руку, но уже не для того, чтобы опереться на нее, а для того, чтобы вести его.
– Ты говоришь как старая баба, – сказала Зирех.
Теперь она уже не шептала. И в сказочной тишине промерзших высот, камней и безлюдья, голос ее прозвучал с необычайной силой. Мокки даже остановился, ожидая, что сейчас они за это будут наказаны и землей, и небом. Но небо не обрушило на них молнию. И земля под ногами тоже не разверзлась.
Зирех побежала. Одной рукой она тянула Мокки, другой – мула. Постукивание копыт и поклажи вернули саису силу и смелость. Он понял, что мир по-прежнему тверд и прочен. С каждым шагом он все лучше и лучше осознавал свое присутствие в мире, свое место на земле. И в таком восстановившем свои очертания мире всаднику-фантому нечего было делать. По мере того, как расстояние между ними сокращалось, колдовство и страхи отпадали. Тень, за которой он шел, уже не была огромной и искаженной темнотой и испарениями. И размеры и форма тех, кто ее отбрасывал, тоже были как у всех смертных. Конь под всадником был отличным и выносливым, ничего больше. Человек на лошади был человеком, только и всего. Еще несколько мгновений, и конь стал Джехолом, а человек – Урозом. Урозом обессилевшим, полностью находившимся в его власти. Что он сейчас и собирался ему показать, этому обманщику, лжецу и предателю!
Зирех всем весом повисла на руке саиса.
– Нет, – крикнула она, – нет! Конь опять от тебя побежит… Смотри, смотри… Он вроде собирается наконец остановиться.
Хотя ничто не мешало Джехолу продолжать шагать прямо вперед, он замедлил шаг и стал брать вправо. Мокки и Зирех вгляделись и увидели в том направлении смутные очертания холма.
До сих пор сумеречный свет как бы приклеивал его к далеким горам, служившим для него фоном. Он казался выступом горного кряжа. На самом же деле от стены гор его отделяло довольно большое расстояние.
Холм имел форму пирамиды. Сейчас только вершина его освещалась лучами солнца, уже ушедшего за гребень гор. Все, что было ниже красной, как бы только что прокаленной на огне вершины, погрузилось во мрак. Хотя в сумерках еще можно было различить низкие строения, ступенями спускавшиеся вдоль узких улочек.
– Кишлак! Вон там! – закричал Мокки.
Он уже не сдерживал голоса. Но Зирех опять перешла на шепот.
– Заклинаю всеми духами дорог и ночи, замолчи!
Она впилась ногтями в ладонь Мокки и прошептала:
– Все племена, которые кочуют между Хазареджатом и верхними перевалами, рассказывают об этом холме… Это их кладбище.
– Тогда… тогда… эти дома… – произнес Мокки еще тише, чем его подруга.
– Это захоронения, – пояснила Зирех. – Если кого смерть настигает в пути, то его не закапывают у дороги, а приносят сюда.
– И давно?.. С каких пор? – пробормотал Мокки.
– Всегда, – ответила она.
Тут саис понял: все памятники, которыми был покрыт холм по всей высоте и со всех сторон, были захоронениями, сделанными из собранных камней. Под ними вечные караваны при каждом переходе оставляли человеческие останки.
Последний луч солнца угасал на вершине холма. Пирамида была свинцово-серой, а надгробия черными как чугун. А вокруг земля и сам воздух казались пепельно-серого цвета.
– Прислушайся, – прошептала Зирех.
Поднимался ночной ветер высокогорных плато.
Он ли свистел и стонал, как человек? Или кости тех, кто кочевал всю жизнь, до последнего часа, и навсегда успокоился под этими камнями? «Конец людей, конец их душ», – подумал Мокки. Ему стало холодно. Он еле слышно произнес:
– Зирех… здесь нельзя так оставаться, нельзя.
– Подожди, надо узнать, чего хочет лошадь, – сказала она.
Джехол остановился у подножия холма. Его уши дрожали, он к чему-то принюхивался. Беспокойно и нерешительно раскачивал головой то влево, то вправо. Он так обрадовался, увидев, после столь долгого перехода, кишлак, где можно будет отдохнуть, согреться, напиться и поесть. И вот, когда дошел, ничего этого не было. Ни огня. Ни звука. Ни запаха человека или животного. И ветер не доносил приятного запаха кизяка, горящего в очаге. Джехол, весь день шагавший по собственному разумению, почувствовал, что разрешить эту трудность ему не под силу. Нужно решение и указание всадника, а тот так безучастно и так тяжело давит своим весом на седло.
Громкое ржание… резкий толчок… острая боль в костях… Уроз открыл глаза… Перед ним возвышался холм, слабо освещенный вверху последним лучом, который тут же и погас.
«Наступила ночь», – подумал Уроз. Последнее, что он помнил, было яркое солнце. Стал вспоминать, что он делал все эти часы. Спал? Был в обморочном состоянии? Какая разница! Несмотря на слабость во всем теле, чувствовал он себя хорошо. Голова была ясной. Тело отдохнуло и слушалось его. Вечерний холод остужал разгоряченное жаром тело. И он сам, подобно своей коже, тоже находился на грани двух враждующих стихий, сочетание которых стало для него благом. Он сохранил ясный и четкий контакт с действительностью и в то же время обрел способность, как во сне, без тени страха и смущения принимать на веру обстоятельства и образы, которые разум никак не мог допустить.
Он быстро понял, что представляли собой мнимые дома, которые возвышались перед ним, и не испугался, даже не удивился. Вчера, да и сегодня утром тоже, он ни за что не хотел бы делать остановку в таком месте. А сейчас он просто подумал, что надгробия вполне могут служить укрытием от холодного ветра, продувающего голое плато.
Уроз коснулся здоровой ногой бока Джехола, и тот стал двигаться вдоль основания холма. В темноте казалось, что захоронения расположены вплотную друг к другу. Но при ближайшем рассмотрении, оказалось, что они стоят порознь, что у них разная форма, разный размер каменных глыб, да и расположение, зависевшее то ли от воли случая, то ли от прихоти строителей, тоже разное. На некоторых памятниках поверхность камней была почти гладкой. На других шероховатости образовывали загадочные знаки. Тут виднелись навесы. Там – ниши. Уроз двигался очень медленно. Он искал более доступный подход, чтобы проникнуть внутрь кладбища.
И тут из каменных захоронений послышался голос. Слабый, тонкий, измученный и в то же время очень отчетливый. По тембру, чистоте и слабости он напоминал звук надтреснутого хрусталя. В тишине слова долетали по отдельности, как бы фильтруясь сквозь слои времен.
– Это не ты ли приближаешься, о Уроз, сын Турсуна?
От неожиданности Джехол вздрогнул. Позади, в нескольких шагах, одновременно раздались два крика, вопль и стон одновременно.
«Мокки… Зирех… – подумал Уроз. – Они тоже услышали голос из могилы, зовущий меня».
В любой другой момент он подстегнул бы Джехола плеткой и поскакал бы прочь – во тьму, в холод, в пустоту… Но в эту ночь ничто не могло его испугать, ведь все казалось ему естественным. Он крикнул:
– Кто б ни был ты, ты не ошибся. Турсун – действительно мой отец, а я – Уроз.
– Тогда двигайся прямо, – отозвался хрустальный голос. – Ты легко меня увидишь.
Уроз придержал Джехола. Не от того, что сомневался, ехать или не ехать. Просто ему показалось, что голос этот он когда-то уже слышал. Где, когда? Не в силах вспомнить, он направил коня вперед.
Никогда еще Джехол не ступал так осторожно, так медленно. Проезжая вдоль строя могил, Уроз вглядывался в каждый промежуток между нагромождениями камней и порой прощупывал их рукояткой плети. Вдруг рука привидения ухватится за нее. Он ехал чуть ли не на ощупь. Ночная темнота полностью покрыла землю. Вдруг, несмотря на натянутый повод, Джехол пошел быстрее. И Уроз увидел, почему. Перед ними на уровне почвы, но чуть выше, на некотором расстоянии, темноту прорезала золотистая ломаная линия, похожая на застывшую молнию. «Отблеск пламени, окаймляющего привидения взамен тени», – подумал Уроз. И отпустил повод.
Джехол побежал почти рысью. «Наивный, он думает, что это настоящий очаг», – подумал Уроз. Светящаяся линия не шевелилась. «Покойник надо мной потешается», – решил Уроз. И вдруг он оказался перед костром. Перед настоящим костром. Небольшим, из сухого хвороста. Он горел в углублении перед грубым надгробием. За костром сидел человек. Не скелет. Не привидение. Живой человек. На нем была длинная накидка. А у ног лежала сума. При свете костра нельзя было определить его возраст. Он сказал:
– Пусть великий покой этого места снизойдет на тебя, о Уроз.
И Уроз поклонился, насколько позволяла ему его поза в седле, и ответил.
– Мир и хвала тебе, Пращур. Мне удивительно повезло, что я встретил тебя здесь.
– А я ждал тебя, – посмотрел на него Гуарди Гуэдж.
III ПЛАКАЛЬЩИЦЫ
Камни, покрывавшие надгробие, сильно нависали над теми, что поддерживали их. Получался навес. Да еще с каждой стороны, с боков, были сложены камни, образующие стенки. Так что получалось подобие пещеры, открытой только со стороны плато.
Костер, разведенный Гуарди Гуэджем, был как бы пламенеющим окошком в этом подобии склепа. Мокки и Зирех увидели на светлом фоне силуэты Уроза и коня, словно нарисованные тушью. Зирех прошептала:
– Это не он, это его тень.
– Нет, – ответил Мокки. – Нет!
Он уже однажды попался в ловушку. Одного раза довольно. Сложив ладонь рупором, он крикнул: —Уроз, о Уроз, я здесь.
– Так чего же ты ждешь и не снимаешь меня с седла? – отвечала тень.
Зирех вцепилась в плечо Мокки.
– Не ходи, – умоляла она. – Не слушай привидения.
– Разве ветер доносил бы от привидения запах гноя? – возразил саис.
Как раз в этот момент порыв ветра отклонил в сторону завесу пламени от костра. За ним стал виден редкой худобы человек, прислонившийся к стене надгробия.
– Видишь, видишь, – прошептала Зирех. – Дух покойника вышел из могилы, чтобы и нас туда затянуть.
Тут Мокки заколебался. Он решительно не понимал, кто это может быть.
– Уроз, о Уроз, – крикнул он неуверенным голосом, – тот, кто сидит за костром, он просто путник как все?
И не успел Уроз ответить, как в ночи раздался слабый голос, подобный звуку надтреснутого хрусталя:
– Иди к моему огню и не бойся, – произнес он. – Привидениям не нужен костер для согрева старых костей.
– Он живой… – подтвердил Мокки, обращаясь к Зирех… – И кажется… кажется…
И, не закончив, саис побежал к входу в нишу и над светом костра разглядел в пляшущем его пламени лицо Гуарди Гуэджа, человека без возраста, разглядел его морщины, такие глубокие и многочисленные, что щеки его были похожи на древний пергамент, испещренный загадочными знаками.
Мокки низко поклонился, коснувшись ладонью холодной земли, и воскликнул:
– Я так и знал… Пращур… я знал, о Память Всех Времен… Кто хоть раз слышал твой голос… не забудет его никогда. Клянусь Пророком, так думают все садовники, повара, пастухи и саисы, кому в наших краях ты рассказывал о славных делах Аттилы, великого полководца. Ты рассказывал, что он родом из наших мест, из Меймене, что он вышел из своего родного города Акча и завоевал полмира.
Быть может, то была игра света? Но по бесцветным губам Гуарди Гуэджа словно скользнула тень улыбки. Прожитые годы, опыт и усталость иссушили и исчерпали в нем все источники радости. Но старый сказитель все еще любил свои рассказы. И ему было приятно, что совсем молодой человек помнит один из них, и что дети его детей передадут их потомкам, и будет он жить вечно, вопреки бегу времени и косе смерти.
Уроз испытывал адскую боль. Стиснув зубы, он приказал саису:
– Отнеси меня к костру. Джехола стреножь и привяжи поближе ко мне. Юрту мне расставлять не надо.
– Чуть дальше, – посоветовал Гуарди Гуэдж саису, – ты найдешь колодец, а рядом с ним – сухой хворост. Каждый караван, проходя здесь, оставляет запас для следующего.
Мокки усадил Уроза спиной к стенке, рядом с Гуарди Гуэджем, и сказал:
– Я приведу Джехола, когда он напьется.
– И чаю, да поживее, – сказал Уроз.
Он промерз до мозга костей. Чтобы зубы не клацали, ему пришлось двумя руками прижать нижнюю челюсть к верхней.
– Я так и думал, что встречу тебя в таком состоянии, дошедшим до последней границы самого себя, – сказал ему Гуарди Гуэдж.
– Как… как ты мог знать… что найдешь… найдешь меня… на этом высокогорном кладбище?
– Для того, кто отказывается ходить обычными путями, единственная дорога проходит здесь, – отвечал Гуарди Гуэдж. – Она пересекает нагорье, а единственное тут место для стоянки – это кладбище.
Продолжая прижимать подбородок ладонью, Уроз спросил:
– А где ты узнал о моем поражении, Пращур?
– На тропе, ведущей от Калакчекана к конюшням Осман-бая, – ответил Гуарди Гуэдж.
Оба с такой интенсивностью подумали в эту минуту о Турсуне, что им показалось, будто его образ явился и сел между ними. Однако имя его не было произнесено. Каждый ждал, что другой первым заговорит о нем. Гордость мешала Урозу сделать это. А Гуарди Гуэдж молчал потому, что был мудр.
Огонь стал слабеть. Старик подбросил хвороста. Пламя осветило его пальцы, кисти рук, лицо. Они были такими хрупкими и прозрачными, что на них было тяжело смотреть. Кожа да кости без намека на плоть.
– Как удалось тебе добраться так быстро сюда из степей, Пращур? – тихо спросил Уроз.
– Так ведь у старых коз ноги надежнее и идут они кратчайшим путем, не так ли? – отвечал Гуарди Гуэдж.
Тем временем Мокки напоил коня и стреножил его возле Уроза. За саисом шла Зирех с чайником, мешочком сахара и двумя чашками. Она налила чай обоим мужчинам, начав с Гуарди Гуэджа, и исчезла во мраке каменной ночи, маленькая, хрупкая. Мокки посмотрел ей вслед и спросил у Гуарди Гуэджа:
– О, Память Всех Времен и Всех Мест, наставь меня. Куда ведет это жуткое плоскогорье? И куда нам двигаться дальше?
Гуарди Гуэдж отглотнул крепкого, темного чая и сказал:
– Плоскогорье, где мы находимся, упирается в горный хребет. Есть только один проход через него, такой узкий, что его прозвали Лестницей. Над ней есть еще одно плоскогорье, усеянное серым и черным гравием. А потом будет спуск к Банди-Амиру.
– О, Пророк! Озера Банди-Амира! – воскликнул Мокки. – Это правда?
– Это правда, – отвечал Гуарди Гуэдж. – И самые прекрасные описания их – ничто по сравнению с самими этими волшебными водами.
Уроз ничего не говорил. Он дрожал. Мокки пошел за одеялами для него, а затем хотел накрыть одним из них и Гуарди Гуэджа. Но тот отказался:
– Не стоит. Мои кости уже не боятся холода.
– Плов, приготовленный Зирех, скоро порадует тебя, Пращур, – пообещал Мокки.
Старик простер руки над костром. Они были прозрачными.
– Спасибо тебе, о саис, – отвечал Гуарди Гуэдж. – Но мне и кормить-то нечего, плоти совсем не осталось.
Уроз почувствовал признательность к старику. От одной мысли о тяжелой, жирной пище тошнота подкатывала ему к горлу.
– Иди, – отослал он саиса, – иди и наполняй себе желудок, а нас оставь в покое.
Мокки снял с мула вьюки и стал разбивать юрту. Ни он, ни Зирех не хотели провести ночь под навесом склепа. Почва была каменистой, и он с трудом забивал колья. Впрочем, это его даже радовало. Работа согрела его. А запах наперченного риса, медленно варящегося на костре, который горел в стороне, наполнял его внутренности приятным ожиданием.
Гуарди Гуэдж разглядывал в нише лицо Уроза. Оно было похоже на маску, перекосившуюся от страдания.
– Тебе больно, – отметил старик. – Очень больно.
Обычно Уроз относился к сочувствию как к оскорблению. Никто не имел права проявлять жалость к человеку, которому безразлична собственная плоть. Но в этом голосе он не услышал ни сострадания, ни беспокойства. Старик только констатировал истину.
– Все эти одеяла давят на сломанные кости, – пожаловался Уроз. – Но если их сбросить, холод вцепится в рану и будет ее терзать.
– Тут у меня найдется для тебя помощник, – успокоил его Гуарди Гуэдж.
Он достал из котомки коричневую палочку и поднес ее на несколько секунд к огню. Когда конец ее размягчился, он отделил совсем небольшой кусочек, раскатал его прозрачными пальцами и дал Урозу:
– Вот, проглоти этот шарик и запей чаем. И потом подожди.
Уроз послушно выполнил слова старика. Потом спросил:
– Это твое лекарство волшебное, что ли, о Пращур?
– Можешь считать, что так – не стал возражать Гуарди Гуэдж. – Мне подарила его колдунья, самая старая и самая мудрая.
– Как ее зовут? – спросил Уроз.
– Земля, – был ответ Гуарди Гуэджа.
– Растение… трава? – пробормотал Уроз.
– Маковый сок, – утвердительно кивнул головой Гуарди Гуэдж.
– Что? – воскликнул Уроз.
Он резко повернулся к старику и резко спросил:
– Ты, самый старый и умный, как можешь ты давать мне яд, лишающий человека силы и достоинства, совсем как вино, проклятое Кораном?
– Ничто из того, что дает земля, не может быть проклятым, – не стал соглашаться Гуарди Гуэдж.
И жестом остановил Уроза, готового продолжать.
– Не двигайся больше, о чопендоз, – продолжал старец. – Всякие движения и крики только помешают благотворному действию снадобья. Чтобы помочь тебе терпеть боль, я расскажу о рождении вина. Так что приложи голову к камню, прикрывающему останки путника, открой душу для покоя и слушай меня.
И Гуарди Гуэдж начал рассказ.
«Давным-давно, в стародавние времена, в Герате Великолепном правил шах Шамиран, могущественный и мудрый властелин. В знойные послеполуденные часы любил он прогуливаться по тенистым своим садам, что спускались террасами, полными цветов редкой красоты, фонтанов и резных беседок. За ним следовала его свита: вельможи, духовники, прорицатели, полководцы, поэты и принцы.
И вот однажды увидел он диковинную птицу, сидящую на живой изгороди. Птица была так прекрасна, что он остановился, чтобы полюбоваться ею. И в тот же момент рядом с нею появилась змея.
– Неужели никто не помешает змее напасть на птицу? – воскликнул шах Шамиран.
Старший сын его натянул лук и стрелой поразил змею. А птица взлетела и пропала в лазурном небе. И скоро о ней забыли.
А через год, день в день и час в час птица вернулась, покружилась над царскими садами и, прежде чем улететь, выронила из клюва несколько зерен.
– Что думаешь об этом? – спросил шах Шамиран у своего главного провидца.
И ответил провидец:
– Волшебная птица принесла тебе вознаграждение.
Тогда шах повелел проследить за тем местом, куда упали зерна. И начало там расти растение, до той поры никем не виданное. Было оно невысоким, а на его тонких ветвях появились гроздья круглых ягод. Никто не смел их трогать. Ведь их сок мог оказаться ядовитым. Из-за этого кисти стали медленно подгнивать. Шах повелел подставить под них высокую вазу. Ягоды попадали в нее, забродили, и получилась красная жидкость. Но было ли это знаком благодарности? Или смертельным ядом?
Привели из тюрьмы человека, осужденного быть посаженным на кол. Шах приказал ему выпить кубок непонятной жидкости. Весь двор стоял вокруг властелина. Несчастный выпил и закрыл глаза. Люди шепотом передавали друг другу: „Это ужасный яд. Он сейчас умрет“.
Но узник открыл глаза. В них плясало веселье. Он улыбнулся. Еще минута, и голосом не раба, закованного в цепи, а голосом повелевающего хозяина он воскликнул: „Пусть нальют мне еще кубок!“
Шах подал знак человеку, отвечающему за напитки, и тот налил рубиновый напиток в золотой кубок, из которого мог пить только сам монарх. Он отведал, а за ним попробовали чудесную влагу и другие. Радость и сила взыграла в них…»
Гуарди Гуэдж помолчал и закончил:
– Так вино было ниспослано с неба, на радость людям, живущим на земле афганской.
Уроз слушал, склонив голову, а потом задумчиво промолвил:
– Пращур, истина и только истина исходит из глубокочтимых уст твоих. Но была ли во времена, о которых твой рассказ, незрячая земля уже просвещена Пророком, и назвал ли он уже в Книге Книг все то, что запрещено?
Как он часто поступал, Гуарди Гуэдж на этот вопрос ответил тоже вопросом:
– Слыхивал ли ты, о благочестивый чопендоз, об императоре Бабуре?
– О Бабуре, непобедимом афганце, – воскликнул Уроз, – которого в Индии называли Великим Моголом.
Старый сказитель подтвердил легким наклоном головы и задал ему вопрос:
– Как ты считаешь, этот император был истинно верующим человеком?
– Кто бы посмел в этом усомниться? – признал Уроз. – Не он ли обратил в истинную веру язычников Индии?
– Так вот, – продолжил Гуарди Гуэдж. – Считаешь ли ты, что этот покоритель во имя Аллаха, этот меч Пророка, мог нарушить предписания Корана?
– Нужно быть сумасшедшим, чтобы так считать, – просто ответил Уроз.
А старик медленно продолжал:
– Тогда почему же в царствование великого Бабура на афганской земле производили вина так много, что наполнялись бесчисленные бочки и бурдюки?
– Значит, меч Пророка не знал об этом! – отвечал Уроз.
– Ошибаешься, о благочестивый чопендоз, – сказал Гуарди Гуэдж. – Этот повелитель ездил по деревням, где выращивали лучший в мире виноград, а с ним и министры и военачальники, и поэты и певцы, а император лично пробовал молодое вино. А однажды он увидел тюльпан такой красоты, что, пожелав оказать ему величайшую честь, велел налить в него вкуснейшего вина и выпил из цветка, ставшего кубком.
– Что ты говоришь? Что ты говоришь? – пробормотал Уроз.
– И еще я скажу, – продолжал Гуарди Гуэдж все с той же интонацией, – что стоя на холме, откуда виден весь Кабул, Бабур повелел вырыть большой пруд. И вот этот пруд, который сохранился и сейчас, Великий Могол, когда принимал дорогих гостей, приказывал наполнять лучшим из вин… А затем гости и он сам черпали оттуда и пили в свое удовольствие.
– Пращур! – воскликнул Уроз. – Если бы эти слова я услышал не из твоих уст…
– Если каждое слово мое не истинно, то пусть отсохнет мой язык и пусть я никогда, никогда больше не смогу рассказывать ни сказки, ни истории, ни легенды, – подтвердил Гуарди Гуэдж.
Уроз отвернулся и стал озабоченно глядеть на языки пламени, как бы ища у них ответа.
– А Коран во времена Бабура был тот же, надеюсь, что и сейчас? – спросил он.
– Каждая строка, каждое слово и даже каждая запятая были те же, – уверил его Гуарди Гуэдж.
– Значит, изменился дух тех, кто учат ему? – промолвил Уроз.
– Или их чувства, – предположил Гуарди Гуэдж.
– Так кто же был ближе к истине, древние мудрецы или нынешние? – спросил Уроз.
– Ни те, ни другие, – отвечал старец.
Уроз перестал смотреть на огонь и повернулся к Гуарди Гуэджу. От внутреннего огня блеск в его глазах был ярче, чем пламя костра. Между тем лицо его выражало глубокое спокойствие.
– Значит, я сам должен делать выбор, – понял наконец он. – Только я, как велят мне мой ум и мое сердце.
– И так во всем, – подтвердил Гуарди Гуэдж.
На обескровленных губах Уроза появилась улыбка, не имеющая ничего общего с привычной его волчьей ухмылкой.
– К этому выводу ты и хотел меня привести? – спросил он.
Словно едва заметная волна пробежала по лицу старого сказителя, по бесчисленным его морщинам. Таков был его ответ.
– Воистину, воистину, – сказал Уроз.
Он прислонился к стене надгробия, осторожно поправил одеяла и продолжал:
– У меня прошла вся боль. Тело мое стало мудрее. Мой рассудок теперь владеет им и ничему не удивляется.
Гуарди Гуэдж скатал еще один шарик из коричневой массы и дал его Урозу. А тот, проглотив снадобье, почувствовал, как полегчало его тело и как по всем венам волшебной волной потекла горячая кровь. Грубые меха, лежавшие на нем, шершавые ткани одеял стали мягче и плотнее, чем бархат и шелк. И из этой благостной оболочки вырывалась, взлетала вверх мысль, чтобы оттуда, с большой высоты, неслышно и бесстрастно судить о мире, о людях и о нем самом.
– Как же так получилось, что жизнь была для меня ничем, если я не был впереди всех и над всеми? – тихо прошептал Уроз.
Он вспомнил о первом караван-сарае и о своем внутреннем примирении с изнуренными животными, с несчастными путниками… И пришел к выводу:
– Тот всадник, что все хлестал и хлестал, чтобы всегда быть первым… несчастный безумец…
– Есть такая пословица, – подсказал Гуарди Гуэдж: – «Если везение с тобой заодно, то зачем спешить? А если оно не с тобой, то зачем спешить?»
Уроз покачал головой. Мирная улыбка застыла на его лице. Ему очень хотелось спать.
– Да хранят боги твой покой, – пожелал ему Гуарди Гуэдж.
– Почему боги? – пробормотал Уроз. – Есть только один Бог.
– Когда обойдешь много земель и когда ходишь очень-очень долго, то трудно в это поверить, – не согласился Гуарди Гуэдж.
С ночного неба послышался ровный приглушенный гром. Но они не подняли головы. Они привыкли к этому шуму. Вот уже несколько лет, два-три раза в неделю крылатые машины летали туда-сюда над долинами, горами и степями Афганистана.
Уроз уснул. Старый сказитель подбросил веток в костер.
* * *
На рассвете послышался лай, душераздирающий, зловещий.
В каменном убежище, где спали Гуарди Гуэдж, сидя, и Уроз, лежа, костер тихо догорал. Но цвет у него был уже не такой, как ночью. Через брешь, повернутую на восток, проникали первые солнечные лучи, и хотя небесное пламя было еще совсем не ярким, оно затмило собой пламя человеческое.
Лай приближался.
Бесчисленные морщины на щеках Гуарди Гуэджа дрогнули, и он, хотя слух у него был уже не такой хороший, как прежде, машинально повернул голову в том направлении, откуда доносился лай, чтобы понять его природу. Потом бросил еще веточек в костер и вновь прислонил голову к камням могильника.
А лай все усиливался.
Уроз тоже услышал его. Но не проснулся. Это было самое удивительное из всего, что случилось за его жизнь. Спокойствие и безмятежность, мягкая отчужденность овладели им. Вместе с тем, все тело уподобилось морской раковине, вбиравшей в себя все ночные флюиды, дыхание ночи и ее вздохи, которые питали множество образов, порожденных то рассудком, то бредовыми фантазиями. То были не сновидения, и Уроз знал это. Загадочная власть позволяла ему одновременно отслеживать, оценивать их и вместе с тем, забываясь, отдаваться их прекрасному обману. Когда рычания и вой раздались в нем, в раковине, каковой была его оболочка, Уроз почувствовал, что его окружили, в него проникли, в нем поселились безухие желто-серые звери, адские псы, несущиеся по каменистой степи. Это в его голове скрывались оскаленные пасти, с белой пеной на клыках. В его груди клацали их клыки. Уроз не пошевелил даже пальцем, и не дрогнули его веки. Он был одновременно и ареной происходящего, и свидетелем, участником и повелителем игры воображения. Свора промчалась, протекла сквозь него.
* * *
Зирех отбросила руку, прижимавшую ее к широкой, горячей груди, поднялась, опираясь на одно колено.
– Куда ты? – спросил Мокки сонным голосом.
Он открыл глаза и зажмурился на мгновение от яркого света, словно пропитавшего сделанные из плотной ткани стенки юрты.
«Солнце встало раньше меня, – подумал Мокки с удивлением и беспокойством. – Как же это могло случиться…»
Но вернулись плотские воспоминания, и чувство вины пропало. Он пошарил рукой, широкой ладонью накрыл узкий и мягкий живот, так угодивший ему ночью. Нежная кожа Зирех скользнула по его пальцам.
– Послушай! – отозвалась она.
Она уже была на ногах, стояла уже не на матрасе, на котором они так мало спали этой ночью, и всем телом устремилась к доносившемуся лаю.
– Собаки? – лениво спросил Мокки. – Как вчера?
– Те, что были вчера, теперь уже далеко, – вскричала Зирех.
Мокки почесал свою бритую голову:
– И то верно… Сейчас они гонят свои стада в сторону Бамиана.
– Ты что, разве не слышишь, как они воют? – удивилась Зирех.
Мокки прислушался и тихо протянул: —Покойник…
– Караван будет хоронить, – сказала кочевница. – Пошли!
Ввалившиеся глаза Зирех расширились, а грудь высоко и часто подымалась. Саис подобрал грязную тряпку, служившую ему тюрбаном, обмотал ею голову. Подумал: «Ох уж эти женщины… Похороны им даже больше по вкусу, чем праздники по случаю рождения или женитьбы».
Потом спросил:
– Ты больше не боишься?
– Чего? – с удивлением посмотрела она на него. – Настал день. Покойник тут самый что ни на есть настоящий, и племя будет его хоронить… Пошли!
Она пошла к выходу, но остановилась, отодвинув полог юрты. Утро на плато нестерпимо слепило. Все сияло, сверкало, блестело, било в глаза: камни, голые склоны гор, их снежные и ледяные вершины. Подобно тысячам острых мечей плясали, дрожали, играли они в лучах солнца, и даже сам воздух искрился алмазами.
Мокки, вставший за спиной Зирех, превосходящий чуть не вдвое ее ростом, вдруг осознал, вдруг почувствовал, будто меч небесный полоснул его по глазам. Он вспомнил: «А молитва… молитва… Я и забыл… Аллах меня накажет».
Он поднял Зирех за плечи, повернул лицом к востоку, согнул и почти швырнул на землю. Она оказалась распростертой бок о бок с ним, услышала его шепот:
– Моли Всемогущего простить нас за то, что мы пропустили час молитвы, услаждая друг друга.
Мокки весь ушел в молитву. Она же, касаясь лбом земли, была неспособна погрузиться в это занятие и думала о караване с покойником.
Поднявшись, они сразу увидели перед собой холм-кладбище. В ледяном утреннем свете он не внушал им страха. Приземистые, прочно сложенные, ровные захоронения скорее даже успокаивали взгляд. На этом гигантском плато только они и обладали человеческими пропорциями. У ближайшего из них курился легкий дымок.
– Им нужна наша помощь, – предположил Мокки.
– Молчи… слушай, – прошептала Зирех.
Перекрывая вой собак, послышался громкий, очень жалобный плач, настолько заразительный, что и Зирех тоже, прижав руки к груди, зарыдала и кинулась к приближающимся откуда-то плакальщицам.
Мокки посмотрел ей вслед. Когда она исчезла за выступом холма, он направился к захоронению, возле которого курился дымок. Заглянул под навес. Увидел, что Уроз и Гуарди Гуэдж спят, что глаза их закрыты. А большие глаза Джехола вопросительно смотрели на саиса.
«Пить хочет», – подумал Мокки. И прошептал:
– Потерпи, радость моя. Как только они проснутся, будет тебе вволю воды.
И подождал, чтобы, пошевелив ушами, поморгав лазами, конь выразил губами некое подобие улыбки, как обычно отвечая дружеским приветом на заботу о нем. Но сегодня Джехол ничего этого не сделал. Мокки щелкнул языком, тихонечко свистнул. Джехол знал и любил эти призывы с той поры, когда еще только учился ходить на неокрепших ногах в родной степи. Между ним и саисом это был такой способ общения, более простой и более искренний, чем человеческие слова. Но в это утро конь словно не слышал их. Неподвижные глаза его были по-прежнему настороженными и строгими. «Как вчера, когда я хотел сбросить Уроза с седла, – подумал Мокки с чувством огромного уважения. – Этот конь ничего не забывает».
Он отошел от каменного навеса. Сверкающий свет, в котором купалось плоскогорье, вновь ослепил его. Кремнистый блеск был так резок и пронзителен, что душераздирающие вопли, доносившиеся будто откуда-то сверху, показались саису криком самого солнечного света. Он встряхнул головой, чтобы сбросить с себя наваждение, и пошел, как Зирех, к подножию холма, за поворотом которого раздавались причитания плакальщиц.
По мере того, как Мокки отходил от восточного склона холма, захоронения по обе стороны дороги стали отбрасывать на землю все более длинные и все более черные тени. Саис старался идти за пределами этой зубчатой линии. Вскоре он заметил, что темное, зловещее кольцо, вырисовывавшееся между ним и высоким могильным холмом, постепенно становится уже. Он посмотрел на могилы. Захоронения доходили лишь до середины склона кургана.
«Понятно, – подумал Мокки, – люди начали устраивать могильники с восточной стороны холма, с той стороны, где встает солнце. А на западном склоне остается еще много мест для покойников».
Саис зашагал быстрее вдоль обнажающейся подошвы холма. Описав полукруг, он дошел до того места, где надгробий вообще не было. И тут Мокки увидел караван.
Это был клан из пятидесяти-шестидесяти пуштунов. Они шли пешком. Мужчины шли, как всегда, со старинными ружьями, украшенными резными инкрустациями и чеканкой. Однако, вопреки обычаю, они не возглавляли медленную процессию, приближавшуюся к кладбищу. Впереди шли женщины, и вокруг мужчин тоже были женщины, разных возрастов и в разных одеждах. Шли они, закрыв глаза. Направляло их, толкало и тянуло за собой песнопение, пронзительные звуки, полные нестерпимой тоски, то угасавшие, как бы терявшиеся, то вдруг возрождавшиеся и звеневшие с новой силой. Рты у женщин все время были широко открыты как на незрячих масках. Они били себя в грудь, царапали себе щеки, рвали на себе волосы.
И в то же время в их горести и экстазе чувствовалось какое-то странное присутствие счастья…
Мокки никак не мог узнать Зирех среди плакальщиц. Его взгляд покинул их, стал искать дальше. Саис увидел за первой группой, на самом крупном из трех верблюдов, сидящую поверх поклажи женщину, единственную, не идущую пешком. Вся она утопала в черных тканях и шалях. В них почти незаметен был небольшой сверточек, который она судорожно прижимала к груди и из которого выглядывала крошечная, не больше плода граната, головка. Эта единственная женщина, которая ехала, а не шла пешком, не плакала.
Это была мать умершего ребенка.
Глядя на ее сомкнутые губы, Мокки не мог понять, откуда же тогда идет звук, почему вокруг нее столько страстных причитаний, громкого плача и душераздирающих криков. Потом рядом с верблюдом он увидел женщину, идущую, прижимаясь головой к колену матери. Именно из ее уст и раздавались причитания, перекрывавшие вопли остальных плакальщиц. Сперва Мокки не узнал ее. Но когда она приблизилась, понял, что это Зирех.
За ней шли два крупных пса без ушей, которые как бы вторили ее плачу своими завываниями, делали его своим лаем более ритмичным, тогда как стадо, порученное им, плелось, бесформенное, позади каравана.
Мокки, не шевелясь, смотрел, как караван подошел к подножию холма, как вокруг площадки со следами многочисленных стоянок встали люди. Плакальщицы продолжали громко стонать и причитать, ударяя себя в грудь. Мужчины сняли несколько вьюков, разбили юрту, заставили встать на колени верблюда, на котором ехала мать с младенцем. Прямая, со сжатыми губами, прошла она, прижимая к себе крохотное тельце, к юрте, распахнутой, как крылья огромной летучей мыши. В это время крики и вопли плакальщиц стали еще громче, резче и безумнее, обрели такую силу, что это вообще казалось невозможным, пока наконец женщина в черном, с безжизненным свертком у груди, не вошла в юрту. И тогда, словно по команде, все стихло, и наступила тишина.
Плакальщицы опустились, почти упали на землю, словно вылив из себя со слезами и силы. Одежды их были изодраны в клочья, лица – в крови. Однако старшая из них осталась стоять. Поправив пряди седых волос, свисавшие на морщинистую грудь, провела языком по обнаженным иссохшим деснам и приказала:
– А ну, женщины, за работу! Дети есть хотят.
Мужчинам нужна сила, чтобы работать, а нам, чтобы снова лить слезы.
Зирех осталась одна у юрты и, присев на корточки, она оперлась головой о стенку юрты. Когда Мокки наклонился над ней и позвал, она так резко обернулась, что он испугался, не завоет ли она сейчас вновь, не забьется ли в судорогах. Но вместо маски ужаса и вопля вернувшейся к своим демонам плакальщицы он увидел взгляд, полный мольбы, и услышал нежный шепот.
– Большой саис, большой саис, я хочу детей, – говорила Зирех. – Живот мой был способен их носить, но от ничтожных мужчин, которые били меня, которые были не моими… И я травами останавливала… Зато теперь всякий раз какая печаль, какое горе в душе!
Зирех заглянула в юрту, откуда доносились приглушенные стоны, похожие и на тихую колыбельную, и на рыдания. Потом Зирех стала смотреть на детей, мальчишек и девчонок, которые бегали, играли, спорили и смеялись одновременно. Солнце играло на их загорелых щеках, в их черных глазах. Зирех обхватила шею Мокки. И страстно и нежно, всей душой проговорила:
– От тебя… да… обязательно…
Потом она отпустила его шею, а руки сами собой сложились на груди, словно поддерживая новорожденного. – Они будут красивыми, такими красивыми, – пропела она… – Красивее всех на свете.
Неподалеку послышался стук металла о камень.
– Они откалывают камни для надгробия, – сделал вывод Мокки. – Ты, что, хочешь остаться здесь до конца?
– Да, – отвечала Зирех. – И я буду оплакивать лучше всех других этого умершего младенца… И тогда судьба защитит моих детей.
Мокки почесал голову:
– А мне надо возвращаться. Пора.
– Иди, – сказала Зирех. – Я скоро приду. Могилка маленькая, ее сложат быстро.
И она опять обвила его шею и глаза в глаза пообещала саису:
– Они будут красивыми, красивыми и сильными.
Брови ее сомкнулись в одну черту. Она добавила с диким упрямством:
– И богатыми, клянусь тебе.
* * *
В голове Уроза прошло то волшебное состояние, когда образы менялись по своей воле, жили своей, независимой от рассудка жизнью и в то же время, подчиняясь ему, когда сон и реальность имели один и тот же смысл, одни и те же законы. Уроз был в здравом рассудке. Но он не делал ни малейшего движения и, несмотря на обжигающую сухость во рту и в горле, не просил принести чаю, чтобы не нарушить тишину и покой, будто гладким и мягким драгоценным шелком окутавшие и тело его, и ум.
Собак больше не было слышно. Тишину осветило солнце, заливавшее теперь каменный альков. Тепло его и свет не позволяли понять, потух ли костер или еще горит. Гуарди Гуэдж подбросил в него немного сухой травы. Послышался легкий треск.
Разговаривать со старцем можно было, не шевелясь и не подымая ресниц.
– Куда же ты теперь пойдешь, о Пращур? – поинтересовался Уроз вполголоса.
Такой же неподвижный, как и он сам, старец ответил, не открывая глаз:
– Обычно не я сам выбираю свой путь. Проезжает грузовик, везет меня… Караван увижу, иду с ним… Ветер дует и несет меня…
Гуарди Гуэдж еще подбросил хвороста и добавил:
– Это обычно так…
– А на этот раз? – спросил Уроз.
Старец, казалось, внимательно прислушивался к потрескиванию огня. Потом признался:
– На этот раз я знаю. Прошлой ночью я видел мой путь.
Гуарди Гуэдж протянул к невидимым языкам пламени руки, прозрачные руки цвета древнего пергамента, и продолжал:
– Несколько дней назад в Калакчекане, сидя рядом с великим Турсуном, я готов был расплакаться, слушая звуки домбры. Несколько часов назад я говорил для самого себя.
– И что? – спросил Уроз.
– Я думал о том, что стал старее старости, – отвечал Гуарди Гуэдж. – Думал, что навсегда ушел от нее, от единственной, настоящей смерти. Но вот теперь обе они, и старость и смерть, меня нагоняют… и я хочу вместе с ними добраться до той долины, где была моя колыбель.
– И где твои боги? – спросил Уроз.
– И тех, которых не сожгли, держат в плену, напоказ, в Кабуле, – сказал Гуарди Гуэдж. – Да это и неважно. В моем возрасте они уже не нужны.
Послышался стук подошв о каменистую почву и звон разбираемой посуды. Мокки принес чай. Запах напитка и позвякивание фарфоровых пиал напомнили Урозу о его жажде. Губы и ноздри его затрепетали. Он с трудом сдерживал нетерпение, глядя, как Мокки подает поднос сначала старцу.
– Здравствуй, о саис, вовремя принесший нам все, что нужно, чтобы утолить жажду, – приветствовал его Гуарди Гуэдж.
Мокки громко спросил, еще весь запыхавшийся от торопливой ходьбы:
– Вы же слышали… плакальщицы? Вот я и пошел… поклониться кочевникам.
– И правильно сделал, – одобрил его поведение Гуарди Гуэдж. – Мы же гости их покойников.
Выпив три пиалы, Уроз спросил:
– Кого хоронили?
– Новорожденного, – ответил Мокки.
– Налей еще, – снова протянул пиалу Уроз. И добавил:
– Столько шума из-за какого-то пищащего маленького бурдюка, наполненного материнским молоком и всякой дрянью.
– И это все, что ты думаешь о детях? – не очень удивился Гуарди Гуэдж.
– И еще то, что они глупее, грязнее, крикливее, требовательнее и труднее в воспитании, чем лошадь, – подтвердил Уроз.
– У тебя самого были дети? – поинтересовался Гуарди Гуэдж.
– Моя жена умерла при родах первенца.
– Ты жалел об этом? – снова спросил его старец.
Уроз покачал головой и ответил:
– В ту весну я выиграл шапку чопендоза на бузкаши трех провинций.
Гуарди Гуэдж отдал чашку саису, откинулся к стенке и посмотрел на Уроза:
– Значит, ты любишь только самого себя.
– Неправда, – возразил Уроз. – Просто других я люблю еще меньше, чем самого себя.
Мокки унес поднос, вернулся с ведром свежей воды для Джехола и тут же ушел. Он боялся, как бы Уроз не спросил про Зирех.
* * *
По мере того, как солнце поднималось, лучи его уходили из пристанища. А когда оно повисло над плато в зените, когда, казалось, что камни начали потрескивать от жара, импровизированная пещера, в которой находились Уроз и Гуарди Гуэдж, оказалась погруженной в тень, легкую и теплую, позолоченную затухающими угольками костра.
Джехол, до этого лежавший, вдруг встал и подошел к Урозу, дыша ему в лицо.
– Конь отдохнул вволю, – произнес, обращаясь сам к себе Уроз.
Он погладил Джехола и добавил:
– И я тоже… Сейчас позову саиса.
Но не стал звать. Где-то внутри его еще сохранялось ощущение состояния благодати, и он не хотел прерывать его.
– Погоди, – сказал Уроз Джехолу, слегка отводя от лица его влажные ноздри.
Но конь отказывался повиноваться и тихо заржал. Когда он умолк, Уроз услышал далекий лай собак. Он оперся на локоть. Только тогда Джехол отошел.
Лай и рычание становились все более громкими, все более отчетливыми. Они начинали обретать какой-то смысл. Уроз уловил, что это был совсем не такой лай, как тот, что послышался ему на рассвете. Тогда вой выражал отчаяние и тоску. Теперь же это был хриплый лай беспощадной ярости.
Однако лай и рычание приближались странным образом. Это не было похоже на погоню или охоту. Казалось, собаки сдерживали свой порыв, и их скорость не превышала скорости шага человека. А время от времени они умолкали, словно не желая выдавать направления своего движения.
Эти бесшумные шаги… Эти минуты тишины… На лице Уроза вновь появилась ухмылка, похожая на волчий оскал. На нем не осталось ни малейшего следа недавнего расслабления. Среди валяющихся поблизости камней Уроз выбрал кремень потяжелее и с острыми краями, сделал петлю из ремешка нагайки, проверил прочность крепления, гибкость и удобство нового оружия – одновременно короткой плетки и булавы. Зажав зубами рукоять плети, пополз к входу в грот. Сломанная нога тащилась по земле. Переломом она цеплялась за камни, причиняя нестерпимую боль. Красные искры прыгали перед глазами Уроза. Волчий оскал расширился, сделался более откровенным. Он был рад, что боль вновь сделала его самим собой. Расстояние, которое ему надо было преодолеть, было смехотворным, если пересчитать на шаги. Но из-за веса своего тела и своей смертной муки он двигался очень медленно. Когда он добрался туда, куда хотел, Уроз лег на живот и перевел дыхание. Он остановился на полпути между входом и остатками костра.
Мокки с лепешкой, которую он только что изжарил в бараньем сале, выбежал навстречу лаю. Он увидел их издалека. Это были два огромных пса, которые шли по обе стороны от Зирех. Их оскаленные морды обрамляли ее на уровне груди. Она вела их, держа пальцы у них на загривке.
Когда они подошли поближе, Мокки окликнул ее:
– Зачем тебе эти собаки?
Зирех не ответила ему, пока не подошла ближе.
– Чтобы наши дети были богатыми, – пояснила она саису.
И легким шагом пошла в сопровождении этих двух безухих монстров к пещере.
– Но Пращур!
Она не отвечала и даже не обернулась.
«Аллах Всемогущий… в нем только кожа да кости… сделай так, чтобы псы его не тронули!» – взмолился саис.
Что еще мог он сделать? Помешать Зирех? Псы тут же накинулись бы на него, и даже Зирех не помогла бы…
Они подошли к входу в убежище. И там Зирех вонзила ногти в затылки собак, прижала их к земле и вдруг с диким и долгим воплем, напоминающим лай, толкнула их прямо перед собой.
* * *
Уроз перевел дыхание. Когда Зирех закричала, он перебросил вес тела на здоровую ногу. Он чувствовал, как сломанная кость вонзается в плоть, протыкает кожу. Теперь все его лицо превратилось в сплошной оскал, дикий лай псов ворвался в убежище и, отразившись от стенок, потолка и пола, наполнил каменный альков адским ревом. Уроз вынул изо рта плетку с камнем. Во входном отверстии убежища показалась широкая морда и грудь более проворного зверя. Уроз схватил левой рукой раскаленные угли из костра и швырнул их навстречу псу. Пес на мгновение отвернул от них голову. Уроз поднял нагайку с острым камнем и нанес сильный удар точно в незащищенное место: под самым ухом. Зверь зашатался. Уроз не успел повторить удар. В грот ворвался другой пес. Своим рывком, своим весом он опрокинул первого, перевернул его. Но и сам тоже потерял равновесие и упал лапами вверх. Уроз навалился на него, живот к животу и ножом, выхваченным из-за пояса, перерезал ему шейную вену.
Предсмертная конвульсия зверя была так сильна, что Уроза отбросило на землю. От боли он чуть было не потерял сознание. Привел его в чувство голос Гуарди Гуэджа.
– Чего еще ты ждешь, чего требуешь от себя, о чопендоз? – говорил старец.
Чье-то горячее дыхание коснулось лица Уроза. Он открыл глаза. И увидел совсем рядом со своей головой голову Джехола.
– Ложись, – прошептал Уроз.
Конь лег, повернув спину к лежащему хозяину. Уроз вцепился обеими руками ему в загривок, подполз, подтянулся, навалился на коня. Медленно, с предельной осторожностью, Джехол встал на ноги, с ношей на спине. Поскольку седла на нем не было, Урозу показалось, что он и конь составляют единое целое.
Он отвязал уздечку и направил Джехола к проему.
– Да будет мир с тобой, Пращур, – сказал он, обращаясь к Гуарди Гуэджу.
– Я всегда провожаю гостя до порога, – отозвался старик.
Конь перешагнул через трупы двух собак и вышел из-под навеса. Одежда Уроза, руки и лицо были в запекшейся крови. В нескольких шагах от убежища он увидел Мокки и Зирех.
– Не забудь седло, – напомнил он саису.
Потом повернулся к Гуарди Гуэджу, стоявшему рядом и гревшему на солнце свое морщинистое лицо:
– Да уберегут тебя от всех несчастий твои боги, о Пращур.
– А ты, о чопендоз, берегись своих! – отвечал Гуарди Гуэдж.
IV ПЯТЬ ОЗЕР
Заехав за холм с погребениями, Уроз обнаружил, что плато должно скоро кончиться. Между двумя хребтами, окружавшими его справа и слева, расстояние быстро уменьшалось, а от одной цепи гор к другой протянулся подъем, загораживающий горизонт.
Джехол шагал бодро. Ему уже не нужно было применяться к шагу пешеходов. Для него теперь существовала только воля хозяина. А Уроз не сдерживал коня, хотя и ехал без седла, хотя боль в сломанной ноге причиняла адские мучения, еще больше усилившиеся после схватки с собаками. Он тоже был рад этому одиночеству и этой свободе. Рад даже этой боли. Совокупность испытываемых им ощущений была продолжением боя, наградой за него, когда со своими ограниченными физическими возможностями он сумел расправиться с полудикими псами. Острый камень по-прежнему раскачивался на конце его плетки, и он еще не вытер кровь со своего кинжала. Он чувствовал себя способным преодолеть все преграды, порушить все козни. И Уроз затянул дорожную песню, такую же монотонную, такую же бесконечную и такую же древнюю, как степь, как его народ.
Скоро они добрались до края плато. Джехол остановился, Уроз замолчал.
Перед ними было начало подъема. Теперь было видно, что подъем был так крут, что преодолеть его в лоб могла бы разве только горная коза. А наискосок уходила тропа, протоптанная караванами. Крутая, скользкая, местами осыпающаяся, она поднималась от площадки к площадке, делалась все уже и все круче. «Лестницей» назвал ее Гуарди Гуэдж. И Уроз подумал: «очень подходит название». Животные и люди с сильными ногами могли по ней подняться. На хорошем коне хороший всадник в полном здравии тоже смог бы. Но что делать, если нельзя обхватить круп коня двумя ногами, сжать колена, упереться в седле?
Джехол топтался на месте, слегка раскачиваясь корпусом взад-вперед. «Колеблется», – подумал Уроз. Конь слегка повернул голову вбок, к нему. Уроз без труда понял выражение конского глаза.
– Знаю, – мысленно ответил он Джехолу, – знаю: один ты бы не стал колебаться, пошел бы наверх. И если бы верхом на тебе был здоровый человек, тоже пошел бы… А сейчас ты боишься… не за себя… за меня. Ну что ж…
Что отказывался Уроз принять, так это не помощь – всякая лошадь обязана помогать своему седоку. Он отказывался от сочувствия, невыносимое, почти человеческое выражение которого он сумел прочесть во взгляде Джехола.
– Ну что ж! – повторил Уроз.
Он взмахнул нагайкой, увидел привязанный к ней острый камень и отвел удар в сторону. Но Джехол успел услышать свист плети и разглядеть кремень. Он тряхнул гривой. Все мышцы его напряглись для прыжка. Но, собрав все свои силы, он почувствовал, как уязвим и как непрочно сидит тот, кого он должен был доставить наверх. Он опустил голову, осмотрел еще раз подъем и стал преодолевать его со всем вниманием и осторожностью.
Наклон тропы был так велик, что конь не шагал, а скорее карабкался. Спина его была большую часть времени не горизонтальной, а наклонной. Как ни старался Уроз сжать ляжками бока лошади, он чувствовал, как при каждом толчке неумолимо сползает по взмыленной от напряжения спине.
«Я не удержусь, – подумал он. – Мокки и его сучка найдут меня обессиленным. Им ничего не будет стоить добить меня… Если в этом еще будет необходимость…»
Уроз вспомнил, какие мучения он накликал на свою голову, какие хитрости придумывал, как умело расстраивал смертельные заговоры… Столько усилий воли, выдумки, смелости, и все для того, чтобы свалиться и испустить дух, как пустой бурдюк, тогда как конец испытаниям совсем близок…
Чтобы добраться до первой площадки, Джехол поднимался почти вертикально. Уроз чувствовал, как сползает, почти падает с крупа. Повинуясь инстинкту самосохранения, он обхватил руками горячую, взмокшую шею коня. Так тот его и дотащил до площадки. И там остановился, сдвинув копыта и тяжело дыша. В эту минуту равновесия Уроз не стал пытаться восстановить нормальную позу. Наоборот, он воспользовался передышкой, чтобы лучше прильнуть к шее лошади и крепче сжать пальцы на ее горле. Поза была недостойной кавалериста. Но ему было наплевать. Свидетелем этому был только Джехол, а он знал, чем это вызвано. И не осуждал хозяина. Он двинулся дальше, наверх.
Так они поднимались от площадки к площадке. Тропа виляла, и лошадь оказывалась повернутой к склону то левым боком, то правым. На каждой из площадок Джехол останавливался, переводил дыхание, а Уроз пытался получше устроить свою поврежденную ногу. Потом они продолжали подниматься по лестнице, вырубленной в горе. Один раз во время подъема Уроз, рискуя упасть, резко выпрямился. Он услышал, как наверху посыпались камни. Никак навстречу ему спускается какой-нибудь припозднившийся караван. Никто не должен был видеть его в жалкой позе. Прошло несколько минут, показавшихся ему вечностью. Он чувствовал, будто кто-то схватил его и тянул вниз. Хотел было уже ухватиться за гриву Джехола и тут увидел, что это спускалось, пританцовывая, семейство горных козлов.
До конца подъема больше никаких приключений не было. А там, сделав последнее усилие, встав почти на дыбы, Джехол перескочил с последней ступени на ровную поверхность. И после этого долго стоял обессиленный. Ноги его дрожали, как камыш на ветру. Уроз оторвал руки от взмыленного загривка коня, расслабил ноги, медленно выпрямил торс. Рядом с копытами лошади вниз уходила тропа-лестница, по которой они только что поднялись. У него закружилась голова, и он отвел взгляд. А впереди расстилалась плоская равнина, усеянная пучками сухой травы и карликовых кустарников. Это подобие саванны тянулось с востока на запад. С севера подступали горы, такие высокие и такие массивные, каких Уроз до этого еще никогда не видел. Глядя на эту стену, он почувствовал головокружение, еще более сильное и угнетающее, более действующее на нервы, чем при взгляде в бездну.
Здесь страх приходил не через глаза, а со стороны сознания. Как далеко уходили эти колоссальные хребты, один другого выше? Уже не в самое ли небо упирались? Уроз поднял голову вверх. Высоко он забрался, но, судя по облакам, небо оставалось таким же далеким, как в его родных степях. И еще что его удивило: солнце стояло в небе гораздо выше, чем он полагал. Неужели их бесконечно долгое карабканье по склону заняло так мало времени?
Все как-то стремилось унизить Уроза, посмеяться над ним: подъем по «лестнице», вершины гор, солнце. Опустив взор на землю, он почувствовал некоторое облегчение. Ровная поверхность, цепкая, упрямая растительность – это вполне подходило человеку, еще способному ехать на коне.
А его конь все еще колебался. В ноги его никак не возвращалась уверенность, а все тело, покрытое пеной, словно дымилось от пара. «Тебе тоже время показалось долгим», – подумал Уроз; и ему захотелось дать Джехолу немного отдохнуть. Но он вспомнил, как они преодолели подъем, и подумал: «Если я сейчас не заставлю его подчиниться, он окажется, из нас двоих, хозяином».
И Уроз ударил каблуком здоровой ноги по черному вспотевшему боку. Джехол зашагал. Но без радости. С опущенной шеей. Словно на ватных ногах. Уроз не пытался ускорить ход коня. Тот его послушался. А большего ему и не надо. Так ему даже было лучше. И сил не осталось, да еще эта боль. Повязка на сломанной ноге ослабла и была теперь бесполезна. Нижняя половина ноги, то есть кость, прикрытая гниющим мясом и грязной тряпкой, раскачивалась в такт движению. Уроз старался не смотреть на эту гниль. Она вызывала у него отвращение. И все же он испытывал странную благодарность этой гнили. Он чувствовал, что она мешает ему уступить безразличию. Он держал себя в руках только благодаря своей боли.
Постепенно шаг Джехола стал более уверенным. Время от времени он опускал голову к земле и принюхивался к пучкам жесткой травы, отщипывал ее и жевал. Значит, очень проголодался, чтобы есть такое. Сколько дней он уже жил без настоящей пищи?
Уроз вспомнил про пост кантар, который устраивают в конце лета для лошадей, предназначенных для бузкаши. Но их выставляли на солнце неподвижными, а ночью они лежали на свежей, мягкой и чистой, как царское ложе, подстилке. А Джехол спал где попало, как попало, на диком холоде и с пустым брюхом после изнурительного перехода, длящегося от рассвета до заката. Уроз провел рукой по шее коня. Нащупал там дряблые складки. И ребра тоже уже стали проступать. «Я его убиваю», – подумал Уроз. «Дойдет ли он до конца? Эта, что ли, гора самая опасная?». Уроз вспомнил слова Гуарди Гуэджа. Последняя преграда – хребты Гиндукуша… За ними – степь… Джехол был достаточно могуч и вынослив, чтобы добраться до дома, пусть обессиленным, искалеченным… Ему, Урозу, это под силу, несмотря на рану, несмотря на увечье. И опять ударил он Джехола каблуком в бок. И тот пошел быстрее, не обращая внимания на высохшую траву и колючки.
Веки Уроза отяжелели. Шея совсем ослабла, и голова качалась в такт движению. Что так убаюкивало его? Равномерный шаг коня? Или сок маковой соломки, примешавшийся в его кровь и утяжеливший ее, сделавшее ее похожей на свинец? Так и не ответив на эти вопросы, он уснул, держась пальцами за гриву.
Он так и не понял, отчего проснулся. От резкого похолодания? От того, что конь остановился? Его первым движением было посмотреть на небо. И опять ход времени удивил его, как и по окончании подъема. Но только иначе. Ему казалось, что он дремал всего одну минуту. А на самом деле теперь можно было уже спокойно смотреть на солнечный диск, приблизившийся к горизонту. Уроз огляделся и не узнал пейзажа. Вместо саванны вокруг простиралась каменная осыпь. Справа взгляд упирался в высокий глинистый подъем, усеянный красноватыми камнями. Перед ним начинался спуск. Склон был не страшен для доброй оседланной лошади со здоровым человеком в седле. Но Джехолу предстояло доставить вниз наполовину изувеченного всадника, без седла и без стремян. Надо было хотя бы разбудить его. И Джехол ждал этого момента, остановившись у начала спуска.
Уроз откинул торс назад, перенес вес тела на крестец, уперся обеими руками в хребет лошади, сжал ей бока, сколько было мочи.
– Я уже не сплю, – произнес он. – Пошел…
Они спускались вдоль естественной стенки, и направлявшей их движения, и защищавшей от падения. Повороты, углубления, снова повороты, снова углубления, крюки серпантина… Бесконечный спуск… Урозу казалось, что он плывет по какому-то потоку в кошмарном сне. Лодка то и дело зарывалась носом в воду, и ему приходилось применять неимоверные усилия, чтобы удержаться, вцепившись в корму, и не перевернуться. Прилив крови к голове туманил взгляд, в висках стучало. Судорога сводила мышцы рук и ляжек. Он был уже не в силах это выдерживать и снова повалился на загривок Джехола, вцепился в шею, как он это уже сегодня делал. Уже и тогда он казался себе падшим настолько низко, что дальше уже просто невозможно. На этот раз позор был и того больше. Он даже не лежал на спине коня, держась за него руками. Он сползал, сидя чуть ли не на шее лошади, и тело его, бесформенное и бессильное, смешно свисало, болталось на загривке, то и дело рискуя от малейшего толчка перекувырнуться через взмокшую от пота гриву. Был момент, когда из-за этого груза на загривке, тянувшего коня вперед, Джехол не смог продолжать спуск. Он почувствовал потребность упереться плечом в выступ каменной стены, передохнуть и дождаться, когда к нему вернется сила.
Прижатый вот так к стене, бессильный, покалеченный, беспомощный, Уроз подумал: «Зачем терпеть этот позор? Я же никогда не боялся смерти».
Дыхание Джехола становилось все ровнее. Ноги его тряслись меньше.
«Стоит мне отпустить руки, и все кончится», – думал Уроз. Он тут же увидел себя внизу, разлагающимся вонючим трупом, как дохлая собака. И еще крепче обхватил шею Джехола. Умереть – да. Но вот так – никогда. Постыдные поступки в жизни можно исправить, искупить. Тогда как лишенный чести уход из жизни не исправишь никогда…
Джехол отодвинулся от своей опоры. Уроз сомкнул пальцы, сжал зубы, закрыл веки и предоставил себя нести, как манекен, набитый тряпками. Стало холодать, боль усилилась, спуск стал круче. Ладья, на которой, как ему казалось, он плыл, погружалась носом все ниже, ниже… Вдруг она выпрямилась, остановилась. Тело Уроза само вернулось в обычное состояние, на привычное место. Не выпуская загривка коня, он осмотрел место, где стояли копыта. Это была ровная песчаная поверхность. Уроз разжал руки, набрал воздуха в расширившуюся грудь и поднял голову. Стена из земли исчезла. Ничто больше не заслоняло обзор.
Перед ним открылся Банди-Амир.
* * *
Несмотря на приятность вечернего света, Уроз зажмурился, зажмурился подобно скупцу, увидевшему вдруг груду золотых монет и тут же запустившему в нее пальцы, чтобы в любом случае сохранить хотя бы горсть драгоценного металла. «Даже если это минутное видение, я сохраню то, что увидел», – подумал Уроз, зажмурив глаза.
Потом они медленно, боязливо раскрылись и остались широко открытыми, не мигая. Это был не мираж.
От серого песчаного берега, где остановился Уроз, начиналась колоссальная расщелина, с двух сторон ограниченная красноватыми скалами. Она расширялась и поднималась без конца и края, до самого горизонта. Эта огромная щель всецело принадлежала царству вод. И царство это было таким необычным, что разум отказывался верить, что оно существует.
Ибо вода, спускающаяся с далеких хребтов, вместо того, чтобы бежать, журча и бурля, как ей полагалось бы, на спуске, внезапно останавливалась – почему, из-за какого препятствия? – и становилась мирным, гладким зеркалом. Но это вовсе не значило, что поток растратил свою энергию. Под неподвижной гладкой поверхностью вода, просачиваясь, уходила по длинным подземным протокам, и как раз у подножия первого бассейна, создавала новый водоем, где тоже, в свою очередь, образовывалась невидимая запруда. Но и там вода не успокаивалась. Чудесный, невидимый поток продолжал свое течение. Так Банди-Амир заполнял одну за другой гигантские чаши, расположенные ступенями. Последний резервуар и был подножием, у которого стоял Уроз.
А он, маленький, тщедушный, не испытывал перед этим грандиозным чудом ни трепета, ни даже удивления. Его защищала от подобных чувств фанатическая вера в чудеса и легенды. Ничего особенного! Великаны, демоны, драконы, творцы гор тут взяли и прорубили расщелину, скололи здесь хребет. Уроз словно наяву слышал, как грохочут и скрежещут их топоры-молнии. Видел, как Хозяева Вод распоряжаются ими и обустраивают их глубины по своему усмотрению.
Кто же, как не Они, могли создать и направить эти потоки вопреки всем законам земли и вод, а затем сохранять их веками?
«Их называют озерами, – думал Уроз. – Но озеру ничего не нужно, чтобы существовать. Озерная вода не бежит, не выходит из берегов, ничего не порождает. Водопад?.. Но там вода пенится и разрушает. Здесь же нет ни морщинки, ни водопада. Поистине, воистину, природа оказалась здесь покорена Работниками земли и неба и подчинена их воле».
И пока Уроз размышлял таким образом, произошло еще одно чудо. От бездны и до террас, наполненных водой, поднялось мощное, как блеск ледников, и нежное, как весенний цветок, свечение. Солнце достигло уровня озер. Лучи его, легко касаясь вод, зажигали огни на муаровой неподвижной поверхности. Колдовство усиливалось тем, что все эти зеркала были освещены лучами разного цвета.
Темно-синим, густо-зеленым, лазурным, розовым, черным – у каждого озера был свой цвет, идущий словно из его глубин.
И вдруг, в одно мгновение, все водоемы опустели. Уроз опять ничему не удивился. Он подумал о живущем под землей великане из киргизских сказаний. Зовут его Кол Тавизар, и он одним духом выпивает воду всех рек и озер. «Это он, разумеется, он… или один из его братьев», – подумал Уроз. И тут же забыл о нем. Когда совершаются волшебные деяния, размышлять запрещается.
Теперь на месте Банди-Амира взметнулась радуга аркой невероятной, не сравнимой ни с чем красоты, и цвета ее имели ширину монументальных ступеней. Но и она тоже исчезла, и возникла величественная, сверхъестественная лестница из оникса, нефрита, сапфира, кораллов и лазурита. Обрамленная красными скалами, она кончалась лишь на пороге небосвода.
Солнце повисло над горизонтом. Загоревшийся у самой поверхности земли костер, озарив своим божественным огнем скалы, превратил каждую из них в драгоценный камень, и они засверкали подобно бриллиантам чистой воды.
Освещение это возникло мгновенно и так же внезапно угасло. Как и радуга и ступени из драгоценных камней. Водоемы вновь наполнились, но цвет воды теперь был везде одинаков: цвет мрака. И тут Уроз наконец испугался.
– О Аллах, Истинный и Единственный! Все эти чудеса сотворены Тобой, – крикнул он.
Уроз отвернулся от неподвижного темного каскада. В полутьме, по другую сторону от первого озера, словно прислонившись к горе, стояло здание с низким куполом и небольшим минаретом.
– Ты услышал меня, о Аллах! Единственный, Истинный! – успокоил себя Уроз.
Джехол направился к мечети Банди-Амира.
Дорога между берегом озера и скалой была ровной и широкой. Равновесие Уроза здесь было гарантировано. И это облегчение лишило его всякой осторожности. Не надо больше делать усилий, избегать опасностей, впадать в экстаз… В голове его безухие псы с перерезанными глотками бежали через радугу озер. А самого его поток швырял на ступени из драгоценных камней. И последний толчок выбил его из челна. Джехол остановился и тревожно заржал. И не успело тело Уроза коснуться земли, как руки, наделенные, как ему показалось, волшебной силой, подхватили его. Он потерял сознание.
* * *
Обморок длился очень недолго. Чувства и сознание начали возвращаться к нему, когда руки, спасшие его от падения, еще несли его. Он увидел себя лежащим в длинной узкой комнате с низким потолком. В теплом воздухе пахло бараньим жиром. Возле стен стояли такие же чарпаи, как тот, на котором он лежал.
Он услышал тяжелые быстрые шаги по глинобитному полу. Резкий свет переносного фонаря удалился и вовсе исчез. Помещение было освещено только неярким отблеском углей в мангале.
«Оттуда и тепло идет», – сообразил Уроз.
Вновь возник свет фонаря. Его нес невысокий человек с могучими руками и бочкоподобным туловищем. Шеи у него, казалось, не было. Гладкие желтоватые щеки пересекала черта – это был рот. Крюк над ним – нос. Блестящая линия выше крюка – глаза. Человек нес фонарь и чашку горячего чая. Не говоря ни слова, он помог Урозу выпить чай. Потом сказал молодым, веселым, глубоким голосом:
– От твоей ноги идет ужасный запах. Так ты не уснешь.
– Где я? – спросил Уроз.
– В доме Аллаха и путника, – отвечал человечек.
– А где конь? – спросил Уроз.
– Ему дадут все, что положено, – пообещал его спаситель. – Можешь поверить Кутабаю.
– Конь в первую очередь, – сказал Уроз.
– Ты прав, – засмеялся Кутабай. – Ты ему обязан больше, чем он тебе.
Фонарь опять унесли. Отблеск углей был приятен глазу. Уроз почувствовал то же странное отупение, мягкое как бархат и тяжелое как свинец, какое произвел на него маковый сок… Опять появился Кутабай с огнем. Он поставил на пол возле чарпая кувшин с горячей водой, положил на него очень чистые длинные ленты белой ткани, развязал раненую ногу. Цвет ее и зловоние были отвратительны. Он тщательно и неумолимо промыл рану, составил конец к концу сломанные кости и старательно укрепил их. Каждый жест его отзывался в теле и нервах Уроза волной такой боли, словно беспощадный огонь проникал повсюду. Он выдержал все манипуляции, не дрогнув и не издав ни звука. Того требовал долг чести. А еще больше – стыд, что согласился на этот уход за ним. Показывать свое увечье, свою гниль лекарю, Мокки или Зирех – одно дело. Это их работа или их долг. Но этот незнакомец, обрабатывающий его рану, нюхающий зловоние от гниющей ноги…
Кутабай поднял фонарь, осветил лицо Уроза и высказал свое мнение:
– Ты не потерял сознание. Не шевелился. Слава силе души твоей!
– Я-то уже привык к моей падали, – резко ответил Уроз. – Но ты?
От наивного смеха на лице Кутабая растянулась линия рта и блеснули глаза.
– Твоя рана! – воскликнул он. – От нее пахнет розами по сравнению с запахом прокаженных.
Ужасное слово на какой-то момент смутило дух Уроза. Ему хотелось задать вопрос, узнать побольше, но он промолчал. Боль усилилась. На него снизошел покой изнеможения. Зачем о чем-то говорить, беспокоиться? Вот только этот резкий свет прямо в глаза…
– Убери фонарь, – прошептал Уроз.
Во сне дыхание его было таким же слабым, как свет углей в мангале.
* * *
– Убери этот чертов фонарь, – прошептал Уроз.
Свет становился все ярче, жара – все сильнее.
Уроз с раздражением открыл глаза. Солнце ярко освещало галерею. В конце ее виднелась круглая комната без окон. Уроз вспомнил: мечеть… Кутабай… Значит, он проспал не меньше двенадцати часов. Но чувствовал себя очень усталым. Ему хотелось чаю, хотелось есть. По привычке он хотел позвать Мокки. Но где сейчас саис? Уроз почувствовал беспокойство на грани паники. А что, если Мокки потеряет его след… Все усилия, вся игра со смертью, все впустую, напрасно… Уж лучше было бы погибнуть от яда, от яростных клыков собак и даже просто сдохнуть в завалах камней…
Снаружи послышались голоса. Уроз очень хорошо слышал их. Один голос был Кутабая… Другой…
– Мокки! Мокки! – позвал Уроз, сам того не осознавая, громким и радостным голосом.
Дверь чуть не слетела с петель от толчка саиса. Одним прыжком он оказался перед Урозом.
– Живой! – крикнул он. – Живой! Слава Аллаху!
Они смотрели друг другу в глаза. Одна радость освещала оба лица.
– Родные братья не были бы так счастливы встретить друг друга, – услышали они низкий голос.
Уроз и Мокки увидели Кутабая, улыбавшегося им с порога галереи.
– Поистине, – повторил он, – поистине: два брата, один для другого – все на свете.
Уроз и Мокки снова переглянулись. Но на этот раз без того выражения, что было вначале. Теперь оба вспомнили, почему так боялись потерять друг друга.
– Как ты меня нашел? – спросил Уроз.
– А к Банди-Амиру только одна тропа и ведет, – ответил Мокки. – К тому же, я видел на песке следы Джехола. Но ты уехал раньше, и конь шел быстрее. Нам пришлось переночевать в пути.
– Хочу пить и есть, – произнес Уроз.
– Чай, наверное, уже готов, Зирех там хлопочет, – сообщил Мокки. – Она приготовит тебе и лепешки, и плов.
Мокки уже был возле двери, когда Кутабай склонился над Урозом, чтобы прислонить его спиной к стене.
– Э, нет, только не ты, с твоими медвежьими лапами, – грубо крикнул саис.
Он вернулся к чарпаю, приподнял Уроза, одновременно пощупав на груди у него спрятанные пачки афгани.
– Спасибо, – поблагодарил его Уроз.
Благодарность его была искренней: все возвращалось на круги своя.
– Ты и вправду хороший саис! – улыбнулся Кутабай и кивнул головой. – Я бы тоже не допустил, чтобы посторонний ухаживал за моим отцом, когда он был болен.
И вздохнул. Его широкая грудь резонировала как гонг.
– После его смерти мать вернулась в их кишлак, а я занял здесь его место сторожа.
Мокки принес поднос с обычной пищей.
– Ты никогда еще не пил такого вкусного чая! – крикнул он Урозу.
– Попробуй его, – ответил тот.
Уроз еще помнил травы Зирех. И когда принесли плов, он тоже пригласил обоих мужчин разделить с ним трапезу. Пока они ели руками рис, пропитанный бараньим жиром, Уроз спросил у Кутабая, знает ли он дорогу в северные степи.
– Путники, пересекшие горы, – а таких по пальцам пересчитать можно – говорили, что есть ущелье, очень опасное, – ответил сторож мечети. – Лошадь там не пройдет.
– Моя пройдет, – отвечал Уроз.
– Я покажу тебе дорогу, – пообещал Кутабай.
Он старательно облизал свою испачканную жиром ладонь и добавил:
– Сегодня уже поздно. Вы не успеете выйти, как наступит темнота, а с ней и смерть. Так что решай: или разобьешь вечером стоянку перед ущельем, или переночуешь здесь, а выйдешь завтра на заре.
Уроз был еще очень слаб, да и Джехолу надо было как следует отдохнуть.
– Я выбираю твое гостеприимство, о щедрый сторож.
Блестящие черные глаза Кутабая сверкнули от внутреннего огня. Голос его зазвучал еще громче и ниже обычного.
– Для меня это большой праздник, – признался он. – Одиночество тяжко для сердца, даже в таком святом месте.
– Разве мимо не проезжают путники? – спросил Уроз.
– Какие там путники! – воскликнул Кутабай. – Неверные иностранцы из дальних краев, на своих гудящих машинах? Они не знают нашего языка! Едят отвратительную пищу! Пьют напитки, проклятые Пророком!
Кутабай перевел дыхание и тихо закончил:
– Или прокаженные.
– Прокаженные? – в страхе переспросил Мокки.
Уроз вспомнил, что накануне Кутабай уже произносил это ужасное слово.
– Что они тут делают? – спросил он.
– Существует древнее поверие, что вода Банди-Амира лечит их болезнь.
– Ты сам видел, как они выздоравливают? – проявил интерес Уроз.
– Чего не видел, того не видел, – ответил Кутабай. – Они приходят, уходят и больше не возвращаются.
Уроз нагнулся к краю своего чарпая, вцепился в могучие плечи Кутабая и прошептал:
– Скажи, поклянись на Коране… что ты думаешь… о моей ране…
Кутабай опустил взгляд и скромно отметил:
– Все в руках Аллаха Всемогущего.
– Всемогущего, – эхом отозвался Мокки.
– Всемогущего, – повторил и Уроз.
Все трое посмотрели в конец галереи, где находился вход в круглый зал и виднелись убогие коврики для молитвы. Уроз сказал Кутабаю:
– Вынеси меня на улицу.
Было часов двенадцать дня. До волшебного освещения лучами заката озер Банди-Амира солнцу еще предстояло пройти половину небосклона. Но и без того загадочные воды, освещенные прямыми и жесткими лучами, были прекрасны и таинственны. Зеленый цвет, розовый, лазурный, темно-синий и чернильно-черный не зависели от колдовских сумерек. Разница была лишь в том, что теперь жидкие ступени были не из драгоценных камней, а из лепестков цветов. Лестница, ведущая в небеса, состояла теперь из ступеней в виде висящих садов, огромных, как парки, с настоящими растениями, устилающими края бассейнов, по которым короткими каскадами стекала вода, что и создавало иллюзию волшебного цветения.
По мере того, как Кутабай с Урозом на руках медленно подходил к пяти волшебным водоемам, он называл своим громким, как гонг, голосом их имена, дошедшие из глубины веков.
– Зульфикар, – говорил Кутабай.
Затем:
– Пудина.
Потом:
– Панир.
– Хайбат.
– Гуляман…
Кутабай положил Уроза у самой воды, словно на паперть храма. Ступенями ему служили чудодейственные пруды, стенами были недоступные горы, а куполом – небосвод. Уроз проговорил шепотом:
– Во всем мире нет воды, подобной этой.
– Да и откуда же ей быть? – воскликнул Кутабай. – Ведь это сам Хазрат-и Али, великомученик, одним своим словом остановил здесь бешеный поток и создал эти чудо-озера.
– Хазрат-и Али, – повторил Уроз вполголоса. – Сам Хазрат-и Али… Тогда нечему и удивляться.
Мокки, присевший на корточки рядом, слушал все это. Время от времени он посматривал на дымок, поднимавшийся над одним гротом в скале, где они поставили юрту. Там была Зирех.
– Скажи нам, о Кутабай, – спросил саис, – есть ли какой-нибудь кишлак вблизи Банди-Амира?
– Один-единственный, – ответил сторож мечети. – На самом верху. Когда озера замерзают, жители по льду спускаются сюда. Матушка моя из их клана. Там же я и жену себе возьму когда-нибудь. Если Аллах пошлет мне нужные для этого деньги.
– Кто служит Ему так хорошо, как это делаешь ты, обязательно получает вознаграждение, – сказал Уроз.
– Да услышит твои слова Всевышний, – вскричал Кутабай.
Полуденное солнце палило нещадно. К нему добавлялся жар, изнурявший Уроза. В бесчисленных морщинах и складках его ставшего похожим на череп лица скапливался пот.
– Да услышит Он и меня тоже, – пробормотал Уроз.
Легкий ветерок пробежал по поверхности вод и немного освежил ему лицо. Воздух был пропитан чистым, легким, целебным ароматом луговых трав и полевых цветов, запахами листьев и деревьев горных лесов.
– Ты почувствовал аромат? – спросил Уроз с восхищенным удивлением.
– Так пахнут корни и растения озер, – отвечал Кутабай. – Все пять озер имеют такой аромат.
– Хорошее предзнаменование, – обрадовался Уроз. – Пора попробовать.
Кутабай встал на колени у края воды, поднял Уроза как ребенка, и, поддерживая его над самой водой, помог ему опустить в нее сломанную ногу и произнес:
– Пророк да будет с тобой!
Раздавшийся крик не удивил Кутабая.
Но саис знал гордость Уроза. Он с недоумением посмотрел на него:
– Что с тобой?
– Ничего… ничего… – проговорил Уроз, стиснув зубы.
– Это холод, – объяснил Кутабай. И добавил, обращаясь к Мокки, – попробуй.
Саис опустил пальцы в воду и тотчас выдернул их.
– Вода эта не согревается никогда, – сказал ему Кутабай.
Зубы Уроза отбивали дробь.
– Сколько… Сколько времени? – прошептал он.
– Сколько сможешь, – отвечал Кутабай.
Прерывистый вздох… еще один… третий. Урозу казалось, что заледенели все его внутренности.
– Хватит, – махнул он рукой.
Когда, под горячими лучами солнца, кровь опять побежала по всему его телу, Уроз захотел узнать:
– А прокаженные дольше сидят в воде?
– У них это другое дело, – отвечал Кутабай. – Они же ничего не чувствуют. Их пораженная плоть мертва. В конце концов она отпадает сама собой.
Уроз спросил:
– А тебе… не противно… смотреть на них?
Кутабай ответил не сразу. Подумал немного. Он хотел сказать совершенно честно. Потом промолвил:
– Нет… В самом деле… Нет… Они так несчастны по сравнению со мной.
Уроз начал дрожать так сильно, что у него не получалось произнести ни единого слова.
– Надо вернуться, укрыть тебя и дать попить горячего, – сказал Кутабай решительным голосом.
И унес Уроза.
Мокки вернулся к Зирех, сидевшей у входа в палатку.
– Уезжаем завтра на рассвете, – поставил он ее в известность. – Впереди очень тяжелое ущелье. А вечером будем в степи.
Зирех попыталась что-то сказать. Ее опередил Мокки, сказав именно то, что она хотела сказать:
– Уроз ее не увидит.
V ТИСКИ
Перламутровая вода пяти озер Банди-Амира светилась в потемках. Мокки подвел к дверям мечети оседланного Джехола. Зирех неподалеку держала под уздцы навьюченного мула. Из мечети вышел с двумя одеялами в руках Кутабай. Он сложил их, аккуратно привязал к седлу коня и сказал саису:
– Пригодятся хозяину. Ночью он плохо спал. Нога распухла… Не нога, а мешок с гноем…
Кутабай и Мокки посадили Уроза в седло. Они не могли в потемках разглядеть его лицо, но через одежду почувствовали, что он весь горит.
Путники направились к берегу. Быстро светало. Водопады начинали обретать свои цвета: серый жемчуг, розовый, черный. И острый верх красной стены, которая поднималась рядом с водопадами, тоже освещался все ярче. Природа придала причудливые формы ее вершинам. Они напоминали человеческие лица и фигуры, стоящие вертикально, наклоненные, лежащие на боку.
– Эти загадочные скалы, что, за ночь, что ли, появились? – спросил Уроз у идущего рядом Кутабая.
– Они здесь с незапамятных времен, – ответил сторож мечети. Только позавчера ты не мог их увидеть, оттого что была темная ночь.
Пройдя по берегу, Кутабай свернул на тропу, идущую направо. На гребне гор появлялись все новые статуи, высеченные самой природой. Последняя напоминала фигуру девушки. Она стояла как бы совсем отдельно от скалы. Устремленная всем телом вверх, она, казалось, следит с высоты птичьего полета за путниками, шагающими внизу. И прямо под ней в вертикальной стене гор неожиданно появилась расщелина. Это было начало ущелья, прорезающего последний хребет Гиндукуша.
– Да хранит Аллах каждого из вас! – пожелал Кутабай.
– Спасибо, брат, – отвечал Уроз.
В словах его послышалась почти нежность. Он сунул руку за пазуху, вытащил пачку денег, засунул ее за пояс Кутабаю и сказал:
– Поскорее женись, кончай со своей одинокой жизнью.
Грубые черты лица Кутабая смягчились от неожиданности, счастья и благодарности. Урозу стало не по себе. Он отвернулся от Кутабая, бросил взгляд на Мокки и Зирех. И тотчас пришел в себя. На их лицах он прочел дикую злобу: их грабили, у них отнимали то, что по праву принадлежало им. На мертвенно бледных щеках Уроза появилась привычная волчья ухмылка. Он забыл о существовании Кутабая, не слышал больше его слов благодарности и знаком приказал саису идти впереди. За ним и Джехол вступил в узкое ущелье.
Только вошли и тут же остановились. Впереди была полная темнота, глаза ничего не видели. Они подняли голову в поисках света. На головокружительной высоте тоненькая голубоватая ниточка между отвесными стенами расщелины обозначала, что где-то там есть небо. Причем им показалось, что дальше проход сужается еще больше.
Постепенно глаза привыкли к полутьме. Мокки шагнул раз, другой и дальше пошел уже увереннее. Тропа была проложена по гладким скалистым породам. Ступая, копыта Джехола и мула звенели, как в пещере. Саис крикнул:
– Подожди… Постой.
Уроз разглядел поперечную стену, преграждавшую все ущелье. Откуда-то послышался голос Мокки:
– Есть проход… только-только для…
Голос его внезапно умолк, словно куда-то унесенный. В том месте, откуда он донесся, начинался туннель, такой низкий, что Урозу пришлось лечь на загривок коня, и такой узкий, что Джехол, продираясь, оцарапал себе плечи. Вдруг ослепительный свет ударил в глаза, и в ту же секунду лицо Уроза оказалось в струе воздуха.
Никогда еще не испытывал он такого порыва ветра. У этого ветра была сила урагана и ритм, постоянство реки в половодье. Он извлекал из скалы поразительную музыку. Ущелье пело и стонало, жаловалось, как какая-то необыкновенная каменная флейта. Где возникал этот дикий поток воздуха? Из какой бездны доносились эти жуткие крики, вопли и бесконечные рыдания?
«Это души всех погибших здесь пастухов плачут в глубине земли», – подумал Уроз.
Оглушенные и ослепленные стояли они с Джехолом, не решаясь сдвинуться с места. Перед ними, насколько хватало глаз, тянулась по крутому склону прямая тропа.
Мокки отделился от скалы, к которой его прижал порыв ветра, и прошел мимо Уроза. У входа в туннель стояла Зирех, согнувшись пополам и боясь сделать хотя бы шаг вперед. Саис протащил ее по выступу, нависавшему над обрывом. Он крикнул, напрягая голос, Урозу:
– Ну, что будем делать?
Уроз протянул вперед руку с плеткой. На ремешке все еще висел острый кремень, тот самый, которым он размозжил голову собаке. Мокки отвернул от него свое плоское лицо, искаженное то ли от порывов ветра, то ли от ненависти. Взглядом он спросил совета у Зирех. Тут Уроз перестал замечать рев ветра. Инстинкт, предупреждавший его об опасности, кричал громче. Он не должен был сейчас дать служанке время передохнуть и отдать приказ саису.
Уроз взмахнул плеткой как раз между головами Зирех и Мокки. Острие кремня промелькнуло у них перед глазами. Они отпрянули друг от друга. Уроз схватил Мокки за шиворот и швырнул его в сторону крутого спуска. Мокки отлетел далеко от выступа скалы. Уроз направил коня в промежуток между ними, прямо на саиса. Тот оказался в такой позиции, что не мог ничего сделать, несмотря на все свое желание покончить с хозяином. Находился он ниже его, прижатый к стенке, на тропе, лишь не намного более широкой, чем грудь Джехола. Он не мог ничего предпринять, имея против себя увесистую массу коня и острый камень на конце плетки. За ногами Джехола Мокки увидел мула и Зирех, отошедших от обрыва и начавших спуск. Тогда он повернулся спиной к Урозу и расслабленно зашагал вниз по склону.
Но Джехол с большим трудом двигался за ним. Тропа проходила по длинным каменным плитам, отшлифованным веками, отполированным как ледяная дорожка. Поэтому, прежде чем сделать шаг, коню приходилось выбирать место, куда поставить ногу, искать малейшую неровность, складку или выбоину, чтобы копыта не скользили. И, несмотря на все предосторожности, он то и дело скользил.
«Ни он, ни я не сможем подняться без Мокки, – подумал Уроз. – И тогда…»
Впрочем, у них был союзник: очень сильный ветер. Мощный поток воздуха прижимал их к земле, уравновешивая силу притяжения и наклон местности. Джехол быстро усвоил, как пользоваться этой помощью, опираться на поток воздуха, – так же как он опирался бы на воду, переходя горный поток, – как выбирать порыв ветра, чтобы с его помощью продвигаться вперед.
А позади, несмотря на вес громоздкой поклажи, мул шагал, не испытывая никаких особых трудностей. Оглядываясь на него иногда, Уроз невольно завидовал уверенности, спокойствию и естественности его движений. Он подумал: «Нелепое и тупое животное здесь выглядит лучше, чем самый благородный степной скакун. Вот что значит соответствовать тому, для чего тебя создала судьба».
А еще Уроз продолжал наблюдать за Мокки. И ветер по-прежнему дул в свою гигантскую каменную флейту. Между тем косые лучи солнца опускались все ниже и ниже по вертикальным склонам, слева от путников. И, наконец, дневное светило само появилось в голубоватой щели, которая далеко-далеко, там, вверху, была небом. И тогда от самой вершины горы до самого дна ущелья воздух, казалось, вспыхнул. Загорелись линии гребня, гигантские стены-скалы, плиты-камни, устилавшие дно. Животные и люди остановились. У них возникло ощущение, что они шагают по огню.
Мокки захотел пройти между Джехолом и стенкой расщелины. Уроз повернул коня поперек дороги.
– Дай мне посмотреть на Зирех, – крикнул Мокки.
– Не дам, – отвечал Уроз.
– Только на минутку, – крикнул опять саис.
– Нет, – повторил Уроз.
Инстинкт повиновения покинул слугу.
Возмущение, ненависть, гнев буквально читались на его лице. Он взялся рукой за стремя, на которое опиралась здоровая нога Уроза. Но не успел он закончить жест, как острие камня, привязанного к плетке, ударило ему по лбу с такой силой, что верхняя половина тела саиса откинулась назад. Он покачнулся, потерял равновесие и покатился по склону. Уроз не стал смотреть на его падение. Он резко обернулся назад. И вовремя: Зирех вонзила острие ножниц, которые находились у нее за поясом, в ногу серому мулу. Животное метнулось вперед. Его масса и вес поклажи делали из мула смертельное оружие. Если бы он ударил в бок Джехола, конь не устоял бы на ногах, поскользнулся бы, упал и поломал себе кости на гладких камнях, отполированных как зеркало. Уроз перебросил плеть в левую руку и наотмашь ударил мула по морде, разодрав ему ноздри. Мул поднялся на дыбы. В поисках равновесия он метнулся в одну сторону, в другую, переступая ногами. Это была пляска между жизнью и смертью. В конце концов он восстановил равновесие и встал на все четыре ноги.
Уроз направил Джехола к саису, прижавшемуся к стенке. Из раны на лбу обильно текла кровь, заливая лицо, капая на чапан. Получив удар рукояткой плети по ребрам, тот поплелся вперед. Он поскользнулся, закачался, но уцепился за выступы скалы и на полусогнутых ногах пошел по наклонной тропе вниз.
Движение возобновилось, прерываемое остановками, скольжением. Солнце быстро ушло из полоски неба вверху. Западная стенка расщелины почти погрузилась во тьму. Впереди тень тоже стала расти. Тропа была все такой же прямой и крутой, иногда неожиданно расширяясь или сужаясь. И чем уже была расщелина, тем сильнее завывал ветер.
Внезапно ветер запел с удвоенной силой. Путники поняли, что подошли к самому узкому из всех встречавшихся им участку прохода. Мокки впереди инстинктивно вытянул руки в обе стороны. И коснулся скал, еще даже не вытянув их во всю длину. Джехол, подобрав плечи и бока, терся ими о каменные стены. Сломанную ногу Уроза, превратившуюся в отвратительную бесформенную массу, вдруг зажало, стиснуло, раздавило. От дикой боли, какой он никогда еще не испытывал, Уроз взвыл. Это был вопль обезумевшего зверя. Но он даже сам его не услышал. Крик утонул в шуме ветра. И тогда Уроз перестал сдерживаться. Он кричал и кричал до тех пор, пока кожа на раздувшейся ноге, наконец, не лопнула и из раны не вытек гной. После этого боль стала более терпимой. И Уроз замолчал.
После выхода из этой трубы ущелье стало гораздо шире. Когда Джехол вышел из тисков, Мокки уже стоял, прижавшись к левой стене, в углу, защищенном от ветра. Джехол тоже прижался, но к другой стенке. Бока его раздувались, он с нетерпением стряхнул с себя одеяла, которыми, расставаясь, снабдил путников Кутабай. Трение о скалы до такой степени истрепало и вытянуло их, что они теперь свисали почти до земли и бились по задним ногам коня.
Тут, согнувшись в три погибели из-за встречного ветра, из теснины выбежала взлохмаченная Зирех и крикнула Урозу:
– Задохнется… Беда с мулом… Из-за вьюков он не может пройти, задохнется.
– Перережь постромки, – ответил Уроз.
– Столько добра пропадет! – возразила Зирех. – Целое богатство!
Уроз лишь пожал плечами.
– Да, тебе легко говорить… – крикнула она.
Глаза ее были прикованы к груди Уроза, где лежали пачки связанных афгани. Уроз помахал плеткой. Зирех вновь исчезла в узком проеме.
Мокки шагнул было к ней. Но перед ним возникла грудь Джехола. Мокки не стал упрямиться, но плоское лицо его превратилось в подобие деревянной маски, так напряглись на нем все мускулы и жилы. Уроз улыбнулся этому лицу, в котором он увидел лицо своего палача, и подтолкнул Джехола.
И вновь ущелье сузилось, превратившись в коридор с полом из гладких плит, круто идущих вниз, и дико завывающим ветром. Из-за него путники вовремя не расслышали шум воды. А так как вода текла вдоль темного края ущелья, они и разглядеть ее тоже не могли.
Но вот нога у Мокки соскользнула, и он весь оказался в ледяной воде, уносившей его вниз. Джехол непроизвольно дернулся назад. Камни под ногами и сухие-то были скользкими, а тут стали просто как каток.
Уроз понял, что еще никогда опасность для него не была так велика. Сверху приближалась Зирех с огромным мулом. Внизу Мокки, зацепившись за выступ скалы, вылезал из воды. А он, Уроз, был зажат на месте, не в силах двигаться ни вперед, ни назад. Ловушка была безвыходной, положение – непоправимым. Уроз смерил взглядом расстояние, оставшееся до места, где вода, выходя из расщелины, растекалась на мелкие ручейки. Триста-четыреста футов, не больше. Надо было как-то преодолеть это расстояние или умереть.
Урозу вдруг вспомнилось, что по весне, после проливных дождей у него на родине, когда степь превращалась в топкое болото, все возчики брали в дорогу доски, чтобы подкладывать под колеса. Там, на равнине, доски, а здесь что делать? Уроз схватил одеяло, свисавшее с седла, и бросил его перед лошадью. Джехол понял и встал на одеяло. И другое одеяло легло тоже перед ним. Он сделал еще один шаг вперед… подождал немного и повернул голову к Урозу. А тот понял, что один он ничего не сможет сделать. Мокки на четвереньках вылезал из воды. Зирех, прячась за мулом, приближалась сзади с ножницами в руке. Уроз в бессильной ярости сжал рукоятку плети. На что она ему теперь? Саис подбирался ползком, и достать до него Уроз не мог. Зирех тоже была неуязвима. Уроз вспомнил ее горящие от жадности глаза. Как же сейчас они должны были пылать. Ведь сокровище почти у нее в руках.
– Так нет же, сука кочевая, – вполголоса проговорил он. – Клянусь Пророком, не быть этому!
Он вырвал из-за пазухи пачку денег, повернулся всем телом к Зирех и левой рукой потряс в воздухе бумажками, трепещущими на ветру. Та вцепилась в уздечку мула и замерла. Изо всех сил Уроз закричал:
– Подчиняйтесь мне… И немедленно!
Правой рукой он выхватил из пачки пригоршню ассигнаций и разжал пальцы… Неописуемая боль и ужас отразились на лице молодой женщины: высоко, высоко над ее головой ветер неумолимо уносил навсегда эти деньги, ее богатство. Она могла только взглядом следить за их полетом. Урозу показалось, что это ее движение длится бесконечно долго. Он чуял всей кожей спины, как к нему подкрадывается Мокки. В любой момент саис мог ухватить за ноги обессилевшего коня и повалить его. Последняя ассигнация из пачки исчезла во тьме ущелья. И вновь Зирех уставилась на Уроза. Он вынул из-за пазухи еще пачку денег. Зирех бросилась перед ним на колени и, словно в молитве, сложила ладони. Уроз большим пальцем показал в сторону Мокки. Кочевница проскользнула вдоль бока Джехола. Наконец, Уроз мог повернуться и сесть прямо в седле. В шаге от коня Зирех тянула к себе подобие раненого зверя с окровавленной мордой, еще мгновение назад готового обрушиться на него своей массой.
Мокки медленно выпрямился и еще медленнее пошел и поднял одеяло, лежавшее на земле за Джехолом, и так же медленно расстелил его перед конем. Тот перешагнул на него. И так Мокки проделывал много раз, пока Джехол не преодолел залитую водой часть пути. И все это время Зирех не спускала встревоженно-умоляющих глаз с денег, которые держал Уроз в высоко поднятой руке, грозя бросить их на волю ветра. И казалось в ту минуту Урозу, что нет на свете лучшего победного гимна, чем вой ветра в тесном ущелье.
Потом Зирех подошла к саису. Уроз не возражал. Он по-прежнему держал на виду свои деньги, готовый в любой момент разжать пальцы и дать им улететь безвозвратно.
Спуск стал более пологим, каменные плиты стали менее скользкими и не так плотно прилегали друг к другу. Между ними стали появляться островки глины, пучки сухой, колючей травы. Путники пошли быстрее. И то сказать, время было позднее. Только самая верхняя часть восточного склона оставалась освещенной. Внезапно Джехол высоко поднял голову, пошевелил ноздрями, вдыхая поток воздуха, ускорил шаг, почти до рыси, оттолкнул Зирех и саиса и оставил их далеко позади. Уроз тоже почувствовал в воздухе горький запах, которым был наполнен теперь ветер. И еще даже не столько умом, сколько сердцем остро осознал, что вот оно, счастье. Скалы расступились, как створки гигантских ворот, а за ними открылась бескрайняя, необозримая даль.
И Уроз завершил свой переход через Гиндукуш. Перед ним раскинулась степь, где человек в течение всего дня может видеть солнце. Где дневное светило, прежде чем исчезнуть, ложится на край земли и дарит ей долгий горячий поцелуй.
* * *
Выйдя быстрыми шагами из ущелья, Мокки шел вперед, сколько хватило дыхания. Потом остановился и протер глаза, чтобы лучше видеть. Он не осознавал, что вытирает слезы радости.
– Степь… – шепотом произнес Мокки.
Ему не верилось. Он обернулся на гигантскую стену Гиндукуша за спиной и блаженно улыбнулся.
– Почему ты бросил меня? – спросила Зирех. – И с чего эта радость?
Мокки не заметил, как она подошла. Он вздрогнул и, не прекращая улыбаться, тихо ответил: —Степь, Зирех, степь…
– Ну и что, что степь, – крикнула Зирех, – степь без денег, без жеребца, и даже мул без поклажи.
– Это так, – произнес Мокки едва слышно.
Его радость стала обретать вкус желчи. Он отвел взгляд от гор, поискал взглядом Уроза. Тот сидел в седле, в нескольких шагах от него, повернув голову на запад, и, казалось, молился.
Конь фыркнул и стал бить копытом. Издалека, с севера до путников донеслись резкие крики. В тихом спокойном воздухе только они нарушали молчание.
– Что за крики? – спросила Зирех.
– Конные пастухи перекликаются, – сказал Мокки. – Их не видно, уже темнеет. Они сгоняют к юртам скотину, которая паслась весь день в степи.
Никакой радости в его голосе не было слышно. Как и Зирех, он думал о трудностях, о том, что при стольких свидетелях убивать будет труднее.
Уроз заметил, как с обеих сторон Джехола на земле появились человеческие тени. «Мокки и Зирех», – подумал он. И Джехол пошел самым быстрым своим шагом. А Уроз убрал подальше под рубашку мешочек с афгани. От этого жеста он испытал острое чувство одиночества и бессмысленности происходящего и положился на волю коня.
VI НАДО ОБОРВАТЬ НИТЬ
Полевой стан был прост, как все в степи. Просторный четырехугольный загон, вокруг которого на деревянных кольях была натянута проволока. Ночное пристанище для овец и собак. К тем же кольям с внешней стороны привязаны кони и вьючные верблюды. Всего две юрты. В той, что побольше, жили пять пастухов. Глава семьи и младший из его сыновей, еще подросток, жили в другой юрте, такой же пустой и голой, как и первая. Кроватью служила земля, а подушкой – седло.
Только что загнали скот. Между юртами горел большой костер. Пастухи сидели по-турецки вокруг огня и ждали, когда бача, хотя он и был сыном их хозяина, принесет им чай и ужин.
Уроз остановил Джехола так, чтобы только его голова была освещена. Собаки, давно учуявшие их и встретившие еще издалека громким лаем, выходили от ярости из себя. Пастухи же не шевелились.
«Почтенные люди. Умеют сдерживать любопытство», – подумал Уроз.
По наклону их голов, по форме тюрбанов, по ткани чапанов и по полному достоинства молчанию он сразу почувствовал их – все узнавал он, все говорило о том, что они близки ему, как собственная кожа. Он обратился к ним на языке степняков, которого не знали ни жители долин Гиндукуша, ни те, кто жил еще южнее.
– Мир вам и благополучие стадам вашим, – поприветствовал их Уроз по-туркменски.
На этом же языке пастухи в один голос ответили:
– Добро пожаловать тебе и твоему коню.
Тут Джехол вступил в освещенное место. Только теперь пастухи повернули к Урозу головы. Он узнал их, не будучи знакомым с ними. Это был его род, его кровь. Когда он окончательно понял это, у него возникло желание направить коня опять в спасительную темноту. Здесь он не был просто прохожим. Здесь начиналась земля бузкаши. И слава великих чопендозов, которых знали во всех трех Северных провинциях. К тому же, он вступил на землю своей родной провинции, Меймене. Эти пастухи наверняка видели его на скачках… хотя бы раз… видели, как он побеждал… Кто-то из них наверняка запомнил… Значит, взволнованная встреча, уход. Известят Турсуна… Состоится жалкое возвращение побежденного калеки. И никто никогда не узнает, на что он отважился, что испытал, чего добился…
Как вор, боящийся быть узнанным, Уроз наклонился к загривку коня, чтобы подольше скрывать лицо. Его щека коснулась гривы жеребца, и он почувствовал, какая у него всклокоченная и липкая щетина. Он инстинктивно пощупал свое лицо и впервые подумал, до какого состояния дошел. Грязная борода… ввалившиеся щеки… Все кости наружу… Запавшие глаза… гноящиеся веки… Скелет, неповоротливый скелет в отвратительных лохмотьях. И распрямился. Ну, кто сможет узнать в несчастном всаднике на загнанной лошади гордого Уроза, сына славного Турсуна?
Один из пастухов встал на ноги, встал, как пружина, не прикоснувшись пальцами к земле. Он был старше остальных. Сухой, поджарый. Весь из нервов. Седая голова, седые усы. Но брови, сросшиеся над орлиным носом, были гладкими и блестящими, без единого седого волоса, словно нарисованными несмываемой черной тушью. Эти брови делали взгляд его удивительно живым и проницательным.
– Садись к нашему огню, – пригласил он…
И остановился, увидев искалеченную ногу Уроза. Взял Джехола под уздцы, отвел его к своей, меньшей юрте, снял Уроза и положил на землю.
– Мой саис отстал. И служанка тоже, – объяснил Уроз слабым голосом. – Обойдусь без них. Они слишком устали.
– Не волнуйся. Ими займутся, как и твоим конем… – сказал старший из пастухов. – Слугой у тебя будет мой младший сын, Кадыр.
– Кого мне благодарить за все благодеяния, о, первый оказавший мне гостеприимство в степи? – спросил Уроз.
– Меня зовут Мезрор, я сторожу часть стада Бехрам Хана, – ответил старейшина пастухов.
Он принес седло Джехола, унес свое и пошел за фонарем. Когда вернулся, ноздри его сморщились. Юрту наполнил отвратительный запах гниения. Седовласый старец с черными как смоль бровями хотел было дать совет Урозу. Но ограничился лишь тем, что убавил огонь в фонаре и вышел, пожелав спокойной ночи.
И полог юрты опустился.
Но вскоре полог юрты поднялся.
Сын Мезрора принес Урозу чай, лепешки и рис. Уроз отодвинул еду и стал с жадностью пить. Мальчик не спускал с него умных, живых, нетерпеливых глаз. Но вел он себя так же сдержанно, как и его отец. Когда Уроз напился, мальчик сел, скрестив ноги, возле фонаря. Тишину нарушил Уроз. Он спросил:
– Ты видел моих слуг?
– Видел, – утвердительно кивнул головой Кадыр. Он хотел ограничиться этим ответом, но не выдержал, быстро повернул голову к Урозу, и вся серьезность, которую он собирался выдерживать, исчезла от улыбки, озарившей его лицо.
– И мула тоже видел, – воскликнул Кадыр. – Он большой и сильный. Но, клянусь Пророком, я хотел бы иметь твоего коня. Какой жеребец! Он хоть и грязный, что просто страшно, но видно что…
Он внезапно умолк и опустил голову. Он обещал Мезрору не приставать к больному гостю с разговорами. Но Уроз сам спросил:
– А что они рассказали?
– Что смертельно устали и проголодались, – ответил мальчик. – Больше ничего. Наверное, они уже спят в большой юрте.
– Ладно, – сказал Уроз.
И охотники, и дичь по обоюдному молчаливому согласию решили ничего не рассказывать.
– Очень хорошо… – прошептал Уроз.
Но кто был охотником и кто – дичью? Теперь Уроз уже не знал. Мысли его путались… Воздух в юрте был тяжелый и смрадный. Хотелось спать, но эта духота и вонь… Шея оперлась о седло, и он открыл глаза. Инстинкт самосохранения запрещал ему поддаваться этому оцепенению. Оно было какое-то недоброе, в нем отсутствовала откровенная простота сна, зато чувствовалось нечто скрытное, вязкое, как тина в топком болоте. Не покой его ждал, а погружение на дно.
«Яд от гниения захватывает меня все больше и больше, – думал Уроз. – Если он усыпит меня, я сгнию до конца…»
Но как он ни старался, ресницы то и дело слипались. Его начало охватывать безразличие: жизнь ли… смерть ли… поражение… слава… Он опять открыл отяжелевшие веки. Собрал все силы. Но он чувствовал, что еще раз ему это сделать не удастся…
– Кадыр, – прошептал Уроз, – прибавь огня в фонаре, поставь его мне на живот и позови отца.
Скоро пришел Мезрор. Уроз видел только смутные очертания, только смутный контур лица пастуха. Веки его покраснели, глаза затуманились слезами от долгого смотрения на яркий огонь фонаря.
– Чем я могу тебе помочь? – спросил Мезрор.
– Осмотри рану, – попросил Уроз.
– Я видел… Ее уже ничто не скрывает, – сказал Мезрор.
– Ну и как? – спросил Уроз.
Взгляд пастуха еще раз скользнул по отвратительному месиву, состоявшему из болтавшегося на сломанной ноге черно-синего распухшего, оголившегося мяса, обрывков тряпок, прилипших к углублениям в ране, торчащих, проткнувших кожу острых обломков костей.
– Старое и очень обильное нагноение, – сказал Мезрор.
– Ну и как? – повторил Уроз.
– Если хочешь жить, то надо этой же ночью отделаться от ноги, – был ответ Мезрора.
– Возьмешься? – спросил Уроз.
Старик сильно сморщил лоб, так что брови от белой шевелюры отделяла лишь узкая полоска кожи. Он ответил:
– Я столько раз лечил животных, что, надеюсь, смогу помочь и человеку.
– Но чтобы никто не знал, – сказал Уроз.
– Только сын мой, а за него я ручаюсь, – пообещал Мезрор.
– Начнешь сейчас? – спросил Уроз.
– Нет, – ответил Мезрор. – Сначала проверю, что в той юрте все крепко спят.
– Отодвинь фонарь, – попросил Уроз.
* * *
Невидимый ему фонарь, стоявший по другую сторону седла, наполнял юрту ровным и слабым светом. Теперь ни снаружи, ни внутри него ничто не мешало Урозу расслабиться, предаться сну, которому он так сопротивлялся. И он погрузился в забытье, словно в пучину каких-то мутных вод.
Время от времени сквозь окружавшую его муть пробивались, почти доходя до его сознания, разные ощущения: позвякивание металла… странный жар… запах жира… Вдруг словно огонь коснулся его ресниц, а на лицо упал водопад холодной воды.
Выпрямив торс, сжимая пальцами плетку и кинжал и ничего не понимая, Уроз увидел перед собой яркое пламя фонаря, а над ним – орлиный нос крючком. Уроз провел рукой по лицу. Оно было все мокрое.
– Пришлось оросить немного, – сказал Мезрор. –
Ты никак не просыпался.
Уроз закрыл глаза, вновь открыл. У его изголовья Кадыр рвал на полосы чистую рубаху. У его ног, на раскаленной жаровне, стоял пузатый котел. Возле жаровни лежали топорик и длинный нож. Взгляд Уроза остановился на блестящем металле и сверкающем лезвии отточенных инструментов. Он выпустил из рук свое оружие и быстрым жестом, опередившим движение его мысли, прикрыл ладонями рану. И так же быстро убрал их. Естественная реакция стыда вернула его к нормальному восприятию самого себя и окружающего мира.
Голова его опустилась обратно на седло. Он скрестил руки на груди и сказал:
– Клянусь Пророком, я готов.
– Пока еще нет, – ответил глава пастухов.
Он порылся в кармане чапана и вынул оттуда длинную, тонкую, прочную веревку.
– Приподымись, – кивнул ему Мезрор. – Я должен тебя привязать.
Уроз выпрямился, опять с кинжалом в руке, и свистящим шепотом проговорил:
– Никто… никогда… кровью своей клянусь.
Мезрор спросил у сына самым мирным голосом:
– Кадыр, сколько сильных пастухов удерживают барана, когда ему что-нибудь отрезают?
– Не меньше двух, – ответил мальчик.
– Я не скотина какая-нибудь, – возразил Уроз.
– Именно поэтому я и не могу рисковать, – заметил Мезрор.
Слова эти были сказаны совершенно безразличным тоном. Обычно такие живые глаза под черными бровями на этот раз ничего не выражали.
«Он настроен очень решительно», – подумал Уроз.
Он взглянул на веревку. Взглянул на бесформенную ногу выше лодыжки, раздувшуюся и гноящуюся… прошептал:
– Я никогда не прощу тебе этого.
И протянул Мезрору обе руки.
– Не так, – покачал головой старейшина пастухов.
Он схватил руки Уроза, завел их за шею и связал запястья так крепко, что веревка впилась глубоко в кожу, прихватил поясницу, здоровую ногу у колена, затем у лодыжки, и закрепил веревку под подошвой ноги последним, надежным узлом. Потом перевернул Уроза на спину, снял с него чалму, скомкал ее и засунул в рот в качестве кляпа.
Уроз не сопротивлялся. Делом чести теперь он считал выдержать самое худшее, не дергаясь. Но все произошло так быстро, движения рук пастуха были так точны, что чопендоз не успел ни понять, ни почувствовать боль.
Мезрор встал на колени. На его худых щеках скулы выпятились, как шляпки огромных гвоздей. Левой рукой он схватил Уроза за ляжку и изо всех сил прижал его к земле. Кадыр поднял над ней фонарь и дал Мезрору топор. В белесом, резком свете блестящее лезвие поднялось и упало, поднялось и упало. Уроз видел лишь игру теней на стене юрты, напоминающую жесты палача. При этом он ощущал лишь тупую, глухую боль. Пока из-за скорости удара Уроз не успел среагировать на боль перерубаемой кости. Мезрор сменил топор на нож и, не давая жертве времени на осознание того, что происходит, перерезал мышцы и кожу и оттолкнул ногой кусок вонючей падали.
«Как, уже? Тогда зачем кляп? Зачем веревка? Столько унижения! Зачем?» – подумал Уроз. И тут же потерял способность размышлять.
Мезрор, встав коленом ему на живот, приподнял обрубок ноги, а Кадыр наклонил раскаленный котел. Тут мир теней на стенах юрты, белесое солнце фонаря, внезапно открывшееся красное пекло жаровни, потрескивание ошпаренной кожи, отвратительное дыхание кипящего жира и еще более отвратительный запах обваренного мяса сплелись вместе, расплавились и унеслись прочь в хлынувшем потоке нестерпимой боли. Гордость и мужество Уроза были готовы противостоять испытанию топором и ножом. Но они не помогли ему, когда на культю полилось кипящее сало.
Все тело его содрогнулось от совершенно животного бунта. Тщетно. Путы лишь сильнее впились в тело Уроза. Колено, давившее на живот, еще сильнее спрессовало внутренности, в то время как беспощадные руки ни на секунду не отпускали то, что осталось от ноги, и продолжали пытку. На культю хлынула струя жидкого огня… еще одна… и еще. Мышцы Уроза, которые ему больше не подчинялись, напрягались и сжимались с безумной силой, пытаясь вырваться из узлов туго затянутой веревки. А обезумевшие зубы грызли ткань кляпа. Рот переполнился слюной. И он истошно вопил, беззвучно вопил в тряпку.
Котел опустел. Кадыр тщательно вытер его дно и края куском разорванной чистой рубашки и еще горячей тряпкой обвязал ошпаренную культю, из которой уже не шла кровь.
Уроз дергался все слабее и слабее. Когда мальчик кончил обвязывать ногу, тело раненого лежало без движения. Мезрор тихо опустил на землю то, что осталось от ноги, вынул кляп и развязал веревку. Уроз не шевелился. Мезрор взял за пальцы отрубленную ниже колена ногу, валявшуюся на земле, и вышел из юрты. Немного спустя ночную тишину нарушил удаляющийся топот галопа.
– Он вернется, не беспокойся, – пообещал Кадыр. – Только отвезет подальше от стоянки твое несчастье.
Но Уроз не слышал его. Он потерял сознание.
– Он скоро вернется, клянусь, клянусь тебе, – воскликнул Кадыр.
Теперь он говорил это для себя. Отец оставил его одного с гостем в обмороке. Одного! Какое доверие! Какая честь! Но чем он может помочь неподвижно лежащему человеку, у которого ни глаза не смотрят, ни язык не говорит, ни голова не работает? А что если тот умрет, пока он его сторожит? Что скажут любимые глаза отца?
Кадыр склонился над Урозом, прислушиваясь к его неровному дыханию… К свистящему, хрипящему дыханию, которое слабело… слабело… останавливалось… Нет, еще не совсем… Вот опять хрип… Сердце мальчика билось в унисон с неровным дыханием. Тревога стала нестерпимой. Больше не смотреть на желтое восковое лицо и не вслушиваться в это прерывистое дыхание… Он встал, посмотрел вокруг себя. «Какой беспорядок! – подумал он. – Отец пристыдит меня».
Он начал с того, что вытер запекшуюся кровь с инструментов, положил топорик рядом с жаровней. Потом тщательно собрал и сжег мелкий мусор, оставшийся от операции, – клочки ткани, кусочки мяса и костей – и сжег их. Потом поставил неполный чайник на угли.
«Ему нужен будет горячий чай, – подумал Кадыр. – Очень горячий».
Эта мысль вернула его к Урозу, по-прежнему лежавшему без сознания. Его кожа казалась сотканной из мелкой дрожи. «Ему очень холодно», – подумал Кадыр. Снял свой маленький чапан и накрыл им Уроза.
Послышался топот копыт.
– Вернулся! Вернулся! – тихо сообщил Кадыр.
Ангел смерти не посетил юрту. И все было в порядке… Нет, не все… Веревка и кляп… На них лежала рука раненого. Кадыр хотел было взять их, но пальцы лежащего без сознания мужчины пришли в движение и со страшной силой впились в мокрую тряпку и липкую веревку. Мальчик услышал шепот:
– Оставь… я не буду больше кричать… Клянусь Пророком.
Это была такая жалобная, такая протяжная просьба, что она напугала Кадыра больше, чем если бы раздался крик. Мальчик отдернул руку. На пепельно-желтом лице губы были плотно сжаты – сплошная белая линия. Кто же произнес эти слова?
Топот коня остановился у юрты. Кадыр кинулся было ко входу, но тут же остановился. Мальчик, которому такой человек, как его отец, оказал столь высокое доверие, не должен вести себя, как напуганный ребенок.
Мезрор сразу заметил порядок в юрте, чайник на жаровне, халат Кадыра на Урозе. Он обнял сына за плечи и поинтересовался:
– Ну что, сын? Все в порядке?
Сколько дружеского тепла было в этом жесте большой, мозолистой руки… грубоватом голосе, в этом обращении равного к равному… Кадыр ответил не сразу. Когда уверенность в себе вернулась к нему, он сказал важным тоном.
– Не знаю, отец. Душа его еще не вернулась.
– Так и должно быть, – объяснил ему Мезрор. – Ей надо отдохнуть подальше от измученного тела.
Он лег возле Уроза, откинул полы чапана, приложил ухо к сердцу. И ничего не услышал. Его черные брови нахмурились. Человек, которому он ампутировал ногу, дышал, значит, и сердце должно было биться. Мезрор крепче прижал щеку к рубашке и почувствовал странный шорох. Нащупал под тканью мешочек с крупными купюрами. От удивления он на какое-то мгновение замер. Потом слегка покачал головой, переложил мешочек с бумажками на правую сторону груди, положил ладонь на оголенную грудь и тотчас нащупал слабое сердцебиение. Потом тщательно застегнул рубашку, прикрыл чапан Уроза и приподнял чапан Кадыра, чтобы осмотреть ампутированную ногу. На ляжке еще сохранились темно-красные пятна, но опухоль спала. Мезрор пощупал кожу: она была еще горячей, естественно, но не слишком… Наконец он взялся за забинтованную часть ноги и понюхал ее. Кадыр внимательно следил за всеми его движениями. Мезрор сказал:
– Пока ничего нельзя сказать. От перевязки еще сильно пахнет жиром. Развяжи ее! У тебя пальцы более легкие.
Когда рана обнажилась, Уроз не пошевелился. Мезрор понюхал ее, приставив вплотную ноздри, и сделал вывод:
– Ну, сын, считай, что мы выиграли. Перевяжи, как было.
То ли от усталости, то ли от ночной прохлады, а может, от похвалы руки Кадыра слегка дрожали. И его ноготь царапнул живую кожу. Уроз вздрогнул, открыл глаза и увидел лицо Мезрора, склоненное над ним. Старейшина пастухов сказал:
– Будь спокоен, твоя протухшая нога уже не твое дело, а только стервятников.
– Каких стервятников? Почему? – шепотом спросил Уроз.
Пальцы его сжались. Он почувствовал в руке комок ткани. И вспомнил все. Левая рука непроизвольно дернулась к тому месту, где он привык нащупывать перелом. Она коснулась пола, протянулась ниже… опять земля… Рука медленно, нерешительно стала подниматься выше, выше, нащупала культю, оживилась, побежала к колену, вернулась к переломленному месту, измерила расстояние от колена к перелому.
– А как… как?.. – шепотом спросил Уроз.
– Клянусь честью, – пообещал Мезрор, и голос его звучал уверенно и даже торжественно, – клянусь честью, скоро ты сможешь, как раньше, сжать коленями любого ретивого скакуна.
– Да услышит тебя Аллах! – поблагодарил Уроз.
В голосе его послышалась сила. А в глазах появился блеск. И румянец на щеках. Быстрым, точным движением он придвинулся к седлу. Оперся на него, ухватился обеими руками за луку седла и выпрямил туловище, гордо подняв грудь.
– Воистину, ты – настоящий мужчина, – посмотрел на него Мезрор.
Уроз разжал правую руку с кляпом, еще мокрым от его слюны, и веревкой, скользкой от его пота. Посмотрел на них, и бледные губы его сжались в презрительной, саркастической улыбке.
– Воистину, воистину, – произнес Уроз еле слышно.
Кадыр развернул драную тряпку и важным голосом вынес свой приговор:
– Она ни на что больше не годится.
– В огонь! – распорядился Уроз.
Он снял с себя кусок ткани, служивший кушаком, и обмотал им голову, как чалмой. А вместо пояса повязал веревку.
Чтобы проделать эти движения, Уроз снял руки с седла. И тело его осело. Он не пытался выпрямиться вновь и опустил голову на седло. Его трясло. Кадыр дал ему выпить горячего чая. Мезрор попросил сына:
– Теперь надо хорошенько его укрыть. Принеси-ка наши одеяла.
– Сейчас! Мигом принесу, – воскликнул Кадыр.
Наконец он имел право быть просто подростком. В два прыжка он был уже за дверью.
Когда этот мальчуган в одной тонкой рубашке исчез в холодной степной ночи, Уроз испытал странное чувство пустоты, будто ему чего-то не хватало. «Ну почему нет у меня такого же сына?» – подумалось ему. Эта мысль очень его удивила. До сих пор дети вызывали у него лишь нетерпение и отвращение… А вот этот… Он мужественно помогал во время самой кровавой, самой отвратительной операции… Ухаживал за ним умело и самоотверженно… А этот маленький чапан в качестве одеяла.
– Настоящий мужчина здесь – это твой сын, – заявил вдруг Уроз.
И Мезрор ответил:
– Придет день, когда он с гордостью скажет, что ухаживал за самим Урозом, сто раз выходившим победителем.
Уроз лишился дара речи, а потом прошептал:
– Так ты узнал меня?
– С первого же взгляда, – отвечал Мезрор. – Но не беспокойся. Остальные пастухи не узнали, они слишком молоды. Только я прожил довольно, чтобы видеть тебя на скачках, не раз видеть твои победы. А ты знаешь поговорку: старый глаз помнит лучше во сто раз.
Тут в юрту вбежал весь раскрасневшийся от холода Кадыр с одеялами.
* * *
В ту ночь Уроз спал мало. Боль не давала уснуть. Причем сильнее всего болела не новая рана, а то место, где раньше был перелом и где теперь ничего не было, внутри того обрубка, который уже стал добычей воронья. Эта странная боль была так сильна, так похожа на боль, не перестававшую мучить Уроза на протяжении многих дней, что он не раз проводил рукой ниже культи, чтобы нащупать место перелома, где болит, и с удивлением находил там пустоту. При слабом свете фонаря, стоявшего за его седлом, он видел Кадыра, прикорнувшего в его изголовье, и на маленьком личике его, казавшемся еще меньше из-за усталости, выражение беспокойства и готовности помочь. И Уроз делал вид, что спит, чтобы не мешать мальчику уснуть. И лишь на рассвете оба заснули по-настоящему.
Лай собак, крики пастухов и блеянье овец разбудили одновременно и Уроза, и Кадыра.
– Как ты себя чувствуешь? – спросил мальчик.
– Хочу есть, – ответил Уроз.
И с удивлением для самого себя повторил:
– Очень хочу есть.
В жаровне оставалось мало углей.
– Я сейчас принесу углей, чтобы разогреть плов, – крикнул Кадыр.
– Нет, – сказал Уроз. – Пусть будет холодный, но сейчас.
Он еще не кончил облизывать пальцы над пустым блюдом, когда в юрту вошел Мезрор, в сапогах и с плеткой за поясом.
– Ну вот ты и получил лучшее из лекарств, – сказал старейшина пастухов. – Так что я могу спокойно уезжать на работу.
– Никто в лагере не должен знать, – показал Уроз взглядом на ногу.
– И даже твой саис? – спросил Мезрор.
– Никто, – повторил Уроз.
– Тогда я возьму его с собой на пастбище. Лишних рук у нас не бывает, – предложил Мезрор.
Подобно медленному потоку воды, уходящей в пески пустыни, шум стада постепенно стих. Кадыр прислушивался к этому удалявшемуся рокоту до самого конца. В своем воображении он следил за стадами овец, то разбредающимися по степи, то выстраивающимися в определенном порядке, то просто идущими в зависимости от пожеланий его отца. Наконец он пояснил:
– Они пасутся у подножия высоких гор… Там трава сохраняется дольше, чем в степи. Из-за родников и ручьев. Один родник дает и нам воду, здесь, в нашем полевом стане.
Сказал и вспомнил о своем долге.
– Я пойду принесу самовар пастухов, – крикнул он. – Так у тебя весь день будет горячий чай.
Не успел он выйти, как голова его в тюбетейке, шитой золотыми нитками, опять появилась в проеме.
– Тут поблизости бродит твоя служанка, – сообщил Кадыр.
Уроз инстинктивно взбил одеяло, скрывающее обрубок ноги, и медленно сказал:
– Пусть войдет… но если заговорит с тобой обо мне, скажи…
Круглая мальчишеская головка сначала решительно завертелась слева направо и справа налево, потом сказала:
– Мне нечего с ней разговаривать. Она всего лишь жалкая кочевница, а я сын главного пастуха.
– Ты рассуждаешь как мужчина… Ступай…
Едва голова Кадыра исчезла, как Уроз резко изменил позу. Он распластал свое тело на земле, сделал потолще слой одеяла в том месте, где должна была бы быть его больная нога, сунул поглубже подбородок в воротник чапана, спрятал щеки под свободные концы чалмы. Когда Зирех вошла, на лице Уроза видны были только глаза, глубоко запавшие в орбиты, да нос, торчавший как у покойника. Он не дал времени женщине что-либо сказать, поприветствовать его.
– Хочу умереть спокойно, – сообщил он. – И если ты еще хоть раз появишься возле этой юрты, Мезрор спустит с тебя шкуру хлыстами.
Голос Уроза, хотя и очень слабый, был неумолим. Зирех невольно поежилась, буквально кожей восприняв его слова, свежей кожей в тех местах, где остались следы плетки Хайдала. Она пятясь вышла из юрты.
Скоро Кадыр притащил огромный самовар из красной меди. Уроз выпил одну за другой несколько чашек горячего чая. И попросил поесть. И опять пил чай. И опять ел. И так весь день. Кадыр восхищался таким ненасытным аппетитом. Рис, лепешки, брынза – все съедал Уроз до последней крошки, все, что приносил ему мальчик. Впервые после своего падения он ощущал вкус, благость и пользу пищи.
Настал вечер. Вернулись стада. Мезрор сделал Урозу перевязку. На ляжке уже не было пятен, спала и вспухлость на колене. Жар тоже уже не беспокоил его.
Мужчины обменялись всего лишь несколькими словами. Им не о чем было говорить: все шло хорошо.
Всю следующую ночь и все утро Уроз спал, не просыпаясь. Когда же проснулся, воздух был уже теплым. Он узнал полуденную степную жару. И у него было отдохнувшее тело, свежий ум. Кадыр был снаружи… У колодца… или в загоне, а может, у очага на открытом воздухе, который служил кухней… Уроз отбросил одеяло, крепко протер просаленную повязку на ноге. Появилась острая боль, резкая, откровенная, здоровая и потому приятная. Уроз согнул колено. Сустав над культей слушался плохо. Он повторял движение до тех пор, пока колено не стало послушным и гибким. Тогда, упершись двумя ладонями в землю, он напряг мышцы рук, приподнял тело, а ноги вытянул вперед под прямым углом. Посмотрел на ампутированную голень, которая стала в два раза короче другой, и, сильным толчком торса перенеся тело вперед, ловко приземлился. Затем вновь поднялся и повторил. Так он проделал круг по всей юрте, набирая скорость. Движения становились более ловкими и точными. Им двигало ощущение независимости и силы, небывалое ощущение. Теперь он мог снова сам распоряжаться своим телом.
Послышалось монотонное пение Кадыра, остановившее упражнения Уроза. Он побоялся выглядеть смешным и вернулся к своему седлу. Там он уселся по-турецки, спрятав культю под здоровой ногой.
Восхищение, с которым Кадыр, войдя, уставился на него, доставило Урозу удовольствие.
– Клянусь, никому бы и в голову не пришло, что у тебя что-то с ногой, – воскликнул мальчишка. – Ты стал совсем другим человеком.
– Да услышит тебя Аллах! – поблагодарил его ласково Уроз.
Кадыр положил на жаровню принесенные шампуры с шашлыком и продолжил:
– Ты, наверное, очень рад. Так ты сможешь спокойно продолжать свой путь.
– Аллах…
Уроз не смог закончить фразу. В горле и во рту у него вдруг пересохло. Это было верно сказано. Он мог, он должен был продолжать путь по дружественной ему степи. Она так хорошо его встретила и так же проводит до конца, без помех, без препятствий, обеспечивая ему полную безопасность. Это будет делом нескольких часов. Он увидит там чопендозов. И Турсуна. Проделав огромный, идиотский крюк, он наконец вернется, благодаря помощи саиса, побежденный и искалеченный.
Уроз подумал о достижении, только что доставившем ему столько горделивой радости. Нечего сказать, великий подвиг, прекрасная победа: по-лягушачьи прошлепать по юрте, тайком, спрятавшись, затаившись. Уроз представил себе, как он будет культей подбадривать Джехола на глазах у Турсуна, и ему нестерпимо захотелось умереть.
И тут ему пришла в голову презренная мысль, подлая надежда, от которой ему никак не хотелось отделаться… Джехол… Ведь он ничего не знал о нем. А что, если он так и не набрал сил… или заболел… или повредил ноги…
Кадыр снял с жаровни шампуры, положил их перед носом Уроза. От них исходил сильный аппетитный запах жареного мяса и жира.
– Чуешь? – воскликнул Кадыр. – Чуешь?
– Я не хочу есть, – отказался Уроз.
– Наелся, значит, – сказал мальчуган. – А я – нет. Он быстро съел кусочки мяса, облизал пальцы, погладил живот.
– Теперь, когда ты наелся, – нетерпеливо попросил его Уроз, – приведи моего коня.
– Твоего коня… – сказал Кадыр. – Ну да, конечно. Ты хочешь осмотреть его перед дорогой.
– Ступай, – проворчал Уроз.
И с первого же взгляда понял, что надежда его была столь же тщетной, сколь и постыдной. Неужели он забыл, как мало отдыха нужно великому скакуну, участвующему в бузкаши, чтобы восстановить силы. Казалось, Джехол наполнил всю юрту своей мощью. Уроз провел рукой по животу, груди, ногам, ощупал бабки, мышцы, сухожилия, суставы. «Вот он действительно стал другим», – подумал Уроз.
– Пока никто из пастухов не успел его почистить, – сказал Кадыр. – И твой саис тоже. Он пасет стадо. Если ты хочешь, я бы мог… Для меня это честь… Такого прекрасного коня!
– Нет! – мотнул головой Уроз. – Нет.
Только этого не хватало для полного позора: начищенный, сверкающий, причесанный Джехол, а на нем грязный, в лохмотьях, с всклокоченной бородой всадник, да еще к тому же с ампутированной ногой.
– Нет, – рыкнул Уроз.
Подросток посмотрел на него с удивлением и огорчением. Отчего у него такой сердитый, грубый голос? Обдумать это он не успел. Уроз заставил Джехола склонить шею, ухватился за гриву, встал на здоровую ногу и, сделав стойку, оказался на спине лошади. Несмотря ни на что, несмотря на самого себя, он испытал мгновение счастья. Колени его держали коня крепко. Но Джехол почувствовал, что половины одной ноги не хватает. Он покосился на пустое место. Уроз спустился на землю, бросил поводья Кадыру и приказал:
– Привяжи его возле юрты и не входи, пока не вернется отец: мне надо подумать.
– До самого вечера? – наивно спросил Кадыр.
Ответа он не получил.
* * *
Стада были в загоне. Постепенно утихали блеяние и лай. Холодная, суровая степная ночь обволакивала Уроза. Блеснул свет фонаря. Кадыр нес его, подняв до уровня головы. Над ним появилось резко освещенное, похожее на маску лицо Мезрора: орлиный нос, белые усы, черные брови.
Уроз сидел по-турецки возле седла. На лице его уже не было следов желчности.
– Поздравляю тебя, гость мой, – сказал Мезрор. – Ты быстро выздоравливаешь. Разреши мне последний раз поухаживать за тобой. После этого тебе долго не потребуется помощь.
Уроз протянул культю. Мезрор перевязал ее чистой тканью, пропитанной новой мазью. Уроз поблагодарил старейшину пастухов в самых искренних выражениях.
– Кадыр принесет тебе еду и углей в жаровню для обогрева, – произнес Мезрор. – Надеюсь, тебя ожидает добрая ночь.
– Самая добрая, будь уверен, – отвечал Уроз.
После того, как подросток выполнил все, что было нужно, Уроз объявил ему:
– Больше ты мне не понадобишься. Только пришли сюда моего саиса.
– Он силен, добр и чистосердечен, – воскликнул Кадыр. – Всем он здесь понравился. Тебе повезло, что имеешь такого саиса.
– Воистину повезло, – подтвердил Уроз.
* * *
Фонарь светил вполсилы за седлом, на котором лежала голова Уроза. Все тело и нижняя часть лица его были накрыты одеялами. Под надвинутой на лоб чалмой Мокки мог видеть только глаза. В полутемной юрте они горели таким огнем, что казались главным источником света в юрте.
«Его добивает горячка», – подумал Мокки.
Ему пришлось низко наклониться, чтобы расслышать свистящий, прерывистый, шедший из-под одеяла голос хозяина.
– Не могу… больше ехать… Смерть… во мне… Турсуну… надо… сообщить… Возьми… Джехола… скачи…
– Как, ты хочешь… Ночью? – Бормотал саис.
– Прямо… сейчас, – шепотом сказал Уроз.
Он сделал рукой, которая, казалось, плохо ему повиновалась, жест, запрещающий Мокки говорить, и затухающим голосом закончил:
– Немедленно… Уже… возможно… поздно…
Его рука вернулась под одеяло, неловко порылась за пазухой, где что-то шуршало, шуршало, и наконец положила к ногам Мокки большую смятую бумажку.
– Это… на дорогу, – прошептал Уроз.
Рука его бессильно опустилась на землю. Мокки прикрыл ресницы, попытался поймать нужную мысль, выбрать единственную из тех, что роем проносились, кружились у него в голове. Все деньги были перед ним… Стоило лишь протянуть руку. Но в лагере еще не спали… Что, если умирающий найдет силы крикнуть… Задушить… Но вот-вот войдет мальчишка. Да и Мезрор, возможно… Поднимут тревогу… погоня… Нет… надо сперва посоветоваться с Зирех.
Мокки на ощупь подобрал бумажку и вышел из юрты. Уроз под одеялом разжал пальцы, сжимавшие ручку кинжала.
* * *
Луна показалась ненадолго и скоро сошла с небосклона. Им показалось, что земля похолодала. Джехол вздрогнул.
– Пора возвращаться, – тихо сказала Зирех на ухо Мокки.
– Давно пора, – согласился тот.
Возвращались они к стоянке пастухов молча.
Мокки проехал вдоль ограды загона, чтобы собаки узнали его. Так и случилось. Собаки отозвались ленивым лаем, раз, другой, и ночная тишина восстановилась. Мокки держался подальше от большой юрты. Излишняя предосторожность. На собственном опыте он знал, как крепко спят здоровые люди, работающие от зари до зари. А копыта Джехола были обвязаны тряпками. Но саису не хотелось оставлять на волю случая ничего, даже самые мельчайшие детали. Он должен был сделать все от него зависящее. Ему нужно было убить Уроза. Обязательно. И в этой настоятельной потребности главным мотивом была уже не жадность. В своем воображении, в своих мечтах Мокки уже столько раз убивал Уроза и столько раз пробовал безуспешно это сделать, что сейчас всем своим существом, всей кровью своей стремился к этому и не допускал даже мысли, что тот опять ускользнет, на этот раз – навсегда.
При свете звезд показалась юрта, где лежал Уроз. Зирех бесшумно, как ночная птица, спрыгнула на землю. Мокки снял сандалии и босиком оказался на земле. Стреножил коня. Прислушался. Все тихо. Ни звука… Ни движения… Во всей степи единственным огоньком была светлая щелочка под полами войлока, прикрывавшими вход в юрту… Свет у изголовья Уроза… Голые ступни Мокки не чувствовали холода. Длинными, бесшумными шагами подошел он к входу в юрту… слегка раздвинул полотнища. Его коснулась рука Зирех.
– Получше осмотримся, – прошептала она.
Все было в порядке. В жаровне горел огонь. По другую сторону седла слабо светил фонарь. Лежащее тело, накрытое с головой одеялом… Нестерпимая мысль пришла в голову Мокки. «А что, если уже…» Дольше размышлять он не мог. Одним прыжком бросился он на Уроза. Зирех – за ним.
Но вот ей, ей удалось лишь перешагнуть порог. Кто-то схватил и дернул ее за ноги. Она упала навзничь на спину. Стукнулась затылком о землю. Она крикнула:
– Саис, большой…
И умолкла, задыхаясь.
Мокки обернулся. И замер, ошеломленный. Под одеялом он обнаружил лишь чапан, а вместо головы – сапог. Тогда как Зирех лежала на полу, и человек в драной рубашке, стоя на колене, сжимал ей горло. Человек, похожий на Уроза, искалеченного, полуживого… Голосом Уроза он произнес:
– Шевельнешь пальцем – задушу твою суку.
– Не шевелюсь, не шевелюсь, – пробормотал Мокки.
В его глазах появился страх. Уроз обманул его, Уроз был силен, как никогда. И самое нежное, самое хрупкое в мире горло обхватили его пальцы, железные пальцы чопендоза.
– Приказывай, – прошептал Мокки.
– Первым делом, введи сюда коня и поставь рядом со мной, – распорядился Уроз. – И чтобы ты не приближался ко мне. Иначе…
Он еще крепче сжал пальцы. Лицо Зирех еще больше покраснело, стало синеть.
– Клянусь Пророком, я ничего, ничего, ничего не буду пытаться делать, – крикнул саис.
Уроз ослабил давление. Горло Зирех отозвалось хрипом. Мокки кинулся из юрты и вернулся с Джехолом.
– Приблизься на один шаг и протяни вперед руки, – приказал Уроз.
Он развязал веревку, служившую ему поясом, надавил на грудь Зирех коленом («колено сломанной ноги», – подумал с ужасом Мокки), связал протянутые руки саиса, а потом и щиколотки. Отвязал повод с Джехола, сделал из него петлю, набросил ее на шею Зирех, а конец накрутил на свою руку и сказал ей:
– Подымайся!
Она, пошатываясь, поднялась. А когда встала, голова у нее закружилась так, что она невольно прислонилась к коню.
– Поддержи ее, славный Джехол, – прошептал Мокки, – поддержи ее!
Уроз разогнул ноги, сел по-турецки, посмотрел на связанного саиса.
– Воистину, коня тебе было мало, – кивнул головой Уроз… А точнее – ей.
Он посмотрел на нее. Зирех едва пришла в себя, но взгляд ее был неистов. Она не спускала глаз с груди Уроза. Он машинально поднес руки к рубашке, сквозь дыры в ней коснулся прилипших к коже бумажек… Афгани…
Всеми фибрами души Уроз содрогнулся от небывалой ненависти. Она относилась одинаково и к этой женщине, и к деньгам. Эта женщина еще минуту назад видела в глаза свою смерть, и вот она уже вся во власти своей алчности. Эти деньги, способные внушить столь низкое безумство. Значит, надо было уничтожить и ее, и их. Уничтожить одно другим. Красная пелена застилала глаза Уроза. Он подумал, что это отблеск горящих углей. Его руки, упирающиеся в землю, словно пружины толкнули его к жаровне. Женщину с петлей на шее потянуло за ним. Он схватил пригоршню денег, сунул их в ладонь женщины и приказал:
– В огонь!
Дикая, немыслимая боль отразилась на лице женщины. Она медлила. Петля стала давить ее. Бумажки полетели в огонь. Еще одна пригоршня афгани. Еще одно движение веревки… Снова пламя в жаровне. Зирех хотелось закрыть глаза, не видеть этого. Но она не могла. Демон, вселившийся в нее, заставлял ее смотреть, как вспыхивают, скрючиваются, чернеют бумажки, это богатство, это сокровище.
Когда на его груди не осталось ни одной бумажки, Уроз надел свой чапан, развязал руки Мокки, чтобы он надел на Джехола сбрую. Затем подтянулся и сел в седло, поднял Зирех, посадил ее перед собой, наконец привязал за шею к седлу Мокки. Выехав из юрты, он громко крикнул, издал тот крик, который обычно издают, пуская лошадь в галоп, а подбежавшим Мезрору и его пастухам сказал:
– Этот мужчина и эта женщина вернулись из степи, чтобы меня убить. Не забудьте об этом в тот день, когда вам придется давать показания как свидетелям.
И растворился в ночной степи.
Часть пятая КРУГ СПРАВЕДЛИВОСТИ
I СУД УРОЗА
Все было как обычно. Молодое солнце взошло в сиянии нового дня. На холодную землю легли первые длинные тени. Великолепные кони Осман-бая стояли у глинобитных стенок. Слуги, отвечающие за подстилку и за кормушки, конюхи, чопендозы, все низко кланялись Турсуну.
Он пришел в загоны, повинуясь привычному укладу, такому же привычному, как восход солнца, как появление теней, такому же привычному и, как казалось, такому же вечному. Как обычно, тяжелые его шаги свидетельствовали о его могучей силе, но палка, орудие власти, служила ему теперь уже и для опоры. Прямая фигура в просторном чапане, облегающем мощный торс с могучими плечами и руками, высоко поднятая голова под тюрбаном с крупными, словно изваянными скульптором складками, широкое лицо, покрытое шрамами, следами былых ранений в славных боях, а на щеках, вокруг рта и лба – белесая колючая пена, подобная той, что бывает на одиноких скалах, обработанных ветром и временем.
И ничто в этом величественном облике не говорило о предпринятых усилиях, о страданиях, снова, в который уже раз испытанных Турсуном, чтобы поднять, одеть и причесать этого старика, прикованного со сведенными суставами к постели, и сделать из него то, чем он должен быть: Главного Конюшего, Главного по Скакунам.
Один загон… другой. Один конь… следующий. Все тот же осмотр: несуетливый, молчаливый. Тот же темп, та же строгость и справедливость во взгляде. Движения Турсуна повторялись как при ритуале. Такие же скупые, точные и уверенные жесты.
Впрочем, один жест выбивался из строгой закономерности. Время от времени то левая рука, то правая прикасалась к поясу в том месте, где должна была находиться рукоятка плетки. Рука подымалась и тут же опускалась. «Как трудно, однако, отвыкать от инструмента, представлявшего собой лучшее украшение твоей жизни», – думал Турсун. Но тут же вспоминал о молодом жеребце, замученном им, и соглашался, что плетка должна навсегда исчезнуть с его пояса.
Турсун осмотрел последний загон, последнего коня. Тут Таганбай, старейший из чопендозов, отвел его в сторону и сообщил:
– Я получил из Кабула послание от нашего хозяина, Осман-бая, добрейшего из всех в подлунном мире.
– Воистину, такой он и есть, – подтвердил Турсун.
– По твоему рангу, письмо это должно было бы быть адресовано тебе, – продолжал Таганбай. – Но Осман-бей настолько тебя уважает, настолько считает другом, что хочет показать, что ничего от тебя не требует, никаких приказов не отдает и полагает, что если тебе захочется отказать, то для тебя удобнее будет сказать об этом мне, а не ему.
– Воистину, – согласился Турсун.
И он еще сильнее оперся о свою палку. Таганбай откашлялся, чтобы прочистить голос, и продолжал:
– В Кабуле заканчивается праздник в честь победителя большого бузкаши. Скоро Салех будет здесь, вместе с хозяином. В честь его должен состояться банкет.
Таганбай еще раз откашлялся. Он ждал, что Турсун задаст вопрос. Но тот молчал. Таганбай заговорил быстрее.
– Хозяин не знает, как ты отнесешься к предложению разделить почетное место с Салехом, несмотря… несмотря на твое несчастье.
– Ничто не должно и не может помешать мне, – произнес Турсун, – воздать должное чопендозу из моей конюшни, раз он выиграл первый Королевский бузкаши и везет в нашу провинцию вымпел победителя.
– К тому же выиграл на твоей лошади, – добавил Таганбай.
– Это верно, – согласился Турсун.
Ему стало еще тяжелее. Он забыл. Ведь это именно на Джехоле Уроз потерпел самое сильное свое поражение. Это Джехол принес Салеху победу… Что же тут удивительного? Когда Турсун дарил Урозу великолепного скакуна, стариковская зависть наложила дурную печать на круп Джехола.
Один загон… другой… Турсун пересекал их в обратном направлении… Солнце поднялось, тени укоротились… Каким образом дурной глаз столкнул Уроза с седла?
Он был жив, Турсун был уверен в этом. Иначе Мокки приехал бы сообщить о смерти. Да, саис поехал с хозяином… Туда, откуда восходит солнце?
Или где оно садится? В Индию? В Иран? Какая разница! И в той, и в другой стране Уроз был чужаком. Ни там, ни там не было свидетелей его падения. Не было Салеха-победителя… «Правильно сделал, он правильно сделал», – подумал Турсун с беспощадным отчаянием.
Он вернулся в первый загон. Справа – дверь, ведущая в конюшни. Слева дверь наружу. Перед ней Турсун увидел Рахима, своего слугу, как бы загораживающего выход.
– Ты здесь? Без моего приказа? – спросил Турсун.
Рахим не отвел глаз. На его худом личике, дрожащем от страха, еще видны были шрамы, оставшиеся от той первой несправедливости Турсуна. И Турсун подумал: «Будь при мне плетка, я бы тебе добавил еще других». И поднял палку.
– Бей, хозяин… Бей… Но сначала дай сказать… – закричал Рахим.
Он не опустил голову. Во взгляде его, помутневшем от страха, читалась такая недетская решимость пойти на любые жертвы, чтобы исполнить свой главный долг, что Турсун резко опустил палку.
– Слушай, – взмолился бача. – Надо…
Однако усилие, потраченное на то, чтобы отвести удар в сторону, истощило терпение Турсуна. Он схватил слугу за шиворот, отшвырнул как щенка и открыл дверь.
Снаружи тенистая дорога, ведущая к жилому поселку, была перегорожена необычной толпой. Казалось, все работники большого, богатого имения – садовники, подметальщики, землепашцы, каменщики, плотники, повара и поварята, подавальщики, слуги прачечной, – стояли молча, столпившись полукругом, обращенным в сторону Турсуна. А посередине, на некотором расстоянии от них, подобный какой-то нелепой, отвратительной статуе, возвышался всадник на лошади.
От чалмы и до копыт коня он был, казалось вылеплен из какого-то не имеющего названия вещества, похожего одновременно и на грязь, и на тину, и на кухонные отбросы, и на скользкий клей. Волосы человека и шерсть лошади нельзя было назвать волосами, бородой, гривой и хвостом, это была сплошная липкая пена, покрывающая то, что служило им одеждой и кожей.
Единственные чувства, которые испытал Турсун при виде этого всадника, были гнев и отвращение. И вызвано оно не грязью, покрывшей человека и животное. Лучше, чем кто-либо другой Турсун знал, каким изнуренным и запачканным может быть путник после трудной дороги, опасных испытаний, стремительных бросков и жалких ночлежек. Но он знал также, что всадник, достойный этого названия, не доспит, каким бы кратким ни был отдых, но почистит коня. И уж во всяком случае, даже самый ленивый, самый недостойный человек постарается наверстать упущенное, когда он наконец доберется до какого-нибудь приличного места.
Какое презрение к людским законам, какая испорченность толкнула этого приезжего явиться в богатое и гостеприимное имение, пренебречь правилами, чтобы выставить здесь наконец свое бесчестие? Да еще так горделиво держаться, будто победитель, на лошади, которая по его вине выглядит столь недостойно?
Дверь за Турсуном открылась, и вышли, один за другим, конюхи, саисы, чопендозы, и встали в ряд вдоль стенок загонов. Не слышно было ни звука, ни шепота. Как и другие слуги, они, казалось, затаили дыхание. «Почему все эти люди, обычно так бурно выражающие удивление, такие говорливые спорщики, на этот раз молчат? – подумал Турсун. – Быть может, они знают об этом незнакомце нечто, внушающее столь странное молчание?» Ни один мускул не шевельнулся на лице Турсуна. И, несмотря на это, сквозь шрамы и следы прошлых битв проглянуло такое выражение, которое обычно пугало даже самых смелых. Он сделал шаг в сторону этого наглого и недостойного всадника. И вдруг остановился. Странное тоскливое чувство возникло у него. Палка, на которую он опирался, задрожала. Под отвратительным панцирем из грязи, налипшей на коне, он узнал могучую грудь и гордый изгиб шеи. И вот уже, хотя всадник до крови натянул поводья, чтобы удержать его, конь этот с тихим ржанием двинулся к Турсуну.
Джехол.
Значит… значит… Этот всадник… всадник…
Тяжелые губы Турсуна с трудом раскрылись над его желтыми зубами.
– Уроз… сын мой…
И все, услышавшие в тишине этот голос, не сразу поверили, что это говорил великий Турсун, – так нежно и жалобно прозвучали его слова.
Всадник отпустил поводья, позволив коню положить морду на плечо старого чопендоза, и все услышали голос всадника:
– Мир тебе, уважаемый отец мой! Ты не сразу меня узнал. И я ожидал этого, видит Пророк!
И все, кто в напряженной тишине услышали Уроза, рассказывали потом, что, несмотря на то отвратительное состояние, в котором он пребывал, никогда в его голосе не звучало столько радости и гордости.
Но какое значение имели для Турсуна тон его слов и их смысл? Уроз был здесь. Причем, какой Уроз! Теперь, когда он был рядом, и можно было дотронуться до его седла, Турсун узнавал под слоем отвратительной грязи и неухоженной бородой исхудалое лицо и истощенное тело. И сердце Турсуна наполнилось горячим чувством участия и нежности. А могучие руки его сами тянулись снять с седла и унести это легкое и хрупкое тело, как они делали, когда тот был ребенком и умел уже держаться в седле, но еще не умел слезать с коня. Но вокруг стояла, по крайней мере, сотня людей, следивших за каждым жестом Турсуна. Он не шелохнулся, храня свое достоинство и достоинство Уроза, и только палка его глубже ушла в землю под тяжестью его могучего тела. Он просто спросил обычным голосом.
– Сын мой, что же случилось?
Уроз заставил Джехола податься назад. И тут Турсун увидел Мокки, а за ним молодую женщину. У обоих руки были стянуты веревками, прикрепленными к седлу.
Уроз воскликнул:
– Уважаемый отец, я привез тебе предателя-саиса, хотевшего убить меня. Ему помогала эта женщина из племени кочевников. Как и полагается, я отдаю их на твой суд, на решение главы нашего рода.
Поднявшийся шум оглушил Турсуна. Кричали все: и земледельцы, и ремесленники, и слуги, и те, кто ухаживал за лошадьми. Теперь, когда причина драмы стала известна, они могли, наконец, дать волю своим эмоциям.
Молчание Мокки и незнакомки выдавало их тяжкую вину. А законом для всех был древний неумолимый обычай. Денежный штраф, тюрьма или смерть, решать и проследить за исполнением надлежало Турсуну, старейшему в своем клане.
Постепенно шум смолк. Слово взял тот, в чьих руках были эти две жизни.
Палка Турсуна в его руках больше не дрожала. В нем не осталось и следа от огромной радости, от сочувствия и нежности. Он был спокоен, беспредельно спокоен, безнадежно спокоен. Теперь и он тоже уловил в речах Уроза знакомую ему нотку спеси и вызывающей гордыни. И ничего больше. Ничего, что бы шло из глубины души, от сына к отцу. И Турсун сказал:
– Никто не должен представать перед судьей в таком виде, в каком ты сейчас находишься, о Уроз. Искупайся, вызови брадобрея и переоденься. После этого я выслушаю тебя в моем доме.
Потом он подозвал Таганбая и приказал:
– А этих двоих надо запереть и поставить надежную охрану.
Тут Турсун непроизвольно взглянул на Уроза. И только тогда увидел ампутированную ногу. Хотел крикнуть, подозвать, спросить, но было уже поздно. Освободившись от своих пленников, Уроз направлялся к паровой бане.
* * *
Старший саис и один из его подчиненных, из самых сильных, втолкнули Мокки и Зирех в подвал, где хранилась всякая запасная конская амуниция. Низкая, тяжелая дверь с шумом захлопнулась за ними. Проскрежетал ключ в огромном ржавом замке. Подвал с уздечками, седлами и вожжами освещался только слабым светом из подвального окна. Сильно пахло кожей.
Зирех схватила Мокки за плечи и воскликнула:
– Это в такой яме, в такой дыре они собираются нас держать?
– Недолго, – ответил Мокки вполголоса. – У Турсуна суд короткий.
По всему телу Зирех пробежала дрожь, зубы ее отбивали дробь. Она простонала:
– Он убьет нас, этот ужасный старик.
– Он справедлив, – заметил Мокки.
– Сюда идут, кто-то идет сюда, – прошептала Зирех. – Уже!
Вошел старший саис, поставил на землю кувшин с водой, положил несколько холодных лепешек. Прислонившись к двери, он сказал Мокки:
– Никто не велел мне этого делать. Я принес это в память о Байте, твоем отце. Мы с ним дружили в молодости.
– О, добрый Аккуль, да воздаст тебе Аллах! – поблагодарил Мокки.
И интонация этих слов, и опущенные плечи выражали несчастье и унижение.
Старший саис после паузы спросил:
– То, в чем Уроз… тебя обвиняет… это правда? Возможно ли такое?
Подбородок Мокки опустился на грудь. Он прошептал:
– Демон, наверное, вселился в меня…
Аккуль вздохнул и хотел выйти. Зирех удержала его. Она кинулась к его ногам, стала хватать его за руки, целовать их, забилась с криком в истерике:
– Умоляю, скажи нашему благородному судье, что виноват во всем Мокки. Я всего лишь бедная и слабая служанка. И скажи еще…
Аккуль оттолкнул Зирех. Дверь снова захлопнулась. Ключ снова проскрипел в замке.
– Не бойся, я возьму всю вину на себя, – пообещал ей Мокки.
– И правильно сделаешь, – крикнула она. – В чем меня могут обвинить? Яд? Его давно выпила земля. Собаки? Они сами напали из-за запаха крови и гноя.
Мокки тяжело опустился на землю, сел по-турецки. Подбородок опять уперся ему в грудь. А Зирех над ним все продолжала говорить, злобно, по-змеиному свистящим голосом:
– Во всем ты виноват. Ты все колебался… выжидал… постоянно. Мне все время приходилось подталкивать тебя. Если бы я была такой сильной, как ты, я была бы далеко отсюда, была бы свободная, богатая, красивая… А вместо этого…
Зирех резко провела рукой по липкому от грязи лицу, по грязным лохмотьям и изо всех сил плюнула под ноги Мокки. Тот словно и не заметил. Зирех схватила кувшин и лепешки, уселась как можно дальше от саиса и стала жадно пить и есть.
* * *
Перед домом Турсуна протекал один из бесчисленных арыков, которые орошают, делают плодородной землю в полях. Веселый ручей, берущий исток в усадьбе, пел свою обычную утреннюю песенку. Осенние цветы легко пританцовывали на ветру.
Сидя, согнувшись, на своем чарпае, который он придвинул как можно ближе к открытому окну, Турсун ощущал неясную признательность и за эту песенку, и за этот танец. Они помогали ему сохранять терпение. Когда он чересчур торопливо, и принимая случившееся слишком близко к сердцу, мысленно спрашивал себя: «Зачем он предпринял это путешествие, так его измучившее и доведшее до такого состояния? Как случилось, что добрый и преданный Мокки превратился в убийцу?» И в поисках ответа готов был вскочить с топчана и ходить взад-вперед по комнате, как загнанный зверь, то заставлял себя лишь внимательнее вглядываться в движения цветов и лучше вслушиваться в журчание воды в арыке. Время текло, как ручей, и колыхалось, как лепестки цветов.
В аллее послышался топот копыт. Турсун встал у стены так, чтобы можно было видеть, оставаясь незамеченным.
Уроз верхом на Джехоле, в сопровождении двух юных чопендозов, тоже на конях, остановился перед домом. Борода его была коротко с заострением подстрижена, щеки тщательно вымыты, и на нем были новые чапан и тюрбан. Кожа жеребца, тщательно вычищенная скребницей и протертая жгутом соломы, сверкала на солнце. Хвост и грива, вымытые, расчесанные и заплетенные в косички, радостно трепетали на ветру.
«На конюшне поработали славно», – машинально подумал Турсун. Голова его слегка выглянула из окна. Именно сейчас важно было не потерять сына. Уроз соскочил с седла, как сделал бы всякий здоровый человек, легко приземлившись на правую ногу. Два молодых человека соскочили с коней и с двух сторон взяли Уроза под мышки. Они служили ему костылями, и с их помощью он в несколько шагов достиг входа в дом.
Турсун подумал о тех неловких, некрасивых движениях, какие понадобились Урозу, чтобы пройти на галерею для почетных гостей, о тех движениях, которые ему приходилось делать, чтобы сесть, и грустно покачал головой. Слава Пророку, он правильно сделал, предоставив Урозу возможность осваивать не у него на глазах первые, неловкие движения инвалида.
Небольшая галерея для гостей выходила во внутренний дворик. Там был фонтан и росло несколько небольших деревьев. Вдоль трех стен были уложены матрасы, покрытые коврами, с множеством подушек.
Когда Турсун появился в галерее, Уроз сидел там один, в углу, прислонившись к стене, сидел, скрестив ноги так, что отсутствия конечности, не зная, можно было не заметить. Турсун тяжело уселся напротив него, опершись о другую стену. Едва окончил он этот маневр, как Рахим принес и поставил между ними большой поднос, на котором, кроме чайного сервиза, стояли еще тарелки с творогом, сладостями, ореховой нугой и вареньем на бараньем жире. Он налил чай в чашки и удалился. Отец и сын пили и ели, не поднимая головы. Временами Турсун бросал сквозь свои густые брови взгляд на сына и тут же его отводил в сторону. Теперь, когда лицо Уроза было чисто, своим цветом, утонченностью, заостренностью костей оно ему напоминало уменьшенную восковую маску того лица, к которому он привык. Эти новые черты вызывали у него тем более мучительное чувство, что он не мог подобрать ему название. Сопереживание? Жалость? Нежность? Как ему было знать? За всю его длинную жизнь ему не доводилось испытывать эти чувства. Он знал только одно, но знал с пронзительной силой: Уроз – его сын… Его сын, воистину его сын.
О, как ему хотелось встать, подойти и положить свои могучие руки на плечи, на похудевшую шею, с ее острым, приходящем в движение при каждом глотке кадыком!
Солнце стояло высоко, освещая и согревая дворик. Над землей пронеслась тень хищной степной птицы, ястреба, орла или коршуна. Внезапно Уроз произнес:
– Они летают совсем близко… там… на плоскогорье… где могилы кочевников.
Мороз пробежал по спине Турсуна. Этот голос не был голосом человека с нормальным рассудком. За то время, которое они были вместе без посторонних, Турсун впервые прямо посмотрел в глаза Урозу. Глубоко посаженные в орбитах, они казались выцветшими, словно увидели то, что находится за гранью жизни, и ослепли от безмерного горя.
– Там меня поджидал Пращур, со своими богами, – продолжал Уроз. Он говорил очень тихо, и Турсуну, чтобы услышать, приходилось наклоняться к нему. – Он видел, как я убил двух демонов с обрезанными ушами… хотя мне пришлось для этого тащить за собой сломанную ногу…
В потухших глазах зажегся огонь, словно черные угли сверкнули внутри глубоких орбит, уставившись на Турсуна так, как будто до этого они его не видели.
– Я убежал из больницы, – воскликнул Уроз, – потому что там меня поручили заботам женщины-иностранки, неверной, с раскрытым лицом, которой дозволялось разглядывать мою наготу и дотрагиваться до меня.
– Ты можешь поклясться именем Пророка? – спросил Турсун. Густые брови его вскинулись вверх.
– Клянусь Пророком, – исполнил пожелание отца Уроз.
Лицо Турсуна вновь приняло обычное выражение безразличия. Он сказал:
– Хорошо, сын мой… Продолжай…
Но Уроз молчал. Турсуну показалось, что щеки его еще больше ввалились, стали еще бледнее.
– Ты не слышал меня? – спросил он.
Уроз утвердительно кивнул головой. О, да, он слышал Турсуна. Он услышал голос отца, чтобы никогда, никогда не забыть интонацию удовлетворения и гордости, с какой были произнесены эти простые слова. Вот так же говорил и Мезрор, когда Кадыр, младший из его сыновей, делал честь ему своими поступками. И эта интонация, – точно такая же, точно такая! – принесла Урозу такое умиротворение, до краев наполнила его душу таким блаженством, что ему уже даже не захотелось продолжать свой рассказ. Зачем? Он достиг цели своего путешествия. Путешествия, которое вовсе не сводилось к переходу в муках через гигантские горы, которое длилось, которое заняло все пространство и все время его жизненного пути.
«Турсун со мной… Он гордится мной, он – мой друг… Мне больше нечего сказать», – думал Уроз, обретший покой и ощущение небывалого счастья. Потом он испугался тишины. Он просто не мог допустить, чтобы одобрение его поведения отцом и столь долгожданное восхищение им ослабли, покинули сознание Турсуна. Он хотел их усилить, обогатить, наполнить живой материей, навсегда вселить их в грудь этого великолепного старика.
«Больница, это пустяк… вот когда он узнает все остальное… тогда… вот тогда… воистину…» – думал Уроз.
На щеках его заиграл румянец. Он воскликнул:
– Слушай, о великий Турсун, слушай, что пережил, что преодолел твой сын.
Голос Уроза был хриплым и прерывистым, силой и яростью своей похожим на поток, несущийся в глубине каменных ущелий. И так же как поток, голос его то затихал, превращался в сиплый шепот, то усиливался, громыхал, пока он пересказывал все, что пришлось ему преодолеть одному, покалеченному, не раз оказывавшемуся на грани жизни и смерти.
Урозу хотелось, дабы обнажился их истинный смысл, собрать все испытания, через которые он прошел, в один образ, хотелось, чтобы Турсун понял, что такое враждебная обстановка, суровый климат, мучительная боль, постоянная борьба со сном, прямые нападения и коварные подвохи. И вот, чтобы удовлетворить эту потребность в себе, он стал рассказывать не по порядку, не осмысливая сказанное, а просто как подсказывала память. В своем рассказе он не принимал во внимание ни расстояние, ни время. Он пропускал события, возвращался назад, опять кидался вперед, повторял уже рассказанное. Ни слова, чтобы объяснить или как-то связать между собой события. Гной в крови, яд в ведре, глухие расщелины, пепельное плоскогорье, тиски скал, караван пуштунов, исцеляющее прокаженных озеро, безухие псы, хитрости убийц и их нападения, льющееся на обрубленную ногу кипящее сало, – никакой связи между ужасными эпизодами, кроме перемежающихся, бурных и почти невероятных перемещений из пропастей к вершинам, от прострации к бурной активности, через ловушки и засады, из которых неизменно выходило победителем это вот тело, столько раз бывшее почти трупом.
Уроз рассказывал, не делая никаких жестов, и закрыв глаза. И открывал их с большими интервалами, только для того, чтобы взглянуть на Турсуна. И в эти секунды испытывал святое волнение.
Ибо ему было дано увидеть то, что никто до этого, в том числе и он сам, не мог видеть: лицо отца без выражения неподвижного величия, которое никогда не могли нарушить ни боль, ни гнев, как бы они ни были сильны. А вот теперь у него было такое ощущение, что под воздействием каких-то неодолимых внутренних сил, твердое дерево, из которого была сделана маска Турсуна, как бы давала трещины и отваливалась от его лица. И тяжелые веки его начали моргать. Раскрывались массивные губы. Шевелились морщины на щеках. Вздрагивала кожа на скулах. Дрожали кустистые брови. А на виске, рядом со шрамом, вздулась и билась, билась фиолетовая жилка.
Никто на свете не мог, как Уроз, оценить все эти отклонения от нормы. Его испытания, муки, унижения, ужасы, само падение и поражение на скачках – все это было оплачено сверх всяких ожиданий.
«Даже если бы я привез из Кабула королевский вымпел, так бы мне это лицо не раскрылось», – думал Уроз. И он с удовольствием согласился бы на еще большие муки, чтобы не дать вернуться чертам Турсуна в их привычное состояние величия и непреклонного достоинства, которое только и видели окружающие, в том числе и он.
Но настал момент, когда все было сказано. Уроз почувствовал усталость, изнеможение, опустошенность, известные ему после тяжелых скачек. Тело его откинулось на подушки. Голова кружилась. В ушах возник какой-то ритмичный стук. Что это было: начался жар? Или это звенели барабаны победы? Он не знал. Сквозь этот неясный шум до него донесся голос Турсуна:
– Пей, – приказывал он. – Пей же…
Уроз оторвался от подушек, посмотрел на отца и не поверил своим глазам. Турсун, великий Турсун, старейшина рода, протягивал налитую им чашку сладкого чая, протягивал ему, Урозу, сыну, слуге… Уроз едва не вырвал чашку у Турсуна и, не смея, взглянуть на него, стал пить…
Турсун медленно расправил плечи, выпрямился. Уроз показывал ему, насколько он нарушил обычай. И это нарушение обычая в свою очередь позволило ему самому понять, как велико было у него желание, когда он слушал рассказ сына о его страданиях, помочь ему хотя бы вот таким, идущим вразрез с традициями жестом. Он посмотрел на смиренно склоненный перед ним тюрбан и твердым голосом сказал неожиданно:
– Никакая победа ни в каком бузкаши не может сравниться с твоим возвращением.
Эта похвала была, слово в слово, тем, чего фанатически добивался, что больше всего хотел услышать Уроз на протяжении всего пути к дому. Он мечтал об этом, говорил об этом в бреду. Ради этих слов терпел он мучения и бросался в бой. И вот они прозвучали и смыли его поражение. Больше того: такая похвала означала победу над чемпионом королевских скачек. Но услышав ее, он не испытал никаких чувств.
Ни радости, ни гордости, ни даже успокоения, – ничего. Как будто тело его стало совсем пустым, а мысль умерла. Хотя это состояние длилось всего одно мгновение, Урозу оно показалось вечностью. Его вернул к жизни гнев. Гнев на самого себя и только на себя. Что же такое сидело в нем, в его спинном мозгу, что лишило его вознаграждения, похитило у него самое ценное и самое необходимое? Похитило подарок, преподнесенный отцом, великим Турсуном. Отцом, который его понимал и одобрял, воздавал ему почести и страдал за него. Отцом, его единственным другом.
Инстинктивное движение – какая-то тоска, какой-то зов – толкнуло торс Уроза вперед, приблизило его к Турсуну настолько, что между их головами расстояние стало не больше ширины ладони. Все поле зрения Уроза заняло лицо Турсуна и заслонило собой весь мир. И тут он понял, что не было ничего удивительного в его пагубном безразличии. На лице Турсуна опять застыла маска, сделавшая снова его недоступным. А где же был тот человек, который только что следил за его рассказом с таким страстным состраданием? Кто протянул ему чашку чая, как простой бача?
«Вот когда все порвалось, – подумал Уроз, уверенный, что интуиция его не подводит. – Он почувствовал, что я застеснялся, что мне стало стыдно и за него, и за себя. Он никогда не простит этого ни себе, ни мне».
Не спуская с него взгляда, Турсун сказал:
– Теперь я знаю о твоем подвиге, о Уроз, и воздал тебе честь. Теперь пришло время узнать мне так же подробно о Мокки. Он ждет моего решения.
– Тебе о нем известно все, – ответил Уроз.
– Мне известно, что он пытался убить тебя, – посмотрел на него Турсун. – Но по какой причине?
Тут Уроз вспомнил, что он действительно не назвал причину, объясняющую поведение саиса. По небрежности? Или умышленно? И сказал:
– Мокки хотел забрать коня, вот и все.
Поглаживая складки тюрбана, Турсун подумал:
«Совсем бедный саис… Такой случай… Да… Но все-таки Мокки… Самый добродушный, самый покорный и самый преданный, с раннего детства!»
Турсун спросил Уроза:
– Зачем ему было тебя убивать? Ему же ничего не стоило ускакать на Джехоле.
– Боялся, что придется жить как вору, – ответил Уроз. – А если бы я умер, конь перешел бы ему по закону. Я продиктовал одному писарю завещание.
– Вот как? – удивился Турсун. – И Мокки знал об этом?
– Да, – признал Уроз.
– И он попытался тебя убить и забрать бумагу сразу после этого?
– Нет, – ответил Уроз.
Он решил, что больше не скажет ничего. Однако тут же добавил:
– Его подтолкнула на это кочевница.
– Кочевница? – продолжал расспрашивать Турсун. – Ты ее подобрал по дороге, так ведь? Чтобы она тебя обслуживала?
– Нет, – пояснил Уроз. – Она понравилась саису, он ее хотел…
– Довольно, – остановил его Турсун. – Теперь я знаю все, что мне надо знать.
Он уперся локтями в скрещенные колени и положил подбородок между огромными мозолистыми ладонями. Не позу для мирного раздумья искал он таким образом. Он просто хотел скрыть жесткое подергивание мускулов и шрамов у себя на лице и на шее. Размышлять, взвешивать, прикидывать и судить он сейчас не мог. Все, что он хотел, все, что он сейчас требовал от своего рассудка, так это чтобы он помог ему совладать с диким, животным гневом, обжигающим ему кровь, кожу, внутренности. А вместо этого мысли лишь питали и раздували этот огонь.
«В больнице… да… там приличия и честь были на его стороне, – размышлял Турсун. – Но после этого он только играл со своей жизнью, со своей душой, с судьбой, причем играл нечестно. Выбрал безумный маршрут… провоцировал и извращал самое наивное сердце… а в качестве соучастницы… взял шлюху… он просто отказался от своей ноги…»
Ладони Турсуна еще как-то могли скрывать подергивание его челюсти, но вот дыханием он уже не владел, и оно стало коротким и прерывистым, от чего чапан у него на груди поднимался и опускался все чаще и чаще.
«А я, – подумал он, – я… в это время… оплакивал его и мучился угрызениями совести… и сердце мое изнывало по сыну, погибшему из-за меня… А он, тщеславный, глупый и коварный, всего лишь старался поскорее забыть о своем поражении».
Ладони Турсуна сжались в кулаки, давившие снизу ему на лицо. Он уже не размышлял. Он просто кричал внутренним криком: «Как ребенок, как дурной мальчишка, напичканный мелким тщеславием… Которого надо наказать, выпороть». Турсун сжал свой пояс, пальцем показал на плетку Уроза и приказал, почти не разжимая губ:
– Дай!
Уроз передал ему плеть. Он знал, что не мог не подчиниться. И знал также, что отец будет бить нещадно.
С жадностью схватил Турсун рукоятку плети. С радостью. Наконец-то!
Какую уверенность, какую власть он сразу ощутил, благодаря этой деревянной ручке, зажатой в кулаке, и этой плетеной коже, колыхающейся на конце!
Он подождал, когда плетка кончит качаться. Злость и тоска улетучились. Хлестать по лицу сына должен был не человек, находящийся во власти гнева, а сильный, мудрый, справедливый мужчина…
Неожиданно, вместо того, чтобы отвернуться, наклониться, увильнуть от ударов, лицо это вытянулось вперед, навстречу ударам плети. Турсун увидел на нем страстное, беспощадное нетерпение. «Бей, – говорили глубоко посаженные в орбиты глаза на изможденной, похожей на череп, маске, – бей скорее! Чтобы я знал после этого, что я сделаю сам!»
Плетка висела в руке у Турсуна, слегка покачиваясь. Он подумал: «Он или попытается убить меня, или сделает усилие и стерпит… В любом случае, если я ударю, между ним и мной все будет кончено. Я полагал, что он погиб, а он вернулся… Но вот если ударю, возврата не будет».
Турсун взял плеть обеими руками и внимательно осмотрел, что было у нее на конце.
– На ремне навсегда сохранится след от камня, убившего безухого пса, – объяснил Уроз.
Он закрыл лицо руками. Чтобы укрыться? Чтобы спрятать следы страха? Он и сам не знал.
Воцарилось молчание, долгое молчание. Турсун медленно встал, приблизился к Урозу, положил ему на плечо свою тяжелую руку и, бросив плеть сыну на колени, произнес:
– Свою я больше не ношу, ты заметил?
– Не мне спрашивать у тебя причину, – ответил Уроз.
– Ты прав, – согласился Турсун. – Но пришло время сказать тебе об этом.
Его могучая рука еще сильнее оперлась на исхудалые, острые кости сыновнего плеча, и шумное дыхание коснулось лба Уроза:
– Я больше не имею права носить плетку, – признался Турсун, – потому что, будучи Главным Конюшим, отвечающим за всех лошадей, я загнал безупречного молодого скакуна, лучшего из всех принадлежащих Осман-баю, которому я служу.
Турсун почувствовал, как вздрогнул Уроз, и услышал его шепот: —Ты?
– Я, – ответил Турсун. – На нем я выместил злобу на себя, злобу за мою огромную вину.
Тут Турсун так надавил ладонями на плечи Уроза, что, несмотря на попытку того упираться, его спина прогнулась. Взвешивая каждое слово, он продолжал:
– Слушай, Уроз, слушай меня внимательно. Человек, достойный этого имени, но совершивший самую ужасную несправедливость в момент ослепления от ярости может вспоминать об этом с высоко поднятой головой, если он признался в своей вине перед Всемилостивейшим Аллахом, а главное – перед самим собой. Но никогда не посмеет заглянуть в свое сердце, в свою душу тот, кто доводит до конца заранее задуманную и рассчитанную, а потом хладнокровно исполненную несправедливость.
Турсун с трудом выпрямился. Старые кости его хрустели в суставах. «Словно с чарпая утром встаю», – подумал он и произнес:
– А теперь, Уроз, напряги весь свой рассудок. Тебе самому придется вершить правосудие.
– Мне? – воскликнул Уроз.
– Да, – ответил Турсун. – Я передаю эту обязанность тебе.
– Но зачем же нарушать обычай? – спросил Уроз.
– Даже если бы я целый день слушал твой рассказ, а потом еще один день рассказ Мокки, хозяином истины все равно остался бы ты.
– Истина, – протянул вполголоса Уроз.
– Когда ты услышишь ее, предупреди меня, – сказал Турсун.
Тяжелые, морщинистые веки упрятали его взгляд. Дыхание его стало неслышным.
Уроз налил чашку, но отпил только глоток. Холодный чай… безвкусный… поднос липкий от остатков еды… «Я получил то, что хотел, – подумал Уроз. – И даже больше. Что может сделать со мной правосудие? Во-первых, какое правосудие?» Он прислушался к ровному журчанию ручья. Слушал его долго. Не совсем зажившая культя причиняла ему боль. Он выпрямил эту ногу, подождал, когда боль утихнет, снова согнул. И посмотрел на Турсуна:
– Прикажи привести его.
Но еще никакого решения не принял.
* * *
Заскрипел замок на двери. Порция свежего воздуха ворвалась в подвал с застоявшимся тяжелым запахом кожи. Старшина саисов, Аккуль, появился в двери и крикнул:
– Настало время суда!
Чтобы подняться, Мокки пришлось опереться руками о землю, – до того он ослаб. Голова у него кружилась, словно он вдруг оказался на краю пропасти. Головокружение прошло, когда он встретил взгляд Зирех. Та вся съежилась от страха. Мокки почувствовал прилив силы, необходимой, чтобы спасти ее.
– Тебе бояться нечего… – заметил он. – Зовут меня одного.
– Не приближайся ко мне, не приближайся, – крикнула Зирех. – Пусть твое невезение остается при тебе. Ты и так много зла мне причинил. О почему, ну почему нельзя вырвать из времени тот день, когда я тебя повстречала!
– Мне казалось, – сказал Мокки тихим, спокойным голосом, – что я тебе нравился и что ты была мне другом.
– Я тебя считала другим человеком, – возразила она.
Во дворе светило теплое солнце. На деревьях дозревали плоды. В арыках пела вода. Для Мокки же все имело запах смерти. Но не той, которой он ждал от приговора Турсуна. А той, что поселилась в его груди.
* * *
Турсун и Уроз сидели все там же. Между ними стоял поднос, принесенный Рахимом, со свежим чаем, чистыми чашками и новыми лакомствами.
Аккуль и три саиса провели Мокки через внутренний двор к краю галереи и поставили его перед Турсуном.
– За нами шли люди, о Турсун, – сказал Аккуль. – Можно я их впущу?
– Нет, – отвечал Турсун. – Это дело семейное. А вот вы оставайтесь. Будете свидетелями.
Турсун наполнил рот чаем и шумно выплюнул его. Ему просто хотелось прополоскать горло. Затем он торжественно произнес:
– Будете свидетелями: я передаю Урозу, единственному сыну моему, право судить дела нашего рода. Его закон будет моим законом.
Сказав это, Турсун спустил взгляд на ковер у своих ног и застыл неподвижно. Саисы повернулись к Урозу.
А тот разглядывал Мокки и удивлялся, что он такой грязный, весь в лохмотьях. Он уже забыл, что всего несколько часов назад был так же грязен, и что на нем были такие же лохмотья. Он потрогал пальцем свою гладкую щеку, ткань своего нового чапана. Он всегда очень следил за собой и за своей одеждой. К Мокки он не испытывал никакой жалости… Голова понурая, опущенная… руки свисают как плети… «Пугало… или висельник», – подумал Уроз с отвращением.
Тишина, – с журчанием воды в качестве одного из ее элементов – казалось, установилась навеки. Один из саисов не выдержал и шевельнулся на своем месте. От скрипа подошв его сосед вздрогнул и шумно, словно икая, набрал в легкие воздуха. В Уроза проникло, его подхлестнуло тревожное ожидание этих людей, охранявших заключенного. Еще острее ощущал он властное нетерпение, которое исходило от неподвижно застывшего Турсуна, ощущал всеми фибрами своего тела. Уроз почувствовал, что не может дольше оттягивать вынесение своего приговора. Но какого приговора? Он так же не знал этого, как и все остальные.
Уроз пристально смотрел на Мокки и думал: «Все ждут, затаив дыхание, какова будет твоя судьба. А ты, ты…» В нем вспыхнула дикая ненависть к этому человеку, над которым он имел власть казнить или помиловать, а тот, похоже, и не очень боялся. «Посмотрим, как ты поведешь себя, когда узнаешь», – подумал Уроз. И приказал:
– Подними голову!
Тишина стала еще напряженнее. Звук воды в фонтане перестал быть ее частью. Теперь она текла, звенела, следуя своим законам, подчинялась только своей собственной судьбе.
Лицо Мокки теперь было видно всем: грязная маска, лишенная какого-либо выражения. Грязь словно проникла в глубину его глаз. Они приняли такой же цвет и превратились в такую же грязь. Эти два пятнышка из грязи, уставившиеся на Уроза, казалось, не узнают и даже не видят его. А он вдруг вспомнил, каким невинным, доверчивым, дружелюбным был в детстве так красивший его взгляд Мокки. И тут Уроз испытал смешанную со страхом ненависть к жизни, способной так испортить жизнь человека. А потом подумал: «Так ведь это не жизнь, а я, я один это сделал». Журчание фонтана в его ушах превратилось в грохот водопада. Он уже больше не мог ни о чем думать. В тишине раздался высокий его голос, негромкий и безучастный, словно его заставлял говорить кто-то другой:
– Я объявляю тебя невиновным в твоих проступках, – сказал Уроз своему бывшему саису. – Ты свободен.
Ни один мускул не дрогнул ни на лице, ни на теле Мокки. Дыхание его осталось ровным. Зато все, кто услышал приговор, глубоко вздохнули. Уроз же услышал лишь один вздох, вздох Турсуна, который показался ему торжествующим. И первые чувства, испытанные им после объявления приговора, были горечь и унижение. Опять он уступил воле отца. Опять он был вторым, был отражением. Всего лишь это он получил за испытание, которое сам себе придумал и оплатил такой ужасной ценой. Видит Пророк, он не может остановиться на этом. Он должен, Пророк тому свидетель, должен совершить свой поступок, им, Урозом, задуманный, который превзошел бы волю и власть Турсуна, был бы вызовом ему и вместе с тем восхитил бы его. Но какой, какой поступок?
И вдруг Уроз чуть не закричал от радости. По мнению Турсуна, Мокки не был виновен. Он был жертвой приманки… ловушки… Конь, да, конь… Ага, Турсун требовал полной справедливости. Именем Пророка, он получит ее!
Тишина еще висела в воздухе, когда вновь послышался голос Уроза. На этот раз это был выразительный, проникнутый чувством голос. Он воскликнул:
– Да, ты свободен, Мокки! И отныне Джехол принадлежит тебе.
Тут уже и саисы, и их старшина не могли удержаться. Удивление, сомнение, зависть – все слилось в их криках. И в ушах Уроза они прозвучали как докучливый шум. Но вот то, что он прочел на лице Турсуна, стало ему наградой. Гнев окрасил шрамы на этом лице в пурпур, привел в движение кустистые брови, глубокие складки морщин, массивные губы.
«Он вспоминает, как растил Джехола, как дрессировал его, – подумал Уроз. – Сейчас он заговорит, запретит мне».
Турсун дождался, когда лицо его вновь примет выражение обычной суровой невозмутимости.
– Тихо! – приказал он саисам. – То, что вы слышали – закон для нашего клана.
Затем, обращаясь к Мокки:
– Воистину, Джехол – твой.
– Воистину, – повторил Мокки.
Его руки не изменили положения, и его лицо оставалось безучастным.
– А Зирех? – спросил он.
Несмотря на все их самообладание, Турсун и Уроз переглянулись в растерянности. Прощен, освобожден, получил бесценного коня – все эти чудеса оставили Мокки безразличным. Ему важна была лишь эта кочевая шлюха.
– Чтобы завтра же здесь и следа ее не было, – распорядился Уроз, не поднимая глаз на Мокки.
Когда Турсун остался наедине с Урозом, он позвал Рахима и приказал:
– Мою плетку.
И когда бача принес ее, Турсун сказал сыну:
– Засунь ее мне за пояс, Уроз, потому что ты вернулся, чтобы мне ее вернуть.
II СВАДЬБА ЗИРЕХ
В имении имелось несколько юрт, оставшихся с давних времен. Предки Осман-бая привезли их вместе со стадами во вьюках, установили и жили в них, пока постепенно, от поколения к поколению, хозяева не переселились в прочные, вросшие в землю жилища. Расположены эти юрты были среди холмов и полян, орошаемых чистейшей водой, и служили, в дни празднеств, для размещения гостей, которым не хватило места в хозяйском доме.
Когда Уроз совершил свой суд, старый управляющий имением Осман-бая лично сопроводил его – неслыханная честь – в одну из таких юрт, живя в которой вполне оседло, можно было вспоминать о былых кочевых временах. Ее окружали купы деревьев, а меж ними сверкала в арыке вода.
Хотя управляющего сопровождали два саиса, он сам помог Урозу спешиться и войти в юрту, построенную по типу монгольских.
– Эта юрта лучше всех других защищена от ветра. Я велел постелить под матрасы три новых ковра… А снаружи к твоим услугам всегда будут саис и конь.
Уроз машинально поблагодарил, чтобы ответить на слова, смысла которых он не понимал.
Странная, неимоверная усталость, какой он не испытывал и в самые худшие моменты своего пути, сковывала все его тело и ум. Все предыдущие переходы и испытания не опустошили его так, как тенистая галерея в доме Турсуна, пение фонтана, мягкие подушки, вкусная еда. Оставшись один, он бросился на приготовленное ему ложе и тут же уснул. Из-за формы жилища и укоренившейся привычки быть в пути, он еще успел на какое-то мгновение поверить, будто по-прежнему куда-то едет.
И хотя спал он как убитый, это впечатление так крепко засело в его сознании, что, едва проснувшись, он подумал: «Пора ехать». Уроз сел и увидел в изголовье пару костылей.
В памяти его всплыли все события вчерашнего дня, одно за другим. И он был ошарашен всем случившимся. Юрта? Неправда. Она тяжела и неподвижна, как каменный дом. Здоровое тело? Неправда. Чтобы перемещаться, ему нужны эти деревянные подпорки. Уроз взял костыли, примерил их под мышками, удивился, как они удобны и хорошо подогнаны. Опираясь на них, он тут же вышел на улицу.
Конюшенный слуга, сидя на корточках у стены юрты, напевал что-то себе под нос. Это был худощавый старик маленького роста, чем-то ему напомнивший ощипанного воробья. В его слезящихся глазах светилось простодушие.
– Откуда костыли? – спросил Уроз.
– Ты так крепко спал, – ответил тот, – что не слышал, как я их принес. По приказу Турсуна.
– А где он? – поинтересовался Уроз.
– Обходит конюшни, – ответил слуга.
Показав на ближайшую группу деревьев, он добавил:
– Вон оседланная лошадь. Хочешь поехать?
– Нет, – ответил Уроз.
– Тогда чаю? – осведомился человечек. – Самовар кипит возле ручья.
– Нет, – сказал Уроз.
Он повернулся, вошел в юрту, бросился на топчан, забросил костыли за голову, чтобы не видеть их.
«Первый подарок отца», – подумал он и сам, не осознавая этого, усмехнулся. Представил себе Турсуна, величественно идущего от стойла к стойлу, неизменного, вечного… Главный Конюший, отвечающий за всех лошадей испокон веков и на веки вечные.
С улицы послышался тихий голос старика, напевавшего старинную песню степняков. Народные поэты, сказители, караванщики, пастухи и нищие с незапамятных времен придумывали на этот мотив слова, облегчавшие их сердце. Может, и этот слуга играл в эту игру, удовлетворял такую же свою потребность. Но это было не так уж и важно Урозу. Он думал о жизни отца. Размеренная, расписанная по дням и часам… Право же, она была достойна его возраста и славы. Но он, он, Уроз… у которого никогда не было своей крыши над головой и даже своего коня… Он жил от бузкаши до бузкаши, а в мертвый сезон – от базара до караван-сарая, чтобы потратить там свои деньги, заработанные в своих боях, на бои собак, перепелов, баранов и верблюдов.
Куда делась огромная радость, пережитая вчера, когда он рассказывал о своих приключениях Турсуну? Вместо нее – усталость, отвращение. Те же самые, что и несколько дней назад, настигавшие его в пути, после каждого подвига. Но тогда у него была возможность придумать себе новую ловушку, изобрести для себя еще какую-нибудь смертельную опасность. «Добраться до цели ничего не значит… только дорога имеет значение… и вот моя дорога здесь обрывается», – думал Уроз. Всю глубину своего отчаяния он осознал, когда в голову ему пришло безумное желание: он и вторую ногу, да, вторую ногу, здоровую, готов был бы отдать, лишь бы продолжался, продолжался бесконечно путь в преисподнюю.
Он глубоко и сильно вздохнул. По всему телу разбежалась живая, полноценная кровь. Пятнадцать часов сна вернули ему силы. Почувствовав их пробуждение, Уроз готов был завыть. Зачем теперь ему эта сила?
Он ненавидящим взглядом окинул юрту, которая так ловко его обманула и одурачила. Тут в двери показался худенький человеческий силуэт.
Глядя против света, Уроз не сразу узнал, кто это. С раздражением подумал: «старикашка» и хотел было его прогнать. Но то был явно не он… За стеной по-прежнему слышалась жалобная песня, выводимая надтреснутым, тонким голоском.
Силуэт неуверенно сделал два шага. Женщина… Еще два шага: Зирех.
Первое движение Уроза было: подобрать под себя ампутированную ногу. Затем он спросил:
– Тебе не известно мое распоряжение?
Не поднимая головы, склоненной с самого ее появления в юрте, Зирех прошептала:
– Известно, известно, хозяин. Я готова была уйти на рассвете. Но я не могла это сделать, не попрощавшись с тобой.
В голосе ее, смиренном и робком, как и все ее поведение, слышалась решимость, так хорошо известная Урозу.
– Зачем? – грубо спросил он.
– Мне захотелось поцеловать твои руки за то великое благо, которое ты сделал, за дарованное тобой прощение, – ответила Зирех.
Из середины юрты, где она стояла, она одним рывком, быстрым, гибким, пластичным, как прыжок зверя, оказалась на коленях у ложа из ковров и подушек и приложила губы к пальцам Уроза.
После чего осмелилась поднять лицо и воскликнула:
– Ты, сделавшийся судьей, – это означало для меня смерть. Ведь ты знаешь всю правду.
Никогда еще Уроз не видел такого выражения на лице кочевницы. С него точно соскребли и смыли все следы жадности, хитрости, вожделения и низости. И под ними обнаружилась чистая и покорная признательность.
«На этот раз она не лжет: она слишком сильно боялась умереть», – подумал Уроз. Это ему было безразлично. Но несколько слов проникли вглубь самых потайных уголков души.
«Ты знаешь всю правду», – сказала она. И Уроз вспомнил их необычную борьбу не на жизнь, а на смерть. Ведро с ядом, подсыпанным ею… Безухие хищники, натравленные ею… Мокки, которого она подстрекала, науськивала, толкала на убийство… И после каждой попытки – обмен откровенными взглядами. Взгляд Зирех как бы говорил: «Сегодня мне не удалось… Но уж завтра я ни за что не промахнусь». А его взгляд отвечал: «Посмотрим».
Вот чего искал сейчас Уроз в глазах кочевницы. А видел только восхищение и преклонение.
Что могло быть общего, для Зирех, между грязным, лохматым, вонючим, искалеченным всадником с провалившимися глазами и этим так приятно пахнущим красивым, чистым, гладким мужчиной в шелковом дорогом халате?
«Прекрасный принц вернул мне жизнь, – подумала Зирех. – А я ему надоедаю».
И быстро прошептала:
– Никогда не забуду твою доброту, о господин мой. Каждый день буду молиться за тебя.
Пятясь, Зирех пошла к выходу. Когда она была уже готова поднять полог юрты, Уроз неожиданно для себя крикнул:
– Погоди!
Она остановилась. И опять, словно против своей воли, Уроз приказал:
– Вернись!
Зирех легким шагом подошла, и тут он понял, почему нуждался в ее присутствии. Пока она находилась здесь, в юрте были живы воспоминания: высокогорное кладбище кочевников, ущелье со скользкими плитами, где завывал горный ветер, радуга озер Банди-Амир.
Чтобы задержать Зирех под приличным предлогом, Уроз задал первый пришедший в голову вопрос:
– Ты видела Мокки?
– Видела, – отвечала она.
– Как он? – спросил Уроз.
– Я его ненавижу, – ответила Зирех. – Он до сих пор не отмыл грязь. Ходит понурый, руки свисают с плеч, как сломанные палки. Глаза пустые… Ты его помиловал. Отдал ему коня… А он – ни улыбки, ни радости. Ненавижу.
– Почему же тогда ты так его хотела?
Поведение женщины мгновенно переменилось, и самым странным образом. Она сжалась, отступила, закрыв рукой глаза, словно защищаясь от невыносимых видений. От тех мужчин, которые у нее были, от своих неудачных попыток кого-то любить. Ей было невыносимо вспоминать об этом, созерцая горделивую красоту Уроза, сидящего в такой богатой одежде в старинной монгольской юрте. Впервые в своей жизни Зирех стыдилась самой себя, своей плоти.
– Злой рок, наверное, – ответила она еле слышно. – Не знаю.
Продолжать она не могла. От волнения грудь ее высоко вздымалась. И от нежной ложбины в середине груди до мочек ушей загорелая кожа ее приняла розовый оттенок, украсивший грациозную, невинно согнутую шею в простых светлых кружевах.
Новое платье, купленное на тайные запасы, внезапная стыдливость, нежность свежевымытого тела, жгучий и скромный взор – все заставило Уроза подумать: «Прямо как невеста». И раньше, чем он осознал это, в памяти всплыли стихи Саади.
И тут потребность воспрянувшей и проголодавшейся плоти, желание вновь пережить с кочевницей суть своего невероятного приключения, давнишняя тайная и властная тяга к надругательству, к причинению боли недоступным девушкам – все слилось в едином страстном желании. Он притянул к себе Зирех.
Еще мгновение, и она лежала возле него. Он тут же порвал на ней платье и через одну из прорех вонзился в нее, как убийца, глубоко, до упора, вонзающий кинжал в живот своей жертвы.
От неожиданности и боли Зирех громко закричала. На лице Уроза появилась волчья ухмылка. «Кричи, кричи, – выдавил он сквозь сжатые, неподвижные губы. – Кричи! Главная боль у тебя еще впереди».
Для утоления своей страсти, своих звериных немыслимых желаний у него были руки и чресла чопендоза, зубы, способные разгрызть большие бараньи кости, ногти и пальцы, которыми удерживал он, как тисками, туши обезглавленных козлов. Он превратился в изобретательного палача, опьяненного страданиями своей жертвы. Все, что только могло причинить ей боль, доставляло ему наслаждение. Он получил абсолютное право изничтожать скромность, чистоту, стыд, радуясь страданиям обесчещенного тела. И еще право всеми своими фибрами, клетками, капиллярами, мозгом костей получать безграничное, нечеловеческое счастье с помощью своей все возрастающей жестокости.
А Зирех не переставала кричать. И с каждым ее криком на Уроза накатывала новая волна все более упоительной ярости, и он, вдохновляемый ею, искал и находил все более изощренные способы мучить. Его, конвульсивно спустившего веки, так как он не хотел ничего потерять из огня и мрака, населявших его адский рай, несло с вершины на вершину и из одной бездны в другую.
А потом, от долгой игры с этими жгучими, черными колдовскими образами в сознании Уроза накопилась какая-то усталость. Ему уже стало мало просто причинять унижение и боль. Захотелось насладиться зрелищем. Он открыл глаза и, увидев лицо Зирех, сперва обрадовался. Растянутый, разверстый, разорвавшийся от собственного крика рот – это было то, на что он и надеялся. Но радость Уроза длилась недолго. Почему на этом лице, опрокинутом под ним, ничто не соответствовало мученическому выражению рта? Почему щеки, лоб, виски озарял идущий откуда-то изнутри радостный свет? Почему кожа стала такой необыкновенно красивой, гладкой, вибрирующей от счастья? Откуда это выражение священного безумства? И этот взгляд, сияющий, как в момент наивысшего блаженства?
Непрекращающиеся крики Зирех вдруг приняли, в ушах Уроза, иное звучание и смысл. Он вспомнил, что уже слышал этот безумный голос, – только более сильный, более отчаянный – в ту ночь, у костра, в лагере малых кочевников.
Урозу стало нестерпимо больно, нестерпимо обидно. Никто и никогда так его не обманывал, не разыгрывал, так не глумился над ним. Он принял за крики страдания ее песнь сладострастия. Ему хотелось предать жестоким мучениям невинную девственницу и даже верилось, что это получилось, а на самом деле он лишь порадовал бесстыжую девку.
Белая пена выступила в уголках его губ, он стал искать на ее теле самое уязвимое место. Нашел на груди у нее шрам, оставленный кнутом Хайдала. Там уже появилась свежая, совсем еще нежная кожа. Уроз вонзил в нее ногти и с силой надавил и провел ими до конца шрама. Живот Зирех подпрыгнул так, что подбросил Уроза, а рот превратился в сплошное зияющее мучение. Но крик, вырвавшийся из груди ее, хотя и был сильнее и пронзительнее других, выражал в то же время и еще большую радость сладострастия.
Тогда Уроз схватил Зирех одной рукой за волосы, другой – за горло, стукнул головой о землю и прорычал:
– Тебе не больно?
– Смертельно больно, – пробормотала она.
А восторженной улыбкой, на секунду соединившей ее губы, попыталась сказать, – но как, как все это высказать – попыталась сказать: «О всадник, охваченный жаром, покрытый слоем пыли, пропахший гноем, о победитель яда, диких псов и неприступных гор, о шелковокожий господин этого замка, о властитель души моей, бей, кусай, сдирай кожу с меня, недостойной! Чем больше будет твоя радость, тем больше возрадуюсь и я».
И подумав так, кочевница, упоенная своим унижением, еще азартнее отдалась бездонным наслаждениям своего полубога. А Уроз, не понимая, что он и она, так тесно связанные друг с другом, несут в себе противоположные заряды, дал еще большую волю своему варварству. И чем больше он ее мучил, тем больше разжигал и удовлетворял ее плоть. Ему подумалось: «Она берет реванш за все свои поражения. Только смерть может остановить эту ее нескончаемую победу».
Пальцы Уроза уже сжимали горло кочевницы, когда от шеи и до крестца, по всей его спине пробежала обжигающая молния. Насытившееся, размякшее тело Уроза отделилось от Зирех. Какое-то время он ничего не чувствовал, ни о чем не думал. Потом услышал ровное, блаженное дыхание. Не шевелясь, он произнес шепотом, в котором слышались одновременно и угроза, и мольба:
– Уходи! Скорее!
Зирех и на этот раз шла к выходу, пятясь. Но голова, возвышавшаяся над ее почти голым, истерзанным телом, сидела гордо, как у королевы.
III РЕВАНШ ДЖЕХОЛА
Старый слуга по-прежнему сидел на корточках у стены юрты, когда Зирех прошла мимо него. Не подняв головы, он продолжал жалобным голосом нанизывать слова бесконечной песни. От ствола дерева, стоявшего возле юрты, отделился Мокки.
Теперь он был вымыт. Чистое лицо носило на себе следы испытаний и мучений, выпавших на его долю. Кости выпирали наружу. Землистого цвета кожа свисала, словно подвешенная на острые скулы. Раскосые глаза ничего не выражали. Одет он был все в тот же чапан, из которого давно уже вырос. Из рукавов вылезали худые руки. Он был похож на быстро выросшего подростка.
– Чего тебе? – спросила Зирех.
Понял ли Мокки, что она сказала? Он с испугом разглядывал раны, кровоточащие полосы, царапины, следы укусов на теле и на лице кочевницы. Она выпрямилась и развела плечи, выставляя напоказ следы мучений. Громко сказала:
– Это Уроз.
– Знаю, – кивнул Мокки. – Я слышал.
Спокойная гордость светилась в глазах Зирех, один из которых опух от ударов и был открыт лишь наполовину. Она повторила вопрос.
– Чего тебе надо?
– Хочу уехать с тобой, – ответил Мокки. Зирех сделала движение, показывающее, что она продолжает свой путь. Мокки попытался удержать ее за платье. Кусок ткани остался у него в руке. Он встал перед ней и умоляющим голосом сказал.
– Послушай, нет, послушай, клянусь Пророком. Я буду работать… У нас есть Джехол. Мы сделаем с ним, что ты захочешь.
Зирех не отвечала. У Мокки появилась надежда. Брови кочевницы собрались в одну черту. Привычное выражение хитрости и жадности вернулось к ней. Рваная, исцарапанная, с подбитым глазом, она являла собой картину самого наглого бесстыдства.
«Заставлю его продать лошадь… заберу себе деньги… и в первую же ночь убегу», – думала кочевница. Мокки боялся шевельнуться, боялся дышать. В наступившей тишине до Зирех донеслись бесхитростные слова старого конюха:
Вернувшись домой, наш Уроз Всех милостиво рассудил, И лучший из всех чопендоз Аллаху премного угодил.Услышав первые же слова, Зирех закинула вверх голову. Полуденное солнце озарило ее лоб. Брови разошлись. Хитрое, настороженное выражение алчности исчезло с лица. Оно сменилось мирной, хотя и не лишенной высокомерия уверенностью.
Старик умолк. Губы его беззвучно шевелились в поисках слов для следующих куплетов. Зирех опустила взор с небес и удивилась, увидев перед собою Мокки.
– Ты возьмешь меня с собой? – спросил он робко.
– Не могу, – ответила Зирех просто и спокойно. Она не хотела так отвечать и не собиралась произносить эти слова. Это ответила не она, лживая кочевница, воровка, мелкая шлюха, готовая отдаться и продаться первому встречному. Слова эти произнесла молодая женщина за свою царственную, дикую страстность избранная мужчиной, которого уже воспевают барды, женщина, надеющаяся, что во чреве ее поселился первый ребенок принца, героя. Как может она принять этого жалкого парня, нищего, готового все стерпеть? Как может она его обмануть, ограбить и тем самым вернуться в свое прежнее презренное положение?
Мокки, а тем более Зирех не могли бы назвать неизвестную им силу, сделавшую ясным и строгим ее лицо, помеченное следами побоев и неудержимого сладострастия. Увидев достоинство и благочестие на этом лице, Мокки невольно отступил и дал ей пройти. И она ушла, исчезла среди деревьев и кустов, усыпанных осенними цветами. А Мокки поплелся в другую сторону, куда глаза глядят. Его руки свисали с плеч, как высохшие ветки деревьев.
* * *
Уроз приподнялся на локте на своем ложе, с которого, как он думал еще совсем недавно, ему не захочется никогда встать. Услышал, как поет старческий голос:
Уроз, наша честь и краса, Повсюду, в горах и степях…Уроз поднял голову, прислушался. Он знал этот мотив, на который степняки обычно слагали баллады о высоких подвигах и разные предания. Но при чем тут его имя?
А дрожащий голос продолжал:
От самой земли в небеса Летит твоя слава в веках. Уроз, сын Турсуна, ты сам, Как сокол, паришь в облаках.Песня умолкла. Уроз откинулся на подушки. Слова были о нем, слова новой легенды, наложившиеся на старую мелодию. Песня распространится по имению, по соседним базарам. Сказители, барды с несравненно большим, чем у старого слуги талантом, придумают более красивые строфы, и те пойдут из уст в уста, разносимые повсюду всадниками и караванщиками, качающимися на горбах своих верблюдов. Из кишлака в кишлак, из чайханы в чайхану, песня обежит все степи. Вот она, слава, к которой он так стремился… Слава, переживающая прах… Урозу показалось, что эта богатая юрта превратилась в могилу, в склеп, возведенный над его останками.
* * *
Старик не успел продолжить свои славословия. Уроз услышал топот нескольких коней. Затем в юрту вошел Рахим, сообщивший, что Турсун приглашает его под деревья, на берег ручья.
– Приведи лошадь, которая меня ждет, – сказал Уроз.
Как только Рахим вышел, он встал, добрался, подпрыгивая на одной ноге, до выхода, вскочил в седло и поехал за слугой до замшелой беседки с крышей из переплетенных ветвей и листьев и с ручьем, протекающим как раз посреди ее. Два саиса покрыли землю яркими коврами, разожгли самовар и доставали из мешков посуду и пищу.
Уроз подождал, когда закончатся приготовления, спешился и сел напротив отца. Они обменялись приветствиями, которые полагались. Саисы отвели лошадей. Турсун спросил у Уроза:
– Получил костыли?
– Получил, – отозвался Уроз.
– Примерил? – задал новый вопрос Турсун.
– Примерил, – ответил Уроз.
– Подходят? – продолжал расспрашивать Турсун.
– Прекрасно, – заверил его Уроз.
– Почему же ты приехал без них? – посмотрел на него Турсун.
– Потому что, – не захотел объяснять Уроз.
Такой ответ сына – оскорбление для отца, тем более для Турсуна. Но Турсун не показал виду. Направляя Урозу эти инструменты инвалида, он знал, что сын будет взбешен. Но он знал также и то, что Уроз должен как можно скорее привыкнуть к своему новому положению.
«Если мальчика, которого сбросил конь, не заставить тут же снова сесть на него, то он всегда будет бояться ездить верхом», – подумал Турсун. И спокойно отметил:
– Не знал, что у моего сына уважение и вежливость умещались только в одной ноге.
Уроз промолчал, Турсун запустил руку в котел, полный плова шафранно-сизого цвета, лоснящегося от жира, обжигающего рот острыми специями, сдобренного кусками баранины, съел все, что зачерпнул, облизал пальцы и ладонь, а затем спросил:
– Ты не узнал эти костыли? Это мои.
Уроз собирался тоже опустить руку в плов. Рука его повисла в воздухе.
– Что? – не смог скрыть своего удивления он. – Это те…
– Те, что служили мне, когда я разбил правое колено и сломал левое бедро, – подтвердил Турсун.
Уроз вытащил из котла горсть шафранного риса. Вкуса его он не почувствовал. Он вспомнил, как тридцать лет назад Турсун, тогда в зените славы, прыгал на этих подпорках по дворам и конюшням, по базару Даулатабада.
– Это же было только на какое-то время, – сказал Уроз.
– Тогда я не был в этом уверен, – не согласился Турсун.
Он вынул из плова баранью кость и разгрыз ее своими желтыми зубами. Потом спросил:
– И что же, по-твоему, мой авторитет тогда упал из-за этого?
– Воистину, не упал, даже наоборот, – произнес сын неожиданно для себя.
Он вспоминал лица людей, как в имении, так и в селе, проявлявших к Турсуну на костылях и уважение, и дружеское расположение еще больше, чем прежде. Он сказал:
– В таком возрасте легче смириться.
Турсун медленно расправил плечи и, устремив на Уроза тяжелый взгляд желтых глаз, ответил:
– В то время мне было меньше лет, чем тебе сейчас. Посчитай.
Уроз посчитал. И не поверил цифрам. Еще раз посчитал. Пришлось согласиться. Тот старик, каким ему казался тогда Турсун, был на самом деле моложе, чем он, Уроз, сегодня.
Чтобы избежать взгляда желтых глаз, Уроз принялся жадно есть. Но остановился, уловив в голосе Турсуна какую-то особую интонацию.
– Я хорошо помню, Уроз, то время, – сказал Турсун. – Тогда я еще не был Главным Конюшим.
Он опустил голову, прикрыл немного веки и попросил Рахима налить чаю.
– И мне тоже, – попросил Уроз.
А Турсун продолжал:
– И вот уже двадцать лет, как я исполняю эту должность… Воистину, слишком долго. Но не вижу никого, кто бы мог ее исполнять… кроме тебя.
Чашка в руках Уроза звякнула о блюдце. Он поставил ее рядом с собой. Этот жест дал ему время сдержаться и ответить, не показывая своего отвращения к такой отставке, которую предлагал ему Турсун.
– Спасибо большое, но такая честь превышает мои возможности, – ответил он.
– Подумай до завтрашнего дня, потому что завтра возвращается Осман-бей, – настаивал Турсун.
И перешел к последнему и самому трудному вопросу, над которым он хотел предложить сыну подумать.
– Возвращается вместе с Салехом, – сообщил он.
– С Салехом… – повторил Уроз, и губы его побледнели.
– Чтобы отметить его победу, – продолжал Турсун, – через неделю будет устроен большой праздник. Салех будет сидеть за праздничным столом по правую руку от хозяина. Я был бы горд, если бы по правую руку от меня сидел ты.
– С костылями? – усмехнулся Уроз.
Он отчаянно надеялся, что ответ Турсуна будет гневным. А он оказался искренним и простым.
– Это было бы еще лучше, – кивнул головой Турсун.
Уроз почувствовал себя пойманным в ловушку, связанным по рукам и по ногам. Судьба тут не оставила ему никакого выхода, никакого шанса. Участвовать в триумфе Салеха? Нестерпимое унижение. Не явиться? Недостойный и трусливый выход. Какое решение ни выбери, все позор. Отвращение к самому себе до конца жизни.
Как, каким способом спастись от людей на этот раз, от людей с их правами, от природы с ее законами, каким поступком, в общем мнении безумным, противопоставить себя им, бросить вызов и затем распоряжаться ими, управлять их судьбами? Кем или чем воспользоваться? Когда он бежал из больницы, у него были Мокки и Джехол… Саис для него умер. А конь?
Уроз вонзил ногти в ковер, на котором сидел, и сказал:
– Я отвечу завтра. А сегодня я хочу воспользоваться Джехолом.
Как никогда внимательные и проницательные глаза Турсуна в упор разглядывали застывшее лицо сына. Ничего он не прочел на его лице. И не стал возражать:
– Почему бы и нет? Уход за ним был подобающий. А Мокки еще даже ни разу не появился в конюшне.
* * *
Аккуль, старший саис, счел своим долгом лично привести Джехола. Когда конь появился в конце аллеи, Турсуну показалось, что тенистая беседка вдруг озарилась особым светом. Тепло расплылось по всему его телу, радостнее потекла в жилах кровь. И какое-то внутреннее солнце загорелось в его желтых глазах.
В Джехоле не было сейчас ни грамма лишнего жира, лишнего веса, и он предстал в своей самой изящной форме, в самой своей абсолютной сути. Уход искусных саисов сделал шерсть коня блестящей и переливающейся, как шелк. От великолепной игры мускулов по коже пробегали муаровые волны. А грива, вычищенная, причесанная, приглаженная, выхоленная лучшими специалистами края, развевалась, украшая высокую дугу картинной шеи, гордо несущей длинную, тонкую голову с горящими гранатовым блеском огромными глазами.
Воистину, никогда еще Джехол не был так прекрасен.
И он знал это.
И чтобы показать всю свою красу и мощь, он подчеркнуто возмущался, что его удерживают на пороге беседки. Он бил копытом, слегка подымался на дыбы, показывал сильные красивые ноги, плотные бока, широкую грудь. И тряс гривой. А в больших глазах сверкали и смеялись пурпурные искры.
– Подведи его поближе, – приказал Турсун старшему саису.
А тот, приподняв переднюю ногу Джехола, воскликнул:
– Воистину, он достоин того, чтобы шагать по самым богатым коврам. У него ноги чище наших.
– Воистину, воистину, – произнес тихо Турсун.
Оба старика переглянулись понимающим горделивым взором: даже створки раковин, омываемых веками в текучих водах, не могли быть более чистыми, чем копыта Джехола.
Конь с удовольствием поставил обе ноги на высокий ворс мягкого ковра. Танцующим шагом прошелся, изящно сгибая и разгибая длинную шею, как это делают лебеди.
– Смотри, Уроз, смотри, как он идет к тебе, – крикнул старший саис.
– Я велел привести его не ради красования, – не захотел разделить их чувства Уроз.
Его сухой и резкий тон ранил Турсуна.
– Видимо, он недостаточно красив для тебя, – вопросительно посмотрел он на сына.
Уроз ответил:
– Когда тебе нужны были костыли, ты требовал от них, чтобы они были красивы?
Старший саис не успел шевельнуться, как Уроз, встав на здоровую ногу, оперся о луку, подпрыгнул и оказался в седле. И ускакал, скользя среди деревьев, стройный, сильный, гордый.
Старики снова понимающе переглянулись. Никогда еще не видели они такого тесного слияния всадника и коня.
* * *
Коленями и поводьями Уроз приказал Джехолу кончать красоваться. Конь нехотя повиновался. Шаг его стал твердым и норовистым.
«Давай, давай, – сказал ему про себя Уроз. – Я тебе не старик какой-то, чтобы умиляться, глядя на твои ужимки».
Странный недуг вдруг охватил его. У отца всегда был Джехол, не один, так другой. И лошадь всегда была у него на первом месте.
Когда в детстве Уроз заболевал, Турсун с отвращением оставлял его на попечение женщин. Но если заболевал жеребенок, он не отходил от него, спал рядом с ним. Вдруг Урозу вспомнилась одна сцена: конюшня, полутьма… И там Турсун, никогда не обнимавший его, своего сына, нес, прижав к груди, как живую игрушку, крошечного жеребенка, голенького и еще влажного, гладил его и баюкал.
«Новорожденный Джехол», – вспоминал Уроз. И хотя прошло столько лет, ощущение одиночества снова всколыхнулось в нем с новой силой. И как обычно, он обратил это ощущение в гордыню. «Не в тот ли день, – подумал он, – у меня пропало чувство привязанности к лошадям? Что в беде, что в радости, только я имею власть над ними. С лошадьми все обстоит еще проще, чем с людьми».
Лошадь? Ее подбираешь ради себя, а не ради нее. И если она становится слабее, то берешь себе другую.
– Джехол или не Джехол, – произнес внезапно вслух Уроз. – Ты здесь для моего седла, для моей нагайки, для моей воли. Что же касается остального…
Он наметил свисающую ветку и плетью перерубил ее, как ножом.
Выехав из-под деревьев, он поехал по дороге, ведущей в степь. Джехол поднял голову, глубоко втянул в себя воздух. Теперь это был уже не запах деревьев, не запах коры, мхов, опавших листьев, душистой гнили. Ноздри его трепетали от ароматов теплой земли и сухих трав, от дыхания бескрайнего простора, от ощущения ничем не ограничиваемой свободы. Он замотал гривой, заржал. Уроз грубо дернул поводья.
– Подожди, мне еще не захотелось, – процедил он сквозь зубы. – Некуда спешить.
Он вспомнил о приготовленной для него клетке в виде богатой юрты, о костылях, о праздничном банкете в честь Салеха и подумал: «Какой смысл скакать человеку, для которого уже нет возврата?»
Уроз прищурился… Нет возврата – это в любом случае совершенно точно. А цель? Русская граница близко. За ней – Самарканд, Ташкент. Когда-то, когда там правил великий белый царь, Турсун в ранней молодости бывал на тамошних базарах, в их мечетях. Тогда легко было пересекать границу. Теперь же с обеих сторон – полиция, солдаты… Уроз пренебрежительно помотал головой. Если бы он так уж захотел… Но вот хотел ли он этого?
Джехол двигался вперед спокойным шагом… Самарканд… да… В сторону Ирана тоже простирались незнакомые, суровые пустыни. Можно было уехать туда, потеряться в них. А можно было поехать и на восток. За провинциями Мазари-Шариф, Каттаган, Бадахшан, на краю афганской земли находился загадочный перевал Куал ан Панжа, такой высокий, что доходит до самой Крыши Мира… Там люди ездят на белых буйволах… А еще там живет снежный человек… Погруженный в свои мечтания Уроз выехал за пределы имения. И тут уж и мысли, и планы, и мечты утратили для него всякий смысл.
Была только степь. Впереди него. Вся в его распоряжении.
И это была уже не та, словно покрытая пеплом, изрезанная тенями степь, какой она предстала однажды вечером перед измученным, растерянным, гниющим, готовым расплакаться от слабости и от волнения человеком, который вышел из ущелий Гиндукуша и в котором Уроз сейчас не узнал бы самого себя. Теперь это была действительно степь, беспредельная в своем порыве, настоящий океан трав, волнами раскинувшийся насколько хватает глаз, с солнцем, щедрым и гордым, и небом, таким высоким и открытым, как нигде в мире, и еще этими крылатыми облаками, которые неслись, гонимые ветром, и этим запахом, особенным, горьким ароматом полыни, и этой прекрасной, ничем не ограниченной свободой.
Вся степь. Его степь. Простиравшаяся перед ним.
Перед ним, родившимся для нее вторично. Вот он сидит в седле, сильный и гибкий, чистый, в богатой одежде. И он свободен, свободен, как никто до него не был и не мог быть свободным, всадник, едущий без цели и без возврата.
И конь его – уже не та грязная кляча, неухоженная, взмыленная и голодная. Он сжимал своими ляжками жеребца, по красоте и силе не имевшего себе равных. Как и он сам, конь его был сыном степей. Как и ему самому, коню не терпелось ринуться вперед, в это зовущее пространство. Он уже не любовался своей красой. Вытянув шею, со вздувающимися ноздрями, он прижимал уши, словно их уже хлестал ветер скачки. И то ли от солнца, то ли от нетерпения, от шерсти его отскакивали звездочки-искры.
Кожей своей, нервами, костями, всей своей кровью Уроз был слит с конем в едином желании помчаться. И с каждой секундой это желание у него нарастало. Теперь ожидание превращалось в муку, в тоску. Но вместе с тем оба они находили в этой трепетной горячке невыразимое наслаждение. Важно было не уступить, не сорваться. И держаться, держаться до того момента, когда боль и желание достигнут такого напряжения, что освобождение от них доставит такую же радость, как и само наслаждение.
Склонившись к холке Джехола, Уроз с прищуренными раскосыми глазами, казавшимися почти закрытыми, с резко выпятившимися вперед над впалыми щеками скулами укорачивал, укорачивал узду, слушал, как клацает сталь мундштука о зубы коня, и приговаривал шепотом: «Нет еще, погоди, погоди…»
В таком вот состоянии борьбы и согласия Уроз и его конь застыли на краю степи. И Уроз почувствовал в коне такой огонь, такой сгусток дикой энергии, что усомнился, удержится ли он, одноногий, в седле, когда даст ей выход. Это и послужило ему толчком. По его лицу пробежала волчья ухмылка. «Вот сейчас и увидим», – подумал он. И, отпустив поводья, сжал коленами бока Джехола. В ту же секунду он издал варварский боевой клич, с каким от Монголии до Волги всадники устремлялись вперед, понукая демонов степных трав с горьким запахом и одновременно бросая им вызов.
Он удержался. Несмотря на мощный рывок. Несмотря на яростный прыжок. Несмотря на безумную скорость галопа. Удержался.
Так что гордыня Уроза была снова польщена. Но это длилось лишь одно мгновение. Тотчас другое счастье заполнило его всего, причем такого свойства, что все остальные чувства казались пустыми и мелочными. Широкое, как степь. Высокое, как небосвод. Щедрое, как солнце. Чистое, как пропитанный полынным запахом ветер.
А конь не скакал, а просто летел. Вытянувшись, он, казалось, висел в воздухе и касался земли лишь затем, чтобы оттолкнуться от нее и вновь лететь. Прильнув лицом к развевающейся гриве, Уроз, легкий, невесомый, хотел только одного: лететь вот так над степью, как он уже летел, причем так близко к ней, чтобы и эта земля, и эта трава, и он сам сливались в одно целое.
Каждый узор этого дикого, естественного ковра, убегавшего назад под животом коня, был так давно, так хорошо ему знаком, что различал, буквально на лету называл каждую нить утка и основы. Знал он и крошечных грызунов, живущих в кочках сухой травы, узнавал по мордочкам и окраске их породу, когда, напуганные грохотом налетевшего на них галопа, они прятались по своим норкам в земле. В голове Уроза мелькали крошечные фигурки этого народца, прислушивающиеся во всей округе к топоту копыт, не переставая жевать, шуршать и перешептываться.
Он думал о зиме, которая должна была скоро наступить и покрыть снегом землю, о белых вьюгах под черным небом, об инее на кустах, о дыхании лошадей, превращающемся в густой пар, о звонком цокоте копыт по замерзшей почве.
Потом небо станет выше, расширится горизонт, растают снега, потрескается и тоже растает лед, зашумят, забурлят ручьи, ручейки, речушки, речки и недолговечные потоки, и вся огромная степь вдруг покроется яркими цветами, и будут они раскачиваться на весеннем ветру тысячами разноцветных головок. Закроют собой всю землю. И даже на крышах бедняцких хижин и пастушьих развалюх расцветут чудесные клумбы. А буйные травы вырастут выше, чем человек на коне, и новая полынь будет снова опьяняюще пахнуть.
Так скакал, а вернее, летал Уроз по степи во всем ее безмолвии, во всем ее величии и во все времена года. И если в такие моменты он пребывал в мире и согласии с самим собой и со всем миром, то все было хорошо. Но только так уж он был устроен, что вечно требовал от судьбы и от самого себя все больше и больше. Ровное, гладкое счастье переставало для него быть счастьем. Уроз поднял голову и стал искать глазами, чем бы еще утолить свою ненасытную тягу.
День клонился к вечеру. На небе загорелись уже краски заката. Поплыли облака, похожие на сказочных птиц, с пурпурными краями. Ниже парили степные орлы в поисках последней жертвы себе на ужин. Отчаянной завистью позавидовал Уроз огненно-красным облакам и плавно летящим птицам. Вот где скорость! Вот где легкость! И как тяжел и медлителен, по сравнению с ними, был его жеребец.
И плетка резко и сильно хлестнула коня.
Но удар подействовал на коня как тормоз. Джехол замедлил движение и повернул голову к Урозу. И тот увидел, среди прядей гривы, огромный, освещенный в это мгновение жидким розовым солнцем глаз, который спрашивал: «За что такая несправедливость? Ты же знаешь, что я себя не жалел. И мы были так счастливы».
Огонь пробежал по жилам Уроза. Его конь больше не слушается. Конь поучает его! Изо всех сил, неожиданно и так быстро, что Джехол не успел отвернуться и избежать удара, он трижды хлестнул его прямо по ноздрям.
Джехол взметнулся на дыбы, заржал как безумный и одним прыжком кинулся вскачь прямо перед собой.
Уроз знал, что все движения коня были его движениями. Его колени, плечи, чресла заранее знали, что сделает конь. Ничто не могло быть неожиданным. У его дыхания был один ритм с топотом копыт.
Джехол ржал беспрестанно. В прижатых к голове ушах звенел, звенел подгоняющий клич-улюлюканье, вырывавшийся из широко раскрытого рта Уроза. И степной ветер уносил вместе и этот безумный крик, и жалобное ржание коня, и крупные клочья пены с взмыленных боков и морды Джехола.
Когда на лицо Уроза пена попала в первый раз, он задержал в воздухе плетку, которой перед этим непрерывно хлестал Джехола. Древний инстинкт всадника, несмотря ни на что, все же подсказал ему: «Так я его загоню». Но он тут же подумал: «А чего мне его беречь? У нас нет никакой цели, ни ближайшей, ни конечной, и нет никакой надобности возвращаться».
И еще громче прозвучал его клич! Он стал хлестать еще чаще и еще сильнее. И это не было жестокостью. Просто ему как всегда хотелось выйти за пределы возможного. И на какое-то время это ему удалось. Джехол и он превзошли себя. В своем исступлении Уроз подумал: «Легко облакам-лебедям в небе и орлам в воздухе. На них работает ветер. У них – крылья. А у меня – только одно мое желание, только одна моя воля».
Тут он заметил слева впереди, у самой земли огромную черную зловещую птицу. Тень от нее, в лучах заходящего солнца, словно прицепилась к тени Джехола. И что бы Уроз ни делал, он никогда не сможет обогнать ее или даже догнать. Он перестал хлестать плеткой и слегка разжал колени.
Джехол резко остановился, да так, словно копыта его внезапно ушли в землю, и взбрыкнулся, поставив круп почти в вертикальное положение. Уроз потерял единственное стремя, вылетел из седла и камнем полетел к своей тени, оказавшейся всего лишь коротенькой тенью обыкновенного человека.
От такого падения обычный всадник разбился бы насмерть. Уроз же сложился, сделал кульбит, подобрав больную ногу, и не потерял спокойствия духа: «Лошадка меня разыграла, – подумал он. – Нестись стрелой ее заставляла вовсе не нагайка. Она хотела лишь получше разогнаться, чтобы сбросить меня при первой же моей ошибке… И вот зловещая птица подлетела к нам…»
Уроз приложил ухо к траве, прижал его к ней так, чтобы почувствовать под ее толщей твердую почву… Вибрирующая земля отчетливо повторяла звон конского галопа. Он удалялся в сторону имения.
В степи воцарилась полная тишина: ни птичьего крика, ни писка грызунов, ни жужжания насекомых, ни дуновения ветра. Над горизонтом – кружево из догорающих солнечных лучей. Глаза Уроза, прижавшегося к траве, находились на этом же уровне. Он смотрел, смотрел, как уменьшается полоска этого огненного кружева, как она сначала превратилась в плоский тоненький уголек, а затем в последнюю искорку!
И ему привиделось сразу: конь, вернувшийся в конюшню без всадника… с пустым седлом… удивление, тревога… Вот докладывают Турсуну… готовят меры по спасению… факелы, фонари… и, наконец, в лучах света – хвастун, которого проучил конь, чопендоз, не способный удержаться в седле, калека, вся гордость и слава которого – не более чем лопнувший пузырь.
«И это я… я!» – бормотал Уроз.
Чтобы не застонать и не завыть, он впился зубами в землю. Выплюнул отвратительную смесь песка и травы, откинулся на спину и увидел первые вечерние звезды. Что делать? Подскажи, о Аллах, что делать? Куда зарыться, чтобы не нашли? Как умереть одному, в ночи, в ореоле легендарной славы? Почему не оставил он околевать свое растерзанное тело в диких ущельях гор, где так много подходящих мест для вечного одиночества трупов? Зачем цеплялся он так за жизнь? Зачем так крепко держался за гриву Джехола?
Голосом, полным ненависти, он громко повторил имя коня… Джехол. От него исходило все его невезение. Начиная с Королевского бузкаши и до этого вот последнего унижения. Уроз поднял глаза к небу, где по морю все более многочисленных, все более ярких звезд плыл тонкий молодой месяц, и торжественно поклялся: «Видит Пророк: что бы ни случилось, я зарежу этого проклятого коня, клянусь!»
Он представил себе, как вскроет сонную артерию, как хлынет алый поток горячей, булькающей крови, как сникнет конь, принесенный в жертву его клятве… И ему стало легче.
А месяц тем временем поднимался по небосводу. Темная степь слабо освещалась его лучами. Уроз поднес руку к левой стороне груди. Откуда эти неровные толчки, эти неупорядоченные удары? И скоро догадался. Это вовсе не сердце его стучало. Это был шум копыт. И ему не было нужды опять слушать землю. Галоп разрушил тишину, и его шум заполнил собой всю степь. Все ближе… ближе.
Темная волна паники, накатив, лишила его здравого смысла и вообще способности думать. «Саисы! Турсун! Вот они! Вот они!» – мысленно сказал себе Уроз. Он приподнялся, встал на здоровую ногу и тут же снова упал. Растерянность прошла.
Это не могли быть люди из имения. В эти минуты Джехол мог в лучшем случае только доскакать до конюшен, и потом, искать отправились бы с факелами и фонарями… Может, это какой-нибудь запоздалый всадник возвращается в свою юрту… Путник спешит и потому скачет в ночи… Только и всего… Даже если он проскачет рядом, никто, если его не предупредили, не обнаружит в темной траве затаившегося человека.
Но все эти размышления не успокаивали Уроза. Он выпрямился во весь рост. Верхняя часть его тела поднялась, будто какая-то сила оторвала его от земли, и глаза стали шарить по волнующейся поверхности степного ковыля, слабо освещенного месяцем. Наконец он увидел тень, увидел приближающуюся и постепенно обретающую плотность фигуру лошади без всадника. «Небось отбилась от табуна», – подумал Уроз. Расстояние оставалось в десяток скачков галопа. Скорость не убавлялась. И по посадке головы, по мощи груди Уроз узнал Джехола. Но не поверил своим глазам, пока тот не заржал. И подумал: «Заблудился, кружил по степи… Нет… Я его довел до безумия… Он вернулся, чтобы прикончить меня… растоптать… А у меня и ножа даже нет».
Джехол приближался. Уроз сложился, собрался, прижал колени к животу, прикрыл голову руками. А Джехол резко остановился, как тогда, когда захотел сбросить с себя седока, остановился с ходу, с галопа, замер как вкопанный перед скрюченным человеком. Земля вздрогнула от такого резкого толчка. Уроз почувствовал, как вокруг заколыхалась трава. «Был бы нож; сухожилия… успел бы», – подумал он. И стал ждать первого удара копытом, потом других, яростно перемалывающих ему ребра, грудную клетку, разбивающих голову, лицо. Но ничего подобного не последовало. Конь не шевелился… Только тяжело переводил дыхание. Кожа Уроза почувствовала тепло его глубокого, немного хриплого дыхания. Медленно-медленно Джехол лег рядом с ним. «Он отдыхает, сейчас подготовится и… через минуту…» – подумал Уроз.
Нож! О, небо, пошли мне нож… Вот она, сонная артерия, только руку протянуть.
И вдруг невероятный озноб охватил все мышцы, все кости и суставы, все тело Уроза. Он почувствовал, как на плечо его легла горячая и влажная голова Джехола, легла с небывалой нежностью. Уроз опустил руку, выпрямил тело, откинул его назад и увидел глаза коня, подобные жидким зеркалам, залитым лунным светом. Никогда еще, ни при каких приступах лихорадки, не испытывал Уроз такого озноба. Земля под ним пришла в движение. Звезды раскачивались в небе. Джехол отодвинулся от Уроза. «Неужели сейчас ударит?.. Может, я напугал его?» – подумал он. Нет, ни то, ни другое. Просто конь встал перед ним на колени. Уроз так крепко вцепился пальцами в траву, что поломал ногти о твердую землю. Он чувствовал, понимал и осознавал только свою лихорадку, от которой все тело дергалось и звенело, как пустой бурдюк. Он прошептал, а может, только подумал, что прошептал: «Чего тебе надо здесь?» Голова Джехола с огромными глазами, залитыми лунным светом, опустилась, потом поднялась, явно чтобы привлечь внимание Уроза, и медленно, но отчетливо повернулась к седлу.
И тут кончилась трясучка в земной тверди и в небесных глубинах. Кончился озноб и внутри Уроза. На него опять уставились глаза Джехола. И Уроз неожиданным для него самого движением, противоречащим всем его убеждениям и правилам, обнял шею Джехола и прижался к ней своей щекой. Видит Пророк, что нет на свете более благородного существа, чем этот конь. Он не согласился с несправедливостью и отомстил, отстоял свою честь. Но когда гнев его прошел, он помиловал хозяина… Что это: воспитание бузкаши? О, нет, нет! Уроз еще крепче прижался к Джехолу, к взмыленному его боку. Этот запах усталости и пота… Сырые ущелья, смертельные склоны, плоскогорье с кладбищем кочевников, озера Банди-Амира… Как берег его Джехол, как охранял, спасал, баюкал… И вот на этот раз-тоже…
Уроз слегка расслабил объятия. В душе его установился чудесный мир и спокойствие. Он слышал, как бьется кровь в жилах на шее Джехола. Вспомнил, что поклялся перерезать их… Он медленно, с чувством, как святыню, поцеловал эти жилы. При этом он увидел себя со стороны. И не испытал никакого удивления. Он знал, что, никогда, никогда он, Уроз, не устыдится этого своего жеста, никогда не пожалеет о нем и не станет стесняться.
Он сел в седло. Джехол направился к дому, сперва рысью, потом легким галопом. Уроз заметил, что не держит даже поводья, и растроганно улыбнулся. Накрутил на палец прядь волос из гривы Джехола. А чуть позже ему пришлось все же удивиться. Он услышал, как кто-то напевает. То был его собственный голос, напевавший на известный мотив стихи Саади.
И слова эти обрели наконец для Уроза тот же смысл, что и для остальных людей.
* * *
Где-то уже забрезжил рассвет, когда Уроз добрался до своей лужайки. Перед юртой на корточках сидел человек. Сперва Уроз подумал, что это – старый саис, приставленный к нему. Человек встал, и Уроз по его высокому росту понял, что ошибся.
– Мир тебе, о Уроз! – произнес человек голосом Мокки.
Он прозвучал негромко и без какой-либо интонации.
Уроз ответил так же:
– Мир тебе…
Каждый из них мог заметить смутные очертания находившегося перед ним лица, а иногда и блеск зубов или белков глаз. И все.
Но Урозу вовсе не нужно было всматриваться в черты саиса. Он и так знал: Мокки пришел забрать Джехола. Своего коня. Забрать свое имущество. То, что Уроз прилюдно, в торжественной обстановке и безвозвратно передал ему в собственность.
И только теперь, в момент, когда он терял коня, Уроз почувствовал, чем для него стал Джехол. Его сердцем, его душой, его жизнью. Теперь он уже не мог согласиться с таким существованием, при котором ему нельзя будет сколько вздумается гладить гриву Джехола, слышать его ржание, видеть, как меняется цвет его глаз и как в этих глазах отражаются смех, привязанность, мудрость, смелость. На свете были, с одной стороны, все лошади мира, а с другой – он один, Джехол. Его друг, его брат, его спаситель, его дитя. Чего отныне будет стоить день, если в начале его не ляжет ему на плечо эта длинная, благородная голова, если к щеке не прикоснутся эти большие ласковые влажные губы.
Урозу показалось, что по лицу Мокки пробежала наглая улыбка. Он подумал: «Завтра Джехол полюбит его плечо, его щеку». И ему захотелось сразу и умереть, и убить, причем с одинаковой силой.
– Хочешь забрать коня? – спросил он у Мокки.
– Нет, – ответил Мокки.
Уроз схватил его за руку, воскликнул:
– Друг, ты хочешь мне его вернуть?
– Нет, тебе его продать, – сказал Мокки.
Тут расплывчатая тень, стоявшая перед ним, казалось, вдруг обрела вполне определенные, четкие контуры. В голосе чувствовались решимость и упрямство.
– Теперь, когда я познал женщин, – сказал Мокки, – я хочу иметь женщину. Но не такую, как Зирех. Такую, чтобы она была только моей, моей женой. А ты же знаешь, красивые и нетронутые девушки, за которых отвечает отец, стоят дорого.
Уроз отпустил рукав Мокки с чувством непередаваемого отвращения. Женщина, для него женщина была дороже Джехола! Он спросил:
– И какова твоя цена?
– Ты лучше других знаешь, – ответил Мокки.
(В голосе его послышалась странная смесь жадности, издевки и раболепства.) – Вспомни Бамиан.
Бой баранов… сумма, поставленная против коня… Уроз вздрогнул. Как он может? Как он смеет? Огромная тень надвинулась на него. «О Аллах Всемогущий, я вижу, что в лице этого негодного саиса Ты посылаешь мне наказание», – подумал Уроз.
Его молчание напугало Мокки: с его стороны было безумством даже и думать о всех тех афгани. Уроз откажется от сделки. Чтобы его удержать и задобрить, он прикоснулся к его колену и воскликнул:
– Не подумай, Уроз, что я хотя бы одно мгновение имел в виду ту огромную сумму денег. Я же ведь знаю, что ты не бай и не хан, но…
– Сколько? – спросил Уроз.
– О, не так уж и много, – ответил Мокки с неискренним смехом. – Ровно столько…
Уроз увидел, как тот поднял руку, и понял, что он собирается загибать пальцы, сообщая о каждом из своих требований…
– Сколько надо, чтобы заплатить калым, купить дом, как-то начать содержать первое время семью. Понимаешь?
– Сколько? – повторил Уроз.
– Завтра я дам точный расчет, – пообещал Мокки.
– Тогда прочь с дороги! – оборвал Уроз разговор.
И направил Джехола на Мокки так решительно, что бывший саис едва успел отскочить. Однако он все же крикнул Урозу вслед:
– Я к тебе к первому обратился насчет Джехола, поскольку он был твоим конем… Если мы не сойдемся в цене, то я легко найду покупателя на базаре в Даулатабаде.
Уроз въехал в большую юрту верхом и посередине ее спустился на землю. Стоя на одной ноге, он снял с Джехола всю упряжь. Конь тут же лег. Уроз погладил ему лоб, убавил свет в фонаре и вприпрыжку доскакал до своего ложа. Но запах постели был ему неприятен: Зирех, ее кожа… ее пот… ее мучения, полученное ею удовольствие. Уроз вернулся к Джехолу и лег рядом с ним, подложив под голову седло. Конь уже спал.
«Я его переутомил», – подумал Уроз.
От усталости влажные черные пятна на его боках поднимались и опускались слишком сильно и слишком быстро. От затрудненного, неровного дыхания дрожали ноздри. Уроз склонился над ним. Ссадины… запекшаяся кровь – это его рук дело… его плетки. Он прошептал:
– Спи, отдыхай, красавец мой… Завтра тебе воздадут все почести, достойные принца, достойные тебя… Завтра ты получишь…
Уроз закрыл глаза и поудобнее положил голову в седле. Завтра… Мокки… деньги. Какие деньги? У него нет ни одного афгани… Он жил на средства отца. Контракт на бузкаши следующего сезона? Кто же станет заключать контракт с калекой? Уроз заскрипел зубами. Он вспомнил о пачках афгани, которые по его приказу Зирех обратила в пепел… Так как же тогда… Джехол на аукционе? Ни в коем случае! Скорее зарежу Мокки. Да, зарежу эту собаку. А потом? В тюрьму… А Джехол… Джехол… один на свете.
Уроз придвинулся к животу коня, скрючился у него между ног. Но даже так не смог заснуть ни на минуту.
* * *
В урочный час Турсун начал цепочку мучительных процедур, которые делали из разбитого старика-ревматика величественного начальника барских конюшен. Он еще не завершил один из первых этапов, – когда ноги уже были спущены с чарпая и касались земли, а ладони упирались в трости, чтобы оторвать от матраса остальную часть тела, – как за дверью вдруг послышался странный шум. Сначала умоляющий голос Рахима:
– Не входи, умоляю, не надо. Даже тебе нельзя. Никому. Никому.
Разгневанный голос Уроза отвечал:
– Отцепись, отпусти мой кафтан, бача. Отойди, а то, клянусь Пророком…
Турсун почувствовал, как кровь прилила ему к лицу, отчего лицо утратило свое обычное сдержанное выражение и исказилось от панического страха. О Аллах! О Всемогущий! Оказаться застигнутым в таком состоянии, позволить увидеть то, что он хранил в глубочайшей тайне! Предстать – хуже, чем голым, – в длинной ночной рубашке, без чалмы, взлохмаченным, наполовину парализованным, сидящим на краю чарпая с лежащими на нем вперемешку помятыми, скрученными, скомканными простынями и одеялами, вцепившимся обеими руками в эти инвалидные подпорки! О Всемилостивейший, выставлять напоказ свою старость и свое отвратительное бессилие! И перед кем? Перед человеком, которому как никому другому из живущих нельзя показываться в таком виде! Перед Урозом, своим сыном!
Из прихожей послышались шум ударов и стоны Рахима: «Руки… О, мои руки!» Ручка двери скрипнула.
«О, Всемогущий», – взмолился Турсун. Он предпринял чудовищное усилие, пытаясь оторвать от проклятого ложа массу своего тела, чтобы бросить ее к двери, к этой деревянной створке, которая сейчас была его единственной защитой, его щитом, его спасением, чтобы не дать двери открыться. Но тело его не послушалось. Дверь распахнулась. Вошел Уроз.
Щеки и лоб Турсуна залила фиолетовая краска бесчестия, кровь забилась в висках и сделала совсем синими жилы у него на шее. Он попытался было закрыть лицо руками. Но не закрыл. Кровь так же быстро отхлынула, как и бросилась в голову. Грудь задышала ровнее. Сердце стало биться нормально. «Почему, о Всевышний и Мудрейший, почему?», – спрашивал себя Турсун. Ответ пришел из прихожей, где закрывавший дверь Рахим жаловался:
– Прости меня, хозяин. Он ломал мне пальцы своими деревяшками.
Тут до Турсуна полностью дошло то, что он понял еще раньше. Уроз ворвался к нему, но он пришел на костылях. Воплощение гордыни, этот человек отбросил гонор, спесь и надменность. Он пришел к нему, не думая о костылях, о том, как болтается штанина на ампутированной ноге, как жалобно постукивает дерево о землю.
«А ведь и в самом деле, разве у нас с ним есть что-то такое, что мы должны друг от друга скрывать?» – подумал Турсун с удивлением и такой наивной радостью, что даже не сразу осознал это.
Подойдя к чарпаю, Уроз воскликнул:
– Надо было, очень надо было поговорить с тобой до того, как ты отправишься в конюшни.
Турсун произнес миролюбиво:
– Я слушаю тебя…
– Мокки хочет жениться, – еще громче воскликнул Уроз.
– Я знаю, – отозвался Турсун. – Вчера, пока ты скакал в степи, Аккуль сказал мне об этом. Мокки думает о его дочери.
– Он уже выбрал, – глухо проговорил Уроз. – Но мало взять жену. Надо построить дом, кормить семью. И для этого этот пес, эта свинья, хочет продать Джехола.
– Джехол принадлежит ему, – сказал Турсун вполголоса. – Он может делать с ним все, что хочет.
– Нет! Клянусь Пророком, нет! Джехол отсюда не уйдет, – ответил Уроз.
И при каждом крике он ударял о землю костылем.
– Осторожнее, – предупредил Турсун. – Упадешь.
Он увидел, как Уроз покачнулся на своей единственной ноге. Чтобы поддержать его, он протянул руку. Палка выпала у него из руки и покатилась на землю.
«Два инвалида», – подумал Турсун и тут же забыл об этом, как забыл и то, что сидит в одной рубахе на неубранной постели… Неприкрытая боль Уроза… его откровенно инвалидные жесты…
– Присядь, – предложил Турсун.
Несмотря на взъерошенные после сна волосы и всклокоченную бороду на изрытой морщинами шее, на лице Турсуна вновь можно было видеть обычные достоинство и твердость. Уроз присел на край чарпая, держа костыли рядом с собой.
– Так что случилось? – спросил Турсун.
– Конь мне нужен, – с диким упрямством настаивал Уроз.
– На земле много других лошадей, – заметил тихо Турсун.
– Но Джехол один, – ответил Уроз. – Единственный.
Турсун молча покачал головой. Он знал сотни и сотни всадников, и каждый из них, если любил свою лошадь, был вот так же убежден в ее неповторимости. Если она уступала другой в скорости, значит, была более выносливой, более умной, более веселой, более преданной, чем другие. Да, это прописная истина, все всадники похожи друг на друга, когда они любят своих лошадей. Но Уроз?
Тот спросил:
– Ты молчишь? Почему? Разве тебе не известно лучше, чем кому-либо на свете, что из всех скакунов Джехол самый быстрый, самый ловкий, самый смелый и самый благородный. И самый красивый.
Турсун по-прежнему кивал головой.
– А ведь еще вчера, когда тебе привели коня, ты вроде и не замечал всего этого.
– Я не знал его тогда, – ответил Уроз.
И он рассказал, что он проделал с Джехолом накануне и что Джехол сделал для него. Слушая его, Турсун вспоминал молодого жеребца, убитого им, и все ниже и ниже склонял голову от жалости, которая казалась ему тяжелее всех прожитых лет. Жалость к сыну? К себе самому? К лошадям? К людям? Мысли о тяготах жизни?
Уроз умолк. Турсун поднял голову и спросил:
– Какую цену назвал Мокки? Сколько?
Не замечая, что он повторяет вчерашний жест своего бывшего саиса, Уроз загнул палец и стал перечислять:
– Калым.
Загнул другой.
– Дом.
Загнул еще одни.
– Деньги на обзаведение хозяйством.
И стал с беспокойством смотреть на Турсуна, а тот, положив ладони на трость, которая у него осталась, сидел, согнув могучую спину, прикрытую старой рубашкой, и не спускал глаз с задубевших, деформированных ступней.
– Ладно, – прервал наконец свои размышления Турсун. – Ладно… За калым я перед Аккулем поручусь. Дом? Есть мой дом в Калакчекане. А в качестве средств на хозяйство – мой земельный участок.
Впервые с момента, когда он ворвался в комнату, Уроз почувствовал неудобство от своего вторжения. И гордость его была тут ни при чем. Он уже не думал о ней. В нем заговорило чувство справедливости: отец отдавал ему слишком много.
– Калакчекан? – сказал он с вопросом в голосе. – А разве ты не собирался… когда-нибудь…
– Этот день еще не скоро наступит, сын мой, – воскликнул Турсун.
И никогда он не был так искренен. Думать об отставке? Ему? Когда Урозу так нужна его помощь. И еще долго будет нужна. До конца дней. Легко оперевшись на палку, он уже стоял, прямой, массивный.
«Какие у него молодые глаза», – подумал Уроз.
Тут тень пробежала по лицу старика.
– Видишь ли, дом в Калакчекане, – задумчиво сказал Турсун, – это дом…
Он остановился. Уроз, наверное, полагает, что его мать еще жива. По какому непростительному упущению он, Турсун, забыл сообщить сыну?.. Конечно, после возвращения Уроза произошло столько событий, с такой скоростью они сменяли друг друга…
– Должен тебе сообщить, – продолжил Турсун. – Твоя мать умерла…
– Мне сказал об этом Великий Пращур, когда я встретил его у кладбища кочевников, коротко ответил Уроз. – Мир праху ее.
– Мир праху ее, – медленно сказал Турсун. – Это была хорошая женщина. Да… Поистине она была лучше, чем я в моем безразличии думал о ней.
И хотел продолжить разговор о покойнице. Уроз нетерпеливо повторил:
– Мир праху ее.
И выпрямился на своих костылях.
– Так как, сынок? – тихо спросил Турсун.
– Я хочу сейчас же… передать Мокки… твои слова… – сказал Уроз.
– Давай, иди! – отвечал Турсун.
Уроз сделал было уже резкое движение в сторону выхода. Но повернулся на костылях и приложился губами к правому плечу отца. И ничто, никогда не было ему так дорого, не пахло так приятно, как этот кисловатый запах ночного пота и старости, шедший от рубашки отца.
Несколько размашистых шагов, и он был уже на пороге комнаты.
– Закрой, закрой как следует, закрой дверь, – крикнул испуганно Турсун. – И пусть Рахим ждет меня, как всегда.
IV ХАЛЛАЛ
Через неделю Осман-бай дал торжественный обед в честь своего чопендоза Салеха, который привез в Меймене приз Королевского бузкаши.
Эта отсрочка была продиктована необходимостью. Много времени ушло на рассылку сотен приглашений, в том числе в далеко расположенные селения. Надо было также собрать стада барашков, горы фруктов и овощей. А еще – созвать мясников, поваров, пирожников, подсобных работников. Вытащить из кладовых ковры, матрасы, подушки и бесчисленную посуду…
Утром в назначенный день Турсун, закончив обычный свой осмотр коней, отправился на место, где должно было проходить празднество.
Место это в имении прозвали Озером Почета. Говорят, что так назвал его дед Осман-бая. Во всяком случае именно при нем был выкопан и обложен кирпичом большой четырехугольный пруд, в который подавалась вода из нескольких арыков и ручьев. Тогда же по его приказу были высажены березы, буки и тополя, образовывавшие теперь высокие плотные аллеи, строго параллельные берегам бассейна. И вот уже на протяжении трех поколений на ухоженных газонах между деревьями и берегами пруда проходили самые важные в имении и даже во всей провинции празднества.
Когда Турсун подъехал, он увидел массу слуг, еще не закончивших украшать берега. Одни приносили охапки цветов и разбрасывали их в траве. Другие наполняли кумганы для совершения омовений. Третьи проверяли, правильно ли накрыты столы и постланы ткани. Были еще люди, которые, стоя по плечи в воде, убирали с поверхности пруда осенние листья и сухую траву. Это были последние приготовления. Все остальное было уже готово. Да так все выглядело роскошно, что Турсун, хотя и был привычен к подобного рода ритуалам, все же не смог удержаться от восхищенного цоканья языком в знак одобрения.
Вдоль всего водоема по периметру непрерывной лентой лежали ковры работы знаменитых ткачих Меймене. На этой мягкой дорожке возвышались, прикасаясь друг к другу, горы матрасов, одеял, подушек, яркие краски которых напоминали фейерверк. И это было еще не все. У подножия больших ветвистых деревьев виднелись многочисленные сиденья, лежанки, сложенные ткани. Там, в тени ветвей, в ожидании, когда спадет жара, гости Осман-бая должны были отдыхать, освежать себя фруктами или молочными продуктами, наслаждаться струями дыма из наргиле, вести беседы, предаваться мечтаниям.
«Никогда еще не было такого великолепного убранства, – подумал Турсун. – И правильно. Ведь никогда еще имению не выпадала такая честь. Королевский вымпел».
Огромная усталость внезапно легла на плечи Турсуна. Горечь наполнила рот его. Он подумал: «Почему, ну почему это не Уроза чествуют сегодня?» И услышал голос истины. «Если бы победил Уроз, ты бы околел от зависти, так же как погиб от твоей злости молоденький жеребчик». И сердце Турсуна простонало: «Но я уже не тот человек, и Аллах видит меня!» А голос истины ответил: «Не пытайся хитрить, о чопендоз, слишком старый для этой профессии. Ты стал другим человеком, – и Аллах прекрасно знает это – только лишь благодаря поражению Уроза, ниспосланному по твоему желанию».
В это время появился управляющий Осман-бая, прискакавший убедиться, что все в порядке и все готово для праздника. Седовласый, с розовым цветом лица, тучный, он был отличным наездником. Между ним и Турсуном существовала старая и глубокая дружба и уважение. Еще издали он крикнул:
– Мир тебе, старый друг!
– Мир тебе, друг всегдашний! – ответил Турсун. Поскольку эта встреча прервала его неприятные мысли, он добавил радостным голосом:
– И хвала, хвала твоим стараниям. Благодаря им Озеро Почета как никогда оправдывает свое название.
Всем была известна грубоватая прямота Турсуна и строгость его суждений. Поэтому, когда управляющий услышал столь редкую похвалу из его уст, глаза его, прячущиеся в складках жирного лица, загорелись, как светлячки. Ответ же его был, как обычно, прост и добродушен.
– Твоя дружба намного ценнее моих заслуг, – сказал он. – Когда любишь, как я, все, что приятно телу и радостно душе, то достаточно просто работать в свое удовольствие и чтобы приносить удовлетворение другим.
Они вместе обошли водоем, прошли вдоль деревьев. Все было в порядке.
– Ну, теперь ты спокоен, – предположил Турсун.
– Пока еще нет, – ответил управляющий. – Остается самое трудное…
Он вынул из чалмы и развернул очень длинную и очень узкую полосу бумаги, испещренную сверху донизу значками, и со вздохом добавил:
– Указать каждому из них его место.
– Поистине, поистине, – пробурчал Турсун. – Мир тебе.
Быстрым и решительным жестом, неожиданным при его полноте, управляющий схватил под уздцы лошадь Турсуна:
– О друг мой, – воскликнул он. – Раз уж судьба послала тебя на моем пути, помоги мне советами твоими.
– Я не умудрен в этих играх, – отвечал Турсун.
– Здесь не опыт важен, – настаивал управляющий. – Важно оценивать в людях вес их достоинства.
– Дай, – протянул руку Турсун.
Он взял бумажную ленту, отвел руку как можно дальше от глаз и стал расшифровывать написанные там имена. Закончив, перечитал их вполголоса. Почесал затылок. Перечитал еще раз. Почесал бороду.
Задача была и в самом деле из ряда вон выходящая. В отношении людей первого ряда все было ясно. Их места были закреплены древними обычаями и расположением мест на празднике. Так, сиденье Осман-бая находилось как раз посередине одной из длинных сторон четырехугольного бассейна. Напротив него, на другом берегу, располагался губернатор провинции Меймене. Слева от Осман-бая должны были сидеть три королевских распорядителя бузкаши. Справа от него – Салех, затем – Турсун и Уроз. Слева от губернатора места отводились старшему сыну Осман-бая, уже тоже ставшему главой семьи, и двум богатейшим и влиятельнейшим из гостей. Справа – генералу, командующему войсками провинции, начальнику конной полиции и вождю пуштунского племени, осевшего в этих степях еще в те времена, когда его земли захватили воинственные горцы.
Не было особых трудностей и с теми, кого пригласили за выслугу лет в имении или за их не очень тесные кровные узы. Всем этим кузенам двоюродных братьев по браку, племянникам шурина дядюшки, потомкам третьей жены дедушки по материнской линии (при условии, что их кошелек был столь же тощ, сколь и степень родства), главному садовнику и старшему саису, старейшему из пастухов и грамотнейшему из писарей, да еще музыкантам, певцам, приглашенным, чтобы ублажать слух гостей, предстояло тесниться вдоль обеих торцовых сторон пруда. Для них, как и для почетных гостей, место на празднике подразумевалось само собой. Как и в жизни.
Но между этими двумя слоями располагались еще другие, много других людей среднего социального положения, довольно зажиточных, занимающих должности не самого высшего класса, но благородного происхождения. Это были второстепенные земельные собственники, чиновники среднего разряда, богатые купцы из Даулатабада, настоящие члены семьи. Никто из них не имел явных преимуществ над соседом. Ничто не указывало явно, какое место он должен занять. И тут надо было определять безошибочно. Принимать во внимание все данные. Взвешивать все за и против. Оценивать богатство и родовитость, степень обладания властью и дружеские связи, влиятельность и моральные достоинства.
Турсун и управляющий, то останавливаясь, то двигаясь самым медленным шагом на какой только способна лошадь, передавали список приглашенных из рук в руки, взвешивали на весах своей мудрости, с одной стороны, общественную ценность личности, с другой – конкретный ранг. Их суждения в большинстве случаев совпадали. Если возникал спор, то он длился недолго. Однако Турсун чаще оставался молчалив и задумчив, чем это казалось необходимым его другу. Управитель в таких случаях восхищался скрупулезностью, обостренным чувством справедливости у старого чопендоза.
На самом же деле, гость, который в такие минуты больше всего занимал думы Турсуна, в подборе места для себя не нуждался. Оно было определено еще несколько дней назад: справа от него… Уроз… Но по мере того, как конь вез его вдоль ковров и подушек, как в его воображении гости уже рассаживались в том порядке, который он определял, его не покидало чувство беспокойства. Всех гостей, даже тех, кого он едва знал, он видел, видел, словно они уже пришли. Видел всех, но, несмотря на все свои усилия, не видел одного – Уроза. В его ряду только одно место было пусто – место Уроза.
«Что это, предчувствие?», – спрашивал себя Турсун. И пока он продумывал, взвешивал, оценивал мнимые или подлинные достоинства прочих, его не покидало беспокойство.
Он думал о том, что Уроз после того, как удалось выкупить Джехола, как бы стал незаметен в имении. На рассвете он уезжал на коне в степь. А возвращался уже в потемках, обессиленный, в пене и в поту. Затем отводил Джехола в конюшню, спал рядом с ним. А на следующий день – то же самое. И так каждый день… Вот и сегодня утром он тоже исчез…
– Ну вот, теперь наконец полный порядок, – воскликнул управляющий.
Эти слова относились к писарю, следовавшему за ним и записывавшему имена гостей и номера их мест. Затем он обратился к Турсуну:
– Мы вовремя закончили, друг мой. Посмотри.
По аллеям между высокими деревьями на лужайку уже выходили первые гости. Это были, как и следовало ожидать, наиболее обездоленные люди, желавшие показать своей поспешностью, как они ценят оказанную им честь.
– Ну ладно, – кивнул головой Турсун. – Мне еще надо осмотреть, что сделано для размещения лошадей.
Он посмотрел на блестящий шелковый чапан кремового цвета в зеленую полоску, который обтягивал живот его друга, и добавил:
– Да и сменить рабочую одежду на праздничную.
Как обычно, люди Турсуна отлично выполнили свою работу. За рядами деревьев и вдоль длинной линии коновязей все было приготовлено. Для коней заготовили горы фуража и огромные баки воды.
– Хорошо, – похвалил Турсун за работу старшего саиса. – Иди, Аккуль, переоденься к празднику. Старые слуги уже там.
– Можно мне высказать просьбу, о Турсун? – опустил глаза Аккуль.
– Давай, да побыстрей, – ответил Турсун.
– Очень прошу, позволь мне, чтобы придать моей семье больше почета, привести с собой Мокки, моего будущего зятя, – попросил старший саис.
Турсун подумал: «Одним больше, одним меньше, в этой толпе, на краю пруда…» И дал разрешение:
– Приводи.
Он подобрал уздечку и самым что ни на есть безразличным тоном спросил:
– Уроза видел?
– Сегодня утром он опять взял Джехола, – сказал Аккуль. – Но попозже обычного.
Турсун застал Рахима перед дверью дома. Бача, как обычно, поддержал ему стремя, но только сейчас его движения были совсем скованными. Прямой будто манекен, ое едва-едва смел двигаться из-за своей новой одежды, состоящей из вышитого кафтана и сандалий с загнутыми носками, надетыми им впервые в жизни. Кроме того, вокруг старой бедной тюбетейки была накручена еще чалма из переливающегося шелка – подарок хозяина.
Турсун препоручил коня Рахиму, а сам пошел в комнату. Там, на чарпае с гладким, как отполированная доска, покрывалом лежала, во всем величии и простоте, парадная одежда Турсуна, вычищенная, выглаженная, уложенная так, что были видны ее естественные складки. Натуральный шелк-сырец чапана, плотный и легкий одновременно, цвета – самого теплого, самого богатого – золотисто-коричневых осенних листьев был мягок, скромен и лишен каких-либо украшений.
«Это был приз за мой последний бузкаши. Прошло уже пять лет», – подумал Турсун. Происходило то в соседней провинции и, несмотря на свой совсем уже немолодой возраст, он вырвал козла, вырвал у самого Круга справедливости из рук Максуда Грозного, молодого гиганта из Мазари-Шарифа, в тот самый момент, когда тот уже был готов издать торжествующий крик «Халлал».
Надев этот чапан, Турсун вновь оседлал коня и велел Рахиму сесть на круп. Не оборачиваясь, спросил:
– Уроз не приходил?
– О, хозяин, я бы сказал сразу, – воскликнул Рахим. – А ты ждал его?
– Крепче держись за седло, – приказал Турсун.
И погнал галопом.
Он проскакал так мимо конюшен, коновязей, где теперь уже было много лошадей, и углубился в одну из аллей, по которым можно было выехать на лужайку перед Озером Почета. Остановился только у края ковра, расстеленного вдоль берега. Рахим спрыгнул, помог хозяину спешиться и застыл неподвижно.
– Ты что, не знаешь, куда отвести лошадь? – недовольным голосом спросил Турсун.
– Конечно… сейчас… отведу, – забормотал слуга.
И двинулся медленным, неуверенным шагом, словно под ним колебалась земля. Он то и дело закрывал и открывал глаза, не веря тому, что видел вокруг. Столько красоты, роскоши, людей, стоящих над другими людьми!
Пока Турсун отсутствовал, гости все прибывали и прибывали, причем каждая волна все выше и выше рангом. В отличие от первых гостей эти уже не оставляли коней у коновязей. Они подъезжали верхом на поляну, а конюшие из их свиты или саисы имения занимались лошадьми. Это движение коней, сильных и красивых, с яркими богатыми седлами, со сверкающими удилами, оживляло просторные лужайки между водной поверхностью и деревьями. Их хозяева горделиво и величественно шествовали к мягким сиденьям в тени деревьев и там предавались отдыху. Землевладельцы, богатые и знатные купцы надели лучшие свои чапаны, навертели самые красивые свои тюрбаны, тогда как высокопоставленные чиновники были одеты по-европейски, но их туалет дополняли тончайшего и мягчайшего каракуля шапочки кулах. А вот появились и чопендозы в новой для провинции одежде, в которой они участвовали в Королевском бузкаши.
«А Уроз? – задавал себе, не переставая, вопрос Турсун. – Ведь он же дал мне слово».
По мере того, как все новые и новые всадники подъезжали и толпа людей увеличивалась, ему становилось все труднее совладать со своим беспокойством. Когда нетерпение подкатывало к самому сердцу, Турсун сердито говорил себе: «Да успокойся ты, старик! Урозу, как инвалиду, все прощается. Еще успеет. Ну не допустит он такого оскорбления благопристойности, не позволит себе нарушить приличия. Еще есть время…»
А время бежало быстро. Уже братья и сыновья Осман-бая соскакивали со своих коней и приветствовали гостей от имени хозяина имения, который, согласно правилам, ожидал на пороге своего дома, чтобы встретить, когда они покажутся, как и положено, в последний момент, гостей самого высшего ранга.
Время шло. Но вот и люди, имевшие привилегию появляться позже других, были уже все на местах. И тут за деревьями послышался тройной клаксон автомобиля. Открытая, широкая и длинная машина огненно-красного цвета выехала из-за деревьев. На заднем сиденье Осман-бай и губернатор провинции сидели по обе стороны от Салеха, почетного гостя. Впереди, рядом с шофером, сидел изможденный и почти слепой старик, одетый в лохмотья: самый почитаемый в Меймене святой человек. А рядом с ним – вождь племени пуштунов, которых великий эмир Абдуррахман, после победы над ними, поселил в степи. У него была мощная шея, могучий торс, кудрявая борода, а на ремне через плечо висело инкрустированное ружье, и черный кафтан перекрещивали от плеча и до колен патронташи. Вплотную за автомобилем подъехала верховая группа, в том числе два личных слуги Осман-бая, секретарь губернатора и еще один пуштун, очень высокий, очень стройный и тоже с ружьем. Глаза его нагло и вызывающе разглядывали все вокруг и, казалось, надсмехались надо всем и надо всеми. Он предоставил своим спутникам кинуться к дверцам красной машины и, хотя был, судя по всему, и сам у кого-то на службе, бросил поводья своего коня саису.
Осман-бай, в одежде и тюрбане из китайского шелка кремового цвета с золотым отливом, величественно вышел из автомобиля. Губернатор Меймены в темном костюме, с серым галстуком и шапочкой из каракуля, тоже с достоинством покинул машину. А вот Салех, едва освободившись от их контроля, вскочил с ногами на сиденье и так стоял, оглядываясь по сторонам. Все видели его прямую фигуру с шапкой из волчьего меха, а на его спине – словно звезду – белую шкурку новорожденного ягненка. Его встретил шепот одобрения, а когда Салех поднял над головой вымпел, выигранный на королевском турнире, шепот перерос в мощный гул. Одним прыжком выпрыгнул он из машины, и высокие каблуки его коротких сапожек утонули в мягких коврах.
Турсуну хотелось плеваться… Турсун переживал за свою профессию. За великую игру, которой отдал всю жизнь. За свою провинцию. Он подумал об Урозе, о его молчаливом гоноре, и ему стало легче. Но и тяжелее… Уроз не пожелал явиться, тогда как хозяин имения был здесь.
Осман-бай обратился к Турсуну с почтением и дружеским расположением:
– Оставайся с нами, наш славный Главный Конюший и прославленнейший из чопендозов… Пойдем попробуем вместе, в прохладной тени, что-нибудь приятное, после чего перейдем к банкету.
Он уселся между губернатором, святым человеком и вождем пуштунов, на ожидавшие их подушки, как раз посередине аллеи деревьев, посаженных к востоку от пруда. Турсун присел возле них. А длинный, худой иностранец со смеющимся нахальным взглядом встал, опершись о дерево за спиной своего вождя с патронташами. Слуги бегом поднесли кислое молоко, пирожные и фрукты. И пока чиновники подходили один за другим целовать плечо Осман-бая, Турсун своими дальнозоркими глазами в отчаянии прощупывал все ряды гостей до последнего.
Так он увидел в глубине Мокки в новой одежде, с рукой, лежащей на плече будущего тестя. Лицо его расплылось в улыбке. «Он мечтал стать чопендозом и, видит Пророк, мог бы им стать, – подумал Турсун. – Хотел убить своего хозяина, чтобы захватить красавца-скакуна и предаться разгульной жизни со шлюхой… и чуть было не добился этого.
А вот теперь все у него устроилось, скоро будет семья, и он всем доволен… Ему хватило одной переделки, чтобы раз и навсегда отделаться от всех своих демонов… А вот Уроз…»
Турсун поймал себя на том, что лица, которые он разглядывал, превратились в сплошную одинаковую массу. Это было помрачением не зрения, а ума. «Как, – спрашивал себя Турсун, – неужели я вдруг захотел для Уроза такой же судьбы: домик, кусочек землицы, жена на кухне, сопливые детишки и смех счастливого дурачка?» Он вспомнил волчью усмешку на неумолимых и ненасытных губах сына и почувствовал, как бальзам гордости за него, попав в его кровь, взбодрил ее, заставил веселее бежать по стариковским жилам. У Уроза никогда не будет обеспеченной старости, безопасной жизни, уюта, тихой норки.
Турсун оперся лбом о кулак. А не за эту ли неистовую жажду жизни он так ненавидел Уроза? Жизни, которую он так сильно любил? Или, может, он всегда любил его? Не желая признаваться себе в этом? И одновременно ненавидел, потому что втайне боялся за себя, опасался, что придется много страдать?
Страдать, как вот в эту минуту?
Ну где же сейчас может быть Уроз? Что он делает?
«Вот он!» – чуть было не крикнул Турсун.
Он выпрямился на подушках, чтобы скорее увидеть его, и тяжело опустил свое тело. Всадник не был Урозом… Просто гонец с посланием. Родственник Осман-бая сообщал, что в последний момент болезнь с сильным жаром помешала ему приехать, и он просит извинить его за то, что он не сможет приехать.
Турсун присмотрелся к теням, отбрасываемым большими деревьями. Они удлинялись и приближались к водной поверхности. Но праздник не должен был начаться раньше, чем берега не покроются тенью и не спадет, таким образом, жара. А до того времени, может быть…
«Лишь бы, лишь бы никто до этого не заговорил об Урозе», – молил бога Турсун.
Словно в ответ на это пожелание – было ли это делом случая или распорядился Осман-бай? – музыканты начали играть. Жаловалась домбра… ворчал бубен… нежно пела флейта… и люди, примолкнув, стали зачарованно слушать. В этой стране, все, к какому бы классу или племени человек ни принадлежал, испокон веков страстно любили музыку. А в тот день ее исполняли люди знаменитые, мастера своего дела, известные на террасах в чайханах, в крытых улочках базаров, во дворах богачей и бедняков, желанные гости везде, как в дни траура, так и в дни праздников. Компанию им составлял один старик, бывший пастух, отличавшийся тонким слухом и отличной памятью.
Турсун слушал главным образом его. В его голосе он слышал шум ветра в высокой полыни и печальные, как дым кочевых стоянок, напевы. На Турсуна уже снизошел покой, на его чувства, на его мысли, на его сердце, когда зазвучала старинная мелодия, самая старая, может быть. Начала ее флейта, подхватила домбра, потом бубен, наконец голос, и она превратилась в песню, песню, которую из поколения в поколение из уст в уста передавали бесчисленные всадники и караванщики и в которой пелось о бесконечных приключениях, случающихся на бескрайних просторах.
И вот сейчас этот старик-пастух, в который раз нанизывал на нить мелодии баллады, рассказы, басни и сказки. Массивная голова Турсуна с лицом, изрытым морщинами, тихо, тяжело раскачивалась в такт мелодии.
Вдруг Турсун почувствовал, что шея его застыла неподвижно и стала, как деревянная. Он уловил в песне имя Уроза. Но этого же не могло быть. Видит Аллах, что этого никак не могло быть. Имя Уроза среди героев легенд! Уроз, увенчанный славой на века. Наверное, это ему, Турсуну, померещилось, наверное, произошел какой-то сдвиг в его сознании, в его мозгу, наверное, он подпал под действие чар…
Но вот он опять услышал имя своего сына… И узнал даже события, про которые говорится в строфах… Возвращение Уроза… его приключения… его справедливый суд. Нет, это у него явно началось безумие… он сходит с ума…
Но почему же тогда губернатор, наклонившись к Осман-баю, тихо говорил ему: «Слух дошел и до города». А Осман-бай отвечал: «Клянусь, это произошло именно так».
При этом ни люди из имения, ни чопендозы из округи не обнаруживали никаких признаков удивления. Некоторые даже, опережая мелодию, заранее декламировали текст, который певец затем напевал!
Турсун стал искать взглядом Салеха и, лишь увидев его лицо, лицо человека, которого только что обокрали и лишили славы, поверил в удивительную судьбу своего сына. И он воскликнул про себя: «Уроз! Ну почему нет тебя здесь! Ты теряешь лучший день в твоей жизни, не чествуешь этот день!»
Между тем тень достигла берегов пруда. Осман-бай взял Салеха за плечо и пошел с ним на почетное место, чтобы объявить о начале праздника.
* * *
Когда люди расселись по-турецки на подушках, то на какое-то время все, от последнего бедняка до Осман-бая, забыли о своих прерогативах, амбициях и заботах и стали любоваться красотой места, восхищаться тем, как все вокруг было обустроено, разглядывать других гостей. Где бы они ни сидели, они все имели возможность видеть зеркало водной глади, переливающейся цветами радуги в косых лучах солнца, видели распластанные пестро раскрашенные ковры и подушки, словно устилающие путь в Рай и образующие диваны, кушетки и прочие места отдохновения, достойные самих спутников Пророка. Одежды гостей соответствовали пышности убранства. Гладкие и цветастые персидские шелка. Великолепнейшие шерстяные ткани, сотканные из шерсти степных тонкорунных овец. Индийская парча. Тканей на каждом было так много, что можно было бы щедро одеть несколько человек из того, что было на одном. А ткани были такие разные, с таким количеством различных рисунков, мотивов, орнаментов, расцветок, оттенков, что из сотен чапанов, собранных в этом месте, не нашлось бы и двух одинаковых. Чапаны цвета нефрита или цвета молодых побегов, розовые, вишневые или малиновые, цвета зари или лазури, цвета осенних листьев или топаза, пурпурные, багровые, алые, серо-голубые, цвета слоновой кости. Гладкие, полосатые и рифленые в полоску. С серебряной нитью, с золотой. В немыслимых разводах. И это буйство драпировок украшали монументальные тюрбаны-цветы. А среди этой роскоши и неги там и сям виднелись короткие куртки чопендозов и их шапки из волчьего меха.
При этом даже самый бедный, самый обездоленный, самый убогий из гостей не чувствовал груза своих горестей и несчастий, не чувствовал благодаря ощущению, что он является частицей всей такой вот роскоши и силы, благодаря иллюзии, что и он отражается в них. А тем, к кому судьба была благосклонна, казалось, что их богатство, могущество и удача поддерживаются и приумножаются богатством, могуществом и удачей всех других людей и достигают таких высот, каких сами они еще никогда не достигали.
А уж кто был больше всех опьянен самим собой на берегах Озера Почета, так это Салех. Его тщеславию праздник предоставлял неповторимую возможность. Почему такое торжество? Почему такое великолепие? Да из-за него, из-за Салеха. Что за звезда собрала сюда эту невиданную в провинции толпу богачей и чиновников? Этот вот яркий вымпел, что стоит перед ним, красуется на шитой золотом подушечке из голубой парчи, стоит на расстоянии вытянутой руки. Его руки, руки победителя, триумфатора, непобедимого, единственного! Салеха!
Пока гости расправляли складки своих чапанов, закатывали рукава, подставляли ладони под струи воды, которую лили слуги из драгоценных кувшинов, Салех не переставал гладить подушечку со своим трофеем, то отодвигая ее на толщину одного пальца вперед, то назад, чтобы не переставал трепетать на легком ветерке во славу его, Салеха, торчащий из нее флажок.
Сидя рядом с Салехом, Турсун смотрел прямо перед собой, поверх пруда, поверх голов, поверх деревьев, не шевелясь и не мигая. Он не видел Салеха и его подушечку. Как не видел он и никого другого. И ничего не чувствовал. Ничего, кроме страдания всего его тела от пустого места, от этой дыры, этой открытой раны справа от него. Уроза здесь не было! Уроза больше не было!
Внезапно вселившаяся в Турсуна уверенность в том, что Уроз умер, была так сильна, что он готов был бы поклясться на Коране, что так оно и есть. Как это человек, о котором слагают легенды, может слушать их до конца дней своих, сидя, как инвалид, у камелька! Турсун так хорошо понимал и чувствовал своего сына, что сам был Урозом. И скакал на своем любимом коне, чтобы уснуть вечным сном в степи, как великие полководцы прошлого, чьи кости под разрушенным курганом смешались с костями их скакунов.
Тем временем с каждой стороны пруда появились вереницы слуг. Они принесли из походных кухонь, скрытых за деревьями, огромные пирамиды желтого, зеленоватого, розового, сиреневого риса, плова, приготовленного двадцатью различными способами, принесли целые туши поджаренных ягнят, шампуры с бараньим шашлыком и котлеты из баранины, фрикасе из цыплят, острые и сладкие соусы. Все слуги выстроились в ряд и, вытянув на руках подносы, ждали знака Осман-бая, чтобы устремиться к гостям предлагать им яства.
Тут Салех не выдержал. Он внезапно повернулся к Турсуну и спросил его:
– Что, твой сын так болен, что даже не может поприветствовать Королевский вымпел? А мне говорили…
Как раз в этот момент Осман-бай хотел подать знак прислуге. Но не успел, как не успел закончить свою фразу и Салех.
Им помешало громкое улюлюканье. Всем гостям приходилось слышать такое в степи. Но здесь крик был таким удивительно пронзительным, оглушительным, безумным, что, казалось, он проник до самого мозга их костей. Воздух задрожал, и по воде побежала волна. Из-за деревьев в диком галопе, словно распластавшись над травами, вылетел конь.
– Джехол, – прошептал Турсун.
Седло было пусто: «Уроз пожалел коня, – подумал Турсун. – А себя не пожалел».
Расстояние между деревьями и прудом было слишком мало для такой дикой скачки.
– Бешеный конь, – закричали конюшие. – Лошадь понесла. Сбросила хозяина.
Некоторые гости испугались. Это были городские торговцы. Задергались их выкрашенные хной бороды, рукава чапанов, тюрбаны. Им захотелось встать.
– Сидите, сидите, – посоветовали им люди, привычные к лошадям. – Пусть конем займутся чопендозы.
Трое из них, ближе других оказавшиеся к дорожке, по которой скакал Джехол, встали, готовые схватить коня за узду, остановить его. Но когда он подскакал поближе, то, несмотря на всю свою опытность и храбрость, они прыжком отступили. И опять послышался крик, казалось, исходивший из груди Джехола. А он, не останавливаясь, развернулся и на той же скорости кинулся вдоль берега пруда. И тогда люди, сидящие на берегу, увидели человека, прижавшегося к животу жеребца.
Но едва они успели – кто вскрикнуть, кто простонать, кто вздохнуть, как человек исчез. Но по той скорости и точности движений, с какими он перебрался на невидимую сторону коня, и друзья и недруги узнали его.
– Уроз, – сказали всадники из Меймене, Каттагана и Мазари-Шарифа.
– Уроз, – повторили владельцы больших конюшен.
– Уроз, – шептали слуги Осман-бая.
– Уроз… Уроз… Уроз…
И со стороны, и изнутри это имя колотилось в сердце Турсуна, билось в его висках… Слава Пророку, Уроз был жив… Да еще как жив! Вот, значит, к чему они готовились втайне, он и Джехол, в степи, с рассвета до заката. К тому, чтобы доказать, что великий чопендоз, потеряв ногу, остается, когда его зовут Уроз, великим чопендозом. И Турсун понял, чего стоило, день за днем, час за часом дрессировать коня, добиваться единства безногого наездника и великолепного скакуна. Дьявол! Все предусмотрел, рассчитал по минутам, чтобы явиться в последний момент, как привидение, как молния. Прав ли он был, что вот так приостановил торжественный обед, перепугал гостей и хозяев, бросил правила приличия, достоинство и благопристойность под копыта своего коня? Турсун резко встряхнул головой. Он и сам не знал. И не хотел знать. Он во всем ошибался, и как ошибался…
А за его спиной в этот момент нарастал гул галопа. «Он уже на этой стороне пруда, – подумал Турсун. – Не хочу смотреть». Однако возгласы, взметнувшиеся вокруг, заставили его оглянуться. Он увидел, как Уроз с волчьей шапкой на голове и в одной тонкой рубашке, с плеткой в зубах рывком выскочил из седла, опустился на единственную свою ногу и, держась рукой за луку седла, полетел вслед за Джехолом, вместе с Джехолом. Тревога и гнев охватили Турсуна. «Дурак несчастный! Сумасшедший, – подумал он. – Сломает себе вторую ногу. Будет вообще на колесиках ездить, а не на костылях ходить». А Уроз уже был в седле, и конь скакал вокруг пруда. «Сколько было падений в степи, сколько раз Джехол подбирал его?» – подумал Турсун.
И опять дикое улюлюканье разорвало воздух. Уроз потряс шапкой, бросил ее перед собой, сполз с седла и появился на другой стороне коня с шапкой на голове. Многие зааплодировали.
Потом, он казалось, иссяк, лег на холку Джехола, зарыв лицо в гриву, и понесся галопом вдоль пруда, ничего больше не предпринимая. Один круг. Другой… Третий.
«Остановись, остановись! – мысленно говорил сыну Турсун. – Ты сделал все, что можно сделать. Больше уже нечего показывать и не надо пытаться. Уходи, как пришел. Ту уже все портишь, разрушаешь впечатление…»
И в самом деле, гости, один за другим, отвернулись от этого зрелища. Чары на них уже перестали действовать, и они смотрели в другую сторону. Начались перешептывания. Осман-бай за спиной Салеха наклонился к Турсуну и спросил вполголоса:
– Твой сын покажет еще какой-нибудь сюрприз?
Турсун уже приготовился было сказать: «Не думаю», но неожиданно для себя ответил:
– Самый лучший… Разумеется.
Тут Салех заметил ему:
– А где же, о Турсун, мудрость? Ты же лучше нас знаешь, что Уроз исчерпал все свои возможности.
– Подожди, и ты увидишь, – возразил ему Турсун.
Его ответ показался и ему самому не очень убедительным и правдоподобным. Он уже не понимал, не чувствовал, чего хочет его сын. Салех пожал плечами, погладил подушечку с королевским вымпелом и с коротким смешком повернулся к Осман-баю.
А тем временем среди гостей нарастало раздражение против Уроза. Одни сочли, что оскорблено их достоинство. Другим не терпелось отведать вкуснейших блюд, запахи которых доносились с подносов. Третьи, наконец, просто перепугались. Уроз скакал теперь так близко от сидений, в которых они устроились, что ветер от скачущего Джехола уже достигал их. Одно неловкое движение, и он мог задеть их, поранить. Они все громче и громче говорили об этом.
Осман-бай, за спиной Салеха, еще раз наклонился к Турсуну, уже не улыбаясь. Он быстро проговорил:
– Уроз вне себя. Виновато его несчастье. Ты должен…
– Подожди, подожди, сейчас увидишь! – вскричал Турсун.
Эти же слова он говорил Салеху за минуту до того, но на этот раз в них слышалось больше искренности, уверенности. И раскаяния. Как мог он, Турсун, допустить хотя бы тень мысли, что Уроз, опустошенный и иссякший, скачет просто так. Как это он не догадался, старый дурак, что Уроз сознательно сокращает радиус своих кругов, как делают ястребы и степные коршуны, прежде чем кинуться на добычу.
Осман-бай с сожалением покачал головой и сказал решительно:
– Слишком поздно, друг мой. Если ты его не остановишь, я буду вынужден…
Закончить хозяину имения не удалось. Все гости вздрогнули. Над всеми разговорами и осуждающими возгласами вдруг раздался гром барабана. Осман-бай сдвинул брови. По чьему приказу этот музыкант?.. Но музыкант тут был ни при чем. Его инструмент держал длинный худой незнакомец с ружьем на ремне и со смеющимися глазами, который был до этого телохранителем вождя пуштунов. И удары его в барабан не имели ничего общего с привычными ритмами степняков. В его руках большой барабан обрел новый голос, глубокий, страстный, который горячил кровь, звучал как песня радости и вызова судьбе. И вдруг раздался резкий, металлический крик, ритмичный, хмельной и опьяняющий, крик, обращенный к Урозу:
Хайа! Хайа! Вспомни про Хайа! Об однорогом баране Хайа! Хайа! Хайдал с тобой! Хайа!Тут Уроз, не останавливая галопа, оторвал лицо от гривы и принял вертикальное положение. Турсун заметил волчью усмешку на лице сына. Он знал, что игра скоро закончится. И ему хотелось, хотелось до боли, только одного: помочь Урозу. Ему вспомнился тот незабываемый эпизод, когда его конь удивительным прыжком взлетел с ним и с обезглавленным козлом, на крышу степного домика, окруженного разъяренными соперниками, и когда он услышал голос-просьбу Уроза: «Отец! Чем могу помочь тебе?» И вот сейчас в сердце своем теперь уже он кричал: «Сын мой, сынок, чем я могу тебе помочь?»
В этот момент Уроз проносился по полоске газона, расположенной за длинным рядом сидений, где сидели в центре Осман-бай, Салех и Турсун. И словно услышав призыв отца, Уроз крикнул изо всех сил:
– Отодвинься, о великий Турсун. Отодвинься вправо!
Не раздумывая, Турсун оперся руками в ковры, поднял свое тело со скрещенными ногами и одним толчком перебросил его вправо, на пустовавшее место.
Не успел он проделать это, как горячее дыхание Джехола обдало ему шею и нечто, похожее одновременно и на большую лиану, и на человека, возникло в том же самом месте между Салехом и им и протянулось к парчовой подушечке.
Турсуну показалось, что движение и время вокруг него застыли навеки, в то время как мысли в его голове проносились, множились, искрились. Так вот что задумал Уроз! Самый трудный и опасный акробатический трюк на коне. Когда, держась одной ногой в стремени, чопендоз откидывается в сторону, вытягивается, зависает в воздухе, как бы плывет в нем, а затем вырывает у противника тушу козла и вновь почти немыслимым усилием возвращается в седло.
«На этом как раз он и сломал себе ногу во время Королевского бузкаши, – подумал Турсун. – Да и к тому же тогда для удержания равновесия у него была вторая нога, целая и невредимая. Теперь же – это же невозможно – он сломает себе еще и вторую ногу… Идиот! Тщеславный дурак! Клоун!» Но сколько Турсун ни ругал сына, он не мог по-настоящему разозлиться на него. Он знал, что Уроз идет сейчас на ужасный риск вовсе не для других. И тут тоже он делал это, чтобы превзойти самого себя. И Турсун стал умолять: «Демон, о демон огня, овладевший моим сыном, пусть в этот день Пророк будет с тобой заодно».
Лиана шевельнулась, вздрогнула, хлестнула Турсуна по боку. Он подумал: «Кость переломлена». И увидел, что слева от него возникла пустота… чудесная пустота. А за спиной – шум галопа, прекрасного галопа… Он посмотрел на парчовую подушечку… На ней ничего не было… Турсун откинулся назад. Уроз удалялся галопом с королевским вымпелом над головой.
Над толпой повисла тишина. «Что это, – подумал Турсун, – восхищение, неверие собственным глазам, возмущение, шок от полученного оскорбления?» Казалось, эту тишину никто и никогда не сможет нарушить. В какую сторону, по каким аллеям Уроз собирается умчаться? В каком тайнике, в какой норе хочет он спрятать трофей? Салех начал было движение, чтобы привстать. Но остановился, не кончив движения.
Уроз, доехав до конца пруда, исчез за деревьями и развернулся. Разогнал Джехола. И ветер дикой скачки придал победное биение и жизнь кусочку ткани в его руке.
– О Боже, чего он еще хочет? – прошептал Турсун.
Через мгновение и он, и все гости узнали это.
Подскакав к оставленному пустым месту, Джехол встал на дыбы. Вдоль гривы поднялась фигура Уроза. В руке его затрепетал вымпел, вздрогнул, и заточенное основание древка вонзилось в центр парчовой подушечки.
И тут, впервые в своей жизни, Турсун потерял над собой контроль. Он поднял к небу огромные ладони и громким, незнакомым для себя голосом закричал:
– Халлал! Халлал!
Все чопендозы подхватили клич. А за ними и другие гости. А барабан в руках Хайдала грохотал, пел… И вождь пуштунов разрядил в небо ружье.
Уроз же соскользнул на землю, легонько отодвинул Турсуна влево и уселся на место, которое так долго его ждало.
V ПРОБУЖДЕНИЕ ТУРСУНА
В долинах Меймене начинался рассвет. Турсун лежал на спине, словно грубо отесанная колода, и спина его занимала всю ширину чарпая.
Когда он открыл глаза, мутно-серый свет за окном был точно такого тона, какой встречал его первый взгляд каждое утро. «Ни минутой раньше и ни минутой позже», – подсказало ему зрение. Просыпающееся сознание еще не освободилось от остатков сновидений, таких же смутных, как и полутьма в спальне.
Видеть он мог только коричневую неровную поверхность потолка. Как обычно. У изголовья стояли две палки и темными линиями ограничивали его мир справа и слева. Как обычно. Дверь во двор тихо открылась. Это Рахим пошел к источнику за водой для омовений. Как обычно. А он, Турсун, был зажат тисками своего тела и должен был ждать, ждать, долго-долго ждать, пока одна за другой не отпустят его гайки заржавевшего тела. Все было так, как обычно по утрам.
И все же еще в полусне, в полутьме, где плавало его сознание, он ощущал легкое недомогание. Ему казалось, что вокруг него, в нем самом витает некий обман, какая-то фальшь. Освещение, все предметы, бача, его собственное тело, хотя и находились на постоянном месте в положенное время, но были уже не тем, чем прежде. Им не хватало устойчивости, равновесия, надежности… Турсун вдруг отчетливо осознал. Не хватало Уроза…
Напрягая все свои силы, всю свою волю, Турсун попытался выпрямиться. Ему не подчинился ни один мускул, ни одно сочленение. Единственной реакцией на это огромное усилие стало бешеное сердцебиение. Ему стало противно. Не из-за своей немощи. Он привык переносить ее без жалости и сочувствия к себе. Ему просто стало стыдно оттого, что, зная себя так хорошо, он уступил заведомо бесполезному желанию. Гнев, боль, заблуждение взяли верх над терпением и мужеством настоящего мужчины, обязанного терпеть то, что приходится терпеть.
Турсун задержал дыхание, пока у него не закружилась голова, пока он не оказался на грани потери сознания. Так ему удалось погасить в себе мысли и чувства. Когда он вновь вздохнул, к нему вернулись ясность мысли, мудрость, а соответственно, и гордость.
«Отныне так будет всегда, несмотря ни на что», – подумал Турсун.
Он вспомнил вчерашние бурные эмоции, превратившие его в игрушку страстей. Все эти ошибки, страхи… отчаяние… безумство… «Я не принадлежал сам себе, – подумал он. – Вся моя жизнь перешла в Уроза». Да, может быть, вчера это было простительно… На пороге глубокой старости такое сильное, такое новое чувство… Но теперь он открыл его, признал. Значит, больше уже не имел права вести себя неприлично, идти на поводу у внутреннего смятения.
«Настоящим мужчиной может считать себя только тот, – подумал Турсун, – кто спокойно воспринимает события, на которые он не в состоянии повлиять. Теперь я вижу, что задача оказывается намного более сложной, когда речь идет о любимом человеке. Так и пускай. Для счастья и переживаний за родного человека тоже существует закон. Они тоже составляют часть того, что освещается солнцем и покрывается ночью».
И Турсун поклялся принимать все, что бы ни случилось, сдерживать, укрощать движения своего сердца, управлять ими. Поклялся перед собой и перед Хозяином Вселенной. После этого он позволил себе подумать об Урозе. И из темницы тела своего мысленно оценил поведение сына с таким же спокойствием, с каким следил бы с высоты огромной башни за поведением совершенно незнакомого ему человека.
Банкет подходил к концу. Все вернулось в привычную колею. Было очень много съедено. Губы, бороды, а у некоторых и отвороты чапанов блестели от жира. Над прудом, над гостями плавали запахи пряностей, жареных барашков, шашлыка, кислого молока. Губернатор Меймене произнес речь во славу Салеха. За ним – Осман-бай. Затем распорядитель бузкаши всей провинции получил из рук чопендоза-победителя королевский вымпел. Он должен был хранить его до следующего года, а потом отвезти в Кабул, на новые состязания.
Кроме Турсуна, никто больше не обращал внимания на Уроза. А он сидел очень прямо на подушке, и лица его нельзя было разглядеть, потому что голова его была закинута вверх и обращена к небу, где начали появляться первые признаки вечера: поплыли легкие небесные ладьи, окаймленные золотом, подсвеченные коралловыми лучами опускающегося солнца.
Турсун задумался, почему память его с такой силой, с такой яркостью сохранила именно этот момент дня. Неужели у него появилась надежда, что Уроз, после своего подвига, обрел, наконец, безмятежное сознание и что теперь они оба будут до конца его дней наслаждаться покоем? «Неужели же, когда потребность верить в невозможное очень велика, то можно даже в моем возрасте еще надеяться на невозможное?» – подумал Турсун.
Тьма постепенно рассеивалась. Более отчетливо проступили детали потолка. Он закрыл глаза, чтобы не мешать внутреннему взгляду…
Лицо Уроза было по-прежнему устремлено вверх. Он не заметил, как к нему подошел спутник вождя пуштунов, иноземец, в чьих руках так необычно пел и плясал барабан.
Этот человек совсем не нравился Турсуну. Не представлялось возможным определить его профессию, состояние, положение в обществе. Бродячий музыкант? Нет. На нем висело ружье воина. Телохранитель? Тоже нет. Слишком фамильярен он был с предводителем племени. Владетельный господин? Но чем он владел? В нем была вольность поведения, беззаботность, и одет он был как придется. Бродяга? Тогда на что он жил? Непринужденность в осанке, горделивая посадка головы, смелое выражение лица говорили, что это – не нищий, не паразит. И еще эти смеющиеся глаза, которые раздражали Турсуна, потому что в них сквозила непочтительность, потому что они не щадили ничего и никого. И почему он счел себя вправе, во время скачки Турсуна вокруг пруда, пропеть воинственный клич, похожий на условный знак между сообщниками? И почему при виде его расслаблялось и веселело лицо Уроза, до того такое напряженное и хмурое?
Турсун вспомнил о пережитом тогда беспокойстве. Что это было? Предчувствие? В конце концов, какое это имело значение?
Человек этот присел возле Уроза на корточки. Тот положил ему руку на плечо и сказал:
– Как я рад, Хайдал, как приятно тебя видеть здесь!
И иноземец ответил:
– Я же тебе говорил, чопендоз, что ты всегда встретишь меня там, где можно вкусно поесть, поразвлечься и неплохо заработать.
Они стали говорить о бое баранов, о единороге, о свадебном кортеже. Затем Хайдал стал говорить так тихо, что Турсун не мог расслышать. Когда он кончил, глаза Уроза горели в наступивших сумерках, как два светляка, а с лица не сходила волчья усмешка.
– Клянусь Пророком, – что-то пообещал он ему, – можешь рассчитывать на меня!
Хайдал обошел пруд и приблизился к предводителю пуштунов, сидящему по другую сторону водоема, как раз напротив Турсуна. Он быстро что-то сказал ему на ухо. И вождь племени поприветствовал Уроза широким радостным жестом. Затем он встал, как и другие гости, чтобы подойти к Осман-баю и попрощаться с ним.
А тот, еще до того, как люди стали прощаться, сказал Турсуну:
– Когда все разойдутся, мы закончим праздник под моей крышей, среди своих.
Турсун поблагодарил, как того требовал обычай. Уроз промолчал. Турсун спросил вполголоса:
– Ты чего молчишь?
Уроз устремил на отца неподвижный, непроницаемый взгляд человека, вопрошающего свое будущее, и ответил:
– Меня здесь уже не будет… Я сейчас уезжаю с вождем племени. Скоро начнется сезон бузкаши Трех провинций… Я выиграю их для него… Он заплатит по-царски. Все ризы достанутся мне… Он никогда еще не выставлял никого… И полностью мне доверяет… Несмотря на увечье… А вернее – благодаря ему.
Вождь пуштунов, подходя к Осман-баю, прошел мимо Уроза и улыбнулся ему в измазанную жиром бороду. Уроз этого не заметил. Он говорил в это время Турсуну:
– Всегда были знаменитые чопендозы. Ты – один из самых великих. Но слышал ли ты когда-нибудь о таком победителе, у которого не было ноги? Так вот теперь один такой будет, и имя ему Уроз. А на будущий год, клянусь Пророком, он отберет королевский вымпел, как сегодня.
Уроз замолчал, переводя дыхание. Тут раздался другой голос. Хайдал, словно продолжая речь Уроза, сказал, неожиданно встав рядом с ним и положив руку ему на плечо:
– А в жаркое время года, когда коням дают отдохнуть, мы будем ездить с базара на базар, участвовать в боях баранов и верблюдов, будем ездить с праздника на праздник – свадьбы, рождения, похороны.
Предводитель пуштунов возвращался верхом. Урозу саис подвел Джехола. Они поехали рядом. За ними шел Хайдал на своих длинных худых ногах, привыкших к бесконечным переходам.
Заря была прохладной. Тело Турсуна замерзло под несколькими одеялами. Но лицо его горело нездоровым жаром. И сейчас, в постели, его вновь охватил стыд, как в тот момент, когда Уроз уезжал. Внезапный и поспешный отъезд… Этот предводитель, мешком сидевший в седле… А главное – его спутник, подозрительный тип, вооруженный бродяга… Какую игру он затеял?.. Посредник в каких комбинациях? Какой позор для Уроза и всех его родственников!
Турсуну захотелось рассеять все эти видения, и он открыл глаза. В комнате посветлело. Над Турсуном нависал его потолок, с привычными трещинами и пятнами. После стольких и стольких пробуждений, когда он видел только эту потрескавшуюся штукатурку, он распознал в ней зеркало, в котором отражалась его старость с изборожденным морщинами лицом. Это отражение заговорило и сказало Турсуну:
– Чем ты так озабочен? О ком ты сейчас думаешь? Об Урозе или о ком-то другом? Какое преступление он совершил? Кому навредил? Только себе. Да и уверен ли ты в этом? Неужели ты действительно думаешь, что после того, что он осмелился проделать вчера, будет лучше, если он останется в этих местах? Он совершил подвиг. Но и устроил скандал. Хозяин имения никогда не забудет этого. Так же как и другие баи, и ханы, ему подобные.
Турсун перестал глядеть на потолок и искать там наверху совета у своего двойника. Теперь он стал думать уже сам. Один лишь пуштунский вождь протянул руку и дал шанс Урозу… И даже не он сам… А другой… Голенастый… Барабанщик… Бродяга с инкрустированным ружьем… Хайдал, подсказавший своему шефу удивительное предложение…
«Как знать? – подумал Турсун. – Может быть, через сотню лет будут рассказывать о небывалом одноногом чопендозе. А я, что я нашел для своего сына? Пару костылей да место в конюшне!»
Свет уже вибрировал вокруг Турсуна настоящей зарей. Он представил себе, как просыпается Уроз у пуштунов, жителей горных долин и перевалов, людей со своими обычаями, со своими лицами, языком, лицами пришедших из-за Гиндукуша и оказавшихся в этой провинции. Они сумели укорениться на равнине, в ковыльной степи. А вот у Уроза, такого же сына степей, как горькая полынь, нет ни очага, ни крыши над головой… Какая странная судьба!
Турсун поднял кустистые брови, сдвинул толстые губы… Впрочем, разве это его первый переезд? Разве он где-то уже останавливался, закреплялся надолго? В бузкаши он всегда участвовал как волк-одиночка, работал на того бая, который больше платил. А в мертвый сезон разъезжал по всем Трем провинциям, заключал пари в разного рода боях, играл… Собственного имущества никогда не имел. Даже коня своего у него не было…
«Так что, – подумал Турсун, – выходит… ничего для него не изменилось, да и в нем тоже? А тогда, значит, получается, что судьба человека заключена в нем самом?»
В комнате стало совсем светло. Просветлело и в душе у Турсуна.
«То же самое и с Мокки», – подумал он.
А еще подумал:
– Я буду на его свадьбе, потому что его женой станет дочь моего старшего саиса… И я буду также на бузкаши с участием Уроза, потому что я его отец. И буду каждое утро обходить и осматривать всех лошадей, потому что… потому что так уж я устроен…
Вдруг Турсун перестал размышлять. Настал и даже уже прошел момент, – он понял это по интенсивности освещения, – когда обычное тепло должно было бы размягчить, смазать суставы, распрямить конечности, вернуть им способность двигаться. Он хотел пошевелить ими. Не получилось. «Столько переживаний… слишком много поел… мало спал…» – подумал он. Ну конечно! Он стойко просидел допоздна в гостях, оказывал честь блюдам, поддерживал беседу. Все гости хвалили его здоровье. Какой ценой он должен теперь расплачиваться!
Мудрость, покой, ясность мысли покинули Турсуна. Он пытался, пытался, пытался, испытывая гнев, страх и растерянность, поднять торс, пошевелить им. Только руки слушались его. Он схватил палки, стоявшие у изголовья… И не смог ничего ими сделать. Подумал: «Сегодня утром меня не увидят в конюшнях, во дворах, а именно сегодня мне важно там появиться, важнее, чем когда-либо…»
Он уже видел улыбки, слышал голоса… Стоило Главному Конюшему побывать на праздничном ужине, и вот он уже лежит в постели… Отныне ни уважения к нему, ни страха перед ним… Конец великого Турсуна.
Из прихожей послышался шум льющейся воды. Рахим, как всегда, наполнял кувшин-кумчан для омовений. Из горла Турсуна непроизвольно вырвался крик:
– Бача! Иди сюда! Бача!
Испуганный и оттого еще более детский голос Рахима переспросил недоверчиво:
– Ты действительно хочешь?.. Ты разрешаешь?..
– Все ты правильно понял, сукин сын, – проворчал Турсун.
Медленно, робко повернулась ручка двери. Медленно, дюйм за дюймом, стала раскрываться дверь, остановилась полуоткрытая. Сперва появилась голова Рахима в старой чалме, потом худенькие плечики в рваном чапане. Он вошел и замер на пороге.
Стыд от необходимости обнаружить свою слабость и старость, гневное нетерпение покончить скорее с бесчестием, на которое он был обречен, готовы были вылиться в поток ругательств и проклятий. Он встретился взглядом с Рахимом. И выражение его глаз вселило в Турсуна странную уверенность. Бача так боялся не его. Сама возможность открыть дверь в святая святых наполняла священным страхом расширившиеся от ужаса и вдруг повзрослевшие глаза.
«Ничто и никогда не сможет ослабить такое уважение», – неожиданно для себя подумал Турсун. И миролюбиво сказал:
– Подойди ближе.
Рахим подошел к чарпаю, низко склонив голову.
– Сбрось одеяла на пол, – приказал Турсун.
Бача повиновался.
– Разотри мне изо всех сил ступни, колени, кисти, плечи, – перечислил Турсун.
Когда Рахим выполнил все это, Турсун распорядился:
– Ну а теперь подсунь все одеяла мне под спину.
Вот так. А сейчас возьми меня за руки и подними.
Упершись в чарпай, слуга стал тянуть к себе грузное тело хозяина. Постепенно Турсун почувствовал, как растягиваются хрящи шеи и хребта. Сильным толчком, от которого, как ему показалось, у него надломилась поясница, он выпрямил торс. Мускулы разогревались, суставы шевелились. Но еще недостаточно, чтобы он мог спустить ноги на пол. Рахим их опустил, одну за другой, а Турсун, упершись ладонями в чарпай, повернул торс.
Старый чопендоз с трудом переводил дыхание. Предстояло выдержать последнее, наитяжелейшее унижение: дать себя одеть, как малое дитя.
– Одежду, – сказал он сквозь зубы.
Рахим снял висевшие на большом гвозде, вбитом в дверь, брюки. Штанины были широкими, и ноги Турсуна влезли в них легко. Труднее стало, когда надо было поднять их с ляжек до пояса. Опираясь на обе палки, Турсун тщетно пытался хоть на миллиметр оторвать свой таз от чарпая.
Тоненький и слабый голосок, доносящийся словно издалека, сказал ему:
– Наклонись направо… чуть-чуть… капельку…
Он подчинился. Ткань поднялась вдоль ляжки, вдоль бедра.
– Теперь налево, пожалуйста, – произнес тоненький голосок.
Турсун опять подчинился и принял сидячее положение. Он почувствовал, как удивительно ловкие пальчики тянули, затягивали шнурок, которым штаны удерживались на поясе, а также другой – в промежности. Он хотел остановить их. Это он смог бы сделать и сам. Но не успел. Руки Рахима были более ловкими, более проворными. За всю свою долгую жизнь Турсун не испытал такого унижения… «Если бы Уроз увидел меня таким, – подумал Турсун. – О, сын мой, хоть ты и калека, но как я тебе завидую!»
С чапаном все получилось проще. Когда Рахим запахивал полы на груди Турсуна, головы их оказались на одном уровне. Турсун отвел свою назад, чтобы лучше разглядеть слугу. Он с трудом узнал это лицо. Разумеется, по-прежнему худосочное и жалкое, но вместе с тем озаренное признательностью, даже счастьем. «В его глазах я стал еще значительнее и почтеннее, поскольку позволил ему быть мне необходимым», – подумал Турсун. Он подыскивал название инстинкту, который пробуждал в нем Рахим, и не нашел его. Почувствовал лишь чудное умиротворение. Существовал человек, который мог заниматься его телом, его хворями, и при этом ему не хотелось умереть или убить его из чувства стыда за себя и из-за ненависти к нему, свидетелю его немощи.
В комнату проник и скользнул по лицу Турсуна первый луч солнца. И в глубине морщин кожа обрадовалась ему. Он прищурил глаза и слегка пошевелил головой, плечами. «Как старый конь», – подумал он. И эта мысль не причинила ему боли.
Но внезапно ощущение благости исчезло. Рахим принес длинный кусок белой ткани, чтобы сделать из нее чалму. Он держал его на вытянутых расставленных руках, словно речь шла о самом драгоценном шелке. Турсун резко вырвал его из рук слуги.
– Сам обмотаю, – проворчал он.
И начал наматывать тюрбан. Во всей процедуре одевания та операция была самой долгой, трудной и болезненной. Однако мускулы и суставы его вновь приобрели достаточно гибкости, чтобы он мог попытаться проделать ее сам. С первых же движений, принесших первую боль, Турсун почувствовал, как гнев в нем тает, и подумал: «Что за демон внезапно овладел моим духом? Я соглашаюсь, чтобы бача занимался всем моим телом, и начинаю вдруг его ненавидеть, как только он хочет прикоснуться к моей голове…»
Турсун почувствовал дикую боль в плечах. Но сжал зубы и продолжал свое дело. В его памяти всплыл голос, подобный надтреснутому колокольчику: «Старей побыстрее, о Турсун, поскорее старей в себе самом, вот тебе мой совет и мое пожелание». Губы Турсуна не шевелились. Он один услышал свой ответ.
– Я очень уже близок к этому, о Великий Пращур. Очень близок. Но видит Аллах, как это печально! И тяжко!
От усталости и боли руки его опустились на колени. Доски чарпая заскрипели. Рахим сделал движение в сторону хозяина.
– Нет… То, что начал, надо заканчивать, – сказал Турсун слуге.
Произнес он это спокойным, дружеским тоном. И добавил:
– Смотри, хорошенько смотри, как я это делаю. Кто знает, может, завтра тебе придется делать это.
И руки Турсуна вновь поднялись к голове. Пальцы снова стали возводить, обматывать, разглаживать складки высокого тюрбана. Воспоминание о Гуарди Гуэдже не покидало его. Он вспомнил еще, что говорил ему старый сказочник об обязанности людей, всех людей, оказывать помощь и принимать ее. Даже тех, которые сами не догадываются об этом и не хотят этого. Турсун подумал об Урозе, подумал о Рахиме… и прошептал:
– О Пращур! Поистине, велика и глубока твоя мудрость.
Турсун медленно опустил руки вдоль туловища. Тюрбан был выполнен с обычной тщательностью и великолепием. Турсун глубоко вздохнул, оперся на обе палки и без излишних затруднений оказался на ногах. По телу вновь растекалась сила. Он сделал шаг к двери.
– Одну минутку, хозяин, одну только минуточку, – крикнул Рахим.
Он подбежал к чарпаю, где, как обычно, возле подушки лежала плетка, подошел к Турсуну и заткнул ее за пояс.
– А я уже и не думал о ней, – произнес вполголоса Турсун.
Он разглядывал со смутным удивлением маленькое, замызганное, блаженное личико слуги. Под слоем грязи, на выражающем восторг лице виднелись отчетливые шрамы.
– Эти рубцы останутся у тебя до конца твоих дней, – сказал Турсун, не меняя интонации.
На мгновение взгляд Рахима перестал быть робким и смиренным. Он смело посмотрел в желтые глаза хозяина и воскликнул:
– И слава Аллаху! Когда я буду старым… старым… таким же, как Пращур, то люди будут знать по этим отметинам на щеке, что я служил у великого Турсуна. И будут славить меня за это. И даже внуки моих сыновей будут за это пользоваться всеобщим уважением.
Турсун сделал еще один шаг, опираясь на обе палки. Он подумал: «Право же странно, что память обо мне среди степняков, прежде чем навсегда исчезнуть, продлится еще немного не благодаря самой смелой моей победе на скачках, а, может быть, благодаря несправедливости, изуродовавшей лицо ребенка».
Рахим, словно в танце, обогнал Турсуна. Когда он добрался до прихожей, бача уже держал наклоненным глиняный кувшин с водой.
Турсун поставил палки в угол, прислонился плечом к стене, совершил омовение. После этого почувствовал себя крепче на ногах. «Сегодня, как обычно, одной палки будет достаточно», – подумал он и порадовался этому, как великой победе. Тело его, несмотря на возникшие было у него сомнения, вновь подчинялось правилам игры… На улице солнце встретило его приветливее обычного. Лучи его были волшебным эликсиром для суставов и костей. Он не чувствовал тяжести ни в шее, ни в плечах, ни в пояснице, и у него не болели ни руки, ни колени, ни ступни. Кровь обращалась ровно, сердце пело, не фальшивя. «Что же это происходит сегодня?» – думал Турсун. И тут же получил ответ на свой вопрос: солнце было теплее, потому что поднялось выше обычного.
«А утреннюю-то молитву я пропустил…» – мелькнуло в голове у Турсуна.
Однако угрызения совести были недолгими. Да и не могли быть долгими. Ощущение счастья было слишком сильным и полным, чтобы его могло что-либо омрачить. Турсун вспомнил фразу Гуарди Гуэджа:
– Самая праведная, самая истинная молитва – это наилучшим образом соответствовать той судьбе, ради которой человек попал в этот мир.
Разве не так поступил Турсун в это утро, попросив помощи у ребенка?
Он двинулся к загонам. Трость его была атрибутом власти и величия. Чалма – его короной. Саисы и чопендозы увидят сегодня, как всегда, верного себе Главного Конюшего, отвечающего за всех лошадей… Жизнь была все еще прекрасна, добра и благорасположена. Надолго ли? И еще раз вспомнил Турсун о старом сказочнике. Добрался ли он до своих родных долин? Почил ли он там, как хотел?
Турсун слабо улыбнулся. Кто может знать час своей кончины? Он выпрямился, поднял голову еще выше, еще увереннее зашагал вперед по сухой, звонкой земле. Он чувствовал, что Рахим следит счастливым взглядом за этим лишь его заботами поднятым сегодня на ноги умытым и одетым стариком, который, однако, при этом оставался великолепным, нерушимым и вечным. Великим Турсуном.
Фур-а-Шо
Аверн
16 октября 1966 г.
© Editions Gallimard, 1967
© В. А. Никитин, перевод, 2011
© Палимпсест, 2011
© Издательство «Этерна», оформление, 2011
Примечания
1
Пятую скорость. – Прим. авт.
(обратно)2
Молодой слуга. – Прим. авт.
(обратно)3
Александр Македонский. – Прим. авт.
(обратно)4
Октябрь. – Прим. авт.
(обратно)5
Конюх. – Прим. авт.
(обратно)




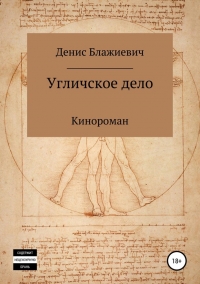



Комментарии к книге «Всадники», Жозеф Кессель
Всего 0 комментариев