Екатерина Великая Сердце императрицы
Автор не претендует ни на историческую достоверность описанных событий, ни на педантично-точное соблюдение хронологии. Цель романа иная – рассказать об удивительной женщине и ее необыкновенной судьбе. Еще раз взглянуть на «галантный век», попытаться понять, почему история великой императрицы волнует наших современников и по сей день…
Она легко прощала и никого не ненавидела… Она любила жизнь… и обладала добрым сердцем.
Из собственноручно написанной эпитафииПредисловие Великая женщина
Имя Екатерины Великой на слуху уже не один век. Ее хвалили и хулили, описывали бедность ее двора и богатство ее двора, старомодность нарядов и исключительную любовь к моде, красоту фаворитов и уродство фаворитов… Конечно, можно говорить о завистливости людей, можно говорить о доброжелательности, но ясно одно – эта женщина, сто раз великая правительница, никого не могла оставить равнодушным.
В воспоминаниях современников, конечно, истины больше, но и они, увы, грешат тем, что принимали видимое за истинное: кто-то говорил о живом уме юной принцессы, кто-то, напротив, называл ее недалекой. Однако не найти человека, который бы дал оценку, не окрашенную эмоциями…
Так какой же была она сама? Что чувствовала, почему поступала так, а не иначе, какими руководствовалась резонами, каких друзей выбирала?..
Быть может, не все рассказанное здесь с точки зрения истории достоверно. Быть может, автора можно упрекнуть в предвзятости. Однако для него главным был ответ на вопрос «почему». Что сделало юную наивную Фике Великой Екатериной, какими были ее радости и печали? Какой была она сама – уверенной или робкой, решительной или не очень?
И конечно, какими были те мужчины, что окружали ее? Быть может, упоминаний о любовниках и фаворитах можно было бы избежать, возможно, стоило бы сосредоточиться на одной только принцессе. Но мы же, и великие и малые, коронованные и простолюдины, – не только то, что нам даровано судьбой, но и то, что делает с нами наше окружение. Поэтому придется не просто упомянуть о поклонниках и возлюбленных, но и подслушать, о чем они беседовали и с юной принцессой, и с жаждущей трона великой княгиней, и с мечтающей о подлинном чувстве императрицей. Быть может, удастся не только послушать их разговоры, но и заглянуть в мысли тех, кого Екатерина числила своими друзьями, кого называла своими любимыми и от кого избавлялась как от недоброжелателей.
Одним словом, пора вернуться на два с половиной столетия назад и встретиться с той, о которой еще и сейчас не умолкли разговоры.
Глава 1 Я от всей души благодарю вас…
Штеттин, 1739
– Фике! Фи-и-ике! Мадемуазель ждет!
– Иду, – девчонка, досадливо махнув рукой, повернула к дому.
Она представила себе, что сейчас скажет нянюшка, и поморщилась. Увы, каждое еще не произнесенное слово было чистой правдой: и бегает взапуски наравне с мальчишками, сыновьями простых бюргеров, и волосы в беспорядке, и башмаки, дорогие, какие не всякий богач своим детям купить может, стоптаны почти до дыр, так скоро в дырявых и будешь ходить, глупая девочка…
Но что же делать, если ей невыносимо скучно в компании своей бонны, если унылы и беспросветны уроки пастора? Что делать, если наставления мадам начинаются и заканчиваются горестным вздохом: «Ах, дурочка, как же с твоим-то характером будет житься… Добро еще, если найдется достойный жених…»
Конечно, и мадам, и бонна были отлично осведомлены, кто именно передан на их попечение – принцесса, наследница титулов, София Августа Фредерика Ангальт-Цербстская… Увы, это были лишь звонкие титулы, ведь само-то княжество можно пересечь из конца в конец за день, даже не устав. Да и доходами оно отнюдь не блистало.
Поэтому и великий князь Христиан, суровый отец малышки Фике, служил полковником в войске своего куда более коронованного родственника Фридриха Второго. Поэтому и бегала по улицам Штеттина девчушка, которую ожидает удивительная, необыкновенная судьба. Судьба, более похожая на сказку, если, конечно, читатель согласится, что бывают сказки и без счастливого конца…
Но сейчас об этом говорить еще рано. Сейчас малышка спешит на скучный урок, где ей будут преподавать если не полные ничтожества, то люди препустейшие. Впереди длинный день, заполненный нотациями, спорами с пастором, скукой… Умница Фике не ждет от этого дня ничего хорошего, как, впрочем, ни от одного из тех, что уже прошел. Даже появление матушки, юной Иоганны, не станет отрадным. Хлестко пахнущая духами рука, быть может, еще погладит Фике по волосам. Но ни на какое тепло, увы, надеяться не приходится.
«Матушка, как обычно, будет торопиться. Ну что ж, потерпим. Ведь когда-то, я чувствую это, все изменится. И она будет искать моего внимания так, как сейчас мечтаю я о ее теплом взгляде…»
Нет, это был не пророческий дар, не предвидение грядущего – все девчонки хоть раз в жизни мечтают о чем-то подобном. Мечтают о нежности, с которой матушка прижмет к себе, о сочувствии, с которым выслушает…Наконец, о том, что увидит в дочери продолжение самой себя.
Но сейчас, увы, это лишь пустые мечты. Ни герцог Христиан, суровый и неулыбчивый, ни мать, Иоганна, взбалмошная и куда более беспокоящаяся о своих нарядах, чем о дочери, не обращают внимания на Фике. А вот матушкин амант (да, Фике вполне осведомлена о тайне сердца своей матери) господин Иван Бецкой, в отличие от самой матушки, все же находит время, чтобы побеседовать с девочкой. Волею судеб изгнанник, он с удовольствием рассказывает о своих путешествиях, о холмах Италии и о горах Греции, о всегда прохладной Англии и истомленной глициниями Бургундии. Видя искренний интерес юной своей собеседницы, пытается сопоставлять законы и верования, уважая ее возраст, – простыми словами объяснить вещи такими, какими видит их сам.
Быть может, именно из этих бесед и родилось серьезное отношение юной Софии к предметам, которые для девушек считались слишком «мужскими», – политике и праву, рабству и равенству. Однако сейчас Фике с тяжелым вздохом возвращалась в свою комнату, где с минуты на минуту должна была появиться ее наставница.
Нянька, которую маленькая София когда-то считала своей доброй матушкой (называя Иоганну мысленно всего лишь глупой старшей сестрой), поджидала ее с кувшином теплой воды и свежим полотенцем.
– Деточка, вы опять играли во дворе, вы опять вымазались так, как не всякий мальчишка может… Давайте же быстренько умоемся и приведем в порядок ваше платье. Госпожа наставница терпеть не может грязнуль…
– А ты, добрая моя Анхен, ты любишь грязнуль?
Нянька улыбнулась.
– Я люблю только одну грязнулю… Ее зовут Фике, и она страшная болтушка. Хотя, признаюсь честно, даже ее я сильнее люблю, когда она умыта и причесана.
Мягкие руки няньки успели за несколько минут привести волосы девочки в порядок, утереть ей личико. Куда-то сами собой испарились уличные башмаки, а на ноги девочки как-то незаметно наделись теплые домашние туфельки.
– Ну вот, теперь моя маленькая Фике куда больше похожа на прилежную ученицу.
Входящая в комнату учительница французского, сухая и унылая мадемуазель Кардель, менее всего готова была с этим согласиться. Однако сегодня ей было не до нотаций в адрес какой-то неотесанной деревенщины, каковой она числила няньку своей ученицы. Ибо и сама только что была вынуждена выслушать от господина Христиана нравоучительную тираду, в которой он сравнил ее (ее!) преподавание с размазыванием холодной вчерашней каши по грязной тарелке.
– Запомните, милочка, столь нерадивые учителя в моем доме не задерживаются!
Вот что посмел сказать этот напыщенный тупица! Хотя и сам, уж мадемуазель Кардель хорошо это знала, был человеком весьма недалеким. Ограниченным и ленивым, более всего гордившимся древностью своего рода и считавшим, что эта древность сама по себе есть неоспоримое преимущество его, принца Христиана Августа.
Одним словом, принц отчитал госпожу Кардель как девочку, однако при этом отчего-то не поднимал глаз от ее декольте, по последней моде отделанного узкими кружевами. Быть может, поэтому нотация не столь заметно испортила француженке настроение, как могла бы.
– Да смотрите, милочка, не забудьте разучить со своей ученицей, моей дочерью, все положенные для юной девушки слова приветствия в адрес ее венценосных родственников. Однако в первую очередь дочь моя должна помнить о древности своего рода и гордо нести звание принцессы Ангальт. Ибо… – тут господин Христиан выпрямился и вознес к небу указательный палец, – …Ангальт – один из древнейших владетельных домов Европы. Его основатели сначала носили титул графов Балленштеттских, в каковом качестве впервые были упомянуты восемь сотен лет назад в исторических хрониках, потом – графов Асканских. Из нашего семейства происходил и знаменитый Альбрехт Медведь, первый правитель Бранденбурга. Пять же сотен лет назад саксонский герцог Генрих впервые принял титул герцога Ангальтского. Подобное генеалогическое дерево должно внушать уважение уже само по себе.
Мадемуазель Кардель кивнула – эту тираду из уст своего нанимателя она слышала, пожалуй, в тысячный раз.
– Вскоре Фике со своей матушкой отправится к моему кузену Адольфу Фридриху, герцогу голштинскому, князю-епископу Любекскому, епископу Эйтенскому… – все эти титулы завистливый Христиан чуть ли не пропел, – и я бы желал, чтобы девочка выглядела подлинной наследницей своего древнего имени.
«Увы, господин мой, – сказать вслух это мадемуазель Кардель, конечно, не посмела, – но ваша дочь имеет ленивый и неповоротливый ум, к учению мало подходящий. Вряд ли она сможет выглядеть подлинной наследницей… даже если и впрямь имеет к вашему древнему роду хоть какое-то отношение…»
– Я сделаю все, что от меня зависит, мой господин! – мадемуазель присела в поклоне. – Когда состоится отъезд вашего величества в сопровождении вашего семейства?
– Иоганна поедет с дочерью без меня! Дела службы, мадемуазель… – с непонятным намеком в голосе произнес принц Христиан. – Приложите же все свое умение! Я отправлю свою семью к кузену еще до осенней распутицы. Так что времени у вас совсем немного… милочка…
Мадемуазель вновь присела в поклоне. Что-то за всеми этими словами господина Христиана таилось. Однако сейчас думать об этом было недосуг – до распутицы и впрямь оставался едва ли месяц, и, значит, ей придется проводить в комнате девочки слишком много времени – и все это только для того, чтобы заставить ее вызубрить два-три десятка обязательных фраз.
Мадемуазель, конечно, понимала, что, будь ее воспитанница хоть трижды тупа, она все же наследница громкого титула и отец заботится о том, чтобы найти ей подходящую партию. Скорее всего, она станет женой какого-нибудь принца, чьи владения столь же обширны, как и Ангальт-Цербстские, и чей титул, пусть и восходит чуть ли не к Адаму, не в силах прокормить ни самого принца, ни тем более его семью. Ну что может быть нужно невесте такого принца? Умение танцевать, слегка разбираться в музыке и литературе, писать красивым почерком, поддерживать беседу, изящно кланяться… Что еще? Иноземные языки, дабы принимать послов и понимать хотя бы десятую часть того, что они говорят. Вот и все, пожалуй…
Все эти мысли и удержали мадемуазель Кардель от замечаний, которыми она обычно начинала каждый свой урок. Недоумевающая нянька даже позволила себе остаться и послушать, чему сегодня будет учить малышку Фике эта «тощая курица». Конечно, она не поняла ни слова – мадемуазель, гневаясь, всегда переходила на свой родной язык. Но по личику маленькой Софии Августы было видно, что урок сегодняшний более чем разительно отличается от урока вчерашнего.
Да, Фике недоумевала. Мысли мадемуазель явно были сейчас заняты чем-то иным. Иначе как объяснить ее спокойствие и тихий ровный голос? Обычно уже через пару минут после начала урока госпожа Кардель переходила на крик и даже не пыталась особо сдерживаться, называя ученицу тупой гусыней и недалекой куклой. Но сейчас…
– А теперь, Фике, еще раз повторите всю фразу целиком…
– Но, госпожа Кардель…
– Я прошу вас, еще раз повторите всю фразу целиком…
И девочка покорно, в который уж раз, повторяла, что она счастлива тем, что великий принц Адольф Фридрих, герцог голштинский, князь-епископ Любекский, оказал ей честь, пригласив ее вместе с матушкой… Что она, София Августа, принцесса Ангальт-Цербстская, гордится тем, что имеет счастье принадлежать к родне столь уважаемого рода… Что приложит все усилия, дабы не посрамить древность прекрасной страны, к коей и она, смиренная, имеет честь принадлежать…
И так далее, час за часом.
«Хорошо хоть, что ночью она не будет заставлять меня повторять одно и то же!»
Говоря по чести, Фике почти сразу вызубрила все, чего от нее желала добиться мадемуазель. Она повторяла уже почти автоматически, не вдумываясь особо в смысл этих слов. Ее мысли были заняты совсем иным предметом: зачем вообще она зубрит все это? Неужели и в самом деле принц Адольф Фридрих пригласит ее вместе с матушкой в свой замок? И если да, то какова будет цель этого путешествия?
Здравого смысла Фике и в десять лет вполне хватало для того, чтобы понять: если бы речь не шла о ней, о каких-то планах взрослых, связанных именно с ее дальнейшей судьбой, она бы сидела дома и ни о какой поездке даже не услыхала, наслаждаясь обществом соседских детишек. Значит, отец все-таки вспомнил о том, что она наследная принцесса? И если так, то кого из принцев прочат ей в мужья?
Увы, сейчас ответа на этот вопрос она не знала. Подозревала лишь, что ее будущий супруг будет сыном такого же безденежного властителя, вынужденного добывать пропитание себе и своей семье, служа какому-то из богатых и именитых домов… Но вот какого именно?
В странных занятиях прошли три недели. Осенние дожди все чаще барабанили по крышам. И вот наконец наемная карета покатила прочь из Штеттина. Вскоре остались позади и городские ворота. Серые тучи, серые стены деревенских домиков, серые от усталости лица… Девочка довольно быстро утомилась и позволила себе прикорнуть, положив голову на плечо матери. Та, против обыкновения, не отстранилась. Наоборот, прижала к себе дочь и даже – вот уж чудо из чудес! – прикоснулась губами к ее волосам. Похоже, беспокойство, причин которого Фике не понимала, терзало Иоганну, заставляло ее в уже сотый раз прикидывать, какими были цели приглашения и какими могут быть последствия визита.
Глупо надеяться, что речь идет о принце Христиане, ее нелюбимом муже. Глупо надеяться и на то, что судьба именно для нее приготовила что-то приятное и нужное! Наверняка речь пойдет о Софии, ее дочери Фике! Быть может, на смотрины в Эйтин прибыл какой-то важный господин, быть может, София должна готовиться к переезду в новую страну, где из нее будут делать будущую владычицу какого-нибудь старинного княжества? Быть может, таким влиятельным господином окажется не посланник какого-то из коронованных домов Европы, а советник бея или визирь паши? Быть может, ее дочь найдет свою судьбу за океаном? Но ведь тогда и ей, мудрой и ласковой матери, непременно надо будет отправиться вместе с дочерью!..
Иоганна прикрыла глаза. Да, сменить постылый Штеттин на солнечный Стамбул или богатую Александрию… Ах, как это было бы кстати! А заодно уж и мужа, пусть лишь числящегося таковым, отставить, наконец соединившись с амантом.
«Но если мои надежды оправдаются, быть может, мне тоже встретится кто-то получше признанного, но незаконнорожденного сына? Вероятно, не стоит торопиться и звать Ивана за собой… Пусть уж все идет как идет. Главное – сбежать от Христиана, от мелочных расчетов, от пристальных подозрительных взглядов». «Отчего это, моя дражайшая супруга, вы, столь недавно покинувшая Париж, опять собираетесь в это гнездо похоти и разврата?» «Отчего это, милочка, вы не торопитесь отставлять от нашего дома всех этих молодых людей, кои, да простит меня Господь, столь же неуважаемы, сколь буйны, шумны и ветрены?»
«Ну какое ему дело, почему я опять тороплюсь в Париж? Почему он не оставит меня в покое?! В конце концов, я не только жена князя, но и сама – дочь Готторпского владетельного дома! Моя родословная восходит к Кристиану I, королю Дании, Норвегии и Швеции, первому герцогу Шлезвиг-Голштейнскому и основателю династии Ольденбургов! Еще неизвестно, кто из нас родовитее! Пусть утешается тем, что София воспитывается в этом холодном грязном Штеттине!»
Сейчас Иоганна отчего-то «забыла», что она сама никогда не пыталась взять в свои странствия дочь. Да и как ей такое могло бы в голову прийти?! Ведь гостила она не у тетушки, как о том говорила мужу, а именно у Ивана Бецкого, вот уже одиннадцатый год милого друга и верного аманта. Да, долго оставаться у него она не решалась, но все же… Что бы там делала София? Только бы мешала матери наслаждаться жизнью!
Однако сейчас тряская наемная карета направлялась не в веселый Париж, а, напротив, в известный своими сквозняками Эйтинский замок. Отчего именно там пожелал собрать всю свою родню Адольф Фридрих, Иоганна не знала. Собственно, не все ли равно где – в любом случае впереди целый месяц скучных бесед, едва слышного обмена колкостями и преувеличенно-громкого обмена любезностями. Быть может, повезет сказаться больной и сократить визит на пару недель. Но если речь идет о судьбе дочери, следует ли это делать? Ведь если судьба Фике решится наилучшим образом, то и ее, Иоганны, судьба может неторопливо войти в одну из холодных выстуженных гостиных.
Фике, прикорнув на плече у матери, пока не думала ни о цели приглашения, ни о том, с кем она там может познакомиться. От матери она была наслышана о своих многочисленных родственниках с длиннейшими родословными и пустыми кошелями, состоящими друг у друга на службе. «Наверное, туда следовало поехать отцу, – быть может, ему бы предложили новую должность или даже звание… Но почему отправились мы с матушкой?»
Девочка непроизвольно пожала плечами. Увы, ответов на эти вопросы не было, да она их и не ждала.
Дороги, мощенные камнем, были не так уж многочисленны. Поэтому, кстати, Христиан Ангальт и торопился отправить семейство до осенней распутицы. Дорога, занимавшая не так много времени, все же была необыкновенно утомительной, а постоялые дворы, где ночевали путешественники, даже самые богатые и знатные, могли предоставить всем одинаковые условия для отдыха. И хорошо, если это была не конюшня, а огромная комната с очагом. Конечно, иногда встречались и странноприимные дома поуютнее – с буфетом и отдельными номерами, – но вряд ли они были по карману любому проезжающему. Поэтому закончить такое путешествие хотелось как можно быстрее.
Всему когда-нибудь приходит конец, и вот колеса кареты загрохотали по мощеному двору замка будущего короля шведского Адольфа Фридриха. Да-да, так уж тесно переплелись судьбы владетельных домов Европы! Понятно волнение, с которым отправилась в путь Иоганна: она-то знала, что и дочь, да и ее саму в Эйтинском замке может ждать самая удивительная судьба, более чем невероятная – от юного принца давних европейских кровей до престарелого паши, пожелавшего украсить свой гарем наследницей северных земель…
Быть может, если бы так произошло, история сложилась бы совсем иначе. Но она не знает сослагательного наклонения – она вертит людьми по собственному разумению, а ее резоны далеко не всегда понятны людям. Чаще, конечно, непонятны совсем.
Карета остановилась.
– О, какое счастье! – прошептала Иоганна.
– Да, матушка, – кивнула Фике.
– Дитя, ты помнишь, о чем просил твой отец, принц Христиан?
– Да, матушка, – едва слышно ответила девочка.
– Повтори еще раз, как ты должна приветствовать его светлость, принца Адольфа Фридриха.
Фике послушно повторила. Она ни разу не сбилась и не замешкалась ни на мгновение, но все равно Иоганна осталась недовольна: этому цветистому приветствию явно не хватало искренности. Но тут уж ничего не поделать: Софии незачем знать, насколько важным может стать любой визит в любой из владетельных домов, даже если это всего лишь замок вдовствующей герцогини Брауншвейгской, которая воспитывала в свое время юную Иоганну.
– А теперь скажи, как следует приветствовать наставника принца Адольфа!
Фике и тут не сбилась ни словом, Иоганна и в этот раз была недовольна.
– А теперь, дитя, прежде чем мы войдем в замок, запомни. Ты всегда говоришь только после меня. Даже на прямые вопросы ты можешь отвечать лишь после того, как я тебе позволю – хотя бы кивком.
Фике тяжело вздохнула. Да, именно такого она и ожидала.
– Повинуюсь, матушка! – произнесла она, изо всех сил пытаясь сдержаться.
Иоганна распахнула дверцу кареты и ступила на камни у ступеней. Навстречу ей выбежал на вид двенадцатилетний мальчишка.
– Я Карл Петр Ульрих, герцог Голштинский! А вы кто такие? Зачем пожаловали?
Иоганна окаменела.
Из «Собственноручных записок императрицы Екатерины II»
Я увидела Петра III в первый раз, когда ему было одиннадцать лет, в Эйтине у его опекуна, принца-епископа Любекскаго. Через несколько месяцев после кончины герцога Карла-Фридриха, его отца, принц-епископ собрал у себя в Эйтине в 1739 году всю семью, чтобы ввести в нее своего питомца. Моя бабушка, мать принца-епископа, и моя мать, сестра того же принца, приехали туда из Гамбурга со мною. Мне было тогда десять лет. Тут были еще принц Август и принцесса Анна, брат и сестра принца-опекуна и правителя Голштинии. Тогда-то я и слышала от этой собравшейся вместе семьи, что молодой герцог наклонен к пьянству и что его приближенные с трудом препятствовали ему напиваться за столом, что он был упрям и вспыльчив, что он не любил окружающих и особенно Брюммера, что, впрочем, он выказывал живость, но был слабаго и хилаго сложения. Действительно, цвет лица у него был бледен и он казался тощим и слабаго телосложения. Приближенные хотели выставить этого ребенка взрослым и с этой целью стесняли и держали его в принуждении, которое должно было вселить в нем фальшь, начиная с манеры держаться и кончая характером.
Глава 2 Три короны
Эйтин, 1739
– Ну, признавайтесь, кто вы такие! И какого черта делаете в поместье моего родственника!
Та же самая наглость мальчишки, которая только что заставила Иоганну окаменеть, теперь – и достаточно быстро – привела ее в себя. Но самую малость: сил княгини хватило только на то, чтобы прошипеть дочери:
– Скорее кланяйтесь! Это герцог Голштинии, мой племянник и ваш троюродный брат, а его мать Анна Петровна была дочерью русского императора Петра Первого… Вспомните, сколько раз я вам рассказывала об этом. Да кланяйтесь же!
Фике, как учила ее мадемуазель, приподняла пышные юбки и присела в поклоне.
– Не так, – шипела сзади Иоганна, – не так кланяются наследнику сразу трех фамилий.
Фике присела в еще более низком поклоне. Мальчишка ехидно улыбался, но с места не сходил.
– Я жду, ну!
«Какой противный у него голос…» – подумала девочка.
Иоганна открыла было рот, чтобы представиться, но тут наконец загремела барабанная дробь: барабанщики церемониального войска епископа пришли в себя. За этой дробью голос Иоганны пропал, будто его и не было вовсе.
– А, – протянул несносный принц, – так вы тоже наши родственники… Ну и ну, семейка… Где нас только нету… Вот уж дядюшка расстарался, всех созвал. Значит, попируем вечером!
И, не дожидаясь ответа ошарашенных дам, простучал башмаками в глубь коридора. Лакеи, замершие по обе стороны настежь распахнутых дверей, тоже не могли прийти в себя от наглости юного принца.
– Ах, как весел его высочество! Как он решителен! – прошелестела Иоганна.
Фике промолчала – она в который уже раз убедилась, что ее мать, такая властная с прислугой, становится тишайшим, робким и зависимым существом в присутствии богатых родственников. Сейчас преображение было тем более заметно – ведь от момента нотаций в карете до мига, когда принц Карл, хохоча, унесся по коридору, прошло всего несколько секунд.
Только сейчас девочка смогла оглянуться. Только сейчас она заметила, что вымощенный камнем двор продолжается в глубь парка дюжиной дорожек, по краям которых цветут, несмотря на осень, яркие цветы; что дорогу к резиденции принца преграждает шлагбаум, рядом с которым так уместно смотрится будка с часовым; что барабанщики церемониального войска, все, как один, суровые усачи, выстроились в две шеренги у стены замка под навесом.
– Наконец почести, дочь моя, да, заметь, немалые, – прошептала Иоганна.
«Должно быть, прием ожидается нешуточный… Церемониальный караул… Выходит, я ошибалась. Не Фике, а мне еще улыбнется удача!»
Сейчас, как, впрочем, и всегда, Иоганна думала лишь о себе. О своем комфорте, своем будущем и своих желаниях. Ни старшая из детей, София Августа, ни младшие не интересовали ветреную даму. Ей, ей одной, она была убеждена в этом, должен служить весь мир, перед ней одной преклонять колени… Некоторое время она еще будет пребывать в этом убеждении. И притом достаточно долго. Ибо вырастила, о нет, обрела в дочери своевольную и наблюдательную соперницу. Фике еще не догадывалась, что час ее торжества грядет. До этого оставалось еще долгих пять лет.
Щебечущая от возбуждения Иоганна торопилась вслед за церемонно вышагивающим лакеем в напудренном парике. Она не оглядывалась, не смотрела, следует ли за ней дочь, – более того, она, похоже, о ней просто забыла, предвкушая миг, когда припадет к руке епископа.
Эйтин поражал великолепием. Поражал более всего тех, кто не видел дворцов богаче, уютнее и благоустроеннее. А Фике была отнюдь не разбалована ни роскошью, ни даже простым уютом.
Старинные гобелены, повествовавшие о неведомых охотах уважаемых предков нынешнего владельца замка, чуть покачивались от сквозняков, вольно гулявших меж древних стен. Цветы в высоких вазах трепетали, огонь в светильниках клонился, словно пытаясь сопротивляться ветерку, чувствующему себя хозяином положения.
Свора борзых, оккупировавшая большую гостиную, жалась к разожженному камину. Собаки лишь проводили взглядами новых гостий, но не попытались даже привстать или залаять.
Тяжелые темные двери распахнулись, пропустив Иоган ну и Фике в отведенные им покои. Здесь было чуть теплее, чем в замковом коридоре: веселый огонь в камине, плотно задернутые вишневые шторы, пышно взбитые постели.
– Ох, как же я люблю уют и достаток, – почти простонала Иоганна. – И когда наконец мне повезет назвать подобные покои своими…
Фике молча пожала плечами. Увы, ей тоже очень хотелось бы узнать, когда богатство и уют станут доступны княжескому дому Ангальт. Но этого ей не мог пока открыть никто. А сейчас следовало как можно скорее избавиться от накидок и привести себя в порядок – гонг уже позвал гостей в пиршественный зал.
– Принимать нас будут в малом зале для торжеств, – проговорила Иоганна, взбивая кружева у декольте и окутывая себя белым облаком пудры. – Это все-таки семейная встреча, не государственный прием.
– Да, матушка, – Фике узкой ладонью провела по своему более чем скромному платью.
– Фике, дитя, еще раз напоминаю: вы должны служить образцом поведения… Помните: девушке не к лицу объедаться, словно пьяному гусару, – вкушайте мило, старайтесь выглядеть как можно незаметнее и, умоляю вас, не раскрывайте рта без моего позволения!
«Ох, матушка, как же вы ненавидите всех своих детей, как ненавидите меня… Думаю, доведись вам отказаться от всех нас, вы бы с удовольствием это сделали. Однако сейчас вы во мне еще нуждаетесь. И я нуждаюсь в вас. Но придет время, когда вы во мне будете нуждаться как никогда, а я же, напротив, нуждаться в вас не буду совершенно. И вот тогда я скажу вам, чтобы вы не смели рта раскрыть без моего согласия!»
Воистину, нет у нас врагов страшнее, чем мы сами, ибо слово, оброненное невзначай, может вернуться к нам подобно удару шпаги и лишить нас не только надежды, но и самой жизни.
Прием действительно проходил в малом зале. Иоганна сидела напротив дочери, но была вся там, во главе стола, рядом с епископом Августом. Тот вел неспешный монолог о политике, не слишком нуждаясь в собеседниках. Должно быть, оттого, что преотлично знал, что гости внимают каждому его слову как истине в последней инстанции. Проблемы отношений России со всем остальным миром занимали его уже очень много лет. Иллюзий об этих отношениях он не питал, однако предпочитал не думать о том, что его возвышение, о котором слухи уже добрались и до Эйтина, есть дело рук России. Вернее, не столько рук, сколько немалых денег, которые будут выложены за его воцарение на шведском престоле.
Фике тоже прислушивалась к этому монологу. Да, Иван Бецкой был прав: именно здесь, в крошечных княжеских дворах, вершится история, как бы возвышенно это ни звучало. Именно здесь растут будущие императоры и короли, именно здесь получают они представление о высокой политике. Именно это воспитание делает их потом врагами империй или союзниками. Именно…
Но додумать София не успела – за дальним концом стола, где сидел герцог Карл Петр Ульрих, тот самый скверно воспитанный мальчишка, послышался шум. Епископ Адольф замолк, с досадой стукнув кулаком по столу.
– Да что там случилось? – выкрикнул он. – Что за шум? Кто смеет отвлекать меня?
У его кресла вырос могучий камер-юнкер.
– Это ваш племянник, ваше святейшество, – бас камер-юнкера перекрыл все звуки за столом. – Он выпил все бургундское, до которого смог дотянуться.
– Вон! Сей же час выставите его вон! – заревел епископ…
Быть может, Фике забыла бы об этом досадном эпизоде, если бы Иоганна поздно вечером не посетовала, что ее племянник пристрастился к чарке да так, как не всякому уважающему себя драгуну позволено.
– Его воспитатель строг, но герцог изворотлив, как змея. И столь хитер… Должно быть, его ждет великая судьба – ах, целых три короны…
– Матушка, но он же лжив и лицемерен. Да к тому же склонен к выпивке. Я своими глазами видела, как он ворвался в столовую и допивал из бокалов вино. Гадкий, разбалованный мальчишка!
– Дитя, вы не смеете так говорить о герцоге! Его ведет сама Фортуна! Он от момента своего рождения достоин носить и голштинскую, и шведскую, и даже российскую корону.
– Несчастная страна, коей властителем он станет…
– Не сметь! Попридержите язык, Фике! В вас говорят зависть и глупость!
И девочка с удивлением поняла, что сейчас мать права – в ней действительно говорит зависть. Хотя нет, чуточку не так. Она зла, о да, именно зла на судьбу, которая столь ничтожное существо, скучное, некрасивое, падкое на спиртное, одарила столь огромными правами: правами на великие троны, возможностью править Швецией, Голштинией, и даже… Россией!
Быть может, и сама Иоганна втайне завидовала своему племяннику – уж она-то, будь у нее столь обширные возможности, нашла бы им достойное применение, уж она бы сумела выбрать страну побогаче и корону позначительнее!
«Готова спорить, – подумала Фике, – этот гадкий герцог наверняка изберет трон российских монархов. Бедная Россия!»
София понимала, что ей никогда не сказать этого вслух. Кто она такая? Девчонка с оцарапанными коленками, принцесса… с Дармштрассе. Но все же на следующее утро, прогуливаясь с кузеном, задала ему столь важный для нее вопрос.
– И вы, конечно, захотите взойти именно на российский трон?
Герцог презрительно скривил губы:
– И править страной попов и дураков?! Да вы смеетесь надо мной, кузина! Нет и быть не может страны прекраснее моей Голштинии. Только ей я готов служить со всем пылом!
И юный Карл Петер Ульрих отсалютовал сорванным цветком.
«О да, мой дражайший кузен. Я видела, чему вы готовы служить со всем пылом…»
Однако Фике не промолвила ни слова – да кузен и не ожидал от нее никаких слов. Не дурак же он, в самом деле, прислушиваться к лепету какой-то кузины-оборванки.
Преклонение Иоганны перед прусским двором было столь велико, что после Эйтина она не могла не посетить Берлин, не присесть в церемониальном поклоне перед Фридрихом Великим. Конечно, и Фике была рядом с ней. И тут впервые Иоганна ощутила, что дочь выигрывает в том незримом соперничестве, о котором она сама и думать боялась. Император Фридрих обратил внимание на юную принцессу, но весьма жестко оборвал саму Иоганну, стоило ей заговорить о себе и своих желаниях.
В Европе было неспокойно: умерла Анна Иоанновна, престол России занял ее племянник Иоанн Антонович, но всего через год цесаревна Елизавета, поддержанная гвардией и мелким дворянством, выбросила Брауншвейгскую династию из царского дворца. Годовалый Иоанн Антонович был заточен вместе с матерью и более никогда уже свободы не видел. Однако столь печальная судьба не насторожила Европу. Теперь все княжества и герцогства ожидали рождения наследника у Елизаветы или появления того, кого императрица назовет наследником российского престола, буде дитя не родится.
Астрологи пытались прочитать имя счастливца по звездам, предсказатели – увидеть его образ в хрустальном шаре. Но Провидение молчало. Зато не молчали газеты: герцога Голштинии Елизавета Петровна вытребовала в Россию для наследования престола. Теперь хитросплетения высокой политики стали касаться и малышки Фике.
Летом 1742 года король Фридрих производит принца Христиана Ангальт-Цербстского в генерал-лейтенанты, назначив его губернатором Штеттина.
– Он хочет таким образом привлечь к нашему древнему роду внимание российской императрицы! Я чувствую, – бормотала Иоганна, – мне было видение! Ангальт поднимется из забвения, станет вровень с великими домами, навсегда забудет о нищете!
Должно быть, видение матери было пророческим: герцог Людвиг, брат принца Христиана и родной дядя Фике, призвал того в соправители Цербста, и отец стал титуловаться герцогом.
Фике не понимала, но чувствовала, что за всеми этими переменами ей нужно следить более чем внимательно – эти перемены касаются ее так, как не касаются никого в целом мире.
Здесь мы вновь ненадолго оставим Фике – нет смысла рассказывать о каждом дне девочки столь подробно. Однако запомним, что перемены к лучшему заставили ее наблюдать мир еще пристальнее. Она выучилась даже в полунамеках черпать для себя ценные сведения, по обрывкам фраз в беседах матери догадываться о самой сути происходящего.
Из «Собственноручных записок императрицы Екатерины II»
Мать Петра III, дочь Петра I, скончалась приблизительно месяца через два после того, как произвела его на свет, от чахотки, в маленьком городке Киле, в Голштинии, с горя, что ей пришлось там жить, да еще в таком неудачном замужестве. Карл-Фридрих, герцог Голштинский, племянник Карла XII, короля Шведскаго, отец Петра III, был принц слабый, неказистый, малорослый, хилый и бедный. Он умер в 1739 году и оставил сына, которому было около одиннадцати лет, под опекой своего двоюродного брата Адольфа-Фридриха, епископа Любекскаго, герцога Голштинскаго, впоследствии короля Шведскаго, избраннаго на основании предварительных статей мира в Або по предложению императрицы Елизаветы. Во главе воспитателей Петра III стоял обер-гофмаршал его двора Брюммер, швед родом; ему подчинены были обер-камергер Бергхольц и четыре камергера; из них двое – Адлерфельдт, автор “Истории Карла XII”, и Вахтмейстер – были шведы, а двое других, Вольф и Мардефельд, голштинцы. Этого принца воспитывали в виду шведскаго престола при дворе, слишком большом для страны, в которой он находился, и разделенном на несколько партий, горевших ненавистью; из них каждая хотела овладеть умом принца, котораго она должна была воспитать, и, следовательно, вселяла в него отвращение, которое все партии взаимно питали по отношению к своим противникам. Молодой принц от всего сердца ненавидел Брюммера, внушавшего ему страх, и обвинял его в чрезмерной строгости. Он презирал Бергхольца, который был другом и угодником Брюммера, и не любил никого из своих приближенных, потому что они его стесняли. С десятилетняго возраста Петр III обнаружил наклонность к пьянству. Его понуждали к чрезмерному представительству и не выпускали из виду ни днем, ни ночью. Кого он любил всего более в детстве и в первые годы своего пребывания в России, так это были два старых камердинера: один – Крамер, ливонец, другой – Румберг, швед. Последний был ему особенно дорог. Это был человек довольно грубый и жесткий, из драгунов Карла XII. Брюммер, а следовательно, и Бергхольц, который на все смотрел лишь глазами Брюммера, были преданы принцу, опекуну и правителю; все остальные были недовольны этим принцем и еще более его приближенными.
Вступив на русский престол, императрица Елизавета послала в Голштинию камергера Корфа вызвать племянника, котораго принц-правитель и отправил немедленно в сопровождении обер-гофмаршала Брюммера, обер-камергера Бергхольца и камергера Дукера, приходившагося племянником первому. Велика была радость императрицы по случаю его пребытия. Немного спустя она отправилась на коронацию в Москву. Она решила объявить этого принца своим наследником. Но прежде всего он должен был перейти в православную веру. Враги обер-гофмаршала Брюммера, а именно – великий канцлер граф Бестужев и покойный граф Никита Панин, который долго был русским посланником в Швеции, утверждали, что имели в своих руках убедительные доказательства, будто Брюммер с тех пор, как увидел, что императрица решила объявить своего племянника предполагаемым наследником престола, приложил столько же старания испортить ум и сердце своего воспитанника, сколько заботился раньше сделать его достойным шведской короны. Но я всегда сомневалась в этой гнусности и думала, что воспитание Петра III оказалось неудачным по стечению несчастных обстоятельств.
Глава 3 Дар Провидения
Берлин, 1743
Целый год провела Иоганна с дочерью в Берлине (дада, целый год, только бы подальше от герцога Христиана и его нескончаемых нотаций), столице прусского государства, каковым он стал после объединения курфюршества Бранденбург с герцогством Пруссия за две сотни лет до описываемых событий. София выросла, похорошела. Однако Иоганна была недовольна:
– Боже, дитя мое, до чего вы уродливы! Как я, волшебное создание, могла произвести на свет такое чудовище?..
Фике привычно промолчала. Да, мать, должно быть, мечтала сделать из дочери изящное манерное существо, вроде фарфоровой статуэтки, под стать изысканным картинам галантных живописцев, а кроме того, искренне считала себя образцом, была уверена, что равных ей самой по красоте и изяществу нет и никогда не было под солнцем.
– Помните, дочь моя, главное – хороший тон! – твердила она Фике.
Поглощенная лишь собой, заботящаяся лишь о том, чтобы люди замечали ее и только ее одну, мать не разглядела в выросшей дочери прекрасной юной девушки. Но прусский король, к счастью лишенный забот глупой Иоганны, понял, что в его руках еще один козырь в политической игре, которую Пруссия давно уже вела с Россией.
– Неразумно не использовать того, что само плывет к нам в руки, – сказал как-то Фридрих своему министру. – Следует незамедлительно использовать привязанность Елизаветы к своим прусским родственникам. Сейчас российская императрица обшаривает закоулки Европы, собирая портреты для создания «романовской» галереи… Думаю, за этим стоит совсем иная забота: наша царственная сестра ищет невесту для Карла Петера… О нет, для Петра Федоровича, герцога Голштинского.
Министр склонился в поклоне – его люди при дворе Елизаветы уже неоднократно сообщали ему то же самое.
– Полагаю, мой король, что нам стоит пригласить Антуана Пэна, дабы он создал портрет юной Фике. Так мы потрафим вашей венценосной сестре и, надеюсь, подскажем ей, что поиски уже можно прекратить.
Прусские лазутчики при русском дворе не ошибались – именно так все и обстояло. У Елизаветы имелся совершенно законный муж, но дети от этого брака (которых, кстати, и не было!) никоим образом не могли бы наследовать престол империи – это уже были не вульгарные времена Петра I, когда услужливую девицу, маркитантку неведомого рода-племени, произвели в императрицы…
В общем, требовался наследник престола. И потому уже в 1742 году, сразу после своей коронации, Елизавета вызвала в Россию Петра Ульриха, родного внука Петра I (сына Анны Петровны и герцога Голштинского), собственного племянника, – и официально назначила его наследником.
Естественно, уже вскоре наследника было решено женить – ему исполнилось шестнадцать, а по меркам восемнадцатого столетия это считалось вполне подходящим возрастом для брака. Стали подыскивать подходящую девицу, – разумеется, из владетельного дома. Иноземного, конечно. Со времен Петра как-то уже привыкли, что наследники престола женятся на иностранках, а не на русских барышнях, как встарь. Кандидатур перебрали множество.
Воодушевленный английский посол Уич тут же предложил свою кандидатуру – понятное дело, английскую принцессу. Поговаривали, вроде бы юный Петр видел ее портрет и англичанка ему понравилась. Однако Елизавета эту кандидатуру отклонила по причинам, оставшимся неизвестными. То ли «скороспелость» британских монархов была тому причиной (правящая королевская династия сидела на престоле неполных сорок лет и происходила из германского Ганновера, очередного крохотного княжества), то ли нашлись какие-то более высокие политические соображения.
Французы предложили свою принцессу – но тут уж Елизавета категорически воспротивилась и даже не очень выбирала выражения для категорического отказа. Нет сомнений, что это было типичной женской местью – в свое время Елизавету пытались просватать за французского принца, но в Париже отказались, намекая на не вполне благородное происхождение невесты. Родители, вишь ты, поженились только через два года после ее появления на свет. Незаконнорожденная…
Сама же Елизавета первое время склонялась к тому, чтобы женить Петра на принцессе Ульрике, сестре Фридриха Великого. Это была бы великолепная перспектива для России. Последствия на долгие годы, даже столетия, могли оказаться такими, что даже и представить себе непросто.
Россия и Пруссия в тесном союзе, связанные династическим браком, – это была бы такая сила, что в Европе попросту не нашлось бы великой державы или коалиции, способной противостоять на равных. Фридрих Великий умер бездетным, и трон перешел к его племяннику, но, родись у Петра и Ульрики сын, он имел бы точно такие же права на прусский престол. Если вспомнить, что российские монархи относились к связанным с Россией брачными узами Голштинии и Курляндии как к вассалам, живо интересовались их делами, принимали в них самое активное участие…
Елизавету от идеи выбрать прусскую принцессу отговорил канцлер Бестужев. После долгих раздумий императрица все же склонилась к тому, чтобы женить Петра на голштинской принцессе из маленького, бедного, захолустного княжества. Долго и вдумчиво Елизавета обсуждала этот вариант и с лейб-медиком Лестоком, и с воспитателем великого князя Брюммером. Именно Брюммер (тайком, без ведома канцлера) и начал переговоры с Иоганной. Вернее, Иоганна неведомыми путями смогла снестись с Брюммером и уговорить-таки его обратить внимание императрицы на Ангальт-Цербст. Можно, конечно, догадываться, какими путями Иоганна смогла так приблизиться к наставнику наследника, однако не о дипломатических талантах герцогини сейчас речь. Брюммер на уговоры поддался, и Елизавета стала задумываться о Софии Августе все чаще, так и этак мысленно поворачивая ситуацию.
Результат этих раздумий ее удовлетворил, и секретарь русского посольства в Берлине привез Фике усыпанный бриллиантами портрет Елизаветы. Чуть позже из Петербурга дали знать, что желают получить портрет девушки.
Что пережила за долгие месяцы юная София! С одной стороны, ей повторяли то, что повторялось вслух при всех княжеских и королевских домах: Елизавета хочет составить портретную галерею немецких принцесс. С другой – вот уже пару столетий вся Европа прекрасно знала, что портрет-то требуют чаще всего именно для того, чтобы посмотреть невесту, не подавая ей преждевременной надежды…
Антуан Пэн приступил к работе в марте.
– Фике, – Иоганна призвала дочь в свои покои ранним утром, – берлинский живописец Антуан Пэн будет писать ваш портрет. Вам следует принять позу, исполненную достоинства и чести, однако в то же время привлекательную для взоров самых придирчивых мужчин. Я обучу вас этому. Повторяйте за мной.
Герцогиня заломила руки, возведя очи горе. Девушка подумала, что мать сейчас выглядит и смешно, и нелепо. Вряд ли сия поза, являющаяся подлинным олицетворением столь совершенной глупости, может быть привлекательной для взоров придирчивых мужчин. Разве что они мечтают о женщине, напрочь лишенной мозгов и даже не пытающейся это скрыть.
Фике, однако, спорить не стала. Но позировала, приняв все же куда менее вызывающий вид. Мать осталась недовольна. Она сжала губы в тоненькую ниточку, покачала головой и сурово произнесла:
– Вы ослушались меня, дитя мое. Как бы это непослушание не стало для вас роковым!
Портрет был написан довольно быстро.
– Что за суровая мина… – заламывала руки Иоганна. – Что за платье… Почему вы не послушали моих советов, Фике? Этот портрет все испортит… А вы, дочь моя, вы все же воистину отвратительны…
– Разве это произведение искусства? – поднял брови Фридрих. – Это бездарная мазня! Однако же, – задумчиво произнес он, помолчав, – по крайней мере девушка хотя бы похожа на саму себя. А этого вполне достаточно… Юный Петр, говорят, далек от живописи.
Наверняка он будет оценивать не мастерство художника…
Сама же София портрет видела только мельком. Да и кто бы стал спрашивать ее мнение? Вершилась великая политика, а девушка была лишь пешкой в большой игре. Ни королю, ни принцу Христиану, ни Иоганне не пришло в голову, что принцесса все видит, ничего не забывает и дает вполне правильную оценку всем происходящим событиям.
Забавно, что никто из наставников так и не увидел в Софии сколько-нибудь заметного ума. Хотя по прошествии многих лет – история знает сотни примеров этого – находятся современники, которые давным-давно разглядели в великом человеке его величие. Но с Софией Августой все было не так.
– Полагаю, вы слишком строги к своей дочери, милая Иоганна, – говорила княгине, прогуливаясь по замковому саду, ее статс-дама и близкая подруга, баронесса фон Принцен. – Девочка мила и обаятельна, правда, вы совершенно правы, немного скованна и неуклюжа. Но, право же, причина этому – лишь ее юный возраст и неуверенность в своих силах.
– Уж не хотите ли вы сказать, – хмыкнула Иоганна, – что на Фике можно делать серьезные ставки? Я надеюсь только на вариант с Петром и с ужасом думаю о том, что моя маленькая дурочка Фике проворонит такой шанс… Не представляю, что мы будем делать, если она не понравится наследнику русского престола…
– Вы выдадите ее замуж за какого-нибудь кузена, только и всего!
– Ах, какие кузены! Наконец-то после долгих мучений и прозябания здесь, в этом замке, мне выпала возможность блистать при дворе, а Фике… Фике… Она глупа и неосмотрительна, кроме того, упряма и, что уж совсем плохо, некрасива. Нет, с такой дочерью, даже если она понравится этому мальчишке, мне будет очень сложно… Мне будет откровенно стыдно, поймите, дорогая…
– Иоганна, вы преувеличиваете! Да, она не красавица, ей далеко до вас и в изысканности манер, и в воспитанности, и в образованности… – В серых глазах баронессы на мгновение мелькнул смех. – Но я вижу в ней ум – к тому же ум серьезный, расчетливый и холодный. При этом он столь же далек от всего выдающегося, яркого, как и от всего, что считается заблуждением или легкомыслием. Да, она будет самой обыкновенной женщиной, но, возможно, это и неплохо для тех, кто вершит судьбы при российском дворе, – разве нужна Европе вторая Елизавета?
– Может быть, вы и правы… Что до ее ума, меня очень насмешил на днях граф Гилленборг – вы ведь еще не виделись с ним, он только что приехал из Швеции? Представьте, он нашел в пустышке Фике, как он выразился, «философское расположение ума» и считает, что она внутренне даже выше лет своих…
Должно быть, именно это «философское расположение ума» и позволило Фике выдержать полную неизвестность. Девушка должна была питать надежды – и боялась верить. Несколько месяцев самой тягостной неизвестности, неопределенности, никто ничего не знает толком, полной уверенности нет…
Неизвестность, однако, длилась не очень долго. В январе 1744 года курьер из России привез Иоганне письмо от Брюммера: воспитатель наследника приглашал герцогиню с дочерью немедленно пуститься в дорогу, чтобы посетить российский императорский двор.
Именно таковы были формулировки! Еще ничего окончательно не решено! А значит – вновь неизвестность, безумные надежды и боязнь верить… Герцогине предписывалось выезжать немедленно. Свиту велено было сократить до минимума: статс-дама, две горничные, офицер, повар, двое, самое большее – трое лакеев. Принцу Христиану супругу и дочь сопровождать запрещалось. Цель путешествия следовало хранить в глубокой тайне, весь мир должен был считать, что Иоганна едет, дабы поблагодарить Елизавету за все прошлые милости и дружеское расположение.
А через несколько часов у герцога появился и курьер от Фридриха Великого. Король разъяснял Иоганне (но опять не Софии!) причины, по которым ее с дочерью вызывают в Петербург. И вновь неизвестность, пусть теперь и расцвеченная надеждами. Но все же, все же, все же…
Из «Собственноручных записок императрицы Екатерины II»
Как только прибыл в Россию голштинский двор, за ним последовало и шведское посольство, которое прибыло, чтобы просить у императрицы ея племянника для наследования шведскаго престола. Но Елизавета, уже объявившая свои намерения, как выше сказано, в предварительных статьях мира в Або, ответила шведскому сейму, что она объявила своего племянника наследником русскаго престола и что она держалась предварительных статей мира в Або, который назначал Швеции предполагаемым наследником короны принца-правителя Голштинии. (Этот принц имел брата, с которым императрица Елизавета была помолвлена после смерти Петра I.
Этот брак не состоялся, потому что принц умер от оспы через несколько недель после обручения; императрица Елизавета сохранила о нем очень трогательное воспоминание и давала тому доказательства всей семье этого принца.) Итак, Петр III был объявлен наследником Елизаветы и русским великим князем, вслед за исповеданием своей веры по обряду православной церкви; в наставники ему дали Симеона Теодорскаго, ставшего потом архиепископом Псковским. Этот принц был крещен и воспитан по лютеранскому обряду, самому суровому и наименее терпимому, так как с детства он всегда был неподатлив для всякаго назидания. Я слышала от его приближенных, что в Киле стоило величайшаго труда посылать его в церковь по воскресеньям и праздникам и побуждать его к исполнению обрядностей, какия от него требовали, и что он большей частью проявлял неверие. Его Высочество позволял себе спорить с Симеоном Теодорским относительно каждаго пункта; часто призывались его приближенные, чтобы решительно прервать схватку и умерить пыл, какой в нее вносили; наконец с большой горечью он покорялся тому, чего желала императрица, его тетка, хотя он и не раз давал почувствовать, по предубеждению ли, по привычке ли, или из духа противоречия, что предпочел бы уехать в Швецию, чем оставаться в России. Он держал при себе Брюммера, Бергхольца и своих голштинских приближенных, вплоть до своей женитьбы; к ним прибавили, для формы, нескольких учителей: одного, Исаака Веселовскаго, для русскаго языка – он изредка приходил к нему вначале, а потом и вовсе не стал ходить; другого – профессора Штелина, который должен был обучать его математике и истории, а в сущности играл с ним и служил ему чуть не шутом. Самым усердным учителем был Ланлэ, балетмейстер, учивший его танцам.
Глава 4 Навстречу своей судьбе
Январь 1744
«Тихо… Как тихо…»
На мерзлые камни двора падали редкие снежинки – слишком медленно, будто ни за что не хотели достигать каменных плит, которыми был вымощен внутренний двор княжеского замка. Мрачные стены с тяжелыми зубцами вздымались вверх, и казалось, что за ними нет ничего – что мир начинается и заканчивается здесь, в личных владениях князя Ангальт-Цербстского.
«Говорят, что большая часть России покрыта снегом и дикими лесами, а русские крестьяне невежественны и грубы… Эта страна словно не имеет границ… Она беспредельна… А как она богата – отец говорил, что запасы ее неисчерпаемы. Как, наверно, прекрасно управлять такой страной и быть матерью ее народу! Если бы только понравиться Елизавете и Петру… Я бы любила его и была верна. Я бы сделала Россию просвещенной державой, и никакой другой европейский двор не мог бы сравниться величием и пышностью с российским…»
Итак, завтра в путь – навстречу своей судьбе. Что принесет Фике это странствие? Вернется ли она в Цербст еще когда-нибудь? Повезет ли ей остаться в России? Или повезет, если Елизавета ее не признает?
София неподвижно стояла у окна и смотрела в темноту. Где-то там, за тысячи миль, была Россия. Многие дни пути, многие дни неизвестности…
«Что, если великая императрица решит, что я не гожусь в невесты наследнику престола? Что мне делать тогда?»
Отчего-то многим из нас свойственно в первую очередь рассматривать худший из исходов. Хотя как знать, что хуже? Зачастую отказ подвигает нас на усилия, которых мы никогда бы не стали прикладывать, сложись все благополучно, и мы достигаем куда большего, хотя и не совсем того, чего желали. Напротив, когда наши мечты сбываются, мы порой не испытываем радости, которую, конечно, должны были бы ощутить. В душе же остается странное чувство: «Иначе и быть не могло!»
Невидяще глядя в ночную тьму, София сейчас думала в первую очередь об отказе. Об отказе Елизаветы назвать ее своей невесткой. Тогда планы матери, политический расчет короля, надежды двора – все пошло бы прахом.
«Но ведь это всего лишь политические надежды, политические планы! А где же я? Что будет со мной, если придется возвращаться?»
Да, если придется возвращаться, все политические расчеты окажутся просто пустой интригой. И тогда она сама, София Августа, останется просто пешкой, которой не повезло, – пешкой, которая не удержалась на шахматной доске жизни. И конечно, о жизни этой самой пешки уже никто и не задумается. Она просто перестанет существовать, будто ее и не было вовсе.
«Значит, я должна сделать так, чтобы Елизавета приняла меня не просто как возможную невесту, а как единственно возможную. Так, словно никаких других девушек нет и никогда не было в этом мире!»
И вновь София подумала только о Елизавете, только о политике, но не о себе самой и не о том юноше, который и должен стать ее мужем…
«Стать той самой, о которой мечтает Елизавета. Но как? Наверное, единственная возможность – это оставаться самой собой, но принять новую для меня страну как свою – со всеми ее достоинствами и недостатками, со всеми традициями и праздниками, с ужасным языком и непогодой, холодами… Так, словно иной родины у меня никогда не было, так, словно эти бесконечные просторы были моими всегда и лишь по злобному замыслу Фортуны я провела вдали от России долгих пятнадцать лет. И для этого мне нужно узнать о России все! Но конечно, не от бонны или пастора, не от отца или матушки. Ах, как жаль, что Бецкой так далеко сейчас отсюда! Он бы помог мне, он бы ответил на все мои вопросы…»
Только сейчас, только приняв решение, Фике вспомнила о Карле Ульрихе, Петре Федоровиче. Вспомнила таким, каким видела его пять лет назад. Она невольно содрогнулась… Вряд ли Петр с тех пор сильно изменился. Да и возможно ли это? Должно быть, по-прежнему выстраивает придворных, как солдат на плацу, должно быть, все так же бьет свою собачонку…
«Хочу ли я быть его женой? Женой такого человека? Готова ли полюбить его, готова ли отдаваться ему, рожать его детей? Готова ли?»
Давняя зависть и обида всколыхнулись. Вернулись отголоски давно придушенной боли. Сейчас она вновь стояла у ступеней замка и этот ничтожный мальчишка вновь спрашивал: «Кто вы такие? Зачем пожаловали?» Да, сейчас бы она нашлась что ответить, как приструнить его. Но…
Но ведь этот человек должен стать ее мужем. Именно с ним она должна будет прожить весь свой век. Именно с ним и править должна будет, когда Елизавета передаст племяннику корону.
(Так уж устроена была Фике, что о смерти думать не любила. Пусть она и не была знакома с императрицей Елизаветой, но думать о том, что Петр станет императором, только когда его тетушка умрет, не желала.)
Итак, ей предстоит стать своей в чужой для себя стране. Стать желанной для совершенно чужого человека. Стать… Да просто стать совсем другой, оставаясь при этом самой собой.
«Я буду любить эту страну уже хотя бы потому, что она станет моей страной на долгие годы. Я буду любить мой народ, ибо наверняка мне встретится множество отличных людей. Я буду любить императрицу Елизавету, ибо она дала мне шанс перехитрить судьбу, переродиться, стать другим человеком. Я буду любить своего мужа… Буду любить потому, что все иное недостойно звания герцогини и великой княгини».
Увы, София еще не очень хорошо понимала, что значит любить, еще не представляла, каким может быть это чувство. И конечно, знать не знала о том, что подлинная любовь не возникает только оттого, что человек решил кого-то любить. Что любишь человека… да просто потому, что любишь. Что в нем одном сосредоточен для тебя весь огромный мир. Что прикосновение к нему приносит счастье, что беседа с ним полна отрады, что миг, когда ты ощутишь ответное чувство, запомнится тебе как самый яркий – навсегда. Что сама любовь поднимает тебя над обычным миром так, словно тебе одному дано парить в вышине. Тебе, да еще, быть может, ангелам.
И конечно, Фике еще не понимала, что любить из-за того, что ты это решил, – невозможно. Возможно более или менее успешно делать вид, соблюдая формальности, но приказать сердцу… Увы, приказать сердцу невозможно, как бы ты ни пытался это сделать. И чем больше ты пытаешься приказать ему, тем менее охотно оно тебя слушает.
Фике сейчас знала лишь, что готова ощутить в себе это великое чувство. Готова одарить им и наследника престола, и императрицу, ведь своих детей у нее нет, так пусть же ее, Софии, любовь будет ей дана.
«Но что будет, если они моего чувства не примут? Если укажут мне место подле себя, но лишь оттого, что иное противно их целям? Что, если им нужна буду я лишь как мать детей наследника престола? Смогу ли я сдержаться, смогу ли принять такие правила игры?»
Все-таки София Августа была принцессой. И конечно, она не раз сталкивалась именно с такой ситуацией. Увы, мир высокой политики беспощаден и менее всего считается с чувствами человеческими. Так что же, вновь и вновь спрашивала себя Фике, смогла бы она удовольствоваться только такой ролью?
«Да, думаю, смогла бы. Я бы отдала всю свою любовь детям. Отдала бы им все, что знаю, чему еще научусь. В них бы нашла смысл своей жизни – в их воспитании и образовании. Их бы сделала монархами, любящими свою страну и свой народ, желающими одного лишь добра каждому своему подданному и отдающими себя без остатка служению этому народу!»
О, если бы мир стоял на воплощенных решениях! Если бы все мечты юной Фике воплотились в жизнь! Интересно, какой бы тогда была страна, куда Софии Августе только предстояло отправиться?
Попытаемся мысленно перенестись на десять или пятнадцать лет вперед. София Августа любит своего мужа, полна уважения к огромной России и не мыслит себе иной жизни. Она воспитывает троих чудных малышей, старший из которых, наследник престола Павел Петрович, как две капли воды похож на отца. Утомившаяся от правления Елизавета еще семь лет назад передала племяннику престол и теперь наслаждается жизнью в загородном имении, вместе с невесткой воспитывая внуков.
Цветет страна под мудрым и справедливым правлением императора Петра Третьего. Цветет от счастья и слегка поправившаяся Фике. Она чувствует себя на своем месте: муж ее любит, ее мнение уважает, к словам прислушивается, советы принимает.
Прекрасная картина, верно?
Быть может, все так и будет? Ведь решения Фике тверды, отступать от любого из них она не станет – такой уж уродилась на свет. Нам остается только последовать за принцессой в далекую Россию и узнать, такой ли, как мечталось, стала жизнь Софии Августы Ангальт-Цербстской.
Из «Собственноручных записок императрицы Екатерины II»
Я желаю и хочу лишь блага той стране, в которую привел меня Господь; Он мне в том свидетель. Слава страны – создает мою славу. Вот мое правило: я буду счастлива, если мои мысли могут тому способствовать.
Государи кажутся более великими по мере того, как вельможи страны и приближенные более удовлетворяются в отношении богатства; изобилие должно царить в их домах, но не ложное изобилие, основанное на неоплатных долгах, ибо тогда, вместо величия, это становится лишь смешным тщеславием, над которым смеются иностранцы; я хочу, чтобы страна и подданные были богаты, – вот начало, от которого я отправляюсь; чрез разумную бережливость они этого достигнут.
Признаюсь, что, хотя я свободна от предрассудков и от природы ума философского, я чувствую в себе большую склонность почитать древние роды; я страдаю, видя, что некоторые из них доведены здесь до нищенства; мне было бы приятно их поднять. Можно было бы достичь восстановления их блеска, украсив орденами и должностями старшего в роде, если у него есть какие-нибудь достоинства, и давая ему пенсии и даже земли по мере нужды и заслуг, с условием, что они будут переходить только старшим и что они будут неотчуждаемы.
Мир необходим этой обширной империи; мы нуждаемся в населении, а не в опустошениях; заставьте кишеть народом наши обширные пустыни, если это возможно; для достижения этого не думаю, чтобы полезно было заставлять наши нехристианские народности принимать нашу веру; многоженство более полезно для [умножения] населения; вот, что касается внутренних дел. Что касается внешних дел, то мир гораздо скорее даст нам равновесие, нежели случайности войны, всегда разорительной.
Глава 5 Ода бережливости
1744
– Христиан! Мы должны ехать в Россию вот на этом?!
– Пойми, дорогая, что мы не можем позволить себе дорогие экипажи! У нас попросту нет на это денег!
– Но София едет в Россию, к самой императрице! Неужели ты позволишь, чтобы наша дочь, возможно будущая невеста российского царя, приехала в Петербург словно побирушка?!
Гнев матери смущал Софию. Ей было жаль отца и немного стыдно.
– Мы не можем вести себя так, как будто в нашей казне полно денег, Иоганна! Пусть этот русский царь делает ей подарки, если захочет, а если нет, будь уверена – эти старые кареты выдержат еще не одну такую поездку. Наша девочка вернется домой, и дело с концом.
– Как ты можешь так говорить, Христиан! Где мы найдем ей нового мужа, если Петру она не придется по душе – и только потому, кстати, что покажется ему гадким утенком рядом с его придворными дамами? Да и она сама – каково ей будет, насмотревшись на роскошь императора, выходить замуж за какого-то мелкого князька? Разве у нас есть выбор, Христиан? Разве мы не должны использовать этот шанс? Раз в жизни – раз в жизни предоставляется такая возможность! Наша дочь должна быть ослепительной! Она должна произвести впечатление на императрицу! А я? Как я явлюсь к его престолу в таком виде?
Отец вздохнул. Его усталые, полные печали глаза скользнули по Софии, и он поднял взгляд на жену.
– Ты не невеста русского царя, а ее мать, – слабая улыбка тронула его губы.
– И что же – я должна предстать перед русскими в таком экипаже? Да лучше бы я пришла туда пешком, как самая последняя нищенка, каковой, впрочем, и являюсь! Христиан, у тебя было столько времени, чтобы подготовить для нас кареты! Ты мог бы попросить их у Фридриха! Боже мой, кайзер настолько заинтересован в успехе нашего вояжа, что он бы не пожалел денег! А ты, ты… Как всегда, ты не смог воспользоваться тем, что дала тебе судьба! Мы с Фике в Петербурге – на жалких клячах, в жалких обносках!
– Довольно, Иоганна! Три платья, скромные колье и браслеты к каждому – более чем достаточно для юной принцессы! И ты забываешь о еде, воде и снаряжении для каждого, кто отправляется в путь! Шесть недель – очень долгий срок. А русский холод известен всем.
Такие перепалки случались теперь почти каждый день, становились почти привычными. Тогда София неслышно отступала в тень, быстро спускалась по узкой лестнице и убегала к конюшням, туда, где тепло и уютно пахло лошадьми и сеном, кормила хлебом своего любимца – рослого скакуна Огненного – и думала, думала… Но сегодня был день отъезда, и позволить себе такую роскошь она не могла. София только что обняла отца последний раз, последний раз, скрывая слезы, уткнулась щекой в его жесткий мундир и, когда он перекрестил ее на прощание, последний раз поцеловала в холодную твердую щеку…
«Как уехать отсюда? Возможно, я никогда больше не вернусь в родной дом, не увижу отца… Мама жестока, но она права. Как жить здесь – когда не хватает средств даже на содержание замка? Вокруг целый мир – а я? Где в этом мире я? Выйти замуж за князя и всю жизнь считать пфенниги, заботясь только о том, как бы дотянуть до весны и где взять денег на новую карету? Нет, такая жизнь не по мне!»
Зима выдалась необыкновенно холодной, но снега еще не было. Говорили, что там, в России, уже ноги лошадей вязнут по бабки, что путники с трудом преодолевают за день пятую часть обычного дневного перехода, что волки рыщут прямо на проезжих трактах, а крестьяне так оголодали, что отгоняют волков и сами охотятся за глупыми путешественниками, решившими отправиться в путь в такую адскую погоду.
Вот поэтому и были за каретами привязаны сани – чтобы незамедлительно переставить на них карету, как только первые снежинки закружатся в воздухе. Да и сами кареты, как бы тщательно их ни готовили к предстоящему важному странствию, все-таки свои лучшие дни знавали более чем давно. Заштатное княжество, увы, действительно не могло похвастать элегантными экипажами, каким только и можно доверить столь важных путешественников. Они тряслись на замерзших колдобинах и стонали почти человеческими голосами, стоило лишь кучеру слегка поторопить лошадей.
Итак, по разбитым дорогам, волоча сани за собой, Иоганна и Фике, «простые путешественницы графини Рейнбек», отправились по почтовому тракту в то самое путешествие.
Ехали долго и тяжко, постоялые дворы находились в состоянии столь плачевном, что решиться отдохнуть в них можно было только из-за крайней усталости. Иоган на слала мужу панические депеши, описывая все страдания «графинь». Увы, это была чистая правда: путники ночевали вместе с владельцами постоялого двора в одном большом помещении. Кров с ними делила и домашняя живность: свиньи, куры. Если удавалось выпросить высокую скамью и таким образом уберечь себя от неизбежного нашествия полчища клопов, герцогиня была счастлива, хотя, конечно, не преминула многословно пожаловаться мужу на то, как жестко, неудобно и неуютно. Миновали Данциг, преодолели Вислу, на третий день оставив за спиной Кенигсберг, оттуда повернули на Мемель.
Здесь уже на целый локоть лежали глубокие снега, экипажи переставили на санные полозья. Наконец караван стал выглядеть относительно благопристойно. За Мемелем почтовый тракт закончился, и до Либавы катили просто по наезженному санному пути. Пятого февраля, измученные холодом и неудобствами, путешественницы добрались наконец до Митавы. Фике впервые увидела деревянные избы…
– Матушка, здесь живут люди?
– Да, дочь моя, здесь живут люди. Вся Россия живет так – привыкайте. Вы видите: Россия бедна, забита, запугана.
«Но отчего же тогда вы, матушка, с такой радостью сопровождаете меня? Отчего так высоко оцениваете грядущий мой брак? Что хорошего в том, что я стану императрицей в этой забитой и запуганной стране?» Однако вслух, конечно, Фике этого не произнесла: она видела, сколько злости и зависти на лице матери, и понимала, что та просто ревнует. Ревнует собственную дочь к тем радужным перспективам, которые – уж герцогиня-то отлично понимала это – давало будущее замужество Фике. Ей, а не герцогине Иоганне Елизавете, достанутся титулы, звания и драгоценности. Ей будут кланяться в пол, ее милости искать, ее молить о благосклонности. Ее, пятнадцатилетнюю дурочку и дурнушку, а не красавицу герцогиню.
И правда, при одной этой мысли у Иоганны на глазах выступали слезы. Она в очередной раз давала себе зарок, что сделает свою старшую дочь послушным инструментом в собственных руках. Давала, но опасалась, что зароку этому суждено остаться пустыми словами – уж очень строптивой выросла дурочка Фике. А тут еще и поручения, которыми ее «облагодетельствовал» король Фридрих… Тайные депеши, кои следовало передать посланнику при елизаветинском дворе, да сделать это так, словно депеш этих никогда и не было… Более того, нужно было дождаться подробных ответов и переслать с доверенным человеком в Цербст глупцу Христиану, чтобы тот передал их своему «венценосному брату».
Иоганна понимала, что речь идет о настоящем, стопроцентном шпионаже, и не могла не дрожать от одной мысли об этом. Но еще больший ужас у нее вызывали мысли о том, что с ней будет, если эта история вскроется. Герцогиню не занимал вопрос, что станет с дочерью. А вот что будет с ней, красавицей Иоганной… Это, увы, она могла представить очень хорошо.
– Привыкайте, Фике, – вновь повторила герцогиня.
«Бедная страна, матушка? Нищие люди? А мы с вами? – продолжила безмолвную беседу Фике. – Три платья, всего три платья, позор! Медный кувшин, все мое имущество… И это не нищета? Что ж, матушка, я выдержу и это! Для меня это будут лишь первые шаги в новый мир. А вот для вас каждый из них, думаю, может превратиться в последний!»
Из Митавского замка в Ригу путешественниц, уже не неведомых никому графинь, а герцогиню Ангальт с дочерью, сопровождал пышный эскорт – драгуны с палашами наголо. Звенела промерзлая амуниция, сверкали клинки, фыркали сытые лошади, а за ними вихрилась снежная пыль. «Россия, Россия… вот какая она, Россия!» Драгуны уверенно сидели на массивных лошадях, сливались с ними в единое целое. «Должно быть, такими были кентавры из античных мифов», – подумалось мимолетно. Вскоре за широкой рекой показались угрюмый замок, шпили храмов и соборов, над острыми крышами домов плыли синие уютные дымы. Это была Рига – западные ворота России.
У городских ворот мать и дочь встретили все гражданские и военные власти – в полном составе – во главе с вице-губернатором князем Долгоруким. Обеих пересадили в парадную карету и торжественно, под гром пушечного салюта, повезли во дворец. Роскошно обставленные залы, часовые в ярких мундирах у каждой двери, барабанная дробь (опять-таки, в честь приезжих), расшитые золотом мундиры, великолепные платья, сияние бриллиантов… Когда Иоганна с дочерью на другой день отправились обедать, снова стали бить барабаны, им вторили трубы, флейты, гобои… Сказка!
Немецкие простушки еще представления не имели, что все это – присказка, по столичным российским меркам – глухая провинция.
В рижском замке, жарко протопленном, царило столь пышное оживление, что в глазах герцогини сразу и навсегда померкли краски берлинских и брауншвейгских празднеств.
– А ведь это еще только Рига, – шепнула она дочери. – Я сгораю от любопытства: что-то будет с нами в Петербурге?
Фике растерялась среди важных персон, отпускавших низкие поклоны, среди осыпанных бриллиантами дам, приседавших перед ней в величавых реверансах. Слышалась многоголосая речь – русская, немецкая, польская, французская, английская, сербская, молдавская, даже татарская. У герцогини закружилась голова от обилия золота и бархата, серебра и шелка, алмазов и ароматных курений. Палочкой-выручалочкой в этом заколдованном замке стал для приезжих камергер царицы Семен Нарышкин.
– А государыня – в Москве. Вас отвезут туда, когда вы немного отдохнете.
София была ошеломлена. При ее появлении великаны преображенцы брали «на караул», а флейты и гобои начинали исполнять пасторальные мотивы. Ей кланялись, ей оказывали почтение… Иоганна, пораженная роскошным приемом не меньше, а то и больше дочери, писала мужу: «Не могу поверить, что все это делается для меня… В Германии в мою честь еле слышно стучали в барабан, а чаще всего и того не делали…» О дочери в этих письмах не говорилось ни слова…
София Августа видела все. И все понимала.
«Смотри, Фике, вот так поступают глупцы и эгоисты, – шептали принцессе наблюдательность и здравый смысл. – Запоминай и не повторяй ошибок матушки. Твоя цель слишком велика… Молчи, но делай выводы! И это будет самое разумное поведение!»
Камергер царицы был очень удивлен, когда однажды утром невеста наследника престола, милая девочка, в дешевеньком платье, со скромной прической, с тихой улыбкой, обратилась к нему с просьбой:
– Господин Нарышкин, мне бы очень хотелось узнать побольше о правилах и обычаях при императорском дворе. Я ничего о них не знаю… Если бы вы согласились помочь мне, я была бы чрезвычайно рада и признательна вам.
– С удовольствием помогу вам, ваше высочество, – сказал Нарышкин с поклоном. – Вероятно, вас более всего интересуют вопросы поведения на приемах, этикета и моды?
– О нет! – воскликнула София, вскинув на камергера блестящие черные глаза. – Я бы предпочла… Возможно, вас не затруднит объяснить мне некоторые тонкости… Словом, то, что поможет мне лучше понять двор и… Россию… Что принято при дворе, как необходимо вести себя… И я бы очень хотела знать… каковы пристрастия народа российского…
– Конечно же, ваше высочество… – отвечал изумленный Нарышкин. – Я запишу для вас необходимые сведения и составлю рескрипт.
Просияв и поблагодарив, Фике покинула камергера, едва сдерживаясь, чтобы от радости не бежать вприпрыжку по запутанным коридорам дворца…
Камергер царицы был одним из тех первых русских, у которых следовало бы учиться всему, что может пригодиться в этой огромной стране. София многие годы будет вести дневник, где найдут свое место и мысли по поводу самых разных событий, впечатления от прочитанного, заметки о традициях и привычках. Но тот рескрипт, писанный второпях в одной из комнат Рижского замка, останется с ней навсегда.
Впереди лежала Россия – неведомая страна, где скрипели под полозьями саней роскошные снега. Ухали, пробивая твердый наст, копыта кавалерийского эскорта. Выехали из Риги утром и еще засветло достигли Дерпта – дороги были на диво гладкие, по вечерам каждая верста освещалась бочкой с горящей смолой. Бюргерская Нарва встретила их яркой иллюминацией, а за Нарвой открылся путь на Петербург…
Несмотря на лютый мороз, ухабы и вой волков по ночам, Фике все больше нравилась Россия. На границе они сменили неудобную тряскую карету на теплые сани с небольшой печкой, и ехать стало гораздо комфортнее и быстрее. Несколько раз останавливались на ночлег в деревенских домах, и Фике с любопытством осматривала огромную печь, от которой было так жарко, что мгновенно начинали пылать замерзшие щеки, лежанку со странным названием «полати», на которой ютились хозяйские дети, лавки вдоль стен и иконы по углам. Ночью, лежа без сна, она могла часами смотреть через затянутое бычьим пузырем окно в темно-синее звездное небо и думать о том, что так же, как это небо, необъятна русская земля, с ее лесами, бесконечными, занесенными снегом дорогами, елями, подпирающими облака, треском костров и криками кучеров, слабым запахом соломы в сенях и мычанием коров в хлеву.
Где-то впереди ждал Петербург, но до него было, как до этого самого неба, а Штеттин остался уже слишком далеко, и казалось, что она затеряна здесь, среди деревянных изб и колодцев, навсегда. Дни, недели проносились в гонке по российским дорогам, на которых что ни поворот, то заносило сани, а Петербург все еще был далеко, и иногда Фике думала, что его и нет на самом деле, ведь не может существовать город-мечта, который все отдаляют и отдаляют от нее снежные русские версты, а он манит и манит, и сколько в нем вымысла, а сколько правды, не скажет никто и никогда…
Отправлялись в путь ранним утром, в окно Фике видела, как постепенно светлело, голубело, наливалось ярким золотым светом холодное русское небо, а тонкие березы, попадавшиеся вдоль дороги, выделялись своими темными полосками на фоне ослепительного снега, и трещали ветви от мороза, и солнце слепило глаза, а кучер покрикивал, и не было конца-краю верстам, и снегам, и полям…
E. И. В. Екатерина II «О величии России»
Сильная душа мало способна на совет душе слабой, ибо эта последняя не в состоянии следовать и даже оценить то, что первая предлагает ей согласно своему характеру; вообще, советовать – вещь чрезвычайно трудная; я хорошо знаю, как исполнить обдуманное мною дело, но у того, кому я советую, нет ни моей мысли, ни моей деятельности при осуществлении моего совета. Это размышление всегда меня располагало, при советах, какие я принимала от других, входить в мельчайшие подробности, даже усваивать слова того, кто мне советовал, и следовать совершенно его мысли. Это следствие моей осторожности ради успеха часто заставляло думать, что я была управляема, между тем как я действовала с открытыми глазами и единственно занятая удачей, всегда ненадежной, как только не сам задумаешь дело, которое собираешься совершить, ибо кто может поручиться, что способ соответствует вашему характеру, даже если он вам нравится.
Глава 6 Смущение духа
1744
На одной из станций их нагнал курьер из Петербурга. Велено было ехать быстрее, и им поменяли лошадей и эскорт. Теперь Фике казалось, что сани летят, почти не касаясь наста, а молодой офицер, скачущий рядом, на самом деле не человек, а таинственное, волшебное существо в развевающемся плаще и с яркими черными глазами…
Глаза эти приводили Фике в смущение каждый раз, когда она наталкивалась на их прямой, в упор, жгучий взгляд. Офицеру было, вероятно, чуть за двадцать. Фике слышала, как товарищи называли его Темкин, и это странное, непривычное имя чудным образом притягивало ее к нему, заставляло вновь и вновь задумываться, удивляться и вспоминать крутые тонкие брови над горячими глазами, высокий лоб и точеный нос, насмешливые губы, которые, однако, готовы были в любой момент, когда юноша встречал ее взгляд, сложиться в почтительную улыбку. Фике ловила себя на том, что ищет его взгляд, а поймав, вспыхивала и старательно напускала на себя надменный вид, вспоминая, что она – наследница ангальт-цербстского престола и невеста русского великого князя, а этот красавец в офицерской форме (которая, черт побери, очень ему шла!) – всего лишь сопровождающее лицо, помощник, слуга.
Этот помощник, этот слуга, казалось, вовсе не смущался тем, что приставлен к самой принцессе. Иоганна только хмыкала, глядя на то, как уверенно и красиво несет он свою гордую голову, как склоняется в поклоне и слегка кивает в ответ на просьбы. Он летел на своем коне, как всадник из сказки, как будто сливался с конем в единое целое, он выполнял и серьезные и крошечные указания так внимательно и быстро, что даже княгиня не могла придраться и возмутиться чем-либо.
– Давно вы на службе у ее величества? – спросила как-то Фике.
Они вышли из постоялого двора и направлялись к саням, в которых уже сидела мать. Иоганна очень плохо переносила русские морозы и старалась не отходить далеко от теплой печки. Она и ехала так, почти не отходя от огня, протягивая к нему руки в тонких перчатках и то и дело потирая их. Она так часто просила подать чего-нибудь согревающего и так сокрушалась о слабом здоровье Фике, что девушка только диву давалась. Ее холодная, неприступная мать действительно боялась приезда в русскую столицу – морозы, болота и русские невежи вызывали у нее отвращение и неприязнь.
– Несколько лет.
– Вам нравится служить?
Черные глаза блеснули – насмешкой? Фике готова была поклясться, что в них промелькнул искренний смех, но вежливое, почтительное выражение на лице офицера не допускало и мысли об этом.
– Я дворянин, ваше высочество. Служба ее величеству – честь для каждого из нас.
– Неужели вам никогда не хотелось заняться чем-нибудь еще?
– Чем же, например, ваше высочество?
Опять этот легкий смех в глазах…
– О, я, право, не знаю. Ваша страна так богата, что, вероятно, было бы весьма увлекательно заняться ее благоустройством…
– Я офицер, ваше высочество. Если моей стране, моей императрице угрожает опасность, я всегда готов выступить на ее защиту. Однако же, полагаю, во мне нет ни малейшей склонности к хозяйственной деятельности.
– Ах, а я была бы счастлива, если бы могла повлиять на что-либо в стране… Знаете, княжество моего отца нельзя назвать богатым, но он прилагает столько усилий к его процветанию, что мне кажется, будет только справедливо, если Бог вознаградит его за труды. Я вижу в России очень много простора, но и очень много беспорядка. Разве вам не хотелось бы, Темкин, чтобы Россия стала процветающей страной?
Офицер помолчал.
– Я думаю, у каждого из нас свое предназначение, принцесса. Но признаюсь, полагаю, что вы, как никто другой, подходите на роль правительницы России.
Фике вспыхнула.
– Почему вы так полагаете?
– Я знаю наследника престола, он очень непростой человек. Однако смею предположить, что ваше влияние окажет на него благотворное действие. Цесаревич Петр нуждается в добром и мудром руководстве.
– Меня удивляют ваши слова.
– Ваше высочество, цесаревич еще очень молод. Что касается меня, я был бы счастлив… видеть вас в Петербурге.
Фике быстро взглянула на него. Черные глаза не избегали ее взгляда, жгли словно огнем.
Графу Алексею Темкину было двадцать пять лет. С ранней юности находясь при дворе, он успел, однако, поучаствовать в нескольких сражениях и покрыть себя славой редкого смельчака и прекрасного фехтовальщика. Его семья была богата и влиятельна, и еще до того, как вылететь из родительского гнезда, он побывал во многих странах – в том числе и в Пруссии, – знал толк в хорошей еде, дорогих винах, светских беседах, изысканных вечерах, полезных знакомствах, был знаком с представителями многих известнейших фамилий Европы, разбирался в людях и европейской политике и в целом вел именно тот образ жизни, которого не мог обеспечить своему семейству вечно пребывающий в долгах князь Ангальт-Цербтский и к которому всей душой стремилась княгиня Иоганна, – то есть любил и умел тратить деньги, имел возможность позволить себе все и ни в чем себе не отказывал. Однако это не мешало ему оставаться верным долгу дворянина и офицера – честь была для него дороже всего на свете, и ни к чему он не относился так ревностно, как к своему доброму имени.
Отец Алексея, человек прямой и жесткий, смолоду отличался крутым и пылким нравом. Всю жизнь он занимал важные посты в Петербурге, Париже, Берлине. О его любовных похождениях ходили легенды, и Петербург полнился слухами о множестве его внебрачных детей, разбросанных по всей России, а то и по всей Европе. Однако, как бы то ни было, законный сын у него был один, Алексей, и вырос он окруженный любовью и заботой и своего строгого отца, и кроткой матери.
Алексей был строен, прекрасно сложен и очень красив – очень мужской, уже очень зрелой красотой, и не было женщины, которая, увидев его, не взглянула бы на него снова. Он никогда не был женат – его невеста умерла от горячки несколько лет назад, и с тех пор за ним замечали только случайные связи – не более. Он держался всегда ровно и спокойно, и его общество было одним из самых приятных в свете, так как его редкостное дружелюбие и расположенность к людям делали его чрезвычайно приятным собеседником. Он был отважен, но не безрассуден, а хладнокровен и не раз и не два побеждал даже противников, превосходивших его ростом и силой. Лицо его светилось приветливостью, но и властностью, голос был глубокий и мелодичный. Он превосходно ездил верхом и мог бы провести в седле несколько дней подряд. Он отличался недюжинным умом и благородством, его образование было всесторонним, воспитание – утонченным, и это сквозило в каждом его слове, взгляде и жесте. Он был добр и всегда готов прийти на помощь. Многие искали его дружбы, но друзьями становились не многие.
Девушка, которую прочили в невесты великому князю Петру, вызывала у Алексея Темкина живейший интерес. Он давно жил при дворе, знал его нравы, уже не раз выполнял особые поручения императрицы Елизаветы, имел дело с важными гостями двора и лучше чем кто бы то ни было представлял себе, с чем предстоит столкнуться этой девушке в Петербурге. Конечно же, он знал и Петра, а потому, слыша разговоры принцессы Софии с матерью и понимая, что девушка искренне стремится к своему предполагаемому жениху, не мог не испытывать к ней сочувствия – жестокие причуды великого князя были известны всем в императорском дворце.
Принцесса искренне восхищалась Россией. Она не отрывалась от окна кареты, следила восхищенным взглядом за всем, что происходило за окном. На постоялых дворах она забрасывала его вопросами: что это такое? почему женщины так одеты? откуда приехали эти люди? кто они? как сказать по-русски «здравствуйте», «благодарю вас», «прошу прощения», «будьте любезны» и так далее, и так далее. Темкин был уверен: если бы это было возможно и если бы ей позволили, она бы вступала в беседы с каждым встречным русским, крестьянином ли, купцом, барыней, едущей в гости… Принцесса расспрашивала его о стране, в которой ей предстояло жить, и особенно удивляло Темкина, что интересовали ее больше не роскошные петербургские балы и нынешняя российская мода, а русская жизнь во всех подробностях: как живут дворяне, как служат, как устроена жизнь в городах, какие порядки при дворе императрицы, каков Петр, что любит Елизавета, а также какова политика Елизаветы в вопросах просвещения…
Она не была особенно привлекательна, но обещала в будущем стать настоящей красавицей. Сквозило в ней что-то неуловимое, легкое – и странно, это начинало беспокоить Темкина, неясно, как беспокоит нечто пока еще далекое и неосязаемое. Ему нравилось смотреть на нее – говоря с нею, он ловил иногда себя на том, что просто наблюдает, отмечает то, как она двигается, как поворачивает голову, как складывает на коленях руки или, стараясь скрыть смущение, начинает теребить тончайший батистовый платочек. В такие минуты он даже не вполне осознавал, что говорил ей, и позже не мог вспомнить, о чем был разговор, но помнил прекрасно, как шевелились ее губы, слегка приподнимались тонкие брови, как она улыбалась: сначала вспыхивали глаза, а потом уже улыбка освещала все лицо. Она держалась очень прямо, движения ее были еще по-девичьи порывисты, но при этом грациозны. Она была удивительно сдержанна, но порой ему казалось, что глаза ее начинают пускать настоящие чертики, и тогда она словно изо всех сил пытается удержать их. Она так отличалась от своей матери с ее высокомерным и брезгливым выражением лица…
Иногда, когда Темкин скакал рядом с санями, в окошке показывалось ее приветливое, озаренное улыбкой лицо, она радостно кивала ему, и потом он не мог не думать ни о чем, кроме Софии. Фике – называла ее мать, и мысленно он начал звать ее так же. А скоро он и помыслить не мог ни о чем, кроме нее, и, о чем бы ни думал, мыслями все время возвращался к своей Фике…
Путешествовать по России было непросто и даже опасно: на дорогах свирепствовали лихие люди, часто бывало, что под тяжело груженными повозками проваливались мосты, на постоялых дворах вспыхивали пожары, во время страшных метелей путь надолго заносило снегом. Темкин заботился обо всех нуждах вверенных ему женщин – начиная от обеспечения охраны и заканчивая поиском удобного жилья и приличной еды. В особо холодные дни он находил им лишние одеяла, беспокоился об их сне, покое и комфорте. Он развлекал их беседами, шутил, ободрял, давал советы и скоро стал незаменимым.
Однажды они остановились на ночлег в крестьянской избе. Хозяин, самый зажиточный в деревне, освободил для знатных гостей все комнаты, а сам с семьей отправился ночевать во флигель.
– Здесь ни в одной комнате, ни в моей, ни в комнате Фике, нет ни одной кровати, – изумленно произнесла Иоганна, обращаясь к Темкину. – Где же мы будем спать?
– Можно спать на печи, – с улыбкой ответил он. И, заметив расширившиеся глаза княгини, добавил: – Русские люди часто спят на печах. На них очень тепло.
Фике прыснула. Мать грозно оглянулась, и девушка притихла, но продолжала улыбаться.
– Можно также лечь на скамьи, – продолжал Темкин. – Они достаточно широки, к тому же на них постелят самое лучшее белье. Здесь тепло, и вам будет вполне удобно. Если что-то понадобится, я в полном вашем распоряжении – моя комната по соседству.
– Благодарю вас, – холодно отозвалась Иоганна. – Фике, не прикасайся ни к чему без нужды. Кто знает, что водится здесь, в домах грязных крестьян.
Взгляд Темкина на мгновение полыхнул.
– Как видите, это очень чистый дом, – тут же спокойно ответил он. – Хозяева – люди богатые и уважаемые, у них есть и слуги, которые выполнят все, что потребуется.
Иоганна презрительно взглянула на него и, гордо подняв голову, проследовала в свою комнату.
– Не обижайтесь, – тихонько шепнула Фике, выходя следом за матерью. – Мама просто совсем не знает этих людей. Но я вовсе не считаю, что ваши крестьяне грязны и неопрятны.
Она улыбнулась и исчезла за дверью.
Темкин молча смотрел ей вслед.
Глава 7 В ночной тиши
Была уже глубокая ночь, но Алексей не ложился. Он бы все равно не заснул, а стоило прилечь, и в голову лезли навязчивые, ненужные мысли. Алексей который час мерил шагами отведенную ему комнатку, безуспешно пытаясь успокоиться и ни о чем не думать.
Шел уже второй месяц их путешествия. Совсем скоро покажутся огни Петербурга, и тогда он потеряет ее навсегда. Она станет невестой Петра – в этом не было сомнений. Ни одна наследница ни одного европейского престола, ни одна из дочерей владетельных немецких князей и польских панов не сможет сравниться с Фике.
Если Петр унаследует престол, со временем она станет императрицей. Она будет вместе с Петром править Россией, она станет – как она говорила? – матерью всех русских людей, она будет блистать на балах и принимать иностранных послов. Она подарит Петру наследников, таких же бездарных, как он сам… Черт побери!
Темкин хватил рукой о косяк и чуть не вскрикнул от боли. Шепотом выругался, потирая ушибленную руку.
Может быть, пойти к ней? Алексей был красив, богат, уверен в себе, не робкого десятка и успел узнать многих женщин, но Фике… Нет, он не решился бы даже приблизиться и тем более дотронуться до нее, но, возможно, взглянуть… Даже если не взглянуть, то хотя бы побыть рядом, пусть и на расстоянии…
Она была в двух шагах от него, но так далека…
Это было глупо, но он не мог оставить ее ни на минуту.
Темкин снова выругался, сделал пару шагов к своей постели, как вдруг остановился и, развернувшись, тихо, но решительно направился к двери.
Он неслышно подошел к комнате Фике и прислушался. За стеной было тихо, – видимо, девушка спала.
Скоро он должен будет отдать ее великому князю. Есть еще несколько дней. Еще несколько дней…
Темкин опустился на пол, привалился спиной к дверному косяку и забылся сном.
…Что-то неясное, неосознанное потревожило его. Молодой человек поднял голову. Запах. Странный запах. Что это? Он огляделся и еще раз настороженно втянул носом воздух.
Он не ошибся.
Это был дым.
Дым в комнате Фике.
Темкин изо всех сил дернул дверь – она не поддавалась. Дернул еще раз – безрезультатно. Кровь бросилась ему в голову. Разбежавшись, он вышиб дверь плечом.
Фике спала на хозяйской лежанке. Так и есть: заслонка на печи не была плотно закрыта. Дым уже заволакивал горницу, выедал глаза, но девушка не чувствовала этого. Лежала спокойно, слегка повернув голову набок, и, видимо, уже глотнула достаточно ядовитого воздуха. На бледной щеке оттенялись длинные пушистые ресницы…
Не помня себя, Темкин подхватил ее на руки и опрометью выскочил вместе с ней из комнаты, не разбирая дороги, сшибая какие-то ведра и палки. Фике не шевелилась. Он поспешно, не глядя, нашарил одной рукой старый кожух, удерживая другой Фике, бережно уложил ее и попробовал привести в чувство. Она слабо вдохнула, пошевелилась, слегка кашлянула, еще в забытьи… Темкин склонился над ней, согревая своим дыханием, словно пытаясь помочь ей дышать. Он не удержался и мягко коснулся губами ее лба, провел ими по бледной тонкой коже, будто умоляя прийти в себя. И тут она открыла глаза, закашлялась – и увидела его, наклонившегося над ней.
Хлесткая пощечина обожгла его щеку. Темкин схватился за лицо.
– Слава Богу, с вами все в порядке, – выдохнул он.
– Что вы себе позволяете, офицер?
Она подскочила, глаза ее сверкали гневом.
– Простите, ваше высочество.
– Как вы посмели прикоснуться ко мне?
– Выслушайте меня…
– Вы переходите все границы, офицер! Вы, кажется, забыли, что я невеста великого российского князя!
– Ваше высочество, я…
– Ваш поступок более чем возмутителен! Вы…
Она не успела договорить, потому что Темкин, подавшись вперед, обхватил руками ее голову и поцеловал в губы. Она рванулась, но тут же обмякла. Его поцелуй был настойчивым, властным, совсем не похожим на нежное, мягкое прикосновение, которое она ощутила во сне. Ей оставалось только подчиниться – и она подчинилась, откинув назад голову и полузакрыв глаза.
Она опустилась на кожух, и Темкин, зарывшись руками в ее волосы, покрыл поцелуями ее шею и грудь. Она глубоко вздохнула, словно ей не хватало воздуха, и тут он опомнился.
Тяжело дыша, с трудом справляясь с собой, он отстранился. Фике открыла глаза и изумленно уставилась на него. Он не мог смотреть на нее – если бы взглянул, уже не мог бы совладать с собой. Он попытался подняться, но тут Фике потянулась к нему, обвив руками его шею, и тихо застонала, словно от нетерпения.
Темкин наклонился к ней, провел руками по ее волосам и поцеловал в губы долгим бережным поцелуем. Она ответила, и опять он только страшным усилием воли заставил себя оторваться от нее.
Поднял голову. Фике в упор смотрела на него огромными, непонимающими глазами.
– Я люблю вас.
Бровь девушки слегка изогнулась, но в следующее мгновение Фике просияла и ласково коснулась его высокого лба.
– Темкин… – прошептала она. – Что вы говорите?
– Послушайте меня, Фике. Я не смею ни на что рассчитывать, но, поверьте, если вы подарите мне надежду на редкую встречу и ваш мимолетный благосклонный взгляд, не будет на земле человека счастливее меня. Однако, если вы сочтете мои слова слишком дерзкими, прошу, не сердитесь и не гоните меня. Позвольте мне просто быть рядом с вами.
Фике молчала.
– С первой минуты, с первого мгновения, когда увидел вас, я понял, что не смогу жить без вас. Я могу дышать, только если вы рядом.
Его глаза напоминали сейчас две черные бездонные пропасти. Они притягивали ее, но Фике не осмеливалась прямо взглянуть в них. Казалось, стоит только сделать это – и черная воронка затянет ее, как когда-то в детстве – водоворот на реке.
– Вы слышите меня?
Ее губы коснулись его щеки, мягко спустились вниз и нашли его губы. Темкин замер. Фике приоткрыла рот, и ее дыхание слилось с его. Словно молния пронеслась по его телу.
– Фике! – прошептал он, прижимая ее к себе.
Он ощутил сладостное волнение, пронизавшее все ее существо. Забыв обо всем, она обвила руками его шею и приникла к его губам, снова ища поцелуя.
– Я люблю вас, Фике, – пробормотал он, коснувшись губами ее горячей щеки.
– Я люблю тебя, – эхом отозвалась она.
Фике успела вернуться в свою комнату и привести себя в порядок до того, как проснулась мать. Она надела темно-вишневое платье с неглубоким вырезом и накинула на плечи теплую белую шаль.
Больше всего на свете ей хотелось никуда не ехать, а остаться здесь, в этой маленькой деревушке с почти ушедшими в землю крестьянскими избами и черным дымом, который валил сейчас из всех труб, а ночью чуть было не убил ее. Ночью… Фике украдкой улыбнулась. Не убил – потому что рядом был Темкин.
Она все еще переживала сладостные минуты наедине, еще чувствовала его руки на своих плечах, его губы и его ласки. «Я счастлива», – подумала она, и ей вдруг захотелось подпрыгнуть от радости. Это детское желание рассмешило ее, и она громко, от души расхохоталась.
– Что с тобой, Фике? – спросила мать, обернувшись.
– Ничего, мама! Все хорошо!
Иоганна изумленно пожала плечами, и Фике снова засмеялась, подскочила к матери, чмокнула ее в щеку и, забыв о необходимости вести себя как подобает принцессе, выскочила на крыльцо.
Мороз был небольшой, утро выдалось тихое. Фике запрокинула голову, вглядываясь в небо, и озорно улыбнулась вспорхнувшей с ветки птице.
«Сегодня весь мир принадлежит мне», – подумала она.
Но к безоблачному настроению примешивалась предательская мысль о Петре. Как теперь она взглянет ему в глаза? Вчера она не устояла против соблазна и теперь немного беспокоилась о том, что будет дальше. В конце концов, на кону стоял российский престол. Но устоять против глаз и рук Темкина было решительно невозможно!
Уже много дней она присматривалась к нему, украдкой следила то за тем, как он скачет на коне в своем красном мундире, то как отдает приказания, то как почтительно и с достоинством обращается к ее матери… Несколько раз он снился ей, и каждый из этих снов был ярче и явственней предыдущего. То она лежала в его объятиях (и тем утром, проснувшись, залилась краской стыда), то скакала с ним на лошади, крепко обхватив его сзади руками, по бескрайним русским степям, то он подхватывал ее на руки и нес к карете, чтобы она не запачкала свои изящные сапожки…
Последний сон особенно поразил ее. Сначала были яркие языки пламени, поднимавшиеся до самого неба. Затем внезапно черная пустота, и из этой пустоты к ней шел Темкин. Она улыбалась ему и махала рукой, а он просто подходил молча и никак не реагировал на ее приветствие, ничего не отвечал ей. Она замолчала и стала ждать. Появились какие-то люди, тени, много людей и теней, кружили какие-то птицы, слышались какие-то странные звуки, и все вместе создавало невероятный, хаотичный, даже страшный хоровод. Но ей не было страшно, она смотрела только на Темкина и ждала, пока он подойдет к ней. Наконец он приблизился, она сделала шаг навстречу – однако у него было другое лицо! Она отшатнулась, но в тот же миг он подхватил ее и наклонился к ней близко-близко… Глаза! Глаза были те же! Он словно успокаивал ее, но она все хотела увидеть его полностью, а видела почему-то только глаза – огромные, черные, обжигающие – и ничего больше…
– Мы должны ехать, дорогая!
Словно вырванная из сна, Фике встряхнула головой. Обернулась. Мать звала ее. Рядом с ней стоял он. Темкин.
Пока она подходила, он не отводил от нее взгляда. Но даже самый внимательный наблюдатель, никто, кроме Фике, не мог бы заметить в этом взгляде и намека на то, что произошло между ними этой ночью.
Она привычно улыбнулась, чуть дольше положенного задержав свою руку в его руке, когда он помогал ей садиться в сани, и вдруг взглянула ему в глаза – тот? Или другой?
Кортеж почти выехал из леса, когда раздался оглушительный свист, а за ним последовала пальба. Со всех сторон к ним бежали одетые в легкие кожухи люди, вооруженные топорами и длинными саблями. Солдаты эскорта отчаянно отстреливались, но неожиданность и первое замешательство сделали свое дело, и почти половину из них скосили первые же удары, прежде чем они успели вскинуть пистолеты. Бросив взгляд на перепуганную Фике, Алексей почти кубарем выкатился из кареты и крикнул кучеру:
– Гони!
Тот изо всей силы хлестнул лошадей, и сани понеслись быстрее ветра. Алексей только мельком успел взглянуть на них, заметил высунувшееся в окошко бледное лицо Фике и тут же молнией обернулся, готовясь принять первый удар.
Драка вокруг разгорелась нешуточная. Человек тридцать разбойников, как успел заметить Темкин, были вооружены топорами и длинными саблями. От сопровождения же осталось около десяти человек.
Сердце молодого человека билось так сильно, что, казалось, разорвется. Он старался сохранять холодную голову, но к страху за Фике примешалось обычное, так знакомое ему опьянение боем. Он тоже не успел вытащить оружие, но клинок в его руке был страшнее самой быстрой пули. Никогда еще он не дрался так, как сегодня. Его шпага летала, он отбивал атаку одного, второго, третьего противника, постоянно менял тактику, нападал сам, провоцировал, парировал и наносил удары. Казалось, он нападал одновременно со всех сторон, видел всех и все на этой заснеженной поляне и успевал приходить на помощь каждому, кто в этом нуждался. Он рубил и колол, рубил и колол, и уже не один враг упал на снег, окрасив его своей кровью.
Он услышал хриплый вскрик, будто кто-то тяжело выпустил из груди воздух, успел обернуться и увидел занесенную над своей головой саблю. Мгновенно пригнулся, выходя из-под удара, и попытался ударить нападавшего. Однако тот ловко увернулся и все-таки нанес Алексею сильный удар в предплечье. Темкин, охнув от боли, чудом перехватил шпагу левой рукой и сделал резкий выпад. Противник ударил еще раз, пытаясь выбить шпагу из его руки, Темкин парировал и, когда враг выпрямился, словно змея, ускользнул из-под его руки и насквозь пронзил его шпагой. Разбойник рухнул как подкошенный.
Алексей остановился, переводя дух. Оставались только несколько дерущихся. Он окинул их взглядом, прикидывая, кто из друзей находится в более невыгодном положении и к кому из них прийти на помощь, и вдруг послышался какой-то шум сзади. Он успел только чуть повернуть голову, и свет померк.
Фике ждала Темкина, но на коне к ним подлетел другой офицер.
– Опасность миновала, сударыня!
– Слава Богу! – откликнулась Иоганна, откидываясь на спинку сиденья. До того момента она сидела все время прямо, словно сжатая пружина, и казалось, что, если ее тронуть, мать рассыплется – такое напряжение исходило от ее прямой неподвижной фигуры. – Слава Богу, Фике! Все в порядке!
Фике взяла мать за руку, облегченно вздыхая.
– Я сожалею, сударыня, – сказал офицер после секундной паузы. – Я сожалею, но мы не сможем сейчас продолжать путь. Несколько наших людей убито, некоторые ранены. Нужно похоронить мертвых и оказать помощь пострадавшим. Вероятно, мне придется принять на себя руководство. Господин Темкин погиб.
Фике вскрикнула, спрыгнула с саней и бросилась бежать, проваливаясь по колено в рыхлый снег, путаясь в юбках, падая и снова поднимаясь. Она не чувствовала дикого холода, словно огнем обжигавшего ее непокрытую голову и плечи, не слышала, как зовет ее мать, ощущала только, как колотится сердце, как разрывает грудь от страха и боли. Взгляд ее был прикован к черному силуэту на снегу, странно согнувшемуся, с откинутой в сторону левой рукой. Она бежала, а время словно остановилось, она кричала, но не слышала своего крика. Ей казалось, что ее голос слышен на весь лес, и не понимала, почему не спешат к ним на помощь люди, много людей, а на самом деле она только беззвучно открывала рот, как выброшенная на берег рыба, задыхаясь от забивавшего ей горло мороза, и бежала, бежала…
Она упала рядом с ним, приподняла его голову и попыталась уложить себе на колени. Юбка стала мокрой от снега, и она все старалась убрать снег от его лица, вытереть ему лоб, гладила его губы и волосы.
– Темкин… – шептала она, как будто это могло его вернуть к ней. – Темкин… – отчаянно звала, шарила взглядом по его лицу, силясь поймать хоть неглубокое, незаметное дыхание, малейший признак возвращающейся жизни.
– Вставай, милая. Нам нужно ехать.
Спазм перехватил горло. Руки юноши были холоднее льда, и она все пыталась согреть их, гладила, целовала и не могла отпустить. Слезы толклись в глазах, но никак не могли прорваться наружу. Она глухо застонала и уткнулась лбом в его ладонь, еще недавно такую сильную и теплую…
Иоганна положила руку дочери на плечо.
– Едем, Фике. Его душа уже далеко от нас.
Фике завыла, глухо и страшно, не осознавая, что этот звук вырывается из ее собственной груди. Она припала к Темкину и не могла оторваться, – казалось, здесь ей и место, рядом с ним, и больше нигде ее быть не может, и если его душа далеко, то почему ее – здесь?
Чьи-то руки попытались поднять ее, а Фике все цеплялась за Темкина, ее не могли оторвать. Наконец ее подняли, и мать повела ее, поддерживая за талию, к саням. Фике шла словно в тумане, губы ее были сжаты, а сухие глаза блестели. Только один раз, уже садясь в сани, она обернулась.
Разметавшиеся черные как вороново крыло волосы, бледное лицо и кровь, стекающая с высокого лба и мгновенно стынущая на снегу… Красивые мертвые губы, только ночью шептавшие ей слова любви и страсти…
Этот миг Фике запомнит навсегда.
Е. И. В. Екатерина II Вольтеру
22 июля – 2 августа [1771]
…я совсем не думала об Екатерине, которая в сорок два года не может вырасти ни физически, ни умственно, но, по естественному ходу всех вещей, должна остаться тем, чем она есть. Идут ее дела хорошо, она говорит: тем лучше; если бы они пошли хуже, она употребила бы все свои способности, чтобы направить их на возможно лучшую дорогу.
Вот, в чем заключается мое честолюбие, и у меня нет другого; все, что я вам сказала, совершенная правда. Пойду дальше: скажу вам, что для сбережения человеческой крови я искренно желаю мира; но до мира еще далеко, хотя турки и сильно желают его, но по другим причинам. Этот народ не умеет заключать его.
Глава 8 Путем Елизаветы
Наконец достигли Петербурга. События последних дней настолько выбили Фике из колеи, что она едва сообразила, что цель их изнурительного странствия достигнута. Первая из целей… Ибо двор вместе с Елизаветой на всю зиму перебрался в Москву. Туда, как и говорил Нарышкин, им следовало отправляться и особо не медлить. Но… тут оказалось, что торопиться ко двору надо не спеша: роскошный, следующий всем веяниям моды веселый двор Елизаветы не принял бы одетых в старомодные платья немецких простушек. Увы, Штеттин, столь гордящийся своим древним родом, безнадежно и навсегда от моды отстал.
– Принцесса, но в этом же недопустимо предстать перед императрицей!
Престарелая фрейлина, графиня Протасова, которой путь до Москвы казался непреодолимо тяжелым, встречала путешественниц. Ее слова – конечно, с точки зрения Иоганны, слишком оскорбительные, – тем не менее, весьма мягко описывали поистине невыносимую ситуацию. Всего по три платья, устаревших не один год назад, – просто немыслимо, чтобы невеста великого князя предстала перед ним и императрицей в этих обносках. Фике покорно кивнула – да, она готова была подождать еще несколько дней, прежде чем вновь отправиться в дорогу.
Вынужденную паузу она решила использовать, как потом делала многие годы, с пользой для дела. Сейчас у нее была одна забота – стать своей для Елизаветы. К тому же боль от гибели Алексея была еще столь свежа, что девушка просто пыталась всеми возможными путями отвлечься от черных мыслей.
Как-то днем, после долгого снятия мерок и еще более утомительной примерки новых платьев, она выразила желание прогуляться по Петербургу. Проникшийся нешуточным уважением к тоненькой принцессе Нарышкин готов был везти ее куда угодно. Но девушка выразила более чем неожиданное желание:
– Я бы хотела пройти тем путем, каким прошла великая императрица, когда забирала престол для себя.
Иоганна фыркнула. Она уже давно даже не пыталась понять свою дочь. К счастью, уже не было необходимости контролировать каждый шаг глупышки Фике, повсюду сопровождая ее. Досуг герцогиня проводила с упоением.
Она играла в карты, вела непринужденные светские беседы ни о чем – одним словом, вживалась, искала союзников. К тому же ей удалось исполнить поручение Фридриха, чем она была весьма довольна.
Фике же, верная своему решению, в сопровождении Нарышкина и десятка молчаливых гвардейцев прошла от Преображенских казарм до Зимнего дворца. Девушка пыталась почувствовать то, что чувствовала Елизавета, но… Увы, сейчас ей была ведома совсем иная боль – боль утраты близкого человека. Первая в жизни.
Жгучего желания воссесть на трон не было – да и откуда было ему взяться у пятнадцатилетней девушки, никогда в жизни не вкушавшей сколько-нибудь серьезной власти, никогда еще не пытавшейся принятые решения воплотить в жизнь и при этом нести за них ответственность (а именно так юная София понимала власть).
Ничего удивительного поэтому не было в том, что сейчас, пряча лицо от влажного студеного ветра с Невы, Фике думала совсем о другом. Она вернулась мыслями к решению, которое приняла в ночь перед отъездом.
О, теперь она могла понять, могла представить, чем может быть любовь для человека. Она уже ощутила ее первые робкие прикосновения. Поняла, скольких сил может стоить сохранение своего чувства на долгие годы, узнала и первую боль утраты. Теперь, о да, она могла представить, сколь радостным будет для нее ощущение, что она любима, сколь отрадным, что любит сама.
Плохо было другое: она не видела вокруг ни одного примера этого взаимного чувства: мать не любила отца, да и он был довольно холоден и с ней, и с детьми. Матушкин амант? Да, он принят в доме, Иоганна с ним всегда мила. Но так же она мила и с другими, особенно с теми, от которых может что-то получить. Родня? Они любят в первую очередь самих себя. Остальные для них – лишь источник дохода.
«Я же клялась себе, что буду любить собственного мужа, любить страну, любить ее императрицу… Но появился Алексей, и, увы, слова, данного себе самой, я не сдержала. К счастью или к несчастью, но моего Темкина рядом больше нет. И теперь пора снова спросить у самой себя: по-прежнему ли я настроена столь решительно? По-прежнему готова полюбить собственного мужа и его страну?»
Снежок едва слышно поскрипывал под ногами, серебряно-золотое солнце сияло в прозрачном зимнем небе, Нева тяжело парила… Дикая, роскошная, чужая красота незнакомой страны впервые так ярко раскрылась перед девушкой.
«Да, я полюблю эту страну… В том сомнений нет. Я полюблю и ее народ, ибо если к нему относятся такие удивительные люди, как Алексей, такие мудрые, как Нарышкин, такие честные, как престарелая графиня Протасова…»
Девушке припомнились и умелые руки модистки, которая только сегодня снимала мерки для платьев, припомнились и кушанья, которыми их потчевали поутру.
Да, эту страну есть за что любить, ее народ есть за что уважать. Но мужа? Есть ли за что любить и уважать кузена Петра? Может ли он вызвать такое чувство, какое вызвал у нее Алеша?
Ответа не было. Более того, в глубине души зашевелился робкий червячок сомнения: если Петр остался таким, каким был в Эйтине, вряд ли он способен вызвать хоть какое-то чувство, кроме, конечно, отвращения. Но быть может, он переменился? Пять лет – это так много!.. Однако девушка понимала, что ей некого расспрашивать. Возможно, она станет невестой Петра. Но ведь может и не стать…
– Ну-у, милочка, – с ужасом услышала в это время сидящая за картами Иоганна такие же слова. – Твоя милая дочь ведь может и не стать невестой наследника!
– Как же это? Но зачем же я ехала в такую даль? Зачем терпела такие страдания? Зачем унижалась перед королем Фридрихом, моля его облагодетельствовать мою Фике?
Ох, как же любила прихвастнуть Иоганна! И сколь же длинным был ее язык! Самое удивительное, что она свято верила каждому своему слову!
– Дитя мое, – маркграфиня Штерн, близкая подруга прусского посланника при дворе Елизаветы (злые языки твердили, что более чем близкая), положила руку поверх руки Иоганны, – помните, что вы рабыня высокой политики! Именно она заставила вас пройти через страдания, о которых я даже подумать боюсь…
Иоганна истово закивала.
– …канцлер Бестужев, хитрая бестия, вот уж поистине проклятие для России, получает небольшой пансион от саксонцев. Не один месяц он настоятельно просит императрицу пригласить погостить саксонскую принцессу Марианну. Злые языки, каких всегда полно при дворе, утверждают, что, если бы такое приглашение последовало, пансион означенного канцлера вырос бы весьма значительно. Более того, сам Бестужев убеждал матушку нашу, что наследник знаком с означенной девицей и питает к ней добрые чувства, что для будущих супругов весьма важно…
Иоганна опять кивнула – она вовсе не была уверена, что это столь уж важно. Да и принцесса Марианна, по слухам, была знаменита не только прекрасной своей внешностью, но и весьма скверным характером. Но все это было не важно. Важно было иное: ее, Иоганну Елизавету, может постичь несчастная участь, она будет изгнана из России как не угодившая великой императрице. Она будет вынуждена вернуться в постылый Цербст с постыдным, отвратительным клеймом и навсегда забыть о том, что существуют балы и драгоценности, прекрасные поклонники и хитросплетения высокой политики. Она будет вынуждена весь остаток жизни прожить мещанкой, бюргершей, утирая сопливые носы своим многочисленным отпрыскам!
(Вероятно, только у подобных матушек могут вырастать терпеливые дочери, умеющие дожидаться своего часа…)
– Поговаривают, что выжига Бестужев намерен сыграть на весьма близком родстве между Петром и Софьей. Они все-таки кузены, а по русским законам сие недопустимо для мужа и жены. Тогда как принцесса Марианна, принадлежащая высокому королевскому роду, приходится Голштинии родней куда более далекой.
– Дочь короля Польши, фи…
Иоганна презрительно фыркнула.
– Более чем далекая родня – это правда. К тому же она, говорят, вовсе не его дочь…
– Душа моя, не будем ворошить чужого грязного белья: мало ли какие слухи ходят в королевских дворцах.
Маркграфиня прекрасно знала, что в Иоганне говорит лишь зависть, но не стала сейчас тыкать герцогине в нос более чем сомнительным отцовством принца Христиана. Ведь об этом тоже говорили при дворах. Не стала она вспоминать и слова короля Фридриха о Фике.
Тот, по слухам, выразился вполне ясно и при этом весьма презрительно: «…принцесса Ангальт не слишком на виду и не слишком бесцветна. Родители бедны как церковные крысы и не смогут высказать сколько-нибудь значительных претензий. Сия девица станет для елизаветинского выкормыша вполне достаточной невестой…»
Кроме того, маркграфиня не упомянула и слова самой Елизаветы, тоже не делавшие чести юной принцессе. Императрица, призвав Бестужева, произнесла:
– Наилучшим вариантом я всегда считала подыскать такую принцессу, которая была бы протестантского вероисповедания и при этом происходила бы хотя и из светлейшего, однако все же настолько маленького дома, что ни иные связи его, ни свита, которую она бы взяла с собой, не смогли бы возбудить в среде русской нации излишних кривотолков или ревности.
Маркграфиня продолжала:
– Услышав о вашем приезде, душечка, Бестужев обратился к Синоду. Сей орган, так принято, тоже должен высказать свое мнение о будущей великой княгине.
Так вот, новгородский епископ Амвросий весьма резко отозвался о предполагаемом союзе, назвав его недопустимым. Более того, он был настолько уверен в себе, что утверждал, будто брак этот, буде он состоится без согласия Синода, Церковью благословлен не будет.
– Должно быть, этот человек тоже получает от кого-то пансион?
– Не знаю, душечка, не знаю.
Хотя преотлично знала, что означенный епископ, ранее весьма щепетильный в вопросах пансионов от иноземных господ, на сей раз не удержался от щедрого дара саксонцев и принял от них «в дар» тысячу рублей золотом.
– Но что же делать мне? Уезжать?
– Не думаю, дитя мое. Весьма разумно будет все же предстать перед императрицей. Ведь вы же не можете знать обо всех слухах, которые ходят при нашем дворе. Не можете знать и о том, что велено твердить господам из Синода. Вы…
Тут графиня прикусила язык. Она едва не назвала Фике куклой в политике королевских домов Европы. Не следовало с этой гусыней Иоганной говорить начистоту.
– Вы же делаете лишь первые робкие шаги при русском дворе. А потому будьте смелее и не сомневайтесь в поддержке своих друзей!
И вновь, в который уже раз, маркграфиня покривила душой. Никакой поддержки и никаких друзей не было! Только политика, только ее бездушные требования. К тому же, если бы Елизавета не приняла решения изначально, никакого приглашения в Цербст вовсе бы отослано не было. Императрицей двигал голый расчет, а на мнения, которые не совпадали с ее собственным, она обращала внимание в последнюю очередь.
Зато теперь эта болтливая гусыня, «настрадавшаяся» мать, будет уверена, что без поддержки неведомых друзей ей лучше и шагу не ступать. Что весьма на руку! А уж через Иоганну и до Софии добраться будет куда как проще!
Упомянутая же София в это самое время возвращалась во дворец. Мысли ее были столь далеки как от политики, так и от берегов Невы. Девушка вспоминала толстое, написанное от руки наставление, которое принц Христиан дал ей перед дальней дорогой. Увы, папенька был совершенно неправ, ибо и малейшего представления не имел о стране, куда навсегда уезжала дочь. В первых же строках герцог требовал, чтобы Фике всегда была верна лютеранской вере, чтобы никогда, ни под каким давлением не меняла ее на другую, тем более на варварское, дикое православие.
«Но как же, добрый мой батюшка, мне быть, ежели я все-таки стану невестой наследника русского престола?
Престола, осененного именно православной верой? Ведь законы, батюшка, запрещают иноверцам всходить на трон! Как же, заботливый мой родитель, мне не сближаться ни с кем при русском дворе, как не заводить при нем знакомств, не искать друзей и поддержки, как не вмешиваться в дела государственного управления? Неужели же вообще политикой не интересоваться?! Разве достойно такое поведение жены наследника престола?»
Увы, София знала, что никогда уже не сможет расспросить герцога о том, что его сподвигло дать столь нелепые советы. Быть может, с трудом осознаваемое желание вернуть дочь под отчий кров?
«Ах, папенька, такому не бывать! Более того, как бы настоятельно вы сего ни велели, я буду поступать иначе. Если, о да, если Россия станет моей страной, я должна принять и ее веру, должна принять людей вокруг себя такими, каковы они есть. Должна, ибо в противном случае смогу лишь весьма недолго удержаться при дворе!»
София, что удивительно для пятнадцатилетней девушки, отлично понимала, что, сколько бы могущественные люди ни подводили ее ко двору Елизаветы, сколько бы усилий для этого ни прилагали, рано или поздно она останется одна – одна наедине с императрицей, одна наедине с народом, одна наедине с женихом. И только от нее самой будет зависеть, примут ли ее, Софию Августу Ангальт, или отошлют прочь, как порченый товар.
E. И. В. Екатерина II «Мысли из особой тетради»
Уважение общества не есть следствие видной должности или видного места; слабость иного лица унижает место точно так же, как достоинство другого облагораживает его, и никто, без исключения, не бывает вне пересудов, презрения или уважения общества. Желаете вы этого уважения? Привлеките доверие общества, основывая все свое поведение на правде и на благе общества. Если вместе с тем природа наделила вас полезными дарованиями, вы сделаете блестящую карьеру и избегнете того смешного положения, которое сообщает высокая должность лицу без достоинств и слабость которого сквозит всюду.
Самым унизительным положением мне всегда казалось – быть обманутым; будучи еще ребенком, я горько плакала, когда меня обманывали, но зато я делала все то, чего от меня хотели, и даже неприятные мне вещи с усердием, когда мне представляли действительные доводы.
Глава 9 В Москву!
Февраль 1744
И снова София отправилась в путь. Богатый выезд императрицы, гиганты гренадеры Преображенского полка в качестве охраны. Ослепительное солнце, бело-голубой снег, необыкновенные, невиданные, бескрайние просторы. И мысли, мысли…
София, поглощенная размышлениями, не сразу заметила, что и мать пребывает в задумчивости. Однако если девушка была озабочена, то на лице герцогини играла мечтательная полуулыбка. Иоганна была едва ли не на седьмом небе. Как бы ни получилось с дочерью, теперь уже она сама мало зависела от решения императрицы: новые поручения от посланника в Петербурге графа Мардефельда, переданные маркграфиней буквально в последнюю минуту, лучше всяких слов говорили о том, сколь значительной особой становится теперь она сама, Иоганна Елизавета, герцогиня Ангальт.
Но этого мало! Только вчера ей представили посла Франции, галантного маркиза де Ла Шетарди. Тот рассыпался в комплиментах изумительной молодости герцогини, ее недюжинному уму и бескорыстному материнству. О, Иоганна, конечно, отказывалась от всех столь лестных для любой женщины комплиментов, однако с удовольствием думала, что сменить порядком поднадоевшего аманта на столь блестящего кавалера будет весьма даже разумно. Ну и что, что злые языки называют маркиза французским лазутчиком? В конце концов, в этом нет ничего дурного – он же отдал свою жизнь на благо короля и своей великой страны! Как и она, Иоганна! Кому же, как не им двоим, соединиться в своем усердии?
Кавалькада двигалась и днем и ночью, останавливаясь ненадолго только для того, чтобы сменить лошадей. Неустанное это движение убаюкивало Фике – она дремала, вновь возвращаясь мыслями к своим обетам, смерти Алексея, наставлениям отца, болтовне матери. Все это, словно калейдоскоп, играло в ее рассудке острыми гранями, складываясь то в одну странную картину, то в другую. Девушку посещала даже мысль о том, что и после заключения столь желанного матушкой брака ее, Софии, положение при дворе все равно будет оставаться весьма шатким. Лишь появление наследника Петра сможет в какой-то, пусть небольшой степени гарантировать ей спокойствие.
А если таковому наследнику родиться не суждено? Что делать ей в этом случае? К чьей помощи прибегать? Заводить любовника, рискуя собой и своим положением еще больше? Пасть к ногам императрицы и у нее просить совета?
«Вот в таком, матушка, ни вы, ни отец, ни король Фридрих… да никто в целом мире не может быть мне здесь советчиком! Отчего вы не предупредили меня о столь унизительной возможности? Отчего не дали наставлений именно на сей случай?»
По какой-то странной прихоти мысли девушки вновь вернулись ко двору Фридриха Великого: опять перед глазами встал тот прием, когда она, девчонка, была приглашена к столу самого короля и беседовала с ним просто и без затей, как со своим давним другом.
«Да, мы беседовали обо всем. Короля интересовало мое мнение о поэзии, опере, музыке, танцах. О тысяче самых разных вещей. Помню, сколь удивленными казались люди вокруг, наблюдавшие за нашей непринужденной беседой. Я чувствовала, как горят мои щеки, видела, что, пусть и в платье с чужого плеча, на живую нитку посаженном по фигуре прямо перед приемом, я очаровала его величество по-настоящему. Помню даже, что он назвал меня воплощением Любви и Грации. Помню и то, сколь важным для меня казался тот вечер. Но отчего же столь мудрый властитель не дал мне ни одного сколько-нибудь важного совета? Отчего просто сыпал любезностями?»
На эти вопросы, быть может, девушке смог бы ответить только сам король Фридрих. Но вряд ли. Да и какие, с его точки зрения, нужны были советы миленькой куколке, волею сильных мира сего вовлеченной в кровавые бескомпромиссные игры? Заключение брака, выгодного какой-то из коалиций, успешная победа, одержанная над другой коалицией, – вот и все, что нужно королю. О каких чувствах может идти речь? Девичьи глупости!
Москва приближалась. Иоганна сидела словно на иголках – вот-вот решится ее судьба (и опять о дочери ни единой мысли!). Теперь в сани были запряжены шестнадцать лошадей. Скорость была просто головокружительной, поля превратились в одно бесконечное поле, деревни становились серо-коричневой полосой. Открытые дворцовые сани мчали, кони храпели, дорога блестела, словно зеркало.
Ничего этого не видела Фике, вернее, видела, но не замечала. Вся роскошь выезда императрицы, свежий кофе и горячие булочки на каждой станции, усердие гренадеров – все это было словно в каком-то полусне. Ее мысли пребывали где-то очень далеко.
Должно быть, поэтому София далеко не сразу поняла, что происходит, отчего остановился царский поезд, почему кричит мать и куда делись двое широкоплечих солдат, которые только мгновение назад сидели на передке саней.
– Матушка, что случилось?
Иоганна, рыдая, только махнула рукой. Девушке ответил начальник стражи:
– Сани зацепились за угол избы, барышня. Брусья, вишь ты, лежали ненадежно, вот и скатились прямо на сани. Матушка ваша в болести. Да и моих солдатушек беда не пощадила.
– Не пощадила?
– Нет, ваше высочество. Они на передке саней сидели да и приняли весь удар на себя. Голов лишились, оба… Конец бруса вашу матушку задел, да, на счастье, шуба удар смягчила.
Фике полными слез глазами смотрела на два тела и кровавые пятна, все шире растекавшиеся в снегу. «Вот еще двое… Они отдали жизнь за меня, а я даже имен их не знаю. И никогда не узнаю…»
Удар, полученный Иоганной, похоже, и впрямь был не очень силен. Прижимая ко лбу платочек со снегом, герцогиня патетически воскликнула:
– Дочь моя, само Провидение уберегло вас для великих дел! Я счастлива, что приняла весь удар на себя!
Фике укоризненно посмотрела на мать. Та словно и не заметила трупов. Да и кто они быи такие, эти люди в форме, с точки зрения спесивой герцогини? Грязь у ее прекрасных ног, слуги, которые должны быть счастливы тем, что отдали жизнь за ее несравненную персону!
Хотя вот уж удивительно: Иоганна, сама того не зная, оказалась права. Провидение и в самом деле уберегло Софию для великих свершений – но не тем, что брусья скатились на солдат, а тем, что одарило именно такой матерью. Ибо отрицательный пример перед глазами есть преотличный опыт. А если вспомнить, что Фике всегда и все подвергала сомнению, предпочитая обо всем составлять собственное мнение…
Девушке было вполне достаточно решить, что она не будет поступать так, как велит мать, не будет вести себя подобно Иоганне. Быть может, герцогиня оскорбилась бы, узнав о мыслях дочери, но, к счастью для себя, она осталась в неведении. А здесь, трудно спорить с очевидным, неведение стало благом.
Остались за спиной тела солдат, остались за спиной шепотки «невесту наследнику везут», стемнело. Поезд из трех десятков саней наконец вполз под кремлевские ворота у Головинского дворца.
– Неужели мои страдания завершись? – простонала Иоганна.
Фике привычно промолчала. Ей было нехорошо. О нет, не просто нехорошо. Ей было дурно и невообразимо страшно. Вот сейчас, с минуты на минуту решится ее судьба. Совсем скоро она встретится с вершительницей судеб доброй половины Европы, увидит ту, перед которой трепещет Россия. Какой окажется эта необыкновенная женщина? Какое впечатление сложится у нее о принцессе Фике? Не разочаруется ли императрица, увидев перед собой ту, кого назначила в жены своему наследнику?
Девушка осторожно поправила придворное платье-камзол, в которое переоделась на последней станции. Серебристо-розовое, простое, без фижм и драпировок, оно удивительно оттеняло нежную кожу лица, раскрасневшегося от мороза и волнения. Жесткий ворот чуть заметно колол подбородок, словно напоминая о том, сколь важные минуты переживает юная путешественница.
Но первым, кого увидела Фике на ступенях дворца, был, конечно же, не Петр и не Елизавета. На ступенях появился высокий господин в напудренном парике и камзоле такой красоты, что Иоганна не удержалась и застонала вслух:
– О, как он красив… Дитя, это принц Гессен-Гомбургский. Нам оказана великая честь! Кланяйтесь ему!
Кланяйтесь как можно ниже! Ну что вы стоите как изваяние?!
– Да, матушка. Это принц Гессен-Гомбургский, – послушно повторила София, но склониться в поклоне не успела. Напротив, высокий господин отвесил поклон столь совершенный, что Иоганна едва второй раз не застонала вслух.
– Добро пожаловать, принцессы. Императрица истомилась ожиданием. Мне поручено проводить вас в ваши покои!
Путешественницы последовали за принцем, как дети за гамельнским крысоловом. Все во дворце зачаровывало Софию. У нее почти не осталось сил, чтобы рассмотреть комнаты, отведенные ей и матери. Быть может, поэтому шумное появление кузена Карла Петра Ульриха стало для нее столь шокирующим. Говоря по правде, и без всякого волнения вид повзрослевшего наследника не мог не поразить. У Фике при его виде просто сжалось сердце.
Длинное лицо, глаза навыкате, безвольный рот… Неужели он так изменился за неполные пять лет? Или это воспоминания сыграли с ней злую шутку? Или мысли о том, что он станет ее мужем – должен стать, – настолько идеализировали его черты, задержавшиеся в памяти?
«Неужели мне придется стать его женой?!»
Не столько отвращение, сколько ужас буквально приковал девушку к месту. Но принц был так взволнован, так рад приезду тетушки и кузины, что Фике чуть успокоилась – ровно настолько, чтобы сдержаться и не дрожать крупной дрожью перед встречей с императрицей.
Отчего-то сейчас София вспомнила, как держала в руках медальон с портретом императрицы, как любовалась чертами этой необыкновенной женщины. Но что, если судьба с ней, Фике, второй раз поступит на удивление подло – что, если императрица окажется далеко не так мила, как представлялось девушке, вглядывавшейся в миниатюру? Если внешность Карла Ульриха столь заметным образом отличается от той, что ей памятна, то и портрет может разительно и шокирующе отличаться от оригинала.
Однако теперь все размышления следовало оставить – императрица ожидала своих гостий в парадных покоях. Мило улыбаясь, Петр по-немецки пригласил «любезную тетушку и кузину» проследовать к ее императорскому величеству.
Первой пришла в себя герцогиня Иоганна. Она милостиво улыбнулась, оперлась на руку племянника и вышла из комнаты, бросив на дочь обжигающий взгляд. О да, Карл Петр Ульрих понимал по-немецки, и теперь Иоганна была лишена возможности шипеть на дочь и шпынять ее при всем честном народе. Фике с кротким вздохом отправилась следом за матерью. Ее сопровождал принц Гессен-Гомбургский. Но девушке было все равно, на чью руку опираться, – волнение вновь накрыло ее. Но показать кому-то, что ты едва держишься на ногах? Никогда!
Побледневшие губы Софии тронула гордая улыбка. Девушка шагнула в парадную анфиладу. Отчего-то ее пронзило удивительно странное ощущение: все, что с ней происходило – тяжкая бесконечная дорога, смерть Алексея, годы нищенской жизни в Штеттине и зубрежки под неусыпным пасторским оком, – все это была лишь подготовка к этим мгновениям. Вот-вот она ступит в парадный зал, и тогда станет ясно, насколько эта подготовка была успешной.
Парадная анфилада была заполнена придворными. Одеяния поражали роскошью, украшения – богатством. Улыбки дам и взгляды кавалеров были все отданы ей, Софии Августе Ангальт-Цербстской. Должно быть, где-то среди этих людей найдет она и своих друзей, и своих врагов.
Иоганна, шедшая впереди, оглянулась на дочь. О, каким было ее лицо! Фике, донельзя взволнованная, не могла не улыбнуться: матушка завидовала всем дамам чернейшей завистью. И было чему: герцогиня, считавшая себя красавицей и первой модницей, блиставшая даже при французком дворе, вдруг оказалась едва ли не дурнушкой, провинциалкой в дешевом платье и с копеечными украшениями.
О, какие же перспективы сейчас рисовало Иоганне воображение! Если дамы столь нарядны на приеме для своих, то какими они станут в дни торжеств? И если это так, то и ее, мать невесты наследника престола, ждут богатейшие подарки, удивительные, головокружительные чувства, дни побед, о которых она еще вчера и мечтать не смела…
Распахнулись золоченые двери, и процессия вошла в парадный зал. Не прошло и нескольких секунд, как противоположная дверь зала распахнулась и навстречу гостьям поспешила императрица Елизавета.
E. И. В. Екатерина II «Мысли из особой тетради»
Хочу установить, чтобы из лести мне высказывали правду; даже царедворец подчинится этому, когда увидит, что вы ее любите и что это путь к милости.
Говорите с каждым о том, что ему поручено; не награждайте никогда, если вас лично не просят о том; разве если вы сами намереваетесь это сделать, не будучи к тому побуждаемы; нужно, чтобы были обязаны вам, а не вашим любимцам, и т. п.
Тот, кто не уважает заслуг, не имеет их сам; кто не ищет заслуг и кто их не открывает, недостоин и не способен царствовать.
Я как-то сказала, и этим весьма восхищались, что в милость, как и в жизнь, вносишь с собой зачаток своего разрушения.
Глава 10 Матушка государыня
«О, как же она хороша! – мелькнуло в голове Фике. – Она куда прекраснее, чем ее портрет. Какое счастье!»
Было чему радоваться: ведь до этого одна за другой развеивались надежды, которые питала девушка все эти месяцы. Карл Ульрих оказался настолько нехорош собой, что повторять свой зарок, клясться, что будешь хранить ему верность, было просто нелепо. София видела, что за радостью, с которой он приветствовал ее, нет ни крохи, даже слабого намека на радость жениха. Петр радовался как мальчишка, что теперь есть с кем поболтать, что его близкая родственница оказалась одних с ним лет. И только. Если бы еще императрица оказалась похожей на ведьму, что бы тогда осталось от высоких порывов Фике?
Сейчас девушка не могла оторвать взгляда от приближающейся Елизаветы: высокая, крепкая, румяная женщина, затянутая в роскошное платье с фижмами холодновато-серебристого цвета с богатой золотой вышивкой, с улыбкой шла навстречу. Софии эта улыбка показалась удивительно доброй и искренней. Принцесса не могла не улыбнуться в ответ.
Вот до императрицы пять шагов, вот три… теперь было видно, что Елизавета без парика, черные волосы расчесаны на прямой пробор, сбоку высокое черное перо, в прическу вплетены бриллианты. «Она прекрасна, как самая роскошная драгоценность! Ее глаза умны, движения быстры. Она и в самом деле владычица, властительница. Ей не стыдно будет поклоняться, у нее не грех будет поучиться!»
Фике одернула себя. «Но ведь и ты, глупышка, не так проста! Ты невеста наследника. И если она не выгонит тебя прямо сейчас, то, похоже, не выгонит вообще. Перед тобой великая женщина. Так будь же такой, как она, – перенимай манеры, смотри во все глаза! Пытайся понять, отчего эта удивительная дама поступает так, а не иначе. И будь начеку – ты сейчас подобна лошади в руках барышника. Не только ты, но и тебя оценивают, осматривают, пытаются мысленно ощупать… Сейчас ты одна против всех – и так будет еще довольно долго даже после того, как императрица мысленно примет тебя!»
И Фике присела в низком реверансе на французский манер. Она молчала. Зато Иоганна была более чем многословна – она щебетала о том, какую неземную радость испытывает сейчас, как благодарна великой императрице за благодеяния. Герцогиня приложилась к руке императрицы раз, затем второй, попыталась сделать это в третий. Но Елизавета нежно подняла Иоганну. Она была весьма взволнована – герцогиня Ангальт была родной сестрой ее погибшего возлюбленного. Кто знает, какой была бы история, сложись все иначе.
Да, фамильные черты угадывались и в Иоганне, и в ее дочери. «А девчонка-то хороша! Свежа, глазки умные, но нет в них бунтарского духа, который иногда изобилует в привлекательных девицах, осознающих к тому же свою красоту. Не строптивица… Повезло племяннику, ох и повезло. Подарок-то королевский. Справится ли Петр с этаким чудом, сумет ли сделать девочку счастливой? Да и не все ли равно? Главное, чтобы дитя родилось как можно быстрее!..»
Елизавета улыбнулась принцессе Софии даже слегка участливо. «Не такой ты судьбы достойна, девочка… Но тут уж ничего не попишешь – решение я приняла, менять его не собираюсь. Да и нужды в том, к счастью, нет. Мне жаль тебя, детка. Но ты об этом никогда не узнаешь…»
– Сердце поет от радости, дитя мое! Вы прибыли, и теперь я спокойна. Встаньте же, милое дитя, и подойдите ближе.
София покорно сделала пару шагов навстречу императрице. Она оказалась куда ниже Елизаветы, но держалась изумительно прямо и гордо, так, чтобы никто не усомнился в том, что она ровня императрицы, что не уступит ей ни в чем. Та чуть покровительственно усмехнулась и увлекла гостий прочь из пышного зала – в малую приемную.
Здесь тоже было тесно от царедворцев, здесь тоже на Фике смотрели только как на товар. Но что-то в поведении девушки уже изменилось: перед роскошным, блещущим бриллиантами двором стояла не немецкая простушка – в покои вошла принцесса и наследница. Такого выражения лица было уже не спутать ни с каким иным.
«Умница! Так им и надо! Покажи себя во всей красе, не дай усомниться в правильности моего решения. А я за это облагодетельствую тебя так, как ты того заслуживаешь. Пусть никто не посмеет сказать, что невеста наследника русского престола была куплена за полушку!»
О, с каким удовольствием представляла себе Елизавета досаду канцлера Бестужева!
«Вот тебе, лис! Не будешь мутить воду попусту, отрабатывая не такие уж щедрые пансионы. Клянусь, ты бы мог заработать у меня на службе куда больше, если бы от пансионов этих отказался!»
Где бы ни бродили мысли Елизаветы, внешне она с благосклонной улыбкой слушала сбивчивый рассказ Софии о том, сколь тяжкой и долгой была дорога, как необыкновенно прекрасна Россия, как не похожа она на все виденное девушкой ранее. Все попытки герцогини Иоганны вступить в беседу императрица решительно пресекала – роль двора Ангальт уже сыграна, вскоре надо будет под благовидным предлогом отослать мать на родину и заняться воспитанием девочки всерьез.
– Матушка императрица, – продолжала Фике, с трудом произнося непривычное слово «матушка» (о, она специально расспрашивала Нарышкина, как обращаться к Елизавете, и усердно учила столь непривычные уху длинные русские слова!), – позвольте мне вслед за моей матушкой поблагодарить вас за все благодеяния, которыми вы осыпаете наш род, словно из рога изобилия!
– Пустое, девочка, пустое! – Елизавета, конечно, не могла не отметить старания принцессы, и это ей необыкновенно согрело душу. – Поведай-ка мне, дитя, сколь велик твой багаж, много ли у тебя с собой нарядов. Нужна ли тебе особая горничная, чтобы следить за твоими платьями?
Вопрос застал девушку врасплох, она даже растерялась, не зная, что отвечать. Ну не говорить же, в самом деле, что мать запретила ей брать с собой больше трех платьев, а тончайшие парижские чулки, подаренные матушкой, следовало носить более чем бережно, чтобы Иоганна сама могла при случае их надеть…
Герцогиня тоже молчала. Она не склонила головы, не покраснела, в глазах ее жило торжество. Вот сейчас она отыграется за все унижения, которым Фике подвергла ее тем, что безропотно сносила все придирки. Если бы девочка хоть раз попыталась поспорить, возразить… Быть может, тогда она, Иоганна, нашла бы путь к ее сердцу. Но Фике молчала! Молчала и терпела все! Так пусть же теперь вытерпит и монарший гнев.
София не сказала ни слова. Однако Елизавете, казалось, никакие ее слова не были и нужны.
– Бесприданница, выходит! Ну ничего, девочка, ничего. У меня достанет и платьев, и жемчугов, и чулок с туфлями, чтоб исправить все глупости, которые совершили другие…
Тяжелый взгляд императрицы едва не испепелил Иоганну.
– Так, говоришь, дорога в стольный град тяжело далась? Что ж, отправляйся отдыхать. Завтра большой праздник, день рождения великого князя. Тебе понадобится много сил.
Императрица погладила Софию по плечу. В этом простом прикосновении было столько ласки, что девушка едва удержалась от слез. О, если бы матушка была с ней столь же нежна! Быть может, тогда она не пыталась бы все делать вопреки ее советам и они с Иоганной смогли бы стать подругами?..
Но тогда, конечно, и сама принцесса София Августа была бы совсем иной. И быть может, иной характер не помог бы ей добиться всего того, чего добилась она.
Февральское утро ослепляло: снег играл сотнями радуг, высокое солнце пронизывало залы дворца насквозь. Проснулась София Августа поздно – впервые за два долгих месяца ее не будили на рассвете словами: «Пора в дорогу, принцесса!» Всего несколько минут – и она, приведя себя в порядок, села записывать в дневник впечатления от вчерашнего бесконечно длинного дня. Перед самой собой девушка привыкла не лицемерить, и слова, которые она доверяла страницам тетради, были временами даже излишне жесткими. Какое счастье, что Иоганна так никогда и не прочитала этих дневников! И без того не испытывающая к дочери даже слабого подобия любви, она бы подлинно возненавидела Фике.
За столь серьезным занятием девушку застали статс-дамы, за которыми последовали многочисленные служанки, отягощенные платьями и чулками, бельем и духами, веерами и гребнями: императрица держала свое слово.
В два пополудни, после обильного завтрака, поданного в покои Фике, появился и куафюр – утонченный господин в необыкновенном парике и с обширным баулом, полным необходимых для его непростого дела «мелочей».
– Сегодня большой праздник, ваше высочество. Позвольте мне причесать вас так, как это принято при дворе великой императрицы.
Фике, которая до сего дня прически себе творила сама, заметно растерялась. Но лишь на миг. Уже через мгновение она подняла голову и, чуть заметно кивнув, пересела ближе к огромному зеркалу, повинуясь жесту куафера. Однако глаза все же закрыла – немного страшно было от ожидания, что же сотворит с ее кудрями этот серьезный господин.
Чего ждать от большого торжества во дворце, Фике представить себе не могла. Ей вспомнились записки графа де ла Мессельера. В те дни, когда он служил помощником у французского посланника, он повидал немало празднеств. Вот каким был обычный бал, даваемый по четвергам.
«Знатные лица обоего пола наполняли апартаменты дворца и блистали уборами и драгоценными камнями. Красота апартаментов и богатство их изумительны; но их затмевало приятное зрелище четырехсот дам, вообще очень красивых и очень богато одетых. К этому поводу восхищения вскоре присоединился другой: внезапно произведенная падением всех штор темнота сменилась в то же мгновение светом тысячи двухсот свечей, отражавшихся со всех сторон в зеркалах. Заиграл оркестр из полусотни музыкантов, и бал открылся. Во время первых менуэтов послышался глухой шум, имевший, однако, величественное объяснение: дверь быстро отворилась настежь, и мы увидели императрицу, сидевшую на блестящем троне. Сойдя с него, она вошла в большую залу, окруженная своими ближайшими царедворцами. Зала была очень велика, танцевали за раз по двадцати менуэтов, что составляло довольно необыкновенное зрелище… бал продолжался до одиннадцати часов, когда гофмаршал пришел доложить ее величеству, что ужин готов. Все перешли в очень обширную и изящно убранную залу, освещенную не менее чем тысячей свечей; в сей зале красовался фигурный стол на несколько сот кувертов. На хорах залы запели люди и заиграли инструменты – прекрасная музыка сопровождала все перемены блюд до самого десерта. Кушанья были всевозможных наций, и служители были русские, французы, немцы, итальянцы, которые спрашивали у единоплеменных им гостей, что они пожелают».
– Готово, ваше высочество! Вы прекрасны! Никогда еще мои руки не украшали куафой столь изысканной красавицы!
В словах куафера звучало подлинное восхищение. Фике открыла глаза и посмотрела на свое отражение. В зеркале была не она! Куда исчезла тоненькая девушка с серьезными черными глазами и бледной кожей? Перед собой София видела юную даму необыкновенной, утонченной красоты, созданную для того, чтобы пленять сердца мужчин одним только взглядом из-под пушистых ресниц.
– Ваше искусство необыкновенно, сударь мой!
– Оно лишь зеркало для отражения вашей несравненной красоты! – с поклоном ответил парикмахер. Он видел, какое впечатление произвело на девушку дело его рук, чувствовал ее восхищение. А что может быть приятнее мастеру, чем восхищение плодами его усилий?
В феврале темнеет рано. В пять пополудни бал по случаю дня рождения великого князя был уже в разгаре. О, он превосходил не только все виденное Фике ранее, но и все описания балов, о которых она когда-либо читала. Свет от тысяч свечей отражался в роскошных драгоценностях, играл в огромных бриллиантах перстней и диадем, платья нарядных взволнованных дам соперничали друг с другом богатством отделки и смелостью кроя. Придворные кавалеры лорнировали дам, не столько избирая себе спутницу на ближайшую ночь (о чем, конечно, Софию неоднократно предупреждала матушка в дороге, сетуя на свободные нравы елизаветинского двора, – кто бы говорил…), сколько любуясь делом рук мастеров ювелирного и пастижерского дела. Да и сами кавалеры (на вкус Фике, разумеется) порой выглядели разряженными, как павлины.
Шепотки, тихий смех, шарканье бальных туфелек… Все ждали императрицу. Иоганна от волнения, не показного, истинного, сжала пальцы дочери с такой силой, что София застонала.
– Простите, дитя мое. – Да и шепот выдавал, насколько Иоганна сейчас не похожа на себя обычную. – Я не могу унять сердцебиения. Столь большой праздник…
София перевела дыхание – о да, праздник и в самом деле нешуточный. К тому же в воздухе разлито какое-то странное беспокойство, словно двор не знает еще – радоваться или горевать.
И вот, как вчера, распахнулись двери в дальнем конце зала и на затейливые мраморные полы ступила императрица. Общий вздох восхищения как нельзя лучше подтвердил, сколь хороша она сейчас.
Роскошное платье шоколадного цвета удивительно подчеркнуло цвет кожи Елизаветы, богатая вышивка серебром заиграла в ярком свете, россыпь необыкновенных драгоценностей на шее, корсаже и в прическе отделила ее от всех в этом зале. За спиной императрицы София увидела высокого статного господина с правильными чертами лица, с манящим взором темных глаз, в расцвете истинно мужской красы. «Это Алексей Разумовский, – поняла девушка по тому, как к нему обращалась императрица. – “Ночной император”… Злые языки… Ими движет глупость и зависть… Но как сыскать место, где их нет?»
Императрица что-то прошептала графу, и девушка увидела на властном лице Елизаветы подлинное чувство.
«Могу спорить, что это не простой фаворит, как бы меня ни уверяла матушка… Наверняка эти двое тайком венчаны… И думаю, вовсе не вчера. Надо быть совсем уж глупой гусыней, чтобы не видеть, что их соединяет. О, если бы меня с моим мужем связало подобное чувство, если бы Петр испытывал ко мне такую же любовь, как сей достойный господин… Если бы я питала к нему чувства, похожие на те, что питает Елизавета к своему фавориту… Тогда бы я была счастливейшей из смертных!»
О да, тогда бы София Августа была самой счастливой из всех принцесс, которые выданы без согласия в дальние страны из политических соображений…
Елизавета сделала приглашающий жест.
– Идите, София, не стойте как столб! Императрица приглашает вас подойти поближе!
Такое знакомое, даже отрадное в эти минуты шипение матери отрезвило девушку. Она подошла к Елизавете, вновь поразившись тому, сколь мила и естественна ее улыбка.
– Хорошо ли почивала, девочка? – вполголоса произнесла императрица.
– Благодарю, матушка, отлично.
Елизавета вновь улыбнулась – девочка так старательно произносила по-русски столь трудное слово. «Да, – подумала императрица, – дурачку-то моему Петруше какой щедрый подарок достался. Удержит ли он сей цветок, достанет ли у него сил?»
Повинуясь едва заметному кивку, Разумовский сделал шаг вперед. Теперь было видно, что в руках у него синяя бархатная подушечка, на которой что-то ярко блестит.
– Герцогиня Ангальт-Цербстская, наша венценосная сестра, поди ближе!
В зале, полном народу, голос Елизаветы был, против ожиданий, слышен великолепно. О, юной Фике стало ясно, сколь многому ей придется учиться. И отрадно, что, взяв за образец императрицу, удастся выучиться всему, что умеет это необыкновенная женщина.
«Именно все, что присуще ей! Мне половины не надо!»
Новое платье Иоганны, на взгляд Фике, не очень ей шло, однако сама герцогиня, было видно, просто в восторге от столь щедрого подарка Елизаветы. Смелый вырез, рукава-буфы, фижмы, шлейф. Портные постарались на совесть.
– Сестрица наша, сердце не в силах скрыть той радости, что кипит в нем. Отрадно, что именно в день рождения великого князя дано мне лицезреть тебя, матушка, и твою прекрасную дочь. Ваше путешествие через половину Европы достойно самого щедрого вознаграждения! А сии безделицы – лишь малая часть оного!
«Безделицами» оказались ордена Святой Екатерины, украшенные эмалевым портретом мученицы и бриллиантом изумительно чистой воды. Статные дамы, которые все это время были за спиной императрицы, вышли вперед и, аккуратно взяв в руки сию немалую награду, прикололи их герцогине и Софии. Фике поразилась тому, какое облегчение отразилось на лице матери. Однако сейчас было не время вдаваться в расспросы – уж слишком торжественным был момент. И сама императрица, и ее приближенные были явно взволнованны.
Лишь поздно вечером попав в отведенные им покои, София смогла расспросить мать.
– Что это за награда, матушка? Отчего столь сильно взволновала она тебя?
– Дитя, это вторая по важности награда Российской империи. Утверждена она была самим Петром Первым.
Знак сей вручается только, слышите, дитя мое, только членам императорской фамилии!
– Но ведь мы же родственники, матушка…
– О, как же вы все-таки глупы, дитя! Теперь я, а значит, и вы – члены российского императорского рода!..
(Иоганну было не перевоспитать, она опять все приняла только на свой счет. Фике улыбнулась этим словам, вспомнив, каким взглядом одарила императрица «свою венценосную сестру», увидев «приданое» Софии.)
– И это значит, что теперь вы наверняка станете женой великого князя! А я стану вашей первой конфиденткой, ибо кто лучше матери даст дочери мудрый совет.
«О нет, только не ваши “мудрые” советы, матушка!»
К счастью, Иоганна не увидела выражения лица своей дочери. Более того, мечтами она была уже там, в прекрасном будущем. Там, где к ней были приставлены не только камергер, камеристка, пажи. Там, в будущем, у матери великой княгини будет свой, отдельный двор!
Мысли же Фике были об ином. Она поняла, что главное свершилось. Что теперь она непременно станет женой Петра. Что Елизавета приняла ее в свою семью и защитилась таким образом от возможных нападок. Теперь никто не посмеет указать императрице на то, что у страны нет наследника престола, что в любой момент, стоит только ей, Елизавете Петровне, занемочь, великая страна будет обречена погибать без мудрого правителя.
Головокружение от торжественной встречи прошло очень быстро – если и было вовсе. София отлично понимала: для того чтобы перестать быть марионеткой в руках политиков-кукловодов, ей предстоит проделать невероятный путь от почти полного незнания к осведомленности во всех тонкостях жизни двора и страны, слухов и сплетен, привычек и тайных связей. Какая уж тут эйфория, если впереди непаханое поле работы?
Из «Собственноручных записок императрицы Екатерины II»
В своих внутренних покоях великий князь в ту пору только и занимался, что устраивал военныя учения с кучкой людей, данных ему для комнатных услуг; он то раздавал им чины и отличия, то лишал их всего, смотря по тому, как вздумается. Это были настоящий детския игры и постоянное ребячество; вообще он был еще очень ребячлив, хотя ему минуло шестнадцать лет в 1744 году, когда русский двор находился в Москве.
Великий князь, казалось, был рад приезду моей матери и моему. Мне шел пятнадцатый год; в течение первых десяти дней он был очень занят мною; тут же и в течение этого короткаго промежутка времени я увидела и поняла, что он не очень ценит народ, над которым ему суждено было царствовать, что он держался лютеранства, не любил своих приближенных и был очень ребячлив. Я молчала и слушала, чем снискала его доверие; помню, он мне сказал, между прочим, что ему больше всего нравится во мне то, что я его троюродная сестра и что в качестве родственника он может говорить со мной по душе, после чего сказал, что влюблен в одну из фрейлин императрицы, которая была удалена тогда от двора в виду несчастья ея матери, некоей Лопухиной, сосланной в Сибирь; что ему хотелось бы на ней жениться, но что он покоряется необходимости жениться на мне, потому что его тетка того желает. Я слушала, краснея, эти родственные разговоры, благодаря его за скорое доверие, но в глубине души я взирала с изумлением на его неразумие и недостаток суждения о многих вещах…
Глава 11 Многолюдно, но одиноко
Жизнь во дворце закружила Фике в бесконечных празднествах, балах и приемах. Танцы, скачки, мороженое, платья, сшитые по последней моде, – какое же выбрать: зеленое с кружевами или цвета слоновой кости с парчовой отделкой? – кавалеры, улыбки, поклоны, неприкрытая лесть придворных…
Сумасшедший водоворот новых лиц, дел, событий, казалось, совершенно поглотил Фике. Однако в глубине души девушка была растеряна до крайности. Она была одинока в этих роскошных декорациях – мать не в счет, она интересовалась чем и кем угодно, но не родной дочерью, – одинока и несчастна.
Даже поговорить было не с кем. Иногда по утрам, когда весь двор спал после бурно проведенного приема, Фике слонялась по огромным пустым залам, не в силах вернуться к себе и заняться чем-нибудь полезным. Не было ни одной живой души, которой была бы нужна она сама, маленькая принцесса Фике, а не София Августа Фредерика Ангальт-Цербстская, возможная невеста великого российского князя…
Пожалуй, только государыня Елизавета Петровна понимала ее состояние. Видя, что девушка не знает, на кого можно положиться и с кем завести даже не дружеские, а хотя бы просто непринужденные приятельские отношения (однако довольно успешно пытается это скрыть), она взяла дело в свои руки.
– Милое дитя, – как-то сказала Елизавета молодой княгине Румянцевой, – вы ведь уже знакомы с немецкой принцессой Софией?
– Мы встречались несколько раз, ваше величество, – весело ответила та, блеснув озорными серыми глазами.
Молодая княгиня была сверстницей Фике. Она была довольно хороша собой, чрезвычайно умна, ловка, но – что все же несколько смущало Елизавету, – не особенно строгого нрава. Казалось, ничто не могло смутить или поставить в тупик эту молодую, изящную девушку. Ей все было смешно – и каждый, кто встречался с ней, словно перенимал эту ее привычку даже самые серьезные вопросы переводить в шутку. Императрица считала, что такая подруга более чем подойдет молодой принцессе – она поможет ей освоиться при дворе, даст совет на первых порах, развлечет и, что самое главное, не сделает никакой подлости.
– Я бы очень хотела, чтобы София поскорее обрела здесь, в России, друзей, – продолжала императрица, пристально глядя на Прасковью. – Наша страна еще совсем не знакома ей, девочка далеко от родных и лишилась привычной ей обстановки…
– Фике мила и обворожительна, ваше величество. Я уверена, что ее дружбы скоро будут искать многие при дворе… Она освоится здесь очень быстро…
…Намек был понят, и Елизавета после ухода Румянцевой облегченно вздохнула. Пожалуй, Фике ей нравилась, и было бы обидно терять приличную невестку… Пусть она чувствует себя при дворе как нельзя лучше… К тому же никогда не помешает знать, о чем думает и к чему устремляется это пока еще невинное дитя…
Однако девицы, которым позволили подружиться, далеко не сразу нашли общий язык. Первые их беседы касались тем более чем удивительных. Как-то раз на прогулке Прасковья вспомнила о странствующих алхимиках.
– Говорили, что сии господа обещают любому, кто готов платить звонкой монетой, сделать груды чистого золота из любого мусора с помощью одного только «философического эликсира».
Фике усмехнулась.
– Так и есть. Уметь эти странники толком ничего не умеют, за исключением, быть может, ярмарочных фокусов. Уж это у них получается просто превосходно…
– Расскажете?
– Отчего же нет? Матушкин друг как-то рассказывал, что встречал одного такого «великого ученого», который применял сосуд, называемый «капеллой». Говоря простыми словами, горшок, на дно которого клал золотой порошок, а потом делал фальшивое дно из воска. Горшок он ставил на огонь, наливал туда «философический эликсир» и начинал неторопливо читать «тинктурные формулы»… Часами в сосуде что-то бурлило, кипело и воняло – и наконец, к радости польстившегося на обещания дурачка, там обнаруживалось золото. Правда, потом сей алхимик, всучив рекомому глупцу за кругленькую сумму флакончик эликсира, растворялся в безвестности. И этого новоявленный мастер златого дела золота почему-то получить не мог, сколько и чего он ни кипятил…
Прасковья не могла не улыбнуться этому рассказу. Да, шарлатаны неистребимы…
Фике же, видя интерес новой приятельницы, продолжала с воодушевлением – не каждый день можно встретить девушку, которой интересны столь странные темы для разговоров.
– Другие, рассказывали очевидцы, использовали выдолбленные палочки, помешивали ими варево, незаметно подбрасывая золотые опилки. Третьи демонстрировали всем и каждому гвозди, монеты и прочие мелочи, наполовину состоявшие из чистейшего золота: опустил краешком в «философический эликсир», и вот что получилось, никакого мошенничества, только наука, судари мои…
Румянцева расхохоталась. Ей удивительно славно было разговаривать в укромном уголке с немецкой принцессой не о женихах или нравах двора, но о предметах, удивительно далеких и необыкновенно ученых.
– Правда, иногда в алхимических опытах рождается нечто столь же нужное и важное, однако куда более потребное сегодня и сейчас, чем сотня золотых монет. Иоганн Бетгер, к примеру, искренне верил, что такой магический эликсир существует и открыть его можно при необходимом упорстве. Он, изрядно тронувшись рассудком от бесчисленных опытов, вообразил, будто все же изобрел «философический эликсир». Агенты саксонского курфюрста прознали об этом и засадили его в уединенный замок, оборудовали великолепную лабораторию. Приставили к нему двух подмастерьев и уверили, что не выпустят, ежели господин сей не сварит целого горшка золота.
Бетгер, конечно, ни крупинки золота не получил, но неожиданно для себя самого, да и для окружающих, придумал, как изготовить первоклассный фарфор. Фарфор, ни в чем не уступающий такому, какой ввозили из Китая и который стоил немыслимых денег. Так и появились на свет знаменитые мейсенские заводы, обогатившие Саксонию.
Прасковья кивнула – сей ученый анекдот она тоже слыхала, однако с удовольствием послушала еще раз из уст немецкой принцессы. Которая, к счастью, оказалась не только хороша собой, но и умна и некичлива.
«Какое счастье! Дружить с ней будет удовольствие на долгие годы! Дай-то Бог, чтобы судьба нас не развела!»
В другой раз у девушек зашел разговор об истории российской, о царях и царицах, кои правили еще совсем недавно.
– Вот хотя бы императрица Анна Иоанновна. Пасквили, коих, думаю, вы, принцесса, немало читали в далекой Пруссии, изображали сию правительницу тупой и злобной бабой, на деле же она вовсе таковой не была. Князь Щербатов, составляя записки об истории российской, писал о ней так: «Императрица Анна не имела блистательного разума, но имела сей здоровый рассудок, который тщетной блистательности в разуме предпочтителен… Не имела жадности к славе и потому новых узаконений и учреждений мало вымышляла, но старалась старое, учрежденное, в порядке содержать. Довольно для женщины прилежна к делам и любительница была порядку и благоустройства; ничего спешно и без совету искуснейших людей государства не начинала, отчего все ее узаконения суть ясны и основательны…»
– Отличные слова о правительнице – уважительные, но не подобострастные.
– Согласна с вами полностью, принцесса, именно что не подобострастные. Годы, когда она правила, для многих вполне свежи в памяти, да и императрица Елизавета не любит о ней вспоминать. Однако запретов на исторические мемуары никогда не делала. Должно быть, поэтому я запомнила сказанное князем почти дословно. Он рассказывал: «…Анною был устроен кабинет министров, где без подчинения и без робости един другому каждый мысли свои изъяснял; и осмеливался самой Государыне при докладе противуречить; ибо она не имела почти никогда пристрастия то или другое сделать, но искала правды; и так по крайней мере месть в таковых случаях отогнана была; да, можно сказать, и не имела она льстецов из вельможей, ибо просто наследуя законам дела надлежащим порядком шли…»
«Ох, как бы мне хотелось, чтобы после правления моего, буде таковое станет возможным, мои современники меня такими словами вспоминали…»
Однако не только ученые предметы были темой бесед двух столь юных особ. Много шума наделали сплетни о великом Казанове, который то ли был колдуном, то ли не был, то ли врачевал людей, то ли избавлял их от золотых излишков, предпочитая, конечно, тех, кто таковыми излишками страдал неизлечимо. К тому же двора Елизаветы достигла уже история о письме на Луну. Придворные постарше радовались тому, что суеверная императрица слухов о колдунах на дух не переносит. А придворные помоложе пересказывали друг другу эту историю со смехом.
– Маркизе д’Юрфе, сказывали, пришла в голову совершенно безумная идея: в следующей жизни (во что она верила упрямо аки ослица) родиться уже не женщиной, а мужчиной. Согласитесь, милая герцогиня, как не воспользоваться таким случаем? Казанова, вот уж не дурак, конечно, воспользовался. Для начала он помог маркизе отправить письмо на Луну, тамошнему духу-гению, чтобы с перерождением какой нелепой осечки не вышло. Для сего он поставил подлинную пиесу: в огромном чане с водой плавали тлеющие, распространяющие одуряющий запах можжевеловые ветки, Казанова голый, как Адам, в компании столь же голой маркизы торжественно и звучно читал заклинания, лунный свет загадочно лился в комнату…
– О, какое зрелище… – задумчиво проговорила Фике.
– Думаю, душечка, нам сего и представить невозможно. Так вот, собственноручно написанное маркизой послание сгорело в чане – и тут же неведомо откуда в воду упал ответ. Маркиза впала в совершеннейший экстаз. Письмо гласило, что перерождение не такая уж и недостижимая вещь: магу Казанове, так маркиза расшифровала послание с Луны, следует найти подходящую девственницу, проделать с ней заповедные магические ритуалы, а когда через девять месяцев на свет появится младенец, госпожа маркиза его поцелует и тут же помрет, и душа ее в означенного младенца немедленно переселится…
– И маркиза в такое поверила? – не то чтобы Фике удивилась, но определенно не стала бы верить вообще кому бы то ни было, не проверив все сама. Такой уж у нее был характер.
– Поверила, ибо глупость, душечка, встречается куда чаще светлого разума, а желания так быстро превращают нас в овец, что иногда страшно становится. Так вот, девственницу Казанова быстренько отыскал – и в присутствии маркизы совершил с ней рекомую магическую процедуру. Но потом… «Девственница» – умная, похоже, девица оказалась – начала ныть, что Казанова странно с ней поделил полученные от маркизы деньги. А родственники маркизы, люди более здравомыслящие, начали всерьез интересоваться, за что, собственно, за какую такую магию этот сомнительный итальянец взял с тетушки кучу денег, которые, между прочим, именно им по завещанию должны достаться?
– Сбежал чародей? Или жандармы его все же настигли?
– Сбежал. Однако к тому времени маркиза успела оплатить карточные долги Казановы и погасила – воистину нет предела глупости человеческой! – все выписанные им подложные векселя. Да вдобавок отдала «магу» фамильных драгоценностей на шестьдесят тысяч ливров.
– Улов более чем неплох…
Девушки посмотрели друг на друга с симпатией. Как же хорошо, когда в далеких странах находишь подлинно родственную душу!..
Глава 12 Пусть уж будет так!
Кто знает, насколько София могла доверять любой из новых подруг? Быть может, делать это не стоило вовсе. Однако прожить в одиночку, опасаясь подлости со всех сторон, просто невозможно. И тогда Фике решила, что некоторым из дам она будет доверять хотя бы потому, что не видит резонов в том, чтобы они ее предали. Ведь она пока никто – лишь принятая при дворе немецкая принцесса.
«Я должна стать русской! Я должна выучиться, дабы никто и никогда не мог попрекнуть меня тем, что не знаю страны, которая меня приютила!»
И в этом было, наверное, самое главное отличие Софии Августы от ее жениха, Карла Петера Ульриха, который не то что не желал становиться русским, он даже старательно не хотел понимать, что в родную Голштинию не вернется никогда!
Петр все еще предпочитал говорить по-немецки, хотя Елизавета приставила к нему самых терпеливых наставников. Презирал наследник русского престола и православие, в которое был крещен насильно, получив имя Петра Федоровича, но не став от этого менее немцем даже на гран. Никакого умения править страной Фике в нем не увидела, равно как и желания этим умением овладеть.
Да, конечно, Петр встретил ее с радостью, однако эта радость показалась Софии сродни той, что выказывает любое дитя, когда среди огромного числа взрослых находит своего сверстника.
– Ему бы поболтать да в солдатики поиграть, душечка, – усмехнулась как-то Румянцева. – Он просто с трудом выросший мальчишка, не мужчина и, конечно, не будущий император.
Как ни больно было слышать это, Прасковья была права в каждом слове. София вспомнила, как обрадовался Петр, увидев проявленный кузиной вежливый интерес. Ума наследнику хватило лишь на то, чтобы честно признаться, что ее, милую Фике, он любит как родственницу, что ему отрадно ее появление. Однако сердечную привязанность, о нет, подлинную любовь он питает к совсем другой даме – юной и прекрасной мадемуазель Лопухиной, которую изгнали после того, как заподозрили в заговоре и прилюдно лишили языка ее матушку.
– Ну да будет так, – вздохнул Петр и взял узкую руку Софии в свои холодные и влажные ладони. – Вы недурны, я бы сказал, что даже милы… по-своему. Раз уж тетушка так сильно желает, чтобы я женился на вас, я женюсь. В конце концов, это не худший из возможных союзов… Думаю, моя милая кузина, что я могу вам даже доверять – мы оба чужаки в этой стране, нас обоих здесь не ждали, нам обоим не рады, так не будет ли лучше, если мы объединимся, дабы защищать друг друга от врагов?
София с трудом удержалась от того, чтобы не дать кузену по губам. «Да как он не понимает, что следует быть осторожнее, пусть мы и беседуем по-немецки? Это вовсе не значит, что нашего разговора не услышат чужие уши, а буде услышат, что не доложат, всяко исказив смысл каждого слова!..»
Конечно, себе София могла и сознаться, что вовсе не из-за неосторожности Петра хочет дать ему по губам. Да, слова его ранили, против всех ожиданий, достаточно больно. Пусть с самого начала поездки было ясно, что их союз продиктован в первую очередь политикой, но все же слабая надежда на чувства кузена теплилась в сердце Фике. Пусть не всепоглощающая страсть, пусть лишь дружба! Ей бы и такого хватило, чтобы отдать душу своему мужу. Однако…
«Ну что ж, да будет так! Вы, ваше высочество, сделали сразу две ошибки. Во-первых, вы уверены, что я стану вашей союзницей, но это не так. А во-вторых, вы лишили меня еще одной надежды. И сие дает мне право избирать сердечную привязанность по своему вкусу! Пусть я телом буду принадлежать вам, дражайший мой кузен, но душа-то вам не нужна. Вот ее-то я и отдам тому, кто сего более вас достоин!»
Что ж, если Петр столь упорно считал себя немцем, то она была просто обязана в противоположность ему стать русской поболее, чем иные русские по крови.
– Правильно, Софьюшка, – улыбнулась Румянцева. – Такое решение поистине невероятно мудрое и достойное не принцессы, но настоящей наследницы престола.
София кивнула – она ладонями разглаживала лист бумаги, на котором печатными буквами были написаны трудные русские слова. Обычно она заучивала их по ночам, а утром Прасковья или вторая приставленная к ней фрейлина, Мария, проверяли, хорошо ли она усвоила очередной урок.
– Императрица тоже нашла мои резоны вполне весомыми. Вскоре ко мне будет приставлен наставник, который откроет мне мудрость православной веры. Матушка Елизавета говорила, что им станет господин Тодорский, которому она уже отослала в Ипатьевский собор повеление прибыть ко двору.
– Мудра императрица наша… – протянула Румянцева. Она знала, что настоятель Ипатьевского собора Симон Тодорский отличается поистине дьявольским умом, ангельским терпением и подлинной дипломатической изворотливостью. Да, такой найдет верные слова, дабы убедить кого угодно в чем угодно. – Однако отчего же мы должны медлить, ожидая отца-богослова, Софьюшка?
– Медлить?
– Конечно. Пусть из Ипатьевского путь и невелик, но все же займет не минуту. А мой добрый друг Василий может уделить внимание вашему высочеству, – тут Прасковья улыбнулась не без ехидства, – хоть прямо сейчас.
О Василии Богоявленском среди дам двора ходили легенды. София от той же Румянцевой уже была наслышана об этом молодом священнике (Фике очень не нравилось слово «поп»). Говорили, что он выбился в люди из самых низов, подобно многим иным, тому же Разумовскому к примеру. Говорили, что голос его глубок, речи значительны, а разум более чем изощрен, что он растолковывает любой ученице суть какого-либо стиха Библии так доходчиво, что не понять его невозможно.
София, конечно, уже обратила внимание на то, что отец Василий не чурается пристального внимания молодых дам двора, но не видела в этом ничего плохого. Ибо если Богу угодно, чтобы его учение было преподано именно так, а не иначе, что же тут дурного?
Прасковья же Румянцева от отца Василия просто сходила с ума. София слушала рассказы подруги с улыбкой. Сердечные дела – штука такая затейливая, что давать какие-либо советы не то чтобы опасно, но крайне неразумно.
– Ну что ж, Прасковьюшка, зови своего отца Василия! Но и сама не уходи – мне не по чину оставаться в комнате одной с мужчиною… – София с удовольствием ввернула новый для себя оборот.
– Софьюшка, душа моя, надо бы сказать иначе. Например, «мне не велит обычай» или даже «отцу Василию не по чину оставаться со мной наедине».
– Спасибо, добрый друг!
Прасковья убежала, а Фике старательно записала объяснение подруги.
Едва слышно скрипнула дверь покоев принцессы. Порог переступила Румянцева, а следом за ней появился ее амант – отец Василий. Одетый в светское платье, он, тем не менее, выглядел лицом духовным (быть может, самым духовным из всех, когда-либо виденных девушкой). Глаза его горели истинной верой, а богатырскому росту вкупе с невероятно красивым лицом могли бы позавидовать все сказочные герои, вместе взятые.
«Добрый мой друг Прасковьюшка, – мысленно улыбнулась София, – как же хорошо я понимаю тебя!»
В душе девушки, к счастью, не шевельнулось и тени зависти к подруге. Не дело делить мужчину с кем бы то ни было будущей жене великого князя. И уж тем более не дело отбивать мужчину, каким бы писаным красавцем он ни был. А вот дружить с таким человеком отрадно, прислушиваться к голосу мудрости – приятно, беседовать – достойно.
«Быть может, отец Василий останется при моей особе вместе с Прасковьей и после свадьбы…»
– Матушка государыня, – склонился в поклоне духовник.
София звонко рассмеялась.
– Ну что вы, друг мой, – с чудовищным акцентом, тем не менее по-русски проговорила она. – Ну какая же я матушка? Какая государыня? Я всего лишь принцесса, которую высокая политика привела в незнакомую страну.
Отец Василий улыбнулся.
– Да, принцесса.
– К тому же принцесса эта очень боится остаться чужаком в этой новой стране. Боится, что ее так и не примет народ, ибо она так и не приняла его традиций и веры.
София говорила от чистого сердца. Эта искренность не могла не тронуть Василия, хотя он до сих пор и не верил рассказам Румянцевой о странной принцессе, которая мечтает стать «настоящей русской».
– Ты преувеличиваешь, друг мой, – усмехался он, целуя нежные пальчики Прасковьи. – Такого не может быть! Она лютеранка, как и великий герцог. Не верится мне, что она захочет пойти поперек воли будущего своего супруга.
– Душа моя… – Девушка прижалась к Василию. – Да ведь никакой воли будущего супруга-то и нет. Есть глупые желания балованного мальчишки. Ведь он до сих пор все в солдатиков играет, только солдатики у него уже живые, а не оловянные. А София – девушка серьезная, основательная, много знает, о многом свое мнение имеет. Она, и сие вполне понятно, хочет, чтобы императрица Елизавета ни сейчас, ни в будущем не пожалела о том, что избрала ее невестою наследника. Мне кажется, решимость моей подруги столь велика, что она бы сутками училась, если бы сие было возможно.
– Не всякий мужчина столь упорен в своих деяниях, Прасковьюшка!
– О да. Но принцесса София Августа, думаю, многим из мужчин могла бы дать сто очков вперед и по упорству, и по решимости, и по самоотречению, с каким берется за дело.
– Похоже, великому князю очень повезет с женой, милая.
– Это нам всем повезет, если у великого князя будет жена, столь сильно от него, голштинского дурня, отличная…
Сейчас Василий видел, что Румянцева нисколько не преувеличивала. Глаза принцессы выдавали ее недюжинный ум и усердие, с которыми она готова была претворять в жизнь свои решения.
София сделала приглашающий жест. Отец Василий опустился на банкетку так, чтобы видеть лицо девушки.
– Прасковья, добрый мой друг, и ты садись поближе! Думаю, что беседа будет долгой. Не дело, чтобы мои друзья утомились попусту.
Слух отца Василия, конечно, резанул акцент принцессы, но ее рвение было непоказным. И не заметить этого мог только тот, кто слеп и глух от рождения.
– Должно быть, моя добрая подруга уже рассказывала тебе, Василий, что я мечтаю стать по-настоящему русской, что хочу принять православие. Матушка императрица назначила мне наставника из Ипатьевского монастыря…
Василий кивнул – во дворце слухи распространяются быстро, а в альковах – и того быстрее.
– Решение мое вполне твердое, и в поддержке я не нуждаюсь. Печалит меня строгий наказ моего батюшки, принца Христиана Августа, не менять своей веры. Ибо если я сменю веру, я потеряю и себя саму. А что может быть для человека страшнее, чем потеря самого себя, когда у него более ничего своего не осталось…
– Принцесса, позволено ли мне будет задать вопрос?
– Конечно. – Фике пожала плечами.
– Верно, вы хотели бы убедить батюшку в том, что веры наши схожи? Что, став православной, вы не перестанете быть самой собой, но обретете друзей и союзников столько, сколько вам бы и не снилось, оставайтесь вы лютеранкой.
– Верно! Именно этого я и хочу!
«Милая моя Софьюшка… – подумала Румянцева. – Печально, когда родители наши не понимают резонов наших… Ну да ничего, Васенька мой тебе поможет!»
– Думается мне, что вашему батюшке не весьма известны отличия в наших верах. И в словах его куда больше родительского упрямства, чем подлинной мудрости…
«Ой… Васенька, придержи язык-то! Не с простушкой, чай, разговариваешь!» Прасковья взглянула на Софию, опасаясь вспышки гнева. Но лицо принцессы было спокойно. Похоже, она не так высоко ценила своего отца.
– И кроме того, матушка принцесса, сдается мне, что ваши истинные цели вашему батюшке непонятны, ибо не в силах он своим умом властелина крохотной страны обозреть обширность ваших планов – планов под стать нашей прекрасной империи.
Румянцева снова сжалась. Вот сейчас София ка-ак призовет стражу… Однако принцесса лишь тонко усмехнулась, давая понять, что не видит дерзости в словах Василия, а видит только слова соратника, готового помочь в непростом, но важном деле.
– Ведь главное в нашей вере то, что Бог наш вездесущ, что он един и что все мы его дети… Как бы мы ему ни служили, на каком бы языке ни говорили, главное – что мы верим в его мудрость и справедливость, в то, что всякое наше деяние будет им взвешено, а, буде мы того достойны, в свой час призовет он нас к себе и воздаст нам по делам нашим.
София лишь кивнула. Ей почудилось, что Василий сейчас слишком упрощает, однако в этом была своя столь освежающая доступность. Да, такие слова, быть может, и смогут найти путь к сердцу Христиана Августа.
– Так в чем же тогда различие?
– Да, отец мой, в чем отличие?
– Лишь в том, что мы служим Отцу нашему Небесному по-разному – различие лишь во внешнем обряде. Лютеранский обряд суров и строг, а обряд православный пышен и ярок. Тому есть объяснения в истории наших стран, но сейчас стоит ли в них вдаваться?
София пожала плечами. Пожалуй, ей хотелось бы разобраться в истоках верований, понять, откуда пошел тот или иной обряд и почему. Но отцу, это истинная правда, сие вовсе неинтересно!
– Выходит, что в нашей вере самое главное – это порыв души, желание возвысить свою душу, создать себя по образу Отца нашего Небесного.
Принцесса подумала, что вот такое объяснение отлично подойдет для герцога. А отец Василий вполне сгодится на роль советчика в особо тонких делах, ибо, к сожалению, ей самой далеко не все будет по плечу.
– Более того, будет разумно отписать вашему батюшке, что столь пышные обряды нужны народу русскому, темному и непросвещенному, ибо этой пышностью дарим мы ему причастность к возвышенному и прекрасному.
– Но это же ложь, отец мой! Народ русский мудрый и работящий, просвещенный поболее, чем иные европейские монархи!
– Отрадно, принцесса, что вы понимаете это! Однако я не вижу большого греха в том, что мы чуть польстим вашему папеньке, унизив в его глазах подданных Елизаветы Петровны. От них, сдается мне, не убудет, а объяснения герцог Ангальт-Цербстский получит достаточные!
«Дай-то Бог, друг мой…»
София глубоко задумалась. Письмо нужно будет отправить как можно скорее, ибо решение ее невероятно твердо, а продлевать неприятное без крайней нужды она не желает.
Из «Собственноручных записок императрицы Екатерины II»
На первой неделе Великаго поста у меня была очень странная сцена с великим князем. Утром, когда я была в своей комнате со своими женщинами, которыя все были очень набожны, и слушала утреню, которую служили у меня в передней, ко мне явилось посольство от великаго князя; он прислал мне своего карлу с поручением спросить у меня, как мое здоровье, и сказать, что ввиду поста он не придет в этот день ко мне. Карла застал нас всех слушающими молитвы и точно исполняющими предписания поста, по нашему обряду. Я ответила великому князю через карлу обычным приветствием, и он ушел. Карла, вернувшись в комнату своего хозяина, потому ли, что он действительно проникся уважением к тому, что он видел, или потому, что он хотел посоветовать своему дорогому владыке и хозяину, который был менее всего набожен, делать то же, или просто по легкомыслию, стал расхваливать набожность, царившую у меня в комнатах, и этим вызвал в нем дурное против меня расположение духа. В первый раз, как я увидела великаго князя, он начал с того, что надулся на меня; когда я спросила, какая тому причина, он стал очень меня бранить за излишнюю набожность, в которую, по его мнению, я впала. Я спросила, кто это ему сказал. Тогда он мне назвал своего карлу, как свидетеля-очевидца. Я сказала ему, что не делала больше того, что требовалось и чему все подчинялись и от чего нельзя было уклониться без скандала; но он был противнаго мнения. Этот спор кончился, как и большинство споров кончаются, т. е. тем, что каждый остался при своем мнении, и Его Императорское Высочество, не имея за обедней никого другого, с кем бы поговорить, кроме меня, понемногу перестал на меня дуться.
Глава 13 Не та мать, что родила, а та мать, что…
Истекал июнь 1744 года. Четыре с небольшим месяца назад София впервые увидела Россию. Много это или мало?
Для страны – ничтожный миг, кратчайший срок, о котором иногда даже не упоминает история. Но для жизни человека порой это срок гигантский. Особенно в том случае, если человек этот, приняв некое решение, все силы прикладывает для его осуществления…
Наконец дождалась София дня своего крещения в православие. Да, положенные для наставления в вере Христовой полгода не прошли, однако действовало уже весьма мудрое правило, что «этот шестимесячный срок не должен быть понимаем в смысле срока непреложного. При этом должны быть принимаемы в соображение как понятия, так и степень убеждения обращающегося».
Подписавшая указ Елизавета в убеждениях Софии не сомневалась ни минуты – девушка смогла доказать свое желание не словами, но самим делом.
София меры в делах не знала и потому посреди ночи вставала и учила русские слова целыми страницами. Наставник в изучении языка российского, Василий Евдокимович Адодуров, не мог нахвалиться – таковы были усердие и успехи девушки. Просьба же принцессы продолжать с ней уроки после истечения отведенного времени по-настоящему тронула его. Секретарь при Алексее Разумовском, он был учителем многих именитых людей, однако столь поглощенной своей задачей ученицы, какой была Фике, до сего дня не встречал.
Увы, долгие ночные часы в одной рубашке и босиком перед разложенными учебниками, кроме ошеломляюще быстрых успехов в обучении, принесли еще и жесточайшую простуду. София металась в жару, но Иоганна старательно не замечала недомогания дочери.
– Дочь моя, приведите себя в порядок и ни в коем случае не показывайте своих капризов придворным! – кричала она, пытаясь поднять Фике с постели.
Девушка с трудом открывала воспаленные, помутневшие глаза, пыталась сделать какое-то движение, бормотала что-то беззвучное и вновь откидывалась на подушки. Герцогиня приходила в ярость, срывала с дочери одеяло, тормошила ее за плечи, пытаясь привести в чувство. Но все повторялось сначала – Фике едва поднимала веки, шевелила сухими горячими губами и вновь теряла сознание…
Иоганна до смерти боялась, что малейшая слабость девушки будет причиной отказа императрицы, а значит, ей, Иоганне, придется покинуть блестящий императорский двор, отказаться от своей восходящей шпионской карьеры. Надо же, глупой девчонке вздумалось простудиться!
Но состояния Софии было уже не скрыть. Румянцева, узнав о болезни подруги и не на шутку встревожившись, бросилась к императрице.
– Разве София Августа больна? – удивилась Елизавета.
– Полагаю, от вас нарочно скрывают это, государыня.
Тонкие брови Елизаветы поползли вверх. Она рывком поднялась и быстрыми шагами направилась в покои Фике. Прасковья поспешила за ней.
Они вошли как раз в тот момент, когда обезумевшая Иоганна в ярости хлестала больную дочь по щекам. Румянцева слегка вскрикнула.
– Отойдите от постели! – раздался негромкий властный голос Елизаветы.
Иоганна застыла на мгновение, медленно обернулась… Глаза ее расширились настолько, что, казалось, одни только и остались на побелевшем лице. Елизавета стремительно подошла к кровати, отстранила жестом герцогиню, склонилась над Фике.
Чья-то прохладная ладонь легла на лоб, принося желанное облегчение. Девушка тихо, обессиленно застонала. Елизавета быстро оглядела ее лицо, крупные капли пота на шее и груди, погладила по волосам.
– Лестока сюда! Немедленно! – приказала она, вставая.
Лейб-медик незамедлительно прибыл. Все время, пока длился осмотр, Елизавета не выходила из комнаты, следя за каждым движением лекаря внимательными, тревожными глазами.
– Ну что ж, государыня, – сказал он наконец, оставив Фике и повернувшись к Елизавете, – жесточайшее воспаление легких. Необходимо кровопускание и полный покой. Рядом с девочкой неотлучно должны находиться врачи. Опасность для жизни очень велика.
Елизавета медленно повернулась к Иоганне.
Страшнее всего для герцогини было каменное молчание императрицы. Оно длилось всего несколько мгновений, пока застывшие глаза женщины холодно скользили по лицу Иоганны, ощупывая каждую черточку, не пропуская ни одной мелочи…
– Немедленно делайте кровопускание, Лесток, – спокойно, не повышая голоса, произнесла наконец Елизавета, не отрывая при этом взгляда от все более бледневшей Иоганны. – А ты, сестра, выйди отсюда – нечего тебе здесь уже делать.
– Ваше величество… – заикаясь, выдавила из себя Иоганна.
– Вон! – прикрикнула Елизавета. Холодные глаза ее блеснули.
Иоганны и след простыл. Румянцева, сделав реверанс, вышла тоже.
– Если, – медленно проговорила Елизавета, глядя теперь на Лестока, – не спасете принцессу, сам знаешь, что с вами всеми, лекарями, сделаю…
Вмешательство императрицы спасло Фике жизнь. Девушка выздоравливала, но очень тяжко и медленно. Слухи – о, какой же двор может обойтись без слухов! – мгновенно разнесли, что причиной ее болезни стало то, что она учила русский язык и днем и ночью, не обращая внимания на сквозняки, холодные дворцовые полы и усталость.
– Похоже, эта немочка не чета дурню-то голштинскому! – говорили придворные. – Из нее, поди, выйдет толк. Да и матушка императрица о ней печется не хуже, чем о дочери родной! Выходит, не повезло нам с наследником престола, так повезло с его невестой!
«Должно быть, – думала Фике, одетая в тончайшую ночную сорочку, лежавшая на пуховых подушках, под роскошным теплым и мягким одеялом, – мне суждено было встать на самый край могилы, заглянуть в ее черные глубины, чтобы понять, кто мне истинная добрая матушка, а кто – жестокая эгоистичная мачеха».
Иногда успех приходит к нам с самой неожиданной стороны. И пусть сейчас Фике этого не знала, но вскоре почувствовала, сколь разительно изменилось к ней отношение при дворе. Однако сейчас о выздоровлении говорить еще не приходилось – девушка была слаба и отделяла ее от небытия только тонкая грань.
Иоганна наконец осознала, что дочь в нешуточной опасности, к тому же совершенно четко поняла, что со смертью дочери о всяких интригах при всяких дворах придется мгновенно забыть. Гнева Елизаветы она не забыла и понимала, что императрица тоже все помнит прекрасно. В страхе герцогиня металась по дворцу в поисках лютеранского пастора. Когда же тот нашелся, Иоганна с удивлением узнала, что дочь никакого пастора видеть не желает, а желает побеседовать с настоятелем Ипатьевского монастыря Симоном Тодорским, а буде таковой окажется занят сверх всякой меры, с отцом Василием Богоявленским. Святые отцы, конечно, прибыли незамедлительно. Они смогли утешить девушку в ее нешуточном беспокойстве, смогли успокоить. И вскоре София окончательно пошла на поправку.
Для всей столицы становилось ясно, что в лице принцессы Софии Августы наследник Петр, да что там он – вся Россия обрела подлинную драгоценность. И как только девушка стала вставать с постели, исхудавшая, полупрозрачная, бледная, был подписан указ о крещении.
Из «Собственноручных записок императрицы Екатерины II»
Мне дали уже троих учителей: одного, Симеона Теодорскаго, чтобы наставлять меня в православной вере; другого, Василия Ададурова, для русскаго языка, и Ландэ, балетмейстера, для танцев. Чтобы сделать более быстрые успехи в русском языке, я вставала ночью с постели и, пока все спали, заучивала наизусть тетради, который оставлял мне Ададуров; так как комната моя была теплая и я вовсе не освоилась с климатом, то я не обувалась – как вставала с постели, так и училась.
На тринадцатый день я схватила плеврит, от котораго чуть не умерла. Он открылся ознобом, который я почувствовала во вторник после отъезда императрицы в Троицкий монастырь: в ту минуту, как я оделась, чтобы итти обедать с матерью к великому князю, я с трудом получила от матери позволение пойти лечь в постель. Когда она вернулась с обеда, она нашла меня почти без сознания в сильном жару и с невыносимой болью в боку. Она вообразила, что у меня будет оспа, послала за докторами и хотела, чтобы они лечили меня сообразно с этим; они утверждали, что мне надо пустить кровь; мать ни за что не хотела на это согласиться; она говорила, что доктора дали умереть ея брату в России от оспы, пуская ему кровь, и что она не хотела, чтобы со мной случилось то же самое. Доктора и приближенные великаго князя, у котораго еще не было оспы, послали в точности доложить императрице о положении дела, и я оставалась в постели, между матерью и докторами, которые спорили между собою. Я была без памяти в сильном жару и с болью в боку, которая заставляла меня ужасно страдать и издавать стоны, за которые мать меня бранила, желая, чтобы я терпеливо сносила боль. Наконец, в субботу вечером, в семь часов, т.-е. на пятый день моей болезни, императрица вернулась из Троицкаго монастыря и прямо по выходе из кареты вошла в мою комнату и нашла меня без сознания. За ней следовали граф Лесток и хирург; выслушав мнение докторов, она села сама у изголовья моей постели и велела пустить мне кровь. В ту минуту, как кровь хлынула, я пришла в себя и, открыв глаза, увидела себя на руках у императрицы, которая меня приподнимала. Я оставалась между жизнью и смертью в течение двадцати семи дней, в продолжение которых мне пускали кровь шестнадцать раз и иногда по четыре раза в день. Мать почти не пускали больше в мою комнату; она по-прежнему была против этих частых кровопусканий и громко говорила, что меня уморят; однако она начинала убеждаться, что у меня не будет оспы.
Императрица приставила ко мне графиню Румянцеву и несколько других женщин, и ясно было, что суждению матери не доверяли. Наконец нарыв, который был у меня в правом боку, лопнул, благодаря стараниям доктора португальца Санхеца; я его выплюнула со рвотой, и с этой минуты я пришла в себя; я тотчас же заметила, что поведение матери во время моей болезни повредило ей во мнении всех. Когда она увидела, что мне очень плохо, она захотела, чтобы ко мне пригласили лютеранскаго священника; говорят, меня привели в чувство или воспользовались минутой, когда я пришла в себя, чтобы мне предложить это, и что я ответила: «зачем же? пошлите лучше за Симеоном Теодорским, я охотно с ним поговорю». Его привели ко мне, и он при всех так поговорил со мной, что все были довольны. Это очень подняло меня во мнении императрицы и всего двора. … Я привыкла во время болезни лежать с закрытыми глазами; думали, что я сплю, и тогда графиня Румянцова и находившияся при мне женщины говорили между собой о том, что у них было на душе, и таким образом я узнавала массу вещей. Когда мне стало лучше, великий князь стал приходить проводить вечера в комнате матери, которая была также и моею. Он и все, казалось, следили с живейшим участием за моим состоянием. Императрица часто проливала об этом слезы. Наконец, 21 апреля 1744 года, в день моего рождения, когда мне пошел пятнадцатый год, я была в состоянии появиться в обществе, в первый раз после этой ужасной болезни. Я думаю, что не слишком-то довольны были моим видом; я похудела, как скелет, выросла, но лицо и черты мои удлинились; волосы у меня падали, и я была бледна смертельно. Я сама находила, что страшна, как пугало, и не могла узнать себя. Императрица прислала мне в этот день банку румян и приказала нарумяниться…
Глава 14 Не София, но Екатерина
Летний день, теплый и свежий, подарил Софии удивительные силы. Все вокруг она воспринимала так обостренно, словно и впрямь наступило начало ее новой жизни. В известной мере так оно и было: будущая великая княгиня из «немочки» превратилась в любимицу всех тех, кто любил свою страну и презирал Петра с его замашками немецкого фельдфебеля. Отлично выспавшаяся, ни секунды не сомневающаяся в правильности избранного пути, вошла София Августа в императорскую придворную церковь.
На ней было платье, весьма напоминавшее одеяния самой императрицы, – красная плотная ткань из Тура, серебряная вышивка, строгая и сдержанная. Черные волосы не тронуты пудрой, украшены лишь тонкой белой лентой. Вряд ли кто-то мог сказать, что Софию украшало платье, скорее, одухотворенное сосредоточенное лицо девушки украшало и платье и прическу.
В церкви было душно. Собравшиеся толпились даже во дворе. Однако Фике этого не замечала: она была поглощена своими мыслями, чувствовала, что делает один из самых важных шагов в своей жизни. Сейчас неуместно было обращать внимание на шепотки за спиной, сколь бы они ни были восхищенными и сочувствующими. Потом можно будет расспросить Прасковью Румянцеву или Машеньку Бутурлину, Като Загряжскую или еще кого-то из фрейлин о мельчайших подробностях: хорошо ли сидело платье, достойными ли показались манеры, насколько четко звучал голос. Но это потом, не сейчас…
Сейчас важно сосредоточиться на таинстве. Почувствовать его высокую истину, не сбиться в словах, не споткнуться о ступеньку, не запутаться в длинной юбке и роскошном шлейфе.
Вспомнились слова Симона Тодорского о водном крещении:
– Дитя, крещение сие существовало еще в ветхозаветные времена. Оно жило как особое церковное установление, каковое символизирует не только физическое, но и нравственное очищение. Спаситель освятил это крещение, приняв его от Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна в водах иорданских…
– Водное? Меня обольют водою?
Наставник улыбнулся мягко:
– Нет, дитя. Святой водой тебе окропят голову и одеяние. Ибо важно следование традиции не дословное, но по сути. Капли святой воды есть символ твоего очищения, того, что отныне ты вручила душу свою Отцу нашему.
Оказывается, мысли бывают удивительно быстрокрылы. Всего несколько мгновений – и мысли вернулись в прошлое. Но вот уже твердым голосом и без запинок произнесен «Символ веры», вот капли святой воды остудили лицо и плечи, вот обойдена купель и сострижена специально оставленная свободной прядь волос.
– Сим крещается и нарекается раба божия Екатерина Алексеевна…
Ноги Фике подкосились. Свершилось! Принцесса София Августа Ангальт-Цербстская осталась в прошлом, на тех страницах истории, которые повествовали о ее детстве, родителях, веселых проказах, о ее восхищении королем Фридрихом и поклонении перед властительницей огромной России. Новую страницу жизни перевернет Екатерина Алексеевна, невеста великого герцога Петра Федоровича!
Необыкновенное ощущение, которому Екатерина ни сейчас, ни позже не могла дать объяснения, пронзило ее от высокой прически до каблуков – она может!
В ее силах преодолеть черные дни и добиться дней светлых. Причем не оттого, что великий князь вот-вот станет ее мужем, не оттого, что императрица полна к ней добрых чувств. Вовсе нет. У нее уже есть сейчас и дальше с ней пребудет – сила, которая позволит ей самой взять свою судьбу в собственные руки!
За распахнутыми дверями церкви плавилось высокое московское небо. Многочисленные царедворцы спешили на свежий воздух из душной церкви. Где-то среди них затерялась и Иоганна, наверняка изобретающая очередную интригу или в который уже раз выбирающая сторонников и противников в непонятных играх высокой политики.
Наконец путь был свободен – Екатерина, осторожно ступая, спустилась по ступеням. Улыбающаяся Елизавета обняла ее.
– Дитя мое!
Императрица больше ничего не сказала, но все выразили ее теплые объятия. Екатерина почувствовала что-то в руке и опустила глаза. Изумительной красоты бриллианты играли в изящной броши.
– Повернитесь, дочь моя!
Холод колье немного привел Екатерину в себя, но рассмотреть красоту камней она смогла только много позже. О, теперь она со всей полнотой поняла, насколько довольна ею императрица.
– Позволено ли мне будет просить государыню матушку? – едва слышно произнесла Екатерина.
– Все, чего пожелаешь, девочка, – тоже вполголоса ответила Елизавета.
Она отлично понимала, сколь велико потрясение, которое испытывает юная Фике, сколько сил отняло у нее таинство. Более того, она почти наверняка знала, о чем девушка будет ее просить.
– Позволено ли мне будет удалиться в свои покои и не появляться сегодня на обеде?
– Конечно, дочь моя! Отдохни, поспи. Завтрашний день будет ничуть не легче дня сегодняшнего.
Конечно, не легче. Напротив, даже тяжелее. Ибо уже на завтра было назначено обручение. Императрица спешила обзавестись наследниками, обвенчать Петра и Екатерину – Брауншвейгская династия жива, жив маленький Иоанн Антонович, жива его мать. Только обретя великокняжескую чету, Елизавета могла безбоязненно смотреть в будущее, не опасаясь ни яда в бокале, ни кинжала под плащом. Смотреть в будущее и спокойно править, ожидая появления внуков.
Новый день принес Фике, о нет, Екатерине, отныне и до самой смерти Екатерине, новые силы. Предстояла церемония столь же длинная, как и вчерашняя, хотя для нее уже не такая решающая. Словно для того, чтобы поддержать ее, или, быть может, подбодрить, первая статс-дама Елизаветы внесла на бархатной подушечке две миниатюры в бриллиантовом обрамлении – портрет императрицы и великого князя.
Девушка полюбовалась на портрет своей повелительницы и взяла в руки второй, где был изображен ее будущий муж. Сколько бы старания ни приложил миниатюрист, сделать Петра привлекательным он не смог. То же узкое лицо, те же глаза навыкате, то же выражение лица: обиженный мальчишка, которому пообещали, что после сеанса у художника ему позволят вернуться к своим шумным играм.
«Надежды нет, – подумала Екатерина, – он никогда не будет относиться ко мне иначе. Лишь как к родственнице, лишь как к приятельнице. Дай-то Бог, чтобы я никогда не стала в его глазах нянькой, которая вынуждена потакать его прихотям!»
– Императрица матушка ждет вас в своих покоях! Не мешкайте, дитя!
Екатерина поспешила в покои Елизаветы, на ходу пытаясь понять, враг ей первая статс-дама или нет. Если судить по сухому тону и поджатым губам – враг, и, значит, принадлежит она к кругу вице-канцлера Бестужева. Но если не обращать на тон внимания, а услышать лишь обращение, какого не слыхала в собственном доме, то, быть может, и друг.
«Ох, но как же тут разобраться? Кому решиться задавать подобные вопросы? Не матушке же Иоганне, в самом-то деле! Та, если и знает, все равно правды не скажет. Всей правды. А клочки истины столь же похожи на истину, сколь похож на красавца великий князь Петр Федорович…»
Да, придется разбираться во всем самой – или с помощью по-настоящему близких людей, пусть их куда меньше, чем врагов и недоброжелателей. И дело это необыкновенно, удивительно важно, как важно все, что сейчас происходит.
Мечта стать любимой женой давно уже стала несбыточной. Но на смену ей пришла другая – стать не марионеткой, но правительницей, взять в свои руки дело управления страной.
«Ведь Петр так никогда и не повзрослеет. Елизавета не вечна, хоть молода и, дай Бог, процарствует еще не один год! Но власть свою передать ей будет некому, ибо племяннику ничего не нужно. А если все же он станет императором, во что он превратит страну?»
Двери в покои императрицы были гостеприимно распахнуты. Екатерина, поправляя платье, вовсе в том не нуждавшееся, вошла внутрь, радуясь, что мысли ее никто подслушать не может.
– Ты вовремя, дитя! – Улыбка Елизаветы была торжественной и чуточку взволнованной. Сегодня должно было завершиться дело, начатое почти год назад. Дело, которое сделает ее неуязвимой и подарит стране (дай-то Бог!) не одну правительницу, а длинный их род.
Екатерина залюбовалась императрицей. Роскошная мантия на плечах, корона, горящее волнением лицо. Да, сегодняшний день для Елизаветы значит куда больше, чем может показаться поначалу.
– Пора, дети мои!
И все пришло в движение. Массивный серебряный балдахин навис над высокой прической, увенчанной императорской короной, Петр Федорович встал за спиной тетки и поманил Екатерину, указывая место рядом с собой. За ними стали торопливо выстраиваться придворные дамы – строго по незримой табели о рангах. Сегодня можно было позволить лишь одно исключение: герцогиня Иоганна шагала сразу следом за дочерью, сопровождаемая принцессой Гомбургской.
Процессия стала медленно спускаться по Красному крыльцу – главной дворцовой лестнице. В этой томительной неторопливости было что-то по-настоящему величественное. Отзвуки этого величия наполняли сердце Екатерины непонятным ей трепетом. От волнения девушка едва могла дышать, но ни за что бы не выдала своих чувств – не выдала никому, кто шел с нею рядом. Ибо здесь не было ее друзей – лишь недруги или, в лучшем случае, люди, совершенно к ней равнодушные.
Нижний зал плавно переходил в площадь между дворцом и кафедральным собором. Выстроившиеся по обе стороны широкой дорожки лейб-гвардейские полки были неподвижны – только шевелились на ветру высокие султаны на киверах гусар да блестело золотое шитье на доломанах.
Шествие втянулось под своды кафедрального собора. Священники в роскошных золоченых рясах и с парадно расчесанными бородами почтительнейше встречали императрицу. Та неспешно проводила молодых на обтянутое красным бархатом возвышение точно под главным куполом собора. Вперед вышел архиепископ Амвросий Новгородский и Великолуцкий. Екатерина знала его непростую историю, знала, что некогда он был одним из сильнейших приверженцев Анны Леопольдовны и противником принцессы Елизаветы Петровны. Когда же та вступила на престол Российской империи, он впал в немилость. Однако позднее Амвросий сумел получить прощение и сделаться верным слугой российской императрицы, которая и сейчас поручила ему деяние важнейшее – совершить обряд обручения великого князя.
Очень скоро девушка перестала обращать внимание на происходящее. Сейчас и она и Петр были только куклами, которые должны были терпеливо и безропотно сыграть свою роль. Долгих четыре часа длился обряд. Екатерина чувствовала, что у нее болит спина, отекли ноги, мерзнут, несмотря на середину лета, руки. Потом прибавилось и головокружение. Но обряд все не заканчивался, торжественное пение все звучало, бас архиепископа все гремел…
Наконец она услышала позволение обменяться кольцами. Холодные пальцы Петра коснулись холодной руки Екатерины. Вот кольца надеты, холодные влажные губы жениха коснулись лба невесты.
Повисла тишина. Екатерина попыталась перевести дыхание и вздрогнула от многоголосого колокольного звона – Москва ликовала, обретя будущую супругу великого князя.
– Да когда же все это закончится? – едва слышно прошептала девушка.
– Терпите, кузина. Мне тоже нехорошо.
«Муж… Опора и защита…»
Обрученные вышли из собора. К кристальным голосам колоколов присоединился артиллерийский салют. Принцесса Ангальт-Цербстская стала великой княжной Российской империи, ее императорским высочеством. Спокойно встретила Екатерина это возвышение, со скромной и гордой улыбкой. Ибо отлично знала цену этому высокому имени.
А вот Иоганна вдруг поняла, что дочь одержала над ней еще одну победу. Негодование ее было столь велико, что она не выдержала:
– Но отчего же никто не восхваляет мать великой княжны? Отчего не помнят о той, что произвела на свет наследницу трона?
Екатерине сейчас было не до обид Иоганны. Говоря по чести, она сейчас вообще ничего не желала: ей бы опуститься на стул и самую малость отдохнуть, пусть даже в самой шумной комнате. Однако истерику герцогини преотлично заметили те, кому по роду службы следовало все замечать и ничего не пропускать.
Из «Собственноручных записок императрицы Екатерины II»
Однажды великий князь пришел в комнату матери и в мою также в то время, как мать писала, а возле нея стояла открытая шкатулка; он захотел в ней порыться из любопытства; мать сказала, чтобы он не трогал, и он, действительно, стал прыгать по комнате в другой стороне, но, прыгая то туда, то сюда, чтобы насмешить меня, он задел за крышку открытой шкатулки и уронил ее; мать тогда разсердилась, и они стали крупно браниться; мать упрекала его за то, что он нарочно опрокинул шкатулку, а он жаловался на несправедливость, и оба они обращались ко мне, требуя моего подтверждения; зная нрав матери, я боялась получить пощечины, если не соглашусь с ней, и, не желая ни лгать, ни обидеть великаго князя, находилась между двух огней; тем не менее я сказала матери, что не думала, чтобы великий князь сделал это нарочно, но что когда он прыгал, то задел платьем крышку шкатулки, которая стояла на очень маленьком табурете. Тогда мать набросилась на меня, ибо, когда она бывала в гневе, ей нужно было кого-нибудь бранить; я замолчала и заплакала; великий князь, видя, что весь гнев моей матери обрушился на меня за то, что я свидетельствовала в его пользу, и так как я плакала, стал обвинять мать в несправедливости и назвал ея гнев бешенством, а она ему сказала, что он невоспитанный мальчишка; одним словом, трудно, не доводя однако ссоры до драки, зайти в ней дальше, чем они оба это сделали. С тех пор великий князь не взлюбил мать и не мог никогда забыть этой ссоры; мать тоже не могла этого ему простить; и их обхождение друг с другом стало принужденным, без взаимнаго доверия и легко переходило в натянутыя отношения. Оба они не скрывались от меня; сколько я ни старалась смягчить их обоих, мне это удавалось только на короткий срок; они оба всегда были готовы пустить колкость, чтобы язвить друг друга; мое положение день ото дня становилось щекотливее. Я старалась повиноваться одному и угождать другому, и, действительно, великий князь был со мною тогда откровеннее, чем с кем-либо; он видел, что мать часто наскакивала на меня, когда не могла к нему придраться. Это мне не вредило в его глазах, потому что он убедился, что может быть во мне уверен.
Глава 15 Высокое искусство интриги
Оставим ненадолго княжну Екатерину, обрученную невесту великого князя Петра Федоровича, и обратим внимание на ее матушку, герцогиню Иоганну, хотя для этого придется вернуться в наступивший 1744 год, пусть и вспомнив уже описанные события второй раз. Однако теперь эти события в ином свете расскажут о «доброй матушке» Екатерины, вернее, объяснят некоторые странности ее поведения.
Все семейство собралось в Цербсте за столом, весело празднуя начало Нового года. Семейную идиллию нарушил гонец из Берлина, передавший князю Христиану Августу пакет с письмами. Князь разобрал почту и протянул жене конверт с надписью: «Лично! Весьма срочно! Ее высокоблагородию принцессе Иоганне Элизабет Ангальт-Цербстской, в замке Цербст». Должно быть, в этом мгновении и таится разгадка многих последующих событий, разгадка поведения герцогини.
Она взломала печати, начала читать, и радостное волнение охватило ее. Письмо было написано Брюммером, обер-гофмаршалом двора великого князя Карла Петра Ульриха в Санкт-Петербурге: «По срочному и особому повелению ее императорского величества императрицы Елизаветы Петровны оповещаю вас, мадам, что оная высочайшая повелительница желает, чтобы ваше высочество вместе с принцессой – старшей дочерью немедленно приехали в Россию, в город, где императорский двор будет иметь место… Вашему высочеству должно быть понятно, в чем истинная причина нетерпения, с каким ее императорское величество желает видеть ее и принцессу – старшую дочь, о которой рассказывают так много хорошего…»
Разумеется, расходы по путешествию брала на себя императрица: к письму прилагался дорожный вексель на десять тысяч рублей в один из берлинских банков. «Это немного, – писал Брюммер, – но очень важно не придавать поездке излишний блеск, дабы не привлекать любопытство злоумышленников. Тотчас по приезде в Россию принцесса и ее дочь будут приняты со всем почетом, соответствующим ее титулу».
Волнение Иоганны при этом чтении было так заметно, что Фике, сидевшая рядом с ней, позволила и себе бросить взгляд на письмо. В первую очередь она рассмотрела слова: «вместе с принцессой – старшей дочерью». Девушка тотчас поняла, что речь идет о ее дальнейшей судьбе. Однако Иоганна не намерена была посвящать дочь в содержание письма. Она вышла из-за стола и уединилась с мужем для беседы за закрытыми дверями. Не прошло и двух часов, как в замок влетел другой гонец на взмыленной лошади, на этот раз с посланием от короля Пруссии Фридриха. Если Брюммер не уточнил мотивы приглашения императрицы, то Фридрих приоткрыл завесу тайны: «Не скрою, что, испытывая особое уважение к вам и к принцессе – вашей дочери, – я всегда хотел уготовить ей необычное счастье. А посему задаю себе вопрос: нельзя ли выдать ее замуж за кузена в третьем колене, великого князя России?..»
Эту фразу Иоганна перечитала добрую дюжину раз, чтобы полностью проникнуться ее важностью. Душа ее наполнилась неимоверной гордостью, смешанной, однако, с нешуточным беспокойством. Ведь пока речь шла только о пожелании Фридриха. Императрица (конечно же, Иоганна сразу разглядела за письмом Брюммера саму Елизавету Петровну) ни словом не упомянула о замужестве, она просто приглашала приехать в гости.
Фике приглашена ко двору России… Но каждое приглашение имеет определенную цель. Цель этого приглашения проста – смотрины, правительница России хочет лично убедиться в том, что принцесса из крохотного княжества и впрямь может стать достойной партией наследнику русского престола. Если София сего испытания не пройдет, ее вернут домой и позор от несостоявшейся помолвки ляжет на всю семью.
Отец Фикхен в своих опасениях заходил еще дальше. Как можно доверять императрице Елизавете, если она только что бросила в тюрьму немецкую княгиню Анну Брауншвейгскую и ее сына, царевича Иоанна? Не подвергается ли риску Фике, не ждет ли ее трагическая участь, если она станет невесткой всемогущей правительницы, к тому же, как твердит молва, вспыльчивой и развратной? То, что рассказывают о нравах двора в России, был уверен Христиан Август, может заставить отшатнуться в ужасе родителей, как бы им ни хотелось пристроить дочь. Иоганна соглашалась – да, муж прав, здесь есть о чем думать. Однако следует рассмотреть и иную сторону вопроса: имеет ли право принцесса Ангальт-Цербстская отказываться от замужества, которое пойдет на пользу ее стране? Если она, Иоганна Ангальт, станет тещей великого князя, то сможет закулисно способствовать сближению России и Пруссии. Благодаря хрупкой четырнадцатилетней девочке перед ее матерью откроется политическое будущее. Наконец она, так долго терпевшая беспросветную жизнь в провинциальной дыре, сможет применить свой изощренный дипломатический ум! Король прусский Фридрих более чем прозрачно намекает на это в своем письме. Пишет-то он ей, а не Христиану Августу. Король именно в ней видит истинную главу семьи!
Мечущиеся между восторгом и страхом, родители Фике совещались без конца, но без толку. А девочка, оставаясь в стороне от этих бесед, легко догадывалась, о чем шла речь, и сердилась, что с ней не хотели советоваться, – ведь дело-то касалось прежде всего ее будущего. Три дня наблюдала она эту нелепую суету, вслушивалась в шепот и вглядывалась в лица, чтобы угадать, куда движутся события.
Когда терпение ее иссякло, она пришла к матери и сказала, что сохранять дальше секрет из известного письма просто нелепо, ибо всем, а ей, Фике, в первую очередь вполне ясно, что происходит и к какому решению вот-вот придут ее взволнованные родители. «Ну что ж, дочь моя, – ответила мать, – раз вы так умны, вам остается лишь угадать содержание делового письма на двенадцати страницах!» Во второй половине дня София вручила матери лист бумаги, на котором крупными буквами значилось: «Все говорит о том, что Карла Петра Ульриха прочат мне в мужья!»
Пораженная, Иоганна посмотрела на дочь со смешанным чувством недоумения, опаски и даже некоторого восхищения. Девочка-то, похоже, уже все решила – и на все решилась. Однако для очистки совести Иоганна решила напомнить дочери о безнравственности, которая царила в России.
– Там все ненадежно, любой вельможа рискует оказаться в тюрьме или в Сибири, в политике переворот следует за переворотом, кровь течет рекою…
– И что же, матушка? – Фикхен пожала плечами. – Все это меня не пугает. Господь, вручивший мне жизнь, поможет и в том, чтобы жизнь эта не была прожита напрасно!
Слова дочери о том, что Господь ей вручил жизнь, мгновенно вывели герцогиню из себя.
– Я! – завизжала она. – Я даровала тебе жизнь! И мне решать, как этой жизнью распорядиться!
Фике перемолчала эту вспышку матери. И она сама, и ее наставники знали за девочкой одну ее особенность: если что-то втемяшится ей в голову, ни гром, ни молния не заставят ее отступить.
– Матушка, сердце подсказывает мне, что все будет хорошо, поверьте.
О, Иоганне несколько плевать на уверенность дочери! Более того, ей было чем попрекнуть Фике.
– Но как же брат мой Георг? Что он скажет?
Однако София не смутилась. Да, она принимала влюбленность младшего брата своей матушки, не отказывая ему сразу и наотрез. Она позволяла воздыхателю быть рядом. Но и только. Девушку не смущало и то, что мать знала о ее идиллических отношениях с дядюшкой (более того, Фике сильно удивилась бы, если бы мать, которая была в курсе всех сплетен всех дворов Европы, не знала, что происходит в ее собственном доме).
– Если его чувства именно таковы, как он говорит об этом, – София сдаваться не собиралась, – он может только пожелать мне счастья и богатства!
Ни на секунду не пришла ей в голову мысль сравнить страждущего воздыхателя и великого князя Петра. Перспектива когда-нибудь стать владычицей двадцати миллионов подданных стоит того, чтобы пожертвовать детским увлечением…
– Однако, матушка, не думаю, что вам все же следует передавать вашему брату мои слова – он слишком раним. – Девушка подумала, что его нежная душа и такая ранимость вовсе не украшают его как мужчину и, уж конечно, не делают его в глазах женщин настоящим мужчиной. – Будет лучше, если вы сохраните наш разговор в секрете и от него, и от всех остальных.
Сказать, что Иоганна была изумлена, значит не сказать ничего. Обнаружить в дочери столь жесткие черты, услышать столь холодную отповедь… Да, похоже, когда-то придется соперничать и с собственной дочерью. Герцогиня была настолько выбита из колеи, что даже погладила дочь по руке.
– Хорошо, дитя мое. О нашем разговоре никто не узнает – и Георг, конечно, в первую очередь.
Удивительно, но в этот раз она сдержала слово.
Единственным препятствием для путешествия в Россию стал Христиан Август, упорно отвергавший даже мысль о таком замужестве. Для него оно означало в первую очередь переход дочери в иную веру. О, вот и нашлось где Иоганне приложить свои силы! Она нашла такие убедительные аргументы, что муж в конце концов уступил, оговорив право дать Фике обширные и исчерпывающие наставления о поведении в России, как при дворе, так и в религиозных делах. Добившись согласия мужа, Иоганна заставила его сей же час написать письмо о согласии на брак по всей форме. Как только документ был составлен, герцогиня отослала конверт о шести печатях с нарочным в Берлин.
И с отчаянным жаром принялась за приготовления к предстоящему путешествию. Для всех, и в замке, и вне его, речь шла о простой развлекательной поездке. Однако зачастившие посланцы, озабоченные лица хозяев, размеры багажа – все вызывало любопытство прислуги. В воздухе отчетливо пахло скорым замужеством.
Десятого января 1744 года, через девять дней после получения приглашения, князь Христиан Август, Иоганна и Фике отправились в путь. Гордость князя была уязвлена – он не приглашен в Россию, даже приглашение отослано на имя его супруги. Однако он решил, что будет лучше, если он проводит жену и дочь до Берлина. Король Пруссии решительно потребовал, чтобы перед поездкой в Петербург принцессы Ангальт предстали перед ним.
Объяснение здесь простое: Фридрих Второй, ценитель политических интриг и любитель устраивать политические союзы, хотел видеть будущую невесту великого князя, чтобы взвесить шансы на успех, и ее матушку, чтобы объяснить тайную роль, которую ей предстояло играть при дворе России. Иоганна понимала, что ей будет поручена секретнейшая миссия. Кому же, как не ей? Ее красота и ловкость, здравый разум и предприимчивость наверняка дадут ей в руки нити европейской политики, сделают ее вершительницей судеб Европы! Мысли об этом были столь сладки, что Иоганна пребывала в твердом убеждении, что отныне именно она – главное лицо грядущих перемен, чуть ли не творец оных.
Герцогиня продолжала пребывать в этом заблуждении и все дни, что семейство гостило во дворце Фридриха Великого. Она упрямо не понимала, что при сложившихся обстоятельствах короля больше интересует ее дочь, а не она. Она по-ослиному была уверена в том, что голова – это именно она, а Фике отведена роль простой пешки. Каково же было ее удивление, когда она увидела, что дочь сидит не просто за королевским столом, но буквально рядом с самим его величеством! Однако даже это не переубедило Иоганну, – быть может, напротив, заставило ее соперничать с Софией.
(Иногда кажется, что именно в усилиях убедить собственных родителей в собственной правоте и укрепляется наш собственный характер. И из правила этого, похоже, история исключений не знает.)
…Прибыв наконец после долгого, исполненного трудностей путешествия в Петербург, Иоганна тотчас же и с наслаждением погрузилась в атмосферу придворных интриг. Посол Франции маркиз де Ла Шетарди, по слухам, бывший любовник императрицы, исподтишка руководивший профранцузской партией, благоприятствовал браку юной Софии Ангальт-Цербстской – он осыпал комплиментами Иоганну и уверял, что она призвана сыграть выдающуюся роль в грядущем брачном союзе. Посол был первым, кто указал на главного врага дома Ангальт, на главного врага всей Европы. По его словам, Иоганне предстояло сломить ужасного Бестужева, фанатичного сторонника сближения с Австрией, в противовес Пруссии. Но для этого надо воспользоваться приездом в Россию будущей невесты наследника трона: девятого февраля день рождения великого князя. Если гнать лошадей, можно к этому дню добраться до Москвы. Императрице будет приятно такое усердие.
– Что поделать, милочка, придется преодолеть усталость… Ибо ставки в игре невообразимо велики. Вам надлежит поторопиться.
Ничего больше не требовалось – Иоганна, возбужденная интригой, приказала Нарышкину сколько возможно ускорить отъезд.
Сейчас, да, в общем, как и во всем этом путешествии, она мало думала о том, как чувствует себя дочь. А в Москве, получив из рук императрицы орден Екатерины, и вовсе впала в настоящую эйфорию. Мысленно она уже видела Фике женой великого князя, а себя – советницей царицы на благо Пруссии (Бестужев же должен был быть с позором «свергнут»).
Императрица продолжала осыпать благодеяниями своих немецких гостий. Иоганна не могла прийти в себя от того, что к ней приставили камергера, камеристку, пажей. Жизнь в Москве представляла собой сплошные празднества, балы, ужины; от всего этого великолепия у нее просто голова кругом шла. Герцогиня только удивлялась более чем сдержанному поведению дочери: София сохраняла полную ясность ума в этой головокружительной карусели.
Дни летели один за другим, но вразумить Иоганну не могло ничего. Даже болезнь дочери не открыла ей глаза на подлинную роль каждой из них, напротив, только разозлила. Иоганна искренне считала, что Фике притворяется исключительно для того, чтобы сорвать дипломатическую миссию матери и разрушить интригу, с таким трудом сплетаемую вокруг вице-канцлера. Даже мысль о том, что жизнь ее дочери может оборваться, не приводила герцогиню в чувство. Она была взбешена: Фике, дурочка, своей смертью может сыграть на руку Бестужеву.
К сожалению, судьбе было угодно подтвердить опасения Иоганны. Как только медики всерьез обеспокоились болезнью Софии, в клане Бестужева стала оживать надежда. Если принцесса умрет, можно будет предложить другую кандидатуру, угодную австро-британской коалиции. Но императрица утверждала, что в любом случае она не желает саксонской принцессы. И Брюммер доверительно сообщил де Ла Шетарди, что «в случае печального исхода, которого можно ожидать», он тотчас же примет меры и пригласит ко двору принцессу Дармштадтскую, очаровательную и столь же юную, также протеже короля Пруссии – Фридрих предусмотрел и возможность того, что принцесса Цербстская может не подойти на роль жены великого князя.
Принцесса София своим усердием и сдержанностью завоевывала сердца придворных, а ее мать своей глупостью вызывала всеобщую неприязнь. Решив, что дочери не жить, она потребовала, чтобы та вернула ей отрез светло-голубой ткани с серебряными цветами, подаренный перед отъездом дядюшкой Георгом Людвигом. Девушка отдала, пытаясь усмирить мать. Но это не помогло: слухи моментально разнесли по дворцу историю об этих дрязгах.
Даже сам вице-канцлер, которого менее всего можно было заподозрить в добрых чувствах к Фике, бросил в сердцах:
– Да это не мать! Кукушка, ей-богу!
Иоганна уже не считала Софию пешкой в своей игре. Теперь она и сама вышла в великие политические игроки, завела салон, стала принимать самых ярых врагов вице-канцлера Бестужева: Лестока, де Ла Шетарди, Мардефельда, Брюммера… Никогда еще не была она так взвинчена и так болтлива. Воображала, что у нее голова великого политика, а судьба ее подвела к великой цели – стать лазутчиком короля Фридриха при русском дворе, его глазами и ушами… Однако императрица становилась все более и более холодна с ней.
В мае 1744 года Елизавета и ее двор отправились на богомолье в Троице-Сергиеву лавру. София, Иоганна и великий князь получили приказ следовать за ее величеством. Тотчас по прибытии императрица пригласила Иоганну в свои покои. Едва герцогиня вошла, Лесток плотно закрыл дверь прямо перед носом Софии. Делать нечего – и будущие жених и невеста остались непринужденно беседовать прямо на подоконнике перед малой гостиной императрицы.
Повзрослевшая за время болезни Фике чувствовала себя ближе к миру взрослых, чем к детским играм кузена, любителя оловянных солдатиков и сплетен. Дурно воспитанный мальчик, никем не любимый, грубиян, он относился к ней не как к невесте и даже не как к девушке, не испытывал никакого почтения, но при этом отчего-то искал с ней встреч. Понять, что происходит, София пока не могла, однако отчетливо ощутимый привкус отвращения стал посещать ее каждый раз при встрече с великим князем.
И вот в момент, когда она смеялась какой-то глупости, сказанной им, дверь в комнату отворилась и выбежал Лесток, врач и советник императрицы. С мрачным выражением лица он грубо обратился к Софии:
– Чему радуетесь? Собирайте лучше багаж! Уезжайте, возвращайтесь к себе!
От столь непочтительных слов Фике лишилась дара речи, а великий князь потребовал у Лестока объяснений.
– Потом все узнаете! – бросил Лесток с важным видом.
София поняла, что мать совершила очередную глупость. Удивительно, но даже великий князь понял это. Хотя, быть может, догадался по расстроенному лицу Фике.
– Но если ваша мать в чем-то виновата, вы же не отвечаете за это, – сказал он, пытаясь ее утешить.
– Мой долг – следовать за матерью и выполнять ее волю, – ответила девушка.
В глубине души она ждала, что великий князь будет умолять ее остаться. Хотя бы просто попросит. Но ему это и в голову не пришло: она ли, другая ли… «Мне стало ясно, что он расстанется со мной без сожаления, – напишет она в своих “Мемуарах”. – Видя такое отношение, я почувствовала, что он мне безразличен, но мечту о короне Российской империи мне терять не хотелось».
Неужели ее надежды рухнули? Неужели придется вернуться в Цербст с поникшей головой? Терзаемая опасениями, София чувствовала, что в эту минуту там, за закрытой дверью, где императрица разговаривает с матерью, решается ее будущее. Наконец царица вышла: лицо ее пылало гневом, взгляд был злой и мстительный, за ней семенила Иоганна, на ней лица вовсе не было, красные глаза выдавали, что она только что рыдала.
Инстинктивно молодые люди тотчас же спрыгнули с подоконника. Похоже, что их поспешная реакция смягчила гнев императрицы. Улыбнувшись, она нежно поцеловала обоих: от сердца Софии отлегло, и сразу же воскресла надежда. Значит, не все потеряно. Елизавета никогда не стала бы подчеркивать разницу между провинившейся матерью и невиновной дочерью, если бы была убеждена в вине обеих.
И только после стремительного ухода царицы София узнала наконец от зареванной матери причины скандала. Пока Иоганна с друзьями Франции и Пруссии предавалась интригам, имеющим «высокую цель» свержения вице-канцлера Бестужева, тот перехватывал и расшифровывал секретную почту де Ла Шетарди. В своих письмах француз весьма непочтительно отзывался об императрице, подчеркивая ее лень, легкомыслие, ненасытную страсть к нарядам, а в подтверждение цитировал высказывания Иоганны и представлял ее как агента на службе у короля Фридриха Второго. Собрав достаточное количество компрометирующих материалов против своих противников, Бестужев принес их и положил перед царицей. Разъяренная Елизавета, не медля ни секунды, выставила де Ла Шетарди за пределы России. Затем призвала Иоганну и жестко отчитала ее, пригрозив, что если та и дальше будет распускать свой длинный язык, то в двадцать четыре часа последует за опальным послом.
Вот так герцогиня Иоганна Ангальт-Цербстская лишилась доверия при дворе. Страсть к интригам погубила ее. Она тотчас ощутила пустоту вокруг себя. Уже никто не осмеливался посещать ее салон. Однако из страны Иоганну пока не выставили. Из уважения к дочери ей было позволено обитать в своих покоях. Она злилась: победил ее враг Бестужев, который тут же из вице-канцлера стал канцлером. От обиды и печали она набрасывалась на Софию, чья выдержка и уравновешенность все сильнее бесили ее. Мать обвиняла дочь во всех их бедах. Но девушка с похвальным стоицизмом взялась исправить все, что испортила мать. Она восстановила связи, исправила ошибки Иоганны, вновь завоевала симпатии. Предоставленная сама себе при иностранном дворе, в стране, нравов которой она еще не знала, язык которой давался ей с колоссальным трудом, отягощенная тщеславной и злобной матерью, без друзей, без советчиков, опасаясь ловушек, она твердо следовала избранному пути. Она должна была, нет, просто обязана расположить к себе императрицу, раз уж невозможно обольстить Петра, смягчить ужасного Бестужева, раз невозможно его устранить. В противовес лицемерным ухищрениям матери честность дочери стала в глазах императрицы особенно трогательной.
Поняв, что на этот раз все обошлось, София с удвоенной энергией стала изучать русский язык и догматы православной веры. Гроза миновала. Вновь заговорили о крещении и об обручении. София старалась быть нежной с жалким Петром, при всем его косоглазии, бледности и худосочности. Великий же князь относился к женитьбе с таким же безразличием, как если бы речь шла о новом платье. «Ничего хорошего сердце мне не предвещало, – запишет позже Екатерина в своих дневниках. – Двигало мной только честолюбие. В душе моей не было и тени сомнения: я сама добьюсь своего и стану русской императрицей».
Состоялось обручение, Иоганна нашла в себе силы даже найти привлекательной собственную дочь в новом платье. Однако ее расположения хватило ненадолго: она была убеждена, что весьма и весьма недостаточно воздают почестей матери «наследницы» трона. Во время обеда после обручения она потребовала, чтобы ее посадили вместе с великокняжеской четой и рядом с императрицей. Ее место, заявила она, не среди придворных дам. Императрицу, так и не простившую Иоганну, эти претензии раздражали, Екатерина промолчала, но ей было необыкновенно стыдно за новую выходку матери. Двор в замешательстве замер. Наконец для Иоганны накрыли отдельный стол в застекленной ложе на хорах напротив трона.
После празднеств благодеяния императрицы продолжились с удвоенной силой. Подарки сыпались как из рога изобилия: украшения, драгоценные ткани, тридцать тысяч рублей на мелкие расходы будущей великой княгини. Теперь у нее был свой двор, тщательно подобранный императрицей для ее развлечения: камергеры, придворные дамы и фрейлины, все молодые и веселого нрава. Среди них не было никого из бывшего окружения Иоганны. Более того, среди них был сын канцлера Бестужева. Теперь, если герцогине Ангальт-Цербстской хотелось увидеть дочь, она должна была испросить разрешения, дождаться оного, к тому же ждать, когда о ней доложат. Почти всегда, что было еще унизительнее, при этих встречах присутствовал кто-нибудь из камергеров. Согласно этикету Иоганна обязана была с почтением относиться к той, кому еще вчера спокойно могла отвесить пощечину «за дурное поведение». Никогда еще герцогиня не чувствовала себя такой униженной.
Из «Собственноручных записок императрицы Екатерины II»
Через несколько времени после приезда императрицы и великаго князя в Петербург у матери случилось большое огорчение, котораго она не могла скрыть. Вот в чем дело. Принц Август, брат матери, написал ей в Киев, чтобы выразить ей свое желание приехать в Россию; мать знала, что эта поездка имела единственную для него цель получить при совершеннолетии великаго князя, которое хотели ускорить, управление Голштинией, иначе говоря, желание отнять опеку у старшаго брата, ставшаго Шведским наследным принцем, чтобы вручить управление Голштинской страной от имени совершеннолетняго великаго князя принцу Августу, младшему брату матери и Шведскаго наследнаго принца. Эта интрига была затеяна враждебной Шведскому наследному принцу голштинской партией, в союзе с датчанами, которые не могли простить этому принцу того, что он одержал в Швеции верх над Датским наследным принцем, котораго далекарлийцы хотели избрать наследником Шведскаго престола. Мать ответила принцу Августу, ея брату, из Козельца, что вместо того, чтобы поддаваться интригам, заставлявшим его действовать против брата, он лучше бы сделал, если бы отправился служить в Голландию, где он находился, и там бы дал себя убить с честью в бою, чем затевать заговор против своего брата и присоединяться к врагам своей сестры в России. Под врагами мать подразумевала графа Бестужева, который поддерживал эту интригу, чтобы вредить Брюммеру и всем остальным друзьям Шведскаго наследнаго принца, опекуна великаго князя по Голштинии. Это письмо было вскрыто и прочтено графом Бестужевым и императрицей, которая вовсе не была довольна матерью и уже очень раздражена против Шведскаго наследнаго принца, который под влиянием жены, сестры Прусскаго короля, дал себя вовлечь французской партии во все ея виды, совершенно противоположные русским. Его упрекали в неблагодарности и обвиняли мать в недостатке нежности к младшему брату за то, что она ему написала о том, чтобы он дал себя убить, выражение, которое считали жестоким и безчеловечным, между тем как мать, в глазах друзей, хвасталась, что употребила выражение твердое и звонкое. Результатом этого всего было то, что, не обращая внимания на намерения матери, или, вернее, чтобы ее уколоть и насолить всей голштино-шведской партии, граф Бестужев получил без ведома матери позволение для принца Августа Голштинскаго приехать в Петербург. Мать, узнав, что он в дороге, очень разсердилась, огорчилась и очень дурно его приняла, но он, подстрекаемый Бестужевым, держал свою линию. Убедили императрицу хорошо его принять, что она и сделала для виду; в впрочем, это не продолжалось и не могло продолжаться долго, потому что принц Август сам по себе не был человеком порядочным. Одна его внешность уже не располагала к нему: он был мал ростом и очень нескладен, недалек и крайне вспыльчив, к тому же руководим своими приближенными, которые сами ничего собой не представляли. Глупость – раз уже пошло на чистоту – ея брата очень сердила мать; словом, она была почти в отчаянии от его приезда. Граф Бестужев, овладев посредством приближенных умом этого принца, убил разом несколько зайцев. Он не мог не знать, что великий князь так же ненавидел Брюммера, как и он; принц Август тоже его не любил, потому что он был предан Шведскому принцу. Под предлогом родства и как голштинец, этот принц так подобрался к великому князю, разговаривая с ним постоянно о Голштинии и беседуя об его будущем совершеннолетии, что тот стал сам просить тетку и графа Бестужева, чтобы постарались ускорить его совершеннолетие. Для этого нужно было согласие императора Римскаго, которым тогда был Карл VII из Баварскаго дома; но тут он умер, и это дело тянулось до избрания Франца I. Так как принц Август был еще довольно плохо принят моею матерью и выражал ей мало почтения, то он тем самым уменьшил и то немногое уважение, которое великий князь еще сохранял к ней; с другой стороны, как принц Август, так и старые камердинеры, любимцы великаго князя, боясь, вероятно, моего будущаго влияния, часто говорили ему о том, как надо обходиться со своею женою; Румберг, старый шведский драгун, говорил ему, что его жена не смеет дыхнуть при нем, ни вмешиваться в его дела и что, если она только захочет открыть рот, он приказывает ей замолчать, что он хозяин в доме и что стыдно мужу позволять жене руководить собою, как дурачком.
Глава 16 Венчется раба Божия…
День, которого Екатерина так долго, с такой надеждой и таким трепетом ждала, начался для нее с раннего визита императрицы. Не было еще и шести часов утра, когда дверь распахнулась и стремительной походкой вошла Елизавета.
Девушка инстинктивно прикрыла руками грудь – императрица застала ее во время утренней ванны – и испуганно отвернулась.
– Не робей, милая, – усмехнулась императрица. – Покажись лучше. Ну-ка, ну-ка, дай-ка я на тебя посмотрю.
Пристыженная, Екатерина не могла поднять глаз. Елизавета же, уверенным жестом отведя ее руки, внимательно рассмотрела ее грудь, чуть выпуклый живот, стройные сильные ноги. Бесцеремонно повернула девушку спиной к себе и удовлетворенно хмыкнула.
– Ничего, недурна. Ты уж прости, милая, но на тебя теперь все надежды. Наследник престола нужен, ой, Катя, как нужен наследник…
Екатерина, все еще заливаясь краской, все-таки с облегчением вздохнула. Императрица тут же покинула комнату, и омовение продолжилось. Затем девушка поступила в распоряжение горничных. Пока ее облачали с торжественной неторопливостью, между императрицей и парикмахером разгорелся нешуточный спор.
– Бог мой, и вы еще считаете себя знатоком парижской моды! – восклицала Елизавета. – Делайте плоский пучок на макушке!
– Прошу прощения, ваше величество! – Парикмахер так разошелся, что забывал даже склоняться в поклоне. – Зачем же плоский пучок? Поверьте, она будет прекрасна с завитым хохолком!
– Прекрасна-то она будет, – хмыкала Елизавета, в который раз уже обходя сидящую перед зеркалом Екатерину и критически осматривая ее волосы. – А корона? Корона? Как она будет держаться на этом твоем завитке?
– Помилуйте, матушка, да она продержится целый день и всю ночь, и прическу не придется даже поправлять! – бледнел парикмахер. – Право же, я делал прически графине Румянцевой и княжне Шереметьевой перед церемонией обручения, и никто не жаловался, а уж гулянья были не один день, государыня…
– Ни Румянцева, ни Шереметьева – не великая княгиня… – бросила Елизавета как бы между делом, даже не оборачиваясь.
– А ее высочество принцесса Готторпская? А ваша дражайшая сестра, графиня Чоглокова? – не на шутку разволновался парикмахер. – А…
– Ладно, пробуй, – уже слегка раздраженно отмахнулась Елизавета. – А мы поглядим…
Волосы наконец уложили, пресловутый завиток украсили нитями тяжелого жемчуга… Екатерина с некоторым изумлением смотрела на свое отражение в зеркале. Платье из серебристой парчи с широкой юбкой и короткими рукавами подчеркивало безупречную линию и белизну плеч, талия, затянутая в тугой корсаж, так что и дышалось девушке с трудом, казалась удивительно тонкой, браслеты и кольца сверкали… Екатерина была бледна, но на щеках горел яркий румянец. Влажные глаза поблескивали, небольшая непокорная прядь черных, слегка вьющихся волос упала на лоб, но Елизавета, взглянув, только махнула рукой.
– Хороша! Так даже лучше…
Она велела принести и сама надела на склонившуюся голову Екатерины бриллиантовую корону.
– Тяжело? – усмехнулась. – Голову не наклоняй. Терпи…
В полдень прибыл великий князь, а в три часа дня кортеж из ста двадцати карет двинулся к церкви Казанской Божией Матери. Екатерина, не отрываясь, смотрела в окно…
Улицы заполнены народом, прохожие опускаются на колени при виде восьмерки белых коней и сказочно красивого экипажа с позолотой и скульптурными украшениями, а в нем покачивает головой сама императрица. Лошадей ведут под уздцы пажи. Впереди, в открытых колясках, движутся главный церемониймейстер и обер-маршал двора, а вокруг высшие сановники верхом. Незабываемое зрелище не только для жителей столицы, но и для посланников со всей Европы: «Ничего более величественного и великолепного нельзя себе представить» – именно так описывал свои впечатления поверенный в делах Франции.
Мысли же Екатерины были сейчас так далеки от всего этого сияния и блеска.
«Неужели сейчас все свершится? Бог мой, как я об этом мечтала – а думаю лишь о том, как достойно выдержать венчание и как тяжелы корона и одеяние… Но народ – вот он, мой народ… Скоро, совсем скоро будет моим…»
Под звон колоколов, под радостные крики толпы и почтительные поклоны жених и невеста вошли в церковь. Екатерина старалась держаться безукоризненно и на это уходили все силы: она чувствовала, что сейчас у нее осталась только одна забота – сохранить равновесие и не упасть. В голове стоял туман, в глазах рябило от блеска свечей и позолоты убранства и мундиров, выстроившихся рядами вокруг.
Что было потом, Екатерина едва помнила: в памяти всплывали только ободряющая улыбка Елизаветы, сияющие, ласковые глаза Прасковьи Румянцевой, потная рука мужа и духота, духота, духота, и перед глазами карусель лепнины и позолоты…
После церковной церемонии, длившейся несколько часов, был дан ужин, который плавно превратился в бал. Екатерина изнемогала от усталости, но, к счастью, сразу после мазурки императрица Елизавета в окружении высших сановников двора, фрейлин и придворных дам, а также Иоганны и нескольких приближенных проводила Екатерину и Петра в их покои. Там молодые супруги разошлись. Петр удалился в соседнюю комнату для переодевания, а императрица сняла с невесты корону. Придворные дамы помогли Екатерине надеть розовую сорочку, специально заказанную в Париже.
Горели все канделябры, и Екатерина вдруг почувствовала себя беспомощной мишенью под дерзкими, любопытными, насмешливыми – а порой сочувственными – взглядами придворных. Елизавета перекрестила ее, поцеловала в лоб, сделала знак – и все словно в одно мгновение удалились. Новобрачная осталась одна.
Ей вдруг стало страшно. Она забралась в постель и уселась, укутавшись в одеяло, прислонившись спиной к высоким подушкам, подтянув колени к подбородку. Глаз не спускала с двери. Смешной и нелепый Петр представился ей вдруг существом грозным, неумолимым… Что ждет ее?..
Однако время шло, а дверь не открывалась, и вершитель ее судьбы не появлялся. Понемногу Екатерина успокоилась, а потом даже заскучала. К тому же невыносимо захотелось спать, но она опасалась, что появившийся наконец муж найдет ее спящую и она будет опозорена.
«Может быть, надо встать? Или все-таки оставаться в постели? Не знаю…»
Около полуночи пришла новая горничная, мадам Кроузе, и объявила, что великий князь заказал себе ужин и ожидает его вместе с приближенными. Екатерина кивнула, не в силах ответить. Значит, пока она считает минуты в ожидании, новоиспеченный супруг пирует с приближенными и слугами! Боль и стыд нахлынули на нее.
Она вытянулась на постели, повернула голову к окну и стала смотреть на ночное небо, на далекие августовские звезды… По всему выходило, что ждать придется долго.
Наверное, она все-таки задремала, потому что совсем некстати перед глазами возникло знакомое лицо с черными глазами и упавшей на лоб прядью волос… Глаза эти смотрели на нее внимательно и очень нежно, она попыталась подойти ближе, но его силуэт вдруг стал размытым… Она протянула к нему руки, но он медленно исчезал и остановить его было невозможно…
– Где моя любезная женушка?
Екатерина подскочила на постели. Сердце бешено колотилось.
Петр стоял над ней, совершенно пьяный, качаясь, без парика, и смотрел на нее сверху вниз каким-то странным, словно очумелым взглядом. В глубине его глаз билось что-то – желание? страх? неуверенность? Но в следующее мгновение Екатерина решила, что это всего лишь обычная наглость, потому что снова раздался его голос:
– Сударыня, подвиньтесь! Мои друзья хотят посмотреть на нас в постели!
И пока пораженная Екатерина, застыв, молча смотрела на него, Петр рухнул в постель рядом с ней и тут же уснул крепким сном…
В следующие ночи никаких неожиданностей для Екатерины тоже не случилось.
Неизвестно, проведала императрица о столь грандиозном афронте своего племянника или нет. Однако балы, маскарады, фейерверки и спектакли сменяли друг друга в разукрашенной столице так, словно состоялась не свадьба наследника престола, а само его рождение.
Вскоре Елизавете стало мало одного города и празднества накрыли молодой Санкт-Петербург. Пусть в нем еще не так много каменных домов, пусть дворец императрицы весь в лесах, но Елизавета гордится своей столицей. Здесь празднование началось с необыкновенной речной прогулки: ботик, выстроенный великим царем Петром, бережно водрузили на баркас. К мачте прикрепили портрет императора, творца новой России, а его дочь в морской офицерской форме встала у самой мачты. Следом за баркасом выстроились речные суда, каких уже немало было в Северной столице.
Этой речной прогулкой под покровительством Петра Великого, так показалось Екатерине, Елизавета Петровна подтверждала, что именно она наследница великих достоинств своего отца. Однако вскоре новоиспеченной великой княгине начали приедаться бесконечные празднества. Особенно ее разочаровали балы, где совершенно не было видно молодежи. Ей приходилось танцевать одни и те же кадрили с одними и теми же кавалерами, которым перевалило за шестьдесят, «большинство из них подагрики, хромые или вовсе развалины». Хотелось ей сблизиться с великим князем, но, как она запишет в дневнике, «мой дорогой супруг совсем мною не интересовался и вечно терся среди слуг, заставлял их выполнять военные упражнения, играл в солдатики, да переодевался по двадцать раз на дню в мундиры разных полков. А я скучала, зевала и не с кем было словом обменяться, одни представления». Новая камер-дама, уже упомянутая госпожа Кроузе, устроила на молоденьких горничных, чья болтовня развлекала Екатерину, подлинную травлю. Им запрещалось отныне вести себя с великой княгиней «сан фасон», то есть попросту. «Ужасно, – записала Екатерина, – они смотрят на меня затравленными лисами и молча… Как страшно это молчание!..»
Из «Собственноручных записок императрицы Екатерины II»
Тут кончились частыя посещения великаго князя. Он велел одному слуге прямо сказать мне, что живет слишком далеко от меня, чтобы часто приходить ко мне; я отлично почувствовала, как он мало занят мною и как мало я любима; мое самолюбие и тщеславие страдали от этого втайне, но я была слишком горда, чтобы жаловаться; я считала бы себя униженной, если бы мне выразили участие, которое я могла бы принять за жалость…
Из Петергофа, к концу июля, мы вернулись в город, где все приготовлялось к празднованию нашей свадьбы. Наконец 21 августа было назначено императрицей для этой церемонии. По мере того, как этот день приближался, моя грусть становилась все более и более глубокой, сердце не предвещало мне большого счастья, одно честолюбие меня поддерживало; в глубине души у меня было что-то, что не позволяло мне сомневаться ни минуты в том, что рано или поздно мне самой по себе удастся стать самодержавной Русской императрицей.
Глава 17 Жена наследника
Отгремели свадебные торжества, отшумели бесконечные балы.
Жизнь Екатерины начала входить в новую колею. Великая княгиня, жена наследника престола… Свой двор, свои друзья… Отчего же так печально и беспросветно на душе? Сдерживаясь и упрямо идя к своей цели, не прошла ли она мимо самой жизни, самого в ней важного, пленившись невероятным числом подданных, золотом и драгоценностями, громким званием жены наследника престола, не убила ли она свою бессмертную душу, не променяла ли на тридцать сребреников?
Как не похожа эта ночь на ту, уже далекую, но еще не забытую зимнюю ночь перед отъездом! Из приоткрытого окна тянет осенней свежестью, шелест листвы напоминает о золоте осенних парков. Но отчего нет даже следа радости? Отчего столь черны мысли?
Екатерина усмехнулась. Помнится, она тогда спрашивала больше у Провидения, чем у себя самой, вернется ли в Цербст. О, сколько бы она сейчас отдала, чтобы всего на миг вернуться в дом своего детства, пусть и не самого счастливого!
«Но зачем? – тут же спросила Екатерина сама у себя. – Твоя жизнь там была ничем не лучше твоей жизни здесь. А в чем-то и похуже. Победнее, погрязнее, побезнадежнее…»
Но что, скажите, может быть безнадежнее, чем жизнь нелюбимой жены? Жены, о которой не думают, жены, от которой бегают… Встреч с которой не ищут, предпочитая игру в солдатики…
Жизнь жены ненавидимой… Жены презираемой, оболганной, выставленной на всеобщее посмешище. Хотя, к счастью, до этого дело пока не дошло. Петр с ней холодно-любезен, двор ее уважает, и даже императрица пока полна любезности.
Опасения, что Елизавета станет ее врагом, к счастью, не оправдались. Императрица принимает в ней живейшее участие, помогает, содержит. Ясно, что действует она так в первую очередь, безусловно, из политических соображений. Но даже этого порой достаточно. И это ничуть не меньше, чем те крохи любви, что перепадали маленькой Фике от отца или матери.
В свое время скверное отношение к ней Елизаветы казалось Екатерине худшим из исходов. Но теперь стоит подумать о том, не являлась ли сия оценка ошибочной. Быть может, не о дипломатических планах матери, не о политических расчетах короля Фридриха следовало думать, а о том, что станет с ней, принцессой Софией, если планы эти будут успешно претворены в жизнь?
«Может быть, если бы я тогда убедила матушку отказаться от поездки в Россию, я бы стала счастливее? Быть может, дядюшка Георг стал бы моим супругом, составив, как обещал, счастье всей моей жизни и отдав этому всего себя без остатка?..»
Угодливое воображение тут же нарисовало перед мысленным взором Екатерины картинку мирную и почти святочную, какой обычно бывают иллюстрации к последним словам сказки: «Они поженились и жили долго и счастливо…»
Замок в Цербсте. Большой каминный зал. Камин не топлен – ибо отказ Софии лишил княжеский дом всех привилегий и доходов. Холодна и спальня дядюшки Георга – теперь их общая спальня. Набросив поверх домашнего платья вязанную ею самой шаль, она, Фике, вяжет крошечные башмачки в ожидании рождения первенца. Идиллическая картина, напрочь лишенная, впрочем, радостных красок. Она жива, о да, но о ней забыли все, кроме супруга, мать отправилась в Париж или Берлин, жалуясь новому аманту на бессердечное решение дочери, которое закрыло для Иоганны всяческие перспективы.
Мысли о матери сейчас вновь вызвали слезы на глазах Екатерины, как тогда, когда Иоганна покинула двор по приказу всесильной императрицы. У герцогини хватило душевных сил дождаться для этого отъезда великокняжеской четы вместе с императрицей. Но, вернувшись и увидев пустые комнаты матери, девушка залилась слезами. Как бы она ни осуждала эту женщину, теперь она поняла, насколько будет ее не хватать. При всех своих многочисленных недостатках Иоганна была дочери другом. Без нее станет труднее дышать в затхлой придворной атмосфере. Никогда Екатерина не чувствовала себя такой одинокой, как в тот первый миг в опустевших покоях. Не у Петра же просить дружбы, в самом-то деле…
Екатерина вновь усмехнулась – и вновь совсем невесело.
Если раньше, до обручения, Петр, пусть и не любя ее, не видя в ней жены, все-таки искал встреч, то, получив все супружеские права, стал прятаться от нее, избегать любой возможности остаться наедине. Он боялся ее? Находил некрасивой? Екатерина, как ни крути, не понимала, что происходит. Но постепенно она оставила всяческие попытки понять великого князя.
«Я бы полюбила супруга, как клялась себе. Полюбила бы, хотя он и не хотел быть любимым да и не мог стать им…» Екатерина передернула плечами, на миг ощутив леденящий ветер, которому неоткуда было взяться в теплых осенних сумерках. «Полюбила бы, но до сего дня помню страшную, жестокую мысль, что пришла ко мне на третий день после свадьбы: “Если полюбишь этого человека, будешь несчастнейшим существом на земле, по твоему характеру ты захочешь вернуться вспять; этот мужчина на тебя почти не смотрит, говорит только о солдатской службе, но при этом заглядывается на любую женщину, кроме тебя; ты слишком горда, чтобы поднимать из-за этого шум; так что по части ласки к этому господину воздержитесь, мадам; но думайте лучше о себе…”»
Действительно, мысль была невероятно жестока. Но самого страшного Екатерина еще не знала: боль от нее сохранится в душе навсегда, да и само это размышление будет год за годом тревожить ее, не покидая.
Екатерина попыталась сейчас непредвзято взглянуть на то, что происходит между ней и мужем. Увы, сие можно было бы назвать только недоразумением, сплошным непониманием, которое между супругами быстро разрастается. Ночью Петр ее огорчает, днем приводит в отчаяние. Екатерину бесит, что в попытках самоутвердиться великий князь даже не пытается скрыть, что его привлекают другие женщины. Другие, любые, но только не она.
«Однако не могу же я показать негодному мальчишке, что это меня огорчает? Должно быть, дело и во мне самой, в моей неспособности дать ему те удовольствия, которых он жаждет и которые находит на стороне. Так это или нет, однако оскорблять себя хоть кому-то я не позволю. Пусть он находит меня отвратительной, пусть хвалится своими похождениями только для того, чтобы вызвать мой гнев! Пусть! Я же буду делать вид, что презираю великокняжескую неверность!»
Увы, со временем Екатерине станет ясно, что тут нашла коса на камень. Она презирала его похождения – он с еще большим цинизмом хвалился своими подвигами. Уязвленная такой неприкрытой грубостью, она все более отдалялась от мужа, который, по ее мнению, предпочитает любую женщину собственной жене.
От мысли о нелюбви мужа мысли великой княгини перешли к любви подданных.
То давнее решение любить страну уже хотя бы потому, что она станет ее страной, на долгие годы оказалось самым легко осуществимым. Да, она полюбила этот народ, потому что ей и в самом деле встретилось множество отличных людей, мудрых и достойных всяческого уважения. Да, она полюбила императрицу Елизавету, и не только за то, что та дала маленькой принцессе шанс перехитрить судьбу, переродиться, стать другим человеком, но и потому, что императрица приняла в судьбе немецкой гостьи участие даже более живое, чем участие, проявляемое родной матерью.
Стала ли она своей в чужой для себя стране? Вероятно, да. Однако ей еще только предстоит узнать, что трудное дело принятия России как своей страны лишь только начато…
Стала ли она желанной для совершенно чужого человека? Увы, нет, но, оказалось, что этого и не нужно вовсе.
Стала ли она другой, оставаясь при этом самой собой? Трудно сейчас утверждать это. Хотя уже вполне очевидно, что своим взглядам она совершенно не изменила. Вот только Фике, порывистая и мечтательная, осталась в прошлом – навсегда.
Стала ли она ближе к императрице? И да, и нет. Она стала одной из самого близкого круга, но перестала быть опекаемой. Теперь Елизавета требовала с нее, как со своей близкой родственницы, если не дочери, то определенно племянницы.
Да, тут ощущения ничуть Екатерину не подводили. Чета молодоженов с течением времени стала удивительно раздражать императрицу. Елизавета невероятно торопилась поженить их, чтобы обеспечить будущее династии, но теперь, когда они утвердились в правах наследников трона, стала относиться к ним с недоверием и почти враждебно. Ей, до мозга костей пропитанной властолюбием, становилось все труднее постоянно видеть перед собой собственных наследников: как все властные люди, она не могла допустить мысли, что народ может почитать кого-то вместо нее.
В Петре и Екатерине Елизавета Петровна надеялась увидеть собственных детей, однако теперь ей стало казаться, что они ее соперники и что их происков надо опасаться. Вдруг они со своими друзьями начнут плести заговор против нее, попытаются свергнуть, захватить власть? Всякое проявление почтения к великому князю и великой княгине императрица теперь рассматривала лишь как проявление неуважения к ней самой. Елизавете было достаточно всего нескольких фраз, брошенных вскользь в присутствии канцлера Бестужева, и машина завертелась. Все придворные, замеченные в благосклонности к Екатерине, под разными предлогами были лишены своих мест и отправлены в почетную ссылку. Императрица желает, чтобы только надежные, преданные ей люди окружали великокняжескую чету? Будет исполнено!
Екатерине, впрочем, мудрости хватило для того, чтобы увидеть во всем этом чистой воды капризы, желание причинить боль просто так, без малейшей причины. Невзирая на возросшую строгость по отношению к ней, она продолжала вести себя как истинная великая княгиня, усердно изучала русский язык, исполняла обряды православной церкви. В этом она оказалась верна своим обетам и верность эту сохраняла до последних лет жизни.
С первых дней в России Екатерина поняла, что единственное спасение для нее – постоянный труд над тем, чтобы превратиться в русскую, в политическом и религиозном смысле приблизиться к русскому народу. Она выбрала для себя линию поведения, и ничто не могло заставить ее отступить. Великий князь подсмеивается над ее религиозностью? Что ж, пусть! Почему, спрашивает Петр, не занимает она стороннюю позицию, как он сам? Почему пытается забыть о своих европейских корнях? Не потому ли, что, как утверждают злые языки, отец ее не принц Христиан, а бастард Иван Бецкой, оставшийся после отъезда Иоганны при дворе великой княгини и приобретающий в ее глазах все больший и больший вес?
Что на это могла ответить Екатерина? Что мудрые беседы с человеком, которого она бы с удовольствием называла отцом, в ее глазах стоят куда больше, чем забавы великого князя, отдающие самым дурным вкусом.
Что она бы с удовольствием посвятила себя воспитанию детей, если бы он, ее муж, озаботился рождением наследников, а не падал в постель без сил после «любовных дуэлей» на стороне?
Увы, гордость, пусть и неверно понимаемая Екатериной, мешала ей назвать вещи своими именами. Себе-то она не стеснялась поклясться в том, что найдет своим детям достойного родителя. Поклялась еще тогда, в отвратительно памятную первую брачную ночь. Однако опускаться до поведения, схожего с поведением своего супруга, все же не собиралась. Она найдет истинную любовь, любовь, которой не стыдно будет отдать всю себя без остатка, ради которой не грех будет стать и кем-то совсем иным, вновь переродившись – из венценосной особы в искренне любящую женщину.
Да, прошел почти год, изменилось все вокруг нее, изменилась даже она сама. Но Екатерина все так же не понимала толком, что значит любить, еще не представляла наверняка, каким может быть это чувство. Встреча с Алексеем Темкиным приоткрыла лишь самый краешек занавеса над великим чувством.
Однако она уже почувствовала, что подлинная любовь не возникает только от решения кого-то полюбить. Поняла, что никакие возможные недостатки не могут отвратить твое сердце от избранника, никакие уговоры и клятвы не способны сломить упорство сердца, которое нашло того самого, единственного.
Екатерина еще не знала, лишь догадывалась, что с ней может сделать подлинное чувство, какими красками озарить мир вокруг, как превратить человека, еще вчера совершенно постороннего, в того самого, без которого весь мир пустыня…
К сожалению, Екатерина пока не знала, что иногда прихода этого самого чувства ждут годами. Ждут, принимая за него куда более мелкие порывы естества. Что иногда великую любовь могут не разглядеть, высмеять, уничтожить и лишь по прошествии многих лет понять, что то самое, великое чувство было походя растоптано в угоду сиюминутных прихотей.
Однако как же быть? Мысли Екатерины вновь вернулись к давним зарокам и к зарокам новым. Что бы ни вытворял Петр, ей следует помнить, что ее главное предназначение – рождение наследников, что лишь после появления первенца поймет императрица, что не врага она обрела, выписав принцессу из крошечного Цербста, а смиренную и верную подданную.
Да и для нее рождение ребенка станет по-настоящему великим событием. В нем найдет она продолжение себя, быть может, в чем-то более совершенное, чем она сама. Екатерина чувствует, что сможет отдать детям все, что знает, чему уже научилась и чему будет учиться всю жизнь, в них обретет смысл своей жизни – в их воспитании и образовании.
Теперь уже, правда, великая княгиня даже не пыталась мечтать о том, что сделает своих детей просвещенными монархами, любящими, вдобавок, свою страну и свой народ, желающими одного лишь добра каждому своему подданному и отдающими себя без остатка служению народу! Ибо жизнь при дворе, бесконечные интриги и сплетни яснее ясного показали девушке, что такой монарх должен родиться не в дворцовых стенах и не в них провести свое детство. Чтобы и в самом деле знать свою страну, любить народ, служить ему, надо родиться как можно дальше от дворцов и как можно ближе к этому самому народу. Что ни в коем случае не следует считать свой народ детьми, способными лишь безмолвно подчиняться, но не способными ни к каким серьезным деяниям.
Из «Собственноручных записок императрицы Екатерины II»
Великий князь по природе умел скрывать свои тайны, как пушка свой выстрел, и, когда у него бывало что-нибудь на уме или на сердце, он прежде всего спешил разсказать это тем, с кем привык говорить, не разбирая, кому это говорит, а потому Его Императорское Высочество сам разсказал мне с места все эти разговоры при первом случае, когда меня увидел; он всегда простодушно воображал, что все согласны с его мнением и что нет ничего более естественнаго. Я отнюдь не доверила этого кому бы то ни было, но не переставала серьезно задумываться над ожидавшей меня судьбой. Я решила очень бережно относиться к доверию великаго князя, чтобы он мог, по крайней мере, считать меня надежным для него человеком, которому он мог все говорить, безо всяких для себя последствий. Это мне долго удавалось. Впрочем, я обходилась со всеми как могла лучше и прилагала старание приобретать дружбу или, по крайней мере, уменьшать недружелюбие тех, которых могла только заподозрить в недоброжелательном ко мне отношении; я не выказывала склонности ни к одной из сторон, ни во что не вмешивалась, имела всегда спокойный вид, была очень предупредительна, внимательна и вежлива со всеми, и так как я от природы была очень весела, то замечала с удовольствием, что с каждым днем я все больше приобретала расположение общества, которое считало меня ребенком интересным и не лишенным ума. Я выказывала большое почтение матери, безграничную покорность императрице, отменное уважение великому князю и изыскивала со всем старанием средства приобрести расположение общества.
Что касается великаго князя, то он был большей частью в своей комнате, где один украинец, его камердинер, по имени Карнович, такой же дурак, как и пьяница, забавлял его, как умел, снабжая его, сколько мог, игрушками, вином и другими крепкими напитками, без ведома Чоглокова, котораго, впрочем, все обманывали и надували. Но в этих ночных и тайных попойках великаго князя со своими камердинерами, среди которых было несколько калмыков, случалось часто, что великаго князя плохо слушались и плохо ему служили, ибо, будучи пьяны, они не знали, что делали, и забывали, что они были со своим господином, что этот господин – великий князь; тогда Его Императорское Высочество прибегал к палочным ударам или обнажал шпагу, но, несмотря на это, его компания плохо ему повиновалась, и не раз он прибегал ко мне, жалуясь на своих людей и прося сделать им внушение; тогда я шла к нему и выговаривала им всю правду, напоминая им об их обязанностях, и тотчас же они подчинялись, что заставляло великаго князя неоднократно говорить мне и повторять также Брессану, что он не знает, как я справляюсь с его людьми; что он их сечет и не может их заставить себе повиноваться, а я одним словом добиваюсь от них всего, чего хочу. Однажды, когда я вошла с этой целью в покои Его Императорскаго Высочества, я была поражена при виде здоровой крысы, которую он велел повесить, и всей обстановкой казни среди кабинета, который он велел себе устроить при помощи перегородки. Я спросила, что это значит; он мне сказал тогда, что эта крыса совершила уголовное преступление и заслуживает строжайшей казни по военным законам, что она перелезла через вал картонной крепости, которая была у него на столе в этом кабинете, и съела двух часовых на карауле, сделанных из крахмала, на одном из бастионов, и что он велел судить преступника по законам военнаго времени; что его лягавая собака поймала крысу и что тотчас же она была повешена, как я ее вижу, и что она останется там, выставленная напоказ публике в течение трех дней, для назидания.
Глава 18 Обретения и потери
«Никому не пожелаю такого: называться женою мужа-ребенка…»
Увы, это была чистая правда – в поведении Петра было куда больше от злого подростка, который ищет возможности устроить какую-нибудь каверзу пообиднее. Но все же он был к тому же и великим князем, а потому забавы его становились все многолюднее и утомительнее: развод караулов по ночам, шумные игры длиной в целые сутки, с которых придворные не могли сбежать ни на миг. Екатерине все чаще приходила в голову мысль, что он намеренно вовлекает ее в самые грязные из своих затей, чтобы потом прилюдно если не издеваться, то уж, как минимум, обвинять в том, что она не смогла удержаться в рамках, приличествующих великой княгине.
– Дражайшая моя супруга! Приглашаю вас присоединиться к моей новой затее – кукольному театру.
Пиеса, представленная сегодня вечером, будет столь же занимательна, сколь и поучительна.
Понятно, что от этого приглашения отказаться нельзя. Но как же согласиться участвовать в новой затее супруга, если заранее знаешь, что ничего, кроме гадости и мерзости, означенный супруг придумать не в состоянии?
Екатерина присела в книксене:
– Повинуюсь, великий князь. Где вы желаете устроить театр?
– А он уже устроен. Пров и Прохор сколачивают скамейки.
Провом и Прохором Петр называл капралов лейб-гвардии Измайловского полка, приставленных для охраны молодой четы. Оба серьезные люди, убеленные сединами, обремененные семьями, они частенько сутками проводили при особе великого князя, если тому приходила в голову «забавная идея» устроить бои по образцу потешных сражений Петра Первого или отправиться вместе со всем двором кататься на лодках да и «затеряться в плавнях», откуда выбираться к берегу, шагая по колено в воде, «невыразимо страдая от мучений, отсутствия воды и самой надежды на спасение». Сегодня, выходит, капралы по капризу Петра превратились в плотников.
– Когда прикажете явиться в ваш театр?
– Милочка, не то чтобы театр. Так, балаганчик…
Екатерина вздохнула. Невыносимый человек, он не делает попыток приблизиться, но и не на шаг не отпускает, играя, словно с живой куклой.
– Когда прикажете явиться в ваш балаганчик?
– На закате, милочка, на закате. Представление позабавит вас, готов держать пари!
– Повинуюсь, ваше высочество, – только и могла сказать Екатерина.
К счастью, она не знала еще, что, командуя сооружением «балаганчика», Петр услышал за стеной голоса: прямо за стеной его «театра» находилась личная столовая его тетушки, Елизаветы Петровны.
Недолго думая, Петр повелел высверлить в забитой двери несколько дырок. Заглянув в одну из них, он увидел императрицу за столом в компании давнего фаворита, графа Алексея Разумовского, в распахнутом парчовом халате. Вокруг находилась дюжина приближенных – императрица спокойна, ушел долгий день, и сейчас она просто женщина в компании давних приятелей и приятельниц.
Очень довольный, что увидел тетушку в столь пикантный миг, Петр решил, что первым представлением его «театра» будет созерцание тетушки Елизаветы за очередным ужином в компании аманта. Быть может, у них зайдет и дальше, чем просто болтовня за бокалами вина. Да, сие должно стать отличной потехой!
Вот потому на следующий день Пров и Прохор, сколотив скамьи, расставили их у просверленных дырок.
На закате великая княгиня вошла в «театр» супруга. Никакого «балаганчика» для представления театра марионеток она не заметила. Да и скамьи стояли не так, как обычно в театре, а в рядок у дальней стены.
– Прошу, душа моя!
Екатерина удивленно взглянула на Петра.
– Да-да, вот сюда, будет отлично видно. А уж представление, доложу я вам, будет преотличным.
Екатерина покорно опустилась на скамьи лицом к мужу.
– Нет-нет, не так! Ну как же вы невежественны, право слово…
К счастью, от более резких обвинений Петра удержали появившиеся придворные «малого двора». Они стали рассаживаться на скамьях, но лицом к стенам.
– Что здесь происходит, супруг мой? – В голосе Екатерины звучало лишь удивление.
– Да садитесь же, глупая курица, – завизжал Петр. – Представление вот-вот начнется, а быть может, уже идет!..
И тут девушка поняла, о каком представлении говорит ее дражайший супруг. «Боже мой! Ты же только что шла сюда, опасаясь очередной скверной шутки! Твой дурачок не способен ни на что мало-мальски доброе! И надежду следует оставить!»
– Вы с ума сошли, ваше высочество! – Екатерина не могла сдержаться. – Немедленно уходите отсюда! И вы подите прочь!
Последние слова были обращены к особо ретивым дружкам великого князя, уже привычно прильнувшим к дырам в стене. Те, вскочив, весьма поспешно покинули «театр», да и остальные стали, оглядываясь, покидать ссорящихся супругов.
– Не кричите так! – прошипел Петр. – Вся наша затея пойдет прахом, и все по милости вашего глупого высочества!
Екатерине, увы, сдержаться не удавалось. Она прекрасно понимала, что их крики могут расслышать и там, в покоях императрицы.
– Мало того что вы позволили себе столь грязную дерзость, вы еще и два десятка придворных замарали в своих мерзких проделках!
– Да что я сделал-то? – Великий князь искренне не понимал, что происходит.
«Он не понимает… Воистину, когда Господь хочет наказать нас, он лишает нас разума!»
– Немедленно отправьте всех прочь! И сами бегите отсюда! Вы представляете, что случится, если о вашей гадкой проделке узнает императрица? Вам это может дорого обойтись! Подите прочь и велите запереть эту комнату!
Должно быть, Елизавета и в самом деле услышала голоса. Не успела Екатерина вернуться к себе, как двери ее гостиной распахнулись и ворвалась клокочущая гневом Елизавета.
– Великого князя сюда сей же момент! – бросила императрица через плечо. – Да никаких отказов не принимайте! Приволоките его, даже если он будет прикидываться спящим!
Должно быть, Петр и в самом деле попытался прикинуться спящим и ничего не ведающим – через несколько минут его втащили в покои великой княгини в халате и с ночным колпаком в руке. Однако глаза его бегали, выдавая нечистую совесть.
– Вот и вы, племянничек! – Елизавету буквально трясло от возмущения. – Не зря же вся дворня вас только дурачком голштинским кличет! Додумались! Театры устроили! Забыли-с, сударь, кому вы всем обязаны, о благодарности забыли!
Петр попытался гордо выпрямиться.
– Я великий князь!
– Срамота, прости господи, а не великий князь! Да какой из вас князь? И где бы вы, князюшка, были, если бы я не вытребовала вас из вашей занюханной Голштинии?
Петр открыл было рот.
– Молчите! Для вас и Голштиния слишком хороша! Знала бы, вовек о вас и не вспоминала. Так бы и померли от розог вашего Брюммера!
Ох, это была более чем чистая правда. Нет места более отвратительного, чем дворцовые коридоры. Екатерине уже было преотлично известно, что наставник будущего великого князя, а тогда еще просто Карла Петра Ульриха, бил его за малейшую провинность. Поучительная история его детства и появления в России, однако, ничему Петра не научила.
Болезненный и недалекий мальчик жил в Киле, воспитанием его занимались гольштейнские сановники и офицеры. Он был выдрессирован по-военному, с семилетнего возраста упражнялся с ружьем и шпагой, сделанными по его росту, ходил в караул, проникался казарменным духом. Девяти лет стал сержантом.
Однажды его поставили с ружьем на часах перед дверью зала, где отец пировал с друзьями.
Мимо него проносили целые вереницы аппетитных блюд, ему стоило большого труда не заплакать от голода. Когда стали подавать второе, отец снял его с поста, публично присвоил ему звание лейтенанта и приказал сесть с гостями за стол. От неожиданного счастья ребенок потерял аппетит и не мог ничего съесть.
Говорили, что этот день Петр называл самым счастливым в своей жизни. В 1739 году отец умер, и главным наставником мальчика стал старший гофмейстер герцогского двора Брюммер. Не обращая внимания на слабое здоровье воспитанника, он наказывал его, лишая пищи и заставляя стоять на коленях на сушеном горохе. Колени мальчика распухали и кровоточили… А однажды приближенные еле успели вмешаться, чтобы Брюммер не забил кулаками юного принца.
Порой издевательства Брюммера доводили будущего великого князя до рвоты желчью. От такого обхождения он стал пугливым, скрытным, изворотливым и хитрым. Императрица, призвавшая племянника в Москву, была весьма огорчена, увидев в сопровождении Брюммера четырнадцатилетнего подростка, физически малопривлекательного и просто уродливого в нравственном отношении.
На миг Екатерине даже стало жаль своего супруга. Сейчас он был жалок, трясся от страха, втянув голову в плечи и ожидая очередного подзатыльника.
– Отец мой, великий царь Петр, такого бы не стерпел и минуты! Не следует тебе, убогому, забывать, что наказал он своего неблагодарного сынка, лишив наследства!
Петр еще сильнее вжал голову в плечи. Он это прекрасно помнил. Да и как такое забыть?
Ведь царь Петр царевича Алексея не просто лишил наследства – он подверг сына пыткам, от которых тот и умер…
Но Елизавета останавливаться не собиралась. Каждое следующее слово казнило не хуже самого опытного палача. Екатерина ощущала это так, словно не Петру, а ей самой были адресованы слова императрицы.
– Я при императрице Анне никогда не позволяла себе столь неуважительного отношения к коронованной особе! Если б не мое мягкосердечие, ты бы, дурачок, уже держал путь к самой дальней крепости, откуда только смерть лютая тебя бы выпустить смогла!
– Но, тетушка, я же ничего плохого не сделал!.. Я только хотел развеселить свою супругу, ибо она в последнее время пребывает в меланхолии…
– В меланхолии, говоришь? – Глаза Елизаветы презрительно сузились. – И ты, как добрый любящий супруг, захотел ее развеселить?
Петр закивал. Сердце Екатерины сжалось. Ох, похоже, буря-то еще и не начинала разыгрываться…
– Матушка императрица! – Великая княгиня упала на колени перед Елизаветой. – Позволь мне слово молвить…
– Молчи, глупое дитя! Поблагодари Господа нашего за то, что даровал тебе светлый разум!
И, обернувшись к племяннику, уже куда тише бросила:
– У жены бы поучился, урод несчастный, чадо неразумное…
«Неразумное… Да, матушка, совсем неразумное. И у жены, тут сомнений нет, учиться он не будет!»
Петр почувствовал, что гроза миновала. Он выпрямился, сколько мог, поджал губы, но молчал. Елизавета, уже от двери, сказала великой княгине:
– Мои слова вас, дитя, не касаются. Я знаю, что вы ни в чем не замешаны и о проделке своего супруга не знали.
Но едва за императрицей закрылась дверь, Петр процедил сквозь зубы:
– Не могли сказать, что это вы пожелали новых развлечений?! Злая вы, гадкая! Я… я ненавижу вас…
Великий князь покинул спальню супруги, изо всех сил хлопнув дверью.
«А ты неблагодарный мальчишка, – подумала Екатерина. – И защищать тебя тоже дело неблагодарное!»
Хотя в одном, тут девушка вынуждена была признаться, Петр прав: ей хочется развлечений. Хочется радости, хочется хотя бы простого человеческого тепла, милой дружбы, ни к чему особому не обязывающей.
Она о флирте и мечтать не смеет – так крепки ее зароки, пусть и перечеркнутые глупостью ее супруга.
Однако возраст берет свое: ей едва исполнилось шестнадцать. Среди приближенных «малого двора» более чем достаточно молодых мужчин, которые сочли бы великой честью просто побеседовать с Екатериной. Однако она со всеми одинаково ровна, выделяя, быть может, лишь старшего из братьев Чернышевых, Андрея. Еще когда она была невестой, с этим юношей у нее завязалось нечто вроде любовного фехтования, забавлявшего их обоих. Петр любит двусмысленности и поощрял свою невесту к этим игривым забавам. Не раз бывало, что, упоминая при Андрее о Екатерине, он в шутку называл ее «ваша суженая». Тот с улыбкой поддерживал игру – быть любимцем у великого князя весьма почетно и выгодно. Что же до чести Фике, то он всегда уважал девушку и ни разу не обмолвился при Петре, насколько близко сошелся с будущей великой княгиней.
После замужества Екатерина стала называть Андрея русским словом «сынок». Он же величал ее «матушкой», радуясь тому, что дружен с великой княгиней. Долгие беседы с этим высоким видным юношей удивительно радовали девушку, грели ее душу. Вслух же она благодарила Андрея за то, что долгие часы приятной болтовни с ним превращают русский язык из сложного урока в отрадный.
Эта дружба, слегка окрашенная кокетством, конечно, не осталась не замеченной придворными. Косые взгляды, завистливые шепотки… Екатерина уже почти привыкла к ним. Однако слова верного своего слуги Тимофея Евреинова восприняла всерьез.
Опасаясь скандала, тот решился:
– Матушка, молю вас, будьте осмотрительнее. Господин сей, «сынок» ваш, умен и отменно хорош собой. Со дня на день, думаю, императрице доложат о том, что вы пренебрегли супругом ради молодого и красивого офицера.
– Но ведь он же просто мой друг! О каком пренебрежении может идти речь, Тимоша?
– То, что вы называете доброй и чистой дружбой с человеком, вам преданным и услужливым, доброжелательные к вам назовут любовью, а недруги ваши – только изменою!
Пораженная таким суждением, Екатерина со страхом и радостью поняла, что помимо воли в ней родилось нежное чувство в этому славному юноше. Должно быть, Тимофей успел поговорить и с самим Андреем. Иначе как объяснить, что молодой и здоровый мужчина назвался больным и испросил отпуск, дабы отправиться на излечение?
– Да будет так, сынок! Отправляйтесь! – с благодарностью перекрестила его Екатерина, преотлично понимая мотивы, которые движут ее поклонником.
…Проходил день за днем. Сколько бы времени ни занимали занятия русским языком, как бы полно ни погружалась девушка в чтение, главным бичом и для нее и для всего малого двора оставалось утомительное безделье. Пытаясь занять себя хоть чем-то, Петр вновь и вновь обращался к игре в «солдатики». Однако «солдатики» у него теперь были не оловянные, а настоящие. Одну из дальних лужаек он превратил в плац, где часами гонял своих солдат. Клод Рюльер, историк, настроенный весьма критически, писал, что Петр не уставал при каждом удобном случае демонстрировать свое презрение к русским и пыжился изо всех сил, пытаясь показать всем свое истинно прусское величие. Он жестоко избивал собственных любимцев за малейшую провинность… «В пристрастии ко всему военному он не знал меры: желал, чтобы беспрерывный пушечный гром представлял ему военные действия и мирная столица уподоблялась осажденному городу. Он приказал однажды дать залп из ста орудий, и, чтобы отговорить его, придворные представили ему разрушенный город, исполненный с таким неподражаемым мастерством, что был неотличим от настоящего…»
Должно быть, от долгих часов одиноких размышлений в тишине в Екатерине развилась удивительная наблюдательность. Чтобы потом не отвлекаться описаниями, вспомним слова того же Рюльера:
«Сама натура, казалось, образовала ее для высочайшей степени. Наружный вид ее предсказывал то, чего от нее ожидать долженствовали, и здесь, может быть, не без удовольствия (не входя в дальнейшие подробности) всякий увидит очертание сей знаменитой женщины.
Приятный и благородный стан, гордая поступь, прелестные черты лица и осанка, повелительный взгляд – все возвещало в ней великий характер. Возвышенная шея, особенно со стороны, образует отличительную красоту, которую она движением головы тщательно обнаруживала. Большое открытое чело и римский нос, розовые губы, прекрасный ряд зубов, нетучный, большой и несколько раздвоенный подбородок. Волосы каштанового цвета отличительной красоты, черные брови и… прелестные глаза, в коих отражение света производило голубые оттенки, и кожа ослепительной белизны. Гордость составляет отличительную черту ее физиономии.
Замечательные в ней приятность и доброта для проницательных глаз суть не иное что, как действие особенного желания нравиться, и очаровательная речь ее ясно открывает опасные ее намерения. Живописец, желая изобразить сей характер, аллегорически представил ее в образе прелестной нимфы, представляющей одной рукою цветочные цепи, а в другой скрывающей позади себя зажженный факел…»
Из «Собственноручных записок императрицы Екатерины II»
После Пасхи он устроил театр марионеток в своей комнате и приглашал туда гостей и даже дам. Эти спектакли были глупейшею вещью на свете. В комнате, где находился театр, одна дверь была заколочена, потому что эта дверь выходила в комнату, составлявшую часть покоев императрицы, где был стол с подъемной машиной, который можно было подымать и опускать, чтобы обедать без прислуги. Однажды великий князь, находясь в своей комнате за приговлениями к своему так называемому спектаклю, услышал разговор в соседней комнате и, так как он обладал легкомысленной живостью, взял от своего театра плотничий инструмент, которым обыкновенно просверливают дыры в досках, и понаделал дыр в заколоченной двери, так что увидел все, что там происходило, а именно как обедала императрица, как обедал с нею обер-егермейстер Разумовский в парчевом шлафроке – он в этот день принимал лекарство, – и еще человек двенадцать из наиболее доверенных императрицы. Его Императорское Высочество, не довольствуясь тем, что сам наслаждается плодом своих искусных трудов, позвал всех, кто был вокруг него, чтобы и им дать насладиться удовольствием посмотреть в дырки, который он так искусно проделал. Он сделал больше: когда он сам и все те, которые были возле него, насытили свои глаза этим нескромным удовольствием, он явился пригласить Крузе, меня и моих женщин зайти к нему, дабы посмотреть нечто, что мы никогда не видели. Он не сказал нам, что это было такое, вероятно, чтобы сделать нам приятный сюрприз. Так как я не так спешила, как ему того хотелось, то он увел Крузе и других моих женщин; я пришла последней и увидела их расположившимися у этой двери, где он наставил скамеек, стульев, скамеечек для удобства зрителей, как он говорил. Войдя, я спросила, что это было такое, он побежал ко мне навстречу и сказал мне, в чем дело; меня испугала и возмутила его дерзость, и я сказала ему, что я не хочу ни смотреть, ни участвовать в таком скандале, который, конечно, причинит ему большия неприятности, если тетка его узнает, и что трудно, чтобы она этого не узнала, потому что он посвятил по крайней мере двадцать человек в свой секрет; все, кто соблазнился посмотреть через дверь, видя, что я не хочу делать того же, стали друг за дружкой выходить из комнаты; великому князю самому стало немного неловко от того, что он наделал, и он снова принялся за работу для своего кукольнаго театра, а я пошла к себе. До воскресенья мы не слышали никаких разговоров; но в этот день, не знаю, как это случилось, я пришла к обедне несколько позже обыкновеннаго; вернувшись в свою комнату, я собиралась снять свое придворное платье, когда увидела, что идет императрица, с очень разгневанным видом и немного красная; так как она не была за обедней в придворной церкви, а присутствовала при богослужении в своей малой домашней церкви, то я, как только ее увидела, пошла по обыкновению к ней навстречу, не видав ея еще в этот день, поцеловать ей руку; она меня поцеловала, приказала позвать великаго князя, а пока побранила за то, что я опаздываю к обедне и оказываю предпочтение нарядам перед Господом Богом; она прибавила, что во времена императрицы Анны, хоть она и не жила при дворе, но в своем доме, довольно отдаленном от дворца, никогда не нарушала своих обязанностей, что часто для этого вставала при свечах; потом она велела позвать моего камердинера-парикмахера и сказала ему, что если он впредь будет причесывать меня с такою медлительностью, то она его прогонит; когда она с ним покончила, великий князь, который разделся в своей комнате, пришел в шлафроке и с ночным колпаком в руке, с веселым и развязным видом, и побежал к руке императрицы, которая поцеловала его и начала тем, что спросила, откуда у него хватило смелости сделать то, что он сделал; затем сказала, что она вошла в комнату, где была машина, и увидела дверь, всю просверленную; что все эти дырки были направлены к тому месту, где она сидит обыкновенно; что, верно, делая это, он позабыл все, чем ей обязан; что она не может смотреть на него иначе, как на неблагодарнаго; что отец ея, Петр I, имел тоже неблагодарнаго сына; что он наказал его, лишив его наследства; что во времена императрицы Анны она всегда выказывала ей уважение, подобающее венчанной главе и помазаннице Божией; что эта императрица не любила шутить и сажала в крепость тех, кто не оказывал ей уважения; что он мальчишка, котораго она сумеет проучить. Тут он начал сердиться и хотел ей возражать, для чего и пробормотал несколько слов, но она приказала ему молчать и так разъярилась, что не знала уже меры своему гневу, что с ней обыкновенно случалось, когда она сердилась, и наговарила ему обидных и оскорбительных вещей, выказывая ему столько же презрения, сколько гнева. Мы остолбенели и были смущены оба, и хотя эта сцена не относилась прямо ко мне, у меня слезы выступили на глаза; она заметила это и сказала мне: «То, что я говорю, к вам не относится; я знаю, что вы не принимали участия в том, что он сделал, и что вы не подсматривали и не хотели подсматривать через дверь». Это справедливо выведенное ею заключение успокоило ее немного, и она замолчала; правда, трудно было прибавить еще что-нибудь к тому, что она только что сказала; после чего она нам поклонилась и ушла к себе очень раскрасневшаяся и со сверкающими глазами. Великий князь пошел к себе, а я стала молча снимать платье, раздумывая обо всем, только что слышанном. Когда я разделась, великий князь пришел ко мне и сказал тоном на половину смущенным, на половину насмешливым: «Она была точно фурия и не знала, что говорит». Я ему ответила: «Она была в чрезвычайном гневе». Мы перебрали с ним только что слышанное, затем отобедали лишь вдвоем у меня в комнате. Когда великий князь ушел к себе, Крузе вошла ко мне и сказала: «Надо признаться, что императрица поступила сегодня как истинная мать!» Я видела, что ей хотелось вызвать меня на разговор, и потому замолчала. Она сказала: «Мать сердится и бранит детей, а потом это проходит, вы должны были бы сказать ей оба: “Виноваты, матушка”, и вы бы ее обезоружили». Я ей сказала, что была смущена и изумлена гневом Ея Величества, и что все, что я могла сделать в ту минуту, так это лишь слушать и молчать. Она ушла от меня, вероятно, чтобы сделать свой доклад. Что касается меня, то слова: «виноваты, матушка», как средство, чтобы обезоружить гнев императрицы, запали мне в голову, и с тех пор я пользовалась ими при случае с успехом, как будет видно дальше.
Глава 19 Всякий ли враг – враг?
Зачастую теперь ей достаточно было нескольких взглядов, чтобы понять, кто перед ней – друг или недруг, и если недруг, то чьим осведомителем он является: принадлежит ли к людям канцлера Бестужева, затеявшего против великой княгини настоящую травлю, или лазутчик самой императрицы.
Та уже давно перестала радоваться союзу Екатерины и Петра. Более того, с каждым днем Елизавета становилась все сварливее и подозрительнее. И девушка понимала, в чем причина всех бед.
Ведь после свадьбы прошло уже девять месяцев, а она все еще не была беременна. Императрица не видела даже признаков скорого появления первенца у великокняжеской четы.
«Да и откуда первенцу взяться, если мой муж бежит от меня как черт от ладана?»
Елизавета, в том не было ни малейших сомнений, усматривала в сем факте личное оскорбление. И виновата в этом, по ее мнению, была только она, великая княгиня, не сумевшая вызвать желание у своего супруга.
Изумлению Екатерины не было предела, когда императрица прямо сказала ей об этом.
– Ты, княгинюшка, свой долг не исполняешь! Только по твоей лености брак сей, надежда всей России, не дал долгожданных и отрадных плодов!
– Но, матушка императрица, отчего лишь одну меня вы почитаете виновной в том, чего не смогли достичь двое?
– Молчи, дура цербстская! Мне ли не знать, чего можно получить от мужчины, на что его можно сподвигнуть! Я, почитай, на добрых два десятка лет старше тебя и повидала в этой жизни всякого!
Екатерина молчала. Она видела, что императрица заводит сама себя, вернее, что некая «добрая душа» уже успела завести Елизавету, и теперь та изливает на девушку свой гнев. И изливать будет тем дольше, чем решительнее будет Екатерина возражать.
– И вот что я тебе еще скажу: не моя вина в том, что ты не любишь великого князя! Обручила я вас не против вашей воли, не против вашей воли поженила! Так что пора бы уж становиться взрослыми и перестать думать, что ваши игры будут продолжаться бесконечно! Мое терпение не беспредельно. Да и народ вскоре заропщет: отчего это у красавицы и умницы Екатерины Алексеевны дитя не родится? И что я смогу сказать народу? Что княгинюшка не любит мужа, что он ей так противен, что она супружеский свой долг исполняет без всякого рвения…
«Да я его и вовсе не исполняю, матушка!» – хотелось крикнуть Екатерине. Но мудрость вновь подсказала, что лучше держать себя в руках и не выказывать никаких чувств, кроме почтительного усердия.
– Да и как княгинюшке-то долг свой супружеский исполнять, если она по сю пору влюблена совсем в другого мужчину?! Аль, быть может, уже любезна тут многим?
Екатерина стояла не шевелясь. Здесь упрекнуть ее было не в чем: ни один из ее друзей не посмел даже руки ее коснуться, не говоря уже о большем!
– Но княгинюшка-то себе на уме! И ее небрежение мужем и долгом лишь кажущееся. Ибо долг-то свой она исполняет вполне ретиво – долг перед королем Фридрихом, долг перед своим никчемным княжеством! Долг, который велит ей ни в коем случае не производить на свет наследника престола российского! Во что бы то ни стало лишить великую страну ее будущего. Или, быть может, к тому же уморить и мужа своего, великого князя! Что молчишь, княгинюшка?! Чай, правда глаза колет!
«Ох, как же ты добр ко мне, всесильный канцлер Алексей, сын Петров, великий Бестужев… И не хочется видеть, а в каждом слове императрицы видно твое усердие в службе. Если б ты и в самом деле ретиво исполнял долг свой и провел должное расследование, ты бы видел, кто и как исполняет свой долг перед Россией и императрицей! Ты бы знал наверняка, что в письмах к матушке я немногословна и сдержанна. Ты бы, клянусь, с удовольствием лишил меня отчего дома, прикрываясь словами о том, что тобой, зверем, движет лишь любовь к родине и долг перед нею!»
Это была чистая правда: видя «успехи» Иоганны на поприще политическом, Екатерина взяла за правило не вмешиваться в государственные дела. В ее переписке, вскрываемой тайной канцелярией, не было ни слова, которое оправдывало бы упреки императрицы.
Молчание девушки Елизавету, похоже, не успокаивало, а напротив, злило все сильнее. Она уже не сдерживала себя. С багровыми щеками и горящими от гнева глазами Елизавета кричала, топала ногами, размахивала кулаками…
«Ох, дождусь я, что она меня поколотит… Так, как в гневе она бивала служанок, фрейлин и даже их кавалеров… Убежать отсюда мне невозможно – она загораживает выход… Да и чем я отличаюсь от иных фрейлин и служанок? Только лишь тем, что нахожусь в услужении не самой императрицы, а всей России…»
Однако Екатерина продолжала молчать – внутри вся трясясь от страха и гнева, внешне она была неподвижна. Быть может, только горящие румянцем щеки выдавали ее состояние.
Неизвестно, сколько бы это еще продолжалось, быть может, до рассвета следующего дня. Но тут уже силы стали покидать Елизавету. Злой огонь в глазах угас, она опустилась на козетку и вяло махнула рукой.
– Поди вон, княгинюшка! Уж я найду на тебя управу! И на тебя, и на твою мамашу, глупую гусыню!
Екатерина молча присела в низком реверансе, склонив голову. Должно быть, это снова и окончательно вывело императрицу из себя.
– Во-о-он! – заорала она. – Вон! Прочь!
Екатерина, не меняя выражения лица, внешне спокойно дошла до своей опочивальни. Сняла платье, набросила халат из ганзейского бархата и прилегла. Прошло три минуты, потом пять. Истекла уже и четверть часа – никто не беспокоил великую княгиню. И только тогда, убедившись, что посторонних глаз и ушей поблизости нет, Екатерина дала себе волю.
Тело ее сотрясли рыдания, слезы хлынули из глаз. Она плакала так, как не плакала, должно быть, еще никогда в своей жизни. Злость, обида, гнев, ярость, тем более бессильная, что показать ее ни в коем случае нельзя, – все, что накипело в душе за время аудиенции, смешалось в этих слезах.
Императрица сдержала слово. По совету канцлера со следующего утра она устроила и великой княгине, и великому князю невыносимую жизнь. Да, ее решение твердо: она их приструнит, изолирует и превратит в политические привидения! Отныне никому не придет в голову искать их защиты и покровительства, пытаться стать их фаворитами или просто приятелями. О-о-о, она знает, как поступить!
Следующее за нотацией утро доставило Екатерине неприятный сюрприз. Граф Дивьер, камергер, недобро усме хаясь, вручил ей писанный рукой самого канцлера внушительный рескрипт. Императрица извещала, что отныне к великокняжеской чете будут приставлены «высокопоставленные особы», коим поручается выполнять функции придворного наставника и наставницы при их императорских высочествах.
«Высокопоставленная особа» при великом князе, гласил этот документ, будет делать все, чтобы «исправить некоторые неуместные привычки его императорского высочества, такие, например, как выливать, сидя за столом, содержимое стакана на голову слуг, грубо окликать тех, кто имеет честь находиться поблизости, и проделывать с ними неприличные шутки, гримасничать и корчить рожи прилюдно, постоянно дергаясь руками и ногами».
Екатерина удивилась списку прегрешений, которые следовало искоренить этой, пока еще неизвестной «высокопоставленной особе» в Петре Федоровиче.
«Неужто не усмотрел граф Бестужев иных, куда более отвратительных черт характера и привычек, которые следовало бы искоренить в первую очередь?»
«Высокопоставленная особа» при великой княгине, продолжал документ, «должна будет поощрять ее в отправлении православного культа, препятствовать ее вмешательству в дела империи и запрещать любую фамильярность с молодыми дворянами, камергерами, пажами и слугами».
Кроме того, новой дуэнье предписывалось поощрять великую княгиню в проявлениях супружеской ласки и любви. «Ее императорское высочество была избрана, дабы стать достойной супругой нашего любимого племянника, великого князя и наследника империи. Ее единственной целью и намерением должно быть: своим разумным поведением, умом и иными достоинствами вызвать у его императорского высочества, великого князя, искреннюю любовь, привлечь к себе его сердце, отчего столь ожидаемый империей наследник и потомок высочайшей династии мог бы родиться».
Екатерина покачала головой. Ни одно из перечисленных качеств не могло вызвать любви к ней супруга. Напротив, каждое из них и само по себе могло лишь отпугнуть Петра от своей жены. И тут уж никакая дуэнья не поможет, будь она хоть добрая волшебница из сказки…
Последний пункт обширного рескрипта вызвал в душе девушки настоящую бурю: отныне ей запрещалось писать кому бы то ни было, минуя коллегию иностранных дел. Все письма, кои она желала послать отцу или матери, она обязана была переписать с образца, установленного канцелярией. Более того, указаний, о чем именно великая княгиня желала бы написать родителям, писарям приказано было не слушать – «коллегия иностранных дел знает это лучше ее».
«Ну что ж, Елизавета, дочь Петрова. В вашей воле было меня призвать и приветить. В вашей воле меня заточить. Однако даже пудовые замки не сделают затворницей мою душу!»
Девушка чувствовала – дворец медленно, но верно превращался для нее в тюрьму. Хотя заточена она не буквально, но почти никакой свободы ей не оставлено. Быть может, лишь приемы при «малом дворе», да концерты, устраиваемые в Летнем дворце…
Во время одного из таких концертов и произошло внешне ничем не примечательное событие, почти по-настоящему заточившее Екатерину в ее покоях.
Тут следует вспомнить, что музыка с детства была Екатерине мало интересна. Должно быть, виной тому стала блажь Иоганны, пожелавшей вкушать в главном зале Цербстского замка под сладкозвучные песни замковых музыкантов. Музыканты-то старались, но вот со сладкозвучием у них явно не все ладилось. Иногда настолько не ладилось, что отбивало у юной Фике аппетит.
Вот поэтому Екатерина не была почитательницей и оркестра, в котором играл великий князь. Солнце только стало клониться к вечеру, музыка наскучила Екатерине, она покинула кресло и на цыпочках удалилась. Тихи были анфилады, истомленные летним днем. На сей раз, против обыкновения, за великой княгиней никто не следил. Муж ее в оркестре играл на скрипке, императрица отсутствовала, придворные дамы были чем-то заняты. Екатерина вспомнила, что мельком увидела среди кавалеров знакомый профиль – ее «сынок» вернулся с лечения на водах. Однако Андрей проявил трогательную заботу о ней, сделав лишь едва заметный знак. Не дело возбуждать малейшие подозрения в ком бы то ни было… Да и она, Екатерина, успела остыть от этой милой дружбы – уж слишком долгим было лечение старшего Чернышева.
Великая княгиня укрылась в своей спальне. Отсюда был выход в большую залу, где маляры на лесах красили потолок. Вдруг сердце Екатерины замерло. В глубине залы она увидела Андрея Чернышева, который ускользнул с концерта следом за ней. Не в силах сдержаться, Екатерина сделала ему знак приблизиться.
Он поспешил последовать безмолвному приглашению, сделал несколько шагов в глубину опочивальни…
О, как же Екатерине хотелось уступить ему! Но мудрости (и осторожности) девушке хватило, чтобы указать в проем двери. Андрей беспрекословно вышел, став, однако, так, чтобы, оставаясь вне опочивальни, слышать даже самый тихий шепот Екатерины. Их разделял теперь едва ли локоть.
Шепот двоих почти не слышен посторонним, приоткрытая в опочивальню дверь яснее ясного показывает, что ничего настораживающего и уж тем более предосудительного в этой беседе нет. Однако уже через несколько минут чуткое ухо Екатерины уловило шорох. Умолкнув, она обернулась – из другой двери комнаты за ней следил камергер граф Дивьер.
– Великий князь просит вас к себе, мадам, – произнес он с поклоном.
– Благодарю, граф, – единственное, что произнесла Екатерина.
В покоях великого князя, конечно, никого не было – сам Петр еще пребывал в оркестре. Как только девушка вошла в гостиную великого князя, она услышала далекий щелчок замка: дверь, что вела из ее опочивальни в общие помещения дворца, была заперта снаружи. С этого мига Екатерина превратилась в подлинную пленницу.
На следующий же день все трое Чернышевых были отправлены лейтенантами в отдаленные гарнизоны Оренбургских степей. А во второй половине того же дня «высокопоставленная особа», обязанная по приказу Бестужева следить за поведением Екатерины, приступила к исполнению своих обязанностей. Ею была Мария Чоглокова, двоюродная сестра императрицы.
– Ей двадцать четыре, она хороша собой и туповата, – говорила Екатерина своей подруге Румянцевой за вышиванием.
Дамы беседовали чуть слышно, хотя новой воспитательнице Прасковья Александровна не внушала подозрений из уважения к безукоризненной древности рода и…
– Она боится меня, душечка, – впервые увидев Чоглокову, просветила великую княгиню подруга. – Я же кузина милейшей Машеньки Репниной…
Екатерина, конечно, знала об этом. Как и о том, что Петр Федорович сходит по рекомой Репниной с ума.
Она поняла, что Прасковья протягивает ей некий важный ключик, и не отказалась взять его.
– Как чувствует себя ваша сестра, друг мой? – громко спросила великая княгиня.
Румянцева улыбнулась: Екатерина отлично поняла ее и все сделала верно.
– Отменно, ваше высочество, отменно. Узнав о том, что мы собираемся провести за вышиванием все утро, она так хотела присоединиться к нам, но по воле супруга вашего вынуждена была отправиться с ним верхом к дальним озерам.
– Это так печально, душечка. Передайте ей, что завтра я с удовольствием приму ее и выслушаю ее занимательнейший рассказ о приключениях по дороге.
– Непременно, ваше высочество, непременно!
Увы, язык коварства и полунамеков без малейшего труда усваивается в дворцовых стенах – здесь он становится первым из языков, которыми овладевает их обитатель.
Чоглокова как завороженная улыбалась этим словам: имя Репниной, нынешнего «доброго друга» великого князя Петра Федоровича, для нее звучало отрадно и сладостно.
– Сказывали, друг мой, – куда тише продолжила Румянцева, – что ваша наставница безукоризненно добродетельна и до мозга костей пронизана чувством долга. Она обожает мужа (который уже почти год пребывает с миссией в Бене), у нее есть дети, она набожна, преклоняется перед Бестужевым и императрицей. Одним словом, ваше высочество… О нет, сей шелк сюда не подойдет, он слишком груб для ваших нежных пальцев. Возьмите лучше с моей иглою!
– Благодарю! Твоя нить и в самом деле куда нежнее! – громко ответила Екатерина.
– Так вот, – вполголоса закончила Румянцева, – полагают, что она будет живым примером для великой княгини, столь нуждающейся в руководителе.
Екатерина пожала плечами. Она находила свою «наставницу» просто отвратительной: у нее были холодные глаза и манеры бессердечной змеи.
– А еще, друг мой, – шепотом ответила подруге великая княгиня, – она чрезвычайно глупа, злобна, капризна и жадна. Достойный пример для подражания, воистину.
Дамы улыбнулись друг другу. О да, любимые слова Марии Чоглоковой они уже слыхали сегодня и будут слышать еще не раз за то время, что сестра Елизаветы прослужит при дворе великой княгини.
Услышав невиннейшую шутку, Чоглокова воскликнула: «Такие слова не понравились бы ее величеству!» На следующий день она запретила дамам прогулку под тем предлогом, что «такое императрица бы не одобрила!», хотя ларчик открывался куда проще: ей было невыразимо лень менять свое уютное кресло на садовую беседку.
Она же принесла новое распоряжение от императрицы: молодым супругам приказано исповедоваться у архимандрита Симона Тодорского.
О чем духовный наставник расспрашивал Петра, великая княгиня так никогда и не узнала. С ней же архимандрит завел беседу о детях, усердии в исполнении супружеского долга и послушании. Терпение Екатерины лопнуло, и она довольно резко ответила, что до сих пор невинна. Услышав эти слова, священник изумленно воскликнул:
– Так почему же императрица убеждена в противоположном?
Екатерине оставалось только пожать плечами.
– Увы, отец мой, я не знаю ответа на ваш вопрос. Думаю, однако, что виной всему злые и завистливые языки, коими столь полны дворцовые покои…
Теперь промолчал архимандрит Тодорский – трудно было спорить с таким замечанием великой княгини.
– Признаюсь вам, добрый мой наставник, мне временами кажется, что, сама не зная как и почему, стала я заклятым врагом императрицы…
– Полно, дочь моя, полно… – пробормотал архимандрит, которому временами казалось то же самое.
Тем же вечером он, пренебрегая тайной исповеди, рассказал обо всем Елизавете.
– Бедное дитя… – ахнула та. – Ежели это правда…
– Боюсь, матушка, что чистейшая.
– Однако я все же подошлю к ней Лестока. Ему сподручнее будет убедиться в этом. Но ежели это правда, великому князю несдобровать!
– Позволено ли мне будет возразить матушке императрице?
– Говори уж. – Та коротко махнула рукой.
– Первою вашей заботою должен стать наследник, который родится у великой княгини. Россия ждет этого малыша! А уж потом можете перевести свой взор на великого князя.
– Но Петр?..
– Разве я хоть слово сказал о великом князе, матушка? – развел руками архимандрит.
Из «Собственноручных записок императрицы Екатерины II»
…по имени Чернышевых, все трое были сыновьями гренадеров лейб-компании императрицы; эти последние были поручиками, в чине, который императрица пожаловала им в награду за то, что они возвели ее на престол. Старший из Чернышевых приходился двоюродным братом остальным двоим, которые были братьями родными. Великий князь очень любил их всех троих; они были самые близкие ему люди, и, действительно, они были очень услужливы, все трое рослые и стройные, особенно старший. Великий князь пользовался последним для всех своих поручений и несколько раз в день посылал его ко мне. Ему же он доверялся, когда не хотелось итти ко мне. Этот человек был очень дружен и близок с моим камердинером Евреиновым, и часто я знала этим путем, что иначе оставалось бы мне неизвестным. Оба были мне действительно преданы сердцем и душою, и часто я добывала через них сведения, которыя мне было бы трудно приобрести иначе, о множестве вещей. Не знаю, по какому поводу, старший Чернышев сказал однажды великому князю, говоря обо мне: «Ведь она не моя невеста, а ваша». Эти слова насмешили великаго князя, который мне это разсказал, и с той минуты Его Императорскому Высочеству угодно было называть меня «его невеста», а Андрея Чернышева, говоря о нем со мною, он называл «ваш жених». Андрей Чернышев, чтобы прекратить эти шутки, предложил Его Императорскому Высочеству, после нашей свадьбы, называть меня «матушка», а я стала называть его «сынок», но так как и между мною и великим князем постоянно шла речь об этом «сынке», ибо великий князь дорожил им, как зеницей око, и так как и я тоже очень его любила, то мои люди забезпокоились, одни из ревности, другие из страха за последствия, которыя могут из этого выйти и для них, и для нас. Однажды, когда был маскарад при дворе, а я вошла к себе, чтобы переодеться, мой камердинер Тимофей Евреинов отозвал меня и сказал, что он и все мои люди испуганы опасностью, к которой я, видимо для них, стремлюсь. Я его спросила, что бы это могло быть; он мне сказал: «Вы только и говорите про Андрея Чернышева и заняты им». – «Ну, так что же, – сказала я в невинности сердца, – какая в том беда; это мой сынок; великий князь любит его также, и больше, чем я, и он к нам привязан и нам верен». – «Да, – ответил он мне, – это правда; великий князь может поступать, как ему угодно, но вы не имеете того же права; что вы называете добротой и привязанностью, ибо этот человек вам верен и вам служит, ваши люди называют любовью». Когда он произнес это слово, которое мне и в голову не приходило, я была как громом поражена и мнением моих людей, которое я считала дерзким, и состоянием, в котором я находилась, сама того не подозревая. Он сказал мне, что посоветовал своему другу Андрею Чернышеву сказаться больным, чтобы прекратить эти разговоры; Чернышев последовал совету Евреинова, и болезнь его продолжалась приблизительно до апреля месяца. Великий князь очень был занят болезнью этого человека и продолжал говорить мне о нем, не зная ничего об этом. В Летнем дворце Андрей Чернышев снова появился; я не могла больше видеть его без смущения. Между тем императрица нашла нужным по новому распределить камер-лакеев: они служили во всех комнатах по очереди и следовательно Андрей Чернышев, как и другие. Великий князь часто тогда давал концерты днем; в них он сам играл на скрипке. На одном из этих концертов, на которых я обыкновенно скучала, я пошла к себе в комнату; эта комната выходила в большую залу Летняго дворца, в которой тогда раскрашивали потолок и которая была вся в лесах. Императрица была в отсутствии, Крузе уехала к дочери, к Сивере; я не нашла ни души в моей комнате. От скуки я открыла дверь залы и увидала на противопложном конце Андрея Чернышева; я сделала ему знак, чтобы он подошел; он приблизился к двери; по правде говоря, с большим страхом, я его спросила: «Скоро ли вернется императрица?» Он мне сказал: «Я не могу с вами говорить, слишком шумят в зале, впустите меня к себе в комнату». Я ему ответила: «Этого-то я и не сделаю». Он был тогда снаружи перед дверью, а я за дверью, держа ее полуоткрытой и так с ним разговаривая. Невольное движение заставило меня повернуть голову в сторону, противоположную двери, возле которой я стояла. Я увидела позади себя, у другой двери моей уборной, камергера графа Дивьера, который мне сказал: «Великий князь просит Ваше Высочество». Я закрыла дверь залы и вернулась с Дивьером в комнату, где у великаго князя шел концерт. Я узнала впоследствии, что граф Дивьер был своего рода доносчиком, на котораго была возложена эта обязанность, как на многих вокруг нас. На следующий день затем, в воскресенье, мы с великим князем узнали, что все трое Чернышевых были сделаны поручиками в полках, находившихся возле Оренбурга, а днем Чоглокова была приставлена ко мне. Чоглокова пришла мне сказать от имени Ея Императорскаго Величества, что она меня освобождает впредь от посещения ея уборной и что когда мне нужно будет сказать ей что-нибудь, то делать это не иначе как через Чоглокову. В сущности я была в восторге от этого приказания, которое освобождало меня от необходимости торчать среди женщин императрицы; впрочем, я не часто туда ходила и видела Ея Величество очень редко: с тех пор как я имела к ней вход, она показывалась мне всего три-четыре раза, и обыкновенно все женщины понемногу одна за другой выходили из комнаты, когда я туда входила; чтобы не быть там одной, я тоже не долго оставалась…. Во время всего путешествия из Петербурга в Ревель Чоглокова надоедала нам и была отчаянием нашей кареты; на малейший пустяк, какой высказывали, она возражала словами: «Такой разговор не был бы угоден Ея Величеству» или «Это не было бы одобрено императрицей», иногда и самым невинным и безразличным вещам она навязывала подобный этикет.
Интродукция
Мимо рощи шла одинеханька, одинеханька, молодехонька. Никого в рощи не боялася я, ни вора, ни разбойничка, ни сера волка – зверя лютова, Я боялася друга милова, своево мужа законнова, Что гуляет мой сердешный друг в зеленом саду, в полусадничке, Не с князьями, мой друг, не с боярами, не с дворцовыми генералами, Что гуляет мой сердешной друг со любимою своею фрейлиной, С Лизаветою Воронцовою, Он и водит за праву руку, они думают крепку думушку, крепку думушку, за единое, Что не так у них дума сделалась, что хотят они меня срубить, сгубить… (Народная песня)Глава 20 Шаг к трону
Важные дела следует вершить с утра. Тогда все получится именно так, как следует. Во всяком случае, так думалось Елизавете.
После доклада Лестока, подтвердившего слова великой княгини, императрица задумалась. Размышления ее касались многих предметов, однако первым, как и советовал мудрый Симон Тодорский, должна была стать забота о наследнике великокняжеской четы.
«Бедная девочка, – подумалось Елизавете. – Скоро год, а ты все молчишь, ни словечка никому не сказала. Должно быть, только Прасковья-то Румянцева знает о твоей беде. Но и она молчит. И это хорошо, подруга, вишь ты, настоящая, хоть и болтушка по виду-то… А Петр, прости господи, великий князь… Урод проклятый, дурак голштинский… Слов не подобрать!»
Императрица одернула себя. Не дело бранью это несчастье поливать, о деле надо задуматься. Однако вместо дела подумала императрица о давней своей подруге Марье Алексеевне, урожденной княжне Голицыной. Многие годы дружбы связывали Елизавету Петровну и Марью Алексеевну – с тех давних уже пор, когда вступила тридцатидвухлетняя Елизавета на престол.
«Ох, давнее дело… Давнее…» – императрица улыбнулась, вспомнив, что именно Марья Алексеевна принесла ей впервые мужское платье – мундир измайловского полка, подобный тому, в какой любила наряжаться сама. Вспомнилось Елизавете, как подгоняли две дамы сей мундир и как это было весело и славно.
«Молодость, как же ты хороша…»
С воспоминаний об исколотых иглою пальцах мысли императрицы незаметно перетекли к мужу Марьи Алексеевны, генерал-аншефу Василию Федоровичу Салтыкову. И к их сыну, Сергею Васильевичу – умнице и красавцу. Поговаривали, что к своим годам сей камергер уже ведет счет третьему десятку амурных побед.
«Ну что ж, батюшка Сергей Василич, должно быть, не зря я маменьку твою сейчас вспомнила. Похоже, именно тебя-то мне и нужно, дружочек…»
– Свет мой, Сергей Васильевич… – Елизавета улыбалась, глаза ее сияли добротой и приветливостью… – Как вам живется при дворе, все ли радует, всего ли вдоволь?
– Благодарю, матушка императрица. Вам ведомо, я много объездил, много повидал… И каждый раз Россия, Петербург для меня – словно манна небесная, стремлюсь сюда каждодневно, скучаю и жажду увидеть дорогие лица… – Сергей Салтыков склонился в поклоне.
Красивое лицо, вьющиеся темные волосы, статная фигура… «Подойдет, – подумала Елизавета, – не может не подойти…» Не то чтобы он подходил по всем статьям, но внешность весьма недурна, да и умом не последний… «Ничего, – решительно сказала себе императрица, – дурное дело нехитрое… Была не была…»
– Я бы очень хотела, – произнесла она с теплой улыбкой, – познакомить вас наконец с наследником престола и его юной супругой. Право, они оба должны, не могут вам не понравиться… И у вас наверное есть что им рассказать… Вы ведь только на днях из Парижа?
«Из Парижа, матушка, а перед этим я посетил Флоренцию и Милан… Но вам-то что с этого?»
– Невеста нашего Петруши так привлекательна и умна, что, право же, не может вам не понравиться… Правда, правда, я редко восхищаюсь кем-либо, и вы это знаете лучше других. Но сейчас я, без преувеличения, очарована. Милая девушка, предмет восхищения пиитов и блаженство для людей, сведущих в тайнах разума…
«К чему вы ведете, матушка?»
– К сожалению, Господь не дает нашим детям наследника. Граф Алексей и я скорбим и молимся, но толку чуть. Если бы вы, любезный Сережа, смогли развлечь великого князя – и, может быть, его благочестивую супругу, – я была бы счастливейшей из смертных… Мне так жаль их… Сердце разрывается, когда я вижу их страдания из-за бесплодного брака…
«А больше всех страдаешь, конечно, ты, матушка… Кому, как не тебе, сожалеть о том, что после всех интриг, козней и усилий все разбивается о личность твоего племянника? Все очень просто: великий князь, говорят, не способен исполнять супружеский долг. Хотя слыхал я и другое: ему любы те женщины, которые как можно менее походят на его жену. Лесток сказывал, что Петр страшно мнителен и психически неустойчив, а как-то спьяну лейб-медик обмолвился, что даже душевно нездоров… Да и как же иначе, если бедный отрок все детство свое провел среди сумасшедших кирасир… А княгиня, право, недурна – видел ее на балу у Румянцевых… Молодая женщина, а мужу нелюба… Невыносимо сии муки терпеть…»
– С великою радостью, матушка, – поклонился камергер. – Служить вашему величеству при дворе великого князя честь для меня!
«А уж природа возьмет свое, – с некоторым облегчением подумала императрица. – Надо будет чем-то полезным занять Петрушу-то, чтобы не помешал службе Сергей Василича…»
Однако надеяться только на Салтыкова было глупо. Елизавета, раз уж за что-то бралась, всегда предусматривала и запасной ход – если, паче чаяния, основная ставка не сыграет.
«Надобен мне человек, который будет близок к великой княгине необыкновенно. Приятен ей и при этом не вызовет ни у кого никаких подозрений. Как Лесток, который политик куда более чем лекарь… Лекарь! Именно что лекарь!»
Воистину великие дела должны делаться с утра – теперь Елизавета в этом убедилась, ибо мысль о Салтыкове ей пришла в голову ранним утром. Как сегодня поутру и мысль о Лестоке…
– Друг мой, – проговорила императрица, едва лейб-медик закончил свой ежеутренний осмотр. – А хорош ли Алексей Кирсанов? Видала я его уже несколько раз в твоей свите.
– Моей свите, матушка? – Лесток деланно удивился.
– Ну как же еще назвать твоих помощников, как не свитою? Да не о названиях разговор сейчас. Хорош ли сей доктор?
– Матушка Елизавета, ты мне изменить желаешь? – Лесток шутил, но как-то настороженно.
– Лучше тебя меня никто не излечит. Да и не знает никто, – императрица вернула лейб-медику улыбку. – О невестушке своей тревожусь. Ей, сдается мне, давно уж персональный лекарь надобен. Дабы и телесные и душевные хвори врачевать.
– Кирсанов хорош, – лейб-медик, как всегда, понимал свою императрицу с полуслова. – Мудр и сдержан, знает много, честен, неболтлив. Чести женской никогда не предаст. Одно плохо – женат.
– Чем же плохо? Хорошо даже – уважение к женщине имеет.
«И забот будет меньше, в женихи, дай Бог все сложится, набиваться не начнет…» Грязное все-таки дело – высокая политика.
– Так тому и быть, друг мой. Прикажи ему – пусть пополудни войдет в малый кабинет – поручение для него у меня есть.
Когда Кирсанов вошел в кабинет, Елизавета перебрала, должно быть, не один десяток вариантов беседы. Но в конце концов решила обойтись вовсе без намеков.
– Видите, милейший Алексей Николаевич, – сказала она, чуть склонив голову и прищурив обычно насмешливые, но сейчас невероятно серьезные глаза, – видите ли, жена милого нашего Петруши в очень щекотливом положении… Виданное ли дело, столько в браке – а наследника все нет… Должно быть, как великая княгиня ни молода, однако, похоже, здоровья все же некрепкого… Думаю я, ей нужен врачеватель и конфидент. Иначе ей, голубке, никогда радости материнства не видать. Тут помочь надо, дело государственное…
– Как же… – пролепетал сконфуженный Алеша, которому давно и невероятно нравилась великая княгиня, – как же помочь?
– Ой, не знаю, милый Алексей Николаевич… И негоже между супругами влезать, и молчать не могу, вся душа изболелась – ведь мои же дети… Природа должна способствовать, Алеша, так думаю… Природа, молодая кровь, молодое тело…
Сергей положил теплые руки на живот Екатерины. Та ответила улыбкой.
– Душа моя, давно уж хотел поговорить с тобой, да все не приходилось…
– Говори, Сережа.
– Раздумывал я о нас с тобой, о том, какой стала моя жизнь после того, как увидел тебя, как стал твоим…
Великая княгиня нежно погладила Салтыкова по плечу. Да, с тех пор как при «малом дворе» появился Сергей, жизнь ее чудесным образом изменилась. Ей даже показалось, что матушка императрица немного смягчилась, перестала ее шпынять и в каждой беседе спрашивать, довольна ли княгинюшка своей жизнью, рада ли она супружеству своему.
Екатерина, конечно, смиренно отвечала, что жизнью довольна и что сердце ее исполнено благодарности матушке Елизавете Петровне за неустанную заботу, которую та проявляет о «своих детушках».
А уж после того как Екатерина понесла, императрицу словно подменили. Она вновь стала такой, как была, когда встречала только что приехавшую из Пруссии Фике. Куда-то волшебным образом исчезла глупая до одури Мария Чоглокова, зато разом ко двору великой княгини были допущены давние добрые приятельницы, с которыми она сблизилась, еще будучи Софией Августой Фредерикой. Стоит ли упоминать, что Сергей теперь всякий час был при ней – и на прогулках сопровождал, и долгие часы вечерних чтений не пропускал, даже перестал бурчать, что устает от бабской болтовни.
Если совсем уж честно, Екатерина тоже стала немного уставать – от Салтыкова, от его самолюбования, показной отстраненности на людях и навязчивости, даже прилипчивости, когда они оставались наедине. Что уж говорить о том, как высокомерно он всегда отказывался говорить с ней о политике, обсуждать давние победные сражения, кои когда-то вела Россия…
– Это дело мужское, бабскому разуму неподвластное!
«Ох, Сережа, друг мой сердечный, как же ты не прав… И отчего ты так переменился? Оттого, что власть свою надо мною ощутил? Так есть ли она, власть-то эта? Или сие тебе только кажется?»
Ее добрый гений, а с некоторых пор и доверенный друг Алеша Кирсанов (ох, снова Алеша), пользующий ее вот уже год, как-то сказал:
– Матушка Екатерина, будь с этим камергером поосторожнее. Уж всем он хорош, уж всем он приятен. Да только со стороны-то яснее ясного, что в первую очередь заботится он о себе, о грядущем своем, а уж все остальное рассматривает токмо через такой лорнет.
– Что ж тут удивительного, Алеша? Любому человеку сие свойственно – думать сначала о себе, а уж потом обо всех остальных.
– Оно-то так, Катюша, да только не все так по-волчьи на мир вокруг смотрят. А вот Сергей Василич как в покои ваши входит, так все по сторонам осматривается. Точно матерый зверь…
Екатерина улыбнулась: она тоже замечала за Салтыковым эту странную манеру: войти, оглядеться, кажется, даже принюхаться… А потом уж, не найдя ничего угрожающего, словно маску-то и снять, в другого человека превратиться.
– …опаска есть у меня, княгиня, что вскоре амант ваш станет на вас как на ключик к счастью посматривать.
– Спасибо, друг мой! Постараюсь я ловушку сию обойти…
– Так что, Сережа, надумал ты, о нас с тобой размышляя?
Салтыков осторожно отпустил руку Екатерины, встал. Зачем-то прошелся к распахнутым в сад дверям, вернулся обратно. Снова присел у ног Екатерины, а затем опять встал.
– Что ж ты суетишься-то, батюшка Сергей Васильевич? Аль что-то нехорошее думал, о счастии нашем в мечты уходя?
Салтыков оглянулся на Екатерину. За десять лет, проведенных в России, она удивительно похорошела, а за полгода беременности просто расцвела. Ныне ее улыбку можно было бы назвать солнечной без всяких поэтических преувеличений. Тем более горько будет сейчас расстраивать великую княгиню разговорами не ко времени.
– Не суечусь я, что ты. Просто подумал, что не следовало бы сейчас заводить разговор сей.
– Нет уж, душа моя, начал, так заканчивай! Пусть я что-то дурное услышу – все лучше, чем в неведении оставаться!
Сергей Васильевич длинно и тяжело вздохнул. Он и сейчас мечтал бы вернуться на час назад и не заводить этого разговора, но слово-то не воробей. Да и сколько можно тянуть?
– Раздумывал я о счастии нашем, матушка, раздумывал, да и стало страшно мне за малыша нашего, что ты под сердцем носишь. А ну как прознает великий князь, что ребенок не его?
Екатерина с тревогой взглянула в лицо аманта.
– Ты что сказать-то хочешь, Сережа?
– Страшно мне, матушка. И за малыша нашего любимого страшно. И за тебя, душа моя ненаглядная… Боюсь я, что не позволит великий князь жить нашему крохе, убьет, как только тот родится.
Екатерина про себя усмехнулась. Да, отношения с Петром у нее были непростыми, но в чем его нельзя было упрекнуть, так это в дешевой мстительности. Почти два года прошло с тех пор, как Петр со смехом предлагал:
– А давай, княгинюшка, будем дружить семьями. Я с Лизанькой своей ненаглядной и ты с амантом Сергеем свет Василичем. Веселая компания, поди, получится. Да и поучиться, сдается мне, сможем друг у друга…
Тогда Екатерина промолчала, а сейчас, вспомнив тот странный разговор, порадовалась, что Сергею о нем не рассказала. Быть может, еще успеет – однако же сейчас надо дослушать Сережу до конца.
– Не тревожься об этом, друг мой! Думаю, Петру и в голову не придет поднимать руку на мое дитя. Да и Елизавета Петровна защищать будет его, аки львица.
– Только этой надеждой я себя и тешу, матушка! Однако все же беспокойно.
– Говорю тебе, выбрось из головы, Сергей!
Но тот не слушал. Отойдя как можно дальше от Екатерины, полуобернувшись и глядя в сад поверх деревьев, он проговорил:
– Насколько отрадней было, Катюша, свет жизни моей, если бы не стало вдруг великого-то князя, Петра Федоровича… Насколько спокойнее и мне, и тебе, да и многим в стране этой…
Из «Собственноручных записок императрицы Екатерины II»
Я уже несколько времени замечала, что камергер Сергей Салтыков бывал чаще обыкновеннаго при дворе; он всегда приходил со Львом Нарышкиным, который всех забавлял своей оригинальностью, – я уже привела некоторыя черты ея. Сергей Салтыков был ненавистен княжне Гагариной, которую я очень любила и к которой питала даже доверие. Льва Нарышкина все терпели и смотрели на него, как на личность совсем не значащую и очень оригинальную. Сергей Салтыков заискивал, как только мог, у Чоглоковых; но так как Чоглоковы не были ни приятны, ни умны, ни занимательны, то его частыя посещения должны были иметь какия-нибудь скрытыя цели.
Во время одного из этих концертов Сергей Салтыков дал мне понять, какая была причина его частых посещений. Я не сразу ему ответила; когда он снова стал говорить со мной о том же, я спросила его: на что же он надеется? Тогда он стал рисовать мне столь же пленительную, сколь полную страсти картину счастья, на какое он разсчитывал; я ему сказала: «А ваша жена, на которой вы женились по страсти два года назад, в которую вы, говорят, влюблены и которая любит вас до безумия, – что она об этом скажет?» Тогда он стал мне говорить, что не все то золото, что блестит, и что он дорого расплачивается за миг ослепления. Я приняла все меры, чтобы заставить его переменить эти мысли; я простодушно думала, что мне это удастся; мне было его жаль. К несчастью, я продолжала его слушать; он был прекрасен, как день, и, конечно, никто не мог с ним сравняться ни при большом дворе, ни тем более при нашем. У него не было недостатка ни в уме, ни в том складе познаний, манер и приемов, какой дают большой свет и особенно двор. Ему было 26 лет; вообще и по рождению и по многим другим качествам это был кавалер выдающийся; свои недостатки он умел скрывать: самыми большими из них были склонность к интриге и отсутствие строгих правил; но они тогда еще не развернулись на моих глазах. Я не поддавалась всю весну и часть лета; я видала его почти каждый день; я не меняла вовсе своего обращения с ним, была такая же, как всегда и со всеми: я видела его только в присутствии двора или некоторой его части. Как-то раз я ему сказала, чтобы отделаться, что он не туда обращается, и прибавила: «Почем вы знаете, может быть, мое сердце занято в другом месте?» Эти слова не отбили у него охоту, а наоборот, я заметила, что преследования его стали еще жарче. При всем этом о милом супруге и речи не было, ибо это было дело известное, что он не любезен даже с теми, в кого он влюблен, а влюблен он был постоянно и ухаживал, так сказать, за всеми женщинами; только та, которая носила имя его жены, была исключена из круга его внимания.
Сергей Салтыков улучил минуту, когда все были заняты погоней за зайцами, и подъехал ко мне, чтобы поговорить на свою излюбленную тему; я слушала его терпеливее обыкновеннаго. Он нарисовал мне картину придуманнаго им плана, как покрыть глубокой тайной, говорил он, то счастье, которым некто мог бы наслаждаться в подобном случае. Я не говорила ни слова. Он воспользовался моим молчанием, чтобы убедить меня, что он страстно меня любит, и просил меня позволить ему надеяться, что я, по крайней мере, к нему не равнодушна. Я ему сказала, что не могу помешать игре его воображения. Наконец он стал делать сравнения между другими придворными и собою и заставил меня согласиться, что заслуживает предпочтения, откуда он заключил, что и был уже предпочтен. Я смеялась тому, что он мне говорил, но в душе согласилась, что он мне довольно нравится. Часа через полтора разговора я сказала ему, чтобы он ехал прочь, потому что такой долгий разговор может стать подозрительным. Он возразил, что не уедет, пока я не скажу ему, что я к нему не равнодушна; я ответила: «Да, да, но только убирайтесь», а он: «Я это запомню», и пришпорил лошадь; я крикнула ему в след: «Нет, нет», а он повторил: «Да, да».
В это время Сергей Салтыков сказал мне, что само небо благоприятствует ему в этот день, доставляя ему возможность дольше любоваться мною, и наговорил еще множество подобных вещей; он уже считал себя очень счастливым, а я не совсем была счастлива; тысяча опасений смущали мой ум и я была, по-моему, очень скучна в этот день и очень недовольна собою; я думала, что могу управлять его головой и своей и направлять их, а тут поняла, что и то, и другое очень трудно, если не невозможно.
Сергей Салтыков вернулся из своего добровольнаго изгнания и сообщил мне приблизительно, в чем дело. Наконец, благодаря своим трудам, Чоглокова достигла цели, и, когда она была уверена в успехе, она предупредила императрицу, что все шло согласно ея желаниям. Она разсчитывала на большия награды за свои труды, но в этом отношении она ошиблась, потому что ей ничего не дали; между тем она говорила, что империя ей за это обязана. Тотчас после этого мы вернулись в город, и в это время я убедила великаго князя прервать переговоры с Данией; я ему напомнила совет гр. Берни, который уже уехал в Вену; он меня послушался и приказал прекратить переговоры без всякаго решения, что и было сделано. После недолгаго пребывания в Летнем дворце мы перешли в Зимний. Мне показалось, что Сергей Салтыков стал меньше за мною ухаживать, что он становился невнимательным, подчас фатоватым, надменным и разсеянным; меня это сердило; я говорила ему об этом, он приводил плохие доводы и уверял, что я не понимаю всей ловкости его поведения. Он был прав, потому что я находила его поведение довольно странным. Нам велели готовиться к поездке в Москву, что мы и сделали. Мы отправились из Петербурга 14 декабря 1752 г. Сергей Салтыков остался там и приехал лишь через несколько недель после нас. Я отправилась из Петербурга с кое-какими легкими признаками беременности.
Глава 21 Мать наследника
Екатерина чуть распустила шнуровку платья. Наследник (о, она не сомневалась в том, что родится мальчик!) несколько раз повернулся, наверняка укладываясь спать, и затих. Великая княгиня погладила живот:
– Спи уж, непоседа!
Волшебные белые ночи подходили к концу, июль уже вступил в свои права. Великая княгиня вышла в сад. Вновь мысли вернулись к тому разговору с Салтыковым.
Тогда, третьего дня, слова камергера были весьма туманными. Собственно, упомянув великого князя, Сергей замолчал вовсе. Еще несколько минут смотрел в сад, ожидая, видимо, ее ответа. Но Екатерина не сказала ни слова. Годы жизни в России приучили ее к сдержанности. Более того, она чувствовала, что в ее натуре появилась преудивительная привычка – не вскрикивать, не восклицать, не вздрагивать, услышав даже самые странные вести. Теперь она на все реагировала чуть поднятыми бровями и внимательным взглядом в лицо говорившего.
Вот и тогда Екатерина, услышав слова Сергея Васильевича, лишь приподняла брови. Тот, стоя спиной, конечно, этого не увидел – иначе непременно пустился бы в объяснения. Но так все прошло в молчании.
Через несколько минут Сергей откланялся, не произнеся более ни слова. Он и в ее покои больше не заходил, должно быть опасаясь расспросов. Однако великая княгиня отсутствию аманта отчего-то радовалась. Екатерина пыталась понять, почему это происходит, но пока ответа не находила. Однако же, однако…
В словах Салтыкова она сразу же услыхала вовсе не то, что тот, вне всякого сомнения, в них вкладывал. Конечно, преступно даже представить, что великого князя, наследника престола, вдруг не стало бы. Это истинная крамола, даже помыслы такие ведут не в крепость, а сразу на эшафот. Но Салтыков прав – многим в этой стране стало бы житься куда спокойнее.
И ей в первую очередь. Императрица, получив наследника, не станет очень уж долго печалиться об утере племянника, ради которого ей приходится содержать немалый штат соглядатаев и воспитателей. Убедившись, что корона будет передана привычным образом, назовет ее, Екатерину, матерью наследника, а, буде решится отойти от дел, регентшей при малолетнем царе.
Что ж, быть регентшей куда лучше, чем просто великой княгиней и осмеиваемой всем двором неугодной женой. Да, даже в таком положении она, Екатерина, сможет наконец применить столь многочисленные знания, кои все эти годы терпеливо собирала, сможет обратить хотя бы часть их на благо страны, которую давно уже считает своей второй родиной, которую полюбила, неожиданно для самой себя, даже больше, чем обещала малышке Фике – себе самой – долгих десять лет назад.
Екатерина прошлась в серебристой тени, вышла из-под деревьев, присела перед клумбой с роскошными пионами, чей тонкий запах столь мало подходил к их скандально неухоженному виду. Придворные садовники, конечно, ни за что бы не высадили столь… недворцовые цветы, если бы Екатерина впрямую не распорядилась об этом. И Елизавета Петровна (вот уж чудо из чудес!) даже разок пришла полюбоваться «сиими простонародными цветами».
Великая княгиня усмехнулась: сейчас императрица готова была позволить невестке вообще все, что угодно, лишь бы получить долгожданного наследника.
«Однако думается мне, что счастье сие долго не продлится. И императрица вновь сделает дворец моею темницею, как только родится малыш».
Что ж, этого следовало ожидать. И наверняка так и произойдет, как бы Екатерина ни мечтала об ином. А уж о том, чтобы самой растить дитя, можно не только не мечтать, даже не вспоминать об этом. Уж слишком долгожданным будет сей отпрыск, слишком нужным высокой политике.
– Бедный ты мой малыш… Прости уж матушку свою. Прости и пойми.
Сынок спал и, конечно, не слышал слов матери. Глубокая тишина белой ночи, однако, странно подействовала на Екатерину. Сон не шел к ней, мысли приобрели какое-то странное направление. В первый раз за последние годы она стала думать о будущем.
Хотя нет, чуточку не так. О будущем она думала всегда, однако не отделяя себя от своей новой семьи, не отделяя собственные интересы от интересов императрицы. Защищалась лишь от нападок великого князя, предугадывать направление мыслей которого так и не научилась.
А сейчас, в тишине ночи, Екатерина вдруг подумала о собственном своем будущем. К сожалению, в нем не будет места радостям воспитания любимого первенца – увы, сие ясно как день было с того мига, когда Елизавета узнала о беременности великой княгини. Но ничего иного ожидать и не приходилось: «Интересы державы, княгинюшка, превыше твоих интересов!»
Не будет в нем и радостей общения с любимым мужем – за неимением такового в принципе. Великого князя и супругом-то можно было называть лишь оттого, что памятны были долгие часы стояния под венцами в церкви.
Однако будут дни и ночи с любимым, даровавшим ей малыша. И, дай-то Бог, он подарит еще не одного.
Но все это мысли лишь о будущем ее как женщины. Жены, матери. А вот что ждет ее как члена императорской фамилии? И ждет ли?
Мысли Екатерины обратились к Елизавете Петровне. Та стала единоличной правительницей в неполных тридцать два, свершив дворцовый переворот, и уже второй десяток лет управляет страной, не допуская к рулю мужчин. Да, Разумовский, ее муж, мудр и рассудителен, да, канцлер Бестужев и врач Лесток думают, что вершат высокую политику. Однако решающее слово-то остается за императрицей. И страна от сего матриархата отнюдь не проигрывает, не впадает в крайнюю бедность, не терпит в сражениях непрерывных поражений. Должно быть, не столь уж сладка участь правительницы, однако же, думается, она зачастую довольна тем, что называет плодами своих усилий.
Но неужели же ей, Екатерине, так и не придется никогда ощутить, что сие такое – отрада при виде успеха своих усилий? Неужели она вот так всю жизнь и просидит в парадных туалетах на троне без всяческого права, кроме права милостиво и молча улыбаться?
Многие годы чтения, письменных бесед с мудрецами родом со всего света сделали разум Екатерины изощренным и критическим. Она вовсе не склонна была идеализировать кого бы то ни было, а уж Елизавету-то Петровну в первую очередь. Однако видела в императрице для себя множество уроков, которые следовало исполнить на отлично.
Великий же князь, наследник престола Петр Федорович, – это Екатерина заметила уже давно – уроков никаких из лет жизни рядом с императрицей для себя не вынес и, вне всякого сомнения, ничего не усвоил, кроме, должно быть, головокружительного вкуса власти как таковой. И вкус этот он ощутил с первых же минут правления, пусть правит он сейчас лишь своим «малым двором» и игрушечными лейб-солдатиками. Как с первых же минут этого странного правления стало отчетливо видно, что именно он будет делать со страной и в какую пропасть может ее увлечь просто тем, что не будет делать ничего. Если же придет ему в голову сотворить хоть что-то, то сие будет более чем ужасно, ибо великий князь привык за образец брать деяния Фридриха Второго, не обращая внимания на то, что Пруссия столь же разительно отличается от России, как король прусский от него, Петра Федоровича, наследника престола российского.
Самое же скверное, что Петр, ставший старше на добрых полтора десятка лет, ни на минуту не повзрослел, оставаясь таким же злобным, капризным и недалеким мальчиком, каким был в Эйтине. И точно так же почитает мнение свое единственно верным, не прислушивается ни к чьим советам, заставляя, впрочем, всех, кого может заставить, плясать под собственную фальшивую дуду. Конечно, не будет он слушать и советов жены. Быть может, ее-то слова он и отвергнет в первую очередь.
Мысли Екатерины, против всякого желания с ее стороны, стали паническими. Но чего будет стоить жизнь-то этой самой жены, стоит лишь Петру прийти к власти? Без сомнения, он и его приспешники весьма быстро найдут и в российской, и в европейской истории более чем многочисленные примеры того, как следует поступать с постылыми венчанными женами для того, чтобы они не мешались под ногами.
Сердце Екатерины забилось быстрее. Да что там с женами! Он и детей-то может за здорово живешь лишить жизни! Просто оттого, что те, выросши, смогут забрать у него трон. Или по любой иной причине.
Да, сие есть уже куда более серьезная опасность. И вероятность того, что Петр решится на убийство или ссылку для жены и детей, взойдя на трон, весьма и весьма велика.
«А Сережа-то нисколько не преувеличил, говоря, что без великого князя многим вздохнется спокойнее».
Да, ни на йоту не преувеличил. Сейчас Екатерину мало интересовал вопрос, собственная ли это мысль Салтыкова, или кто иной подсказал ее. Как бы то ни было, что бы ни двигало Сергеем Васильевичем – искренняя забота о ней и ребенке или иные устремления, – мысль была весьма и весьма разумна. От исчезновения Петра Федоровича страна ничуть не проиграет. А иные из ее подданных даже выиграют.
– Не просто иные, многие…
– Матушка княгиня, что ж это такое! – в дюжине шагов послышался голос камеристки Софьюшки. – Ночь глухая, а вы все бродите, а вы все мечтаете. Спать давно пора, сны сладкие видеть, а вы все в размышлениях. Хорошо хоть мне сердце подсказало, где вас искать! А что было бы, ежели ж вас хватился кто иной?
– Да кому ж я нужна, Софья Васильна, добрая ты душа?
– Не скажи, матушка! Многим нужна! И добрым людям, и злым. И ведь подумать-то могут всякое! Это я знаю, что вы просто в размышлениях о грядущем покоя не знаете. А ить иные могут решить, что вы с полюбовником шашни крутите в саду…
Екатерина расхохоталась.
– Великая княгиня не нашла другого места, как дальние дорожки дворцового сада… Ох, Софьюшка, ну насмеши-и-ила. Однако правда в твоих словах есть – на дворе ночь глубокая, и впрямь пора возвращаться.
Софья еще что-то бормотала о том, что не след так торопливо идти, дитя страшно выронить. А это все же наследник престола! И что скажет лекарь Кирсанов, коему приказано и денно и нощно печься о здоровье наследника и его матери?
– Софья, не глупи! Матушка моя, Иоганна, до последних дней на балах плясала, а мне уже и по саду пройтись нельзя! Иди уж, опочивальню приготовь.
– Да ить давно готово все, Катерина Лексевна!
– Ну вот и ладно! Тогда помолчи, дай подумать в тиши. Иначе выпорю и не поморщусь!
(Ах, Фике, ты ли это?)
«Иные выиграют… И многие! Сие есть чистейшая правда, как ни крути…»
Но она, Екатерина, выиграет более всех. Ибо что может быть дороже сохраненной собственной жизни? Хотя, кроме жизни, она выиграет и еще нечто более чем драгоценное – престол российский, империю, куда можно вложить все силы на благо ее процветания. Вложить без опаски, что каждое из твоих слов будет истолковано превратно, а любое твое повеление отменено в следующий же миг.
Прельстительные, сладостнейшие картины единоличного правления закружились перед глазами Екатерины. Она едва заметила, что уже вернулась во дворец, что Софья закрыла изнутри двери опочивальни, помогла сменить свободное платье на ночную рубаху и чепец. Мысли ее были несказанно далеки от сегодня и сейчас.
«А ведь Сергей-то Василич прав, ох, и прав! Или тот, кто сию забавную мысль в его разум вложил. Вот только, друг ты мой ситный, даже если божеским попущением великий князь и исчезнет, ты на место моего супруга не сядешь. Пусть ты и происходишь из рода древнего, пусть умен, хорош собой и предприимчив, однако не по тебе, Васильев сын, титул великого князя. А уж о титулах более громких и вовсе говорить нечего!»
Екатерина откинулась на подушки. А ведь раньше или позже Петр-то придет к власти – матушка государыня не вечна, как любой человек. И тогда угроза ее жизни вновь станет не пустым философствованием, а вполне реальной опасностью. Как и жизни ее детей – кто бы ни был их родителем, пусть даже сам Петр Федорович.
«Забавно все-таки устроена жизнь… Хочу я этого или нет, но когда-то я буду вынуждена вновь вернуться думами к тому, что тревожит меня сейчас. Вновь на одну чашу весов положить жизнь своего венчанного супруга, а на другую – собственную жизнь. И как бы ни бежала я от этой мысли, она все же меня нагонит…»
А следом за именем Петра пришло в голову великой княгини и еще одно соображение. Пусть не Петр Федорович, которому она не нужна, пусть кто-то иной, но ведь должен же в ее жизни появиться мужчина! Такой, как Разумовский у Елизаветы. Должен появиться не амант, а друг и советчик, опора и душевное отдохновение, единственная любовь и судьба.
«Мне же всего двадцать шесть! Неужто не найдется моего мужчины? Неужто так до конца дней своих суждено искать мне того единственного, о ком душа моя будет тосковать в разлуке и радоваться во всякий совместно прожитый день?»
Пока это все были лишь вопросы, не имеющие ответов. Однако важность размышлений Екатерина чувствовала уже сейчас. Равно как и необходимость принятия решения, быть может, и не сиюминутную.
…Торжествующая Елизавета подхватила на руки наследника престола, закутанного в батистовые пеленки.
– По здорову ли, батюшка?..
Императрица подняла глаза на доктора. Тот кивнул и принялся вытирать руки.
– Младенец совершенно здоров. Думаю, он вырастет в крепкого здорового мальчишку, при этом копию отца.
– Вот и славно, вот и хорошо!..
Елизавета не могла расстаться с малышом и на мгновение – сбылась ее мечта, венец десяти лет упорного труда лежит у нее на руках и… Малыш сморщил нос и громко закричал.
– Да-а, батюшка, кричи! Кричи, касатик! Твой голос отныне первый в России…
– Не надо, – шепотом попросила Екатерина. – Не надо баловать мальчика. Иначе он и впрямь вырастет во всем похожим на отца.
Но государыня уже вышла из натопленных покоев – с малышом на руках и сопровождаемая добрым десятком мамок и нянек. Екатерина осталась одна. В первые минуты после столь важного события рядом не осталось никого из друзей, которые могли бы разделить радость от появления на свет ее сына.
На глаза набежали слезы. «Неужели они оставят меня совсем одну?» Но тут хлопнула дверь в дальние покои – вернулся доктор Кирсанов с большой чашкой в руках.
– Выпей, Софьюшка, это теплый ягодный компот. Тебе нужно сейчас много пить.
Софьюшкой называл ее только он, ее Алеша, доктор, который вот уже год помогал ей и в телесных, и в душевных недугах. Высокий, статный, умелый, заботливый… Временами излишне мягкий… Он с первого же визита заставил ее сердце забиться чаще – таким был и тот Алеша, Темкин.
Далекий, уже почти забытый образ все еще преследовал ее в кошмарах. Опять отголосок далекого пожара будил ее среди ночи. Екатерина уже привыкла к тому, что явление сие предвещает какие-то треволнения. Словно Алеша Темкин предупреждает: будь осторожна, милая моя Фике.
Екатерина пригубила компот. Сладко, но в меру.
Откинулась на подушки, позволила отереть с лица выступивший пот.
– Спасибо, Алеша.
Доктор присел рядом, вглядываясь в лицо великой княгини. В глазах его Екатерина увидела какую-то странную смесь чувств, словно к ликованию примешивалась тоска. Или, быть может, беспокойство.
– Что случилось, мой добрый лекарь?
– Я хочу поговорить с тобой, душа моя. Но боюсь начать – ты еще очень слаба.
– Не бойся, начинай уж.
Алексей, не в силах усидеть, встал, прошелся по комнате, вновь сел, молча взглянул в лицо Екатерины.
– Ах, будь что будет! Свет мой, знаешь ли ты, кто отец твоего сына?
Екатерина из-под ресниц взглянула на доктора.
– Мне ль не знать, душа моя… А вот знаешь ли это ты?
Алексей кивнул – едва младенец родился, он сразу обратил внимание на родимое пятно на плече, прямо над ключицей. Такое было у него самого и у его младшего брата.
– И всегда знала, Лешенька, – продолжила великая княгиня. – Ты оказался рядом в самые тяжелые для меня дни, и ни разу я не услышала слова худого.
– Но отчего же весь дворец гудит, что ты Салтыкову мила? Что он влил новую кровь в голштинские и цербстские вены?
– Потому что так хочется императрице, друг мой. Она, добрая душа, узнав, каков на самом деле ее племянничек, решила за меня решить мою судьбу. И подослала Сергея Василича.
Доктор покачал головой – ему было больно. И больно в первую голову оттого, что Екатерина все столь хорошо понимает. Ведь и его-то тоже попросили быть поближе к великой княгине люди императрицы. «Елизавета Петровна ничего не пускает на самотек…»
– Вот только Сережа-то при всем его обаянии, всей веселости, душевной красоте – человечек мелкий, пустоватый. Не достает ему чего-то очень важного, чтобы я назвала его мужчиной с большой буквы.
– А я?
– А ты, друг мой, в некоторых вещах куда более знаешь, куда более чувствуешь. Тебе я могу довериться – поверь, одному из весьма немногих.
– Но они же все считают Салтыкова отцом наследника! – В голосе Кирсанова звучали отчаяние и обида.
– Да и пусть считают, Алеша. Пусть императрица уверена, что она смогла угадать мои вкусы, пусть Салтыков уверен, что теперь-то я никуда от него не денусь. Пусть великий князь уверен, что теперь-то я ему не буду докучать. Наконец я смогу быть с тем, с кем хочу, а не с тем, с кем обязана!
«Но и ты, мой друг, не радуйся преждевременно… Надолго ли я захочу остаться с тобой – вот что ныне должно более всего беспокоить!»
«Бедная моя Софьюшка, ты, к счастью, не знаешь, что императрица не просто уверена, что угадала твой вкус, она подготовилась к тому, что может и не угодить тебе, с первого-то раза!..»
Екатерина поудобнее устроилась на подушках – все тело болело, словно она не один час таскала по дворцовому саду тяжелые камни.
– Еще попить?
Великая княгиня кивнула. Что-то беспокоило ее в поведении Алексея. Она чувствовала, что и этот человек сейчас выискивает для себя выгоду в новом положении. Быть может, оттого, что ревнует к возможным преимуществам, которые, как ему кажется, обретет Салтыков? Или жалеет, что не ему достанется непростая слава отца наследника престола?
– Но с кем же ты хочешь быть, матушка княгиня?
– Сейчас, друг мой, только с самыми близкими мне людьми.
Екатерина, конечно, чувствовала, что Алексей спрашивает совсем о другом. Но серьезные разговоры об эту пору заводить было не к месту и не ко времени. Да и велика ли честь – воспользоваться женской слабостью для выпрашивания каких бы то ни было привилегий?
– Это отрадно, душа моя Катюша… – вполголоса проговорил доктор. – А верно ли сказывают, что Салтыков отставлен от двора?
– Верно и неверно. Ему поручено дело важнейшее – с депешами императрица отослала Сергея Васильевича к шведскому двору. Должно быть, он уже достиг столицы. А если и не достиг, то со дня на день передаст верительные грамоты королю.
– Так вот отчего я не вижу графа уже месяц при малом дворе!
– Так он, поди, уже больше двух месяцев как покинул столицу.
«И это просто прекрасно – его мечтания о том, чтобы стать супругом царицы, были слишком утомительны…»
– Помоги мне, Алеша!
– Тебе нельзя вставать, матушка!
– Я и не собираюсь, просто спина затекла, лягу чуть повыше, и все.
– Больше двух месяцев… Но, должно быть, гонец-то отправлен к нему, дабы сообщить о рождении сына?
– О нет. – Улыбка Екатерины стала жестокой. – Гонец отправлен, чтобы сообщить Европе о рождении наследника престола. Да и разве может быть иначе?
– Однако он примчится, как только сможет!
– Нет, он не посмеет. Наказы, данные ему, удержат его вдалеке от России ровно столько, сколько будет потребно!
– Это жестоко, Екатерина.
– Это политика, Алеша…
– Самая жестокая из всех жестокостей…
– Ты прав, друг мой! И здесь, в стенах дворца, навсегда умолкают любые чувства, кроме одного: нужно для страны!
Екатерина произнесла это и поняла, что говорит от чистого сердца. Да, Алексей ей не противен, отнюдь. В его объятиях она пережила лучшие мгновения своей жизни, благодаря ему стала матерью. Но сейчас, она чувствовала это, все в прошлом. Теперь она свободна! И ее свобода не в том, что она может избирать себе аманта, сообразуясь со своим собственным вкусом, а не с соображениями династического толка, а в том, что она может планировать саму свою жизнь, сообразуясь с собственными понятиями о необходимости и справедливости.
Физически она была невероятно слаба – как новорожденный котенок. Однако духом – Екатерина чувствовала это – удивительно, сказочно сильна. О, сейчас она могла планировать все! И понимала, что сможет добиться осуществления любого из своих планов.
Но тут великая княгиня с удивлением прислушалась сама к себе. В этих планах было все: университеты и школы, победоносные сражения и долгие годы мира. Но не было лишь мужчины, который может встать рядом с ней, дабы вместе они создали неделимое целое.
Екатерина усмехнулась: мало найдется мужчин, столь же сильных духом, как женщина. А потому обретение такого даже самой царицей – дело ох какое непростое. И быть может, пройдет не один год, прежде чем такой мужчина появится.
Конечно, это не ее несчастный муж – взрослое дитя, который до сих пор не может вдоволь наиграться в свои игрушки. Не Салтыков, навсегда отставленный от двора и прекрасно понимающий, что возврата ему нет, быть может, ошибочно вздумавший, что виной тому тот разговор об исчезновении Петра Федоровича. Не ее добрый доктор Кирсанов, с нежной душой, с отнюдь не бойцовским характером. Нет, не видала она еще мужчину столь же сильного, как она сама, столь же уверенного, как она сама, строящего столь же обширные планы, кои строит она.
И только тут Екатерина поняла, что готова быть императрицей, готова править страной, отдавая ей всю себя. Править в одиночку – ибо на это есть и силы, и желание. Что такое правление, подобное правлению императрицы Елизаветы, сулит множество отрадных и спокойных лет. Пусть оно будет не лишено ошибок, однако сии ошибки будут не чета тем, какие сможет совершить оказавшийся императором «голштинский дурачок».
Но что же сказать Алексею? Да и следует ли хоть что-то говорить? Особенно сейчас, в первые часы после рождения их малыша? Наверно, лучше сейчас не думать ни о чем, отдохнуть немного, набраться сил.
И хорошо, что рядом нет ни фрейлин, ни череды бормочущих лекарей, никого. Хорошо, что рядом только Алексей, с которым можно молчать и думать. Думать, увы, не о нем и видеть перед собой будущее, слишком… высокое и недоступное для него.
«Но сейчас я тебе этого говорить не буду… Я хочу просто отдохнуть!..»
Екатерина откинулась на подушки и прикрыла глаза. Сон незаметно окутал ее.
А Алексей все так же вглядывался в ее лицо, надеясь услышать, что уж теперь-то ему уготована участь много выше нынешней…
Из «Собственноручных записок императрицы Екатерины II»
…пришла графиня Шувалова, вся разодетая. Увидев, что я все еще лежу на том же месте, где она меня оставила, она вскрикнула и сказала, что так можно уморить меня. Это было очень утешительно для меня, уже заливавшейся слезами с той минуты, как я разрешилась, и особенно от того, что я всеми покинута и лежу плохо и неудобно, после тяжелых и мучительных усилий, между плохо затворявшимися дверьми и окнами, при чем никто не смел перенести меня на мою постель, которая была в двух шагах, а я сама не в силах была на нее перетащиться. Шувалова тотчас же ушла, и, вероятно, она послала за акушеркой, потому что последняя явилась полчаса спустя и сказала нам, что императрица была так занята ребенком, что не отпускала ее ни на минуту. Обо мне и не думали. Это забвение или пренебрежение по меньшей мере не были лестны для меня; я в это время умирала от усталости и жажды; наконец меня положили в мою постель и я ни души больше не видала во весь день, и даже не посылали осведомиться обо мне. Его Императорское Высочество со своей стороны только и делал, что пил с теми, кого находил, а императрица занималась ребенком. В городе и в империи радость по случаю этого события была велика.
Кроме того, я не любила, чтобы меня жалели, и не любила жаловаться; у меня была слишком гордая душа, и одна мысль быть несчастной казалась мне невыносимой. До тех пор я делала все, что могла, чтобы не казаться таковой.
Наконец великий князь, скучая по вечерам без моих фрейлин, за которыми он ухаживал, пришел предложить мне провести вечер у меня в комнате. Тогда он ухаживал как раз за самой некрасивой: это была графиня Елизавета Воронцова; на шестой день были крестины моего сына; он уже чуть не умер от молочницы. Я могла узнавать о нем только украдкой, потому что спрашивать об его здоровье значило бы сомневаться в заботе, которую имела о нем императрица, и это могло быть принято очень дурно. Она и без того взяла его в свою комнату, и, как только он кричал, она сама к нему подбегала и заботами его буквально душили. Его держали в чрезвычайно жаркой комнате, запеленавши во фланель и уложив в колыбель, обитую мехом чернобурой лисицы; его покрывали стеганым на вате атласным одеялом и сверх этого клали еще другое, бархатное, розоваго цвета, подбитое мехом чернобурой лисицы. Я сама много раз после этого видела его уложеннаго таким образом, пот лил у него с лица и со всего тела, и это привело к тому, что когда он подрос, то от малейшаго ветерка, который его касался, он простужался и хворал. Кроме того, вокруг него было множество старых мамушек, которыя безтолковым уходом, вовсе лишенным здраваго смысла, приносили ему несравненно больше телесных и нравственных страданий, нежели пользы.
В самый день крестин императрица после обряда пришла в мою комнату и принесла мне на золотом блюде указ своему Кабинету выдать мне сто тысяч рублей; к этому она прибавила небольшой ларчик, который я открыла только тогда, когда она ушла. Эти деньги пришлись мне очень кстати, потому что у меня не было ни гроша и я была вся в долгу; ларчик же, когда я его открыла, не произвел на меня большого впечатления: там было очень бедное маленькое ожерелье с серьгами и двумя жалкими перстнями, которые мне совестно было бы подарить моим камерфрау. Александр Шувалов пришел мне сказать, что ему приказано узнать от меня, как мне понравился ларчик; я ему ответила, что все, что я получала из рук Ея Императорскаго Величества, я привыкла считать безценным для себя. Он ушел с этим комплиментом очень веселый.
Глава 22 Прельстительный шелест страниц
И вновь нам надлежит покинуть опочивальню, где Екатерина отдыхает после рождения наследника, и вернуться на годы назад, к тем дням, когда Фике – еще Фике! – только завоевывала доброе отношение императрицы и двора.
Ко двору Елизаветы Петровны прибыл граф Гилленборг, официальный посланник двора Швеции. Он прибыл в Россию, чтобы оповестить о женитьбе наследника шведского престола Адольфа-Фридриха, дяди Екатерины, на прусской принцессе Ульрике. С графом, известным книжником и мудрецом, Фике встречалась в Гамбурге, и молодой дипломат (тогда ему было тридцать два года) за несколько минут был очарован умом этой девочки.
Ныне же граф почти не узнавал ее.
– Мадемуазель, вы только и думаете что о нарядах, – между фигурами обязательного котильона прошептал он, на всякий случай переходя на французский, который при дворе императрицы Елизаветы особо не жаловали. – Ваша любовь к роскоши понятна. Она происходит от скудности вашего детства. Но сие есть лишь мишура, уверяю вас. Вернитесь в естественное состояние вашей души. Вы рождены для великих деяний, а здесь ведете себя как ребенок. Готов спорить на собственное годичное жалованье: с тех пор как вы в России, вы и книгу в руках не держали!
– Увы, граф, вы проиграли свое жалованье, даже не поставив его на кон. – Фике подала руку для второй фигуры. – Хотя, тут уж следует признать вашу правоту, по большей части это были книжки препустые: романчики о высоких чувствах или о приключениях в далеких странах, кои, впрочем, также происходили из-за высоких, но не понятых предметом страсти чувств…
Граф тонко улыбнулся. Да, годы прошли, но острый ум девушки никуда не исчез: он словно спит в ожидании дня, когда понадобится.
– Мадемуазель, я счастлив этим проигрышем. – Вторая фигура плавно перешла в пассе из шестнадцати шагов. – Вы уже понимаете, что тратите цвет своего разума впустую. Осталась самая малость: обратиться от высоких чувств к высоким мыслям, отставив романы, пусть ненадолго, ради подлинно мудрых произведений.
– Быть может, сударь мой, вы подскажете, к чему обратить свой разум, дабы вернуться в естественное состояние души моей? С чего начать?
– О, это просто, герцогиня, начните с великого Монтескье. Сей мудрый муж, раздумывая о веках прошедших, множество дельных советов дает тем, кто живет ныне.
– Монтескье?
– Да, «Жизнь Цицерона» или, быть может, для начала все же «Размышления о причинах величия и падения римлян».
Третья фигура подошла к концу. Вскоре закончился и котильон. Граф проводил великую княгиню к ее месту и поклонился.
– Счастлив буду, сударыня, если вы окажете мне сегодня честь еще раз танцевать с вами.
– Это будет честью и для меня, ибо не только отрада для тела, но и великое удовольствие для разума есть беседа с вами, граф.
Гилленборг церемонно поклонился и отошел к столику с пуншем. «О, какой может стать страна, если эта девочка станет для императора подлинным другом и советчиком! И сколь выиграет император, если сумеет воплотить советы ее в жизнь!»
Конечно, ни графу, да и вообще никому и в голову не могло прийти, что принцесса Ангальт возжелает самолично править страной. Как, впрочем, не думала об этом и сама Фике. На том балу она еще дважды танцевала с Гилленборгом. Хотя куда правильнее было бы сказать, что они беседовали между фигурами танцев.
Мудрость совсем нестарого дипломата столь поразила девушку, что она на следующее же утро и в самом деле раскрыла «Размышления…». Хотя уместнее здесь было бы сказать, что девушка набросилась на эти серьезнейшие книги, как изголодавшийся на фруктах тигр, наконец догнавший пугливую серну. Фике с наслаждением вкушала общение с великими умами, не остановившись на одном лишь Монтескье. Она не раз обращалась за советом к Ивану Бецкому, вернувшемуся в Россию. Тот, к своей чести, не удивлялся столь необычному для девушки выбору. Лишь, передавая Фике книги великих мудрецов, он всегда советовал не читать их как дешевые любовные романы – останавливаться, обдумывать прочитанное, быть может записывая в дневник мысли, которые при этом приходят на ум.
Девушка следовала и этим советам. Через несколько недель она нашла в себе силы взглянуть и на самое себя и написала эссе, которое решилась назвать «Портрет пятнадцатилетнего философа». И отослала это эссе графу, приложив просьбу указать на ошибки и присовокупить иные замечания. Граф Гилленборг труд прочел трижды – он к этому сочинению отнесся крайне серьезно. В восхищении возвратил труд автору, приложив двенадцать страниц замечаний с комментариями, коими хотел возвысить и укрепить дух невесты великого князя.
Передавая замечания, Гилленборг произнес:
– Вы можете разбиться о встречные камни, если только душа ваша не закалится настолько, чтобы противостоять опасностям.
Судя по событиям последующих лет, будущая Екатерина совет этот запомнила на всю жизнь…
Одинокая во дворце, Фике была счастлива, что нашелся такой добрый учитель. Она раз за разом читала и перечитывала его рекомендации, проникалась ими… Следуя советам графа и подсказкам Бецкого, все глубже окуналась в мир серьезной философской литературы, мир исторических исследований. Ей всего шестнадцать, но ее разум ничуть не уступает разуму мужчин вдвое старше, а по изворотливости значительно их превосходит. Но, увы, девушке всего шестнадцать, и она по-прежнему мечтает удивить свет своей культурой и благородством.
Она ни на секунду не подумала отказываться от слова, данного при обручении, хотя новоиспеченный муж, переболев оспой, стал вызывать откровенное отвращение. Ведь вышла замуж она не за человека с изрытым лицом, а за того, кто страною владеть будет. Не зря же тогда в ее дневниках появились записи подобного рода: «Принципом моим стало нравиться людям, с которыми мне предстояло жить. Я усваиваю их манеру поступать и вести себя, я хочу быть русской, чтобы русские меня полюбили».
Однако, как бы ни старалась Фике нравиться тем, кто жил бок о бок с ней, отношение к Ангальтской принцессе было зеркалом отношения Елизаветы: стоило ей высказать недовольство, как двор поворачивался спиной к девушке, а стоило императрице мило побеседовать с будущей великой княгиней, как у Фике появлялись десятки верных закадычных друзей. Ума Софье было не занимать, она с легкостью читала все эти движения и даже находила в себе силы улыбаться прозрачности их помыслов.
А в дневнике в те дни появилась еще одна запись: «Я стараюсь не показывать никакого сближения с кем-либо, стараюсь ни во что не вмешиваться. Стараюсь иметь ясное лицо и доброжелательный взгляд, быть всегда предупредительной и внимательной ко всем, со всеми равно вежливой… Мечта моя – делать все, чтобы завоевать любовь народа».
Следуя советам Гилленборга, в чем-то пытаясь противопоставить себя пустым дамам с их временами препустейшей болтовней, юная принцесса училась. Она читала взахлеб, причем отдавала предпочтение сочинениям, которые могли бы вызвать ужас у многих мужчин и несомненное уважение у люда ученого: историков, философов, естествоиспытателей. Платон и Монтескье, Цицерон и Бейль… Тацит, «Записки» Брантома и Вольтер, «Энциклопедия» Дидро и Д’Аламбера, «История Генриха IV» Перефикса и «Церковная история» Барония, «История Германии» отца Бара… Не самое легкое чтение, менее всего подходящее юной девушке. Однако труды эти ею были не просто осилены – она перечитала их несколько раз. И через много лет вновь возвращалась к ним, чтобы несколько «привести мысли в порядок», как записала уже в поздних дневниках.
Однако, думается, сейчас пришла пора заглянуть в эти записки. Сделанные не для публики, а исключительно для себя, они куда больше скажут нам, чем сотни описаний. Сама великая княгиня описала свой характер и свои намерения куда отчетливее, чем сотни историков и жизнеписателей, заработавших немалое состояние на славословиях в адрес Екатерины. Стоит привести кое-какие отрывки…
«Когда на своей стороне имеешь истину и разум, тогда это следует высказывать перед народом, объявляя ему, что такая-то причина привела меня к тому-то; разум должен говорить за необходимость. Будьте уверены, что он победит в глазах большинства».
«Я хочу, чтобы страна и подданные были богаты; вот начало, от которого я отправляюсь».
«Свобода – душа всего на свете, без тебя все мертво. Хочу повиновения законам; не хочу рабов; хочу общей цели – сделать счастливыми, но вовсе не своенравия, не чудачества, не жестокости, которые несовместимы с нею».
«Власть без доверия народа ничего не значит. Легко достигнуть любви и славы тому, кто этого желает: примите в основу ваших действий, ваших постановлений благо народа и справедливость, никогда не разлучные. У вас нет и не должно быть других видов. Если душа ваша благородна, вот ее цель».
«Хотите ли вы уважения общества? Приобретите доверие общества, основывая весь образ ваших действий на правде и общественном благе».
Эти слова принадлежат молодой и привлекательной женщине, а не умудренному старцу. Как же, должно быть, ей было больно, когда она видела, что ее усилия имеют обратное действие, а ее мечты разбиваются о лень и равнодушие сподвижников. Вернее, тех, кого она числила своими сподвижниками. Быть может, здесь мы и найдем ответ на вопрос, кого же искала красивая молодая женщина, какого мужчину хотела видеть рядом.
Мы возвращаемся к великой княгине Екатерине, напоследок решившись еще на одну цитату. Со времен бала и беседы на балу с Гилленборгом прошло два десятка лет. В одном из писем того времени Екатерина писала графу: «Я считаю себя очень и очень обязанной вам, и если имею некоторые успехи, то в них вы участвуете, так как вы развили во мне желание достигнуть до совершения великих дел».
Сильная и красивая, она помнит своих учителей, в ее душе велика благодарность. И у нее достало сил, чтобы эту благодарность выразить вслух.
Из «Собственноручных записок императрицы Екатерины II»
Немного времени спустя приехал еще граф Гюлленборг, чтобы объявить императрице о свадьбе Шведского наследного принца, брата матери, с принцессой Прусской. Мы знали этого графа Гюлленборга; мы видели его в Гамбурге, куда он приезжал со многими другими шведами во время отъезда наследного принца в Швецию. Это был человек очень умный, уже немолодой, и которого мать моя очень ценила; я же была ему некоторым образом обязана, потому что в Гамбурге, видя, что мать мало или вовсе не обращает на меня внимания, он ей сказал, что она не права и что я, конечно, ребенок гораздо старше своих лет.
Прибыв в Петербург, он пришел к нам и сказал, как и в Гамбурге, что у меня философский склад ума. Он спросил, как обстоит дело с моей философией при том вихре, в котором я нахожусь; я рассказала ему, что делаю у себя в комнате. Он мне сказал, что пятнадцатилетний философ не может еще себя знать и что я окружена столькими подводными камнями, что есть все основания бояться, как бы я о них не разбилась, если только душа моя не исключительного закала; что надо ее питать самым лучшим чтением, и для этого он рекомендовал мне «Жизнь знаменитых мужей» Плутарха, «Жизнь Цицерона» и «Причины величия и упадка Римской республики» Монтескье.
Я тотчас же послала за этими книгами, которые с трудом тогда нашли в Петербурге, и сказала ему, что набросаю ему свой портрет так, как себя понимаю, дабы он мог видеть, знаю ли я себя или нет. Действительно, я изложила на письме свой портрет, который озаглавила: «Портрет философа в пятнадцать лет», и отдала ему. Много лет спустя, и именно в 1758 году, я снова нашла это сочинение и была удивлена глубиною знания самой себя, какое оно заключало. К несчастью, я его сожгла в том же году, во время несчастной истории графа Бестужева, со всеми другими моими бумагами, боясь сохранить у себя в комнате хоть единую. Граф Гюлленборг возвратил мне через несколько дней мое сочинение; не знаю, снял ли он с него копию. Он сопроводил его дюжиной страниц рассуждений, сделанных обо мне, посредством которых старался укрепить во мне как возвышенность и твердость духа, так и другие качества сердца и ума. Я читала и перечитывала несколько раз его сочинение, я им прониклась и намеревалась серьезно следовать его советам. Я обещала это себе, а раз я себе обещала, не помню случая, чтобы это не исполнила. Потом я возвратила графу Гюлленборгу его сочинение, как он меня об этом просил, и, признаюсь, оно очень послужило к образованию и укреплению склада моего ума и моей души.
С тех пор как я была замужем, я только и делала, что читала; первая книга, которую я прочла после замужества, был роман под заглавием «Tiran le blanc», и целый год я читала одни романы; но, когда они стали мне надоедать, я случайно напала на письма г-жи де Севинье: это чтение очень меня заинтересовало. Когда я их проглотила, мне попались под руку произведения Вольтера; после этого чтения я искала книг с большим разбором.
В течение этого лета, за неимением лучшего и потому, что скука у нас и при нашем дворе все росла, я больше всего пристрастилась к верховой езде; остальное время я читала у себя все, что попадалось под руку.
В десять часов, а иногда и позже, я возвращалась и одевалась к обеду; после обеда отдыхала, а вечером или у великого князя была музыка, или мы катались верхом. Приблизительно через неделю такой жизни я почувствовала сильный жар и голова была тяжелая; я поняла, что мне нужен отдых и диета. В течение суток я ничего не ела, пила только холодную воду и спала две ночи столько, сколько могла, после чего стала вести тот же образ жизни и чувствовала себя очень хорошо. Помню, что я читала тогда «Записки» Брантома, которые меня очень забавляли…
Я переехала из Летнего дворца в зимнее помещение с твердым намерением не выходить из комнаты до тех пор, пока не буду чувствовать себя в силах победить свою ипохондрию. Я читала тогда «Историю Германии» и «Всеобщую историю» Вольтера. Затем я прочла в эту зиму столько русских книг, сколько могла достать, между прочим два огромных тома Барониуса, в русском переводе; потом я напала на «Дух законов» Монтескье, после чего прочла «Анналы» Тацита, сделавшие необыкновенный переворот в моей голове, чему, может быть, немало способствовало печальное расположение моего духа в это время. Я стала видеть многие вещи в черном свете и искать в предметах, представлявшихся моему взору, причин глубоких и более основанных на интересах.
Глава 23 Прощание
– Екатерина Алексеевна, матушка! Проснитесь!
Екатерина с трудом открыла глаза. За окном стояла глухая ночь. Однако присущая ей сдержанность все же удержала девушку от того, чтобы наказать ни в чем не повинную Софью. Та ни за что бы не потревожила ее без крайней нужды.
– Что там?
– Не гневайся, матушка…
– Да господь с тобой, Софья. Нешто ж я вовсе ничего не понимаю? Что случилось?
– Дурные вести, матушка, страшные. От императрицы за тобою прислали, велят сей же секунд…
– Ох ты беда…
Да, это была беда. Императрица Елизавета, увы, как все мы, не становилась моложе. И здоровье ее временами вызывало серьезное беспокойство не только у докторов, что пользовали императрицу, но даже у людей почти посторонних: приступы головокружения, дни, когда она ничего не помнила, едва могла устоять на ногах, становились все чаще.
Как-то Екатерина услышала слова лейб-медика, сказанные ее доктору, добрейшему Алеше Кирсанову:
– А чего же вы хотели, коллега? Годы, неумеренность крайняя, странствия эти в Лавру, а потом невоздержанность, отмоленная наперед… Не молодица, чай. Вести себя аки пятнадцатилетняя дворовая девка уж только во вред, а матушке меру знать надобно.
Умница Кирсанов тогда лишь улыбнулся – от императрицы ожидать воздержанности было просто нелепо.
Однако сейчас, торопясь по коридору в сторону покоев императрицы, Екатерина склонна была простить той любую невоздержанность – лишь бы Елизавета Петровна как можно скорее выздоровела. Уж великая-то княгиня отлично представляла, что случится, если императрица покинет сей мир. Представляла, похоже, много лучше кого бы то ни было.
Да, порой Елизавета вела себя с ней как со злейшим врагом, порой ласкала ее, как любимую дочь. Но всегда при этом служила для Екатерины примером для подражания, ибо она была императрицей, властительницей великой страны. Однако оставалась при этом женщиной – заботливой и ранимой, взбалмошной и властной, всякой… Хотя всего этого, конечно, мало, чтобы объяснить беспокойство, которое сейчас буквально разрывало душу Екатерины.
Вот она миновала последний поворот – и только тут поняла, что за эти долгие годы привязалась к императрице, как можно привязаться если не к матери, то к тетушке или старшей сестре. Она приняла Елизавету Петровну в свою душу – и теперь именно о здоровье близкой родственницы столь сильно тревожилась.
Лакеи предупредительно распахнули дверь – ее появления, похоже, ждали и достаточно нетерпеливо. По бесценным текинским коврам мерил шаг Алексей Разумовский, любимый муж императрицы.
– Ну вот и ты, дитятко, – он распахнул объятия. – Мужайся, дитя, плоха Лизанька, ох, плоха. Оттого и желает видеть тебя, повелела не только с постели поднять, а даже из объятий аманта вытаскивать…
– Полно, граф, я понимаю. Опять головокружения?
Разумовский кивнул.
– На ногах матушка не стоит совсем, в голове все перемешалось, временами в беспамятство впадает. Кровопускание уж третье делают со вчерашнего утра. Однако не помогает… Ты войди, она уже сколько раз спрашивала о тебе…
Екатерина вошла, стараясь ступать потише.
– Ну наконец, – проворчала Елизавета. – Где гулять изволила, княгинюшка? Из чьих объятий я тебя вынула?
– Ох, матушка императрица… – Екатерина только головой покачала.
Да, как бы тяжко ни хворала Елизавета, но дух ее был более чем бодр. «И этому ты тоже меня научила, добрая моя императрица» – такое, конечно, вслух Екатерина произнести не могла.
– Не жалей, дитя, не жалей меня. Это мне надобно жалеть вас, добрые мои детушки. И тебя особенно, голубицу. Хотя не всегда ты мне и мила была. Но теперь-то уж глупо счеты сводить, мелочами мериться.
– Добрая моя матушка, – великая княгиня опустилась на колени перед ложем императрицы.
Та положила руку на голову невестки.
– Дитя мое, – голос императрицы был слышен только Екатерине. – Не время сейчас об этом. Утри слезы. Хочется мне сказать тебе многое, однако чувствую – не успею…
Увидев, что Екатерина хочет возразить, Елизавета чуть заметно качнула головой.
– Не спорь, дитя. Для этого тоже времени нет. А потому слушай, не перебивай и постарайся запомнить каждое мое слово…
Императрица облизнула разом пересохшие губы. Великая княгиня подала ей высокий бокал, и та сделала пару глотков.
– Спасибо, доченька… Слушай же, княгинюшка, меня внимательно. Да, я много раз серчала на тебя, много чего горького и злого наговорила тебе. Однако с отрадой всегда видела твою кротость. Видела, что ты готова сказать мне в ответ множество гадких и нелицеприятных слов, однако сдерживаешься. И за это я тебе благодарна.
Екатерина кивнула, но не удержалась от слез – каждое из слов императрицы могло стать последним.
– Не след плакать, Катенька. Силы береги. Дитя, тебе я могу сказать все как есть. Ибо в племяннике своем не нашла я качеств, кои мужчине надобны и кои царя от ребенка отличают. А в тебе нашла – и силу душевную не женскую, и терпение, и мужество. Уж о разуме не буду упоминать – не всякий ученый в летах с тобою сравниться может.
– Матушка… Поберегите силы!
– Не ко времени сии слова, дурочка! Слушай дальше. Невероятно велика Россия, невероятно обширна. И столь верна своим привычкам, что и сотни лет здоровья не хватит, чтобы ее от любой из них отучить.
– Ох…
– Воистину. Одной из скверных сих привычек нахожу я привычку видеть на троне лицо мужеска полу. Пусть он туп и глуп, однако сие есть самодержец, царь. А мы кто? Бабы глупые да нерадивые…
Екатерина молча утерла текущие слезы. Сейчас не время было спорить – да и незачем. Ежели выздоровеет Елизавета, вот тогда и поспорим. Серые губы императрицы дрогнули.
– А потому прошу я тебя, дитя мое, стань Петруше, дурачку голштинскому, советчицей строгой и наставницей во всех его делах. Буде великий князь не станет тебя слушать, найми людей, чтобы мешали они ему шпицрутены свои разводить да в солдатики до седых волос играть.
– Но как же это? – Екатерина более чем изумилась. Менее всего она ожидала, что императрица решится на столь откровенный разговор. А уж подобных слов и вовсе боялась…
– Да вот так! Панина смени, не дело императору воспитателя иметь. Или хоть должность его назови достойно. Пусть внешне все будет как народу привычно – император правит, советники советуют, жена детей рожает на радость стране…
Екатерина невольно скривила губы, и Елизавета усмехнулась в ответ.
– Однако же пусть на самом деле все обстоит совсем иначе. Тебе, дочь моя, править! А Петруше на троне сидеть да дальше дворца носа не казать. И чем быстрее ты сие все устроишь, тем лучше для тебя станет.
– Ох, матушка…
– И еще, дитя. Во имя великой цели, как ни прискорбно, часто приходится многим жертвовать. И чем выше стоишь, тем большим жертвуй. Так было с рождением Павлуши… Да не перебивай, глупая девка!
Екатерина кивнула. Ох, она все уже давно знала. И после не одного дня в слезах все-таки пришла к мысли, что императрица и здесь оказалась права. Пусть и использовав для достижения своих целей ее чувства. Но урок… Да, урок вышел отменнейший. Кроме прочего показавший цену многим, коих Екатерина числила среди своих душевных друзей.
– Знаю, что ты усвоила мой урок, дочь моя. Усвой же и следующий: править может кто-то один. Ежели мужчина на роль властелина не пригоден, то жена его должна взять все в свои руки. Однако же взять так, чтобы никому, кроме горстки самых близких, об этом ничего известно не стало. Запомнишь ли?
Екатерина кивнула. Такие слова нельзя будет забыть и на смертном одре. Однако оказалось, что Елизавета еще не все сказала.
– И еще об одном прошу я тебя. Нет, я тебе приказываю. Не оставь Россию с одним только наследником! У Павлуши должны появиться братья и сестры! Трон по праву рождения будет принадлежать ему, однако не дело ему расти в окружении одних лишь учителей и наставников. Я, по глупости своей, отобрала у него мать, ну так пусть у него хоть братья с сестрами будут. Мне все равно, кто станет их отцом. Однако трон не должен опустеть ни в коем случае!
Императрице становилось все хуже. Она крепко держала невестку за руку и все говорила… говорила… говорила…
Екатерина устала уже и бояться того, что любое из слов Елизаветы услышит посторонний. Теперь, видя смертную тень на лице императрицы, она желала лишь одного – появления докторов, которые бы чудесным образом вновь вернули дочери Петровой силы и здоровье. Любому человеку свойственно верить в сказки, особенно в сказки со счастливым концом.
– И еще одно, Катюша. Ежели станет ясно тебе, что Петр ни на что не годен вовсе, так и сошли его в крепость, как папенька мой жену свою сослал. Пусть доживает в каменном мешке, если уж у него не хватит ума царем хотя бы для виду оставаться. Помни всегда: ты сделалась моей наследницей не для виду, а по сути своей!
И тебе, а не кому-то там, – она сделала худой рукой знак, долженствующий означать всех за стенами опочивальни, – я сейчас завещаю страну. Будь ей верна, положи жизнь свою на ее процветание. Используй для этого любые средства, но не дай Петру изувечить великую державу!
Екатерина, обмирая от ужаса, слушала императрицу. Та даже не знала, как близка ей мысленно ее невестка, не ведала о зароках, которые та еще девочкой дала себе.
– А теперь, дочь моя, подлинное мое дитя, ступай. Да позови отца Симона, близок мой час. Иди! И помни о своем обещании!
– Матушка!
– Ступай, деточка, ступай. С тобой моя любовь будет. Береги ее, береги страну… Прощай…
Пальцы императрицы ослабли, она впала в беспамятство. Только сейчас Екатерина смогла встать с колен. С трудом она выпрямилась, сделала шаг к двери.
Услышав это, в опочивальню вошел Разумовский.
– Нужен доктор, граф. Я поспешу…
– Делай как знаешь, дитя. Но не думаю, что надо торопиться. Матушка наша ждала только тебя. Сейчас она успокоилась, передав тебе все, что хотела.
– Так вы знаете?
– Мы с Лизанькой прожили не один десяток лет, дитятко. Кому, как не мне, знать, что за мысли тревожили ее в последнее время, о чем было ее беспокойство. Ступай за докторами. Но помни наказы дочери Петровой.
Екатерина выбежала в гостиные покои. Лейб-медики тут же вскочили, бросились туда, откуда она выскочила, закрыли за собой двери.
Но надежда уже оставила Екатерину. Да, граф Алексей Григорьевич прав: подлинное завещание императрицы было адресовано ей одной, принцессе Ангальт-Цербсткой, которая сумела оправдать надежды этой великой женщины. И теперь в ее руках, руках Екатерины Алексеевны, судьба великой державы, что бы ни утверждали придворные лизоблюды.
Слезы, стоявшие в глазах Разумовского, были тому лучшим подтверждением – он уже оплакал потерю своей императрицы и тайной супруги. И теперь ей, жене наследника престола, осталась лишь одно: в одиночку оплакать смерть своей духовной матери и наставницы, дочери великого царя.
Из «Собственноручных записок императрицы Екатерины II»
Императрица ходила взад и вперед по комнате, то обращаясь ко мне, то к своему племянничку, а еще чаще – к графу Александру Шувалову, с которым великий князь большею частью говорил, между тем как императрица говорила со мною. Я уже сказала, что заметила в Ее Императорском Величестве меньше гнева, чем озабоченности.
Что же касается великого князя, то он проявил во время этого разговора много желчи, неприязни и даже раздражения против меня; он старался, как только мог, раздражить императрицу против меня; но так как он принялся за это глупо и проявил больше горячности, нежели справедливости, то он не достиг своей цели, и ум и проницательность императрицы стали на мою сторону.
Она слушала с особенным вниманием и некоторого рода невольным одобрением мои твердые и уверенные ответы на выходившие из границ речи моего супруга, по которым было ясно, как день, что он стремится к тому, чтобы очистить мое место, дабы поставить на него, если это возможно, свою настоящую любовницу. Но это могло быть не по вкусу императрице и даже, может быть, не в расчетах господ Шуваловых подпасть под власть графов Воронцовых, но это соображение превышало мыслительные способности Его Императорского Высочества, который верил всегда всему, чего желал, и отстранял всякую мысль, противную той, какая над ним господствовала. И он так постарался, что императрица подошла ко мне и сказала мне вполголоса: «Мне надо будет многое вам еще сказать; но я не могу говорить, потому что не хочу вас ссорить еще больше», а глазами и головой она мне показала, что это было из-за присутствия остальных. Я, видя этот знак задушевного доброжелательства, который она мне давала в таком критическом положении, была сердечно тронута и сказала ей также очень тихо: «И я также не могу говорить, хотя мне чрезвычайно хочется открыть вам свое сердце и душу». Я увидела, что то, что я ей сказала, произвело на нее очень сильное и благоприятное впечатление.
У нее показались на глазах слезы, и, чтобы скрыть, что она взволнована и до какой степени, она нас отпустила, говоря, что очень поздно, и, действительно, было около трех часов утра. Великий князь вышел первым, я последовала за ним; в ту минуту граф Александр Шувалов хотел пройти в дверь за мною, императрица позвала его, и он остался у нее. Великий князь ходил всегда очень большими шагами, я не спешила на этот раз идти за ним; он вернулся в свои покои, я – в свои. Я начала раздеваться, чтобы ложиться, когда услышала стук в дверь, через которую я вернулась. Я спросила, кто там. Граф Александр Шувалов сказал мне, что это он и просит ему открыть, что я сделала. Он сказал, чтобы я удалила моих женщин; они вышли, тогда он мне сообщил, что императрица позвала его и, поговорив с ним некоторое время, поручила ему передать мне свой поклон и просить меня не огорчаться и что у нее будет второй разговор со мною одной. Я низко поклонилась графу Шувалову и сказала, чтобы он передал Ее Императорскому Величеству мое глубочайшее почтение и поблагодарил ее за ее доброту ко мне, которая возвращает меня к жизни, что я буду ждать этого второго разговора с живейшим нетерпением и что я прошу его ускорить эту минуту. Он мне сказал, чтобы я не говорила об этом ни единой душе, и именно великому князю, и что императрица с сожалением видит, что он так раздражен против меня. Я обещала. Я думала: если недовольны тем, что он раздражен против меня, то к чему сердить его еще больше, рассказывая ему разговор в Летнем дворце по поводу людей, которые его развращали. Однако этот неожиданный возврат задушевности и доверия императрицы доставил мне большое удовольствие.
На следующий день я просила племянницу духовника поблагодарить ее дядю за отменную услугу, которую он мне только что оказал, устроив мне этот разговор с императрицей. Она вернулась от своего дяди и сообщила мне, что духовник знает, что императрица сказала о своем племяннике, что он дурак, но что великая княгиня очень умна. Эти слова дошли до меня с нескольких сторон, и говорили, что Ее Императорское Величество то и дело хвалит своим близким мои способности, прибавляя часто: «Она любит правду и справедливость; это очень умная женщина, но мой племянник – дурак».
В одно прекрасное утро пришли мне доложить, что вице-канцлер граф Михаил Воронцов просит разрешения поговорить со мною от имени императрицы. Очень удивленная этим необычайным посольством и хотя еще не одетая, я приняла господина вице-канцлера. Он начал с того, что поцеловал мне руку и пожал ее с большим чувством, затем вытер себе глаза, с которых скатилось несколько слез.
Так как я тогда была немного предубеждена против него, то я без большого доверия отнеслась к этому предисловию, которое должно было выказать его усердие, но не мешала ему делать то, на что смотрела, как на кривлянье. Я просила его сесть; он был немного запыхавшись, что происходило оттого, что у него было нечто вроде зоба, которым он страдал. Он сел со мною и сказал мне, что императрица поручила ему поговорить со мною и убедить меня не настаивать на моей отсылке, что Ее Императорское Величество приказала ему даже просить меня со своей стороны отказаться от этой мысли, на которую она никогда не согласится, и что он лично просит меня и заклинает дать ему слово больше никогда об этом не говорить; что этот план поистине огорчает императрицу и всех порядочных людей, к числу которых, как он заверял меня, он принадлежит. Я ему ответила, что нет ничего, чего бы я охотно не сделала, чтобы угодить Ее Императорскому Величеству и порядочным людям, но что я думаю, что моя жизнь и здоровье в опасности от того образа жизни, которому я подвергаюсь; что я делаю только несчастных, что постоянно ссылают и отсылают всех, кто ко мне приближается; что великого князя ожесточают против меня до ненависти; что он, впрочем, никогда меня не любил; что Ее Императорское Величество тоже оказывает почти постоянно знаки своей немилости, и что, видя, что я в тягость всем, и умирая сама со скуки и горя, я просила отослать меня, для того чтобы освободить всех от особы, которая всем в тягость и сама погибает от горя и скуки.
Глава 24 Жена царя
Слова Елизаветы не выходили из головы.
Дни шли за днями – тянулись в томительном ожидании неотвратимого… Императрицу уже нельзя было спасти – это понимали и Екатерина, и Разумовский, и лекари, и все приближенные. Однако ее продолжали мучить кровопусканиями, пока Елизавета сама не запретила докторам лечить ее.
– Снадобья ваши, так и быть, пить буду, – уже слабым, но по-прежнему властным голосом сказала она Лестоку. – А кровопусканий больше не хочу… Хватит.
Елизавета умирала, а Екатерина чувствовала себя все в большей растерянности. Граф Алексей был в состоянии не лучшем – скорая потеря любимой жены невероятно состарила его, казалось, что каждый раз, входя к ней в покои, он заставлял себя улыбаться и говорить ей ободряющие слова только невероятным усилием воли.
– Мог бы, ушел бы с ней, – сказал он как-то Екатерине. – Но слаб человек: греха боюсь… Видно, такая Божья воля – доживать без нее…
То, чего больше всего на свете боялась и с чем, казалось, уже смирилась в душе Екатерина, случилось холодным зимним днем, в четвертом часу. С утра Елизавета еще говорила с Разумовским, потом ей стало хуже… Послали за лейб-медиками, потом за священником. Соборовавшись и причастившись, но еще будучи в сознании, Елизавета передала безутешно плакавшему Ивану Шувалову, не покидавшему ее ни на минуту, ключ от шкатулки, где хранились золото и драгоценности стоимостью в триста тысяч рублей.
Екатерина и Петр вместе с высшими чинами империи ждали в приемной. Царило полное молчание, и потому мерные шаги старшего сенатора, фельдмаршала Никиты Трубецкого, заставили Екатерину вздрогнуть. Она подняла глаза и посмотрела прямо на сенатора – долгим, неотрывным взглядом…
– Ныне государствует его величество император Петр III…
Все.
Екатерина почувствовала, как невыносимая тяжесть давит на сердце, причиняя почти физическую боль… Оглянулась. В тишине уже шаркали ноги по паркету, спины складывались в поклонах… Взглянула на мужа – он не скрывал ликования…
Новый император тут же отправился в свои апартаменты, а у тела усопшей осталась Екатерина, которой Петр III поручил позаботиться о предстоящих похоронах…
Прохлада весеннего утра застала Екатерину в саду. Солнечные блики играли на листьях деревьев, золоченых статуях. Струи фонтанов переливались, сверкали радостно брызги, вода плескалась в бассейнах…
Екатерина шла медленно, полной грудью вдыхая напоенный ароматами трав и цветов воздух, подставляя лицо легкому ветерку. Потеплело не так давно, и молодая женщина наслаждалась каждым мгновением.
Тепло… Солнце… Покой…
Такие счастливые минутки выпадали нечасто. Новоиспеченный император если не стал вести себя еще хуже, чем до свадьбы, то, по крайней мере, не стал вести себя и лучше. Новое положение, казалось, ни к чему его не обязывало. Продолжались кутежи, страннейшие чудачества, перепады настроения и истерики… Екатерина неимоверно уставала от него – даже мысль о супруге вгоняла ее в настоящую тоску… Правда, Петр искренне стремился ретиво исполнять свои обязанности: уже с утра он был в рабочем кабинете, где заслушивал доклады, потом спешил в Сенат или в коллегии, издавал указы и манифесты, пытался проводить реформы. Однако многие из этих указов и манифестов появились не благодаря Петру – они готовились еще при Елизавете и принимались ее ближайшими сановниками, составившими теперь окружение нового императора, а реформы, будучи задуманными как благо, приводили к всеобщему недовольству и неуверенности в завтрашнем дне.
Молодая царица положила руку на живот. Теперь скоро… Она знала наверняка, чувствовала: не сегодня-завтра во дворце раздастся первый крик ее ребенка… ее дочери. Екатерина улыбнулась. Почему-то она была уверена: родится именно девочка, и она будет ей совсем не такой матерью, какой стала для нее самой Иоганна.
Она будет заботиться о ней. Она будет играть с ней, гулять с ней в роскошных дворцовых садах. Она будет петь ей и научит играть на клавесине. Она не позволит ей заболеть. Она будет брать ее с собой на балы. Она сама научит ее танцам и верховой езде. Она пригласит лучших учителей и воспитателей. Она наймет самого талантливого художника, чтобы он написал ее портрет. Она позовет ко двору известнейших парикмахеров, будет одевать ее в самые нарядные платья, и ее девочка станет самой красивой из европейских принцесс!
– Доброе утро, государыня!
Екатерина быстро оглянулась. Перед ней в изысканном реверансе присела любимая подруга – Прасковья Румянцева, теперь, в замужестве, Брюс.
– Здравствуй, Пашенька! К чему церемонии?
Прасковья поднялась. Серые глаза сверкали лукавством.
– Как же иначе, матушка… Да и поговорить есть о чем. Дело важное.
Екатерина изумленно подняла брови.
– Случилось что?
– Пойдем, матушка, тебе отдохнуть не мешает, присядешь.
Прасковья повела ее в глубь сада, к маленькому пруду, где весело плескались, выскакивая из воды, золотые рыбки. Екатерина чуть прищурила глаза: наверняка наперсница принесла недобрую весть, не пришла бы она беспокоить ее в саду в такую рань, если бы не серьезнейшая причина. Сейчас, сейчас она все скажет, но вот хоть еще минуточку посидеть так – в блаженной беззаботности, радуясь чудесному весеннему дню и ласковому солнышку.
– Говори, Пашенька.
– Прости, плохое скажу. Граф Петр Иванович Шувалов был у нас вчера. О тебе говорили, Катя. По всему видать, супруг твой всерьез вознамерился козни против тебя строить.
– Какие козни, Пашенька?
– Ходят слухи, что выслать тебя грозился.
– Что сделать грозился?
– Напился давеча с Ванькой Шереметьевым, тот после все Шувалову и растрепал. Да кабы одному ему. Весь двор гудит, что кричал Петр Федорович в пьяном угаре: надоела Катька, зашлю ее подале, и с байстрюками ее…
– С кем?
– С кем – ты слышала, Катенька. Ванька говорил: руками машет, по покоям бегает – ну, да ты государя лучше меня знаешь – и кричит: не ведаю, от кого она все рожает, я уж и забыл, когда знал ее.
– Мерзавец, – чуть слышно прошептала Екатерина.
– Того хуже, Катя: Лизка Воронцова теперь для него идеал – и супруги, и государыни. Она, мол, меня одна понимает, и манеры у нее утонченней, чем у Катьки моей, и губки с носиком милее. Петр Иванович об этом особо говорил.
Екатерина едва удержалась, чтобы не схватиться за живот, отозвавшийся вдруг жгучей болью. С трудом выпрямилась, взглянула на подругу. Серые глаза уже не смеялись, смотрели серьезно и с беспокойством.
Ребенок… Сейчас надо успокоиться. Потом…
– Спасибо тебе, Пашенька.
– Что-то бледна ты очень, Катя… Прости, я расстроила, плохо тебе?
– Погоди, погоди. Что еще граф говорил?
– Гневался он очень… и муж, и папенька – они тоже злы были, ой как злы… Хочет, говорят, – прости, Катя, – вместо законной супруги, матери наследника, Лизку свою, вертихвостку, на престол посадить.
Померкло солнце. Не было больше ни рыбок, ни трелей птиц, ни ветра, ни свежей листвы.
– Лизка с ним вместе и день и ночь – да ты знаешь, матушка. Пьют, гуляют… В карты играли вчера. Твоя Машка Чоглокова тоже теперь там отирается.
Как ни была подавлена Екатерина, не смогла удержать смешка. Как только похоронили Елизавету, она сама, своей волей, как жена царя, отослала ненавистную соглядатайку от своего двора.
– И все бурчат, все-то бурчат: нет нам жизни теперь, Катерина хочет все под себя подгрести, все ей мало.
– Мало мне все, значит?
«Правда все. Слышала, давно слышала, только верить не хотела… Верно говорила Елизавета Петровна, глуп оказался Петруша-то наш. Ой как глуп…»
– Спасибо тебе, Паша. Ты… иди пока. Одна я побуду. Мне подумать надо.
Прасковья ушла, а Екатерина еще долго сидела на мраморной скамейке, глядя ей вслед и думая о своем…
О таких речах и настроениях она знала давно. Недаром старалась, с первого дня при дворе императрицы Елизаветы стремилась завести знакомства, связи, снискать уважение, искала покровителей, сторонников и защитников. Таковых было теперь немало.
«Удивительна неосмотрительность его. Ведь знает, что все станет мне известно тут же, стоит ему и Лизке только подумать о чем-нибудь… Знает, и что же? Столь низок и мерзок стал, что не стыдится открыто заявлять о своей подлости».
Хоть бы родить скорее… Пока она в тягости, руки связаны. Однако Петр, чего доброго, дождавшись появления ребенка, открыто обвинит ее в измене и вправду сошлет подальше. С него станется…
«Лизку в царицы. Договорился до чего, надо же! И мопсинку свою небось возле трона посадит, они с Лизкой друг друга стоят – глупы да без дела тявкают…»
Что же делать? Паша могла, конечно, и преувеличить, но вот граф Шувалов – это серьезно, это уж как пить дать правда. А Ванька, ежели ему все доложил, не дурак, совсем не дурак.
«Нужно немедленно поговорить с Орловыми, с Паниным. Говорили они мне, эх, говорили… Ну да ладно, разговоры разговорами, а чтоб решиться на такое, много силы надобно. Хлипок Петр, не хватит его на такое дело».
Екатерина поднялась и быстрыми шагами пошла к выходу из сада. Сегодня будет много дел…
Большой зал дворца гудел: наконец был заключен долгожданный мир с Пруссией, и его величество давал торжественный обед. Екатерина всегда любила празднества и даже сейчас, в последние недели беременности, хотя ей было уже тяжеловато стоять и она быстро уставала, в предвкушении веселья пребывала в приподнятом настроении. Молодая царица была в тяжелом бархатном платье цвета морской волны с темно-зеленой отделкой и кружевами; платье необыкновенно шло ей. Напудренные парики вельмож, платья дам, лакеи с подносами мелькали перед ней, будто в калейдоскопе, она улыбалась, игриво кивала, кокетливо обмахивалась веером, поблескивала глазами и с удовольствием поддерживала легкую беседу то с одним, то с другим высоким гостем.
– Рада видеть вас, месье Шарди.
– Слышала о ваших приключениях во время поездки в Италию, господин Креймер… Право же, вы избежали стольких опасностей.
– Согласна с вами, леди Буржет… Воистину неисповедимы пути Господни. Кто знает, куда заведет нас судьба.
Зал поражал великолепием. Чудесные гобелены со сценами охоты на стенах, прекрасная роспись и позолота… Столы, за которые вскоре пригласили гостей, ломились от яств. По левую руку от Екатерины сидел принц датский, по правую – принц бельгийский.
Уже шел второй час пиршества, когда, держа в одной руке бокал вина, а в другой вилку с куском бифштекса, поднялся полупьяный Петр.
– Выпьем за Пруссию! – провозгласил он, качаясь и размахивая вилкой. – Нет страны лучше Пруссии, и нет императора, чье величие сравнилось бы с гением Фридриха Великого!
Иностранные дипломаты переглянулись.
– Мы, – продолжал Петр, – я и моя жена, гордимся тем, что принадлежим к одним из самых славных родов Пруссии! Дражайшая супруга, – обратился он теперь напрямую к Екатерине, – вставай и выпьем за эту страну, как издавна пили за нее наши предки!
– Простите, ваше величество, – чуть наклонила голову Екатерина, – но за державу, посягавшую на мою страну, я пить не стану.
Последовала секундная пауза.
– Folle! – визгливо закричал император. – Дура!!! Дура!!!
В зале повисла мертвая тишина. Потрясенная Екатерина не могла шевельнуться, почувствовала только, как по щеке поползла предательская слеза. Кровь отхлынула от лица. Горло сдавил спазм.
Неловкость замять так и не удалось: слишком уж громким и прямым было оскорбление. Екатерина изо всех сил пыталась продолжать беседу и даже улыбалась побелевшими губами, но для звезд «европейской политики» все уже было предельно ясно.
В маленьком кабинете царицы находились трое – Панин, воспитатель ее сына, Кирило Разумовский, младший брат Алексея Разумовского, гетман и любимец Измайловского полка, и Григорий Орлов, недавно приближенный к Екатерине лейб-гвардеец, казначей Артиллерийского ведомства.
– После приема император приказал арестовать вас, матушка. За то, что этого не случилось, благодарить следует фельдмаршала Гольштейн-Готторпского: он вмешался и убедил Петра одуматься и прислушаться к голосу разума и хладнокровия. Однако вот что сегодня попало к нам. Это тайный рескрипт императора. Пока ход сей бумаге не даден. Но думается, теперь не замедлят воспоследовать события, кои и тебя, матушка, и нас, и все государство Российское в великое горе и смуту введут…
Произнеся это, Панин с какой-то даже суровостью взглянул на Орлова. Тот приблизился к Екатерине, склонился в почтительном поклоне, протянул ей рескрипт.
Кланяясь, Григорий все же ухитрился поднять глаза и взглянуть на царицу так, что она мысленно усмехнулась. «Хорош, шельмец…»
– Давай, что там у тебя.
В ее ладонь лег лист плотной бумаги с монограммами. Екатерина не спеша поднесла его к глазам.
«Нашей волею и во имя государства Российского. Царицу Екатерину Алексеевну выслать в монастырь Преображенский и постричь там в монахини под именем Пелагеи. Все рожденные ею дети и все, кто еще родится, должны быть умерщвлены ради блага и необходимости державной…»
Екатерина медленно, не глядя, смяла рескрипт.
Теперь мосты сожжены – еще живой император на самом деле не более, чем еще живой: часы его отныне сочтены…
Из «Собственноручных записок императрицы Екатерины II»
По прошествии трех недель по кончине Государыни я пошла к телу для панихиды. Идучи чрез переднюю, нашла тут князя Михаила [Ивановича] Дашкова плачущего и вне себя от радости, и, прибежав ко мне, говорил: «Государь достоин, дабы ему воздвигнуть статую золотую; он всему дворянству дал вольность», и с тем едет в Сенат, чтоб там объявить. Я ему сказала: «Разве вы были крепостные и вас продавали доныне?» В чем же эта вольность? И вышло, что в том, чтоб служить и не служить по воле всякого. Сие и прежде было, ибо шли в отставку, но осталось исстари, что дворянство, с вотчин и поместья служа все, кроме одряхлелых и малолетних, в службе Империи записаны были; вместо людей дворянских Петр I начал рекрут собирать, а дворянство осталось в службе. Отчего вздумали, что в неволе. Воронцов и генерал-прокурор думали великое дело делать, доложа Государю, дабы дать волю дворянству, а в самом деле выпросили не что иное, кроме того, чтоб всяк был волен служить и не служить. Пришед с панихиды к себе, я увидела, [что] у заднего крыльца стоит карета парадная с короною, и Император в ней поехал в Сенат. Но сей кортеж в народе произвел негодование, говорили: как ему ехать под короною? он не коронован и не помазан. Рановременно вздумал употребить корону. У всех дворян велика была радость о данном дозволении служить или не служить, и на тот час совершенно позабыли, что предки их службою приобрели почести и имение, которым пользуются.
За десять дней до погребения Государыни положили тело ее во гроб, и понесли оной в траурной зал посреди всех регалий, и народ дважды на день допущен был, как и прежде, от дня кончины ее. В гробу Государыня лежала одета в серебреной глазетовой робе, с кружевными рукавами, имея на голове Императорскую золотую большую корону, на нижнем обруче с надписью: «Благочестивейшая Самодержавнейшая Великая Государыня Императрица Елисавета Петровна, родилась 18 декабря 1709, воцарилась 25 ноября 1741, скончалась 25 декабря 1761 года». Гроб поставлен на возвышении под балдахином, глазета золотого с горностаевым спуском от балдахина до земли; позади гроба посреди спуска – герб золотой Государственной.
В 25 день января 1762 года повезли тело Государыни, во гробе лежащей, со всевозможным великолепием и подобающими почестями изо дворца чрез реку в Петропавловский собор в крепость. Сам Император, за ним – я, за мною – Скавронские, за ними – Нарышкины, потом все по рангам шли пеши за гробом от самого дворца до церкви.
Император в сей день был чрезмерно весел и посреди церемонии сей траурной сделал себе забаву: нарочно отстанет от везущего тела одра, пустив оного вперед сажен тридцать, потом изо всей силы добежит; старшие камергеры, носящие шлейф епанчи его черной, паче же обер-камергер, граф Шереметев, носящий коцец епанчи, не могши бежать за ним, принуждены были епанчу пустить, и как ветром ее раздувало, то сие Петру III пуще забавно стало, и он повторял несколько раз сию штуку, отчего сделалось, что я и все, за мною идущие, отстали от гроба, и, наконец, принуждены были послать остановить всю церемонию, дондеже отставшие дошли. О непристойном поведении сем произошли многие разговоры не в пользу особе Императора, и толки пошли о безрассудных его во многих случаях поступках.
Глава 25 Сие лишь вопрос времени
Оглушительный детский крик добрался, казалось, до самых дальних уголков дворца.
– Девочка!
Екатерина в изнеможении откинулась на подушки.
«Какое счастье! Малышка, у тебя есть старший братик, есть обожающая тебя матушка и отец. Пусть он далеко отсюда, но он непременно будет счастлив, узнав о твоем рождении».
Слезы выступили на глазах молодой женщины.
– Ну что ж ты, матушка, в слезы-то ударилась? – Повивальная бабка была чем-то похожа на Бабу-Ягу, если только можно представить себе добрую обитательницу избы на курьих ножках. – С самой ночи ни слезинки, ни вздоха громкого, ни крика. А сейчас, когда все уже позади, слезьми обливаешься.
– Так от счастья же, Фроловна…
– От счастья, матушка, слез не бывает. И не морочь мне голову! Это вон, своему дохтору можешь сказки рассказывать – у него душа нежная, добрая. А я во все это не верю. Радуйся, что девка – девки, они живучие. Им все нипочем. Уж сколько я деток-то приняла, какого насмотрелась, а и то всегда радуюсь, когда девочка на свет белый появляется.
– Живучие, говоришь?
Фроловна, крупная женщина чуть за сорок, кивнула, продолжая мыть руки. Девочку уже унесли, доктор Кирсанов отправился в детскую, устроенную рядом с опочивальней матери. Теперь-то Екатерина любому, кто попытался бы разлучить ее с малышкой, перегрызла бы глотку. Императору Петру Федоровичу, должно быть, еще не донесли о том, что его жена разрешилась от бремени. Отцу девочки не так просто было бы войти ныне во дворец.
«К счастью, малышка со мной. Я буду звать ее Аннушкой…»
– Дык бабы-то все живучие, матушка, – продолжала повитуха. – Вон ты, и почти день маялась, пока доченьку на свет произвела, и сил сейчас почти лишилась, едва языком ворочаешь, а ить, пройдет несколько дней, и опять начнешь летать по балам да амантам, как допрежь летала. Разве что возле дитя своего ненадолго присядешь, на сон сладкий полюбуешься.
– Ты права, добрая моя Фроловна.
– Давно на свете живу, голубица ты моя. А сейчас уж хватит болтать. Поспи немного. Чай, дочь-то сама кормить будешь, никому не доверишь?
– Сама буду, конечно.
– Вот и поспи, матушка. Силы тебе понадобятся. И много сил. А сейчас спи!
Екатерина покорно смежила веки.
…Но уже через миг проснулась и села на постели. Черноту ночи в опочивальне чуть разгонял свет одинокой свечи.
– Опять этот сон! Опять…
– Что случилось, Катюша? – Кирсанов приподнялся на подушках.
– Опять, Алеша! Опять я видела рождение Аннушки! Опять!..
Екатерина в сердцах стукнула кулаком о подушку. С тех пор как Анна занемогла, она уже не раз видела этот сон. И чем дольше тянулась болезнь дочери, тем больше подробностей возвращалось к Екатерине во сне. Вот как сегодня, когда она до мелочей рассмотрела сильные жилистые руки Фроловны.
Алексей молча гладил плечи царицы. Сказать ему было нечего. Ревность разрывала его сердце на части – да и как ему, лекаришке, соперничать с красавцем поляком, появившимся с год назад в свите английского посланника? Однако чем ближе становился к Екатерине Понятовский, тем виднее всем вокруг было, сколь он пуст и никчемен. К счастью, не прошло и полугода, как сама великая княгиня поняла это. Однако дитя уже жило, хотя до рождения предстояло долгих пять месяцев.
– Не стоит расстраиваться, душа моя. Редко когда красивый мужчина бывает к тому же достойным любви. А этот, сразу видно было, лишен даже намеков на подлинно мужские черты характера. Красавец, одно слово.
Прасковья Румянцева была, как всегда, удивительно права. Глупости Понятовскому хватило даже на то, чтобы разболтать о своей новой победе. Хотя мало кто из иноземцев, вернее, никто, кроме него, не мог похвастать тем, что приблизился к жене императора даже на расстояние вытянутой руки.
Однако сетовать было поздно – дитя жило своей жизнью. Билось, устраиваясь в материнском чреве, росло, заставляя Екатерину иногда даже останавливаться, чтобы сохранить равновесие.
Кирсанов, осматривая Екатерину, сказал только:
– Думаю, родится девочка, Софьюшка.
– Девочка?
– Да, девочка. Прислушайся к себе – разве так славно ты себя чувствовала, когда ожидала рождения Павла? Да есть и иные признаки, я почти уверен. Так что выбирай в первую голову имя для девочки.
– Я назову ее Иоганною, как матушку. – Екатерина сказала это лишь наполовину всерьез.
– И боюсь, вместе с именем передашь свое отношение. Ведь ты не всегда с любовью вспоминаешь о своей матери, верно?
– Верно, Алеша. Ты и правда умен.
Доктор усмехнулся. Увы, в последнее время он все чаще ловил себя на том, что зол на свою «Софьюшку», что ревновать ему не просто не следует, а строжайше запрещено, однако ревность все чаще прорывалась в его словах и голосе.
– Я просто недурно тебя знаю, душа моя. Подумай над другим именем. Выбери то, которое тебе не напоминает ни о ком из обидчиков или обидчиц.
Вот так и появилось имя для дочери: в чем-то напоминающее имя матери Екатерины, но не более. Не вызывающее досады, обиды, гнева – вовсе не вызывающее черных мыслей или воспоминаний.
Алексей оказался прав, как права оказалась и Фроловна: родилась Анна, веселая и здоровенькая. Сердце Екатерины пело от счастья, она не раз про себя говорила, что теперь она счастлива, что ей удивительно повезло с таким прекрасным ребенком.
Девочка росла без особых проблем, вовремя пошла, стала говорить, обожала мать и с удовольствием проводила бы у нее на руках весь день. А что еще надо женщине, пусть ты не просто жена императора, а даже и повелительница всего мира?
Но сейчас, с самого Рождества, маленькая Аннушка хворала. Екатерина почернела, похудела, все дни проводила у постели девочки, лишь на ночь соглашаясь уйти в свои покои и немного отдохнуть. Доктор Кирсанов теперь вовсе не покидал дворца, опасаясь за здоровье своей любимой «Софьюшки» и беспокоясь о хворающей малышке.
Он уже успел заметить, что сны о рождении дочери Екатерина видит всякий раз перед тем, как обостряется недуг маленькой Аннушки. Однако сегодняшний сон впервые вызвал у Екатерины столь сильные чувства – гнев, слезы.
«Боюсь, душа моя, тебя ждут страшные вести…» Увы, о странной болезни девочки никто ничего толком сказать не мог: лекари недоуменно разводили руками, бабки и знахарки, которых приводила та самая Фроловна, точно так же терялись в догадках. Вместе с бессильно умолкавшими врачевателями умолкала и надежда на выздоровление.
– А ведь Фроловна-то права была, – проговорила Екатерина, надевая поверх бархатного халата подбитый тонким мехом шлафрок. – Бабы на диво живучие. Вот и ты, Алеша, уже светишься, так исхудал от ревности да беспокойства. А я все надеждою живу, все бегаю, все о новом рассвете мечтаю.
– Да и ты, свет мой, на собственную половину более похожа.
– Что ж толку-то, Алексей? Я готова и на нет изойти, коли от этого Аннушка выздоровеет! Да только боюсь, что не бывать сему…
– Не говори так, Катя! Ты же сейчас войдешь к ней – и что, войдешь в отчаянии? Думаешь, твое отчаяние дитя излечит?
– Но как же быть?
– Прикажи подать теплого молока, войди к дочери радостной. Иначе тебе лучше было бы не вставать вовсе.
– Ну, теплого молока я не хочу. Однако ты меня убедил. Буду радостной. Постараюсь.
Екатерина села перед зеркалом и начала расчесываться. Простые движения ее не то чтобы и в самом деле успокоили, но подарили какую-то светлую отрешенность.
«Что ж, это все же лучше, чем отчаяние».
Она откинула волосы назад, встала и вышла из опочивальни. Кирсанов поспешил следом, торопливо завязывая пояс. Он вспоминал, когда отправил письмо своему коллеге, специализирующему на детских хворях, и прикидывал, когда можно ждать от него ответа.
«Не раньше чем послезавтра. Бедная Софья – еще три дня беспокойства, никак не меньше…»
Больше ничего подумать Алексей не успел – страшный, звериный крик раздался из детской.
– Софья, что?
– Нет! Не-е-ет!
Екатерина держала в руках дочь. Нет, тельце дочери. Маленькая ручка бессильно свесилась и покачивалась, как у куклы.
– Аннушка, детка моя, солнышко, проснись!
– Катя, успокойся! Ну же!
– Почему она не просыпается, Алеша? Почему?
Алексей мягко принял из рук женщины невесомое тело девочки. Уже остывшее, уже лишь тело. Светлая кожа стала почти прозрачной, легкая синева покрыла губы, длинные темные ресницы бросали на щеки черно-синюю тень.
– Алеша, она спит, да? Она проснется? Ну скажи же! Алеша!!!
Доктор очень осторожно опустил мертвую девочку в ее кроватку, развернулся и со всего размаха отвесил великой княгине затрещину. Та замолчала, изумленно глядя на всегда такого мягкого лекаря.
– Катя, успокойся! Или еще раз тебя ударить?
Сейчас голос этого молодого мужчины ничуть не походил на обычно мягкий, словно войлочный голос доктора Кирсанова. Екатерина с немым изумлением отрицательно покачала головой.
– Ну хорошо! Ты не успокоилась, но хотя бы умолкла! А теперь выслушай меня. Молча выслушай. Иначе я тебя ударю еще раз. Ну, ты готова?
Екатерина кивнула, быть может, несколько более поспешно, чем следовало бы.
– Сядь, возьми в руки… ну вот хоть игрушку. Да, и слушай молча. Если вдруг опять почувствуешь, что накатывает, начни рвать этого зайца. Рви изо всех сил, так, как никогда и ничего не делала раньше, неистово. Поняла?
Екатерина вновь кивнула. Теперь в глазах ее было куда больше разума, хотя отчаяние не просто плескалось в них – оно било фонтаном.
– Слушай внимательно, не перебивай! Да о зайце помни!
– Говори, Алексей.
Хриплый голос женщины сейчас ничуть не походил на голос великой княгини Екатерины. Но она хотя бы заговорила, и Кирсанов счел это добрым знаком.
– У меня есть сильное опасение, Катя, что дитя твое было убито. Ни я, ни кто иной из моих коллег не знает, какая болезнь подтачивала жизнь твоей дочери. Я опасаюсь, что среди твоего окружения есть лазутчик или подлец, который избрал убийство своим ремеслом.
Екатерина сжала кулаки.
– Третьего дня я отослал письмо своему давнему другу и ждал от него совета. В письме я описывал симптомы хвори, надеялся, что он подскажет мне, как излечить Аннушку. Ты слышишь меня, Катя?
Великая княгиня кивнула. Отчаяние из ее глаз пропало – и на смену ему пришла ярость, страшная в первую очередь тем, что пока непонятно было, на кого ее излить.
«Не рыдай, душа моя, лучше злись! Злость придаст тебе сил. А потом, когда, дай Бог, зло будет покарано, я позволю тебе вволю выплакаться, накричаться всласть…»
– Сейчас мы с тобой выйдем отсюда, и я провожу тебя в опочивальню. Делай что хочешь, только не показывайся до утра. Я же займусь всем, что положено.
– Но… Алеша, как же Аннушка? Она здесь так и останется одна?
– Одна? А где нянюшка? Отчего я здесь не вижу ни души? Скажи мне, великая княгиня, ты отпускала девушек сегодня вечером?
Екатерина отрицательно покачала головой – она только после слов Алексея заметила, что в детской пусто.
– Выходит, убивец пытается с себя вину на кого-то иного переложить? Ступай, душа моя, я разберусь. Да постарайся утаить все до утра, молю!
Побелевшие пальцы Екатерины на игрушке лучше всяких слов рассказали Алексею о том, что она сейчас чувствует.
– Сдержись, любимая. Малышке ты уже не поможешь, но, даст Бог, мы найдем ту тварь, которая учинила этакое зверство.
Екатерина послушно встала, словно деревянная кукла, сделала несколько шагов. Обернулась к Алексею, но, натолкнувшись на его взгляд, покорно побрела к двери. Несчастный заяц с полуоторванным ухом качался в такт ее шагам.
«Клянусь, тот, кто это сотворил, сто раз пожалеет о своем деянии. Эта женщина его не пощадит. Быть может, не сразу, но она непременно отправит его к праотцам! Глупец не знает, что нельзя злить львицу, ибо она пощады не знает!»
А в том, что Екатерина подобна львице, Алексей давно уже не сомневался.
Наступившее утро застало великую княгиню дремлющей в кресле. Несколько бесконечно долгих часов она мерила шагами опочивальню, не раз подходя к двери, но так и не открыв ее. Постепенно пришло понимание беспощадной правды – ее гнев уже не вернет любимое дитя, но заставит скрыться виновного в страшном злодеянии. Так ее и застал Алексей – уронившую голову на сложенные руки, с несчастным зайцем на коленях.
Следом в опочивальню на цыпочках шагнула Прасковья Брюс. Кирсанов сделал ей знак, чтобы она молчала, но чутко дремлющая Екатерина уже открыла глаза.
– Паша? Откуда ты здесь?
– Алексей послал за мной, матушка. Он не хочет надолго оставлять тебя одну.
– Алеша? – Екатерина подняла на доктора взгляд.
– Софьюшка, сдержись. Я кое-что узнал, но прошу у тебя время до полудня – придут ответы на те вопросы, которые я задал служивому люду.
– Служивому люду? О чем ты?
– Матушка, рядом с тобой враг. И, опасаюсь я, не один. Однако, думаю, в глупости своей он не знает еще, что нам сие ведомо. И чем дольше он будет пребывать в неведении, тем вернее нам удастся его обнаружить. Дамы, теперь я откланяюсь. До полудня меня не будет. Но и вы без крайней нужды дальше опочивальни носа не кажите.
– Алексей, я не выдержу!
– Молю тебя, сдержись. Добрейшая Прасковья Александровна может тебя и привязать, верно, сударыня?
– Верно, доктор! Могу… – Брюс улыбнулась Алексею. Пусть она не понимала раньше, чем привлек Екатерину этот незаметный доктор, однако сейчас смогла разглядеть и высокий рост, и широкие плечи, и поистине мужской характер.
– Иди уж, лазутчик, – бессильно махнула рукой Екатерина, отворачиваясь к огню.
Как провели женщины эти несколько часов, обе помнили смутно. Алексей слово сдержал. Едва пробило одиннадцать с половиной, как он вошел в опочивальню.
– Сударыни, мне следует с вами побеседовать весьма и весьма серьезно. Прасковья Александровна, присядьте ближе. Софьюшка, возьми себя в руки и выслушай меня. А потом, клянусь, я позволю тебе все, что угодно. Если пожелаешь, можешь даже убить.
Екатерина недобро усмехнулась.
– Похоже, я скоро узнаю, кого мне следует убить, Алеша. А тебя оставлю на десерт, ежели крови этого несчастного мне покажется мало.
«Львица, сущая львица… – с удовольствием подумал Алексей. – Она мне люба всегда, но сейчас, с горящим взглядом, выпрямившаяся… Чистая амазонка!»
Как ни больно ему было за Екатерину, но не залюбоваться ею он не мог. Как не мог и не порадоваться, что у нее достало сил дождаться вестей, сколь бы страшны они ни были.
– Прежде чем я начну рассказ, душа моя, я хочу, чтобы ты прочитала сие.
Доктор протянул Екатерине изрядно захватанный листок бумаги. По полям змеились линии: писец готовил перо, пара клякс посреди слова свидетельствовали, что писано сие как черновик, перечеркнутые слова вторили о том же.
Екатерина стала вчитываться и невольно ахнула. Брюс от ужаса прикрыла рот рукой. В глазах у великой княгини потемнело, и ей пришлось какое-то время смотреть в стену, чтобы вновь прийти в себя.
Да, сие было письмо императора Петра Федоровича к Якобу Штелину, бывшему его воспитателю. В весьма жестких выражениях государь изъявлял свою волю: отныне и довеку ни единое дитя, родившееся у великой княгини Екатерины Алексеевны, не должно дожить до пятилетнего возраста. Тому же, кто спопешествует более раннему уходу дитяти из жизни, он сам, великий князь, передаст пять сотен рублей золотом.
– Алеша… Пашенька… Что же это?
Великая княгиня Екатерина выпрямилась. Глаза ее сверкали.
– Да он не уймется! Я все же не верила, что он решится на это! Я надеялась, что мы оба избежим неискупимого греха… Клянусь, никто, никто не заслуживает такой смерти, какой умрет существо, подписавшее сей рескрипт… Даю свое слово!
Ничто не воспитывает нас так, как горе. Ничто не поднимает нас ко мщению так, как удар в спину, ничто не учит так, как предательство. И тут судьба не делает различий – венценосная ли особа перед нею или самый последний из ее подданных.
Из «Собственноручных записок императрицы Екатерины II»
Приблизительно около этого времени прибыл в Россию английский посланник кавалер Вилльямс; в его свите находился граф Понятовский, поляк, сын того, который примкнул к партии Карла XII, короля Шведскаго. После краткаго пребывания в городе мы вернулись в Ораниенбаум, где императрица приказала праздновать Петров день. Она не приехала туда сама, потому что не хотела праздновать первыя именины моего сына Павла, приходившияся в тот же день. Она осталась в Петергофе; там она села у окна, где, повидимому, оставалась весь день, потому что все приехавшие в Ораниенбаум говорили, что видели ее у этого окна. В Ораниенбаум наехало множество народа; танцовали в зале, которая находится при входе в мой сад, потом там же ужинали; иностранные послы и посланники также приехали; помню, что английский посланник, кавалер Генбюри Вилльямс, был за ужином моим соседом и что у нас с ним был разговор столь же приятный, сколь и веселый; так как он был очень умен и образован и знал всю Европу, то с ним не трудно было разговаривать. Я узнала потом, что ему так же было весело в этот вечер, как и мне, и что он отзывался обо мне с большой похвалой; в этом отношении я никогда не терпела недостатка со строны тех голов или умов, которые подходили к моему уму, и так как в то время у меня было меньше завистников, то обо мне говорили вообще с довольно большой похвалой: меня считали умной, и множество лиц, знавших меня поближе, удостаивали меня своим доверием, полагались на меня, спрашивали моих советов и оставались довольны теми, которые я им давала…
17 декабря между шестью и семью часами вечера он таким образом доложил о себе у моей двери; я велела ему войти; он начал с того, что передал мне приветствия от своей невестки, причем сказал мне, что она не особенно здорова; потом он прибавил: «Но вы должны были бы ее навестить». Я сказала: «Я охотно бы это сделала, но вы знаете, что я не могу выходить без позволения и что мне никогда не разрешат пойти к ней». Он мне ответил: «Я сведу вас туда». Я возразила ему: «В своем ли вы уме? Как можно итти с вами? Вас посадят в крепость, а мне за это Бог знает какая будет история». «О! – сказал он, – никто этого не узнает; мы примем свои меры». – «Как так?» Тогда он мне сказал: «Я зайду за вами через час или два, великий князь будет ужинать» (я уже давно под предлогом, что не ужинаю, оставалась в своей комнате) «он проведет за столом часть ночи, встанет, только когда будет очень пьян, и пойдет спать». Он спал тогда большею частью у себя, со времени моих родов. «Для большей безопасности оденьтесь мужчиной, и мы пойдем вместе к Анне Никитичне Нарышкиной…»
…мы нашли там графа Понятовскаго; Лев представил меня как своего друга, котораго просил принять ласково, и вечер прошел в самом сумасшедшем веселье, какое только можно себе вообразить. Пробыв полтора часа в гостях, я ушла и вернулась домой самым счастливым образом, не встретив ни души. На другой день, в день рождения императрицы, на утреннем куртаге и вечером на балу, мы все, бывшие в секрете, не могли смотреть друг на друга, чтобы не расхохотаться при воспоминании о вчерашней шалости. Несколько дней спустя Лев предложил ответный визит, который должен был иметь место у меня; он таким же путем привел своих гостей в мою комнату и так удачно, что никто этого не пронюхал. Так начался 1756 год. Мы находили необыкновенное удовольствие в этих свиданиях украдкой. Не проходило недели, чтобы не было хоть одной, двух и до трех встреч, то у одних, то у других, и когда кто-нибудь из компании бывал болен, то непременно у него-то и собирались. Иногда во время представления, не говоря друг с другом, а известными условными знаками, хотя бы мы находились в разных ложах, а некоторые в креслах, но все мигом узнавали, где встретиться, и никогда не случалось у нас ошибки, только два раза мне пришлось возвращаться домой пешком, что было хорошей прогулкой.
Глава 26 По примеру матушки Елизаветы
Стыли ноги, хотя во дворце было жарко и душно. Екатерина забилась в привычное уже кресло и старалась ни о чем не думать – ни о том, когда появится Орлов и появится ли, ни о том, какие новости он принесет. Отчего-то сейчас подле нее не было никого, с кем можно было бы поговорить по душам. Като Дашкова и Прасковья Брюс пропадали уже третий день где-то «в имениях», нянька Аннушки, добрая и заботливая Софья, так и не пришла в себя после смерти девочки. Она осталась при Екатерине, но дух ее столь отдалился, что называть ее другом или брать в наперсницы сейчас – особенно сейчас – великая княгиня остерегалась. Ей вспомнился отчего-то разговор с Софьей на прошлой неделе.
– Что ж это ты, Софьюшка, не распорядилась? Отчего кроватка все на месте? Отчего бельишко до сих пор не заперто в сундуках?
– Матушка Екатерина, прости меня… – Софья бросилась ей в ноги. – Не могу я, княгинюшка, рука не поднимается.
– О чем ты, Софья? – Екатерина хотела удержаться от резкости и сдерживалась изо всех сил: няньке-то тоже пришлось несладко.
– Не могу я тронуть даже кружавчика на постельке Аннушки-то… Все кажется, что вот принесут ее с прогулки и она увидит, что кроватка-то убрана. Бровки нахмурит и скажет: «Что ж это ты, добрая нянюшка, совсем выгнала меня из моих комнат?»
– Софья, прекрати сей же час!
Та залилась слезами.
– Ты думаешь, мне не больно сюда входить да на все это смотреть? Не думаешь, что и мое сердце разрывается на части? Что я все жду, что войдешь ты и скажешь, что Аннушка уже откушала и ждет маму?
Софья всхлипнула. Слезы по ее щекам безудержно текли, но в глазах уже появился разум.
– Матушка… – Нянька попыталась утереть глаза. – Дык это же я виновата в том, что случилось. Не отлучись я из детской, Аннушка бы жива осталась.
Я бы услышала ее плач, уж подбежала бы, не дала задохнуться…
«Да, Алексей умен! Ох и уме-ен. Скрыть смерть малышки было невозможно. Но превратить ее из скандала в обыденное дело ему удалось. Как удалось скрыть и свои подозрения вкупе со страшными находками. Круп не щадит детей, все равно кем бы они родились. Уме-е-ен…»
Хотя, тут Екатерина нехорошо усмехнулась, у нее самой здравого смысла не менее, чем у доктора Кирсанова. Ведь подозревала же она, что сам доктор в припадке глупой ревности порешил дитя. А для отвода глаз целый спектакль поставил, и Пашку Брюс в соратницы пригласил. Да что греха таить, эти подозрения и по сю пору иногда еще возвращаются к ней, хотя уж сколько времени прошло. Алексей-то знает, что она свое слово держит всегда, а значит, раньше или позже превратится во вдову царя. А тут под рукой окажется он, верный рыцарь, сильный друг, в трудную минуту подставивший плечо, умело скрывший убийство, но раскрывший имя убийцы…
Разве не достойная это ставка в игре? Не зря же Алексей еще год назад оставил свою жену, расторг церковный брак ради службы верной. Должно быть, чтобы руки была развязаны, когда вдова захочет нового мужа подыскивать…
«До чего же вы все мелки, Господи. До чего же похожи! Невдомек вам, что стать моим венчанным супругом по чину не каждому! Что достойным сего брака будет не просто давний любовник или хороший друг. Что супругом своим я готова назвать человека за совсем иные качества. Альковные успехи мне не столь важны, сколь единство душ, равенство взглядов, сходство привычек…»
Софью испугала усмешка великой княгини, и она вновь упала в ноги.
– Не казни меня, матушка!
– Ты ни в чем не виновата, Софьюшка. – Екатерина подняла женщину и слегка нажала на ее плечо, усаживая на низкую козетку напротив себя. – Круп никого не щадит, не делает разбора между принцессою и крестьянкою. И смерть эта могла приключиться в любую минуту. Вспомни слова доктора Кирсанова. Он много знает, ему верить можно.
Софья покорно кивнула. Плечи ее чуть расслабились, она некрасиво согнулась.
– Так, значит, ты меня теперь прогоняешь, Екатерина Алексеевна?
– Дурочка ты моя, нет, конечно. Я просто прошу тебя как можно скорее убраться в детской, да так, чтобы ничего и никогда более мне об Аннушке не напоминало. Да и тебе, душечка, тоже. И хватит слезы лить!
Невольно тон Екатерины стал жестким – хотя Софья была виновата только в том, что сбила ее с мысли. Но, наверное, сейчас оно к лучшему. Нет смысла душу рвать попусту – рана и без того свежа. Да и боль-то, поди, не уменьшится, только станет привычной.
– Софьюшка, хватит слезы лить! Вон уже платки мокрые, хоть выкручивай…
Та покорно кивнула и утерла слезы действительно совершенно мокрым кусочком батиста.
– Ступай.
Нянюшка покорно ушла. Екатерина попыталась вернуться к мыслям о Кирсанове, однако отчего-то вспомнилась ей Елизавета – такая, какой она ее увидела в последний раз. Усталая, безнадежно больная, с посеревшим лицом, одышливая и уже нездешняя. Дожидавшаяся, кажется, только появления Екатерины. Вспомнился ее лихорадочный, едва слышный шепот. И то, как жестко схватилась она за руку невестки, притягивая к себе в последние свои минуты.
«Да, матушка императрица… Теперь-то я куда лучше понимаю тебя. Должно быть, нечто подобное чувствовала ты сама, поднимаясь против Брауншвейгской династии? Однако у тебя, молодой, хватило духу пройти весь путь рядом со своими верными преображенцами. Мне же достало духу лишь благословить Гришеньку.
И вот теперь я мечусь по комнатам, аки тигрица, в ожидании вестей, хотя прекрасно понимаю, какими будут эти вести. Понимаю и страшусь. Ты бы, наверное, надела кирасу и отправилась со своим любимым, не отсиживалась в полутемном, несмотря на белые ночи, дворце…»
За почти полсотни лет история переворота Елизаветы успела обрасти легендами. Рассказывали, что цесаревна надела кавалерийскую кирасу, села в сани и по темным заснеженным улицам столицы поехала в казармы Преображенского полка. Там она обратилась к своим приверженцам: «Други мои! Как вы служили отцу моему, то при нынешнем случае и мне послужите верностью вашею!» Однако граф Разумовский от души расхохотался, когда Екатерина при нем рассказала об этом.
– Нет, душечка моя, все было куда проще, да и не мастерица Лизанька слова красивые говорить. Она крикнула только: «Ребята! Вы знаете, чья я дочь, ступайте же за мною!»
– А правда ли, граф, что гвардейцы ей отвечали: «Матушка, мы готовы их всех убить»?
– И это вранье! Цесаревною Лиза, конечно, была не так умна, как впоследствии, но все же дурой ее называть не следует – молодость, все молодость. Она отлично понимала, что смертей не избежать. Брауншвейгское семейство грех было трогать попусту, ну да тут уж выхода иного не было – в лучшем случае им была уготована крепость. Матушка-то понимала, что преображенцы злы на иноземное семейство, однако рискнула взять их под свое покровительство, дабы не обагрить собственные руки кровью родни, пусть и непрямой.
Екатерина тогда кивнула – ей казалось, что она понимала, каковы были причины, побудившие цесаревну Елизавету к перевороту. Но только сейчас она стала чувствовать то же, что чувствовала молодая Елизавета Петровна. Только теперь смогла представить, как боролись в душе дочери Петра Великого страх и решимость.
Наверное, чтобы немного умерить отчаянное сердцебиение, взять себя в руки, Елизавета и взяла крест. Рассказывали, что цесаревна встала на колени, а за ней следом и все присутствующие, и проговорила вполголоса: «Клянусь умереть за вас, клянетесь ли вы умереть за меня?» – «Клянемся!!!» – загремели в ответ преображенцы.
Перед глазами Екатерины разворачивалась картина за картиной. Вот Елизавета выходит из саней на Адмиралтейской площади, вот в сопровождении трех сотен солдат направляется к Зимнему дворцу. Солдаты спешат, они словно в пылу битвы, цесаревна с трудом поспевает за ними по глубокому снегу. Гренадеры, увидев сие, подхватывают ее на свои широкие плечи и так вносят в Зимний дворец. Все входы и выходы уже перекрыты преображенцами – караул без долгих раздумий перешел на сторону мятежников. Гренадеры устремились в императорские покои на втором этаже. Солдаты разбудили Анну Леопольдовну и ее мужа Антона Ульриха. А Елизавета объявила об их аресте.
Де Ла Шетарди, как сказывали, в своем донесении писал: «Найдя великую княгиню правительницу в постели и фрейлину Менгден, лежавшую около нее, цесаревна объявила первой об аресте. Великая княгиня тотчас подчинилась ее повелениям и стала заклинать ее не причинять насилия ни ей с семейством, ни фрейлине Менгден, которую она очень желала сохранить при себе». Что-то в этих рассказах Екатерину смущало. Не могло быть и речи о том, чтобы в мундире Преображенского полка посланник французского двора ворвался в спальню августейшей особы следом за цесаревной, да к тому же запомнил слова последней. Должно быть, сама Елизавета как-то обмолвилась о чем-то подобном, а все остальное было плодом бурной фантазии молодого де Ла Шетарди.
– Болтун, прости Господи…
О, Екатерина очень хорошо знала, насколько болтливым может быть сей господин. А уж по молодости, должно быть, его язык был и вовсе без костей. Даже без намека на оные.
Миних, столь же правдивый «очевидец», которого примерно в те же минуты невежливо разбудили и даже побили мятежные солдаты, писал, что, ворвавшись в спальню правительницы, Елизавета произнесла банальную фразу: «Сестрица, пора вставать!»
Так все было или нет, врывалась Елизавета в опочивальню венценосной четы или не врывалась, значения особого не имело. Важным было иное: дочь Петра Великого вернула себе престол методами более чем решительными. Она буквально на плечах гренадеров вошла во дворец – и этим сказано все. Однако ей и в голову не пришло лишать свою родню жизни. Более того, заключив их в крепость, но не убив, она невероятно рисковала, ведь и ее могли сбросить солдаты, оставшиеся верными Анне Леопольдовне. И появление Петера Ульриха, будущего Петра Федоровича, и ее, Екатерины, тогда Софии Августы, появление – все это нужно было в первую очередь именно для того, чтобы свести на нет опасность, которой грозила жизнь Брауншвейгского семейства даже в крепости.
Разумовский при той давней беседе был не очень разговорчив. Екатерина знала за ним это качество: когда граф не хотел о чем-то говорить, из него и слова не вытянуть.
Тогда Екатерина вновь обратилась к запискам разнообразных «очевидцев», которые писали столь отличные вещи, что истину и ложь распознать было едва ли возможно. Ясно лишь было, что Анна Леопольдовна и ее муж спустились из покоев на улицу почти добровольно, без особого принуждения сели в приготовленные для них сани и позволили увезти себя из дворца. Однако при аресте годовалого императора не все прошло гладко. Солдатам был дан строгий приказ не поднимать шума и взять мальчика только тогда, когда он проснется. Около часа они молча простояли у колыбели, пока ребенок не открыл глаза и не закричал от страха при виде гренадеров. Писали, что в суматохе сборов в спальне уронили младшую сестру императора, принцессу Екатерину Антоновну. От этого удара она оглохла. Таковым было мнение всех лейб-медиков.
– Лейб-медиков? – Екатерину несказанно удивила эта запись в «воспоминаниях» де Ла Шетарди. Однако являлось сие утверждение истиной или очередной пустой фразой, на которые сей господин был большим мастером, так и осталось неизвестным.
Он же писал, что императора Иоанна Антоновича принесли Елизавете. Та, взяв кроху на руки, мягко проговорила: «Малютка, ты ни в чем не виноват!» Француз писал, что никто толком не знал, что же делать с младенцем. Однако вот уж в это великая княгиня никак поверить не могла. Чтобы цесаревна заранее не предусмотрела сего? Вранье, чистейшей воды вранье. Наверняка Елизавета в первую голову подумала именно о наследнике. И это было бы правильно: кто более крохи нес опасность цесаревне? Поэтому наверняка судьба крошечного императора была решена заранее, точно так же, как судьба его матушки и сестрицы.
Далее писали, что Елизавета Петровна направила во все концы города гренадеров, в первую очередь в казармы других полков, откуда преображенцы привезли новой государыне полковые знамена. За придворными послали курьеров с приказанием немедленно явиться во дворец, дабы засвидетельствовать почтение новой императрице.
– А тех, кто не захотел свидетельствовать почтение? Куда их дели?
Разумовский снова расхохотался:
– Ох, княгиня, ваши вопросы иногда столь забавны. Ну кто бы отказался? Насиженные места были многим дороже родной матери. Да и не все ли равно, кому служить, если служишь в первую голову златому тельцу?
– Страшные вещи изволите произносить, граф!
– Милая княгинюшка, душечка! Ваш идеальный взгляд на мир делает вам честь. Когда Петр Федорович станет владыкой, вы увидите, насколько сие есть правда. Если не увидели этого до сих пор.
Увы, и тогда Екатерина видела уже слишком многое. А уж в эти суровые дни убедилась полной мерой. Иные, именно иные, служили короне, императорскому семейству, стране. Большинство же – златому тельцу, мамоне, собственной, и без того уже туго набитой мошне. Рассчитывать на них было нельзя, зато их можно было не опасаться, ибо они и сами боялись монаршего неудовольствия, а потому ради благополучия были готовы на все – в том числе, конечно, и на предательство.
Летние ночи коротки, а уж белые еще короче. Высокие часы стали бить шестой час. Екатерина с неудовольствием посмотрела на стрелки.
– Ну вот, теперь еще и вы сбиваете меня с мысли…
Должно быть, часы не почувствовали своей вины – за стеной нарастал шум, на который теперь обратила внимание и Екатерина.
– Да что за день такой?!
Словно в ответ на ее слова, в проеме вырос лейб-гвардеец.
– Матушка…
Екатерина вскинулась.
– Орлов вернулся?
– Никак нет-с.
– Так что же тогда, господи?
Офицер мялся.
– Да не тяни же, олух!
– Матушка, будет лучше, ежели вы сами изволите увидеть!
Екатерина вскочила и бросилась следом за гвардейцем. Отчего-то все двери на половине великокняжесткой четы были в это утро распахнуты настежь. Но только возле одной толпился народ.
– Сюда, матушка.
Отчего-то этот бравый офицер сейчас прятал глаза. Екатерина решительно отодвинула его и вошла в кабинет доктора.
Зрелище, представшее перед ее глазами, заставило бы вздрогнуть и видавшего виды полководца. А для женщины могло стать и фатальным. Для любой другой женщины, не Екатерины Алексеевны, жены императора Петра Третьего.
Поверх бумаг на обширном письменном столе лежало тело Алексея Кирсанова. Обрывок веревки, свисавший с крюка в потолке, и петля на шее яснее ясного говорили о том, как доктор покончил с жизнью.
– Не успели мы, матушка… – Голос кого-то из слуг (сейчас Екатерине недосуг было разбираться, кто шепчет ей в спину). – Пока смогли веревку перерезать, он уже и…
– Что ж ты наделал, Лешенька… – почти беззвучно прошептала Екатерина. – Отчего сейчас, когда вся моя жизнь переворачивается с ног на голову, ты решил покинуть меня? Отчего…
И только сейчас к ней пришли слезы. Они покатились из глаз, словно потоки дождя. Великая княгиня не шевелилась, слезы все лились и лились. Екатерина не отрываясь смотрела в мертвое лицо Алексея. Теперь он показался ей удивительно спокойным, словно наконец обрел тот высокий смысл своей жизни, о котором говорят все мудрецы, но которого отчего-то в жизни никто так и не находит.
– Вот что мы нашли на столе, матушка!
Софья протянула Екатерине измятый клочок бумаги. Несколько строк, к тому же изрядно перечерканных… Последнее письмо Алексея. Пара слезинок упали на листок и смыли чернила с плотной гербовой бумаги у самого края подписи.
«Софьюшка моя, жизнь моя. Я ухожу, прости. Ради тебя я отказался от всего, что мне было дорого. Однако тебе сие оказалось ненужным. А значит, не нужен тебе и я сам. Не поминай лихом раба Божия Алексея рода Кирсановых. Твой А.».
Совсем странные мысли вдруг осушили слезы Екатерины. Выходит, что слухи и впрямь оказались правдивы: Алексей на самом деле покинул свою венчанную супругу, отказался от семьи ради того, чтобы когда-нибудь стать мужем ей, Екатерине. «Что ж ты, друг мой, не заговорил со мной об сем ни разу? Что ж ты все сам угадать пытался? Между слов ответ прочитать?»
И услышала ответ Алексея так, словно стоял он сейчас бок о бок с ней и вместе с ней читал собственное письмо.
«Но что бы дал такой разговор, Софьюшка? Ты ведь давно уже поняла, каким должен быть твой муж – человек, которого ты перед Богом готова назвать своим суженым, с кем рядом всю жизнь готова прожить. Ты давно уже видишь его словно воочию – разве что лица пока не различаешь. И он ни в чем не похож на меня, разве что статью. Так о чем тут было говорить? Глупец, я еще не так давно питал надежду. А когда узнал, что ты снова в тягости, понял, что при тебе могу состоять только в одном качестве – доктора, врачующего телесные и душевные хвори и собирающего в свою душу все твои боли. Но я сего не желаю, прости уж меня, друг мой. Жаль, что любовью своей единственной назвать тебя не могу. Прости и прощай, великая княгиня Екатерина Алексеевна…»
Голос Алексея звучал с каждым словом все тише и вот затих совсем. Тут только она поняла, что он ушел от нее, ушел навсегда. Оставив о себе на память еще одну незаживающую рану в душе.
Из «Собственноручных записок императрицы Екатерины II»
В это время, в одно прекрасное утро великий князь вошел подпрыгивая в мою комнату, а его секретарь Цейц бежал за ним с бумагой в руке. Великий князь сказал мне: «Посмотрите на этого чорта: я слишком много выпил вчера, и сегодня еще голова идет у меня кругом, а он вот принес мне целый лист бумаги, и это еще только список дел, которыя он хочет, чтобы я кончил, он преследует меня даже в вашей комнате». Цейц мне сказал: «Все, что я держу тут, зависит только от простого “да” или “нет”, и дела-то всего на четверть часа». Я сказала: «Ну, посмотрим, может быть, вы с этим скорее справитесь, нежели думаете». Цейц принялся читать, и по мере того, как он читал, я говорила: «да» или «нет». Это понравилось великому князю, а Цейц ему сказал: «Вот, Ваше Высочество, если бы вы согласились два раза в неделю так делать, то ваши дела не останавливались бы». Это все пустяки, но надо дать им ход, и великая княгиня покончила с этим шестью «да» и приблизительно столькими же «нет». С этого дня Его Императорское Высочество придумал посылать ко мне Цейца каждый раз, как тому нужно было спрашивать «да» или «нет». Через несколько времени я сказала ему, чтобы он дал мне подписанный приказ о том, что я могу решать и чего не могу решать без его приказа, что он и сделал.
Я воспользовалась однажды удобным случаем или благоприятным моментом, чтобы сказать великому князю, что, так как он находит ведение дел Голштинии таким скучным и считает это для себя бременем, а между тем должен был бы смотреть на это как на образец того, что ему придется со временем делать, когда Российская империя достанется ему в удел, я думаю, что он должен смотреть на этот момент как на тяжесть, еще более ужасную; на это он мне снова повторил то, что говорил много раз, а именно, что он чувствует, что не рожден для России; что ни он не подходит вовсе для русских, ни русские для него и что он убежден, что погибнет в России. Я сказала ему на это то же, что говорила раньше много раз, то-есть что он не должен поддаваться этой фатальной идее, но стараться изо всех сил о том, чтобы заставить каждаго в России любить его и просить императрицу дать ему возможность ознакомиться с делами империи. Я даже побудила его испросить позволения присутствовать в конференции, которая заступала у императрицы место совета. Действительно он говорил об этом с Шуваловым, которые склонили императрицу допускать его в эту конференцию всякий раз, когда она там сама будет присутствовать; это значило то же самое, как если бы сказали, что он не будет туда допущен, ибо она приходила туда с ним раза два-три и больше ни она, ни он туда не являлись. Советы, какие я давала великому князю, вообще были благие и полезные, но тот, кто советует, может советовать только по своему разуму и по своей манере смотреть на вещи и за них приниматься; а главным недостатком моих советов великому князю было то, что его манера действовать и приступать к делу была совершенно отлична от моей, и по мере того, как мы становились старше, она делалась все заметнее. Я старалась во всем приближаться всегда как можно больше к правде, а он с каждым днем от нея удалялся до тех пор, пока не стал отъявленным лжецом. Так как способ, благодаря которому он им сделался, довольно странный, то я сейчас его приведу; может быть, он разъяснит направление человеческаго ума в этом случае и тем может послужить к предупреждению или к исправлению этого порока в какой-нибудь личности, которая возымеет склонность ему предаться.
Глава 27 Призраки и мечты
«Что же ты, милый друг?.. Да, я не самая лучшая женщина, которая могла бы быть с тобой рядом, но и ты оказался хорош! Да, ты был не единственным, кто разделял мое одиночество, кому я дарила свое тепло и свои ласки… Да, ты знал, каждый раз знал, кто отец моего ребенка, и оставался со мной… Прости меня за это. Но ведь я не обещала тебе ни любви до гробовой доски, ни верности, ни уж, тем более, брака. Возможно, ты рассчитывал на это, но теперь уж прости: какое ты имел на это право?!»
Екатерина подошла к окну, отодвинула тяжелую штору. Вдаль уходил бескрайний дворцовый парк, и в мягко спускающихся сумерках уже зажигались китайские фонарики на деревьях и вокруг фонтанов.
«И самое главное: покинуть меня теперь, в самый ответственный, решающий момент, когда на кону стоит все – моя судьба, судьба короны, судьба России… Бог мой, Алексей, как ты мог решиться на такое? И грех ведь какой… Ты же бросил меня, Алеша. Бросил, как бы обидно для тебя это ни звучало. Правда жестока… Ты знал, что нужен мне сейчас, может быть, как никто другой. Ни Гриша, ни Станислав не заменят тебя, ведь только на тебя могла я положиться целиком и полностью… А ты – вдруг – дал волю своей обиде, своим амбициям…»
Тьма сгустилась. Ярко засветились подъездные аллеи.
«А может быть, я не права? Прости меня, прости, Алеша! Я должна была быть мягче, нежнее, я должна была дать тебе больше, дать то, чего ты ждал… Хотя… Почему я должна была дать тебе это? Какое право ты имел ожидать от меня, великой княгини, будущей российской самодержицы, какого-либо особого отношения к себе?»
Екатерина присела на пышную кровать. Машинально погладила мягкий шелк покрывала. Взгляд упал на стоявшую у кровати статуэтку: ангел, обнимающий ребенка.
«Аннушка, девочка моя! Как бы я хотела, чтобы ты была со мной!.. Я бы все отдала: и корону, и мечты свои, и даже от Григория отказалась бы, только бы ты была рядом. Павлуша, твой братик, пока любит меня, но скоро, ох как скоро это пройдет. Любовь его сменится если не ненавистью, то духом соперничества и завистью… А как же, он ведь мой сын, плоть от плоти моей. Он тоже будет мечтать об императорской короне и вырастет не сподвижником мне в делах великих, а соперником, врагом… А ты, доченька, ангелочек мой, ты любила бы меня всегда – просто так, потому что я твоя мама».
Снова вернулась боль – удушающая, стискивающая горло и сердце. Екатерина повалилась на постель, силясь сдержать рвущийся животный крик. Неистово кусала подушки, почти рвала их зубами в немом отчаянном стремлении удержать, не выпустить свой вопль, свою боль.
Почти каждую ночь она глухо кричала, уткнувшись в подушки, – дочь, мертвое тельце ее дочери стояло перед глазами, не хотело отпускать… Она тихо выла, и единственным желанием было заплакать – казалось, со слезами придет хоть какое-то облегчение, словно спадет на душу живительная роса. Но слез не было, и, уставившись в темноту сухими глазами, она лежала часами без движения, не помня себя, не думая ни о чем и не чувствуя ничего.
Ей было все равно, есть рядом посторонние или нет. Ну, очередной амант. Никто… Пешка… Душа-то пуста…
Потом приходило забытье. Но и оно не приносило покоя. Сначала возникало личико Аннушки, маленькое, бледное, измученное болезнью. Потом приходила мать, укоряюще махала руками, как когда-то в юности, пыталась стащить с нее одеяло и повезти на какой-то бал… Снова, как тогда, в лихорадочном бреду, горели щеки, испариной покрывалось все тело… А потом опять был вокруг снежный лес, затем языки пламени, и в них опять появлялось уже измучившее ее до предела, вымотавшее ей всю душу родное лицо с черными глазами, а потом, когда она почти могла коснуться его, оно исчезало, и на смену приходило другое – не то…
И вновь нужно было просыпаться – и с пробуждением снова возвращалась боль и начинала терзать с новой силой. Время лечит, говорил Григорий, вторила ему и Прасковья, но Екатерине казалось, что каждый день только растравливает заново ее раны. Нужно было вставать, куда-то идти или ехать, с кем-то говорить, кому-то улыбаться, писать письма, принимать посланников и просителей, и она делала все, что от нее требовалось, ничего не пропуская в свою словно окаменевшую, застывшую душу – ничего.
А потом снова приходила ночь – и все начиналось сначала.
Одно желание осталось у нее – победить. Теперь, после стольких потерь, она не могла остановиться. Даже мысль о мести отошла на второй план, стала лишь одной из причин, не главным стремлением.
«Я ехала к вам с чистым сердцем… Вы, Петер Ульрих, дражайший супруг мой, не подозревали, что своими глупостями и пакостями в конечном счете наносите непоправимый вред себе… Но я могла бы снести все. Господи, вы бы сидели на троне и в ус не дули, принимая почести и лесть иностранных монархов и послов, а я бы работала за вас – тяжко, трудно, но на благо России… Я бы все делала вместе с вами и никогда не помыслила об ином, но вам мало было превратить мое существование в ад, вы лишили жизни мою доченьку. Что вас так оскорбило? Моя измена? Смешно, ваше величество… Разве я хоть однажды упрекнула вас в неверности? Разве я не распивала мирно кофе с вами и с вашими то Машенькой, то Наденькой, то Лизанькой? Разве я не помогала вам советами в амурных делах и не дарила Лизавете то французский батист, то английские шпильки? Отчего же вы не смогли, не захотели оставить мне хоть малую толику радости?»
Вновь всплыли перед глазами эти глупые чаепития, кофий, поверх которого ей мерзко улыбалась очередная фаворитка. Но мысли уже текли дальше.
«Любовь Григория пуста и суетна, как суетен и непостоянен он сам. Конечно, он сделает все, чтобы вознести меня на вершину, но только потому, что это единственное средство, чтобы подняться и ему самому. Разумовский, Кирило… О, я вызываю в нем страсть, это несомненно, но будет ли он служить мне так, как его старший брат считал за честь служить Елизавете? Мне все кажется, что истинные его мотивы – удержаться на вершине и сделать все для вознесения своего гетманства, своего края… Граф Бецкой – человек родной, умнейший, но он стареет, как постареем все мы, кто знает, сколько еще отпущено ему сил и здоровья. Ах, если бы кто-то был предан мне и душой и телом, безоглядно, так, как предан был милый Алеша Темкин… Если бы я могла засыпать и просыпаться спокойно, с мыслью о том, что кто-то бережет меня, словно ангел…»
Как всегда, когда мысли начинали принимать деловой, практический оборот, Екатерина встряхнулась. Встала, задумчиво прошлась по комнате.
«Это должен быть человек молодой. Энергичный. Умный. Отважный. С большими чаяниями. Он должен безудержно стремиться ввысь, но и столь же безудержно любить державу свою. Должен быть готов идти на все – ради меня и ради государства Российского и понимать сие как одно и то же. Бог свидетель, я прощу ему многое, если только буду видеть в нем истинного, надежного друга. Сейчас, когда решается судьба, да не только моя, многих и многих судьбы ныне на кону, он должен, не может не появиться… Великие события всегда вызывают к жизни великих людей…»
Из «Собственноручных записок императрицы Екатерины II»
Впрочем, решение мое было принято, и я смотрела на мою высылку или невысылку очень философски; я нашлась бы в любом положении, в которое Провидению угодно было бы меня поставить, и тогда не была бы лишена помощи, которую дают ум и талант каждому по мере его природных способностей; я чувствовала в себе мужество подыматься и спускаться, но так, чтобы мое сердце и душа при этом не превозносились и не возгордились, или, в обратном направлении, не испытали ни падения, ни унижения. Я знала, что я человек и тем самым существо ограниченное и неспособное к совершенству; мои намерения были всегда честны и чисты; если я с самаго начала поняла, что любить мужа, который не был достоин любви и вовсе не старался ее заслужить, вещь трудная, если не невозможная, то по крайней мере я оказала ему и его интересам самую искреннюю привязанность, какую друг и даже слуга может оказать своему другу или господину; мои советы были всегда самыми лучшими, какие я могла придумать для его блага; если он им не следовал, не я была в том виновата, а его собственный рассудок, который не был ни здрав, ни трезв. Когда я приехала в Россию и затем в первые годы нашей брачной жизни, сердце мое было бы открыто великому князю: стоило лишь ему пожелать хоть немного сносно обращаться со мною; вполне естественно, что когда я увидела, что из всех возможных предметов его внимания я была тем, которому Его Императорское Высочество оказывал его меньше всего, именно потому, что я была его женой, я не нашла этого положения ни приятным, ни по вкусу, и оно мне надоедало и, может быть, огорчало меня. Это последнее чувство, чувство горя, я подавляла в себе гораздо сильнее, чем все остальныя; природная гордость моей души и ея закал делали для меня невыносимой мысль, что я могу быть несчастна. Я говорила себе: «Счастие и несчастие – в сердце и в душе каждаго человека. Если ты переживаешь несчастие, становись выше его и сделай так, чтобы твое счастие не зависело ни от какого события». С таким-то душевным складом я родилась, будучи при этом одарена очень большой чувствительностью и внешностью по меньшей мере очень интересною, которая без помощи искусственных средств и прикрас нравилась с перваго же взгляда; ум мой по природе был настолько примирительнаго свойства, что никогда никто не мог пробыть со мною и четверти часа, чтобы не почувствовать себя в разговоре непринужденным и не беседовать со мною так, как будто он уже давно со мною знаком. По природе снисходительная, я без труда привлекала к себе доверие всех, имевших со мною дело, потому что всякий чувствовал, что побуждениями, которым я охотнее всего следовала, были самая строгая честность и добрая воля. Я осмелюсь утверждать относительно себя, если только мне будет позволено употребить это выражение, что я была честным и благородным рыцарем, с умом несравненно более мужским, нежели женским; но в то же время, внешним образом, я ничем не походила на мужчину; в соединении с мужским умом и характером во мне находили все приятныя качества женщины, достойной любви; да простят мне это выражение, во имя искренности признания, к которому побуждает меня мое самолюбие, не прикрываясь ложной скромностью. Впрочем, это сочинение должно само по себе доказать то, что я говорю о своем уме, сердце и характере. Я только что сказала о том, что я нравилась, следовательно, половина пути к искушению была уже налицо, и в подобном случае от сущности человеческой природы зависит, чтобы не было недостатка и в другой, ибо искушать и быть искушаемым очень близко одно к другому, и, несмотря на самыя лучшия правила морали, запечатленныя в голове, когда в них вмешивается чувствительность, как только она проявится, оказываешься уже безконечно дальше, чем думаешь, и я еще до сих пор не знаю, как можно помешать этому случиться.
Глава 28 Орлов
Григорий Орлов беспокойно мерил шагами парадный зал дворца.
Прошло уже немало времени с тех пор, как он ввязался во все это. Не то чтобы выхода другого не было, как раз наоборот: слишком уж велик был соблазн подняться, из сына новгородского сотника стать одним из богатейших и знатнейших людей России.
В том, что на кону именно это – богатейший и знатнейший, – Гришка не сомневался ни секунды. Да и как было сомневаться, когда за ним вдруг, нежданно-негаданно, оказалась любовь царской жены, к тому же молодой и красивой бабы, падкой до утех, а значит, по всем статьям выходило: угодить ей, да не только в постели, а и в жизни, и будешь до старости как сыр в масле кататься. Конечно, риск был велик: случись что, и голова с плеч, но, как справедливо рассудили они со старшим братом Алексеем, где наше не пропадало, риск – дело благородное, два раза не помирать… Да и когда Орловы риска боялись?
Гришка усмехнулся. Вспомнил деда – простого стрельца Ивана Орла, прозванного так за храбрость, который за участие в стрелецком бунте был приговорен к смерти, а шагая к плахе, хладнокровно, как бы между делом, откатил ногой голову своего предшественника, уже простившегося с жизнью, – чтоб не мешала, не валялась на дороге… Сам Петр Первый был тому свидетелем и, изумленный, тут же помиловал удальца, а потом содействовал его продвижению по службе и чин дворянский пожаловал.
Да уж, воистину пан или пропал! Не боялся Гришка сроду ни пули, ни сабли, ни кулаков железных. Только вот жуть берет, как подумаешь: все это дело, его Катькой и Алексеем затеянное, белыми нитками шито, потяни случайно не за ту – тут же развалится…
Не покидало с некоторых пор Гришку чувство, что об их задумке знает в Москве каждая собака. И то: рты не закрывались ни у кого, языки развязывались по поводу и без оного, особенно за бутылкой. Даже по Гришкиному скромному мнению, бардак царил среди заговорщиков нешуточный: все были словно опутаны какими-то невидимыми нитями, которые вели их вперед, но они сами не знали куда. Однако обратной дороги уже не было: маховик закрутился со страшной силой, в водоворот было вовлечено столько людей, Катька раздавала такое количество английских и немецких денег офицерам, министрам, послам, что ни о каком возврате назад и речи быть не могло. Но теплилась в глубине Гришкиной смятенной души сумасшедшая надежда, почти на русский авось: когда множество людей стремится к одному и тому же, все как-то собой получается, не может не получиться…
К тому же кто их враг? Петр, русский самодержец? Опять Гришка усмехнулся, насмешливо и издевательски. Недотепа, глупец, распутник (тут опять Орлов не сдержал ухмылки – в значительной мере самокритичной, надо заметить), неспособный видеть дальше своего носа и с собственной женой справиться, не говоря уж о державе российской… Хотя, конечно, за ним Миних, великий полководец, а за Минихом армия. Привлечь-то на свою сторону удалось пока только гвардию, и то не всех офицеров.
Однако обиженных Петром и в гвардии имелось предостаточно – собственно, она вся была до глубины души оскорблена и уязвлена тем, что государь собирался отправить ее на войну, как простых лапотников – крестьян немытых. Этого гвардейцы, привыкшие к своему привилегированному положению и сытой, красивой, распутной, безопасной жизни в столице, стерпеть не могли. Гвардейцы российские уж и забыли, когда воевали – лишь в парадах, маршах торжественных участвовали, это да. А теперь грязь месить наравне с простыми солдатами? Недоедать? Помирать, в конце концов, в снегах или трясине?
Злость гвардии обрела конкретного адресата – в лице Петра. Злость не выплескивалась пока наружу, копилась в душах, лишь изредка пробивалась тайным нехорошим блеском в глазах и непривычной угрюмостью. Люди ждали… Приказа. Начала. Драки. Люди знали: будет, обязательно… неотвратимо… очень скоро.
Так что Гришка мысленно соглашался с братом: когда такое было, чтобы в России перевороты большими силами свершались? Елизавета вон, матушка, неполной ротой обошлась, Миних сверг всесильного Бирона с помощью двух взводов, а Екатерину Первую возвели на престол два гвардейских полка, руководимые, кстати, вусмерть пьяными офицерами.
За сам исход Гришка не особо опасался – волновало его то, что это дело надо было успеть начать! А то ведь как: сболтнет кто глупость, и добро пожаловать на дыбу, пикнуть не успеешь…
«Тьфу ты, пропасть», – сплюнул в сердцах Гришка и, чтобы не накликать беду, попытался отогнать от себя мрачные мысли, стал думать о Катьке.
Понравилась ему немка сразу: высокая, статная, фигуристая, с гордым взглядом и тайной теплотой в голосе. Видел, как смотрела на него, простого гвардейского офицера, ошибиться не мог. Да и чего бы ей не смотреть так? Перед бабами он сроду не робел, были у него уже к тому времени не только мещанки с купчихами, а и придворные дамы – манерные, высокомерные, красоты необычайной. И ничего: разницы Гришка не чувствовал – каждая, независимо от роду-племени, потом долго не могла забыть его крепких, будто стальных объятий и неудержимого, отчаянного нрава. Так что хоть селянка Варька Каменева (тут Гришка невольно вздохнул: вспомнилась Варька, тяжелые налитые груди, крепкий стан, большие теплые руки), хоть великая княгиня – все одним миром мазаны и подход любят один…
Гришка нагло следовал за Екатериной – взгляда не отводил, кланялся не так низко, как положено бы, намерений своих не скрывал. А она сдалась неожиданно – после истории с княгиней Ленкой Куракиной. Видно, совсем уж интересно стало великой княгине, отчего такие страсти вокруг него разгораются…
Ленка была красива умопомрачительно – и так же умопомрачительно, до сумасшествия, распутна. Гришка в свое время носил ей записочки-подарочки от аманта – престарелого графа Шувалова да и рассудил как-то раз, что чего уж просто так ноги бить, хорошо бы и себе вкусить маленько радостей. Весть об этом его рассуждении и абсолютном Ленкином непротивлении таковому вскоре облетела весь Петербург, и Шувалова разбил паралич – Гришка искренне об этом сожалел, ибо Петра Иваныча по-своему уважал и никаких личных претензий к нему не имел.
Екатерина же от него забеременела и рожала в большой тайне, в одной из дальних комнат дворца. От законного супруга очередную ее беременность удалось скрыть – помогли фижмы, которые царица носила до последнего момента. Рожала молча, чтобы никто не слышал ее криков, а знали о родах только самые близкие – он с братьями, да Никита Панин, да Пашка Брюс…
Младенец получил титул графа Бобринского и был сразу же увезен доверенными людьми царицы в деревеньку под Рязанью, где и рос под неусыпным наблюдением мамок да нянек. Так что наиграться-натешиться с сыном не довелось… Ну да не беда, Катька молода, и он еще хоть куда, дети у них будут.
Ждать, ждать, сколько же еще ждать… Вести должны были прийти еще утром, но Пассека все нет – почему? Эх, Пассек, неосторожный и горячий, веры ему не так много, ну да что уж теперь, и друг его Баскаков, нетерпеливые, совсем ждать не могут, даже приходили к Катьке с предложением прирезать Петра на берегу Невы, во время прогулки с Лизкой Воронцовой. Вот уж, прости Господи, разума совсем нет! Катька еле сдержалась: зубы стиснула и попыталась ласково отговорить горе-мятежников от столь глупого замысла. Умница: иначе не миновать бы им беды – как в случае, если бы Петр выжил, так и в случае, если бы нет.
Петр был сейчас в Ораниенбауме, а Катерина завтра собиралась к нему ехать, давать званый ужин по случаю его именин… Доколе это все будет?
Раздались громкие шаги. Григорий обернулся, рука инстинктивно легла на шпагу.
Федька Барятинский… Свои.
– Собирайся, Гриша! – выпалил князь Барятинский с порога, не заходя в зал. – Пассека арестовали, Петербург шумит!
Глава 29 Решающая ночь
В то самое время, когда Григорий Орлов и Федор Барятинский в спешке прыгали в одноколку, собираясь нестись в столицу, другой Орлов, Алексей, принес страшное известие Екатерине:
– Пассека арестовали!
У Екатерины потемнело в глазах. Не медля, она бросилась прочь из дворца, в карету, и вместе с Алексеем помчалась в Петербург.
Волноваться было из-за чего. Пассек являлся одной из главных пружин заговора, знал все и всех, и, если бы за него взялись как положено, это поставило бы заговор на грань провала…
Екатерина и Алексей гнали лошадей так, что верст за пять до столицы животные совершенно выбились из сил. Тут навстречу показалась одноколка Григория Орлова и Федора Барятинского…
Оказалось, что к провалу привела совершеннейшая случайность. Один из гвардейцев по-простецки подошел к одному из офицеров и бесхитростно поинтересовался:
– А что, ваше благородие, скоро ли будем Петрушку свергать? Столько разговоров, а дела не видно, терпеть нету мочи. Пора бы…
Офицер, на беду, оказался сторонником Петра. Не подав виду, что поражен и растерян, он вроде бы безразлично начал расспрашивать:
– Пошто болтаешь, голубь? Кто тебе эту тайну доверил?
Солдат захлопал глазами.
– Ты думаешь, об этом болтать можно вот так, между делом? Кто, говори, тебе, неразумному, все рассказал о нашем замысле?
– Капитан Пассек, – брякнул перепуганный гвардеец. – Ясное дело, ваше благородие, мы понимаем, вы не сумлевайтесь, мы ж не темные.
Офицер помчался куда следует, и Пассека моментально взяли под стражу.
Деваться было некуда – хочешь не хочешь, пришлось начинать восстание.
Впереди лежал Петербург. На полном скаку подлетели к слободе Измайловского полка. На ходу заталкивая в ружья пули, гвардейцы сбегались к карете царицы, крича на разные голоса:
– Виват, Катерина!
На роскошно убранном породистом скакуне на плац влетел гетман Кирило Разумовский. Пыль взметнулась из-под копыт коня.
– Спеши, матушка, – тихо сказал он, склонившись к Екатерине. – Медлить нам никак нельзя… Виват, Екатерина Вторая! – во весь голос крикнул он, повернувшись к толпе.
– Виват! Виват! – закричали во всю глотку могучие гвардейцы…
Измайловский полк первым вышел на улицы. В Преображенском и Семеновском все поначалу шло не так гладко – там несколько офицеров пытались удержать солдат. Вопрос решили быстро – попросту арестовали их.
Вскоре в Казанском соборе Екатерина – уже в офицерском мундире, раскрасневшаяся от волнения и бешеной скачки – торжественно приняла от гвардейцев присягу на верность. Теперь назад пути не было. Никому…
Солдаты шли по городу лавиной. С треском обрушивались заборы, гвардейцы вытаптывали клумбы и огороды.
Воздух, казалось, потяжелел от людского пота и звенел от криков:
– Виват Катерина!
– Виват!
– Ура-а-а!!!
Екатерина в сопровождении братьев Орловых добралась наконец до Зимнего дворца. Конная гвардия заняла внутренние посты. Все арсеналы уже были в руках восставших. Императрица, рывком расстегнув на груди тесный мундир, бросилась в кресло:
– Принесите мне кофе! Какой день, Господи… Безумный день… Великий день…
Кто-то подал ей кружку воды, и Екатерина, мысленно махнув рукой – какая разница? – залпом, жадно осушила ее.
– Следите за иностранцами, – приказала она Алексею и Григорию. – Особенно за немцами. От них всего можно ждать. Людям скажите: пить разрешаю в кабаках невозбранно. Торговцы деньги брать не смеют. Пусть берут что хотят: водку, мед, вино, шампанское… Я расплачусь за все выпитое, передайте кабатчикам!
– Матушка, – сказал Алексей, – дорога на Ораниенбаум ведет через Калинкин мост, надобно его сразу же пикетировать конницей.
– Вахмистру Потемкину поручу, – вслух решил Алексей. – Пусть берет эскадрон конной гвардии и занимает мост. Справится! Толковый малый. И тебе, матушка, предан безмерно.
Екатерина будто его не услышала.
Пьяных в городе не было. Только после полудня они начали появляться, но настроение царило приподнятое, миролюбивое – ни драк, ни поножовщины не воспоследовало. Столица гудела: все были на улице, никто не мог усидеть дома, лишь самые старые да малые оставались на печах. Царило неимоверное оживление, город гудел словно улей.
– Что будем делать с дражайшим супругом моим? – спросила Екатерина приближенных.
– В Шлиссельбург его, да и дело с концом, – предложил Разумовский.
– Но там уже сидит Иоанн Брауншвейгский.
– Пересадим! – развеселился Гришка. – Посидел в Шлиссельбурге, теперь пусть в Кексгольм съездит.
– Все бы отдала, друзья, только бы узнать, что творится сейчас в Ораниенбауме, – не разделяла его веселья Екатерина. – Ничто не мучит более неизвестности.
– Не забывайте, – подлил масла в огонь Никита Панин, – что Миних – очень опытный полководец и за просто так императора не сдаст. Наверняка он примет решение отправиться в Кронштадт. Как ни крути, матушка, армия не с нами.
Екатерина потерла виски.
– Пусть Талызин, – приказала она, подумав, – мчится в Кронштадт. Адмирала послушают, не допустят Петра в крепость. И курьера отправьте к губернатору Броуну в Ригу – пусть передаст там: на престоле отныне Екатерина Вторая, Петру повиноваться не велено. А то ведь и правда не жить нам.
Тут же был послан нарочный в Шлиссельбург – готовить камеры для Петра и перевозить в Кексгольм царевича Иоанна.
– Я лишь повинуюсь желанию общенародному, – повторяла Екатерина всем и каждому до самого вечера. – Я не желаю зла своему дражайшему супругу, однако же народ меня призвал для свершения добра…
Вечером она велела вывести из конюшен Бриллианта, потрясающей красоты жеребца, белой масти, в серых яблоках. На груди Екатерины красовалась голубая андреевская лента, на ботфортах сверкали шпоры.
Великая княгиня резким движением вырвала шпильки из прически, тряхнула головой. Копна черных волос рассыпалась по плечам. Кто-то подал ей треуголку, украшенную пучком дубовых листьев.
Императрица вскочила на коня и поскакала вдоль воинов, присягнувших ей на верность и отныне готовых во всем повиноваться ей.
Ее посадка была поистине королевской! Екатерина, словно амазонка, мчалась перед строем войск, длинные волосы развевались за спиной, и гвардейцы – ее гвардейцы – салютовали ей, и в неистовом крике надрывались все встречные солдаты и простолюдины:
– Виват, Катерина!
– Виват!!!
– Виват!!!
«Каждый из них думает, что это его личная заслуга, – пронеслось в голове Екатерины. – И этот поручик, и этот капрал, Бог мой, даже этот голубоглазый, совсем юный барабанщик… Они идут за мной! Это правда, они все следуют за мной! Они отдают честь, они салютуют мне! Боже, молю тебя, помоги! Не оставь меня!»
«Господа сенаторы! Я теперь выхожу с войском, чтоб утвердить и обнадежить престол, оставляя вам, яко верховному моему правительству, с полной доверенностью, под стражу: отечество, народ и сына моего» – таким был первый указ императрицы Екатерины Второй.
Петр Третий проснулся только в десятом часу утра. Лизки рядом уже не было. Петр одним махом осушил огромную кружку пива и собрался ехать в Петергоф. Однако дворец встретил императора зловещим, мрачным молчанием. Никого не было – ни в парке, ни в покоях.
– Если это шутка, то очень злая, – сказал Петр, пожевав губами. – Обыщите парк и дворец, – велел он свите. – Неужели они все спрятались? Такой-то сюрприз решила преподнести мне моя драгоценная жена?
Однако во дворце действительно никого не было.
– Что все это значит? – спросил Петр у вице-канцлера.
Князь Голицын пожал плечами, и император обратился к канцлеру:
– А вы можете мне ответить?
– Если она в Петербурге, следует ожидать худшего, – склонив голову, ответил тот.
– Чего худшего? – визгливо воскликнул Петр. – Что значит худшего? Немедленно отправляйтесь в Петербург, найдите ее и призовите к ответу! Я хочу знать, где она и почему меня никто не встречает!
– Екатерина коварна и зла, – шепнула Лизка Воронцова статной черноволосой статс-даме. – От нее всего можно ожидать…
Та подавленно молчала… Лизка повернулась к фельдмаршалу Миниху.
– Что скажете, фельдмаршал? Что теперь с нами будет?
Прославленный старик тоже молчал, всматриваясь в неподвижную морскую гладь, расстилавшуюся перед ними.
– Нужно ехать в Кронштадт, ваше величество, – произнес он наконец. – Это единственная наша надежда. Оттуда вы сможете если не диктовать свои условия, то хотя бы контролировать ситуацию. Вы будете главенствовать, ведь армия за вас. Вы посулите гвардейцам полное удовлетворение их нужд, и, возможно, это их остановит. Еще можно спасти положение. Еще можно спасти все…
– Что – все? – растерянно, чуть не плача, спрашивал Петр.
– Честь свою, ваше величество. Если не жизнь, то честь.
Придворные бесцельно слонялись по аллеям, между фонтанами, сидели на балюстрадах и в увитых плющом беседках. Толком никто ничего не знал. Оставалось только ждать… Сколько будет длиться это безысходное, безнадежное ожидание, сказать тоже никто не мог.
Возле канального шлюза обосновалась имперская канцелярия. Петр безостановочно изобретал указы – один за другим, – полные ругани в адрес Екатерины, четыре писца тут же писали их набело, а император подписывал манифесты на шлюзовом поручне. Графа Девьера послали в Кронштадт, чтобы приготовил крепость для императора и его свиты.
В конце концов у Петра от переживаний схватило живот, и пришлось делать несколько приемов стального порошка. Придя в себя, император потребовал жаркого и ломоть хлеба. На деревянную скамью поставили требуемое, рядом – бутылки бургундского и шампанского. Только теперь государь отправил в Ораниенбаум посланников с требованием находящимся там войскам прибыть в Петергоф.
В восемь часов вечера голштинцы прибыли. Однако Миних был настроен скептически:
– Неужели ваше величество уверены, что голштинцы способны удержать русскую ярость? Не только стрелять, но даже икать им запретите, иначе от Петергофа останутся одни головешки.
Ждали Воронежский полк, квартировавший в Царском Селе. Однако к вечеру выяснилось, что воронежцы отправились в столицу – к Екатерине.
Наконец причалила шлюпка, в которой прибыл князь Иван Барятинский, несколько утешивший его величество: в Кронштадте тихо и спокойно, а граф Девьер готовит крепость к приему законного императора. Придворные возликовали:
– Скорее, скорее…
– В Кронштадт, в Кронштадт! – радостно кричала вместе со всеми вновь обретшая надежду на благополучный исход Лизка Воронцова.
Кронштадтская гавань, ко всеобщему удивлению, оказалась заперта. Бросили якорь. Кронштадт казался сказочным, заколдованным замком. Петр выбежал на бак и, стащив с груди андреевскую ленту, размахивал ею, как вымпелом, крича во весь голос:
– Я ваш император! Почему закрыли гавань?
– Какой еще император? – невозмутимо ответили с берега. – У нас давно Катерина…
Из крепости начали стрелять! Петр даже не особенно испугался, только изумленно попятился, когда первое ядро шлепнулось в воду совсем рядом с ним. Спешно обрубили якорный канат, на веслах и парусах помчались прочь.
– Плывем в Ревель, – приказал Миних.
В три часа ночи Петр высадился в Ораниенбауме, ему было дурно. Он начал составлять письмо к жене:
– Дьявол, я уже согласен поделить с ней власть над Россией!
Екатерина проследовала в Ораниенбаум. Гвардия шла за ней, полностью признавая ее главнокомандование. Гусары же Алексея Орлова и артиллерия отправились вперед и сейчас, вероятно, уже достигли Петергофа.
В Сергиевой пустыни Екатерину ждал вице-канцлер Александр Голицын с письмом от Петра.
– Проезжали ли вы Петергоф? – спросила Екатерина.
– Проезжал. Гусары и артиллерия уже там.
– И как голштинцы?
– Гусарам пришлось проучить их – кулаками. Екатерина прочла письмо и тяжело вздохнула.
– Ответа не будет.
Протянула Голицыну руку для поцелуя:
– Это вам заменит присягу.
В Петергофе генерал Измайлов вручил Екатерине второе письмо от мужа.
– Откуда вы прибыли? – спросила она, спешиваясь.
– Из Ораниенбаума… от его величества.
– Величие его ложно! – гордо ответила Екатерина. – Что в письме?
– Отречение, матушка.
Екатерина мигом взломала печати на конверте.
– Почему карандашом? – недовольно произнесла она. – Куда это годится? Ужель и чернил найти не смог? К тому же сие отречение составлено бездарно. Придется переписать. Я сама его напишу!
Глава 30 Колики и апоплексический удар
Екатерина плотнее укуталась в плащ. Отчего-то ей и в голову не пришло приказать зажечь хоть одну свечу. Стылые сумерки, черные стены, едва угадывающиеся кресла посреди гостиной. Руки в который уже раз сжали рукоять шпаги, пальцы наткнулись на темляк. Чужой, непривычного плетения. Мальчик, что подал его, смутно знаком.
Вахмистр Потемкин.
Она мало кого знала в полку. Кроме Григория и Алексея Орловых, которые могли затмить собой добрую дюжину красавцев.
– Григорий, душа моя, а кто этот мальчик?
– Потемкин, Катенька. Тоже Григорием зовут.
– Славное имя. Из каких он?
– Южных кровей, матушка.
– Ученый отрок. Сие добрый знак. Не зря, видать, все вокруг затеяно.
То было сказано днем. Сейчас же, глубоким вечером, глядя на зарево пожарища, вспомнила великая княгиня, что уже дважды встречались они. В первый раз то было пять лет назад (Господи, всего пять лет – а кажется, что в другой жизни!). Тогда московские студенты представлялись в Ораниенбауме великокняжеской чете. Второй же… Да, трудно представить, но она забыла, с кем стояла у гроба Елизаветы, названой матушки и всесильной императрицы. Тот рейтар, смотревший на нее так, что, казалось, дай ему волю – испепелил бы своей страстью.
– Однако сие уже третья наша встреча. Бог троицу любит. Не зря, ох, не зря я встречаю тебя, мальчик.
Петр сам выбрал место для временной ссылки – им оказалась Ропша. Туда бывший император и отправился бесславно – в карете с опущенными шторами, в сопровождении Алексея Орлова, Федьки Барятинского, капитана Пассека и других таких же гуляк и сорвиголов. С ними ехал и не так давно попавший в поле зрения Екатерины вахмистр Потемкин.
Войска потянулись в обратный путь. Кабаки и трактиры были для солдат растворены – пошел пир на весь мир: солдаты и солдатки в неистовом восторге и радости носили ушатами вино, водку, пиво, мед, шампанское и всякие другие вина, сливали все вместе без разбору в кадки и бочонки.
Только удалось прилечь, Екатерину подняли с постели:
– Беда! Измайловская лейб-гвардия поднялась по тревоге. Кто-то ляпнул, что король прусский тридцать тысяч солдат у Невы высадил, чтобы Петрушку вызволить. Ой, беда! Перепились все.
Екатерина натянула лосины и ботфорты:
– Коня! Да подай шпагу и перчатки. Орловы где? Гетман?
– Тоже пьяные…
Екатерина вонзила шпоры в крутые бока жеребца. За ней уже спешили адъютанты с коптящими факелами. Вот и гвардейцы. Злые, остервенелые… Усатые лица, искаженные рты…
Бриллиант заржал, взвиваясь на дыбы перед толпой.
– Стойте! Я сама перед вами… стойте!
Ее узнали.
– Матушка наша… Виват!
Екатерина отсалютовала измайловцам шпагой:
– Славной российской гвардии… ур-р-ра-а!
Вбросила клинок в ножны. Приподнялась в стременах.
– Ребята! Я, как и вы, не спала три ночи! И вот только легла, как вы разбудили меня. А у меня ведь завтра тяжелый день – я должна быть в Сенате. Прошу, расходитесь!..
С раннего утра все мосты, площади и перекрестки были взяты под прицел пушек, пикеты усилены, кабаки заперты. Но похмелье уже сменило вчерашний задорный угар. Со всех сторон все чаще слышалось:
– Что ж мы, братцы? Петр как-никак внук Петра Великого, нашей крови, русской. А Катерина кто? Немка и есть! И про сына забыла, чай, наследник-то законный имеется! Как же мы, не подумавши?
Екатерина принялась раздавать награды направо и налево. Ордена, чины, «души»… И среди друзей и соратников мгновенно началась настоящая перепалка – чьи заслуги больше, чей вклад ценнее…
А вскоре произошло и совсем уж возмутительное, вопиющее событие. За обеденным столом Екатерины, в присутствии придворных, Гришка Орлов изволил пошутить:
– А ведь я, матушка, такое влияние на гвардию имею, что если бы захотел совместно с братишками тебя с престола скинуть, то через месяц справился бы…
Екатерина смолчала. Зато не смолчал Кирило Разумовский:
– Месяц, говоришь, Гриша? Так мы б, месяца не дожидаясь, тебя бы уже через неделю за шею повесили.
…В Петербурге, стараясь побыстрее завоевать популярность, императрица сбавила налоги на соль. Но вопреки расчетам, вопреки ожиданиям простые люди, собравшиеся у дворца, не разразились ликующими криками, а молча постояли некоторое время, перекрестились и разошлись. Екатерина, стоявшая у окна, не выдержав, произнесла во всеуслышание:
– Какое тупоумие!
Вскоре ей донесли, что в Москве, когда губернатор, собрав народ и выстроив местный гарнизон, огласил манифест о восшествии Екатерины на престол, а затем выкрикнул здравицу новой государыне, получил в ответ мертвое молчание. Молчание это было поистине жутким. Крикнул вторично – и снова молчание. Крикнул третий раз – и тогда «Ура Екатерине!» нестройно, слабо подхватили стоящие рядом с губернатором офицеры. По солдатским же рядам прокатился глухой ропот.
Екатериной, помимо ее воли, овладел страх: потерять то, что она осмелилась взять. Страх этот, который она не в силах была скрыть, сквозил в каждом ее слове, взгляде и жесте, так что это отмечали даже малознакомые люди.
«Удивительно, я ведь всегда считала себя храброй, и ни один человек, даже ни один мужчина не посмел бы усомниться в моей отваге и дерзости… Так почему же теперь я трепещу? Очень просто: завоевать расположение министров и придворных мало, я хочу нравиться своему народу, своим подданным».
А всего через две недели в Ропше, под арестом, скоропостижно скончался бывший российский император Петр III…
Произошло это во время обычного обеда, в присутствии немалого количества народа. Были тут Алексей Орлов, известный актер Федор Волков, князь Федор Барятинский и еще несколько человек. Был там и вахмистр Потемкин.
Что случилось, доподлинно потом никто сказать не мог. Только раздался вдруг страшный крик, из покоев императора выбежал смертельно бледный Барятинский, за ним Волков. Слуги бросились внутрь.
Видевшие – постарались забыть. Кто не забыл – тому пришлось замолчать навек.
На дорогом ковре лежал истекающий кровью Петр. Кровь была везде – на полу, на стенах, на дорогой скатерти, свисающей со стола… на руках Алексея Орлова…
Вахмистр стоял перед Петром на коленях, словно пытаясь помочь бывшему императору. Руки его все еще были опущены на плечи Петра. Лицо у того было черным, опухшим, один глаз закрыт, второй, невидящий, выпученный в последнем отчаянии, в смертельной муке, был устремлен в потолок…
…Екатерина развернула письмо от Алексея Орлова.
«Матушка, милосердная Государыня. Как мне изъяснить, описать, что случилось? Не веришь верному рабу своему, но как перед Богом скажу истину. Матушка! Готов идти на смерть, но сам не знаю, как эта беда случилась. Погибли мы, когда ты не помилуешь. Матушка, его нет на свете. Но никто сего не думал. И как нам задумать поднять руку на Государя. Но, Государыня, свершилась беда. Он заспорил за столом с князем Федором, не успели мы разнять, а его уже и не стало. Сами не помним, что делали, но все до единого виноваты, достойны казни. Помилуй меня хоть для брата. Повинную тебе принес, и разыскивать нечего. Прости или прикажи скорее окончить. Свет не мил, прогневали тебя и погубили души навек».
Императрица перекрестилась.
– Дураки, прости Господи… – медленно произнесла она. – Нельзя было им дело государственной важности поручать! Орлова Алешку ко мне доставить! – велела, чуть подрагивая уголками губ. – Кару за свою глупость понесет надлежащую.
В официальном манифесте смерть императора объяснялась кишечными коликами и апоплексическим ударом. Новоиспеченный граф Алексей Орлов уехал на время в пожалованное ему имение – видимо, отбывать покарание.
Вахмистра же Потемкина ожидало поистине великое будущее.
Е. И. В. Екатерина II графу Станиславу Августу Понятовскому
2-го сего июля [1762 г.]
Убедительно прошу вас не спешить приездом сюда, потому что ваше присутствие при настоящих обстоятельствах было бы опасно для вас и очень вредно для меня. Переворот, который только что совершился в мою пользу, походит на чудо. Прямо изумительно то единодушие, с которым это произошло. Я завалена делами и не могу сообщить вам подробную реляцию. Всю жизнь я буду только стремиться быть вам полезной и уважать и вас, и вашу семью; но теперь здесь все полно опасности, чревато последствиями. Я не спала три ночи и ела только два раза за четыре дня. Прощайте; будьте здоровы.
Все умы еще в брожении. Я вас прошу воздержаться от поездки сюда, из страха усилить его. Уже шесть месяцев, как замышлялось мое восшествие на престол. Петр III потерял ту незначительную долю рассудка, какую имел. Он во всем шел напролом; он хотел сломить гвардию, для этого он вел ее в поход; он заменил бы ее своими голштинскими войсками, которые должны были оставаться в городе. Он хотел переменить веру, жениться на Л. В. [Елисавете Воронцовой], а меня заключить в тюрьму. В день празднования мира, нанеся мне публично оскорбления за столом, он приказал вечером арестовать меня. Мой дядя, принц Георг, заставил отменить этот приказ.
С этого дня я стала вслушиваться в предложения, которые делались мне со времени смерти Императрицы. План состоял в том, чтобы схватить его в его комнате и заключить, как принцессу Анну и ее детей. Он уехал в Ораниенбаум. Мы были уверены в большом числе капитанов гвардейских полков. Узел секрета находился в руках трех братьев Орловых; Остен вспомнил, что видел старшего, следовавшего всюду за мною и делавшего тысячу безумств. Его страсть ко мне была всем известна, и все им делалось с этой целью. Это – люди необычайно решительные и, служа в гвардии, очень любимые большинством солдат. Я очень многим обязана этим людям; весь Петербург тому свидетель.
Умы гвардейцев были подготовлены, и под конец в тайну было посвящено от 30 до 40 офицеров и около 10 000 солдат. Не нашлось ни одного предателя в течение трех недель, так как было четыре отдельных партии, начальники которых созывались на совещания, а главная тайна находилась в руках этих троих братьев; Панин хотел, чтоб это совершилось в пользу моего сына, но они ни за что не хотели согласиться на это.
Я была в Петергофе. Петр III жил и пьянствовал в Ораниенбауме. Согласились на случай предательства не ждать его возвращения, но собрать гвардейцев и провозгласить меня. Рвение ко мне вызвало то же, что произвела бы измена. В войсках 27-го распространился слух, что я арестована. Солдаты волнуются; один из наших офицеров успокаивает их. Один солдат приходит к капитану Пассеку, главарю одной из партий, и говорит ему, что я погибла. Он уверяет его, что имеет обо мне известия. Солдат, все продолжая тревожиться за меня, идет к другому офицеру и говорит ему то же самое. Этот не был посвящен в тайну; испуганный тем, что офицер отослал солдата, не арестовав его, он идет к майору, а этот последний послал арестовать Пассека. И вот весь полк в движении. В эту же ночь послали рапорт в Ораниенбаум. И вот тревога между нашими заговорщиками. Они решают прежде всего послать второго брата Орлова ко мне, чтобы привезти меня в город, а два другие идут всюду извещать, что я скоро буду. Гетман, Волконский, Панин знали тайну.
Я спокойно спала в Петергофе, в 6 часов утра, 28-го. День прошел очень тревожно для меня, так как я знала все приготовления. Входит в мою комнату Алексей Орлов и говорит мне с большим спокойствием: «Пора вам вставать; все готово для того, чтобы вас провозгласить». Я спросила у него подробности; он сказал мне: «Пассек арестован». Я не медлила более, оделась как можно скорее, не делая туалета, и села в карету, которую он подал. Другой офицер под видом лакея находился при ее дверцах; третий выехал навстречу ко мне в нескольких верстах от Петергофа. В пяти верстах от города я встретила старшего Орлова с князем Барятинским-младшим; последний уступил мне свое место в одноколке, потому что мои лошади выбились из сил, и мы отправились в Измайловский полк; там было всего двенадцать человек и один барабанщик, который забил тревогу. Сбегаются солдаты, обнимают меня, целуют мне ноги, руки, платье, называют меня своей спасительницей. Двое привели под руки священника с крестом; вот они начинают приносить мне присягу. Окончив ее, меня просят сесть в карету; священник с крестом идет впереди; мы отправляемся в Семеновский полк; последний вышел к нам навстречу к криками vivat. Мы поехали в Казанскую церковь, где я вышла. Приходит Преображенский полк, крича vivat, и говорят мне: «Мы просим прощения за то, что явились последними; наши офицеры задержали нас, но вот четверых из них мы приводим к вам арестованными, чтобы показать вам наше усердие. Мы желали того же, чего желали наши братья».
Приезжает конная гвардия; она была в диком восторге, которому я никогда не видела ничего подобного, плакала, кричала об освобождении отечества. Эта сцена происходила между садом гетмана и Казанской. Конная гвардия была в полном составе, во главе с офицерами. Я знала, что дядю моего, которому Петр III дал этот полк, они страшно ненавидели, поэтому я послала к нему пеших гвардейцев, чтобы просить его оставаться дома, из боязни за его особу. Не тут-то было: его полк отрядил, чтоб его арестовать; дом его разграбили, а с ним обошлись грубо.
Я отправилась в новый Зимний дворец, где Синод и Сенат были в сборе. Тут наскоро составили манифест и присягу. Оттуда я спустилась и обошла пешком войска, которых было более 14 000 человек гвардии и полевых полков. Едва увидали меня, как поднялись радостные крики, которые повторялись бесчисленной толпой.
Я отправилась в старый Зимний дворец, чтобы принять необходимые меры и закончить дело. Там мы совещались и решили отправиться, со мною во главе, в Петергоф, где Петр III должен был обедать. По всем большим дорогам были расставлены пикеты, и время от времени к нам приводили лазутчиков.
Разослав всех наших курьеров и взяв все меры предосторожности с нашей стороны, около 10 часов вечера я оделась в гвардейский мундир и приказала объявить меня полковником – это вызвало неописуемые крики радости. Я села верхом; мы оставили лишь немного человек от каждого полка для охраны моего сына, оставшегося в городе. Таким образом, я выступила во главе войск, и мы всю ночь шли в Петергоф. Когда мы подошли к небольшому монастырю на этой дороге, является вице-канцлер Голицын с очень льстивым письмом от Петра III.
Я не сказала, что, когда я выступила из города, ко мне явились три гвардейских солдата, посланные из Петергофа, распространять манифест среди народа, говоря: «Возьми, вот что дал нам Петр III, мы отдаем это тебе и радуемся, что могли присоединиться к нашим братьям».
За первым письмом пришло второе; его доставил генерал Михаил Измайлов, который бросился к моим ногам и сказал мне: «Считаете ли вы меня за честного человека?» Я ему сказала, что да. «Ну так, – сказал он, – приятно быть заодно с умными людьми. Император предлагает отречься. Я вам доставлю его после его совершенно добровольного отречения. Я без труда избавлю мое отечество от гражданской войны». Я возложила на него это поручение; он отправился его исполнять. Петр III отрекся в Ораниенбауме безо всякого принуждения, окруженный 1590 голштинцами, и прибыл с Елисаветой Воронцовой, Гудовичем и Измайловым в Петергоф, где, для охраны его особы, я дала ему шесть офицеров и несколько солдат. Так как это было [уже] 29-е число, день Петра и Павла, в полдень, то нужно было пообедать. В то время как готовился обед для такой массы народу, солдаты вообразили, что Петр III был привезен князем Трубецким, фельдмаршалом, и что последний старался примирить нас друг с другом. И вот они поручают всем проходящим, и, между прочим, гетману, Орловым и нескольким другим [передать мне], что уже три часа, как они меня не видели, что они умирают со страху, как бы этот старый плут Трубецкой не обманул меня, «устроив притворное примирение между твоим мужем и тобою, как бы не погубили тебя, а одновременно и нас, но мы его в клочья разорвем». Вот их выражения. Я пошла к Трубецкому и сказала ему: «Прошу вас, сядьте в карету, между тем как я обойду пешком эти войска».
Я ему сказала то, что происходило. Он уехал в город, сильно перепуганный, а меня приняли с неслыханными восклицаниями; после того я послала, под начальством Алексея Орлова, в сопровождении четырех офицеров и отряда смирных и избранных людей, низложенного Императора за 25 верст от Петергофа, в местечко, называемое Ропша, очень уединенное и очень приятное, на то время, пока готовили хорошие и приличные комнаты в Шлиссельбурге и пока не успели расставить лошадей для него на подставу. Но Господь Бог расположил иначе.
Страх вызвал у него понос, который продолжался три дня и прошел на четвертый; он чрезмерно напился в этот день, так как имел все, что хотел, кроме свободы. (Попросил он у меня, впрочем, только свою любовницу, собаку, негра и скрипку; но, боясь произвести скандал и усилить брожение среди людей, которые его караулили, я ему послала только три последние вещи.) Его схватил приступ геморроидальных колик вместе с приливами крови к мозгу; он был два дня в этом состоянии, за которым последовала страшная слабость, и, несмотря на усиленную помощь докторов, он испустил дух, потребовав [перед тем] лютеранского священника.
Я опасалась, не отравили ли его офицеры. Я велела его вскрыть; но вполне удостоверено, что не нашли ни малейшего следа [отравы]; он имел совершенно здоровый желудок, но умер он от воспаления в кишках и апоплексического удара. Его сердце было необычайно мало и совсем сморщено.
После его отъезда из Петергофа мне советовали отправиться прямо в город. Я предвидела, что войска будут этим встревожены. Я велела распространить об этом слух, под тем предлогом, чтобы узнать, в котором часу приблизительно, после трех утомительных дней, они были бы в состоянии двинуться в путь. Они сказали: «Около 10 часов вечера, но пусть и она пойдет с нами». Итак, я отправилась с ними, и на полдороги я удалилась на дачу Куракина, где я бросилась, совсем одетая, в постель. Один офицер снял с меня сапоги. Я проспала два с половиной часа, и затем мы снова пустились в путь. От Екатериненгофа я опять села на лошадь, во главе Преображенского полка, впереди шел один гусарский полк, затем мой конвой, состоявший из конной гвардии; за ним следовал, непосредственно передо мною, весь мой двор. За мною шли гвардейские полки по их старшинству и три полевых полка.
В город я въехала при бесчисленных криках радости, и так ехала до Летнего дворца, где меня ждали двор, Синод, мой сын и все то, что является ко двору. Я пошла к обедне; затем отслужили молебен; потом пришли меня поздравлять. Я почти не пила, не ела и не спала с 6 часов утра в пятницу до полудня в воскресенье; вечером я легла и заснула. В полночь, только что я заснула, капитан Пассек входит в мою комнату и будит меня, говоря: «Наши люди страшно пьяны; один гусар, находившийся в таком же состоянии, прошел перед ними и закричал им: “К оружию! 30 000 пруссаков идут, хотят отнять у нас нашу матушку”. Тут они взялись за оружие и идут сюда, чтобы узнать о состоянии вашего здоровья, говоря, что три часа они не видели вас и что они пойдут спокойно домой, лишь бы увидеть, что вы благополучны. Они не слушают ни своих начальников, ни даже Орловых». И вот я снова на ногах, и, чтобы не тревожить мою дворцовую стражу, которая состояла из одного батальона, я пошла к ним и сообщила им причину, почему я выхожу в такой час. Я села в свою карету с двумя офицерами и отправилась к ним; я сказала им, что я здорова, чтоб они шли спать и дали мне также покой, что я только что легла, не спавши три ночи, и что я желаю, чтоб они слушались впредь своих офицеров. Они ответили мне, что у них подняли тревогу с этими проклятыми пруссаками, что они все хотят умереть за меня. Я им сказала: «Ну, спасибо вам, но идите спать». На это они мне пожелали спокойной ночи и доброго здоровья и пошли, как ягнята, домой, и все оборачивались на мою карету, уходя. На следующий день они прислали просить у меня извинения и очень сожалели, что разбудили меня, говоря: «Если каждый из нас будет хотеть постоянно видеть ее, мы повредим ее здоровью и ее делам». Потребовалась бы целая книга, чтобы описать поведение каждого из начальствующих лиц. Орловы блистали своим искусством управлять умами, осторожною смелостью в больших и мелких подробностях, присутствием духа и авторитетом, который это поведение им доставило. У них много здравого смысла, благородного мужества. Они патриоты до энтузиазма и очень честные люди, страстно привязанные ко мне, и друзья, какими никогда еще не был никто из братьев; их пятеро, но здесь только трое было. Капитан Пассек отличался стойкостью, которую он проявил, оставаясь двенадцать часов под арестом, тогда как солдаты отворяли ему окна и двери, дабы не вызвать тревоги до моего прибытия в его полк, и в ежеминутном ожидании, что его повезут для допроса в Ораниенбаум: об этом приказ пришел уже после меня.
Княгиня Дашкова, младшая сестра Елисаветы Воронцовой, хотя и очень желает приписать себе всю честь, так как была знакома с некоторыми из главарей, не была в чести вследствие своего родства и своего девятнадцатилетнего возраста, и не внушала никому доверия; хотя она уверяет, что все ко мне проходило через ее руки, однако все лица имели сношения со мною в течение шести месяцев прежде, чем она узнала только их имена. Правда, она очень умна, но с большим тщеславием она соединяет взбалмошный характер и очень нелюбима нашими главарями; только ветреные люди сообщили ей о том, что знали сами, но это были лишь мелкие подробности. И. И. Шувалов, самый низкий и самый подлый из людей, говорят, написал, тем не менее, Вольтеру, что девятнадцатилетняя женщина переменила правительство этой Империи; выведите, пожалуйста, из заблуждения этого великого писателя.
Приходилось скрывать от княгини пути, которыми другие сносились со мной еще за пять месяцев до того, как она что-либо узнала, а за четыре последних недели ей сообщали так мало, как только могли. Твердость характера князя Барятинского, который скрывал от своего любимого брата, адъютанта бывшего Императора, эту тайну, потому что тот был бы доверенным не опасным, но бесполезным, заслуживает похвалы. В конной гвардии один офицер, по имени Хитрово, 22-х лет, и один унтер-офицер, 17-ти, по имени Потемкин, всем руководили со сметливостью, мужеством и расторопностью.
Вот приблизительно наша история…
Глава 31 Государыня а не «мадам Орлова»
– И что мне было делать, матушка императрица, когда сей господин заявил, что прерывает переговоры?
Екатерина закусила губу.
– Продолжай, Румянцев!
– Да уж что продолжать-то? Враги наши, невероятным усилиями все-таки согласившиеся вступить в переговоры, в оцепенение впали… Твои солдаты тоже. А глава делегации, Григорий Александрович, лицо твое доверенное, пуще того разошелся. Я, кричит, ни о каком мире и слышать не желаю! Матушка императрица меня не для того сюда послала, чтобы я всякие позорные переговоры вел, с туркой замирялся!
Императрица кивнула – тайные донесения о том же говорили, те же слова Орлова повторяли. Кроме того, соглядатаи, коих, конечно, с некоторых пор Екатерина везде отправляла с генерал-фельдцехмейстером, уверяли, что не было ни одного дня, когда Григорий Александрович появился трезвым. Должно быть, в некотором подпитии, в коем он появлялся перед исмаилитами, видел он вызов врагу.
– И что далее?
– А далее дипломаты турецкие встали молча и к дверям отправились. А генерал Орлов им вслед кричал, что ему хватит и двух сотен сабель да пары десятков пушек, чтобы Стамбул захватить да вновь его православным сделать и Константинополем, как встарь, назвать.
Румянцев умолк. Говорить более было не о чем – постыдный провал переговоров уже сам по себе был полнейшим афронтом. А уж о балах, которые устроил Орлов после сего скандала в Яссах, упоминать не следовало – вина лились рекой, водка и того пуще, купание в ваннах с шампанским на манер французских фонтанов, костюм Орлова, щедро расшитый бриллиантами… Миллионный, сказывали, камзол – именно столько стоили камни, пожалованные императрицей аманту.
– А что же ты, граф?
– Я, матушка императрица, раб твой верный. Но как мне было остановить твоего вечно пьяного посланника, – главнокомандующий не смог более сдерживаться, – ежели он меня с моего поста прилюдно отставил да еще и повесить обещался? Я, кричит, теперь наведу порядок в войске, вы у меня все будете, как измайловцы, по струночке ходить.
Императрица молча улыбнулась, но Румянцев в этой улыбке не прочитал для предмета разговора ничего хорошего. Гневна была Екатерина Алексевна, ох и гневна!
Да и то – есть же предел всему! Ну пусть у тебя миллионные состояния, сотни тысяч душ, список званий длиннее твоего собственного имени. Но это же дело государственное, серьезнейшее. Должен же понятие иметь, куда и с какой целью Екатерина именно тебя, никчемного, отправляет.
«Ох, Гришенька, амант ты мой, любовь долгая да пустая. Ох и выставил ты меня дурою перед всем миром, ох и постарался… На благородной ниве высокой дипломатии желала я взрастить помощника себе, соратника верного… Но тут уж и мое ангельское терпение не выдерживает!»
Императрица встала. В малом кабинете она обходилась без особых церемоний – простое платье, пенсне на цепочке (никто не становится моложе, увы), стол, заваленный бумагами, распахнутые в осенний сад окна. У камина на козетке дремлют в трогательном единении старый кот и щенок мопса. Сделала Румянцеву знак, чтобы не вставал, прошлась к окну, зачем-то закрыла его плотно, задернула шторы, потом вновь отдернула тяжелую ткань, открыла окно.
«Волнуется Екатерина Алексеевна… Бедняга – такой скандал, а самые доверенные ножи в спину втыкают, да еще на балах баб заголяют да в этаком виде по городу в открытых колясках потом разъезжают, крича непотребное».
– Спасибо тебе, Румянцев, за честность твою. Не хотелось верить слухам да сплетням, однако слова твои – уж не сплетни-то со слухами. Это правда, горькая, но от того целебная. Быть по сему! Ступай, друг мой. Дел у нас много. Возвращайся и попытайся все же вернуть за стол переговоров врагов наших. Не дело нам страны в нелепой войне истощать. Тебе я передаю полномочия дипломатические, какими генерала Орлова по крайнему доверию отяготила. Ступай, посланник империи!
Румянцев низко поклонился и вышел. Доверие императрицы стоило многого.
Екатерина же вновь стала мерить шагами кабинет.
«Да, хватит уже! Заигрался, похоже, Гришутка-то…»
Она присела к столу и заскрипела пером – черновики бумаг, к коим имели доступ единицы, она всегда составляла сама да так, чтобы иного смысла, кроме ею заложенного, в словах документа никто найти не мог. Писала медленно, то и дело поднимая глаза вверх, по буквочке составляя рескрипт, который наконец поставит в отжившей связи с Орловым все точки над «i».
Наконец труд сей нелегкий завершила. Перечитала еще раз, кивнула сама себе и переписала набело, черновик изорвав в мелкие клочки. Встряхнула колокольчиком.
– Канцлера ко мне, начальника кабинета Тайной стражи тож. Через четверть часа чтоб были.
Секретарь поклонился. Он уже заметил пятна чернил на пальцах императрицы.
– Сам же возвращайся да займись указом. После подписи моей разошлешь по принадлежности. И еще одно… – тут ухмылка, которую секретарь весьма редко видывал на лице Екатерины, пробежала по ее губам, – …желаю я, чтобы об сем узнало как можно больше народа. Особенно дам, коих генерал Орлов почтил своим вниманием. Как сие сделано будет, мне все равно, однако я хочу, чтобы все знали, что от сего мига он отставлен от всех постов ввиду ухудшившегося здоровья. И что я милостиво позволяю отправиться путешествовать для поправления оного.
Секретарь молчал. Слухами земля полнится: об афронте на переговорах он знал почти от самого Румянцева. А то, что услышал сейчас, яснее ясного говорило об окончательной отставке Орлова от сердца императрицы и звания фаворита.
– И еще одно, Александр Семенович. – Екатерина поманила молодого человека поближе. – Ты уж и так пользуешься моим покровительством, пока меня не подвел ни разу, так и здесь не оплошай.
Васильчиков в третий раз молча поклонился – умом особым он не блистал, однако сразу понял, что его роль невелика и лишь в своих комнатах он царит и правит. А в остальном, как ни горько это сознавать, он лишь новая игрушка императрицы. И стоит появиться на горизонте более сильному сопернику, как его имя будет тотчас же забыто. Да и то, камер-юнкером он стал вовсе не за воинские доблести. А секретарем так и вовсе без году неделя. Да, это честь великая, однако и принижение достоинства. Хотя тут уж выбирать не приходится – приказы императрицы не обсуждают. Начни он спорить – сразу лишится всего, хорошо, если в дальний гарнизон не упекут, пусть с почетом, но… Коль высоко забрался, падать бывает ох как больно.
– Позови-ка ко мне, мил друг, Като Дашкову… Скажи ей, что я буду в зимнем саду в два пополудни ждать ее.
Появившийся в распахнувшихся дверях камердинер открыл рот, собираясь доложить о появлении канцлера, но Екатерина опередила его.
– Пускай!
Когда в два пополудни изрядно пополневшая за полтора десятка лет Дашкова вошла в зимний сад, императрица уже была там.
– Ну вот наконец и ты, друг мой.
– Матушка, я не медлила ни секунды.
– Я знаю, Като. Мне так нужно с кем-то поговорить, однако друзей у меня в этих стенах, – императрица неопределенно повела руками, – совсем мало. Алексей бы меня понял…
– Екатерина, друг мой, однако уж более десяти лет прошло, пора тебе о нем и забыть.
– Ты же знаешь, что я не могу забыть ни о ком. Ни о ком, кто и по сей день жив в моем сердце.
– Ну будет тебе, Катюша, будет.
Императрица кивнула и похлопала подругу по руке.
– Ты права. Мертвые пусть не тревожат покой живых. Однако разговор нам предстоит долгий и серьезный, присядем же.
Дашкова послушно присела. Она уже догадывалась, что речь пойдет о чудесах, которые творит Орлов. Некоторые из слухов забавляли Дашкову, некоторые вызывали оторопь, иные даже отвращение. Похоже, что произошло нечто настолько серьезное, что переполнило почти бездонную чашу терпения императрицы.
«Ну что ж, Григорий Александрович кусочек-то лакомый. Даст Бог, сгодится дружба с ним… Но Катюше об этом знать пока не след».
– Милая, тебе предстоит стать моей жилеткой и советчиком. Устала я от фанаберий аманта своего, от всего устала.
– Матушка, немудрено. Иной бы благодарность нешуточную испытывал, учился бы каждый миг свободный…
– Григорий? Учился? Да ты шутишь, друг мой…
– Нет, я об ином человеке, имени коего ни ты ни я пока не знаем. А что Григорий? Обыватель, простец, твоею волею возведенный к самым вершинам, облагодетельствованный, но ничего не понявший. Мне кажется, милая, что ты разбаловала его сверх всякой меры и любовью своей, и подарками.
Императрица вздохнула: Дашкова была права, как ни горько это сознавать. Еще десять лет назад императрице сообщали о письмах французского дипломата Беранже в Париж.
«Этот русский открыто нарушает законы любви по отношению к императрице. У него есть любовницы в городе, которые не только не навлекают на себя гнев государыни за свою податливость Орлову, но, напротив, пользуются ее покровительством».
А сколько она домов и имений подарила мужьям этих красоток, сколько душ раздала! Только бы Гришенька ненаглядный спокойным был, дуэлировать направо и налево не принимался с рогоносцами этими.
– Сказывали, государыня, что и поколачивает тебя амант твой – так, легонько, чтобы помнила, кто в доме хозяин. Помнится, ты сама мне жаловалась на нрав его крутенький.
– Так мужчина же! Должен хозяином себя чувствовать.
Дашкова махнула рукой.
– Господи, Катя, пойми, твой Григорий от крепостного последнего ничем не отличается. Тонкое обращение ему чуждо, чувства живые для него заповедны. Он использует и любовь твою на благо своего кармана, и благодарность твою, и привязанность. А сам-то…
Дашкова фыркнула. Императрица порадовалась, что далеко не все еще ее подруге ведомо. Хотя наверняка помнит она об угрозе, изреченной тем же глупым ее амантом прямо за обеденным столом Екатерины, в присутствии немалого числа придворных:
– А ведь я, матушка, такое влияние на гвардию имею, что если бы захотел, совместно с братишками тебя с престола скинуть, то через месяц справился бы…
Тут уж о благодарности говорить глупо чрезвычайно.
Сейчас императрица старалась не вспоминать о том, как отрадно было для нее рождение их с Григорием сына, какие сладостные мечтания посещали ее в те мгновения, когда кормила она кроху. Как мечтала о том, что вот все вскоре устроится и образуется и в их семье с Григорием тоже все станет спокойно и хорошо.
Не зря же тогда Орлов умолял ее повенчаться с ним, чтобы не жить «в грехе да не смущать народец-то примером дурным». Однако доброхоты доносили ей, что этакими мармеладными словами он только ее сердце растопить пытается. А сам же направо и налево болтает, что обвенчается с «Катюхой» и вообще всех за пояс заткнет. Умишка-то Бог не дал совсем. Более того: похоже, что все-таки подбросил, потом отобрать решил. И в сем был успешен и успешен весьма.
Сенат же проект о новом бракосочетании императрицы поверг в уныние крайнее. Граф Панин, сам того, быть может, не желая, выразил общее мнение всего одной фразой:
– Мадам Орлова русской императрицей не будет никогда.
Да сама Екатерина, как бы сладостны ей ни были картины семейного счастья, понимала, что сей удел не по ней.
Мадам Орлова… Фи! Даже не звучит сие, как положено императорскому имени звучать… А уж мысль о том, что над ней, императрицей российской, движимой высокими устремлениями, власть получит субъект умишка невеликого да к тому же благонравием не блиставший отродясь. И это муж? Муж императрицы? Никогда!
Но сии мысли появились уже, конечно, позже. Григория же расстроенные планы венчания, похоже, не сильно и задели. Ведь его никто не выгонял, ни званий, ни поместий не лишал. Скорее напротив, Екатерина, мечтая о соратнике, все эти десять, нет, уже дюжину лет, старалась привлечь Орлова к делу управления страной.
И не одного почета или наград ради. Как любому правителю, ей крайне нужны были люди надежные и толковые на всех должностях, а уж на ответственных-то – в первую очередь.
– Да видела я все это, Като, видела. Однако не хотела верить – ведь женщина я все же, хоть и правительница! – Екатерина с трудом вернула себя в сегодня и сейчас.
– Так в том-то и беда, Катя! Беда, что правительница. Была б ты обывательницей какой или дворяночкой где-нибудь в имении под Тверью… Выгнала б своего неблагодарного аманта, обобрав до нитки, чтоб неповадно было бездельничать да языком трепать, и обзавелась бы нормальным мужем, который помогал бы тебе во всем, ну или хотя бы не мешал, чем частенько твой Гришатка-то грешил. Ты ему пост серьезный, он – все себе в карман. Ты ему поручение важное – он его хорошо не исполнит, а то и переврет до слова последнего. А денежки-то, на сие поручение выделенные, опять в свой карман бездонный! Да потом все на баб и спустит. На балы и напитки, на девок да увеселения срамные.
– Ну на кого же мне было надеяться? Кому поручения серьезные давать, как не мужчине, который рядом со мной уж столько лет, который меня, чего теперь греха таить, и короной-то вознаградил?
– Он? Вознаградил? – Дашкова отставила бокал с рубиновым бургундским. – Матушка моя, подружка богоданная, да что ты говоришь-то?! И он, и братья – всего лишь твои порученцы! Они помогли тебе стать императрицею – но только помогли. Не будь Орловых, нашлись бы иные… Соколовы, Воробьевы, Галкины… Да и сколько их было, иных, ты вспомни! Кирило Разумовский, Никита Панин, да тот же Пассек, да Потемкин молодой…
– И потом какой-то из Галкиных меня бы тащил под венец… – Екатерина улыбнулась, но как-то не очень весело.
– Конечно! Орловы, конечно, видные мужчины, а уж в молодости еще краше были, однако не они возвели тебя, а ты, матушка, мудро воспользовалась их существованием и полным отсутствием малейших крох почтения к дурачку твоему голштинскому!
– Зря ты так говоришь, Като! Они жизнью своей рисковали…
– Они ничем не рисковали!
– А если бы сорвалось? Если бы против меня и измайловцев встали войска?
– Ничего бы не произошло, Катенька. Говорю же, глуп был твой Петр, очень быстро мог бы армию против тебя поднять, да не сообразил. И времена изменились. Елизавета Петровна, царство ей небесное, Брауншвейгскую династию свергла без выстрелов и войск. А времена тогда были не чета нынешним – крутехоньки. Орловы-то твои не единственными были, кому Петр мешал, иначе бы, поверь, крепость для тебя лучшим исходом оказалась бы. Так что в благодарности своей ты уж меру знай. Иначе я не постесняюсь слов, чтобы тебе глаза-то открыть.
Дашкова не так сильно и кривила душой. Орлова она была бы не прочь заполучить в аманты, но соображения «против» сильно перевешивали ее желания – уж очень избалован женским вниманием был Григорий свет Александрович. А зачем нужен избалованный амант? Сие есть нонсенс – амант должен баловать, одаривать не только любовью, но и заботой, вниманием, не только подарками, но и душой своей.
Однако императрице давно уже пора было освободиться от этого простолюдина – и потому Дашкова не жалела красок.
– Да мне-то уж, госпожа Дашкова, – вздохнула Екатерина, – и глаза открывать нет надобности. Как что ни вспомню – так оно само мне и глаза открывает, и голову проясняет. Да еще вслед и дурой наивной называет.
– Ну, матушка, это ты зря…
– Да вот не зря. Забудем сейчас о том, что он с моей душой сделал, чего наговорил наедине и прилюдно. Только на деяния его посмотрим. Вот сделала я его генерал-фельдцехмейстером, сиречь начальником всей российской артиллерии, генерал-директором инженерного корпуса, шефом кавалергардского корпуса, подполковником конной гвардии – командиром всех конногвардейских полков. Полковником в них во всех по старой, еще до меня заведенной традиции всегда был император. А теперь сим полковником стала я. И что же?
– Да, Катя, что же?
– Ровным счетом ничего. Словно нет этого человека, словно российскою артиллерией, инженерным корпусом и конногвардейскими полками с того мига не управляет никто. То есть управляют, но чины мелкие, кои на свой страх и риск и решения принимают, и челобитные мне поверх головы начальника своего отсылают. Разве это хорошо?
– Нехорошо, Катюша, но ты не все упомнила. А разве не он теперь президентом канцелярии, ведавшей приезжавшими в Россию иностранными колонистами? Разве не он президентом Вольного экономического общества? Не он председателем Комиссии по составлению Уложения?
– Он, матушка, он… Однако от последней должности он, как бы звонка она ни была, отказался через неделю. Не по его характеру живому было сидеть и крючкотворов слушать…
– Да ты, голубица, никак своего Гришеньку оправдывать собралась? Матушка, с чего бы? Неужто так крепка твоя любовь, что ты прямо перед собой чудовища не видишь?..
– Не вижу, Като, не вижу. Бездельника вижу, сластолюбца и болтуна вижу, человека, что деньги и имения превыше чувств человеческих ставит, вижу. А чудовища… Нет… Гриша-то прост, сама сколько раз мне говорила. Вознесся высоко, падать будет больно, но каждый его шаг, ежели, конечно, не говорит за него водка или иной крепкий напиток, каждый шаг его понятен: нахапать поболее, делая при этом поменее.
Дашковой с этим трудно было спорить: Орлов все посты, коими его озадачивала Екатерина, считал наказанием божьим. Достоинством можно было бы назвать такую лень фаворита: большой политикой и государственным управлением он совершенно не интересовался, в дела не лез.
– Бриллианты да поместья, вино да бабы – вот и все, что Гришеньке твоему нужно.
– И деньги, Като, ты о золоте забыла, – совсем уж печально усмехнулась императрица.
Давно уже донесли ей и то, как лихо обходился Орлов с деньгами, – половину всего, что отпускала казна на содержание пушкарей или конной гвардии, складывал он в свои карманы. Вторую половину, так и быть, отдавал по принадлежности. Но лишь половину, чего вряд ли хватало бы на все необходимые статьи расходов.
Дашкова могла бы возразить, что целую (!) половину. Ибо знавала примеры, когда начальник, не мудрствуя лукаво, считал казенные денежки своим собственным доходом и распоряжался ими в первую очередь для собственных нужд, а уж ежели комиссия какая собиралась приехать, то остаточки, так и быть, по принадлежности и отправлял.
– Я вот думаю, что по-настоящему проявил себя Гриша только в Москве, когда от Чумного бунта страну избавил.
Да, то история была громкая, постыдная, грязная. Москвичи хворали сотнями, а здоровых врачи загоняли в карантины, причем, вот что удивительно, предпочитая людей состоятельных. И чем богаче был такой подозрительно здоровый человек, тем больший срок карантина ему был назначен и, понятное дело, большей была сумма, которую следовало за выход из оного карантина заплатить. Гнев горожан понять было нетрудно – бунт оказался нешуточным: митрополита убили, губернатор от страха из Белокаменной бежал.
– Катенька, дело-то уважаемое, спору нет. Да вот только с таким делом и толковый городовой справился бы, буде ему сотню-другую штыков дали да полномочиями бескрайними наделили. Это же не победу над внешним врагом одержать, где без стратегии и тактики, фортификации и… и всего остального шагу не ступить.
– И то верно…
– А все эти россказни о высоких искусствах, коим он покровительствует, о науках, в коих он разбирается как ученый, – суть выдумки, к сожалению. Сам Михайла Василич смеялся, сказывают, когда ему донесли, что он в многолетней переписке с Орловым твоим состоит.
Тут расхохоталась и императрица.
– И то верно – у Орлова десятки тысяч душ, подаренные мною поместья и дворцы, десять тысяч рублей в месяц золотом на мелкие расходы, сотни юных красоток, до коих еще он дотянуться не успел. До Ломоносова ли?
– А еще Михайла Василич говорил, что слыхал он, будто Гришатка твой с Руссо состоит в переписке, чуть ли не высочайше просматривает статьи Энциклопедии. Говорил, что, услышавши такое, смеялся чуть не до слез.
– Да, Грише Руссо без надобности, сие есть чистая правда.
– Ты, Катя, не печалься. Ты подумай вот о чем: дюжину лет он был с тобой рядом. И ты не можешь ведь сказать, что это были плохие годы?
– Нет. – Екатерина отрицательно качнула головой. – Не могу. Всякие, но точно не самые плохие.
– А раз так, то и хорошо. Однако сия дюжина лет прошла. И следует вступать в новую дюжину лет с благодарностью за прошлые, но и с надеждой на новые радости.
– А Гриша?
– Катя, родная, он уже никогда не станет для тебя тем, кем был десять лет назад. Отпусти его, пусть поселится где-нибудь в Гатчине или в Ропше…
– Сказывают, он в столицу рвется, в ноги пасть желает.
– Да и пусть себе рвется! У тебя вон день расписан с рассвета и до заката. Прими его, простись нежно. И отправь с наказом никогда более не возвращаться.
– Но это же полнейшая отставка? Навсегда и со всех постов?
Екатерина все для себя уже давно решила, но все-таки следовало назвать вслух вещи своими именами, просто чтобы не выглядеть дурочкой, у которой семь пятниц на неделе и которая, увидев своего любимого, тут же здравый смысл теряет.
– Конечно. Я бы его еще и всех званий лишила да и отобрала бы все пожалованное. Однако сие уж тебе самой решить придется. Но Гриша, думается мне, для тебя уже пером стать должен.
– Пером?
– Ну да. Вот тебе нужно перо, ты его очинила, все, что желала, им записала. И все – более тебе сей предмет не нужен. Его и выбросить не жалко: мысли нужные записаны. А перо… оно уже истрепалось, скоро мешать станет. Выбрось и не жалей. Новые перья найдутся, кои лучше прежних тебе служить станут.
Е. И. В. Екатерина II Вольтеру
Петербург,
2 сентября – 1 октября [1777]
…Во-вторых, я не могу послать вам свода наших законов, потому что его еще нет. В 1775 г. я велела напечатать одни постановления для управления провинциями: они переведены только на немецкий язык. Статья, стоящая вначале, объясняет причину подобного распоряжения; ее ценят благодаря точности описания исторических событий различных эпох. Не думаю, чтобы эти постановления могли послужить Тринадцати Кантонам: посылаю экземпляр только для библиотеки замка Ферне.
Наше законодательное здание возвышается мало-помалу; основанием для него служит Наказ: я его послала вам десять лет тому назад. Вы увидите, что законы не противоречат принципам, но истекают из них; вскоре за ними последуют узаконения финансовые, коммерческие, полицейские и т. д., которыми уже два года как мы занимаемся; после чего свод будет весьма легко редактировать.
Вот что я думаю относительно уголовных законов. Преступления не могут быть очень многочисленны; но мне кажется, что соразмерить наказание с преступлениями требует особого труда и многих размышлений. Я думаю, что род и сила улик могли бы быть доведены до особой формы вопросов, очень методической, очень простой, из которой бы выяснялся самый факт. Я убеждена и так установила, что самая лучшая уголовная процедура и самая простая – та, которая заставляет проходить этого рода дела через три инстанции, в определенное время, без чего личная безопасность обвиняемых может подвергаться произволу страстей, невежества, невольной глупости и увлечения.
Вот предосторожности, которые, пожалуй, не понравятся святому судилищу; но разум имеет свои права, против которых глупость и предрассудки рано или поздно должны разбиться.
Льщу себя надеждой, что Бернское общество одобрит мой образ мыслей. Будьте уверены, что мое мнение о вас не подвержено никаким изменениям.
Екатерина
Глава 32 Больше, чем фаворит, больше, чем друг
– Мечтаю я, друг мой, все же свершить путешествие к полуденным границам России. Когда-то, девочкой совсем, вместе с императрицею Елизаветой мы с матушкой до самого Киева добирались.
Потемкин, не оборачиваясь, кивнул. Екатерина уже когда-то в разговоре упоминала, что хотела бы добраться до Малороссии, которую видела лишь мельком. А уж о том, чтобы ступить на земли, некогда бывшие турецкими и отвоеванные этим самым Потемкиным, мечтала, как только о победе узнала.
– Матушка, помню я о твоем мечтании. Давно жду, когда вновь ты заговоришь об этом – полуденные границы империи ждут тебя.
– Но отчего же ты не сказал мне этого раньше, друг мой?
– Я знаю тебя уже достаточно хорошо, Катя, чтобы понять, что ты долго ждать не будешь. Так что, будем собираться в дорогу?
Екатерина кивнула – да, не зря судьба трижды сводила ее с этим человеком до того, как соединила навек. Григорий Александрович лицом и взглядом и впрямь напоминал Алешу Темкина, которого не забыть, не отпустить, статью – Алешу Кирсанова (ох, память, ты из благости иногда в проклятие тяжкое превращаешься!). А вот разумом своим Екатерине в возлюбленном все чаще виделся Иван Бецкой – мудрый, расчетливый, сильный и благородный.
Никогда, кроме той страшной ночи, Екатерина не называла более Потемкина мальчиком. Пусть он был моложе на целых десять лет. Однако это был, без сомнения, настоящий мужчина, на которого можно было спокойно опереться. Который вел себя именно так, как положено настоящему мужчине. Да и то сказать – из небогатых дворян, выставленный из учения за лень и прогулы, определился он унтером в гвардейский полк. Не так просто было не вернуться в тихий омут родного дома, назвав его своим пристанищем на веки вечные, не так просто хлебнуть тяжкой солдатской доли и не сбежать, удержаться, продвинуться. Не так просто, попавшись ей некогда на глаза, снова и снова пытаться сделать это и добиться-таки своего.
Потеряв глаз в драке с Орловыми, не отказаться от нее, увидеть в служении своей императрице и свою судьбу, продолжить к ней путь, временами сцепив зубы от боли и унижения, цепляясь за жизнь, но с твердым намерением победить.
Сколько Екатерина ни расспрашивала Григория о войне с турками, он всегда отмалчивался. Кое-что ей было ведомо из донесений тайных ее порученцев, но чаще Потемкин говорил так: «Катя, ты знаешь обо мне и так вполне достаточно. Что тебе до прошлого? Пусть дела мои нынешние говорят за меня, а не похвальбы или жалобы».
Это были слова настоящего мужчины – и настоящей ее опоры в несказанно тяжком деле управления страной. Страной огромной, неповоротливой, впитавшей давние традиции и привычки, сделавшей их своими настолько, что любое новшество, пусть и невероятно нужное, отвергавшей с порога.
Ведь и это путешествие Екатерина затеяла не только потому, что хотела увидеть новые земли, но и потому еще, что, как доносили ей доброхоты, новый ее фаворит сумел играючи переплюнуть Орлова по части чрезмерной жадности. Что все крепости, корабельные верфи, города, выстроенные им на обширнейших, купленных им землях Таврики, не более чем декорации из камыша да глины, грубо выкрашенные краской так, чтобы издалека их можно было принять за камень и кирпич.
– И отправимся мы в это путешествие так, как надлежит: не в сопровождении войска, ибо не завоевывать свою страну я еду, а в сопровождении послов иноземных, дабы они в своих донесениях как бы ни врали, но все равно правды скрыть бы не смогли.
Потемкин усмехнулся: нелюбовь, назовем это осторожно, Екатерины к посланникам и лазутчикам он знал преотлично. Она, собственно, от близких ей людей оной никогда и не скрывала. Но и с французами, и с пруссаками, и даже с посланником стран за океаном была подчеркнуто открыта и позволяла им увидеть все, чего они пожелают. Правда, желали они не так и много, предпочитая копаться в грязном белье императорского двора.
Потемкин вспомнил, что как-то Екатерина призвала его и стала с пристрастием расспрашивать о Радищеве, Сумарокове и Майкове.
– Зачем тебе это надобно, матушка? – Потемкин был не на шутку удивлен.
– Да вот, Григорий свет Александрович, хочу я скверную шутку с господами посланниками-лазутчиками пошутить. И надобны мне для сего стихотворцы или прозаики, быть может, даже мастера по части пиесок.
– Скверную шутку, Катя? – как тут было не насторожиться старому солдату.
– Не смотри таким волком, батюшка. Шутка-то скверная лишь для них окажется. Коли господа сии не истины взыскуют, не правдивые донесения о стране своим королям да шахам отправляют, а лишь охотятся за дворцовыми сплетнями, то я желаю их этими сплетнями накормить до отвала! Мы с господами пиитами-стихотворцами такую гишторию сочиним, что лазутчики, клянусь, удержаться не смогут. И пока они сию песню на разные лады петь будут, мы и отдохнем малость от их проделок. А заодно и убедимся, кто стране нашей друг, а кто враг лютый.
«Да, – подумал Потемкин, – вот такая выходка вполне в манере императрицы – бросить собакам кость и смотреть, как они грызться меж собой начнут». А научилась сей манере Екатерина от него, Григория, когда как-то рассказал он императрице в вечерней тиши о годах своего детства да о батюшке полубезумном да ревнивом сверх всякой меры.
Хотя, чего греха таить: он, Григорий Потемкин, и сам многому научился от Екатерины, многим ей обязан. С давних июньских дней не оставляла его императрица своим вниманием, особым, а с точки зрения братьев Орловых, даже избыточным. Ведь когда наделяли чинами и наградами участников переворота, Потемкин в списке значился всего лишь корнетом. Екатерина эту надпись собственноручно вычеркнула и написала: «В подпоручики». А всего через четыре месяца подпоручик получил придворный чин камер-юнкера, то есть свободный доступ ко двору.
За следующие полгода она молодого придворного ввела в сенатские комиссии, письменно приказав сенаторам «познакомить со всеми делами». Едва эти полгода миновали, Екатерина произвела Потемкина в камергеры, указав, что ему надлежит за следующих два года пройти полный курс гимназического, а потом и высшего обучения у немецких учителей, каких она пригласила для открывшегося Воспитательного дома и Смольного общества благородных девиц, которыми опекался Иван Иванович Бецкой. У Потемкина хватило ума не обращать внимания на неумные шуточки приятелей, которые все шпыняли его: дескать, у бабских учителей премудростям только бабским научиться можно.
Уж ему-то было яснее ясного, что Екатерина ищет помощников, соратников. И, найдя достойных, пытается взрастить себе достойных высокой миссии управления столь огромной страной.
Когда же она, императрица, стала ему еще и близка, понял он, какой невероятный сюрприз преподнесла ему судьба, дав в одном лице и пылкую возлюбленную, и мудрую наставницу, и подлинного друга. Долго ли продлится такой союз, Григорий Александрович не загадывал, надеялся лишь на то, что судьба позволит оставаться подле этой удивительной женщины еще немало лет. Пусть не в качестве возлюбленного, но хотя бы в качестве друга.
Императрица желала отправиться на юг – и отправилась всего через месяц после описанного разговора. С каким же удовольствием она прошлась по выстроенным верфям, обозрела настоящую крепость в Херсонесе, арсенал, корабли, церкви, казармы… А уж каким ядом дышало письмо в Петербург, лучше просто умолчать.
«Легкоконные полки, про которые покойный Панин и многие другие старушонки говорили, что они только на бумаге, но вчерась я видела своими глазами, что те полки не картонные, но в самом деле прекрасные…»
Вместе с собой Екатерина, как и собиралась, взяла в эту поездку немало иноземцев. К изрядной процессии присоединился даже австрийский император. А уж скольких посланников взяла с собой императрица – ведомо было лишь интендантской службе. Потемкин видел своими глазами, как императрица водила означенных господ меж «камышовых домов», удивляясь тому, сколь быстро можно выстроить дома в несколько этажей и сколь надежными они являются. А венесуэлец де Миранда, путешествовавший по тем местам, оставил подробнейшие записки, которые Екатерина с удовольствием перечитывала вслух перед камином.
– Смотри, Григорий Александрович, даже лазутчик сей не нашел в себе сил лицемерить подобно злодею Гельбигу.
– Думается мне, матушка, это оттого, что он сопутствовал нам всю обратную дорогу. А помянутый тобою злодей, напротив, сказался больным и не двинулся никуда далее дома на Мойке.
Екатерина кивнула: де Миранда ей понравился с первого взгляда, хотя она была еще до его появления осведомлена, что сей достославный господин прибыл в Россию именно как английский лазутчик. Правда, рекомендательные письма, представленные им в Стамбуле, были безупречными. Получив образование в университете Каракаса, успел он отметиться в войне Североамериканских Штатов с южанами, потом был замечен в рядах Французской республиканской армии войны и даже стал тамошним генералом, а свое путешествие по России совершил не из «любви к учености», а на деньги английских разведывательных служб.
– Вот с него мы и начнем, – сказал тогда Потемкин, ознакомившись с донесением собственной разведки в Стамбуле. – Мы покажем ему как можно больше да так, чтобы он не усомнился, сколь прочно стоит Россия на полуночь от Черного моря, мы дадим ему самые исчерпывающие объяснения, чтобы у него никаких сомнений не вызвали любые наши слова. Я готов ему даже о войсках на юге России поведать.
Сказано – сделано: как только заморский гость был допущен ко двору, Потемкин показал ему карту Крыма, составленную офицерами его штаба, документы о числе деревень и городов, а также о числе жителей в каждом из них. Среди этого обилия цифр затесались и совершенно правдивые сведения о количестве войск на юге России. Хитрющий Потемкин сам натаскивал «оборотистых людей», своих агентов, какие слова говорить и как убедить де Миранду в совершенной секретности этих сведений. О, те устроили настоящий спектакль, о котором потом Потемкин с улыбкой и поведал Екатерине.
– Если уж и теперь Англия не убедится в том, что из Малороссии мы не уйдем, то я уже и не знаю, чего еще британскому королю надобно…
Екатерина с удовольствием произнесла эти слова. Большей похвалы Потемкину не требовалось – они с императрицей прекрасно понимали друг друга.
«Да-а, Григорий свет Александрович, ты дарован мне самою судьбою… Никогда я еще не встречала мужчину, столь полно отвечающего моему пониманию сего не просто слова, никогда еще не чувствовала, что другой человек столь полно понимает меня. Мы словно созданы из одного куска глины. И потом по прихоти судьбы разделенные годами и верстами. Ты, душа моя, мой подлинный супруг, что бы об этом кто ни говорил».
Из писем Е. И. В. Екатерины II
[Конец апреля 1774]
Какая тебе нужда сказать, что жив не останется тот, кто место твое займет. Похоже ли на дело, чтоб ты страхом захотел приневолить сердце? Самый мерзкий способ сей непохож вовсе на твой образ мысли, в котором нигде лихо не обитает. А тут бы одна амбиция, а не любовь действовала. Но вычерни сии строки и истреби о том и мысли, ибо все это пустошь. Похоже на сказку, что у мужика жена плакала, когда муж на стену повесил топор, что сорвется и убьет дитятю, которого на свете не было и быть не могло, ибо им по сто лет было. Не печалься. Скорее, ты мною скучишь, нежели я. Как бы то ни было, я привещлива и постоянного сложения, и привычка и дружба более и более любовь во мне подкрепляют.
Признаться надобно, что и в самом твоем опасении есть нежность. Но опасаться тебе причины никакой нету. Равного тебе нету. Я с дураком пальцы обожгла. И к тому я жестоко опасалась, чтобы привычка к нему не сделала мне из двух одно: или навек бессчастна, или же не укротила мой век. А если б еще год остался и ты б не приехал, или б при приезде я б тебя не нашла, как желалось, я б, статься могло, чтоб привыкла, и привычка взяла бы место, тебе по склонности изготовленное. Теперь читай в душе и сердце моем. Я всячески тебе чистосердечно их открываю, и если ты сие не чувствуешь и не видишь, то не достоин будешь той великой страсти, которую произвел во мне за пожданье. Право, крупно тебя люблю. Сам смотри. Да просим покорно нам платить такой же монетою, а то весьма много слез и грусти внутренней и наружной будет. Мы же, когда ото всей души любим, жестоко нежны бываем. Изволь нежность нашу удовольствовать нежностью же, а ничем иным. Вот Вам письмецо не короткое. Будет ли Вам так приятно читать, как мне писать было, не ведаю.
16 октября 1787
Друг мой, князь Григорий Александрович. Вчерашний день к вечеру привез ко мне подполковник Баур твои письма от 8 октября из Елисаветграда, из коих я усмотрела жаркое и отчаянное дело, от турков предпринятое на Кинбурн. Слава Богу, что оно обратилось так для нас благополучно усердием и храбростью Александра Васильевича Суворова и ему подчиненных войск. Сожалею весьма, что он и храбрый генерал-майор Рек ранены.
Я сему еще бы более радовалась, но признаюсь, что меня несказанно обеспокоивает твоя продолжительная болезнь и частые и сильные пароксизмы. Завтра, однако, назначила быть благодарственному молебствию за одержанную первую победу. Важность сего дела в нынешнее время довольно понимателъна, но думаю, что ту сторону (а сие думаю про себя) не можно почитать за обеспеченную, дондеже Очаков не будет в наших руках. Гарнизон сей крепости теперь, кажется, против прежнего поуменыиился; хорошо бы было, если б остаточный разбежался, как Хотинский и иные турецкие в прошедшую войну, чего я от сердца желаю.
Я удивляюсь тебе, как ты в болезни переехал и еще намерен предпринимать путь в Херсон и Кинбурн. Для Бога, береги свое здоровье: ты сам знаешь, сколько оно мне нужно. Дай Боже, чтоб вооружение на Лимане имело бы полный успех и чтоб все корабельные и эскадренные командиры столько отличились, как командир галеры «Десна».
Что ты мало хлеба сыскал в Польше, о том сожалительно. Сказывают, будто в Молдавии много хлеба, не придется ли войско туда вести ради пропитания?
Буде французы, кои вели атаку под Кинбурн, с турками были на берегу, то, вероятно, что убиты. Буде из французов попадет кто в полон, то прошу прямо отправить к Кашкину в Сибирь, в северную, дабы у них отбить охоту ездить учить и наставить турков.
Я рассудила написать к генералу Суворову письмо, которое здесь прилагаю, и если находишь, что сие письмо его и войски тамошние обрадует и не излишне, то прошу оное переслать по надписи. Также приказала я послать к тебе для генерала Река крест Егорьевский третьей степени. Еще посылаю к тебе шесть егорьевских крестов, дабы розданы были достойнейшим. Всему войску, в деле бывшем, жалую по рублю на нижние чины и по два – на унтер-офицеры. Еще получишь несколько медалей на егорьевских лентах для рядовых, хваленных Суворовым. Ему же самому думаю дать либо деньги – тысяч десяток, либо вещь, буде ты чего лучше не придумаешь или с первым курьером ко мне свое мнение не напишешь, чего прошу, однако, чтоб ты учинил всякий раз, когда увидишь, что польза дел того требует.
22 февраля 1788
Друг мой, князь Григорий Александрович. К тебе князь Василий Долгорукий везет мое письмо, чрез которое тебя уведомляю, что именитый Пауль Жонес хочет к нам войти в службу. А как я вижу, что приезд Кингсбергена весьма вдаль тянется, и буде приедет, то приедет поздно, а быть может, что и вовсе не приедет, то я приказала Пауля Жонеса принять в службу, и прямо поедет к Вам. Он у самих англичан слывется вторым морским человеком: адмирал Гов – первый, а сей – второй. Он четырежды побил, быв у американцев, англичан. Кингсбергена же постараюсь достать, но по причине того, во-первых, что он от Генеральных Штатов имеет лишь годовой отпуск, по конец которого он должен в мае явиться в Голландию (где имеет расчетное по Средиземному морю своей экспедиции дело) и потом взять увольнение, которое еще неизвестно получит ли; также тестя своего, Ван Гофта, которого хочет вывезти или на покое заставить жить, ибо боится, чтоб его за патриотизм не повесили на восьмидесятом году, из чего Вы сами увидите, что Кингсберген к весенним действиям никак не поспеет, а другой авось-либо доедет ранее первого.
Что ты, мой друг, при отпуске последнего своего письма был слаб и что у тебя больных много, о том весьма жалею. О сих пришли ко мне хотя ежемесячный репорт, также об убыли. Что ты об больных печешься, о сем я весьма уверена. Подкрепи Бог твои силы.
Татарской предприимчивости, по-видимому, против прежних лет и веков поубавилось. По заграничным известиям, везде христиане единоверных своих ожидают, как израильтяне Мессию. Что верные запорожцы верно служат, сие похвально, но имя запорожцев со временем старайся заменить иным, ибо Сеча, уничтоженная манифестом, не оставила по себе ушам приятное прозвание. В людях же незнающих, чтоб не возбудила мечты, будто за нужно нашлось восстановить Сечу либо название.
Достохвальные твои распоряжения держали во всю зиму неприятеля в великом респекте. Зима здесь очень сурова, и вижу, что и у вас на оную жалуются. Мне кажется, что цесарцы под Хотином сделали петаду [беспорядок], немного разнствующую от белградской. Манифест их об объявлении войны повсюду публикован.
Эпилог
В то утро Потемкин получил от Екатерины одну из бесконечных записочек. По чести сказать, он радовался каждой из них как дитя и считал необходимым отвечать сразу, как получил. На сей раз письмо императрицы было чуть длиннее обычного.
«Батенька, здравствуй, каков ты? Я здорова и тебя чрезвычайно люблю. Гришенька, друг мой, когда захочешь, чтобы я пришла, пришли сказать, лучше будет, ежели придешь сей же час сам».
Обычная записка заканчивалась необычно – сердце Потемкина тревожно забилось. Что там случилось такого, что Екатерина сей же час желает видеть его?
– По здорову ли, матушка? – спросил он, почти вбегая в кабинет императрицы.
– Все хорошо, душа моя, – та встала навстречу.
Потемкин припал к ее руке поцелуем. Тонкий аромат лаванды, аромат притираний Екатерины, пощекотал ноздри. «Ее милый запах». Сегодня они оба были равно взволнованы: Григорий Александрович увидел это, как только вошел.
– Присядь, Григорий.
– Что случилось, Катюша?
– Случилось? Нет, просто… Я в тягости, друг мой…
Потемкин просиял. Не нужно было более ничего говорить – так нестерпимо светили ему глаза Екатерины. Так победно и отрадно.
– Какое счастье, милая… Как я мечтал об этом…
Императрица кивнула – говорить она не могла, спазм перехватил горло. Отчего-то это признание ей далось удивительно непросто. Быть может, оттого, что она не знала, как поведет себя Потемкин, услышав ее слова. Его радость стала для него вдвойне отрадной.
Григорий же Александрович опустился на колено перед царицей.
– Катюша, моя владычица, добрый мой друг… Я так долго ждал этого… Согласишься ли ты стать моею женою?
Царица молча кивнула. Да, именно такого мужчину она всегда искала, надеясь, что рано или поздно появится тот единственный, который станет для нее не менее важен, чем огромная империя и обязанности заботливой матушки императрицы.
Теперь перед ней стоял именно он – не просто возлюбленный, не только друг, но по-настоящему близкий человек. Человек, с которым можно разделить каждый день жизни и все дни до самого последнего. Душа ее жизни и подлинный спутник ее дней, сердце которого запоет от радости, узнав, что вскоре их станет трое!




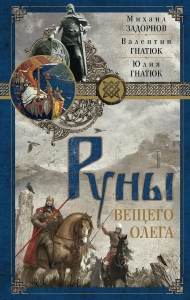

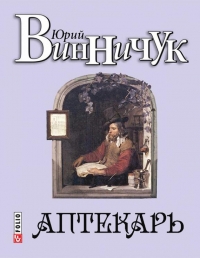
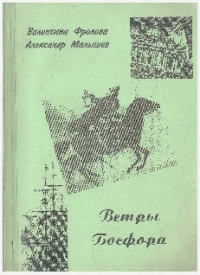


Комментарии к книге «Екатерина Великая. Сердце императрицы», Мария Романова
Всего 0 комментариев