Эдмон Фрежак Гетера Лаиса
Часть I
Глава I
Вечерний сумрак опустился на стены Акрополя. Конон и Гиппарх вышли из храма и очутились на обширной площади, всего какие-то полчаса тому назад еще залитой светом, полной жизни, а теперь опустевшей. Они спустились по лестнице Пропилеев[1] и вышли на широкую дорогу, шедшую между могилами и надгробными памятниками. Далеко впереди, у входа в город, виднелись еще кое-где огни факелов. Скоро они исчезли. Стих и последний шум. И только резкий крик запоздалых птиц, пролетавших высоко в воздухе, слышался порой.
Конон был тот самый молодой триерарх, которому удача на войне создала вдруг блестящую репутацию.
Две недели тому назад, стоя на якоре возле Сигеи с пятнадцатью триерами, составлявшими авангард флота Алкивиада, он получил известие от своих легких разведывательных судов, что под Сестосом идет жестокая битва. Флот, выставленный Лакедемонией и Сиракузами, пытался прижать к берегу афинские галеры, находившиеся под командой Тразилла. Армия перса Фарнабаза покрывала весь берег моря. Запертые в бухте суда афинян не смогли бы долго сопротивляться натиску всего дорийского флота и погибли бы под ударами варваров… Вдруг на горизонте показались паруса. Суда приближались. Сражающиеся — одни с ужасом, а другие с радостью, увидели развевавшиеся на верхушках мачт пурпурные флаги грозной ионийской лиги. Подгоняемый ветром, вспомогательный флот, убрав весла, приближался на всех парусах, и уже можно было различить тонкий след пены, вскипающий у бортов. Напрасно Миндарос выслал навстречу ему самые крепкие и самые тяжелые лакедемонийские корабли. Они не смогли выдержать ужасного удара. Полузатопленные, пробитые таранами, печально качались они на волнах, покрытых обломками. Моряки Тразилла с новыми силами бросались на неприятеля; последние лучи солнца освещают показавшиеся на горизонте остальные корабли Алкивиада, которые тоже спешат принять участие в битве. Остатки флота Миндароса, позорно бегут…
Конон, по приказанию стратега, тотчас же отправился в Афины сообщить счастливую весть об одержанной победе. Население Афин, созванное пританами[2], заставило его взойти на Пникс[3], чтобы оттуда сделать сообщение народному собранию. Молодой триерарх не обнаружил никакого смущения, в первый раз всходя на трибуну, с высоты которой столько знаменитых мужей бросало уже свои страстные призывы.
Согласно обычаю, он сложил на жертвенник свое оружие: щит из полированной стали, обитый золотыми гвоздиками, с изображением страшной Медузы; кожаную перевязь вместе с тяжелым мечом, шлем с красным султаном из конских волос; наконец, копье из ясеня с тройным рядом украшений из меди на древке. Он откинул за плечи пурпурные складки плаща. Оставшись только в вышитой тунике, поверх которой была надета доходившая до талии легкая кираса из шерстяной ткани, украшенной серебряными блестками, и стоя на трибуне с обнаженными ногами, обнаженными руками и непокрытой головой, он так живо напоминал собою бога войны Ареса, что аплодисменты раздались раньше, чем он заговорил. Он рассказал о битве и сделал это просто, без излишних прикрас. Зевгиты[4] приветствовали его восторженными криками, а всадники, к классу которых он принадлежал, стряхнув свою обычную леность, поднялись, чтобы оказать ему честь. Увлеченная порывом, толпа народа устремилась к трибуне. Конон видел тянувшиеся к нему снизу руки и открытые рты, громко кричавшие что-то, но что именно, разобрать было нельзя. Видя, что ему уже не заставить слушать себя, он схватил копье и угрожающе потряс им; затем обернулся лицом к востоку и опустился на колено, взывая к богине, статуя которой смотрела на него с высоты Акрополя. Громкие крики слились в один протяжный рев, и этот рев, прогремев по холму, пронесся через город и покатился по равнине к морю. Старикам казалось, что вернулись славные дни, наступившие после Саламина и Микале. Те, что не были очевидцами великой войны, снова приобрели надежду. Все видели в молодом воине того, кому суждено отомстить за сиракузский позор.
В тот день, желая уклониться от оваций, когда он был в Парфеноне в числе зрителей при конце Дионисий, Конон вынужден был искать убежище в храме Победы. Его сопровождал скульптор Гиппарх, его товарищ с юношеских лет. Теперь оба друга с наступлением ночи направлялись к Афинам.
— Лаиса была очень красива сегодня, — сказал Конон. — Она должно быть так же богата., как красива: содержать столько носильщиков…
— Она и в самом деле богата, — отвечал Гиппарх. — Ее присутствие на празднествах удивляет меня. Она бывает на них так редко. Во-первых, потому, что выходит только после десяти часов: ее белая кожа боится яркого солнца. Потом культ богов привлекает ее меньше, чем общество тех умных и талантливых людей, которым она открывает свой дом.
— Ты бываешь у нее?
— Нет. Один раз она приглашала меня к себе посмотреть древнюю статую, привезенную с Крита. Я тогда только что женился: Ренайя, по-видимому, была недовольна; мне самому не хотелось идти к ней и я остался дома.
— Это правда: ты один из тех редких афинян, которые любят тишину гинекея[5] и отказываются от развлечений вне дома. Я знаю даже, что Каллиас, наш старинный товарищ, считает тебя за одержимого священным недугом.
— Пусть он считает меня кем хочет, — отвечал Гиппарх с раздражением, — но пусть оставит меня в покое, а, главное, пусть не жалеет меня. Мне не принесло бы счастья, если бы я, подобно ему, занимался составлением новых румян для поблекших щек стареющих вдовушек. Я живу моей женой, моим сыном и моими статуями. Любовь к ним наполняет всю мою жизнь. Я сам хотел такой жизни и лучшего ничего не желаю, уверяю тебя, потому что мне такая именно и нравится — тихая, трудовая жизнь, полная семейных радостей…
— Впрочем, — прибавил он после короткой паузы, — хотя я и редко участвую в народных собраниях я, так же, как и многие другие, интересуюсь делами нашего города! Эта война, которая началась чуть ли еще не тогда, когда мы только появились на свет, и которая, может быть, продлится еще двадцать пять лет, медленно разоряет нашу родину, которую я нахожу такой прекрасной и которую мне так хотелось бы видеть благоденствующей. Несмотря на одержанную тобой победу, я предвижу дурное будущее. Мне кажется, что боги сильно колеблются с некоторых пор. Будущее ненадежно…
— Мы укрепим его, — сказал Конон, наткнувшись вдруг на пьяного матроса, растянувшегося посреди дороги.
— Познай самого себя! — воскликнул Гиппарх, смеясь.
— Вот один из твоих «героев»; он выпил слишком много меду. Я оттащу его в сторону: может быть, не все колесницы проехали…
Они были на середине холма. Пылавшие во время празднества вокруг храма факелы догорали в высоких подставках, освещенные слабым светом лиственницы отбрасывали длинные дрожащие тени, тянувшиеся до самой дороги.
Скульптор подхватил матроса под руки и уже собирался оттащить его в сторону, как вдруг где-то совсем рядом раздались громкие пронзительные крики.
— Это повздорили такие же пьяницы, — сказал он, выпрямляясь.
— Нет, — возразил Конон, внимательно прислушиваясь, — нет, это зовут на помощь. Это женский голос, — прибавил он, обнажая свой короткий меч и бросаясь через могилы в ту сторону, откуда слышались крики.
Вынужденные обходить огромные надгробные монументы и наталкиваясь в темноте на разбросанные всюду маленькие памятники-колонки, друзья медленно продвигались вперед. Наконец, они увидели несколько мужчин, в темных одеждах, возле распростертой на земле женщины во всем белом. В руках у них были сорванные с нее золотые украшения.
— Что вы делаете? — крикнул Конон громовым голосом.
Двое грабителей вскочили и убежали. Но двое других, вооруженные палками с железными наконечниками, приблизились с угрожающим видом, готовые наказать за непрошеное вмешательство.
Меч триерарха был молниеносен. Один из противников, вскрикнув, упал, другой — отскочил назад, бросил свою палку и скрылся в темноте.
— Я их проучил, как следует, — сказал Конон, вытирая о траву лезвие.
— Значит, это были не призраки, — воскликнул Гиппарх.
Он быстро отдернул край пеплума, который грабители накинули на голову своей жертвы; и увидел лицо такое же бледное и холодное, как мрамор на памятниках соседних могил.
— Да, это женщина… Клянусь Зевсом, это дочь Леуциппы! Я знаю ее, я делал недавно для ее отца статую Артемиды.
— Как она сюда попала? — спросил Конон.
Он наклонился и прикоснулся рукой к лицу молодой девушки.
— Мне кажется, она умерла.
— Нет, она в обмороке. Посмотри, свежий воздух приводит ее в себя. Отнесем ее к отцу.
Афинянка сделала легкое движение: она, по всей вероятности, слышала эти слова, медленно открыв глаза, она сказала слабым голосом, которому тщетно старалась придать твердость:
— Я Эринна, дочь Леуциппы. Мне не нужно никакой помощи; я пойду одна.
Она сделала попытку приподняться, но у нее не хватило сил и она снова опустилась на землю.
Серп нарождавшегося месяца, выскользнув из-под серебристого облачка, осветил мягким светом место, где произошло нападение. Это был пустынный уголок на скале Акрополя, приходившийся как раз напротив Ареопага[6]. В пожелтевшей траве лежало несколько надгробных плит. Видневшиеся тут и там повалившиеся колонны и обломки мрамора служили доказательством, что в эти места редко заходили посещать могилы умерших.
Конон наклонился над молодой девушкой, завернул ее, несмотря на слабое сопротивление в большое белое покрывало, которое казалось саваном, и, подняв без всякого усилия, посадил, прислонив спиной к одному из мраморных памятников, у подножья которого Гиппарх уже разостлал свой плащ.
— Благодарю, — сказала она.
Видя, что мужчины смотрят на нее с беспокойством, она прибавила слабым голосом:
— Простите меня… я так испугалась и так измучена…
— Девушка, — сказал Гиппарх, — твоя голова склоняется помимо твоей воли, и ты еще бледна. Ты уверена, что не ранена?
Она отрицательно покачала головой.
— Тебе больше нечего бояться, — продолжал скульптор. — Мы свободные граждане Афин, и мы не оставим тебя. Один из нас отправится за твоим отцом, другой останется здесь. А если хочешь, мы отнесем тебя домой…
— Нет, — отвечала она покраснев. — Я смогу идти сама.
Но силы опять изменили ей, — длинные ресницы слабо затрепетали и прелестная головка снова склонилась на плечо.
— Надо же, наконец, на что-нибудь решиться, — сказал Гиппарх, — останься с ней и, если она опять потеряет сознание, смочи ей виски водой. Я побегу к Леуциппу и постараюсь, как можно скорее, вернуться обратно вместе с рабами.
Неподалеку от этого места, среди розовых лавров, струился по каменистому ложу маленький ручеек, впадавший в Кефис. Конон спустился к ручью и, наполнив свой шлем чистой водой, смочил лицо афинянки. Она открыла глаза и, взглянув на стоявшего перед нею молодого воина, сказала немного дрожащим голосом:
— Что со мной случилось? Зачем я попала сюда?
— Ничего, почти ничего, успокойся. Ты, вероятно, заблудилась, и на тебя напали грабители. Случай, пославший нас, дал нам возможность защитить тебя.
— Ты говоришь случай? Вернее, Афина, моя покровительница Афина…
Она умолкла и замерла, сложив перед собой руки. По всей вероятности, она молилась и благодарила своих домашних богов. Ее тонкий белый силуэт ясно обрисовывался на темном мраморе памятника, Конон невольно залюбовался ее целомудренной и чудной грацией. Через минуту девушка заговорила опять:
— Я припоминаю… Афина — моя покровительница, пожелала, чтобы я могла вспомнить ужасные минуты нынешнего дня. Это она вверила меня тебе… Я пошла в храм вместе с матерью и с кормилицей. Но гам была такая давка, что мы скоро потерялись. По дороге в храм нам встретились некоторые из моих подруг. Моя мать, наверное, подумала, что я отправилась обратно домой с какой-нибудь из них… Я долго сидела на ступенях пропилеев: не знаю, почему-то проходившие мимо меня люди смотрели на меня как-то странно. Когда я решилась покинуть Акрополь, уже наступала ночь. Я пошла по боковой тропинке, потому что на дороге было много пьяных. Когда я проходила через оливковую рощу, мне показалось, что меня преследуют. Я побежала. Вдруг люди, одетые в темное, как рабы, напали на меня. Они схватили меня и грубо бросили на землю. Я вскрикнула. Ты и твой друг услыхали меня и спасли…
Она посмотрела вокруг…
— Где же твой друг? Мне кажется, что я его встречала прежде…
— Он ушел сообщить твоему отцу о том, что случилось.
— Мой отец, наверное, сам захочет пойти сюда; но он старик, не надо допускать, чтобы он утомлялся.
Молодая девушка сделала движение, желая приподняться, но Конон опустил руку на ее плечо и, суровым, несколько повелительным тоном, которым разговаривали греки того времени с женщинами, сказал:
— Сиди, я не хочу, чтобы ты вставала…
И прибавил мягче:
— У тебя больше мужества, чем сил. Ты уже два раза была в обмороке…
Она молча собрала свои длинные волосы и поправила золотой обруч, аграф на котором был сломан.
— Я потеряла все мои украшения… Лизиса рассердится.
— Лизиса не рассердится, — ответил, улыбаясь, Конон. — Гиппарх нашел твои драгоценности. Кто эта Лизиса, о которой ты говоришь? Твоя мать?
— Нет, это моя кормилица; я всего только год тому назад покинула ее комнату: у меня теперь своя отдельная комната… Но она любит меня так же, как мать.
— Все, кто тебя знает, должны любить тебя так же, как она.
— Почему? — спросила молодая девушка, оживляясь.
— Я и сам не знаю почему, — сказал он, немного смущенно. — Подождем прихода Лизисы и твоего отца… Хотя у тебя такой же певучий голос, как у бессмертной богини, и слушая его, я испытываю удовольствие, думаю, что тебе не следует больше говорить. Послушайся меня, отдохни, я постерегу твой сон… Мне кажется, ты озябла. Ночью с гор дует ветер, а ты легко одета. Я прикрою тебя плащом?
— А ты? Ты забываешь о себе.
— О! я, я воин: я не боюсь холода.
— И вообще ничего, — сказала она тихо.
— Ничего, — повторил Конон, невольно улыбаясь, услышав эту похвалу. Он отстегнул свой плащ и накрыл им молодую девушку, которая не сопротивлялась, так как ей и в самом деле было холодно.
— Теперь надо спать, не надо больше разговаривать.;. Все женщины немного болтливы, — прибавил он поучительно.
— Однако, — застенчиво сказала Эринна, — что же я отвечу моей матери, когда она спросит у меня твое имя, чтобы произносить его в наших вечерних молитвах.
— Не все ли равно? По всей вероятности, нам не суждено больше видеться.
В голосе молодого человека звучало сожаление: Эринна заметила это и задумчиво ответила:
— Это зависит от тебя. Моя мать все-таки спросит у меня твое имя. Я сама буду горячее молиться богам, если буду знать имя человека, лицо которого запечатлеется в моей памяти.
— Меня зовут Конон, Алкмеонид, сын Лизистрата. Я афинский триерарх. Боги должны любить молитвы девушек. Я буду сражаться с большим мужеством, если ты хоть изредка будешь молиться за меня богам… Скажи, кроме того, своей матери, — прибавил он после короткого молчания, — скажи своей матери…
— Что? — спросила молодая девушка, почувствовав, как забилось сердце.
— …своей матери или Лизис… или лучше нет… не говори никому ничего… Знай, что если случай снова пошлет тебе смертельную опасность, я буду защищать тебя как Геракл… Я готов вступить в борьбу даже с богами… Я говорю это для тебя одной, Эринна, и я не знаю, какая сила заставляет меня говорить тебе это.
— Я сохраню это для себя одной, — отвечала она, и ему показалось, что он видит, как под легким покрывалом вспыхнуло ее молодое лицо.
Она тихо продолжала:
— Потому что я никак не могу заставить себя чувствовать после произошедшего испуг и тревогу. Я, наоборот, чувствую, что никогда не была ни так спокойна, ни…
Конон опустился на колени и взял ее руку.
— Ни?.. — спросил он.
— Ни так спокойно, ни так счастливо, — прошептала она.
Она прислонилась головой к мраморной плите, закрыла глаза и замолчала.
Он смотрел на нее, испытывая очарование, которое исходило от молодой девушки, и к которой он за минуту перед тем прикасался совершенно равнодушно. С лицом, обрамленным золотистыми волосами, закутанная в свои прозрачные покрывала, которым полумрак придавал гармонию и таинственность, девушка могла бы служить моделью для одной из тех статуй Артемиды, что Лизипп и Фидий так любили изображать на ложе из сухих трав и смятого папоротника.
Он хотел заговорить, но не находил в себе достаточно мужества, чтобы выразить все то, чем была полна его душа в эту минуту. Может быть, в нем смутно зарождалось желание, чтобы это златоволосое дитя, посланное неожиданно судьбой стало спутницей его жизни. Робея так, как он никогда не робел перед непоколебимой фалангой спартанцев, он не знал, что молчание передает глубину душевного волнения красноречивее всяких слов.
— Эринна… — всего лишь смог воскликнуть он, и голос его осекся.
Она невольно опустила глаза, встретившись с ним взглядом, и в первый раз в жизни почувствовала какое-то странное смущение в душе.
Вдали показался свет. Слышалось бряцание оружия, голоса, шум шагов.
Колеблющиеся огни факелов бросали на равнину отблески, густой дым, поднимаясь вверх, закрывал звезды.
Впереди толпы слуг шли Леуциппа с Гиппархом. Несмотря на усталость от быстрой ходьбы, старик, опираясь на палку из слоновой кости, поклонился Конону со всем величием истинного афинянина.
— Привет Конону, сыну Лизистрата. Твоя доблесть мне известна из рассказа о твоих подвигах против врагов Афин. Да будут благословенны бессмертные за то, что твоей славной руке я обязан сегодня спасением жизни моей дорогой дочери.
— Леуциппа, твои похвалы приятны мне. Твоя дочь уже поблагодарила меня за это улыбкой. Посмотри, жизнь вернулась к ней, но она боится твоего гнева.
— Моего гнева, — воскликнул старец, раскрывая объятия, в которые со слезами бросилась смущенная Эринна. — Она хорошо знает, что ей нечего бояться моего гнева. Неблагоразумная! Зачем ты так отдалилась от твоей матери? Почему не осталась ты под защитой плаща богини Афины, благосклонной к робким девушкам? Твоя мать побежала без покрывала к Искомаку, Диоклиду и к другим. Их дочери уже вернулись к своим домашним алтарям; ни одна из них не видала тебя. Наши рабы обыскивают всю дорогу в Фалеру; я послал стражу к городским воротам. Твой брат вооружился и тщетно вопрошает безмолвное эхо Пникса, Ликея и Ареопага. А я, твой старый отец, я совершил поздние возлияния богам. Я видел мою дочь, надежду и опору моей старости, беззащитной, предоставленной насмешкам и оскорблениям бесстыдной толпы. Селена услышала мою мольбу. Благодаря ей, благодаря вам, афиняне, благородное мужество которых она возбудила, мне не придется посыпать главу пеплом моего печального очага!
Он сделал знак. Две черные рабыни подошли к Эринне, распустили ее волосы и, умастив их сирийскими благовониями, принесенными в золотых сосудах тонкой работы, собрали на макушке, окружив полотняными повязками. Затем они накинули на нее длинный темный плащ, вышитый шелком, и повели к носилкам, кожаные занавески которых чуть заметно колыхались от легкого ночного ветерка.
Четыре либийца, с обнаженными торсами, подняли носилки на свои могучие плечи. Рабы взмахивали факелами, с которых падала горячая ароматная смола, рассыпаясь тысячами искр. Леуциппа, все еще опираясь на свою палку из слоновой кости, встал между Кононом и Гиппархом, и шествие, соразмеряя свой шаг с мерным шагом носильщиков, медленно направилось к городу. Скоро факелы, колеблемые ветром, осветили красноватые фасады первых домов. Сандалии носильщиков застучали по плитам, и спустя некоторое время носилки остановились.
Носсиса стояла на пороге, окруженная женщинами. В знак траура она сняла свою анадему, скинула покрывало, и ее распущенные волосы ниспадали на плечи. Эринна, выскочив из носилок, бросилась в объятия матери. И они, обнимаясь, не в силах сдержать слезы, удалились в гинекей.
Леуциппа сказал:
— Послезавтра мне предстоит принять моих друзей: оратора Лизиаса, Аристомена, художника Критиаса, врача Эвтикла и других. Конон и ты, Гиппарх, согласны вы оказать честь моему очагу и быть среди них?
— Леуциппа, — отвечал Конон, — твое великодушие превосходит нашу услугу. Мы будем рады занять место за твоим столом. Мы будем пить за победу Афин.
— Да услышат тебя боги, — сказал старец, склонившись, высвобождая правую руку из-под плаща, и приветствуя их широким жестом. Затем он в сопровождении слуг, медленно поднялся по ступеням; на пороге обернулся и снова послал прощальный привет. Бронзовые двери затворились, гремя засовами и цепями. Еще с минуту слышны были удаляющиеся в портик медленные шаги рабов.
Конон молча стоял перед запертою дверью. Гиппарх взял его за руку.
— Лаиса была очень хороша сегодня, — проговорил он вполголоса.
— Ах, оставь!.. — воскликнул Конон, — я не больше тебя желаю быть ее возлюбленным. Поговори со мной лучше о дочери Леуциппы, раз ты ее знаешь. Я провожу тебя. Дорога покажется мне короткой, если ты будешь говорить о ней.
— Все воины сделаны из застывшей лавы, — проговорил скульптор. — Это прекрасный материал для беседы на тему о могуществе хрупких стрел Эроса: вечная история Геркулеса с прялкой у белых ног Омфалы. Успокойся, с тобой этого не случится, потому что, по крайней мере, сегодня слепое дитя сняло свою повязку.
Эринна самая красивая и самая восхитительная из всех молодых девушек, которые вышивают в нынешнем году покрывало для Афины.
— Почему ты сказал восхитительная? Кто ею восхищается? Разве она не всегда бывает под покрывалом? Значит, она иногда выходит одна?
— Очень редко, конечно; один раз во всяком случае это было, хотя и случайно, потому что сегодня вечером ты объяснялся с ней без свидетелей.
— Ты ошибаешься; я ничего не мог ей сказать.
— Так это становится серьезным, — сказал Гиппарх. — Когда человек, такой молодой, как ты, такой смелый и такой образованный, не находит слов, чтобы выразить свои чувства, это значит, что сердце его сильно затронуто.
— Может быть, ты прав. Я чувствую в себе что-то новое.
Он замолчал и довольно долго они шли молча.
Две короткие тени быстро бежали впереди них. С безоблачного неба, такого прозрачного, что оно казалось кристальным, Селена, благосклонно улыбаясь, посылала свои бледные лучи на землю. Песок скрипел под ногами. Временами поднимался легкий ветерок, заставлявший развеваться плащи.
— Итак, — насмешливо сказал Гиппарх, — тебе легче заставить слушаться своих воинов, чем мысли.
— Это правда, — отвечал Конон, — но теперь и мысли у меня в порядке. Ты обратил внимание, как красива эта молодая девушка? Она высокого роста, у нее стройная фигура. У нее золотистые волосы, но я уверен, что глаза у нее черные… Если бы эти злодеи убили ее, это было бы большое несчастье… идти одной вечером во время дионисий… Только такие девушки и могут поступать так неблагоразумно… Я легко мог бы донести ее до дому. Я совсем не чувствовал ее, когда держал ее на руках… Ее сердце билось бы дольше возле моего; она была так хороша с закинутой назад головой и беспомощно повисшими обнаженными руками. Но она была так бледна, что мне стало страшно… И я опять положил ее на землю, потому что мне казалось, что она умирает!
— Это хорошо, — отвечал Гиппарх, любивший резонерствовать. — Любовь это лестница, и первая ступень ее — восторженность… Послушай, раз это так интересует тебя, приходи завтра ко мне. Моя жена всего на несколько месяцев старше дочери Леуциппы. Я знаю, что прежде они были подругами и часто бывали одна у другой. Кажется, даже Эринна и пела эпиталаму на нашей свадьбе. Ренайя редко выходит из дому с тех пор, как у нас родился сын, но она с удовольствием расскажет тебе все, что знает, и научит, что нужно делать.
— Я непременно приду! — с радостью согласился Конон.
— В таком случае приходи к полднику: ты скорее все поймешь, если перед тобой будет стоять чаша иониского вина. Не провожай меня дальше.
— Так до завтра?
— До завтра, — отвечал Гиппарх, — в четвертом часу…
Конон медленно направился к священным воротам. Ночная стража, завернувшись в плащи, спала на подъемном мосту.
На перекрестках горели еще в бронзовых урнах сосновые шишки. Скоро пламя уменьшилось, потом погасло… и предрассветные сумерки распростерли свое покрывало над городом.
Глава II
Уже давно начался день. Солнечный луч, проникая в окна, играл на полу.
Эринна проснулась, улыбающаяся и свежая, потому что счастливые мысли убаюкали ее накануне. Опершись локтем на полотняное изголовье, она играла шарфом, который был на ней накануне, бахрома его ниспадала до белой козьей шкуры, разостланной на полу. Она смотрела на окружавшие знакомые предметы, не останавливаясь ни на одном из них.
Две противоположные стены комнаты были крытые красиво драпировавшимися занавесями того неопределенного зеленого цвета, недавно вошедшего в моду, который мало-помалу заменил в частных домах героический пурпурный цвет. Между этими занавесями высокие пилястры выделялись своими темными гранями на гладкой штукатурке стен. Стены были расписаны: между светлой листвой лазурно-голубые лотосы и темно-голубые ирисы.
Среди комнаты, на возвышении, стояла кровать с высокими ножками из черного дерева, украшенная инкрустацией из слоновой кости. В головах был большой светильник из бронзы, изображающий дерево, обвитое серебряным вьюном. На дереве, на концах ветвей, висело три чаши тонкой чеканной работы. В них плавали в душистом масле амиантовые фитили. Эринна зажигала их вечерами, когда ей удавалось унести потихоньку из библиотеки один из тех манускриптов, в которых воспевалась любовь героев и богов. Она знала, что в отдаленные времена, когда на земле совершалось много чудесного, боги, ускользнув с Олимпа, любили забывать в объятиях смертных однообразие своих небесных удовольствий.
Стоявший в ногах ткацкий станок имел вид редко употребляемого предмета: рабочие часы проходили в общей комнате. Напротив кровати массивная колонна поддерживала мраморный бассейн, вокруг которого на треножниках покоились широкие амфоры. Среди комнаты стоял столик, искривленные ножки которого заканчивались козьими копытцами химер. На нем лежали всякого рода украшения: колье из восточных жемчугов молочного оттенка; браслеты, сделанные в виде змей, перегрызающих свое тонкое тело; золотые булавки в виде стрекоз, которыми изящные женщины того времени закалывали свои волосы.
Вдоль стен находились громадные сундуки, наполненные шелковыми материями, вышитыми туниками, лентами и тысячью тех пустяков, за которыми финикияне ездили в далекие страны, расположенные за песчаными пустынями. Они привозили их на афинские набережные вместе с разноцветными птицами в клетках из золотистого бамбука, ящичками из розового дерева или сандала, драгоценными эссенциями и сладкими, вкусными плодами.
В самом темном углу комнаты стояла на мраморной консоли золоченая статуэтка Афины, перед которой обыкновенно горела лампадка, висевшая на тонкой цепочке. Но в это утро маленькое красное пламя не трепетало в ней. С некоторых пор Эринна как будто меньше заботилась о своей богине, а накануне вечером так и совсем забыла о ней. А между тем она принадлежала к старинному роду этеобутадов, с незапамятных времен заботившихся о поддержании культа богини-покровительницы. Больше она никогда не позволит себе такой забывчивости, потому что Афина строго следит за тем, чтобы ей воздавались почести, и никогда не зажигает факел гименея для тех, кто не сжигает перед ее изображением на священном треножнике пропитанные сирийскими благовониями травы. Она любила богиню и почитала ее со всей своей наивной горячностью. Сколько раз в то время, как ее подруги просто стояли на коленях, она лежала у ее ног с распущенными волосами, касавшимися камня, на котором дымилась кровь жертвы! Какой при этом она испытывала священный трепет, проливая слезы, причины которых она сама не знала!
…Она задумалась, продолжая теребить шарф.
Почему после последних празднеств, она просыпается ночью вся в поту и чувствует облегчение, если пройдется босыми ногами по холодному, как лед, мраморному полу? Почему она так умиляется, глядя на воркующих голубей, цепляющихся своими розовыми коготками за край окошка? Почему она полюбила мечтать одна под большими деревьями на дворе, устремив свои светлые глаза в голубое небо?
Вдруг она решилась, откинула далеко от себя волны покрывал и соскользнула со своей высокой постели. Она надела изящные крепиды, привязывавшиеся лентами к лодыжкам, опоясалась вокруг бедер мягким шелковым шарфом, умыла в мраморном бассейне лицо и руки и, открыв дверь, выходившую во внутренний двор гинекея, позвала:
— Лизиса, Лизиса, поди сюда, я встала.
— Давно уж пора, — проворчала старая кормилица, выходя из комнаты, где работали пряхи… Ах! если бы твоя мать Носсиса была воспитана так, как ты, у нее не было бы теперь лучшего дома в Афинах.
— О, какая ты сегодня сердитая, Лизистрата! Причеши меня и не ворчи. Что у тебя под плащом?
— Ты сейчас увидишь, что у меня. Тут есть кое-что для тебя.
Она вошла в комнату, заперла дверь на задвижку и опустила портьеру.
— Вот, — сказала она, — вот, что у меня: цветы. Точно их мало у нас!
И она бросила на постель целую охапку белых роз, наколотых на кончики листьев серебряной пальмовой ветви, а затем поставила изящную корзиночку, наполненную фиолетовыми фигами.
— Розы! — воскликнула Эринна, — какая ты злая! Зачем ты их бросаешь? Они могут осыпаться. Фиги тоже могут помяться, — сказала она, краснея, — они совсем спелые. Скажи, откуда все это? Кто их тебе дал? Кто их принес?
— Их принес молодой раб, и он не сказал ни своего имени, ни имени своих господ. Это не предвещает ничего хорошего, милая моя деточка.
— Почему? — спросила Эринна, снова покраснев. — Я думаю, что это подарок от моей подруги Глауци: у ее отца такой прекрасный сад.
— Разумеется, — отвечала кормилица, полушутя, полусердито, — это так похоже на нее — присылать тебе цветы и плоды, тем более, что она уже неделю тому назад уехала в Элевзис.
— Это правда, я совсем забыла об этом.
— И потом, зачем ты смеешься надо мной? Ты сама хорошо знаешь, от кого это, а если даже и не знаешь, то догадываешься.
— Может быть, — отвечала Эринна, бросаясь на шею кормилице и покрывая ее морщинистые щеки поцелуями.
— Ну, да, ты славная, ты очень любишь свою старую Лизису, хотя это совсем не ее ты обнимаешь так крепко теперь. Успокойся. У тебя волосы совсем спутаются. Садись, я причешу тебя.
Эринна послушно села на низенькую табуретку и доверчиво отдала в руки кормилицы свои длинные волосы, которые доставали до земли и колыхались, как живые, в золотистом сиянии солнца. В открытое окно виднелся платан, четко вырисовываясь на синем, как сапфир, небе своими кружевными зелеными листьями. Ручные голуби с соседних храмов быстро пролетали мимо окна, сверкая в воздухе своими белыми крыльями. Молодая девушка перебирала руками лежавшие на коленях цветы и с улыбкой рассматривала отражение своего очаровательного личика в серебряном зеркале. Искусные и ловкие пальцы Лизистраты расчесывали золотыми гребнями волнистые волосы. Она приподняла шелковистую белокурую массу, заколола ее на макушке массивными булавками и, чтобы укрепить грациозное сооружение, окружила его повязкой изумрудного цвета. На лбу колыхалось несколько маленьких локончиков, которые, благодаря тому, что были короче других, не могли быть подобраны, и от них на молодое и свежее личико падала легкая тень.
— Вот и готово, — сказала Лизистрата, — красивее тебя нет ни одной девушки в целых Афинах.
— Ты говоришь так, — сказала сияющая Эринна, — только потому, что во всех Афинах никто не сумеет сделать прическу лучше старой Лизисы.
Молодая девушка встала и, с трудом держа в руках охапку душистых цветов, медленно прошлась по комнате. Прозрачная рубашка волновалась на ее молодом теле, как белое облако, когда оно, заволакивая бледный лик Селены, дает возможность видеть весь ее светящийся контур. Она переступала, подпрыгивая с ноги на ногу в такт импровизированного танца, и длинная одежда с разрезом на боку распахивалась при каждом шаге.
— Я легка, как птица, — сказала она, — мне хочется петь.
— Пой, — отвечала кормилица, — все еще как будто недовольным тоном, — пой, девочка: ты еще успеешь наплакаться…
В эту минуту кто-то постучал снаружи. Лизистрата открыла дверь и приняла из рук служанки восковую дощечку, которую сейчас же передала своей молодой госпоже.
— Вот удивительно! Ренайя зовет меня сегодня к себе в гости.
— Ренайя? — проворчала кормилица, — Ренайя, это твоя бывшая подруга, жена того скульптора, который приходил вчера сказать, что нашел тебя? Она приглашает тебя к себе, и тебя это удивляет. Однако, как спешит его друг, этот воин! Ты можешь идти туда одна. Я не пойду с тобой, даже если Носсиса мне прикажет.
— Кормилица, — сказала молодая девушка со слезами в голосе, — ты теперь стала еще злее, чем была. Кто же пойдет со мною, если ты откажешься? Ты отлично знаешь, что я не смею еще говорить об этом матери. Может быть, она запретит. Может быть, она пожелает идти со мной и тогда… тогда…
— Что же тогда?
— Тогда это мне не доставило бы такого удовольствия, — тихо прибавила молодая девушка.
— Ну, хорошо, я пойду с тобой, — сказала Лизистрата дрожащим голосом.
— О чем ты плачешь, Лизиса, о чем ты плачешь? — спросила она, отнимая руки, которыми кормилица закрывала себе глаза.
— Я плачу, потому что я чувствую, что ты покинешь свою бедную Лизису, старость которой освещала твоя улыбка. Боги до сих пор хранили меня от этого несчастья.
— Не плачь, кормилица. Если ты будешь плакать, то мне не будет весело. Во-первых, я еще не пробовала фиг. Затем, если я буду когда-нибудь жить под другой кровлей, я не покину тебя: я возьму тебя с собой.
— Носсиса не согласится на это, — сказала кормилица, вытирая глаза.
— Мать согласится на все, что я захочу. Мне не будет доставать чего-то для счастья, если я не буду слышать твоего старого ворчливого голоса. Не плачь же, ну, не плачь, Лизиса. Если я уйду отсюда, то мы уйдем вместе.
— Пусть будет так, как угодно богам. Посмотри, девочка, ты была так взволнованна вчера, что забыла зажечь лампадку; если ты будешь забывать молиться богине, она не позволит тебе выйти замуж. Надень шерстяной пеплос: сегодня свежее утро. Молодая девушка должна прежде всего приветствовать своего отца; я видела, как он прошел в библиотеку.
— А мои цветы, — сказала Эринна, — мои прекрасные розы?
— Я позабочусь об них; поди, девочка, тебе давно пора идти, если ты хочешь оказать почтение отцу раньше, чем он выйдет из дому.
— А мои фиги? Дай мне фиги. О, я решила попробовать их. Я решила это еще вчера вечером, но я очень счастлива, потому что я не знала, что это будет так скоро.
Она выбрала из корзинки ту фигу, которая казалась ей более свежей и душистой, откусила от нее и снова положила на другие. Затем она подошла к статуэтке богини, благоговейно зажгла лампадку и три раза прикоснулась лбом к статуэтке.
— Я готова, — сказала она.
Она надела вышитую тунику, складки которой падали до земли, опоясала талию длинным шелковым шнурком, который, перекрещиваясь на левой стороне, завязывался затем на правом боку свободным узлом с развевающимися концами. Так носили этот пояс девушки.
Она накинула сверху тонкий шерстяной плащ, бросила в зеркало быстрый взгляд и вышла легкой и грациозной поступью.
Глава III
Дом Гиппарха одиноко стоял недалеко от городской стены между Керамикой и садами Академии[7]. Крытое красной черепицей одноэтажное здание широко раскинулось в тени платанов и высоких смоковниц. Маленький ручеек, часто пересыхавший во время летней жары, тихо струился под зарослями ирисов и камышей. Дикий шиповник цвел по его берегам, а осенью покрывался красными мягкими ягодами, которые клевали птицы.
Главный вход в дом был как раз напротив аллеи из кипарисов, темные стволы которых переплетались на все лады под густым сводом зелени. Как во всех загородных постройках того времени, подход к дому заграждался тройной изгородью. Во-первых, желтые и черные алоэ, простирая во все стороны свои твердые и колючие листья, затрудняли доступ к нему животным и людям. Затем следовала живая изгородь из молочая с розовыми цветами, приторный и ядовитый запах которого не допускал змей. Наконец, вечнозеленые лавры и мирты образовывали за молочайником непроницаемую завесу.
Конон пришел раньше назначенного времени. Безмолвный дом еще был тих среди дневной жары.
Он толкнул дверь и вошел.
Звяканье цепи, ударившейся о дверь, привлекло внимание почти голого ребенка, игравшего с большой собакой в золотистом песке на одной из аллей. Ребенок с минуту смотрел с удивлением, а затем вскочил и бросился бежать домой, крича испуганным голосом: Мама! Мама!
На крики ребенка и лай собаки из дому вышла молодая женщина и остановилась на пороге. Она была одета с изящной простотой. Широкополая соломенная шляпа защищала ее от солнца. Ее туника, слегка приподнятая с правого боку, помогала легкости ее походки.
— Ренайя? — вопросительно произнес Конон.
— Ренайя, — отвечала она, счастливая, что может оказать радушный прием другу своего мужа.
Своими тонкими пальчиками она взяла молодого воина за руку и повела к стоявшей неподалеку каменной скамье, которую виноградные листья наполовину закрывали своими пурпурными фестонами.
— Сядем здесь, — предложила она, и, обращаясь к ребенку, прибавила: — Гиппарх в мастерской. Сходи за ним.
— Ренайя, неужели это твой ребенок?
Она отвечала звучным голосом, в котором слышалась улыбка:
— Это мой брат. Наша мать умерла при родах. Ему шесть, а мне девятнадцать. Но он называет меня мамой, потому что никогда не расставался со мной, и я одна забочусь о нем. Моему сыну, ребенку Гиппарха, всего три месяца. Он сейчас спит. Я принесу его показать тебе.
— Гиппарх говорил…
— Да, — перебила Ренайя, — я знаю о вашем вчерашнем приключении. Поэтому я написала сегодня утром Эринне, что жду ее к полднику.
— Как ты добра и как ты хорошо угадала мое желание.
— Я прежде всего женщина, — отвечала она, устремляя на Конона блестевшие радостью глаза. — Потом я и сама прошла через это. Эринна будет так же счастлива, как бывала и я, когда Гиппарх приходил к моему отцу. Разве ты ее никогда раньше не видел?
— Никогда! Я не знал об ее существовании; она не знала о моем, а между тем мне кажется, что я всегда знал ее.
— Она во всяком случае знала твое имя, которое все в Афинах повторяют уже целую неделю.
— Это могло быть в том случае, если бы она принимала участие в политических разговорах на агаре[8]… но в гинекеях совсем не говорят ни о битвах, ни о тех, кто в них участвует.
— Как ты можешь так думать? Нет ни одной семьи, которой не затронула бы эта ужасная война. Нет ни одной молодой девушки, у которой не было бы на триерах брата или жениха. О чем же говорить молодым девушкам, как не о тех, кто им так близок? Не целый же день сидят они за прялкой. Мы вовсе не такие глупые маленькие зверьки, как вы думаете. Я уверена, что на последнем собрании в храме все молодые девушки говорили о тебе…
— Ты смеешься надо мной, Ренайя, — перебил ее Конон, — но я не сержусь на тебя за это, потому что волнение делает тебя еще красивее.
Ренайя слегка улыбнулась. Она знала, что она хороша собой, и что мужчины искренно восхищались ею.
— Вот они, настоящие моряки, — сказала она, — мужество Геркулеса и язык Диониса. Но меня не заставить замолчать похвалой, и я все-таки скажу тебе, что не все женщины в Афинах учатся рассуждать на тесмофориях[9], многие девушки, думая о браке, мечтают также и о счастье.
Она сделалась совсем серьезной, и прелестная складка украшавшая ее губы, сгладилась.
— Счастье, это жизнь, которую Гиппарх сумел создать для меня. Здесь я равная ему, он сам сказал мне это, и тем не менее, я знаю, что он господин… Я признаю его авторитет и никогда не иду против его воли. Во-первых, потому, что он всегда старается быть справедливым, затем потому, что я его люблю всем моим сердцем, но я не любила бы его, если бы вместо того, чтобы быть покровителем и другом, он был бы для меня невыносимым тираном. Тебе это понятно?
Конон ответил утвердительным кивком. Она продолжала:
— В таком случае, подражай ему. Но для того предоставь той, которая будет твоей женой, право иметь больше ума, чем у коноплянки. Если ты намерен, женившись, заключить ее в четырех стенах гинекея, ты будешь иметь в ней только первую из твоих рабынь, сколько бы ты ни покрывал позолотою стены ее тюрьмы. Она будет прекрасной немой птичкой. Она будет матерью твоих детей; а ты будешь искать в другом месте настоящей любви, которая дает и счастье, и утешение.
— Ренайя, — сказал Конон, — я теперь понимаю, почему Гиппарху нет надобности ни трепать свои сандалии под портиками агоры, ни блистать своим остроумием в гостях у какой-нибудь гетеры. Я не принадлежу к числу людей, знающих тебя давно, но мне кажется, я не ошибусь, если скажу, что твоя душа еще прекраснее, чем твое лицо. Мне остается только последовать твоим советам, но ты говоришь со мной так, как будто Эринна стала уже моей женой. Я знаю, что я люблю ее, но любит ли меня она? С той минуты, как затворилась передо мной дверь ее дома, я не перестаю думать о ней, но кто может сказать мне, что она уже не забыла меня?
— Простодушный воин! Ты умеешь читать только в своем сердце! Ты сам только что говорил мне, что ты видел Эринну вчера в первый раз, а между тем тебе казалось, что ты знаешь ее уже давно. То, что происходит в тебе, происходит точно также и в ней. Вчера случай бросил в твои объятия ее молодое, гибкое тело. И в то время, как ее голова запрокинулась назад, ты чувствовал у своей груди слабые удары этого чужого сердца, которое с той минуты стало тебе дороже твоего собственного. И у тебя явилось желание, чтобы всю жизнь продолжалось это опьянение любовью, которого ты раньше не знал: опьянение от одного лишь прикосновения, бесконечно более чистого, бесконечно более приятного, чем все другие ласки, которые оставляют за собою только разочарование… Девушка, у которой сердце и чувства спали, вдруг почувствовала горячую дрожь твоего объятия… Что же, ты думаешь, она ощутила в тайнике своей молодой души? Может быть, ничего? Ошибаешься. Между вами существует только одна разница: ты знаешь, чего ты желаешь, тогда как она еще не знает этого. Эрос поразил вас одной и той же стрелой. Никто не ускользает от его чар. Эринна будет здесь, как только заходящее солнце позволит ей покинуть, не обращая на себя внимания, родительский дом.
— О, Ренайя, как бы я хотел, чтобы у нее было такое же сердце, как у тебя. Как бы я хотел, чтобы у нее были такие же возвышенные мысли и чтобы она так же пылко высказывала их! И я с верою кладу к ногам бессмертных это желание, которое я не нахожу безрассудным.
— В твоем желании нет ничего безрассудного, Конон, но только послушай, что я хочу сказать тебе еще, — чуть наставительно произнесла Ренайя. — Призывай бессмертных богов, раз ты веришь в их могущество. Но Гиппарх не раз говорил мне, что наше счастье мы создали сами, что это дело нашего разума и нашей воли, а не послано нам богами, созданными нами же самими. Кроме нас самих, это могло совершиться по воле Того Неведомого Бога, о котором он говорит мне иногда во время наших бесед по вечерам, и алтари которого, говорит он, всюду.
— Может быть, ты и права, Ренайя, — отвечал Конон. — Но мне каждый день грозят опасности и на море и в сражениях. Как все моряки, я живу под страхом этих вечных опасностей; они заставляют меня чаще, чем других, обращать взоры к небесам и призывать богов моей родины.
— Мы немного удалились от предмета нашего разговора, — сказала, улыбаясь, Ренайя. — Мы можем прекратить его, потому что совершенно согласны друг с другом, а потом ко мне несут сына, который призывает меня к земному. О Боги! Гиппарх! — вскрикнула она, — как ты его держишь… Осторожнее… Ты его уронишь…
Гиппарх приближался, неуверенной походкой, какой ходят почти все мужчины, когда им случается нести на руках ребенка.
— Посмотри, как он хорош, — сказал он, и, желая дать возможность лучше рассмотреть сына, вытянул руки.
Испуганный ребенок разразился отчаянными криками. Отец пытался его успокоить, но безуспешно и, наконец, смущенный, передал его Ренайе.
— Возьми, — сказал он, — возьми; ты его очень дурно воспитываешь.
— Я его дурно воспитываю! Ты хочешь сделать гимнастом трехмесячного ребенка! Подожди до тех пор, пока он достигнет такого возраста, когда ему можно будет принять участие в упражнениях на стадионе. Мой дорогой малютка боится, чтобы его папаша не уронил его на землю…
И присев на скамейку, она отвела край туники и стала кормить ребенка. Гиппарх смотрел на нее. Чувствуя на себе ласковый взгляд мужа, гордясь тем, что она жена, и радуясь тому, что она мать, молодая женщина улыбалась, отдавшись охватившему ее радостному настроению.
Ребенок заснул. Ренайя завернула его в пеленки и положила в ивовую корзинку, которую прикрыла прозрачным покрывалом. Большая собака подошла к колыбели и, виляя хвостом, улеглась около нее, уткнув морду между лапами. Жаворонки, заливаясь, поднимались к голубому небу.
В это время они услышали, как звякнула цепочка; наружная дверь отворилась. Вдали, в кипарисовой аллее, показалась Эринна, сопровождаемая кормилицей, которая шла за нею мелкими быстрыми шажками.
Ренайя побежала к ней навстречу, взяла ее за руки и обняла.
— Как я рада видеть тебя у себя в доме, — сказала она, — так рада, так рада! Смотри! Это Гиппарх, мой муж, ты теперь его знаешь, это Конон, его друг, который сейчас стал и моим другом и которого ты тоже знаешь немного; там в корзинке спит мой сын, а это мой маленький брат прячется за мое платье. Мы все собрались здесь, чтобы приветствовать тебя. Постой, я сниму с тебя покрывало, чтобы видно было твое лицо и чтобы ты могла сказать нам что-нибудь: раньше ты любила поболтать.
И молодая женщина отстегнула блестящие аграфы, которые поддерживали вокруг волос подруги волны легкой материи.
— Возьми покрывало, Лизистрата. Деметрий, проведи старую Лизису в комнату прях: вели подать ей пирожков и вина. Иди с ним, Лизиса, только возьми его за руку, мальчик бегает быстро, иначе ты отстанешь от него.
Эринна стояла немного смущенная. Она с достоинством знатной особы носила изящный костюм благородных афинянок. Ее волосы, точно покрытые золотистой пылью, окружала шелковая зеленая повязка, которая только поддерживала их, но не стягивала; тонкие брови, немного сурьмы было на ресницах. Вопреки моде того времени, которая заставляла женщин сильно румяниться, ее молодое свежее лицо не нуждалось ни в каких искусственных средствах.
Конон подошел к Эринне и заговорил с нею вполголоса. Черные, бархатные, с искорками глаза молодой девушки сверкали из-под опущенных ресниц. Щеки раскраснелись. Она улыбалась и, когда наклоняла голову, верхняя часть ее лица покрывалась на мгновение легкой тенью, падавшей от густой массы волос. Наконец, когда Конон обратился с вопросом, имеющим решающее значение и в то же время ей приятным, черты ее лица еще больше оживились, глаза стали еще темнее. Она смело подняла их. Кровь бросилась ей в лицо, залила шею и уши.
Она утвердительно кивнула головой, и Конон взял ее за руку.
— Я, признаюсь вам, боялась, — сказала смеясь Ренайя, — что вы никогда не столкуетесь. Ты как думаешь, Гиппарх, можно было этого бояться или нет?
— По-моему, нет, — отвечал скульптор. — А не пора ли нам обедать?
— Идемте обедать. Пойдем со мной, Эринна!
Она взяла за руку свою подругу и повела ее в мастерскую. Дорогой она прижалась к молодой девушке и обняла ее.
Мастерской Гиппарха была очень большая комната, освещавшаяся сделанными в потолке окнами со вставленными в них стеклами, — роскошь редкая в то время, такое не имели даже храмы. Стены комнаты были закрыты прислоненными к ним и висевшими на них гипсовыми или глиняными слепками, а сама комната заставлена статуями, из которых одни были уже окончены, а другие еще только начаты. Стоявшая в одном углу фигура из черного дерева, слоновой кости и бронзы напоминала знаменитую статую Афины, золоченое копье которой касалось кровли Парфенона. Раб закрывал мокрыми простынями стоявшую среди комнаты массу еще бесформенной глины, огороженную ширмами.
— Какой удивительный беспорядок! — вскричала Ренайя. — Впрочем я здесь не хозяйка. Тут нет ни одного ложа, но Гиппарх хотел непременно принять вас здесь. Он уверяет, что все надо смотреть именно на том месте, где оно должно быть: триерарха на корабле, скульптора в мастерской!
Они уселись вокруг немудрено накрытого стола: фиолетовые фиги, показывавшие в многочисленных трещинах свое красное мясо, яйца, молоко, свежий сыр и маленькие золотистые хлебцы в изящных корзинках. Розовые ионийские и более темные самосские и кипрские вина просвечивали в четырехугольных стеклянных сосудах, оправленных в олово.
Так как за обедом не было слуг, Гиппарх сам налил вино в чаши и сказал:
— Когда мы бываем вдвоем с женой, мы не особенно почтительно относимся к бессмертным и не делаем обычных возлияний. Но сегодня, друзья мои, я хочу совершить возлияние за ваше счастье перед этой статуей Афродиты Нимфы.
Он пролил на пол несколько капель золотистого вина и прочитал:
— Я отдаю ваше счастье под покровительство великой богини…
Гиппарх простер руки над головами молодых людей, благословил их жестом жреца и вдохновенно продолжал:
— Это она, силою своего могущества, заставляет ржать диких жеребцов, когда ветер Ливийских пустынь доносит до них топот приближающегося табуна кобылиц.
Это она заставляет мычать быков и гордо сверкать глаза львов.
Это она кладет на чело девушек румянец неведомого желания.
Это она кладет на чело женщин румянец радостных воспоминаний.
Это она соединяет женщину с мужчиной, как гибкий плющ с могущественным стволом дуба.
Это она подчиняет себе животных и властвует над людьми.
Потому что она великая богиня любви.
Потому что она высшая богиня жизни.
И покрывала, скрывающие ее неподдающуюся описанию красоту, скрывают утробу, где зреет будущее.
— Мне нравятся твои слова, Гиппарх, — сказала Эринна. — Ты великий человек: время прославит твое имя, и черты Анадиомены, изваянные из мрамора твоею рукой, будут жить вечно.
— Что нам до того, — тихо сказала Ренайя, — что будут говорить о нас через много веков. Я готова отдать все статуи Гиппарха, даже ту, которую он вылепил с меня, когда я стала уже его женой, но не была еще матерью, — я отдала бы их все за одну улыбку моего ребенка.
Вместе с наступившей прохладой вечер проникал в мастерскую. Это было самое приятное время. Заходящее солнце скрывалось за смоковницы.
Старая кормилица приподняла портьеру.
— Пойдем, дитя мое, — сказала она, — пора домой.
— Это правда, — воскликнула Ренайя. — Ночь наступает. Я пойду за сыном.
Ее ребенок все еще спал в своей корзинке, стоявшей на каменной скамье, охраняемый неподвижно лежащей собакой.
Глава IV
В ту эпоху Афины, расположенные у подножья своих знаменитых холмов, опоясывались высокими кирпичными стенами, покрытыми штукатуркой из толченого мрамора. Эти стены, настолько широкие, что по ним свободно можно было разъезжать в колеснице, защищались зубчатыми башнями, сообщавшимися через подземные галереи. Протяженность стен, включая стену, соединявшую город с гаванью, достигала двухсот стадий. Низкие дома без окон, прижатые один к другому, лепились вдоль узких переулков, вымощенных мелким булыжником. Дороги, вымощенные большими камнями, тщательно пригнанными один к другому, вели к воротам, выходившим на равнину. Колесницы проложили в них глубокие колеи, в которых во время дождей стояла вода. По краям этих широких улиц стояли богатые дома, большая часть которых принадлежала метекам[10], нажившим богатство торговлей, которую презирали настоящие афиняне. Выращенные в кадках лимонные деревья, обрезанные в виде шара, заглушали своим сильным запахом более нежный аромат лавров, жасминов и роз. Кирказоны и виноградные лозы смешивали на портиках свою разнообразную листву. Тимьян, лаванда и желтофиоль росли по склонам. Всюду виднелись прекрасные статуи бесчисленного множества богов и богинь, — все они имели своих жрецов, свой культ и свои храмы. Легкие колонны, поддерживали треножники или бронзовые урны, в которых ночная стража в безлунные ночи зажигала смесь масла и горной смолы. Памятники победителям на соревнованиях, небольшие колонны с бюстами, увенчанными золотыми лавровыми венками, и многочисленные фонтаны, полные свежей и прозрачной воды, у которых стояли жены ремесленников и моряков, окруженные шумной, пестрой толпой рабынь.
Афины уже почти целых двадцать пять лет вели войну с Лакедемонией. Афиняне жили под защитою своих городских стен, которые уже три раза тщетно пытались взять спартанцы. Вся окружающая город местность представляла собой пустыню. Крестьяне оставляли поля невозделанными и бежали в город. Оливковые рощи были вырублены, фиговые деревья уничтожены. Кефись и Иллись печально текли между лишенными зелени берегами. Затем одно очень жаркое лето окончательно сожгло землю. Громадные белоголовые коршуны, сидя неподвижно на мраморных колоннах, некогда служивших украшением могил, высматривали падаль. Но, побежденные на суше, Афины сохраняли свое владычество на море. Разорение и разграбление окрестностей почти нисколько не ослабило их престижа и не уменьшило их богатства. Победоносный флот Алкивиада вошел в гавань. Привезенная им громадная добыча покрывала Агору, а трофеи, привезенные с востока, загромождали портики храмов. Толпы ликующего народа провожали до пропилеев молодого и гордого полководца. Эфебы[11]выпрягли лошадей из его колесницы, а молодые девушки, покинув гинекеи, осыпали с террас розами. Народ возвратил ему имущество, недавно проданное с торгов, и бросил в море свитки, на которых был написан давно уже всеми забытый приговор. Наконец, жрецы сняли проклятия, произнесенные против осквернителя святыни, некогда изгнанного за это преступление… Едва прошел месяц, и тот же самый народ снова обвинил триумфатора в желании восстановить для себя царскую власть… Алкивиад снова бежал на своей триере из своенравной родины, направившись к Андросу.
В тот день в городе было необычайное движение. Граждане поспешно выходили из своих жилищ и бежали к агоре. Дурные вести, привезенные беглецами с Самоса, вызвали в толпе тревогу и гнев. Началась драка, и трое опасно раненных были перенесены стражей в лавку цирюльника.
Конон и Гиппарх, возвращаясь из Керамики, вошли в портик.
У подножия статуи Артемиды Аристомены и Формион с ожесточением надрывали свои глотки.
— Да, — говорил Формион, — лошади, выигравшие на бегах, несомненно принадлежат Диомеду: они были только перекрашены. Человек, совершивший эту гнусность, не достоин командовать армией.
— О ком это ты говоришь, Формион? — спросил Гиппарх, останавливаясь.
Формион поколебался с минуту, но, не увидев среди присутствовавших никого из друзей Алкивиада, — отвечал с притворной смелостью:
— Я говорю об афинском стратеге Алкивиаде, который начальствует над флотом, сегодня он стал победителем, воспользовавшись лошадьми, принадлежащими другому.
— Это действительно важно, — отвечал Гиппарх. — Ты, может быть, простил бы ему одержанную победу, если бы эта победа наполнила твой кошелек, вместо того, чтобы его опустошить.
— Не смейся, — гневно возразил Формион. — Если архонт[12] не карает за такое преступление, если можно обманывать честных игроков, то это уже дело государственной важности.
Толпа одобрительно зашумела. Конон нахмурившись, опустил голову.
— Я понимаю причину твоего дурного расположения, — сказал скульптор, беря его за руку и предлагая уйти.
Друзья прошли через Пецилес, потом по аллее Треножников и дороге Дромос и подошли к дому Леуциппы.
Это был один из красивейших домов в этой части Афин, считавшейся самой богатой. Широкий портик дома, построенный из пентеликского мрамора, поддерживали четыре мраморных колонны. Росшие возле дома апельсинные деревья наполняли воздух ароматным запахом; сквозь темную листву вечнозеленого мирта виднелись пурпурные цветы гранатов.
Конон и Гиппарх медленно поднялись по широкой лестнице. Перед входом, вымощенным белыми и голубыми плитами, стояли две бронзовые фигуры, украшавшие нос галер. Они изображали морских коней, которые, как уверяли, бороздят моря за скалами разведенными могучей рукой Геркулеса. Леуциппа сам побывал на своих галерах в этих опасных местах. Он видел разбросанные по морю острова, поросшие странными деревьями. Но носы его галер запутались в травах, плававших на поверхности моря; гигантские рыбы преследовали его суда; каждый вечер на горизонте появлялись новые звезды, и волны кровавого цвета катились вокруг кораблей с ужасным ревом. Матросы самовольно повернули галеры и, судорожно работая веслами, поплыли обратно…
Леуциппа, вернувшись домой, приказал снять украшения со своих галер. Он посвятил их Посейдону и сделал хранителями своего дома. И с тех пор все посетители останавливались перед этими неподвижными лошадьми, в которых была какая-то особенная притягательность и которые, казалось, все еще неслись по морю.
Конон долго рассматривал их.
— Видишь, — сказал ему Гиппарх, — как умели древние скульпторы вложить в свои произведения жизнь и правдивость, которые мы утратили. Афина Промахос прекрасна, без сомнения; это бессмертное, чудное произведение. Малейшая складка ее одежды передана удивительно верно. Это действительно статуя богини. Но можно ли сказать, что ее холодное спокойствие, ее суровое равнодушие естественны. Может быть, Фидий, создавая из золота и слоновой кости этот безукоризненный образец хотел показать богиню именно такой, намеренно подчеркивая ее величие от суетной тщеты простых смертных? Во всяком случае, у его Афины нет другой жизни, кроме той, которую ей приписывает вера почитающих ее. А теперь взгляни на этих коней. Они сделаны грубо; но несмотря на это, я вижу пену на их мордах, искры под их копытами. Ноздри их раздуваются, развевается грива. Они движутся…
В эту минуту у входа в галерею появился Леуциппа. Конон подошел к нему и, приветствуя поклоном, сказал:
— Эмблема мира лучше символов войны. Я был бы очень рад заменить на своей триере боевой щит крылатыми конями и, подобно тебе, мирно бороздить сверкающие равнины моря.
— Мечта, достойная твоей молодости и твоего благородства, — отвечал Леуциппа. — Придет время и ты, наверное, осуществишь ее. Что же касается меня, то я хотел бы провести остаток моей жизни, принося жертвы пенатам, беседуя с мудрыми людьми о вечных, бессмертных истинах, окруженный внуками… Но увы, друзья, которые остались у меня, точно так же, как и я, охвачены ужасом. Нам кажется, что демократия ведет к погибели наше отечество. Мы, старики, каждый вечер благодарящие богов за прожитый нами день, хотели бы быть уверенными в том, что найдем неприкосновенный приют в земле, под теми же оливами, что наши отцы… Наша жизнь была свободна: пусть же и грядущий покой никогда не будет рабским.
Они прошли под широкий портик, который ограждал с четырех сторон четырехугольный двор Андронида. Человек десять, одетых в белое, уже были здесь. Только у Конона была легкая хламида с пурпурными отворотами. Леуциппа подошел к тому из гостей, который казался всех старше. Это был человек высокого роста, белая густая борода, тщательно расчесанная, ниспадала ему на грудь.
— Лизиас, — сказал Леуциппа, — вот Конон, триерарх и Гиппарх — скульптор. Их мужество и помощь богов спасли жизнь моей дочери Эринны.
Лизиас поднялся с своего места, расправил складки плаща и с улыбкой сказал:
— Мы уже знаем тебя, Гиппарх, как одного из наших славных детей. Что же касается тебя, Конон, то мы все читали твое имя на почетных таблицах. Я часто бывал у твоего отца; он был человек справедливый, почитавший богов. Черты его лица оживают в твоих чертах.
Конон поклонившись, отвечал:
— Ничто не могло бы растрогать сердце сына больше чем высказанная публично хвала его отцу, особенно было приятно услышать это от тебя, Лизиас, так как твоя дружба делает честь тем, кого ты ею удостаиваешь.
Он приветствовал остальных присутствовавших. Все ответили на его приветствие с тем изящным величием, которое отличало знатных афинян при встречах между собою или со знатными иностранцами.
Молодой раб подошел к Леуциппе.
— Господин, гномон[13] показывает седьмой час.
— Хорошо, Эней, прикажи принести цветы.
Раб слегка ударил молотком по медному диску. В ту же минуту вошли слуги и выстроились перед дверью залы, в которой должно было происходить пиршество. В руках у них были амфоры, полные священной воды, и корзины с венками. Когда гости, направляясь в залу, проходили возле них, они возлагали на голову каждого венок из плюща с вплетенными в него розами, и затем кропили на руки несколько капель душистой воды из амфор.
Зала, в которую последним вошел Леуциппа, была шестиугольной формы. В ней находилось четыре мраморных стола, вокруг каждого из них — по три ложа, похожих на покатую постель, покрытых шкурами пантер, поверх которых лежали подушки для того, чтобы на них можно было облокачиваться. Стоявшие в каждом углу легкие колонны, поддерживали слегка приподнятый купол, отверстие которого закрывал полотняный велум, пропускавший только солнечный свет. Затянутые яркой материей стены были увиты гирляндами из роз и плюща. Шкуры фессалийских львов, разостланные на полу, заглушали шум шагов, а из бронзовой пасти дельфина тонкой струей падала вода в мраморный бассейн, в котором плавали золотистые рыбки…
Леуциппа провел Лизиаса к центральному столу, указал Гиппарху и Конону на два соседних ложа и разместил затем остальных гостей соответственно их возрасту и общественному положению.
Рабы наполнили чаши ионийским вином, и пиршество началось.
Разговор сначала не клеился, но затем мало-помалу стал оживать. Аристофул сообщил подробности того, что произошло утром на ипподроме. Лошади Антисфена должны были выиграть, но на последнем повороте колесо его колесницы налетело на камень, и возница, свалившийся под упавших и запутавшихся в постромках лошадей, получил серьезные ранения. Победительницей была объявлена вторая колесница, но публика отнеслась к этому холодно, потому что на нее поставило мало игроков. Вдруг распространился слух, что лошади победителя, бежавшие под именем Алкивиада, в действительности принадлежат Диомеду. Тогда все пришли в неистовство. Публика заглушила своими криками голос распорядителя игр, не слушая его объяснений, сломала скамьи и балюстрады и стала кидать их на арену. Пришлось возвратить деньги и закрыть ипподром.
Затем Лизиас заговорил о злосчастной войне, которая уже столько лет разрушает торговлю и всю жизнь государства. Лакедемоняне одержали победу, благодаря неосторожности Алкивиада. Оставив часть флота возле Симеса под начальством Антиоха, стратег с другой частью отправился на поиски обратившихся в бегство кораблей Лизандра. Лизандр обманул преследователей и, повернув назад, неожиданно напал на флот Антиоха, который для спасения остальных судов, должен был пожертвовать тремя галерами. Правда, несколько часов спустя, Алкивиад был уже перед гаванью, и Лизандр не посмел выйти из нее; но, несмотря на это, Лакедемоняне все-таки воздвигли на берегу трофей, который Афинские моряки могли видеть с моря. Это было бесспорным знаком поражения, и престиж знаменитого Алкивиада сильно упал на Агоре.
Гиппий, софист, который вопреки своему обыкновению, до сих пор еще ничего не сказал, приподнялся на локте:
— Слух об этом неудачном сражении распространится повсюду и поколеблет и без того уже шаткую верность наших союзников. Эта война гибельна, она превратила Аттику в пустыню. Она поглотила сокровища, собранные в Опистодоме[14] предусмотрительностью наших отцов. Наша военная слава померкла под Сиракузами. Неумелые, ненужные сражения, грозят опасностью самому существованию Афин. Меня очень страшит будущее.
— Не надо страшиться его, — заметил Конон, — его надо создавать.
В эту минуту один из рабов, прислуживавших гостям, поскользнулся и, падая, слегка поранил себе руку.
— Я должен предотвратить это дурное предзнаменование, — сказал Леуциппа.
Он приказал наполнить медом золотую чашу с двумя ручками, употреблявшуюся для возлияний и, стоя перед домашним жертвенником, помещавшимся в углу залы, медленно поднял ее.
— Бессмертная покровительница, дочь Зевса, блистательная Афина, простирающая над моим домом твою спасительную руку помощи. Не ставь нам в вину наше счастье, дочь Зевса, блистательная Афина.
И все гости повторили в один голос:
— Не ставь нам в вину наше счастье, дочь Зевса, блистательная Афина.
— Мне кажется, — сказал Гиппий, когда все заняли свои места, — что я видел как-то в мастерской Гиппарха эту самую статую, которая стоит на жертвеннике.
— Да, — отвечал Леуциппа, — Гиппарх изваял ее для Праксиса, а я купил ее, когда разорившийся Праксис должен был продать с молотка все, что имел.
— Знаете, — продолжал Гиппий, — в мастерской она не казалась мне такой прекрасной, как сейчас. Здесь белизну мрамора оттеняет занавес, а контуры не имеют той резкости, что при дневном свете делает похожими наши статуи на простые силуэты.
— Это верно, — сказал Гиппарх, — бронзовые статуи даже на светлом фоне неба никогда не бывают грубы, потому что отраженный свет, придает рельефность формам, подчеркивает их… Мрамор же, наоборот, требует контраста, приглушенности света, проходящего сквозь листву или темного фона олив.
— Не находишь ли ты, — спросил Леуциппа, — что красота мрамора наиболее великолепна при желтых тонах осени?
— Разумеется. В конце прошлой осени мне посчастливилось наблюдать это явление. В блеске заходящего солнца пылало и небо, и священные дубы Додона. Статуя олимпийца, облитая этим золотым светом, казалось, купалась в море лучей.
— Я знаю эту статую, — сказал Лизиас, — это не особенно изящное произведение неизвестного скульптора.
— Вовсе нет, — возразил Гиппарх. — Аристомен из Митилены был великий художник. Истинный художник тот, кто умеет сочетать свое произведение с окружающими его предметами, создавая его в гармонии с местными условиями, и, если нужно, изменяя соответственно им. В этой стране, где властвуют грозные оракулы Зевса, нужно было создать нечто мощное, величественное, нечто такое, что воплощало бы представление о непоколебимой власти грозного божества, которое не только карает, но и милует.
— Я того же мнения, — сказал Аристофул. — Я нахожу, что эта статуя прекрасно отвечает той идее, какую должен составить себе народ об олимпийце. Когда я проходил мимо Додона, суровое величие этого места поразило меня помимо моей воли. Я был тогда эфебом с длинными волосами. Я думал, что моя молодость никогда не кончится и очень мало боялся бессмертных.
— Мы должны бояться их и в молодости, и в старости, — сказал Лизиас.
— О! — воскликнул врач Эвтикл, — все эти бессмертные начинают надоедать.
Наступило молчание, гости переглянулись, и даже рабы замерли на своих местах.
— Эвтикл, — строго сказал Леуциппа, — ты сказал не то, что думаешь. Или, может быть, на тебя оказало влияние учение Сократа, развратителя молодежи?
Сократ, — возразил врач, — мудрейший из людей. Он почитает ботов, но верит в человеческий разум.
Оставим это, — сухо сказал Леуциппа. — Лучше попросим Гиппарха прояснить нам до конца свою мысль.
— Да, — сказал Лизиас, — тем более, что его доводы не убедили меня, а его теория нисколько меня не прельщает. Я, наоборот, думаю, что прекрасное прекрасно само по себе, что оно вовсе не нуждается в каком бы то ни было приспособлении своей формы к внешним предметам, и что оно ни в каком случае не может быть результатом удачного сочетания окружающей обстановки. Когда я рассматриваю статую, я забываю обо всем остальном, не вижу и не чувствую ничего, кроме нее. Зачем нужно окружать Зевса дубами или грудами скал, чтобы видеть презрение или гнев на лице Олимпийца.
— Ты исключение, Лизиас, — возразил Гиппарх после короткого молчания, — потому что ты можешь отрешиться от всего остального, как ты сам сейчас сказал, ты человек образованный и с хорошим вкусом. Ты видишь красоту в самом ее изображении, в изяществе и чистоте формы. Но это только образ красоты, а не сама красота. Красота заключается не только в этом, но еще и в иллюзии. И этот удивительный сплав воображаемого и сущего создается искусством…
— А между тем, — перебил Лизиас, — это изображение и есть истина и жизнь. Простой человек, который только чувствует, но не анализирует, никогда не скажет, что произведение прекрасно, если в нем нет этой жизни и этой истины.
— Я понимаю тебя. Я хочу сказать, что жизнь и истина далеко еще не все в искусстве. Они являются его краеугольным камнем, но искусство преследует определенную цель и, чтобы хорошенько понять его, надо искать эту цель там, где особенно резко проявляется его значение: в отображении нравственной красоты с помощью красоты физической. Нравственная красота это идеал, физическая красота это только та жизнь и та истина, о которой ты говоришь. Для того, чтобы произведение было прекрасно, оно должно быть живо: нужно, чтобы художник вложил в него то, что он чувствует, свою душу. В нем должна быть правда; нужно, чтобы работа рук не искажала творчества мысли. Но самое главное, чтобы оно не было точным воспроизведением природы.
Это необходимо потому, что красоты внутренней, красоты, созданной воображением и носящей на себе отпечаток благородных побуждений, красоты, внушенной стремлением к идеалу, такой красоты в природе нет. Мы создаем ее сами; ее создают наши скорби, наши радости, наши стремления, присущая нам поэтика. Красота — это образ, созданный нашей мечтой, это то бесконечно далекое, что живет в тайниках нашей бессмертной души, к чему приближаешься, но никогда не достигаешь.
— Вот именно так и я понимаю красоту, — сказал Лизиас, — только… и я нисколько не стыжусь в этом признаться, я не сумел бы этого так хорошо выразить. Но мне все-таки кажется, что истинно художественное произведение, то есть такое, о каком ты только что говорил, не нуждается ни в каких дополнениях. Я смотрю на него, восхищаюсь им, и, как я сейчас говорил, даже с закрытыми глазами, все ее созерцаю его.
— И однако же, — возразил Гиппарх, — художник не может считать свою работу оконченной даже и в том случае, когда ему удается создать нечто на самом деле прекрасное, нечто такое, что всеми признано совершенством. Надо еще найти для него рамку, надо выставить его при соответствующем освещении. Наш Парфенон ничего не представлял бы собою в туманах Эвксина. Ему нужны голубое небо Аттики, зелень кипарисов, тишина наших вечеров и розовый свет нашего прекрасного заходящего солнца, с сожалением покидающего его освещенную кровлю!
— Это верно, — сказал художник Критиас, который до сих пор не произнес еще ни слова, — это верно, особенно в архитектуре и в скульптуре. Но в живописи?
— Живопись, — возразил Гиппарх, — выше скульптуры. В мраморе меньше жизни, чем в картине, написанной красками. Но даже картина, как бы хороша она ни была, в удачно выбранной для нее обстановке кажется еще лучше.
— Вспомним храм Бахуса. Божество, принадлежащее кисти Парразиоса, сияет во всей своей славе. Бронзовые подножия блестят по углам жертвенника. Развешенное на стенах оружие, мраморные и металлические статуи, столы, треножники, золоченые вазы, роскошные ковры создают обстановку, которая еще более усиливает яркость красок. Тело, принесенного в жертву быка еще трепещет. Клубы фимиама вьются вокруг колонн и медленно поднимаются кверху сопровождаемые пением и молитвами. Жрецы, поднимая обнаженные руки, украшенные золотыми браслетами, вторят священному пению гармоничными звуками арф. Я гляжу на божество; вижу, как течет кровь под мертвыми красками, чувствую в них жизнь. Глаза Бахуса сияют, на челе у него лучи, которые погасают, как только храм пустеет… Вот что делает обстановка; она заставляет верить в богов меня, Гиппарха, который, как и Эвтикл, скорее верит в человеческий разум.
— Ты очень хорошо выражаешь то, что мы чувствуем, — сказал Лизиас. — Но то, что ты говоришь, печально для тех, кто владеет картинами знаменитых художников.
— Картинные галереи — это клетки с птицами. Тем не менее, они имеют свой смысл. Они дают заработок художникам и, кроме того, если смотреть на них умея, можно извлечь для себя кое-что полезное.
Он приподнялся на своем ложе и, указывая рукой на большое панно между центральными колоннами, сказал:
— Смотрите на нее и слушайте, что я буду говорить: ночь медленно спускается над уснувшими Афинами. Присядем на краю этих пустынных скал и обратимся к той отдаленной эпохе, когда море билось об эти никому неведомые берега; когда здесь не было слышно человеческого голоса, потому что дети Пирры еще не появлялись на свет. Этот чуть брезжущий свет напоминает мне, что там, во мраке, у меня под ногами, другие, непохожие на меня существа живут своей короткой жизнью и волнуются из-за своих кратковременных страстей. Я закрываю глаза, и этот свет уже свет другого города, свет будущих Афин, зажженный людьми, которые придут в свою очередь вспоминать о прошлом на эти самые скалы…
— Вот что навевает мне бледный свет месяца, как бы задремавшего под этим неподвижным облаком.
И вчера, и сегодня, и завтра, и вечно — все одно и то же. Ведь это имел в виду художник?
— Да, — отвечал Критиас. — Моя кисть скользила по полотну, а душа руководила ею, смутно ощущая и твои видения.
— Я восхищаюсь тобою, Гиппарх, — сказал Конон. — Я не раз переживал, может быть, бессознательно, все, что ты только что сказал. Сколько раз, сидя на носу триеры, я слушал, как поют гребцы унылые песни своей далекой отчизны. Мне казалось, что я вижу, как само время час за часом движется за кормой триеры. Но где же было задумываться над этим простому воину, и я призывал бессмертных богов.
— И ты поступал хорошо, — сказал Леуциппа торжественно. — Это они вручили тебе твой резец, Гиппарх, твою кисть тебе, Критиас, и твой меч тебе. Конон. Это им угодно было, чтобы над Афинами сияло солнце. Это они дали нам радость бытия, детей, подающих надежды, старцев, сохранивших светлый ум. Возблагодарим их за это. Совершим, опустившись на колена, священные возлияния…
В эту минуту в доме вдруг поднялся шум, послышались чьи-то голоса, с улицы донесся топот Множества людей.
В комнату вбежали вооруженные рабы. Эней жестом остановил их и, склонившись пред Леуциппой, сказал:
— Господин, пришли посланные от народа… Я предложил им от твоего имени очистительной воды.
— Хорошо. Впусти их.
Человек десять показались в дверях, встали в глубине залы, кутаясь в скромные суконные плащи.
— Рад видеть вас в моем доме, — сказал Леуциппа; — мы только что кончили обедать и собирались делать установленные возлияния богам. Не хотите ли совершить их вместе с нами.
Посланные от народа изъявили согласие, взяли поданные рабами чаши, наполненные ионийским вином. Леуциппа медленно произнес священные слова и трижды пролил несколько капель вина на уголья, тлевшие на жертвеннике. Затем, обращаясь к делегатам, спросил:
— Граждане, что привело вас ко мне?
— Леуциппа, — сказал один из них, — в твоем доме почитают богов, и за это их благоволение простирается и на твоих друзей. Нам нужно видеть Конона, сына Лизистрата.
— Вот он, — сказал Леуциппа.
Конон удивленно поднялся[15], все десять низко склонились пред ним, а самый старший обращаясь к нему, торжественно произнес:
— От лица афинского народа.
При этих словах все свободные люди приложили руку к груди, а рабы опустились на колени.
— Конон, народные представители низложили Алкивиада и провозгласили тебя стратегом. Ты должен придти в десятом часу на Агору за получением распоряжений. Ты отправишься сегодня вечером на легкой триере, которая ожидает тебя в Фалере.
После этих слов они поклонились и вышли.
Гости окружили нового стратега. Все горячо поздравляли его.
— Конон, — сказал Гиппарх, — я ненавижу эту братоубийственную войну, которая разлучает меня с тобой. Но я горжусь, что ты возведен в столь высокое звание.
— Ты молод, Конон, — сказал в свою очередь Лизиас, — но ты понимаешь, какое мы теперь переживаем время. Ты знаешь, мы ведем не завоевательную войну, и поэтому, вступая в битву, ты ни в каком случае не должен рисковать судьбой Афин. Воины, которыми ты будешь командовать, наши последние дети…
— Я всегда буду помнить об этом, — сказал Конон.
— Прежде чем покинуть нас, выслушай, что я скажу тебе, сын мой, — сказал Лизиас. — Возраст дает мне право называть тебя так, и я знаю, что твой отец, который смотрит на нас из Элизиума[16], одобряет меня.
Многие из находящихся здесь заплатили уже вперед за твою будущую победу. Сын Аристофула нашел себе могилу в Сиракузах. Двое моих сыновей спят в Сфактерии, а третий, может быть, завтра же будет сражаться рядом с тобой на палубе священной галеры. Аристомен, который стоит там возле жертвенника, еще несчастнее нас — только что он ездил в Тенедос погребать своих троих сыновей… Мы все говорим тебе: Конон, ты должен победить. Ради нашей родины, ради наших очагов, ради всего, что у нас еще осталось и что мы еще любим, ради священного имени Афин, ради священного города, который некогда спас Грецию и который нынешняя Греция хочет уничтожить, Конон, стань победителем! Привези нам на наших последних кораблях, убранных миртами и лаврами, желанный мир!
Глава V
Когда гости, простившись с Леуциппой, вышли из зала, Конон подошел к хозяину дома.
— Мой непредвиденный отъезд заставляет меня объясниться с тобой, Леуциппа, — сказал он. — Твоя дочь была вчера вечером у Гиппарха, я тоже был там. Утром я послал ей подарки. Следует ли мне теперь принимать избрание меня в стратеги.
— Разумеется, следует.
— Но я должен буду уехать, не повидавшись с твоей дочерью?
— Нет, — отвечал, улыбаясь, Леуциппа, — я уже позвал ее, да вот и она.
Драпировка, закрывавшая одну из дверей, распахнулась, в комнату вошли Эринна и ее мать.
Волосы девушки поддерживались повязкой, в которой блестели золотые булавки. На шее был надет белый жемчуг, в два ряда нашитый на красную ленту, а обнаженные, без всяких украшений руки виднелись из-под широких рукавов туники. Обрамленное волнами золотистых локонов ее прелестное личико производило чарующее впечатление.
— Жена, — сказал Леуциппа, — это тот самый молодой человек, которому мы обязаны спасением жизни нашей дочери. Я хотел предложить ему в благодарность украшение для его домашнего жертвенника, золотую чашу для возлияний богам; но Эринна опередила меня: она отблагодарила своего спасителя и, без нашего ведома, стала со вчерашнего дня его невестой.
Эринна, вся красная от смущения, бросилась в ноги Носсисы.
— Прости меня, я не знаю, какой бог внушил мне поступить так.
— Наивный ребенок, — сказала Носсиса, целуя ее в лоб. — Ни отец, ни я не станем препятствовать твоему счастью.
— Да, — сказал Леуциппа торжественно, — но мы не испросили благословения у богов, и боги уже посылают нам наказание за это. Дочь моя, судьба послала твоему жениху более высокую награду, чем твоя целомудренная любовь. Народ вручил ему судьбу отечества. Конон теперь стратег и с нынешнего дня вступает в командование флотом и войском Афин. Сегодня вечером он отправляется в Самос.
Носсиса почувствовала, как в ее руке задрожали тонкие пальцы дочери. Изменившись в лице, она сказала прерывающимся голосом:
— Итак, Конон, ты покидаешь нас. Успеха тебе в битвах. Не забывай наш дом, и того, что две бедные женщины в ожидании твоего возвращения, здесь будут молить за тебя богов…
— Оставим их, жена, — сказал Леуциппа отеческим тоном. — Оставим их. Останьтесь вместе, дети мои. Конон, этот дом твой. Через два часа я приду за тобой, и мы вместе пойдем в экклезию[17].
Они долго сидели, не произнося ни слова, погруженные в свои мысли. Горделивая улыбка сияла на открытом лице Конона. Еще ни один афинянин не получал права в таком возрасте носить пурпурный плащ стратега, меч с позолоченной рукояткой и котурны с золотыми шпорами. Он был уверен, что победит Лизандра. Конон изучил тактику, хитрости и уловки этого полководца.
Взглянув на Эринну, он увидел на глазах у молодой девушки слезы. Опустившись перед ней на колени, он взял ее руки в свои и взволнованно сказал:
— С тех пор, как я увидел тебя, я живу, как во сне. Пока я не знал тебя, мне и в голову не приходило, что я буду чувствовать себя таким счастливым, видя улыбку молодой девушки. Я считал вас, похожими на красивых бабочек, у которых в их своенравных головках мелкая, пустая душа. Я думал, что с вами, может быть, и приятно проводить известные часы, когда сердце успокаивается, когда ум позволяет уносить себя на шелковистых крыльях мечты. Но теперь я понимаю, что это вовсе не так… Отныне моя жизнь принадлежит тебе. Никогда, по моей вине слеза печали не омрачит твоих глаз, никогда я не оставлю тебя, каков бы ни был путь, по которому мы пойдем вместе. Эринна, не плачь… Улыбнись, я хочу видеть твою улыбку.
Она подняла голову, грациозным движением обвила его шею своими руками.
— Не забывай, — тихо сказала она, — что мы должны испросить прежде всего благословение богов. Вели принести сюда твои доспехи. Пока ты будешь на собрании, я пойду просить благословения для твоих доспехов в храм богини Афины. Я буду ждать тебя спокойно, потому что буду уверена, что ты вернешься невредимым. Она защитит тебя.
— Хорошо. Я уверен, она услышит твою молитву. Я вернусь… Я вступлю победителем в Акрополь на золоченой триумфальной колеснице и отдам мои венки для украшения твоего венчального платья!
Часть II
Глава I
Сквозь мощные колонны Парфенона виднелось ясное голубое небо. Покрытое розовыми и белыми парусами море сверкало в лучах солнца. Знаменитый остров Саламин замыкал горизонт на западе, а на востоке покрытые оливковыми деревьями склоны Имета, казалось, служили опорой отдаленной вершине Цитерона.
Еще задолго до наступления утра громкий голос глашатая пробудил от сна горожан. Все, кого любопытство или страх заставили покинуть свои постели, увидели над городом красное зарево. По приказанию архонтов был зажжен огромный костер на вершине Ликабитта, и теперь Элевзис, Мегара, Коринф и даже Аргис знали, что Афины победили.
Это был день праздника очищения. В этот день жрецы Афины снимали со статуи богини-покровительницы все украшения, составлявшие приношения благочестивых почитателей. Храмы были закрыты: ленты, протянутые между колоннами, запрещали туда доступ, иерофанты[18], распростертые на плитах перед входом, с головой, посыпанной пылью, молились целый день. Улицы были пустынны. Никого не было под портиками, на священных холмах Ареса и Пникса. Все дела были брошены, все движение остановлено, потому что этот день с незапамятных времен был посвящен традиционному трауру.
Однако, как только с первыми проблесками зари стало погасать пламя костра, все в городе сразу преобразилось. На узких улицах царило веселое оживление и суета. Между длинными стенами устремилось к Пирейской гавани все население Афин. Сверкающие колесницы, с трудом пробивавшиеся сквозь толпу, носилки, с опущенными занавесками, громоздкие повозки селян, которые тащили огромные рыжие волы с широко расставленными рогами, всадники на неоседланных лошадях, пугавшиеся всего этого шума, рабы с бритыми головами, в коротких темного цвета хитонах, иностранцы в чужеземных костюмах, простые женщины без покрывала, причем у некоторых были на голове корзины с плодами или овощами, принесенными на рынок, дети, почти совершенно голые, ловко протискивающиеся через толпу, перекликаясь, крича, падая и тут же быстро вскакивая, — все это купаясь в облаках золотой пыли, поднимавшейся к солнцу, спешило к берегу приветствовать победителей.
Вдруг дети, гонявшиеся друг за другом по гребню стен, закричали: «корабли! корабли!» В одну минуту все, что мало-мальски возвышалось над землей, было покрыто зрителями. В толкотне многие упали; верх одной Повозки рухнул под тяжестью взобравшихся на него; даже некоторые всадники стали на своих лошадей…
Флот победителей провел ночь в Супиуме и теперь был виден в море у Фалерона. Он медленно шел, оставив паруса только на фок-мачтах.
Скоро стали слышны чуть доносившиеся звуки труб и пение моряков. На мачте священной галеры взвился пурпурный флаг, затем, поставив большой парус и опустив все свои сто двадцать весел, она быстро заскользила по воде. Все остальные галеры, последовав ее примеру, пошли за нею в кильватер. Священная галера, сверкавшая под яркими лучами солнца, величественно приближалась к берегу. Послышался голос триерарха, отдававшего приказание: гребцы дружно подняли весла. И вот, при громком пении и криках толпы, ржании пугавшихся лошадей, клекоте чаек, при звуках флейт, труб и кимвалов, на которых играли жрецы Посейдона, при ярком свете солнца, которое бросало свои лучи на все, что только могло отражать их и превращало гавань в огромное серебряное зеркало, — священная галера, величественно скользя по гладкой поверхности моря, достигла входа в Кантарос.
Толпы народа запрудили весь берег и оба мола. Зрители плотной стеной занимали все пространство, начиная от Эльтионейи до мыса Альцимоса, всю набережную Эмпориона, набережную Зеа и Афродизиона. Население прибрежных деревушек, желая получше рассмотреть Конона, бросилось к рыбачьим лодкам. Наиболее ловкие взобрались по мачтам наверх и стояли на реях.
Конон стоял на носу священной галеры. На нем был пурпурный плащ, откинутый назад, на доспехах сверкали золотые змеи страшной Медузы. У его ног лежал щит из полированной стали и шлем с красным султаном. Он стоял, опираясь на копье, с обнаженной головой, на которой тонкий золотой обруч сдерживал темные волосы, и спокойно смотрел на город.
Вслед за священной галерой в гавань вошел весь флот. Палубы триер, так были завалены захваченным у неприятеля оружием: стрелами, мечами, копьями и дротиками, что гребцы с трудом могли действовать веслами, которые были украшены гирляндами из цветущих головок розовых лавров, тонкой листвы бересклета, букетами из маков и васильков. На носу многих судов были выставлены бронзовые тараны, снятые с неприятельских галер, потерпевших поражение в бою. Триеры тащили на буксире захваченные галеры без весел и со сломанными мачтами, еще недавно легко скользившие по морю, а теперь тащившиеся по спокойным волнам с угрюмым видом побежденных. На них сидели пленные, закованные в цепи. Афиняне с любопытством рассматривали гордых спартанцев, пелопонесцев в тяжелой броне, фракийцев в звериных шкурах, персов в ярких одеждах.
Скоро весь флот был уже у набережных обширной гавани; галеры, взятые у неприятеля, отведены в доки для ремонта, гоплиты[19] высажены, доступ в гавань закрыт, а священная галера спускала пурпурный флаг, развевавшийся на мачте.
Стратег, сопровождаемый триерархами и начальниками гоплитов, медленно поднялся по лестнице на набережную, где его ждало пятьдесят пританов[20] во главе с Эпистатом, стоявшим под легким полотняным тентом, который держали над ним на копьях четыре воина. Старик подошел к верхней ступени и сказал громким и ясным голосом, так что весь народ слышал его:
— Приветствую тебя, Конон, в стенах Афин, уже переполненных слухом о твоей победе.
Взяв венок из дубовых листьев, который подал ему один из рабов на серебряном блюде, он поднял его обеими руками вверх. Конон снял шлем, опустился на одно колено и склонил голову.
В толпе, тоже опустившейся на колени, наступила тишина; все затихли в молитве. Эпистат долго стоял с поднятыми руками в позе молящегося жреца. Когда, наконец, губы его перестали шевелиться и он опустил голову, слезы, которых он не мог сдержать, сбежали по его щекам к седой бороде. Сколько раз за время этой злосчастной войны приходилось ему видеть возвращение таких же воинов после одержанных ими побед, пробуждавших надежды, которые в будущем не оправдывались. Он надел венок на голову стратега и сказал:
— Конон, народ афинский провозглашает тебя моими устами Победоносцем… Пусть это имя останется тебе верным в жизни и будет сопровождать тебя и в смерти.
С башен, защищавших гавань, стража протрубила об одержанной победе. Стоявший на коленях народ поднялся. Мощный крик: «Победа! Победа! Победа!» — раздался над морем. Подхваченное вслед затем тысячами голосов имя победителя понеслось к Афинам.
У края большой площади стояла колесница, запряженная парой белых лошадей, гривы которых были окрашены в красный цвет. Молодой раб, не имевший другой одежды, кроме пурпурного пояса вокруг бедер, с трудом сдерживал горячившихся коней. Конон вскочил на колесницу и натянул вожжи. Лошади взвились на дыбы, затем пустились галопом по обсаженной платанами дороге, которая вела к городу.
Жаждавшая видеть его толпа не пропускала, и стратег, выехав из Пирея, повернул направо, проехал несколько стадий по берегу моря и, переправившись по каменному мосту, переброшенному через Кефис у его устья, очутился на минихийской дороге. Там прохожие встречались только изредка.
— Как Леуциппа? — спросил он у стоявшего за спиной раба.
— Леуциппа каждый день ходил на агору узнавать, нет ли каких известий. Два раза его носили на вершину Ликабетта, откуда виден Суниум и море.
— Как вы узнали о победе?
— От гонцов, которых ты прислал, господин. Они прибыли ночью. Они успели всего за четыре часа добраться с мыса до Афин.
— Узнай, как их зовут. Я награжу их. Когда Леуциппа узнал об этом?
— Я разбудил его сегодня утром, как только увидел огонь на горе.
И, видя, что Конон не задает больше вопросов, прибавил:
— Я сказал об этом и Лизистрате, старой кормилице, которая шла за молоком. Она выронила амфору, господин, и бросилась в гинекей… а так как амфора была глиняная, она разбилась, — лукаво сказал раб.
— Ты славный малый, Ксантиас. Ты отрастишь себе волосы, и в следующий раз я возьму тебя с собой в поход.
— О, господин, какой ты добрый, — сказал раб, покраснев от удовольствия. — И у меня будет шлем и меч?
— У тебя будет шлем и меч, и я дам тебе доспехи. А теперь, молчи.
Они приехали в Иллиссус. Лошади, фыркая, перешли через ручей, полный мутной воды, и пошли шагом, чтобы достичь склона дороги, проходившей в этом месте. Конон, сгоравший от нетерпения узнать о том, что его больше всего интересовало, решился, наконец, задать вопрос, который все время вертелся у него на языке.
— А ты видел дочь Леуциппы, Ксантиас? Как она поживает?
— О, господин, — отвечал раб, — почему ты не позволил мне рассказать тебе о ней раньше. Я люблю ее так же, как и тебя, я предан ей так же, как и тебе, потому что она так же добра и милостива, как и ты. Целый месяц она вышивала покрывало Афине. Каждый день она ходила в храм с Лизистратой. И так, как они возвращались, когда уже становилось темно, я выходил к ним навстречу с Кратером, — нашей собакой. Один раз, господин, какой-то пьяный шел за нами. Я взялся за палку, Кратер оскалил зубы, и тот человек ушел, ругаясь. Лизистрата испугалась и убежала, а она не тронулась с места, господин. Она сказала мне, что я храбрый и что она надеется на меня.
— Кратер хорошая собака, — сказал, улыбаясь, Конон. — Я дарю тебе Кратера.
— Он любит меня. Все его боятся; он слушается только меня. В тот день, когда этот человек ушел, она сказала мне: ты хорошо сделал, Ксантиас, что взял с собой собаку. Госпожа, мне было так приказано, — сказал я. Нам обоим приказано охранять тебя. Кто тебе приказал? — спросила она. Он приказал, госпожа. Когда он уезжал, то сказал: ты дашь убить себя и собаку прежде, чем кто-нибудь обидит ее. Она улыбнулась, потом опустила свое покрывало и больше ничего не сказала мне. Но с того дня, когда она приходила утром вышивать под платанами, она приносила с собой хлеб, намазанный медом. Кратер, хоть и собака, но лакомка и очень любит мед.
— Значит, дочь Леуциппы приходила работать одна на двор?
— Да, господин, но она немного работала, хотя ее пальцы так же искусны, как пальцы Арахнеи. Раз с ней приходила маленькая Миррина. Она хотела сорвать цветок, и ее кукла упала в бассейн. Я был там, я ее вытащил. С этого дня Миррина всегда улыбается мне, а Носсиса велела дать мне постель в маленькой комнате, где я живу вместе с Кратером. Я очень счастлив, господин.
Конон обернулся и дружески похлопал по темному плечу юноши.
Будь всегда при ней, — сказал он, — а когда тебе исполнится двадцать лет, я отпущу тебя на волю.
Скоро колесница переехала по деревянному настилу через широкий ров, который был выкопан между Долгими Стенами и стеной Фалерона, защищая город с этой стороны. Почти тотчас же колеса застучали по плитам и через несколько минут колесница остановилась у лестницы перед домом Леуциппы.
Дом принял праздничный вид. Колонны были задрапированы розовыми и белыми тканями, на ступени каскадами ниспадали цветы; огромная, увеличивавшаяся все более и более толпа, которую слуги с трудом сдерживали, запрудила улицу; любопытные влезали на столбы, взбирались на крыши домов. Иногда шум внезапно стихал, и тогда все подхватывали припев, которым обычно приветствовали триумфаторов: Ио Конон! Ио Конон!
Бронзовые двери в глубине портала были отворены. В них стоял улыбающийся Леуциппа, а за ним, вопреки обычаю, Эринна, под прозрачным покрывалом, протягивая руки своему жениху.
На следующий день, ранним утром они отправились посидеть под тем деревом, которое было свидетелем их первого объяснения.
— Я даже и не подозревал, что это время так удивительно хорошо, — сказал Конон. — Много раз я видел, как начинается день в горах или на море, как солнце окрашивает горизонт. Сейчас я вижу один только этот розовый луч, который трепещет на углу стены и на листьях, которые похоже еще не стряхнули с себя сон… и несмотря на это, мне кажется, что яркий свет ослепляет меня… Иногда я спрашиваю себя, неужели я тот самый человек, который еще вчера командовал грозным войском…
Эринна, приблизив свои уста к его губам, отвечала тихо:
— Да, тот самый. Но не говори больше ничего. Боги могут позавидовать, потому что я слишком счастлива. Дай мне закрыть глаза. Чтобы смотреть на тебя, мне не надо открывать их… — Пурпурная лента, связывавшая ее волосы, упала, и они рассыпались но плечам.
Поднимавшееся солнце, пробиваясь сквозь листву, казалось благословляло молодых людей, касаясь их своими первыми золотыми лучами.
Однажды Лизистрата отправилась вместе с Эринной в храм Афины, где девушки, подруги Эринны, заканчивали шить покрывало. С работой нужно было торопиться, потому что великие панафинеи[21] были уже близко.
Конон приказал запрячь свою колесницу и остановился у подножья пропилеев. Когда, по окончании работы, молодые девушки появились веселой стайкой на ступенях, он подошел к удивленной Эринне и протянул букет роз. Затем, к удивлению смутившихся девушек, он помог ей взойти на сверкающую колесницу и, поддерживая одной рукой, взял в другую вожжи. Лошади было заупрямились и топтались на одном месте, но затем рванули и, управляемые твердой рукой, поскакали галопом. Серебряный орел, с распущенными крыльями, украшавший дышло, стремительно летел впереди быстро мчащейся колесницы. На стратеге был его парадный костюм, волосы были охвачены золотым обручем, пурпурный плащ развевался. Прохожим казалось, что они видят самого Ареса и Афродиту.
Вдруг на дороге показалась группа флейтисток. Они шли перед великолепными носилками, которые несли на плечах либийцы. На них возлежала на шелковых подушках молодая женщина необыкновенной красоты. Ее черные, как Эреб, волосы волнами окружали лицо, выбиваясь из-под серебряной анадемы[22]. На ней была тончайшая туника, вышитая цветами лотоса; бледно-голубой шарф слегка прикрывал ее грудь. На руке висел веер из перьев, таких же легких, как ее улыбка.
Флейтистки, при виде колесницы, разбежались в испуге. Носилки остановились. Облако пыли, поднятое колесницей, покрыло их.
В тот же вечер Эринна, выйдя из гинекея, позвала Ксантиаса.
— Ты возвращался из храма за нами?
— Я отстал от вас, госпожа, потому что колесница ехала очень быстро.
— Встретил ли ты носилки, которые несли черные рабы и впереди которых шли флейтистки?
— Да, госпожа.
— Знаешь ли ты ту женщину, которая лежала в этих носилках?
— Я знаю ее имя, госпожа.
— Как ее зовут?
— Лаиса, — отвечал юноша.
Глава II
Свадьба была назначена на первые дни месяца Метагитниона, по окончании празднеств великих панафиней, так как освященные временем обычаи требовали, чтобы все молодые девушки, прилежные руки которых трудились над покрывалом для Афины покровительницы, поднесли его богине девушками.
После победы, одержанной афинским флотом, война почти прекратилась. Обескураженные неудачей, побежденные дорийцы один за другим разбрелись по своим селениям. Опустевшие поля снова оживились, развалины восстанавливались, проворные девочки уже гоняли вечерами к берегам Кефиса блеющие стада овец и коз.
Это было самое жаркое время года. Каждое утро красный шар солнца поднимал тяжелые пары, которые стояли над Эвбеей; бледное небо блистало, как стальное зеркало, а вечером солнце исчезало за Эльвзисом в золотисто-пурпурном сиянии, и ни одно облако не затемняло его яркого света, ни одно дуновение ветерка ни на минуту не охлаждало его знойных лучей. Земля трескалась, листья на деревьях опустились, из-под редкой зеленой травы выступили красные бока холмов. Несмотря на это кое-где зеленели тощие, поздно засеянные поля; срубленные пни оливковых деревьев пускали новые побеги, а с поддерживаемых кольями виноградных лоз свисали гроздья.
Для охраны полей и пастбищ Конон расширил окружавшую город сеть военных постов. Он поставил по границе всей Аттики высокие деревянные сторожевые башни. Часовые день и ночь дежурили на этих башнях, а легкие отряды пращников и лучников патрулировали местность, переходя от одной башни к другой. У городских стен обучались новые отряды пельтаотов[23] и гоплитов, а разложенные по гребню гор приготовленные костры должны были вспыхнуть при первом же появлении неприятеля.
Как только спадала немного удушающая жара, колесница стратега останавливалась перед домом Леуциппы. Эринна всходила на колесницу, покрытая густым покрывалом, которое она снимала, как только затворялась дверь.
Люди пожилые с сокрушением находили, что она ведет себя слишком свободно. Некоторые, пользуясь правами старинной дружбы высказывали свое неудовольствие Леуциппе. Снисходительный к дочери старец избегал всякого вмешательства, находя его излишним. Конона забавляли эти кривотолки, внушенные завистью гинекеев. Но Эринна страдала от этого, потому что старая Лизиса собирала все сплетни и во время утреннего туалета докучала Эринне выговорами и упреками: «Дитя мое, — говорила она ей, — бойся грома Зевеса. В селении Муничии одна молодая девушка была убита громом за то, что сняла покрывало перед своим женихом за неделю до свадьбы». — «Ты знала эту молодую девушку? — спрашивала Эринна. — Неужели она была наказана только за то, что совершила такой ничтожный проступок?» — «Разумеется, я знала, впрочем, я знала не ее, а ту женщину, которая говорила с нею так, как я говорю с тобою. Повторяю тебе: бойся мести богов. Они завидуют людям». — «Это правда, — отвечала молодая девушка, — ты права, кормилица. Я буду бояться возбуждать зависть богов и, чтобы не навлечь их гнева, я не буду больше выходить из дому».
Но по вечерам, задолго до назначенного часа, она была готова к выходу и, сидя под платаном, ждала, когда раздастся знакомый стук колес по мостовой…
Однажды они отправились по другой дороге. Колесница катилась под старыми оливами, посаженными еще после мидийских войн и которых не коснулась опустошительная ярость илотов[24].
Густая листва бросала тень на тропинку, на которой росла скудная трава, заглушавшая стук колес. Они переехали через многочисленные полувысохшие рукава Кефиса, протекавшего по песчаной равнине, соединяющей лесистые склоны Парнеса с отрогами Пентелика. Затем через Сфеидал и Деадалию и достигли узкого ущелья. Дорога перешла в тропинку, которая круто взбиралась на выжженные солнцем скалистые склоны. Временами казалось, что колесница чуть ли не висит над пропастью, камни катились из-под ног у лошадей.
Конон остановил колесницу и обернулся к молодой девушке:
— Не лучше ли тебе сойти, Эринна, дорога тут плохая, и потом мухи кусают лошадей. Они могут взбеситься.
— Зачем мне выходить, раз ты останешься?
— Я, разумеется, останусь; надо же править лошадьми.
— Ну, так и я останусь.
— И ты не боишься?
— Боюсь? — удивилась она.
Конон увидел, как сверкнули ее темные глаза.
— Ты спрашиваешь, не боюсь ли я, дочь Леуциппы, галеры которого были в водах далекой Атлантиды! Ты думаешь, что я из тех бледных молодых девушек, которые падают в обморок при виде совы или мыши. Даже если бы у меня и было робкое сердце, неужели я должна была бы показывать свой страх при тебе, человеке, которого ничто не может испугать?
Он наклонился и обнял ее.
— Не сердись, я люблю тебя, моя маленькая бесстрашная женщина.
Когда они проехали опасное место благополучно, он пустил лошадей шагом и, наклонившись к ней, сказал:
— Знаешь ли ты, что я давно искал тебя, может быть, даже всегда; и тогда, в тот вечер, когда я в первый раз увидел тебя, я сразу почувствовал, что нашел в тебе ту, о которой мечтал. Я часто сопровождал отца в эти леса, где мы с тобой теперь. Мой отец был опытным и смелым охотником. Как только сообщали из какого-нибудь селения о появлении фессалийского льва, он отправлялся на охоту и брал меня с собой. Мы посвящали в жертву Артемиде белую козу и привязывали ее к вбитому в землю колышку. Отец устраивал засаду шагах в двадцати от этого места и терпеливо ждал целыми часами. Лежа возле него с копьем в руке, с обмотанными тростником ногами и руками, чтобы защититься от когтей зверя, я прислушивался к жалобному блеянию козы и мечтал… Я мечтал, потому что я не был рожден для сражений, это судьба сделала меня воином, и я не проклинаю ее за это… В эти долгие ночи я старался представить себе образ женщины, которую полюблю. И я видел тебя, невинная дева; я видел, как ты спускалась на землю на лунном луче. Белая подруга Селены, ты не сохранила воспоминаний о тех наших встречах, но именно тебя я видел в этих мечтах. Селена подводила тебя ко мне и говорила: это та самая девушка, которая будет твоей женой. Она смеется, но она знает, что свет порождает тень и что жизнь доставляет порой горе, чтобы находить радость еще более прекрасной. Она будет проводить с тобою и дни, и ночи. Ее уста созданы для улыбки, для того, чтобы управлять домом и заставлять быть послушными рабов. Ее руки созданы для ласк, и для того, чтобы держать легкий челнок, пропуская его между натянутыми на станке нитями. Ее грудь создана для поцелуя, и для того, чтобы ее дети пили большими глотками красоту жизни.
И теперь, когда я смотрю на тебя, я вижу, что это ты спускалась ко мне в лучах луны. Та нимфа была ты, моя дорогая возлюбленная!
— Моя мать, — сказала Эринна, — часто говорила мне, что стыдливость это самые надежные доспехи девушек. Иначе, — прибавила она с лукавой улыбкой, — я давно сказала бы тебе, что тоже видела сны, и тот, кто грезился мне, был, как ты. Я хорошо знала твой взгляд еще раньше, чем почувствовала его на себе, я знала твой голос раньше, чем услышала его. И, когда по утрам я приказывала жечь мирру перед жертвенником Афины, в клубах дыма вырисовывались гордые контуры лица, похожего на твое. Поэтому-то я и поверила с первого же дня в твою искренность. Я так счастлива, что мое счастье пугает меня. Лизиса говорит, что бессмертные иногда завидуют счастью людей. Но зачем боги будут завидовать мне, когда у меня нет их красоты и я не стремлюсь приобрести их могущество? Как ты думаешь, неужели Лизиса права и нам в самом деле следует бояться их мести?
— О, Эринна, Прометей напрасно стал бы оживлять мраморные тела богинь, которые наполняют храмы. Ни одна из них не была бы красивее и прелестнее тебя. Почему же ты боишься? Здесь мы под покровительством Артемиды. Она живет в этих лесах, полных безмолвия. Тут она купается под сенью зеленых дубов. Горные ручьи принимают ее в свои объятия и серебряными жемчужинами окатывают ее перламутровое тело. Толпа веселых нимф окружает ее. Одна убирает ее волосы, другая оправляет складки развевающейся одежды. Она берет серебряный лук, сзывает своих быстроногих собак и бежит. За ней следует свита ее наперсниц…
Они проезжали через большую прогалину. Громадные буки переплетали над ними свои ветви, покрытые густой зеленой листвой. Дорога давно уже была ровная, но Конон не натягивал вожжей, и лошади шли шагом. Потом деревья стали не так густы, снова стало припекать; большие деревья сменились мелколесьем, мелколесье кустарником, а дальше тянулась выжженная солнцем равнина, на которой оголенные красные камни казались яркими блестящими пятнами. Колесница подъехала к высокой, четырехугольной башне. Конон взял лежавший у его ног блестящий шлем с султаном из конских волос, вышитую золотом пурпурную хламиду, знак своего достоинства, и, оставив молодую девушку в колеснице, направился к воинам, вышедшим из башни.
Его отсутствие продолжалось довольно долго. Лошади нетерпеливо рыли копытами землю, тучи мошек и оводов носились над ними…
Задумавшаяся Эринна не обратила на это внимания.
Вдруг коршун, сидевший неподалеку, на сухом стволе платана, шумно захлопав крыльями, взлетел. Его громадная тень пронеслась перед лошадьми. Они испугались, бросились в сторону и, обезумев, понеслись вслед за летевшей над ними громадной птицей…
— Конон, Конон! — закричала молодая девушка, но, когда воины, услышав крики, выбежали из башни на дороге осталось только облако пыли, поднятое умчавшейся колесницей…
Неведомое Конону до тех пор чувство страха парализовало его… Ему вспомнились все виденные им убитые в сражениях; одни в неестественных позах, обезображенные, другие лежавшие так, что их можно было бы принять за уснувших, если бы на лице не лежал отпечаток смерти… Эх! Эти упрямые лошади, он хорошо знал их и знал, что они не остановятся…
Воины опередили его. Один из них увидал на земле что-то блестящее, поднял и подал ему… анадема… В ста шагах дальше что-то белое лежало поперек дороги… Пыль уже не поднималась больше… и, когда ветер унес ее остатки, Конон увидел остановившуюся колесницу.
Эринна стояла перед лошадьми. Она спокойно гладила рукой их вздрагивавшие шеи. Лошади тяжело дышали; тонкие, дрожащие ноги казалось, не могли держать их, испуг виден был еще в их серо-зеленых глазах. Молодая девушка успокаивала их; ее обнаженные руки были забрызганы пеной; пена была на волосах, на тунике, на разметавшихся складках голубого шарфа…
— Персефона[25],— проговорили воины, складывая молитвенно руки.
— Эринна! — закричал, задыхаясь Конон.
— Конон, — обернувшись, сказала она, — эго славные лошади; они остановились по моему приказанию.
— Хвала богам! Ты не ранена?
— Ранена? Я не падала с колесницы.
— Персефона не может быть ранена, — проговорили воины.
— Я не Персефона, — возразила Эринна. — Я дочь простых смертных. Разве вы не боитесь гнева богини, сравнивая с нею простую смертную?
Она взяла покрывало и, краснея, набросила его на голову.
Воин, поднявший анадему, нарвал сухой травы, обтер ею потные бока лошадей и поправил упряжь.
— Как тебя зовут? — спросил Конон.
— Деметриус, из Элевзиса, стратег.
— Приходи ко мне завтра в Афины. А вас я благодарю. Молодая девушка, моя невеста, дочь Леуциппы. Вы увидели ее без покрывала не по ее вине; она просит извинить ее и благодарит вас.
— Твоей невесте, Конон, нечего извиняться. И бессмертные, не закрывающие своих лиц, не смогли бы проявить больше мужества…
— Ты хорошо сказал, Деметриус, — ответил Конон. — Прощайте. Да хранят вас боги…
Они направились к Деидамии… Молодые люди шли, держа друг друга за руки. Время от времени Эринна оборачивалась к лошадям, которые брели за ними медленным шагом, пристыженные, с опущенными гривами.
— Ты, конечно, даже и не помнишь, как все произошло? — нарушил молчание Конон.
— Напротив, помню и даже очень хорошо, — отвечала она, устремляя вдаль взгляд своих темных глаз. — От толчка я упала на колени. Вожжи висели на дышле, я нагнулась и взяла их в руки. Потом стала разговаривать с лошадьми. Та лошадь, которую ты называешь Бразидом, мне показалось стала как будто немного спокойнее, и я тихонько позвала ее по имени.
Когда мне показалось, что лошади замедлили шаг, я поднялась и натянула вожжи. Этого было достаточно, лошади остановились…
— Я не сумел бы сделать это лучше тебя. Право, не сумел бы. Как это ты научилась этому?
— Может быть, я научилась этому бессознательно, глядя на тебя. Но не будем больше об этом. Я предчувствую что-то и это что-то страшит меня. Веришь ли ты, что у богов начертана на медных дощечках судьба каждого человека… Мне кажется, что мне предназначено будущее, которое ты не разделишь со мной. Я завидую спокойствию Ренайи, которая, сидя возле своего ребенка, прядет шерсть на веретене. Я хотела бы иметь твою спокойную уверенность. Любишь ли ты меня? Будешь ли любить меня всегда?
Солнце садилось. Его косые лучи золотили траву и темный мох на скалах. Вдали вырисовывались неясные контуры кустарников, на которые ложился уже сумрак наступившего вечера. Крикливые сойки быстро проносились вокруг, размахивая своими голубыми крыльями. Легкий вечерний ветерок пробегал над землей, шелестел камыш у родников. Под тенью гигантского бука, извилистые корни которого приподняли землю, возвышался жертвенник, сооруженный из камней и дерна. Она опустилась возле него на колени и голосом, полным горячей мольбы, произнесла молитву:
— «Ты, у которой лук из чистого серебра, богиня Артемида, сестра Феба, услышь мою мольбу…
— Ты, чья стрела пронзила сердце Титиоса, когда рука бесстыдного кентавра хотела развязать узлы твоего пояса, ты знаешь, что я скоро стану женой. Упроси Эроса, да сохранит он для нас надолго прелесть поцелуя. Упроси Латону украсить наш очаг детьми, достойными наших предков, потому что наш род восходит к Зевсу, сыну Хроноса.
— Пусть, великая богиня, и тот, кого я люблю, также познает твою милость. Защити его от опасностей, которые грозят воинам и морякам.
— Могущественная богиня! Я стою перед тобою на коленях и открываю тебе мое полное любви сердце. Пошли мне долгое наслаждение счастьем возле него; если же он когда-нибудь разлюбит меня, отними у меня жизнь, которая дорога мне только из-за него.
Ты уже оказала свою милость. Это твоя рука остановила коней, увлеченных страхом, это ты сохранила мне жизнь, нить которой готовы уже были перерезать ножницы Атропос. Я пойду завтра в твой храм, как только пропоет первый петух. Я посвящу тебе покрытые пеной удила, которые держали лошади в зубах. Я повешу над душистыми венками гирлянды златоцвета и лотосов. Каждый год мы будем посвящать тебе в жертву молодого оленя, которому я сама буду золотить его тонкие рога.
И если ты услышишь нашу мольбу, мы будем танцевать на празднествах в честь тебя…»
Глава III
В первые шесть дней празднования мистерий не произошло ничего особенного. Занималась заря седьмого дня, когда действие должно было быть перенесено в Элевзис, расположенный в семидесяти стадиях от Афин на берегу моря.
В течение почти двух веков ни разу не было случая, даже во время мидийских войн, чтобы священная процессия не отправлялась в этот знаменитый город, где некогда созрели первые колосья хлеба, посеянного богами для людей. Но с тех пор, как в самом сердце Аттики правителем Лакедемонии Агием была занята Децелия, священная процессия не проходила уже с прежней пышностью во всю ширину дороги. Танцы, игры, церемония благословения хлебных полей не сопровождали уже паломников в пути. Только избранные да жрецы добирались туда морем, и священные гимны в честь Бахуса распевали теперь на кораблях.
Некогда эти празднества привлекали большое число людей: паломники и торговцы съезжались отовсюду, где жили греки: со всей Эллады, из Фессалии, из Египта, с отдаленных берегов Сицилии и Италии, с побережья Ионического моря. Иногда, во время празднеств, в трех гаванях Афин собиралось до полутора тысяч судов, не считая тех, которые бросали якорь в Мегаре, в Коринфе или безымянных заливчиках у берегов Саламина. Торговля, находившаяся в упадке из-за войны, сильно страдали по причине отмены празднеств. Каждый год, когда наступало время празднеств, народ роптал на своих военачальников: «Они не только не могут победить врагов, они не могут даже на своей земле, оградить от опасности народ, желающий воздать почести древним богам». В этих сетованиях слышалась не только тоска по счастливым дням минувших времен. Подрывавшие веру в богов учения философов, несмотря на доступное изложение их Сократом, с трудом проникали в душу народа; афинский народ все еще любил своих богов. Он любил их за их милосердие, за их могущество, за то, что в честь их устраивались такие великолепные торжества.
Конону казалось, что он заслужит милость богов и похвалу людей, если сможет придать церемонии ее обычную торжественность. Переговорив с жрецами, он представил свой проект на одобрение великому иерофанту, а затем архонту Тесмотету, и обнародовал эдикт, явившийся для всех полной неожиданностью.
Народ с восторгом принял известие о восстановлении древних обычаев: в течение этих шести дней ему предоставлялась полная свобода, а стражи пританов выходили из своих казарм только тогда, когда проливалась кровь. Народ овладел улицей; рабы покидали дома своих господ; в городе царила полная разнузданность. В течение этих дней ни один гражданин, принадлежащий к знатной или зажиточной семье, не осмеливался выходить из дому. Но на этот раз в криках ликующего народа слышалось и еще что-то, кроме необузданной жажды веселья. Процессия, которая должна была пройти вновь по суше в Элевзиз свидетельствовала бы о возрождающейся славе Афин, о могуществе покровительствующих им богов. Это служило бы подтверждением важного значения одержанной победы, это служило бы установлению мира, — это были бы дубовые и масличные ветви для украшения статуй героев, признание первенства и удовлетворение чувства гордости — безумное ликование с песнями, плясками при ярком свете солнца.
На востоке, над синевшей на горизонте линией холмов, протянулась длинная багряная полоса всходившего солнца.
Те, что не могли принять участие в процессии, еще с вечера собрались у Священных ворот и провели ночь под открытым небом. Гоплиты задолго до восхода солнца заняли соседние высоты. Отряды всадников уже несколько дней защищали границы с севера.
Древний обычай требовал, чтобы старцы, которых преклонный возраст или недуги лишали возможности совершить утомительное путешествие, присутствовали при отправлении процессии и, простирая руки, благословляли отправляющихся в путь. Утренняя заря застала их собравшимися на Дипилоне распростертыми перед статуей Бахуса. Когда последние ряды священной процессии исчезли за поворотом дороги, они поднялись и медленно направились к Акрополю, где они должны были завершить свою молитву. На всех были белые гиматионы, складки которых, откинутые на плечо, обнажали правую руку. Многие из этих старцев принимали участие в великой войне. Они видели Афины в огне, видели разрушенные памятники, опустошенные дома, видели своих богов, покровителей домашнего очага, попираемых варварами.
Окруженная закованными в доспехи гоплитами, которые шли опустив копья, огромная процессия медленно подвигалась вперед во всем своем великолепии. Впереди шли глашатаи с медными трубами; за ними — длинная вереница жрецов в блестящих шелковых одеждах, которые распевали монотонным голосом гимны в честь богини Деметры, затем гордо ступавшие эфебы, поочередно несущие на носилках, украшенных виноградными ветвями, тяжелую статую Бахуса; и, наконец, толпа молодых девушек во всем белом, окружавших паланкин, в глубине которого покоилась статуя богини, невидимая под своим оранжевым покрывалом. Еще одна группа глашатаев замыкала религиозную процессию, отделяя ее от бесчисленного множества народа: всех тех, которые не могли отправиться в Элевзис накануне. Паломников собралось несколько тысяч, распевая гимны, они шли беспорядочной толпой вперемежку с ослами, лошадьми, носилками, четырехколесными повозками, в которых ехали целые семьи.
На расстоянии стадии за процессией, следовал отборный отряд всадников под предводительством Конона, который внимательно следил за всем происходящим.
После двухдневного перехода показались вершины Коридалля. Храм Афродиты встречал паломников своей белой колоннадой при входе в широкое ущелье, которое тянется до Элевзиса между лесистыми склонами. Равнина, по которой протекал, отливая серебром Кефис, представляла собою волнующееся море поспевающей жатвы: пожелтевшая рожь, усатый низкорослый ячмень, высокие стебли пшеницы со склонившимися метелками обещали щедро вознаградить земледельца за труды. Между колосьями виднелись головки мака и васильки, а по краям, обозначавшим границы хлебных полей, расцветали запоздалые анемоны, чтобы прожить всего лишь один день под палящими лучами солнца. С высоты лилась звонкая песня жаворонка, там и сям взлетали перепела и пугали лошадей.
Когда подошли к храму Аполлона, главный жрец остановился. Окружавшие его младшие жрецы пропели торжественный гимн, начинавшийся словами: «Ио, Ио, Деметра». Все опустились на колени. Глашатаи, повернувшись лицом к солнцу, затрубили в трубы. Затем принесли в жертву белую козу. Жрец обмакнул в свежей крови, обагрявшей жертвенник, зеленую масличную ветвь и, обведя широким жестом круг, окропил священной росой безмолвно дрожавшие колосья.
После этого рабы, взятые в качестве погонщиков, подали повозки и жрецы, девушки, старики, все, кто чувствовал усталость, сели на повозки. Знамена сложили на колесницы, специально для этого приспособленные.
Часов около пяти над кипарисами показались храмы Коры и Деметры.
Рариа представляла собою открытый холм между двумя храмами, с которого было видно убегающую к горизонту гладкую лазурь моря. Деметра останавливалась здесь некогда, принося в складках своей одежды ячмень и рожь. Добрая богиня, находя место удобным, бросила тут в землю принесенные с собою зерна, которые в одну ночь взошли и покрыли своими стеблями выбранную ею плодородную почву.
Теперь не только холм, но и все свободное пространство кругом было покрыто шумной и пестрой толпой. Мегаряне, коринфяне и даже пелопонессцы смешались здесь с жителями соседних селений, явившихся целыми семьями с женами, с детьми, с собаками и рабами. На этих селянах были одежды из материй темных цветов, прочные и грубые. Женщины, уступая непреодолимому желанию украсить себя, прикрывались плоскими зонтиками, сделанными из дубленой, разноцветной кожи, которой торговали в то время еврейские купцы; бедные же довольствовались простой соломенной шляпой. Мужчины были с непокрытой головой и короткими волосами. На груди у них висело нечто вроде сумки, с двойным открытым карманом. Они наполняли эти сумки всем без разбора: кошелек, нож, кремни… Туда же опускали они пирожки с кашей, колбасу и фиги. Бродячие торговцы раскинули всюду полотняные палатки, или просто соорудили подобие шалашей из ветвей. Доска на двух бочках служила прилавком. Они продавали вино в глиняных амфорах и хмельные напитки из перебродившего меда. Иногда от жары выскакивала деревянная пробка из амфоры. Пенистая влага обливала окружающих. Мужчины смеялись, женщины убегали с криком и толпа, расступаясь и двигаясь, спотыкалась о тела отсыпавшихся пьяниц.
У самого храма располагались в основном родственники и друзья участников мистерий. Из храмов доносилось пение. Иногда отворялась боковая дверь и молча выносили кого-нибудь из участников мистерий, потерявшего сознание. Это были почти всегда женщины, изнемогавшие от жары, или же паломники лишившиеся сознания в то время, когда они лежали в состоянии экстаза у подножья алтарей.
С другой стороны храмов, за священной оградой, на площадке, где росло несколько сосен и кипарисов, дававших тень, расположились колесницы и повозки. Лошади и ослы дремали стоя. Волы, лежавшие с поджатыми ногами, молча жевали жвачку. Между ними, растянувшись друг возле друга, спали рабы. Женщины редко осмеливались заглядывать в эту сторону, потому что все одеяние рабов состояло из одной рубашки, которой они прикрывали себе голову. Они лежали на спине, совсем голые, на солнцепеке, равнодушные к укусам мух, которые тучами носились над ними.
В этом году собралось много народу из окрестностей, а чужеземцев было совсем мало: метеки, жившие в Афинах, в Коринфе или в Аргосе, разгуливали в своих ярких одеждах. Больше всего было мидян, которые торговали благовониями и выставляли на складных столиках, защищенных от солнца большими зонтиками, разные помады, притирания, средства для уничтожения волос, одежды всех цветов, желтые покрывала из тонкого виссона, вместе с пирожками из пшеничной муки, посыпанными сахаром.
Самым шумным и самым оживленным местом была широкая улица, которая шла между храмами и соединяла набережные новой гавани с узкими переулками древнего города.
Все это пространство было занято лавками, и громкие голоса продавцов постоянно выкрикивали название, цену и способ употребления разнообразных товаров.
Немногие любопытные прогуливались по городу. Он был похож на все греческие города — с низкими домами, выбеленными известью, в беспорядке теснившимися вдоль неровно вымощенных улиц. В гавани же, наоборот, число гуляющих все прибывало. Корабли всех размеров и всех видов стояли на якоре или привязанные за кольца к набережным. Одни, с высокой наклоненной мачтой, с палубой только на носу, пришли с Цикладских островов или из Архипелага. Другие, более массивные, с широкими боками, тяжело сидели на воде: эти знали все внутреннее море, с заливов Сидра и Габеса, до заливов Иллирии. Один из них только что прибыл, выйдя накануне из Милоса. Толпа молодых и хорошеньких островитянок сходила с корабля по колеблющейся доске, которая заменяла сходни. У некоторых из них были бледные лица после качки в открытом море. Они спешили сойти на землю и сейчас же устремились в лавки сквозь толпу, все более и более оживлявшуюся и шумную. Так как насыпь была вымощена широкими, хорошо пригнанными плитами, пешеходы поднимали там меньше пыли, а довольно сильный ветер, появившийся к вечеру, освежил душный воздух. Поэтому, тут толпилось больше народу, чем где бы то ни было. Тут были местные жрецы, хвастливо выставлявшие напоказ вышитое у них изображение своего бога. Было тут немало и прибывших из менее знаменитых священных мест, с завистью вычислявших, во сколько золотых талантов превратят их коллеги из Элевзиса народный энтузиазм. Крестьяне в кожаных сандалиях задевали локтями куртизанок. Молодые люди, завитые и надушенные, в туниках, развевавшихся точно у женщин, образовывали группки вокруг философов, которых можно было узнать по их длинным бородам и небрежному костюму. Щеголи из Коринфа громко смеялись, держась за руки и заставляя любоваться своими волочившимися по земле плащами. Высокие носилки качались над головами. В них возлежали знаменитые гетеры, жены богатых купцов или важных сановников. Непочтительная толпа нехотя давала дорогу носильщикам.
Наконец, когда солнце склонялось уже к горизонту, резкий звон колокольчиков заставил всю эту суетящуюся и задыхающуюся от жары толпу поспешить к храмам.
В это время Конон выстроил отряд афинских всадников на Рарии. Все это были молодые люди из самых знатных семей, великолепно экипированные. На них были серебряные шлемы с красными султанами и стальные доспехи. Тяжелый меч с блестящей рукояткой висел у пояса на широкой кожаной перевязи синего цвета. Они сидели на горячих эпирских конях, держа поводья, обшитой железными пластинками перчаткой. Следуя обычаю египетских всадников, стремена были из двойного ремня перекинутого через спину лошади позади загривка. Седлами служили шкуры диких зверей: красных либийских пантер или серебристых волков с гор Фракии.
Конон держался немного впереди. Презиравший египетскую моду, он, действуя одними шенкелями, мастерски управлял горячей лошадью, черной, как Эреб[26], с белой звездочкой на лбу.
Вооруженные деревянными пиками глашатаи, с громкими криками, щедро раздавая направо и налево удары, очищали дорогу. Низшие жрецы выстроились на ступенях храма. Они в такт звонили в колокольчики, которые с незапамятных времен возвещали об окончании мистерий и о выступлении процессии.
Массивные бронзовые двери, за которыми в глубине храма блестели золотыми точками огни восковых свечей, распахнулись настежь; и священная процессия тронулась в путь.
Во главе шли участвовавшие в мистериях дочери чужестранцев, отцы которых имели право гражданства.
Все они были в самых нарядных костюмах своей родной страны. Нумидийки, закрытые по самые глаза, либийки из Киренаики, такие же темнолицые, как эфиопы, но с более тонкими чертами и, в таких же ярких одеждах; каппадокийки с золотыми украшениями на головных уборах; фригийки, у которых красные гиматионы были наброшены на вышитые прозрачные одежды; этрусски, обвешанные великолепной работы украшениями из меди или чеканного олова; смуглые девушки из Тира и Сидона, которым связанные тонкими цепочками ноги позволяли двигаться лишь мелкими шажками. Наконец, среди них народ с любопытством рассматривал девушку необыкновенной красоты. В первый год минувшей олимпиады в Пирей прибыла барка, скользившая по волнам, как морская змея, и высадила на берег целую семью варваров. Они прибыли из неведомой страны, лежавшей далеко за Геркулесовыми Столбами. Эти чужестранцы переняли обычаи и веру эллинов, и дочь их поклонялась эллинским богам. Она не носила покрывала: у нее были светлые волосы, ее белое платье, стянутое в талии шелковым шнурком, было сделано из очень тонкой ткани, такой же прозрачной, как драгоценный камень гиацинт. Спереди, на груди, висел на тонкой цепочке золотой серп.
Все эти молодые девушки шли медленным, мерным шагом. Они спустились по ступеням, останавливаясь на каждой из них, и когда, наконец, собрались все на дороге, которая вела к гавани, запели чистыми голосами торжественные гимны.
Далеко за ними, шли в три ряда восемнадцать глашатаев. Темно-синие одежды их были украшены вышитыми серебром атрибутами богини.
Глашатаи предшествовали следовавшей за ними длинной процессии жрецов богини Деметры. Все эти жрецы, принадлежали к древнему роду Цериксов. Число их бывало различно, но никогда — меньше ста. Длинные бороды, окрашенные в темный цвет, ниспадали на грудь. Все они были одеты в белое. Поверх наброшенного на голову покрывала был возложен венок из маков и васильков. Каждый из них держал в руках сноп спелых колосьев со стеблями одинаковой длины, в середине которого был зажженный факел.
Иероцерикс — старейший из них, шел посредине. У него одного была некрашеная, очень длинная и совсем белая борода. Он величественно опирался на косу с коротким, блестящим лезвием, рукоятка которой из слоновой кости при каждом его шаге громко стучала о плиты.
Он протяжно пел мелодию, слова гимна Ивика:
«Женщины, девушки, дети, день траура кончился. Калатос возвращается с первым лучом, который посылает нам Гесперос».
Все остальные жрецы подхватили припев.
«Калатос возвращается, падите ниц! непосвященные, падите ниц!
Всемирная кормилица, чудная матерь Кора, мы приходили к тебе, всемогущая, с верой прежних дней. Пошли нам жить всю нашу жизнь в согласии и в богатстве.
Калатос возвращается: падите ниц! непосвященные, падите ниц!
Дай созреть хлебам в полях, дай корм нашим стадам, пошли нам урожай плодов, пошли нам урожай фиг, маслин и винограда.
Калатос возвращается: падите ниц, непосвященные, падите ниц!
Великая богиня, будь нашей покровительницей. Прими наши жертвы и прости нам наши грехи. Пусть всюду царит счастливый мир, пусть рука сеятеля будет также и рукой жнеца, собирающего жатву.
Калатос возвращается: падите ниц! непосвященные, падите ниц. Склоните ваши головы, закройте глаза. Падите ниц, непосвященные, падите ниц».
В эту минуту, когда к небесам возносился последний стих гимна, появилась группа девушек, которые несли священный ковчег. Весь народ, повинуясь повелительному жесту жрецов, пал ниц.
Двенадцать с детства посвященных девушек лучших фамилий сгибали свои плечи под тяжестью трижды священного ковчега. На них были длинные бледно-голубые одежды, расшитые золотыми колосьями. Они шли медленным торжественным шагом; под покрывалами шафранного цвета нельзя было различить черты их лица. Ковчег представлял из себя ящик черного дерева, обитый серебром, в котором находились различные святыни, самой почитаемой из которых была маленькая статуэтка из грубой глины, изображающая богиню. Сам Триптолем нашел ее однажды в пыльной земле Рарии. Легенда повествует, что найденная им статуэтка приказала ему соорудить храм на том самом месте, где она упала с неба. Тяжелый ковчег помещался в ивовой корзине, украшенной цветущими полевыми травами и свисавшими по краям длинными белыми шелковыми лентами. Другие девушки поддерживали обеими руками обшитые золотой бахромой концы лент. А вокруг них шли, приплясывая, маленькие девочки, все одеяние которых ограничивалось наброшенной на худенькие плечи шкуркой белой козы. У них были тонкие корзиночки, висевшие на шее на голубых и красных лентах. Эти корзиночки доверху были наполнены распустившимися розами, и девочки в такт танца и пения осыпали душистыми лепестками роз распростертую на земле толпу.
В том месте, где дорога из Афин пересекалась с большой улицей, стояла огромная повозка, запряженная белыми телицами. Молодые девушки поставили на нее калатос, затем взобрались сами. И в то время, когда иероцерикс давал благословение, девочки ощипывали последние розы, зажглись яркие огни смоляных факелов. Присутствовавшие, взялись за руки, образовав вокруг огней оживленный, веселый круг. Воздух наполнил густой дым, сыпались искры; в колеблющемся свете факелов пылали возбужденные лица.
Наконец, факелы стали догорать, а потом и совсем погасли. Множество струек дыма поднималось к небу, где уже появились первые звезды. За большим облаком, окрашенным нежным багрянцем, быстро опускался в море диск солнца.
Конон, наблюдая за выступлением паломников, ждал, пока последние из них примкнут к процессии, чтобы потом двинуться следом за ними со своими всадниками.
Все, проходившие мимо, приветствовали его.
У подошвы холма появились великолепные, высокие носилки, которые несли шестнадцать литийцев, вся одежда которых состояла из куска белой ткани, охватывавшего бедра. Занавески были подняты; в глубине носилок была видна Лаиса, с красными цветами на черных волосах, полулежавшая на подушках из виссона возле Миро, своей подруги. Когда носилки остановились на минуту, чтобы занять свое место в очереди, Лаиса увидела стратега, поклонилась и послала ему очаровательную улыбку.
— Твой венок, Лаиса, — крикнул кто-то, — дай ему свой венок.
Многие остановились и тоже начали кричать:
— Увенчай его, Лаиса. Увенчай его.
Гетера не заставила себя упрашивать, сошла с носилок. Едва она коснулась земли, как сотни рук подхватили ее, и через минуту она была уже возле Конона.
Лаиса сняла с себя венок и грациозно возложила его на молодого, полководца.
— Этого было бы слишком мало, если бы это было все, — сказала она.
Она обняла его и поцеловала в губы.
— Еще, еще! — весело закричала толпа.
Но Конон, натянув повод, поднял на дыбы горячившуюся лошадь.
— Благодарю тебя, Лаиса, — сказал он, улыбаясь. — Твои цветы не так приятны, как твой поцелуй. Но из-за потерянного времени ты вернешься в Афины последней.
— Это ничего не значит, — возразила молодая женщина, — если ты вернешься вместе со мной!
— Нет, — отвечал стратег и повернулся к своим всадникам.
Глава IV
Лаиса жила в очень красивом доме в предместье Койле, славившемся своими прекрасными садами.
После мидийских войн торжествующие Афины за несколько лет вновь воздвигли свои разрушенные стены. Вместо домов, сооруженных варварами, строились новые, более обширные и более элегантные здания. Старые дороги были выправлены, слишком крутые склоны выровнены, перекрестки расширены. Два предместья, Керамика на севере и Койле на юге, расширенны. Что-то вроде сада было разбито в центре Койле. Большие деревья редко попадались в черте города. Поэтому риторы и софисты, окруженные толпой служителей и учеников, Любили рассаживаться на каменных скамьях, устроенных архонтом Гиероклесом в тени этих деревьев. Вода, проведенная из ближайшего источника, наполняла небольшой пруд, вытекая из него в сторону Иллиссиса. Кувшинки покрывали его темную воду своими неподвижными листьями, а ветер пел свои песни в легкой листве камышей.
Дом Лаисы, с двумя построенными одна над другой террасами, выходил фасадом в этот тенистый уголок. Лаиса была самая знаменитая гетера в Афинах. Приехав из Коринфа несколько лет тому назад, она, несмотря на свою молодость, смело подхватила скипетр «царицы» изящества и хорошего вкуса, выпавший из рук Аспазии. Философы, артисты, поэты, ее обычные гости, заходили к ней для продолжения своих бесед на излюбленные темы. Она лучше других доказала, что женщина создана не только для исполнения домашних обязанностей или грубых наслаждений: первое предоставлялось примерным женам, а второе — куртизанкам. Ум, находчивость, способность говорить обо всем, искусство вести беседу, пленительная внешность, поклонение искусству, — все это соединялось в Лаисе в равной степени. Ее таланты, ее красота, ее изящество обеспечивали ей богатство и давали возможность окружать себя толпой восторженных поклонников. О ней говорили всюду и везде; ее имя повторялось в лавках парфюмеров, ее малейшие поступки комментировались под сводами театров, в публичных собраниях, в судах, даже в сенате. Красота тогда была религией, воплощенным и видимым прообразом вечного божества. В увенчанной цветами гетере языческая толпа приветствовала царицу красоты. Чужестранцы называли ее: Афродита. Афиняне снисходительно улыбались, потому что Лаиса была брюнеткой, как восточная Астарта. Прогуливаться мимо ее дома сделалось для многих ежедневной потребностью. Площадь Койле была маленькой академией, более аристократичной и менее людной, чем настоящая. Гетера, как добрая богиня, не отказывалась от скромного поклонения своих обожателей. Когда в конце дня она появлялась на убранной цветами террасе, все жаждавшее видеть ее общество было уже там.
Она жила в настоящем дворце, который заставила построить себе Эфранора. Ступени из синего мрамора вели к широкому портику, архитрав которого поддерживал рельефные украшения из мрамора. По ступеням были расставлены маленькие Эросы, которые, улыбаясь, натягивали свои луки. Она любила цветы: колокольчики ниспадали с террас, увитых плющом, и в бронзовых вазах, стоявших на изящных треножниках, разноцветные гвоздики подставляли солнцу свои цветки.
В тот день одетая в длинный белый пеплос, из-под которого выглядывали только обнаженные руки, обвитые золотыми змеями, Лаиса полулежала среди шкур пантер на высокой кровати и рассеянно играла с ручной горлицей, которая ворковала, ласкаясь к ней. Клеон и Ликург, старые разбогатевшие метеки, сидя возле нее на низких табуретах, болтали всякий вздор.
— О, — говорил Клеон, — я построил бы храм Афродите, если бы…
— Если бы что? — спросила Лаиса.
— Если бы ты согласилась подарить мне такой же поцелуй, каким одарила вчера вечером.
— Я никогда не целовала тебя.
— Увы! не меня, а того молодого стратега, которому ты отдала свой венок. Фи, Лаиса, моряк, от которого пахнет солью!..
— Глупец. Если б не он, ты сегодня был бы гребцом на дорийских галерах… Смотри, старый безумец, вот точно такой же поцелуй…
Она звучно поцеловала гладкий череп Клеона.
— А теперь пусть войдет твой архитектор.
Вошедший Анаксинор, одетый в простой плащ из грубой шерсти, поклонился гетере.
— Приветствую тебя, — сказал он подчеркнуто торжественным голосом, — всегда прекрасная дочь Тимандры. Твои обожатели, если я не ошибаюсь, спорят. Почему они не изучают философию?
— Мы не спорим, — с досадой произнес Клеон, — но мне кажется, что твоя мудрость очень плохо одета.
— Мудрость — любимое дитя бедности. Бедность — это такая приятная вещь, которую легко сохранять без сторожа и которой презрение придает силу.
— Да сохранят тебе ее боги!
— Я помогаю их всемогуществу. Я выиграл сегодня в кости, и поэтому могу предложить тебе кое-что.
— Что же? — спросил Клеон.
— Новый том моих сентенций. Рукопись будет стоить тебе пять талантов. Это совсем даром. Ты скажешь, что сам написал их, и тебе поверят. Если же тебе почему-нибудь не поверят, в утешение тебе останется…
Клеон, нахмурив брови, украдкой взглянул на Лаису.
— Я не совсем понимаю, — сказал он.
— Ты вовсе ничего не понимаешь. Тебе осталось бы утешение: ты узнал бы за небольшую плату, — пять талантов для тебя ничего не значат, — как философия учит умных людей извлекать пользу из глупцов.
Между тем рабы расставили в зале столы с фруктами, пирожками, вином. Стали собираться обычные посетители. Скоро тут были все, кого считали в Афинах богатым или знаменитым. Ритор Терамен, человек лет пятидесяти, ходивший всегда с непокрытой головой. Ксенократ из Халкедонии, старавшийся заставить позабыть о своем иноземном происхождении преувеличенным подражанием афинской моде. Баккилид, поэт, родившийся в Александрии и задержанный в Афинах в качестве заложника за какую-то провинность своих сограждан, давно позабытую. Коребос, Ксеноклес — архитекторы Пропилей и Эректиона. Ктезилад, Поликтет, Навкид — скульпторы, изваявшие для многих священных мест свои чудные статуи. Парразиос, Цейксис, Аполлодор, чьи грандиозные, соперничавшие друг с другом фрески украшали дом Лаисы. Множество поэтов, философов, историков, ученых: Кратес, Гелланикос, Эвполис, Изократ, Антифон, астроном Метон, врач Эвтикль, все те, которым политика или война создавала временную или продолжительную славу.
Женщин было немного, но все они были красивы: Праксилия из Сикиона, изящная Миро, певшая чудным голосом стихи любви, которые она сочиняла сама и которым Миртис, ее подруга, аккомпанировала на арфе. Телексилия, изгнанная из своего отечества и всюду обращавшая на себя внимание своей удивительной мечтательной красотой. Были и другие, одетые с пышностью, которую они принимали за изящество.
Хозяйка дома ходила по залу, среди гостей, оживляя разговор, если ей казалось что он обрывался.
Сквозь легкую занавесь видна была залитая солнцем терраса, время от времени Лаиса выходила на нее и с видимым беспокойством смотрела на улицу.
— Кого она ждет? — спросил Корибос ритора Изократа. — Миро что-то долго не начинает петь, а я только и пришел за тем, чтобы послушать ее.
— А вот и тот, кого она ждала, — отвечал Изократ.
Высокая фигура Конона появилась между колоннами. Присутствие такого многочисленного собрания, видимо, смутило его, но сопровождавшая его женщина взяла его за руку и повела в зал.
— Это Эвника ведет его, — тихо сказал Изократ. — Решительно, этот молодой человек создан для того, чтобы заменить сбежавшего красавца Алкивиада.
— Что за Эвника? — спросил Корибос, мало знакомый с обитателями этого дома.
— Эвника — молочная сестра Лаисы. Ее суровый авторитет управляет здесь всем…
В этот момент все замолчали, потому что Лаиса, держа за руку молодого стратега, вышла на середину зала и представила его своим гостям. Когда шум, вызванный прибытием стратега, стал стихать, послышался голос Эвтикла, который сказал:
— Не говори мне больше о богах!
Не замечая, что его слова раздаются среди наступившей тишины, упрямый врач продолжал:
— Какое мне дело до богов и до того, в чем заключается вера в них, заставляющая поклоняться им заблуждающийся народ. Разве ты не понимаешь, до какой степени твой Олимп мешает моему стремлению вперед. Я удаляю покровы заблуждений, я стараюсь расширить наши слабые знания, чтобы увидать, по крайней мере, хоть какие-нибудь следы истины, а ты пугаешь меня, точно ребенка, каким-то громом Зевса…
— Хорошо сказано, Эвтикл, — воскликнул Анаксинор. — Но, пока ты здесь споришь, Асклепиос уморит всех твоих больных.
Лаиса смотрела сквозь свои длинные ресницы на сидевшего возле нее Конона.
— Как ты хорошо сделал, что пришел, — прошептала она. — Я начинала тревожиться и говорила себе: «он презирает меня», и уже была готова заплакать.
— Лаиса, — сказал Конон, — ты обманула мое доверие. Ты обещала мне, что будешь говорить со мной о счастье того, кто мне дорог…
— Я хотела говорить с тобой только о своем счастье.
— И я попадаю на празднество в полном разгаре. Это настоящее предательство.
— Прости мне это, я так счастлива!
— Я прощаю тебя, Лаиса. Но теперь, после того как я исполнил твое желание, мне нужно уходить. Важные дела принуждают меня идти немедленно.
— Подожди. Миро будет петь. Она будет петь для тебя.
Рабы наполнили чаши, зал погрузился в полумрак, и все смолкли, потому что Миртис начала играть на арфе. Это был почти еще неизвестный инструмент, недавно привезенный из Египта. Арфа Миртис изображала дракона, загнутый хвост которого поддерживал струны.
Миро встала возле нее и запела:
«Он счастливый соперник богов, тот, кто, стоя со мной лицом к лицу и глядя мне в глаза, слушает ласковый шепот моего голоса.
Он улыбается, моя грудь вздымается, сердце перестает биться. Силы покидают меня. Я смотрю на него. Уста мои дрожат и немеют.
Язык прилипает к небу. Вдруг пламя охватывает мое взволнованное сердце. Глаза заволакиваются. Я слышу вокруг себя смутный гул.
Холодный пот обливает мои члены и каплями выступает у меня на челе. Я конвульсивно содрогаюсь, возбужденная. Жизнь покидает меня, лицо мое бледнеет, силы падают, я теряю сознание.
Привет тебе, прекрасная звезда, привет тебе, блестящая Селена, посылающая свои лучи на мое ложе и приводящая меня в безмолвии ночи в объятия обожаемого, часы удовольствия слишком кратки».
Последние аккорды замерли. Ликург захлопал в ладоши и воскликнул:
— Миро, твои стихи великолепны. Они так же прекрасны, как и ты. Я влюблен в твои стихи. Я покупаю их и тебя вместе с ними.
Философ Кратес подошел к молодым женщинам:
— Вы удивительно дополняете одна другую, — сказал он. — Музыка Миртис поддерживает изящный голос Миро, как колонна поддерживает храм.
— Не хвали Миро за ее талант, — вмешался поэт Антифон, — стихи, которые ты слышал, не самые изящные, а самые страстные. Чувствуешь ли ты, как дрожит их ритм, как он колеблется? Они упали бы, если бы Миртис не поддержала их на струнах своей арфы.
— А ты сам разве ничего не прочитаешь нам, Антифон? — спросила Миртис, тронутая похвалой молодого человека.
— Увы, после вас это немыслимо. В следующий раз мы начнем с меня. Но Баккилид сочинил элегию, которой еще никто не слышал. Мы должны быть первыми слушателями…
— Приготовься, Баккилид, — сказала Лаиса своим повелительным тоном.
— С удовольствием, — отозвался тот, — но предупреждаю вас, что она немного длинна.
— Ну, — воскликнул Ликург, — тогда прочти нам начало и конец.
— Фивянин, — крикнула Лаиса, — позови двух рабов и прикажи вывести этого грубияна.
Испуганный Ликург втянул голову в плечи и замолчал. Все подвинулись ближе к поэту. Баккилид, опираясь на спинку сидения, тихим голосом стал читать сочиненную им элегию.
После того, как дрожавший от волнения голос молодого поэта произнес последнюю фразу, все долго еще оставались безмолвными. Анаксинор, под влиянием охватившего его волнения, которое и не пытался скрыть, воскликнул:
— Что делает здесь этот молодой человек? Почему продолжает оставаться у нас пленником тот, кто умеет с такой искренностью передать нам сожаление о своем печальном отечестве? Я недавно был в Египте и, глядя на эти берега, которые палит знойное солнце, я благодарил богов за то, что они дали мне родиться под солнцем Аттики. Но у каждого человека живет в сердце любовь к родной земле. И, раз Баккилид с сожалением вспоминает о громадном сфинксе, сидящем в песках у подножья пирамид, почему мы не позволяем ему вернуться на родину? Молодой человек, неужели до сих пор никто не говорил о тебе в народном собрании?
— Я сам говорил о себе, — отвечал Баккилид. — Но мой акцент нашли смешным и…
— Завтра ты пойдешь со мною. Если я увижу, что народ будет колебаться, я прочту твои стихи. Если ты будешь читать их сам, возможно насмешка какого-нибудь дурака помешает тебе дочитать их до конца.
— Благодарю тебя, Анаксинор. Твое суровое учение и твои манеры заставляли меня удаляться от твоего портика. Но теперь я еще раз убеждаюсь, что не надо судить о людях по наружности. У тебя отзывчивое сердце под грубым плащом.
— Мое сердце вовсе не отзывчиво, — резко возразил Анаксинор. — Быть справедливым не значит быть чувствительным. Чувствительное сердце у Клеона и Ликурга. Их музыка трогает также как быков, наполнявших конюшни Авгия, трогал голос Геркулеса. Лаиса, — крикнул он, — разве ты не видишь, что твои поклонники спят. В этом мало лестного для добродетели твоих прелестей или для прелести твоих добродетелей… как тебе больше нравится.
Но Лаиса не слышала его. Сидя на шкурах пантер, рыжеватый мех которых подчеркивал белизну ее рук, она слушала Конона, который вполголоса рассказывал о своей последней битве. Миро, сидя возле стратега, тоже слушала его рассказ. Ее туника была расстегнута, плечо обнажено, прозрачная вышивка легкой рубашки чуть прикрывала розовую грудь. За спиной Конона, склонясь к нему, сидела Тезилла. Одна только Миртис, сложив руки на коленях, мечтала возле своей безмолвной арфы.
Гул голосов наполнял большую комнату. Рабы снова принесли угощение. Один из них, прежде чем наполнять чаши, быстро наклонял горлышко амфор. Обыкновенно сам хозяин дома приносил в жертву домашним богам каплю чистейшего масла, плававшего на поверхности вина. Но здесь обычаи не особенно чтили: простой раб, разносивший хлеб и вино в обвитых цветами кувшинах, заменял виночерпия.
Миро взяла за руку Конона и, притянув к себе, говорила ему шепотом на ухо нечто, по всей вероятности, приятное и веселое, потому что молодой человек слушал ее, улыбаясь.
— Завяжи тунику, Миро, — сказала Лаиса, пытаясь прекратить бесившее ее нахальство подруги. — А то у тебя видны складки на теле.
— Если у меня и появились складки, то только что, — возразила Миро язвительно, — потому что еще вчера я позировала для бюста Афродиты. Не правда ли, Миртис, я была вчера у Лисимаха.
— Это правда, — подтвердила Миртис. — Мы были там вместе. Лисимах лепил только ее плечи, а лицо он лепил с меня.
— Потому что он нашел, что твоя прическа лучше подходила к типу статуи.
— Что же эта за статуя? — спросил Конон.
— О, — ответила Лаиса, — там есть все, что хочешь. Толстая Теано позировала для ног. Это будет богиня красоты.
Миро собиралась возразить, но в эту минуту Поликлес и Гелланикос подошли к начинавшим ссориться молодым женщинам:
— Лаиса, — сказал первый, — мы пришли узнать твое мнение. Гелланикос со вчерашнего дня без ума от одного юноши…
— Это один эфеб.
— Что же вам нужно от меня? — спросила Лаиса.
— Скажи, что такое, по твоему, любовь? И почему именно нужна любовь?
— Не знаю.
— У тебя не хватает опытности, бедняжка, — тихо сказала Миро.
Лаиса бросила на нее уничтожающий взгляд.
— Миро сумеет лучше объяснить чем я, — сказала она, поднимаясь. — Она по крайней мере, знает как старые грехи заставляют совершенно новые. У меня нет времени болтать с вами об этом…
Легкая, грациозная она, с минуту поправляла свои волосы, разгладила складки туники и, готовясь выйти, сказала, обернувшись:
— Да, спросите об этом Миро. Она занимается этим вопросом целые ночи, чтобы потом говорить об этом целые дни…
— Я написала об этом стихи, — сказала Миро. — Если хочешь, будем состязаться вместе…
— О! стихи… Анаксагор пишет их, когда бывает пьян.
И Лаиса вышла, опустив за собой тяжелую бахрому драпировки.
— Хотите знать мнение Анакреона? — спросила Миро молодых людей, оставшихся возле нее.
— Мы предпочитаем узнать твое мнение, Миро, мнение гетеры.
— Ваш вопрос, — отвечала она после минутного размышления, — ваш вопрос стар, как мир, и каждый решает его, как ему нравится. Геркулес долго оплакивал смерть Гиласа, исчезнувшего во время преследования им Никлеа и Маллиса в светлых водах фонтана. Но затем он позабыл Гиласа и стал работать на прялке у ног темноволосой Омфалы. Мы все дети Геркулеса с таким же непостоянным сердцем, как и у него. Мы легкие листья, носимые ветром, которые летят, куда влечет их желание, к красоте! Высшая красота та, которая пробуждает и украшает нас, не налагая цепей. Наши губы вечные клятвы; но мы забываем их в ту же минуту, потому что для нас любовь только страсть. И эта страсть, рожденная от взгляда, возбужденная улыбкой, умирает после первого же поцелуя. Это минутное и всесильное дитя жизни только слегка касается нашей души.
В то время, как Миро говорила это, Дионисий подошел к Конону и что-то сказал ему. Конон со скучающим видом последовал за ним.
— Миро, — сказал Баккилид, — как такие верные и в то же время такие ложные понятия могут сходить с твоих прелестных губ? Как ты можешь сравнивать любовь людей со скотскими и бессознательными влечениями животных? Как ты, вдохновенная поэтесса, можешь забывать о своей чудной поэзии?
— Баккилид, твои друзья спрашивали мнение гетеры. Гетера им и отвечала. Но, если ты хочешь знать, что думает женщина, то и женщина может ответить. Я завидую тем девушкам, которые выходят замуж чистыми, непорочными. Они получают первый поцелуй от своего мужа. Они с радостью приветствуют материнство и со счастливой улыбкой на устах убаюкивают ребенка, засыпающего у них на руках. Их целомудрие надолго сохраняет им красоту. Они живут, наслаждаясь всеми радостями семейной жизни, не испытывая тех мук зависти, с которой смотрят на них те, которые отдают свою любовь за деньги. Я немного прожила на свете, но мне кажется, что в дни моей юности солнце светило как будто ярче, воздух был прозрачнее, море красивее, земля чище. По всей вероятности, потому, что тогда и я была другая. Я любила багрянец заката, сияние утра и свежий источник, который струился в моей родной долине под ивами, среди цветов, украшавших зеленый травяной ковер. Я еще не видела Афродиты, плывущей на своей морской раковине, окруженной тритонами. Я не знала, что и я красива. Однажды один чужестранец появился в нашей долине, я поверила его лживым словам… и стала гетерой Миро… Те, которые любят меня немного, называют меня поэтессой. Это правда, я пишу стихи. Сожаление о прошлом, иллюзия настоящего. Иногда хрупкий цветок надежды…
— Все, что ты сказала, Миро, очень красиво, — проговорил Баккилид. Чтобы доказать мою благодарность, позволь поцеловать тебя.
— Цена за мой поцелуй талант серебром.
— Это слишком много для моего кошелька.
— Тогда сделай, как Анаксинор — пей: чаши полны…
Рабы зажгли восковые свечи, вставленные в прикрепленные к стене бронзовые подсвечники и треугольные лампы, висевшие с потолка; поставили на столы вино, мед и пирожки. Затем они расставили полукругом сидения и предложили их гостям. Вошли флейтистки с венками на головах и расположились в глубине зала. Следом за ними появились танцовщицы, грациозные фигуры которых вырисовывались под длинными и прозрачными туниками. Начались танцы под звуки мелодичной, тихой музыки…
* * *
Дионисий открыл дверь, не постучавшись, и, пропустив вперед Конона, скромно удалился.
Воздух был насыщен ароматами. Маленький красный свет горел в курильнице, где тлели угольки благовоний из Армении. Темные материи тяжелыми складками покрывали стены. Мозаичный пол был покрыт разноцветным ковром, вытканным на берегах Ефрата.
В углу возле двери стоял между двумя колоннами домашний жертвенник. На нем медленно сгорали палочки фимиама, курившегося перед чудной белой статуэткой, вышедшей из мастерской Гиппарха. Это была Афродита, выходящая из волн. Богиня грациозным жестом выжимала свои длинные еще влажные волосы.
Напротив помещалось большое полированное зеркало. Две восковых свечи, отражаясь в зеркале, освещали его.
В темной части комнаты стояла кровать, к которой вели три ступеньки из розового мрамора. Она была покрыта дорогими мехами, привезенными из страны снегов. Каждое угро рабыня тщательно расчесывала Когда вошел Конон, Лаиса стояла, наклонясь возле кровати, так, чтобы свет падал на волосы и освещал надетые на ней драгоценности, сверкавшие разноцветными огнями.
— Сядь возле меня. Я хочу поговорить с тобою, — сказала она.
— Как ты красива, Лаиса!
Она села на кровать, и свет от свечей осветил ее всю.
На ней была полупрозрачная туника. Белизна обнаженных ног резче выделялась на покрывале малинового цвета. Густая копна волос осеняла лицо, глаза блестели, как черный жемчуг.
— Не правда ли, я красива? — сказала она, закидывая руки за голову. Я сегодня так красива только для тебя одного… потому что со вчерашнего дня гордая Лаиса влюблена… я позвала тебя сюда, я нарочно нарядилась так, чтобы опьянить тебя своей красотой.
— Твоя красота превосходит красоту всех других женщин. Но…
— Но что? — спросила удивленная гетера. — Чего ты раздумываешь?
— Я не раздумываю, — грубо ответил Конон, — я отказываюсь…
— Ты отказываешься, — воскликнула Лаиса, вскакивая с постели. — Я знаю, почему ты отказываешься. Мне говорили: тебя хотят женить. Я понимаю, что забота о продолжении рода заставляет тебя жениться, но ты и сам отлично знаешь, что тебе скоро надоедят неумелые ласки жены. Все это один только глупый предрассудок. Когда материнство обезобразит твою невесту, ты поступишь так же, как и другие. Ты предоставишь ей распоряжаться рабами и управлять домом. Она будет хозяйничать в погребах с вином и в амбарах с мукой; а ты будешь искать в другом месте возлюбленную с более соблазнительными губами. Немного раньше, немного позже! Такова жизнь… Уже наступает ночь, короткие часы ускользают… Забудь о своей женитьбе. Не бойся, тебя, как и других, обвенчают, наверное, в следующее же новолуние… Красива ли, по крайней мере, твоя невеста? Как ее зовут? Кто-то говорил мне ее имя, но я забыла.
— Лаиса, — сказал Конон с твердостью, — я простой смертный, выросший на предрассудках, как ты это сейчас только сказала. Имени моей невесты незачем здесь произносить. Я не за тем пришел, чтобы говорить о ней в доме гетеры…
— Так зачем же ты тогда пришел? Зачем ты сидишь возле меня? Зачем ты оскорбляешь меня, называя гетерой? Гетера управляла Аттикой. И, если бы я захотела, я могла сделать то же самое, что и она. Гетера! Да, я гетера. Посмотри на меня. Я смертная, но я тоже богиня. Я — Афина, рожденная из головы Зевса, Афродита, вышедшая из морской пены. Я все! Я — женщина, которая думает и которая любит, я — книга любви, я — арфа страсти, я — прекрасная дочь Хроноса. Вот почему толпы мужчин пресмыкаются у моих ног. Уходи! Ступай к своей невесте, неловкой, как девушка, глупой, как рабыня! Кто бы она ни была, я ее ненавижу, я ее ненавижу, и ты можешь сказать ей это!
Она снова легла, закинув руки за голову и, видно было, как поднималась под туникой ее грудь.
— Прощай, Лаиса, — сказал Конон после короткого молчания. — Твое дурное расположение духа в конце не заставит меня забыть любезный прием вначале. Когда я захочу говорить об умной и красивой женщине, я вспомню о тебе.
— Прости меня, — прошептала она, вдруг поднимаясь и обвивая руками молодого человека. — Я оскорбила тебя, я безумная, я ревнивая. Полюби меня. Если ты бросишь меня теперь, мне останется только умереть.
— Нет, Лаиса, нет, не надо умирать. Что сказали бы Алкивиад, Диомед и все молодые и старые эвпатриды? Что было бы с Афинами без живой богини? — сказал он, улыбаясь.
— Не уходи… В первый раз моя красота, — увы! — изменила мне. Кто же защищает тебя так? Я почти нагая пред тобой, а ты продолжаешь смотреть на меня, как мраморное изваяние или как старик.
— Я ни то и ни другое, — с досадой возразил Конон. — Меня защищает тот бог, которого ты всегда призываешь и неутомимой жрицей которого тебя называют.
Лаиса опустила голову. Со своими длинными полузакрытыми ресницами, на которых блестели слезы, с опущенными руками, она была привлекательнее, чем за минуту до того, когда смотрела на Конона негодующими глазами.
Она прошептала так тихо, что едва можно было ее расслышать:
— Неутомимая жрица! зачем ты говоришь так со мною? Если бы ты знал, как мне это тяжело и мучительно. Эрос карает меня. Прощая, Конон, ты можешь смеяться надо мной с своими друзьями и рассказать, что видел, как плачет Лаиса.
— Не отчаивайся так, Лаиса, — улыбаясь сказал Конон: — твои слезы высохнут, и твоя красивая улыбка снова расцветет на твоих насмешливых губах. Завтра же ты позабудешь обо мне. Позови своих рабов и прикажи отворить дверь. Меня ждут.
— Тебя ждут? Кто тебя ждет? Твоя невеста, твоя возлюбленная?
— Замолчи! — гневно воскликнул он, поднимая руку.
— Афродита! пошли мне смерть от его руки! — Лаиса опустилась на колени и, сложив руки, дрожа и трясясь от судорожных рыданий, подняла к небу полные слез глаза.
— Довольно, позови своих рабов.
— Я гетера, — сказала она тихо. — Из дома гетеры не уходят не очистившись! Рабы отведут тебя в ванну. Вода очистит тебя. Ты придешь сюда затем на одну минуту. Что значит одна минута для человека, для которого еще не наступил его час! Я хочу только услышать «прости» из твоих уст.
Конон взглянул на клепсидры. Они показывали одиннадцатый час дня. Он решил исполнить ее просьбу.
— Хорошо, — сказал он, — зови твоих рабов…
* * *
— Сюда господин, — говорили рабы. Это были два высоких либийца. Слегка прикрытые полосатой материей, обернутой вокруг бедер, они держали в руке бронзовую светильню, которые носили на цепочках и которые были тогда во всеобщем употреблении.
Рабы привели Конона в просторную комнату, вымощенную кирпичами, стены которой, закругленные по углам, были покрыты разноцветной мозаикой. Среди комнаты стояла на возвышении ванна из белого мрамора с розовыми прожилками. В углу старуха разжигала дрова под медным котлом.
Когда Конон вышел из ванны, ему казалось, что новая кровь бежит по жилам. Его движения были уверенными, ловкими.
Рабы проводили его в комнату Лаисы. Он приподнял портьеру и вошел.
— Лаиса, — сказал он, — я пришел проститься с тобой. Благодарю. Ванна была хороша.
Гетера поднялась и в один легкий прыжок оказалась у ног молодого человека.
— Я люблю тебя, возьми меня… унеси…
Он попытался высвободиться и тихонько оттолкнул молодую женщину.
Лаиса отскочила назад и пристально смотря на него расстегнула золотые застежки, которые поддерживали ее вышитую тунику. Тонкая ткань скользнула и упала к ногам гетеры.
Лаиса стояла, уверенная в своей красоте и улыбалась…
— Так угодно богам, которые создали тебя такой красивой, — пробормотал он, сжимая ее в объятиях…
Глава V
На следующий же день в городе все стало известно. Три дня стратег не появлялся на упражнениях на стадионе. Не видели его и в коллегии эфебов. Рабы на все вопросы отвечали одно и то же: «Мы не знаем, где наш господин». Наконец, когда в народном собрании объявили, что дорийцы снова вооружаются и кто-то спросил: «Где же стратег?» — «Ищите его у Лаисы», — отвечал Анаксинор.
Леуциппа, присутствовавший при этом, получив подтверждение тому, что уже подозревал, грустный вернулся домой.
— Дитя мое, — сказал он Эринне, — человек, которому ты доверила свое юное сердце, скрывал душу лжеца под маской честности и мудреца. Богам угодно было, чтобы ты узнала об этом. Принесем им за это благодарственную жертву. Время смягчает страдание; оно утешит и нас. Плачь, бедное дитя, плачь, — сказал Леуциппа, обнимая девушку. — Забвение придет.
— Нет, отец, забвение не придет: ни забвение, ни прощение… Я слишком горда, чтобы простить, слишком оскорблена, чтобы забыть. Отец, бессмертные, не пожелавшие, чтобы я стала супругой, предназначили мне другую участь. Я посвящу свой пояс Афине. Носсиса уже согласилась. Позволь мне и ты пойти припасть к стопам иерофанта.
— Иди, дитя мое, иди к тишине, матери забвения. Я даю свое согласие. Если через три месяца сердце твое не изменится, я благословлю тебя произнести торжественный обет.
Когда великий иерофант, извещенный, что к нему пришла с просьбой какая-то девушка, вышел из пронаоса, он увидел Эринну, стоявшую на коленях на ступенях храма. На ее золотистых волосах было накинуто покрывало.
— Я пришла просить места у очага богини. Вот разрешение моего отца.
— Встань, дочь моя, — сказал жрец. — Ты будешь ждать в молитве, пока установленный порядок вещей не приведет тебя к алтарю. Любовь бессмертных утешит тебя. Здесь жизнь твоя будет спокойна; но, не скрою, она будет тяжела. Посмотри. — Жрец широким жестом обвел горизонт.
На востоке сияли облитые лучами заходящего солнца храмы Афин: на западе длинной лентой тянулась священная дорога в Элевзис; на севере — высились одни над другими холмы; на юге — море бурлило у желтых песчаных берегов.
— Вот земля, — сказал иерофант. Он обернулся к бронзовым дверям Парфеона. — Вот небо. Иди, дочь моя, иди молить богиню, чтобы та была благочестива, чтобы ты была снисходительна, чтобы ты под лаской ее улыбки научилась божественному делу прощения.
Часть III
Глава I
Храм состоял из трех частей: пронаоса, где верующие приносили жертвы. Целлы, где возвышалась статуя Афины Парфенос, высеченная Фидием — и, наконец, опистодом — сокровищница Афин.
Прошло два месяца.
Эринна не покидала Парфенона. Она жила там, проводя время в размышлении и молитве. Она быстро приобрела расположение верховного жреца и через несколько недель уже носила серебряную повязку и длинное покрывало жриц. На нее была возложена обязанность содержать в чистоте и порядке священные предметы, употребляемые при религиозных церемониях, и украшения целлы. Она начинала свой день, как только занималась заря. Золотые вазы и кадила, протертые тонкой кожей антилопы, блестели в глубине святилища. Она следила за ножами, употреблявшимися для заклания жертвенных баранов и козлов, молотками, бронзовой маской, которую надевали на голову жертвенным телицам, граблями с шестью зубцами для того, чтобы выгребать на жертвеннике угли из золы, длинными серебряными иголками, которыми жрецы-прорицатели прокалывали дымящиеся внутренности жертв. Осматривала хрустальные фиолы, наполненные бальзамами и пахучими травами, которыми главный жрец пользовался для прикладывания к ранам и для лечения приходивших к нему больных. Она же наблюдала за сохранностью жреческих облачений и возлагала на головы приносивших жертвы сплетенные рабынями венки из цветов. Из опистодома вела в целлу большая дверь, которая никогда не открывалась полностью, там, в вечной темноте хранились покрывала и одежды богини. Эринна каждый день осматривала их и облачала статую, строго соблюдая установленный для этого церемониал.
Занятая всем этим изо дня в день молодая девушка не имела времени отдаваться преследовавшим ее воспоминаниям.
Гиппарх и Ренайя часто приходили в Акрополь, садились возле Эринны на ступени храма у подножья белых колонн и сообщали Эринне городские новости, старались как-то развеять ее неизлечимую печаль. Благодаря теплому дыханию их дружбы, лицо Эринны с каждым днем становилось менее грустным.
Однажды вечером она была на своем обычном месте. Днем шел дождь. Плиты Акрополя были еще мокрые. Душистая свежесть поднималась от земли. Звезды, которых, казалось, в эту ночь было больше, мерцали золотыми точками на темном своде неба.
Каждый вечер великий иерофант, в сопровождении вооруженных стражей, обходил все храмы, стоявшие на площадке Акрополя. Он убеждался, что все двери заперты, что никакая опасность со стороны воров не грозит сокровищам, хранение которых было вверено ему. Он расставлял ночной караул, затем отправлялся к себе. Но часто и после этого он продолжал прогулку по Акрополю. Стража еще долго наблюдала за его белой фигурой между колоннами. Священные совы знали его; он бросал им остатки жертвенных животных, они окружали его, размахивая крыльями, их желтые глаза блестели… Он умел читать книги, написанные неизвестными буквами. Все мифы востока были ему известны: он знал все предзнаменования: те, которые объяснялись зигзагом молнии, порывами ветра или ударами грома, и те, которые объяснялись гаданием по внутренностям жертв, убитых на белом жертвенном камне. В молодости он объехал всю Ойкумену. Через ледяные степи, тянувшиеся до северного полюса возили его киммерийцы в легких санках, которые олени несут по снегу, до тех мест, где кровавое солнце, едва поднимаясь над горизонтом, озаряет слабым светом ночь, которой никогда не бывает конца. Он склонялся, стоя на оленьих шкурах, перед Тором и Фриггой. Он два раза видел богиню севера, появлявшуюся на горизонте в то время, как великолепная северная заря освещала далекую валгалу. Из этих стран он привез могущественные амулеты, странные письмена, начертанные на волшебных палочках, которые могли погасить пламя, укротить бурю, даже оживить мертвых. На плотах, сделанных из кожаных бурдюков, он спускался по широкой, как океан реке, катившей в Гирканское море свои грозные волны. Он видел, как скифы убивали своих пленников и орошали человеческой кровью лезвие священного меча. Вавилонские жрецы рассказывали ему, как Ваал, сын Илоса, разрубил надвое бесформенную массу Тераты. Из нижней части гигантского божества появилась земля. Грудь и голова образовали небо. Затем Ваал задушил самого себя, и капли крови, которые упали на землю, превратились в людей; капли крови, брызнувшие на небо, стали звездами. Великому иерофанту невольно приходило в голову, что это очень похоже на сказание о том, как Хронос одним взмахом своей острой косы создал из чрева хаоса небо и землю. В скинии Давида, насчитывавшей уже шесть веков, он склонялся вместе с евреями перед семисвечником Единому Богу, Богу бестелесному, Которому не воздвигали статуй, иегов, Отцу солнца, Вечному Создателю всего сущего на земле и на небе. Наконец, добравшись до истоков Нила, он был у подошвы высокой горы, на которой лежала с этой стороны крыша мира.
Покинув Афины еще эфебом, он вернулся из странствий с серебряными нитями в своей шелковистой бороде; и в течение сорока лет не покидал акрополя. Все боялись его могущества, но все почитали его мудрость. Перикл часто советовался с ним. Он был против отправления флота в Сицилию. Он был против и тогда, когда народ во второй раз изгнал Алкивиада. С той поры, отказавшись давать советы, он довольствовался тем, что наблюдал звезды.
Верховный жрец взошел на ступени храма и увидел в тени бледную фигуру Эринны.
— Девушка, — спросил он строго, — почему ты не спишь в такое позднее время?
Молодая девушка не отвечала и он прибавил мягче:
— Жрицы вовсе не обязаны приходить сюда мечтать по ночам. Афина, которой ты служишь, вовсе не богиня теней…
— Отец мой, — отвечала Эринна, — я сижу здесь потому, что сон бежит от меня. Придя в храм, я нашла спокойствие, которое вы обещали мне. Я не сожалею о прошлом: я чувствую, напротив, что благодетельный мир всецело проникает в мою душу; и скоро у меня не будет другой мысли, кроме мысли о служении богине, которой я себя посвятила.
— В таком случае, — сказал он, — если ты действительно ищешь знания, я сделаю тебя дочерью моей души. Я научу тебя тому немногому, что знаю сам. Когда ты состаришься — к тому времени мое тело давно уже будет в земле — ты в свою очередь передашь тому или той, кого ты изберешь, сокровище нашего мировоззрения. Но помни, чтобы достигнуть этого, нужно совсем отрешиться от людской суеты. Презирать все, что кажется украшением земного существования. Не любить ничего, — не жалеть ни о чем. Тебе это будет легко, потому что ты не знаешь счастья.
Эринна закрыла лицо руками.
— О чем ты плачешь, дитя мое? — спросил удивленно жрец.
— О, отец, — прошептала молодая девушка, — значит, храм это могила?
— Могила? Нет! Приют! Место для размышления и молитвы. Но увы! Я боюсь, что ты себя обманываешь, только сожаление о прошлом приводит тебя сюда. В тебе еще живет вера в будущее. Рана твоего сердца слишком свежа: сладкая надежда все еще живет в нем, мои слова удивили тебя.
— Это правда, — сказала Эринна прерывающимся голосом: — сознаюсь, мысль о возможности иного счастья не покинула меня, и иногда моя скорбная душа помимо моей воли, испытывает надежду новой весны.
— Одумайся, мое бедное дитя. Если бы даже тот, кого я изгнал из этих священных мест, и вернется с победными лаврами, если бы ты нарушила свой добровольный обет и, предоставив себя справедливому гневу неумолимых богов, склонила свое чело под игом Гименея, часы испытания наложили бы на тебя неизгладимый след. Ты уже не будешь жаждать веселых игр и смеха. Я очень стар. Я чувствую, что я скоро умру: жизни больше нечему научить меня; теперь смерть мой учитель. Едва удерживаемый одной и склонясь к другой, я испытываю их двойную силу. Глаза моей души увеличиваются, чтобы принять приближающийся свет. Глаза моего тела закрываются и темнеют. Я уже не различаю контура планет. Я с трудом могу определить высоту их на небесном своде. Твои глаза молоды: они заменят мои. Но для этого нужно, чтобы их не застилали слезы. Осуши свои слезы, девушка.
— Я уже думала, что если боги отказали мне в радости быть женою, в счастье быть матерью, то это потому, что всемогущие предназначали мне иную жизнь. Мне, вероятно, предназначено место возле тебя. Я согласна быть твоей ученицей; я буду всеми силами помогать тебе. Но, может быть, я окажусь неспособной постичь твое учение…
— Глаза зеркало души. Твои глаза прекрасны и светлы. Они полны того священного огня, который Прометей похитил для нас у богов. Не сомневайся в своих силах и в своих способностях.
Эринна печально улыбнулась.
— Ты не знаешь, — спросила она, — где теперь афинские корабли?
— Откуда же я это могу знать, дитя мое? Пританы не имеют известий о флоте более двух недель.
— Я думала, что ты имеешь власть спрашивать звезды, — наивно заметила молодая девушка.
— Нет. Но так думает народ, — отвечал верховный жрец. — Я вижу, что мне многому придется учить тебя. У меня нет этой власти; до меня ни у кого не было ее, не будет ее ни у кого и после меня. Я хотел приблизиться к истине путем приобретения знаний, но мне удалось постичь только частицу истины. Что я знаю? Очень немногое. Я знаю, что я ничто перед величием того, что я вижу. Жизнь человеческая слишком коротка; мне восемьдесят лет, а я едва только выхожу из пропасти. Я был создан некогда: не знаю, зачем стремлюсь между высокими стенами, увлекаемый быстрым потоком к неизвестному…
Иерофант умолк.
Луна освещала его; ветер играл его плащом и развевал волосы.
Через минуту он снова заговорил:
— Я обнажил перед тобой свое старое сердце. Не знаю, какая неодолимая сила заставила меня так говорить с тобой. Какова бы она ни была, я благословляю ее, она священна. Утешься, дочь моя. Оставь эти суетные мечты о счастье, невозможном на земле, которые иногда тревожат наши души и замирают, как бессвязный сон ночи. В жизни нет ничего такого, что не было бы смертно и гибельно…
Жрец спустился со ступеней и подняв руки к небу, точно белый призрак среди ночи, проговорил:
— Знание! Касаться покрова неосязаемого, проникать в тайну причин! Знать, почему столько светил населяет бесконечность! Знать, почему земля движется в пространстве, привязанная к золотым власам солнца. О моя душа! Не есть ли ты отражение слова? Не ты ли сама слово? Освобождает или уничтожает тебя смерть? Сверкающий алмаз, покинешь ли ты когда-нибудь свою мрачную оболочку? Или же, смерть, открывая дверь могилы, открывает путь к небытию? Звезды, звезды, сколько подобных мне существ, взывают к вам с мольбою!.. Но вы никогда не даете ответа!
Глава II
Вдали, как легкая дымка, вырисовывался на горизонте остров Лесбос.
Накренившись на правый бок, триера несла по ветру свои красные паруса. Короткие волны архипелага мерно покачивали ее, иногда волна, более высокая и сильная, чем остальные, обдавала брызгами бронзовую сирену, украшавшую нос триеры. Весла были подняты: гребцы дремали на скамейках; просмоленное полотно, натянутое над головами, защищало их от солнца. На верхней палубе все пространство между бортом и шканцами занимали расположившиеся группами воины, приводившие в порядок оружие или разговаривавшие с матросами. Порой звон меча, резкий скрип шкотов нарушали однообразный шум волн.
Конон, прислонясь к фок-мачте, рассеянно следил за реявшими над водой чайками. События последних дней, так быстро промелькнувшие одно за другим, пробегали перед ним, как волны мимо триеры. Он думал о том, что в порыве безумия пожертвовал всем счастьем своей жизни за поцелуй гетеры. Гетера! Она опоила его любовным напитком, пробудила в нем животное чувство, отняла у него, как воды Леты, на время память, лишила его воли. И вот — пробуждение! Она пробовала удержать его поцелуями, ласками, слезами. Но ни крики, ни слезы, ни достигли своей цели. Она в отчаянии бросилась к его ногам, прикрытая только волнами своих темных волос, оттенявших ослепительную белизну обнаженного тела. Он оставил ее лежащей на полу с кровавой раной на плече: в гневе, он ударил ее тяжелой рукояткой своего меча…
Выйдя от гетеры, он бросился к Леуциппе и нашел дом запертым.
Под порталом в тени колонны, Ксантиас играл с Кратером.
— Господин, двери больше не отворятся… Твоя невеста в храме Афины.
Он бросился в Акрополь. Он был уверен, что увидев его, она простит и упадет к нему в объятия…
На пороге стоял иерофант.
— Что тебе здесь нужно? — спросил старец.
Он пробормотал что-то в ответ, спеша проникнуть в священный храм.
— Зачем ты пришел сюда, афинский стратег, в шлеме и с мечом?
Жрец осыпал его градом упреков. Слова жреца вооружили против стратега народ: кругом слышался глухой ропот… В отчаянии, он покинул пронаос. Изгоняемый повелительным жестом жреца спускался он по ступеням, еще не зная, что его ждет приказ экклезии…
Только тогда он убедился, что действительно ее любит. Вдруг он вспомнил молитву, которую она произнесла, стоя на коленях под деревом в священном лесу! Она точно предчувствовала, что ее ждет; будущее оправдало ее опасения…
* * *
Два месяца носился он от одного острова к другому, предлагая вступить в битву убегавшему неприятелю. За ним, распустив свои темные паруса, соразмеряя свой ход с быстрым ходом его триеры, шло семьдесят кораблей.
Громкий голос караульного раздался с мачты и заставил всех поднять голову; гребцы выпрямились на своих скамейках, воины и матросы бросились к бортам.
На горизонте виднелся остров Митилена. Его очертания тонули еще в фиолетовой дымке, но темные вершины гор уже виделись вдалеке. Легкий запах мирт и апельсинных деревьев доносился до кораблей.
Конон позвал начальника гребцов. Тот выслушал его с видимым удивлением и отдал команду. Матросы подняли черный шар на рею фок-мачты, ослабили шкоты и переменили галс. Триера стала останавливаться, постояла с минуту, потом ветер снова надул ее паруса, и накренясь на левый бок, описала кривую линию. Остальные суда повторили тот же самый маневр, повинуясь сигналу стратега. И весь флот лег на обратный, уже пройденный курс, уходя в открытое море.
Он бежал от дорийского флота, который был почти вдвое сильнее его.
Триера Конона шла последней.
Он стоял на корме, скрестив руки, с развевающимися волосами и, внимательно следил за действиями дорийского флота. Спокойный, уверенный в своих судах, уверенный в себе, он снова готов был действовать, властвуя над другими…
Ветер стихал, паруса начинали плескаться, он коротко приказал: — «На весла!..» — и на верхушке мачты взвился новый сигнал.
Слышно было, как раздалась команда гребцам на других кораблях. Весла взметнулись над бортами, вода вскипела под их ударами, оставляя широкий след.
Время, ушедшее на то, чтобы переменить курс, дало неприятелю возможность подойти ближе. Моряки, сперва удивленные и недовольные, скоро поняли замысел стратега. Конон знал, что во флоте Калликратида, кроме финикийских галер, легких и быстрых, как чайки, были также тяжелые суда фиванцев, барки Фарнабаза, мало пригодные для сражения в открытом море и множество кораблей, вся сила которых заключалась в ударах, наносимых их медными таранами. Пурпурные паруса, которые так далеко опередили остальных, принадлежали финикийским галерам. Мореплаватели знали их, много раз видев в этих местах, когда они приставали под защитой тумана к какому-нибудь из Цикладских островов.
Они были уже не более, чем в сорока стадиях, быстро приближаясь к афинскому флоту, отдаляясь от дорийского.
Час спустя остальные суда Калликратида были едва видны на горизонте. Берег Лесбоса скрылся. И тогда свершилось то, что было предназначено судьбой.
На большой мачте священной галеры взвился вымпел, сигнал всеми ожидаемого сражения. Триера стратега взяла на гитовы паруса и убрала весла. Оба крыла афинского флота развернулись и сжали гигантскими клещами большую часть неприятельских судов, потерявших строй в пылу преследования. Те из них, что очутились вне кольца, принялись бежать. Конон запретил преследовать их.
Финикийские моряки были люди отважные и отлично знали морское дело; но что могли сделать их легкие суденышки против ужасных триер, которые со всех сторон надвигались на них; надо было или сдаваться или идти ко дну. Они сдались, и по приказанию, отданному стратегом, спустили свои паруса. Тридцать судов было взято в плен и, помещенные в центре афинского флота, вместе с ним направились к Митиленской гавани.
Но, если статуя Афины Паллады и продолжала еще стоять в большом Парфеноне, душа богини-покровительницы давно уже покинула город.
Еще в то время, когда флот поворачивал, кормчий священной галеры подошел к Конону.
— Взгляни на эти облака на горизонте, стратег, буря близка.
— На счастье Афин, — отвечал Конон. — Тем, кого смерть излечит от жизни, не нужно будет приносить в жертву петуха Эскулапу.
В то время, как флот на веслах уходил от дорийцев, облака закрыли солнце, ветер стих, берега Малой Азии вырисовывались с удивительной ясностью, все залитые светом. Кормчие приказали закрепить паруса и убрать весла. Оставлены были только паруса для выполнения маневров; над головами гребцов натянули полотно, они привязали себя к скамейкам. Связками пеньки, обернутыми просмоленным брезентом, закупорили отверстия, которые служили уключинами для нижних весел. Воины укрылись под защитой навесов. Все вещи были привязаны крепкими веревками; на палубе остались одни матросы.
Глухой удар, раздавшийся в отдалении, прокатился над гладкой поверхностью моря.
Огромное свинцовое облако с желтыми краями заслонило солнце. Яркий свет молний прорезал его, спокойное до того море закипело, поднимая высокие, как стены, волны. Гребни покрылись пеной. Водяные потоки, сорванные ветром, носились в воздухе и заливали, рассыпаясь, палубы судов. Некоторые из судов, несмотря на искусство кормчих, опрокинулись и пошли ко дну. Другие налетали одно на другое и сталкивались с ужасным треском. Море покрылось обломками. Видны были всплывшие доски, жерди, весла, за которые цеплялись руки тонувших людей.
Кормчий священной галеры закрепил руль железными цепями. Возле него стоял Конон, держась за штаг бизань-мачты. Каждый раз, когда триера, поднятая громадной волной, погружалась затем в пучину, они думали, что настал их последний час.
Гнев внутреннего моря ужасен, но непродолжителен.
Яркая молния, за которой тут же последовал ужаснейший раскат грома, казалось, истощила ярость урагана. Буря стала стихать. Пошел дождь, перешедший в ливень. Завеса облаков разорвалась. Сквозь просветы стало видно небо. Священная галера, держась по ветру, быстро неслась по волнам, которые постепенно становились все меньше и меньше.
Вскоре, триера уже огибала скалы, закрывавшие вход в Митиленскую гавань. Две триеры, пришедшие раньше, уже стояли гам.
Спустя некоторое время, к ним присоединилось еще тридцать семь триер. Остальные навсегда успокоились в водах моря, покрытого теперь лишь небольшой рябью.
В тот же вечер Конон высадил гоплитов и разместил их на молу. Мол был продолжен двойным рядом галер, сцепленных одна с другой железными крюками. Тяжелые бронзовые щиты висели по краям рей. Корзины и мешки с землей защищали борта судов и делали их выше. Все здоровые люди были вооружены дротиками. Конон забрал все суда у рыбаков и отправил их крейсировать в двадцати стадиях от гавани: он не знал, пострадал ли неприятельский флот, как и его; но зато отлично знал смелость наварха[27] и потому приготовился на всякий случай отразить возможное нападение врагов.
Глава III
Утром, через день после бури, на море близ Актеи показалось большое удлиненной формы судно. Оно не походило на тяжелые купеческие суда, снующие вдоль побережья, кроме того, на верхушке большой мачты развевался красный боевой флаг, а длинные весла, касаясь поверхности моря, делали его похожим на громадную птицу, летящую над спокойными волнами.
Караульные первые заметили его со сторожевой башни. Матросы и праздный люд, толпившийся на набережной, — все бросились к молу. Опытные глаза моряков скоро определили что это за судно. Они даже знали его название. Это была «Газель» — самое быстроходное из разведывательных судов во всем флоте. Один из моряков рассказал, как в сражении при Кизике искусство триерарха, удивительная быстрота хода и поворотливость этой триеры способствовали удаче боя.
Триера вошла в гавань. Толпа шла следом за ней по насыпи, разглядывая потрепанный бурей корабль. Покрытая водорослями и ракушками медная обшивка тяжело поднималась на волнах. Многих гребцов не хватало на скамейках, большая рея была сломана, стоявшие на палубе матросы, готовившиеся пристать к берегу не сопровождали свою работу обычным пением.
Судно не было вестником победы. Тоскливое чувство овладело толпой, она примолкла.
Триерарх, сойдя на берег, вскочил на первую попавшуюся из стоявших тут же на набережной колесниц, и лошади, пробужденные от дремы ударом бича, пустились в галоп по дороге к Афинам.
Вслед затем на набережную сошел экипаж «Газели», и толпа узнала грустные новости. Калликратид с восемьюдесятью судами, уцелевшими из двухсот судов, запер в Лесбосе остатки афинского флота. У Конона осталось всего сорок афинских триер и несколько финикийских галер, захваченных перед бурей; остальные погибли. «Газель», атакованная в Метинском канале шестью пелопонесскими кораблями, хотя и потопила один из них, только благодаря своей быстроте, ускользнула от преследования.
Печальные известия распространяются, точно на крыльях. Через несколько минут ужасная весть распространилась по всему городу. Шумная, волнующаяся толпа наполнила улицы и площади. Спустя некоторое время глашатаи уже трубили в свои медные трубы на всех перекрестках. Они шли по двое. Старший держал в руке дощечку черного дерева, на которой Эпистат собственноручно написал, что пританы созывают граждан на народное собрание. Прочитав написанное на дощечке, глашатай поднимал ее над головой, чтобы народ мог видеть на большой печати из красного воска гордый профиль Афины. Граждане всех четырех классов направились к агоре.
Вечером того же дня Гиппарх, возвращаясь из собрания, встретил возле могилы Кимона жену, вышедшую ему навстречу, и оба, держась за руки, медленно пошли по крутой, почти пустынной дороге, которая вела к пропилеям. Наступила ночь. Холодный, дувший с гор ветер, возвещал приближение зимы.
Эринна ждала их. Как только она увидела их, побежала навстречу, обняла Ренайю и спросила, обращаясь к Гиппарху:
— Ну, ну что же ты мне скажешь?
— У меня есть что сказать тебе, Эринна.
— Пойдем в дом иерофанта, уже поздно вести вас в храм в это время.
Иерофант принял их ласково. — «Друзья Эринны здесь у себя в доме», — сказал он, и предложил хлеба, сухих фиг, пирогов с медом и горячий напиток, приготовленный из трав, собранных им самим.
Через минуту Гиппарх начал рассказывать:
— Собрание было многочисленное. Немногих граждан не доставало на трибунах, каждый знал уже вести, распространившиеся еще утром. Ты слышала об этом, Эринна?
— Да. Афинский флот разбит бурею.
— Постановление сената объявлено народу, и народ одобрил его. Афины снаряжают еще семьдесят триер. Союзники дадут тридцать, Самос десять, и все сто десять судов отправятся в Митилену на выручку флоту.
— Если не поздно, — прошептал иерофант.
— Если только еще не поздно, — повторил Гиппарх. — Но я не думаю, чтобы Конон дал захватить себя врагам.
— Калликратид командует опытными воинами, йогом у него втрое больше войска. Эринна принесла жертву и наблюдала предзнаменования. Они скорее благоприятны для нас; но голова жертвы была совсем сожжена пламенем, — сказал иерофант.
— Что же это предвещает? — спросил Гиппарх.
— Это предвещает, что парки готовятся принести в жертву одного из вождей.
— Я спрашивала также и богиню, — сказала спокойно Эринна. — Я знаю, что македонский наварх найдет смерть в битве. Я знаю также, что он оставил в Спарте невесту. Как она будет плакать, бедняжка. Война несет с собою горе и слезы. Зачем это горе, зачем нужна война?
— В таком случае можно спросить, зачем нужна смерть? — возразил Гиппарх. — Не надо говорить о том, что может поколебать наше мужество.
В это время Ренайя, не в силах удержать слез, которые уже блестели на ресницах, плача обняла своего мужа.
— Что с тобою? — спросил иерофант.
— Ренайя, что ты делаешь? — строго сказал Гиппарх. — Она плачет, — прибавил он мягче, — потому что я опять надеваю оружие и поступаю на службу. Это мой долг. Если Афины и могут быть спасены, то только ценою крови их сынов. Не я один оставляю жену и ребенка. Не у одной тебя тяжело на сердце, Ренайя.
— Может быть! Но какое мне дело до других, Гиппарх, когда ты идешь умирать!
— Довольно, — остановил ее Гиппарх, — закон повелевает, и мы должны ему повиноваться. Народное собрание постановило вооружить всех взрослых граждан, способных носить оружие. Я взрослый, я могу носить оружие; я должен идти, и я иду.
— Ты прав, Гиппарх, — сказала Эринна, — ты говоришь, как мужчина и как афинянин… Кроме того, я знаю, что судьба не отметила тебя для руки Атропос.
— Правда?! — воскликнула Ренайя, успокаиваясь. — О, боги, как я люблю их, они покровительствуют тебе! Афродита, которую ты изобразил такой чистой! Как я буду молить их обеих.
— Твоя любовь также покровительствует ему, — сказала Эринна твердым голосом. — Любовь это вера; вера это щит!
— Рассказывай дальше, Гиппарх, — сказал иерофант.
— Вот что постановили на собрании. Мы решили вооружить всех годных к военной службе рабов.
— Это вы правильно сделали, — сказал иерофант.
— Мы решили предоставить права гражданства всем чужестранцам в Афинах и даже таким, которые не живут у нас постоянно, если только они согласятся служить в войске.
— Это очень важное решение…
— Иначе нельзя, нам нужны воины. Народ хочет, — продолжал Гиппарх, чтобы все было готово через месяц. Он назначил десять начальников. Он оставил Конона в его теперешнем звании. Тразивул и Терамен, которые теперь в Афинах, должны будут наблюдать за работами и следить, чтобы все было кончено, как можно скорее. В заключение собрание постановило совершить в Парфеноне торжественное жертвоприношение, просить тебя призвать благословение на оружие воинов и отправить на проводы флота в Пирей эфебов и всех девушек. Когда наши корабли будут выходить с распущенными парусами из гавани, народ проводит их пением священных гимнов…
Глава IV
Белые колонны храма богини Афины, стоявшего на вершине мыса Суния, виднелись далеко с моря. Их отражение в воде доходило до корабля шедшего вдоль берега и, купаясь в волнах, тонуло в золотистых лучах яркого солнца. С корабля хорошо была видна часть берега, пестревшая полускрытыми в зелени сосен домиками, ютившимися по берегам защищенных грядами скал узких заливчиков, по которым сновали рыбачьи лодки.
Ветра не было, кормчий приказал убрать паруса, и гребцы, налегая в такт флейты на длинные весла, медленно подвигали судно вперед. Несмотря на радость, испытываемую при виде родных мест, они не торопились. А между тем, это были те самые люди, которые всего несколько месяцев тому назад возвращались вместе со всем флотом на кораблях, украшенных цветами, под торжественные звуки труб. Земля, вдоль которой они шли, была их землей, эти рыбачьи лодки и эти домики на берегу, были их лодки и их дома. Они и на этот раз возвращались победителями. Их галера все еще оставалась священной галерой; развевавшийся на мачте пурпурный флаг все еще владычествовал на море. Удары бронзовых таранов, правда, сильно повредили борта; сирена, укрепленная на форштевне, лишилась обеих рук; наскоро прибитые доски закрывали повреждения палубы. Но зато, флот Калликратидаса спал мертвым сном в глубинах Лесбосского моря.
Несмотря на победу у всех, начиная со стратега и до последнего гребца, душу тяготило сознание неисполненного священного долга. Там, между дикими скалами Аргинузских островов, волны бросали из стороны в сторону тела погибших и над их уже посиневшими ужасными трупами кружились морские птицы. И теперь много безутешных душ, наталкиваясь на безжалостные скалы, бродили по берегам огненной реки, разделенные ее быстрым течением от зеленых Елисейских[28] полей.
В Кумах, где они отдыхали, до них дошел невероятный слух: афиняне украсили венками и заковали в цепи участников сражения, пришедших в гавань раньше их; цветами они наградили их за победу, а цепями за их преступление! Начальники получили цикуту, которую поднес им в кубке служитель одиннадцати…
Несмотря на неторопливую работу гребцов, священная галера подвигалась вперед. Уже стал виден Фалеронский мыс и белая башня, на вершине которой в безлунные ночи дозорные зажигали огонь. Мол и набережная были покрыты многочисленной толпой, и даже на дороге, которая вела из Афин через поле Аристида, виднелось множество бегущих к гавани людей.
В то время, когда галера, державшаяся еще в открытом море, проходила мимо гавани Мюнихи, остававшейся справа, вдруг появилась лодка, вышедшая из-за Актея.
Это была маленькая лодка, скорее челнок, всего с одним гребцом. На руле сидела женщина под покрывалом, а на носу лодки юноша, размахивавший куском красной материи. Когда лодка подошла ближе, Конон узнал Ксантиаса. Он взмахнул рукой, отдав приказание гребцам. В ту же минуту весла поднялись, и рулевой поставил корабль бортом к лодке.
Женщина под покрывалом, отказавшись от помощи раба, смело поднялась по веревочной лестнице на палубу. Ее длинный плащ распахнулся, и моряки увидели золотую пластинку с изображением символической совы с распущенными крыльями и рубиновыми глазами.
— Иерофантида, — тихо произносили вокруг. — Иерофантида. — И все благоговейно пали ниц.
Конон еще раньше узнал Эринну, бросился к ней, но вдруг увидел священную эмблему, — отступил.
— О, Боги! — воскликнул он, — все кончено?!
— Все кончено, — отвечала она.
Она с минуту стояла молча, а затем сказала тихим голосом, в котором дрожали слезы:
— Как ты похудел и как ты бледен!
Конон с печальной улыбкой показал свою левую руку, обернутую складками плаща:
— Я сражался днем и плакал ночью.
— Ты плакал, ты, Конон?
— Да, как женщина… Эринна, помнишь ли ты тот день, когда в лесу Артемиды ты взяла меня за руку и посвятила нас обоих богине?
— Ты меня спрашиваешь, помню ли я об этом? Я была там с Ксантиасом этой зимой… О, Конон, ты говоришь, что я забыла свои клятвы, зачем же ты, нарушил свою?
— Это было безумие, безумие! Она дала мне выпить такого напитка, который убивает волю… Ты должна была выслушать меня и простить!
Эринна раздумывала с минуту, затем сказала:
— Я бы простила тебя. Почему же я ничего не знала об этом? Почему же я узнала только о том, что ты совершил? Почему иерофонт не допустил тебя? Боги избрали меня для служения им… Теперь уже нельзя ничего изменить… я принадлежу храму и не могу его покинуть, а если я сегодня и пришла к тебе…
— Не оправдывайся; ты пришла, потому что все еще любишь меня!
— О, да! Потому что я люблю тебя и должна спасти тебе жизнь!
Триера тихо покачивалась на синих, спокойных волнах.
Эринна подошла к фок-мачте и обернулась к морякам. Она откинула складки своего покрывала и рассказала о том, о чем они знали уже по слухам… Она рассказала о смерти Диомедона, Перикла и других начальников. Она рассказала, как несправедливый гнев народа обрушился на людей, которые одержали величайшую морскую победу, как голоса лучших граждан были заглушены криками озлобленной толпы…
— Уходите, — говорила Эринна, — уходите, моряки. Спасите жизнь тому, с кем вы столько раз побеждали врагов. Уходите, пока еще не поздно!
— Уходим, — воскликнул Конон, сияющее счастьем лицо которого, вдруг преобразилось, — уходим! Будем искать на берегах Ионийского моря более гостеприимную гавань…
Кормчий отдал приказание. Гребцы безропотно налегли на весла. Судно, повинуясь рулю, стало поворачиваться кормой к берегу.
— Прощай, Конон, — сказала Эринна, и подала знак рабу, собираясь спуститься в лодку.
— Как, прощай? Будущее принадлежит нам! Ксантиас, взбирайся на палубу… — Конон вдруг все понял: он понял, что жрица явилась не затем, чтобы разделить его судьбу, а чтобы спасти его от гнева раздраженного народа.
— Здесь распоряжаюсь только я, — крикнул он громовым голосом. — Гребите!
Эринна подошла к борту.
— Моряки, — воскликнула она. — Я хочу объявить вам волю богов. Вот глиняные дощечки. Кормчий, прочти то, что сама Атенайя объявила сегодня утром верховному жрецу.
Кормчий взял дощечки и прочитал:
«Они поведут мою галеру к гаваням Ионийского моря: весла им не будут нужны: ветер надует их паруса».
Конон вырвал дощечки из рук кормчего и бросил в море.
— Весла на воду! — крикнул он.
Но в первый раз никто не послушался его приказания. Поднятые весла не опустились.
— Ах, так! — воскликнул он, — твоя власть сильнее моей! Идем в Афины! На что мне жизнь вдали от тебя?
— Умоляю тебя, не говори так. Я посланница богов и пришла к тебе не по своей воле, меня послала к тебе богиня-покровительница. Не противься ее воле. Мы должны повиноваться богам даже когда их воля разбивает наше счастье…
— Так брось своих ненужных богов. Их жестокая воля во второй раз отнимает тебя у меня. Слушай, я не приказываю: я тебя умоляю. Послушайся голоса своего сердца, а не своего жестокого рассудка… Я не все сказал тебе… Я ранен. Я умру, я умру вдали от тебя, если тебя не будет там, чтобы перевязывать мои раны…
Он высвободил руку из плаща и сорвал повязку. Глубокая рана проходила по всей руке от плеча до локтя.
— У тебя кровь! — воскликнула молодая девушка. — Атенайя, Атенайя, мать моя! — молила она едва слышным голосом, — тяжелый выпал мне жребий, поддержи меня, я колеблюсь!
— Едем, — крикнул, просияв Конон. — Гребите, я дам вам десять талантов золотом.
Но Эринна покачала головой:
— Я не могу… я не могу. Пожалей меня!., я не могу, не могу!
Конон хотел сказать что-то… Но вдруг побледнел и, лишившись сознания, упал возле мачты.
Эринна наклонилась к нему, сняла с себя покрывало, разорвала его и перевязала сочившуюся рану.
Потом наклонилась еще ниже и поцеловала его влажный лоб.
— За неблагодарные Афины! — прошептала она.
С минуту лодка держалась у борта священной галеры. Но скоро волны разделили их. Стоявшая на корме Эринна, казалось, шла вдали по катившимся длинными валами волнам… Гребцы, позабыв о веслах, смотрели на нее.
Поднявшийся попутный ветер уносил Конона в изгнание…
Глава V
Скоро священная галера казалась уже только небольшим облачком, исчезавшим на горизонте.
Мятежный народ волновался на набережной. Весь берег был усеян народом, и оттуда неслись проклятия. Тут собралась чернь со всех трех гаваней, весь люд из вертепов Пирея и Фалера, полураздетые публичные женщины, чужеземные моряки, пьяные рабы, рыбаки и ремесленники побросавшие работу. И все они, с громкими криками и угрожающе размахивая руками, бежали навстречу подходившей к пристани лодке.
— Приставать ли нам к берегу? — спросил лодочник, поднимая весла.
Эринна взглянула на Ксантиаса.
— Народ, кажется, очень раздражен… Как нам лучше поступить, Ксантиас?
— Госпожа, по-моему, лучше пристать в другом месте.
— А за что им сердиться на нас? Что мы им сделали?
— Клянусь богами, ты совсем ребенок! — сказал лодочник. — Ты спрашиваешь, что ты им сделала? Ты лишила их большого удовольствия. Посмотри туда, где толпится народ возле статуи. Он окружает стражу пританов, которые должны были арестовать стратега. Ты помешала им захватить священную галеру. Да если бы я знал, что ты наняла меня для этого, я не повез бы тебя. Все эти люди собрались посмотреть на редкое зрелище, а ты отняла его у них; они догадались об этом, а, может быть, даже и видели тебя на корабле, и ты еще спрашиваешь, почему они так кричат? Если тебе дорога твоя жизнь, тебе следовало бы остаться на галере… Нам следовало бы укрыться где-нибудь возле мыса Алцимоса и не выходить на берег до наступления ночи.
Эринна обернулась к лодочнику, откинула складки своего плаща, — золотая пластинка блестела на груди на белом хитоне. И лодочник увидел священную сову, устремившую на него свои рубиновые глаза.
— Замолчи, — сказала Эринна.
Лодочник втянул голову и простерся ниц.
— Встань… и причаливай. Ксантиас, колесница там?
— Там, госпожа.
Лодка подошла к пристани. Разъяренная толпа бросилась навстречу с поднятыми кулаками… Но все, увидели в ту же минуту сверкающую эмблему и сейчас же в ужасе отступили.
— Атенайя, иерофантида! — закричали они.
Толкаясь, вся эта кричащая толпа расступилась перед жрицей, которая медленно поднималась по ступеням лестницы.
Ксантиас, на которого никто не обратил внимания, привел колесницу; но когда Эринна взошла на нее, ее вдруг окружило плотное кольцо людей.
— Смерть! Смерть! — кричали из задних рядов.
— Замолчите, это жрица Атенайи, — успокаивали другие.
— Тут нет никакой жрицы, — раздался чей-то голос из толпы, — кто изменяет народу, тут должен умереть!
— Смерть! убейте ее!
— Не трогайте ее, не прикасайтесь к ней.
И вдруг раздался громкий крик:
— Камней, к ней можно прикасаться камнями…
И в ту же минуту камень, брошенный финикийским моряком, разбил спицы одного из колес.
Стоявшая в колеснице жрица простерла руки, и все увидели золотую пластину, которая блестела у нее на груди. Первые ряды снова отступили, задние, натолкнулись на носилки, которые несли ступавшие мерным шагом носильщики. Снова посыпались градом камни. Один из них попал Эринне в плечо; она побледнела; затем кровь показалась у нее на лице… Эринна слабо вскрикнула и упала.
— Остановитесь. — Приказал женский голос твердый и ясный.
Два эфиопа бросились к колеснице. Один из них, схватил за ноздри начинавшую уже храпеть лошадь, которую Ксантиас не мог удержать. Другой взял на руки бесчувственную жрицу и понес ее к носилкам.
Лаиса выглянула из-за занавесок, показывая свое нежное лицо и красные розы в черных волосах.
— Бедное дитя! — воскликнула она. — Как ты думаешь, она серьезно ранена?.. Положи ее возле меня… Она потеряла сознание, у нее сочится кровь из ранки… Сбегай за водой… как хороша! — отметила она. Вдруг Лаиса увидала золотую пластину, а на ней символическую сову, которая смотрела на нее своими рубиновыми глазами!
— Жрица Атенайи… новая иерофантида! Эринна.
В эту минуту появилась стража пританов, толпу рассеяли, как стаю воробьев. На пристани остались только носилки и колесница.
* * *
Эринна открыла глаза. Женщины толпились вокруг нее. Старый врачеватель подошел к жрице, приказал затворить двери, зажечь факелы и внимательно осмотрел рану.
Он налил несколько капель розовой душистой воды в золотой сосуд, который подал ему раб, намочил губку и тщательно промыл рану; затем он приложил к ране листья лилии и наложил полотняную повязку.
Эринна, все еще очень слабая и бледная, лежала, не произнося ни слова.
— Женщины, — сказал старик, — теперь дайте жрице отдохнуть. Когда она проснется, принесите ей свежего молока и фиг.
Две рабыни присели на корточках у кровати. Они медленно колыхали длинными опахалами из перьев, движение которых заставляло колебаться пламя факелов.
Потом появилась Лаиса. Длинная белая туника, вышитая шелковыми нитями и золотом, покрывала ее и падала прямыми складками до земли. Темный шнурок охватывал голову. Огромный камень сверкал на голове; другие поменьше, разбросанные на анадеме, блестели, как капли росы. Выбившиеся из-под повязки волосы развевались.
Она долго смотрела на спящую жрицу.
Эринна, почувствовав на себе пристальный взгляд, проснулась. Большое зеркало из полированной стали отражало ее лицо. Она увидела белую повязку у себя на лбу… припомнила, что с ней случилось, и встала.
— Афинянка, — сказала она, склоняясь перед Лаисой, — это ты спасла меня от гнева народа?
— Да, я… камень попал в тебя, я боялась за твою жизнь.
— Благодарю тебя, афинянка. — Пошли слугу к моему отцу Леуциппе. Он пришлет колесницу или носилки, и я отправлюсь в храм.
— Я уже сделала это; крытые носилки ожидают тебя у дверей, теперь на улицах все спокойно.
— Благодарю тебя. Я буду молиться за тебя, если ты скажешь мне свое имя.
— На что тебе знать мое имя? Иерофантида может молиться просто за неизвестную женщину, которую боги послали на ее пути.
— Почему не хочешь ты сказать мне свое имя, которое я могу узнать от первого встречного?
— Это правда. Я не афинянка. Я Лаиса из Коринфа.
— Лаиса!? — вскрикнула жрица.
— Ты знала, кто я, когда велела спасти меня своим рабам? — спросила она после долгого молчания.
— Нет.
— А если бы ты знала, велела ли бы ты спасти меня.
— Нет. — Лаиса отвечала, не задумываясь. — Я прошла бы мимо. Но я не жалею о своем поступке… Это был приятный час в моей жизни… — добавила она, усмехаясь. — Моя богиня — Афродита, победила твоею, Афину. Святая богиня любви отмстила тебе! И ты никогда не забудешь этой мести, потому что обязана мне жизнью, потому что, если бы не я, тебя побили бы камнями!
— Умереть за него, какое это было бы счастье!.. Теперь оцени свою месть… — спокойно сказала Эринна.
В эту минуту дверь отворилась, вошел иерофант. Эрац безошибочно определил, что тут произошло.
Он подошел к Эринне и взял ее за руку:
— Пойдем, дочь моя! Прости ее, — прибавил он тихо. — Она раскаивается.
Эринна обернулась и увидела рыдающую Лаису.
— Прости ее. Она тоже любит его. Прости во имя богини.
Эринна раздумывала с минуту. Потом чуть слышно сказала:
— Я тебя прощаю, Лаиса.
Часть IV
Глава I
Проходили дни и месяцы.
После долгой зимы наступила запоздалая весна.
Земля зазеленела, оживились леса, птицы запели в новой листве лавров. Из травы выглядывали красные головки валерианы и голубые кисти полемонии, ветерок, насыщенный крепким запахом цветущего боярышника, пробегал между колоннами храмов.
В то время, как в природе все ликовало, скорбная душа Эринны все больше и больше уходила в себя. Только беседы с верховным жрецом, открывавшим ей сокровищницу своих знаний, служили ей утешением. Вечерами она наблюдала вместе со старцем течение небесных светил; днем, когда не было утомительных церемоний культа, бродила по окрестностям, посещала больных. Престарелый иерофант научил ее драгоценному искусству приготовлять мази и разные снадобья. Она лечила больных сама и затем имела удовольствие видеть, как маленькое, недавно страдавшее существо приносили ей со свежими щечками и веселой улыбкой.
Однажды Эринна увидела на крыше Парфенона огромную птицу с черными крыльями, которая долго сидела неподвижно. Она позвала верховного жреца, но в ту же минуту, птица, испустив протяжный крик, взмахнула крыльями и улетела в открытое море.
В тот же день, как только стало смеркаться, священная галера входила в Кантарос.
Она медленно плыла лишь под одним парусом на бизань-мачте. Несколько гребцов молча работали веслами. Обломок грот-мачты, запутавшись в снастях, лежала поперек палубы; не было видно приготовлений, обычных при высадке на берег; на шканцах видны были какие-то люди, суетившиеся возле лежавших на палубе тел, по всей вероятности, возле трупов убитых…
Ужасная весть, которую она принесла скоро переходила уже из уст в уста. Она облетела Фалеру, Пиреи и Афины. На улицах и на площадях толпился народ, сперва шумно высказывавший свое сомнение, а потом притихший, охваченный скорбью и унынием. Все, богатые и бедные, свободные и рабы, заперлись в домах, чтобы оплакивать гибель своего отечества.
Это было полное поражение: ни войска, ни кораблей… Через несколько дней неприятель будет у ворот…
После того, как шестеро из военачальников, победивших неприятеля при Аргинузских островах, были приговорены к смерти, афинянам потребовалось не так много времени, чтобы устыдиться своей жестокости. Стыд перешел в раскаяние, раскаяние в гнев. Народное собрание постановило: казненным вождям воздать посмертные почести, а тем из них, которые избежали смерти, возвратить их прежнее воинское звание. Но стратеги теперь должны были командовать по очереди, каждый в течение одного дня. Это роковое условие, выдвинутое с той целью, чтобы помешать диктатуре одного лица, послужила причиной ужасного поражения.
Афинский флот, бороздя море под своим гордо развевавшимся флагом, видел, как бежали перед ним галеры Лизандра. Он поднялся к Гелеспонту и, вопреки совету Конона, углубился дальше к болотистым берегам Эгоспотамоса. На судах скоро стал ощущаться недостаток в свежих припасах. Среди экипажей появилась какая-то заразная болезнь. Моряки начали падать духом.
Лизандр появился вблизи у устья реки. Афинские триеры сейчас же приготовились к битве… Но Лизандр, не вступая в бой, удалился.
Через восемь дней он появился снова, вошел в Эгоспотамос, крейсировал с час по желтым водам реки, а затем снова скрылся.
Несколько дней спустя он появился опять. Экипажи афинских галер были в это время на берегу. Никто и слышать не хотел о том, чтобы сейчас же бежать на триеры и выступать в битву с этим трусливым неприятелем, который все время убегает. Конон, предвидя опасность, подал сигнал, требовавший воинов и моряков на суда… но Филоклес заявил что он будет делать распоряжения в тот день, когда наступит его очередь. На следующий день Лизандр появился в тот же час. Никто не придал этому значения. Тогда пелопонесцы налегли на весла и бросились в атаку. Суда, которые стояли на якоре, были потоплены ударами таранов. Те, что были вытащены на берег, захвачены и уведены в открытое море. Когда собрались, наконец, беспечные афиняне, часть флота пылала у берега, часть стала добычей дорийцев.
…Тем временем Лизандр высадил на берег фалангу… Она приближалась непоколебимой линией, ощетинившись остриями копий… Только постыдное бегство спасло немногих оставшихся в живых афинян.
Конон еще в начале нападения дорийцев сумел развернуть в боевой порядок восемь триер, которыми командовал лично и которые держал наготове. Он решил прорываться сквозь дорийский флот. Лизандр не сумел его остановить и не осмелился преследовать. Конон отвел семь триер в безопасную гавань, а восьмую отправил в Афины сообщить о поражении.
И вот она прибыла… Это была священная галера. Недалеко от Эвбеи она выдержала жестокую битву с двумя сиракузскими судами, которые успели узнать о случившемся и спешили преградить путь к Афинам.
На следующий день народ, созываемый глашатаями, устремился по улицам, которые вели к агоре. Восходящее солнце освещало строгие линии Парфенона. Высоко в воздухе, горел золоченый шлем богини, персидские щиты, — свидетельство прежних побед, сверкали на фронтоне. Гнездившиеся в расщелинах скал вороны, которых спугнула проходившая толпа, с криками улетали прочь. Их черные блестящие крылья отливали розовым цветом при первых лучах восходящего утра. Со всех сторон, взбираясь по крутым склонам, по обрывистым тропинкам, народ спешил к цитадели.
Над портиком возвышалась гигантская статуя Афины. Фидий создал ее из одного громадного куска черного мрамора. Она была строга, ее глаза были устремлены в расстилавшуюся внизу морскую даль. В правой руке она держала копье; левая опиралась на тяжелый щит.
У ее ног помещался каменный жертвенник, к которому вели три ступени. Толпа расположилась вокруг статуи и устремила умоляющие взоры на строгое лицо богини.
Длинная процессия жрецов вышла из храма. Они вели жертвенных животных: овцу черную, как Эреб, телицу с золочеными рогами. Иерофант в пурпурной одежде, в окружении жриц, подошел к жертвеннику и подал знак. Эринна взошла на священный треножник. Она окинула взглядом окружавшую ее толпу и медленно торжественным голосом произнесла:
— Счастливы те, что умерли молодыми в то время, как их страна наслаждалась благоденствием. Они не увидят дней смуты, печальных дней, которые мы переживаем теперь. Они не увидят тех мрачных годов, которые, точно змеи в траве, подкрадываются к нам!
Кровь черной овцы, заколотой на жертвеннике, падала капля за каплей в каменную чашу, блестя на ярком солнце. Синий дым поднимался вокруг статуи, ветер с моря доносил его аромат к склоненным головам молящихся.
Прорицатели рассмотрели внутренности жертвенного животного и удалились, покачивая головами. Стоявшие в первых рядах сообщили об этом. Дурная весть распространялась все дальше и дальше. Скоро весь собравшийся на Акрополе народ уже знал, что первая жертва не была принята.
Бледная, с глазами полными веры, жрица подняла к Афине свои руки и вскричала:
— Прости им, богиня, они молят тебя у ног твоих. Они не знали твоего могущества, они смеялись над тобой, покровительница. Прости им, они раскаиваются. Прости твоему согрешившему народу. Прости! Все твои дети умоляют тебя: прости своим детям афинянам! Я посвящаю себя тебе, богиня, я посвящаю себя тебе! Я приношу в жертву у твоих ног все надежды моего сердца, о которых я говорила только тебе. Я никогда не покину твоего храма. Спаси и защити нас! Смилуйся над нами! Спаси Афины, которые без тебя погибнут!
И весь народ повторил за ней:
— Спаси Афины, которые без тебя погибнут.
В то время, как жрецы надевали кожаную маску на голову телицы и располагали вокруг нее гирлянды и венки из живых цветов, Эринна снова стала призывать богиню. По обычаю, она распустила волосы, сложила руки и дрожавшим от волнения голосом, запела гимн, сложенный некогда Солоном:
«Богиня в золоченом шлеме, выйди из своего безмолвия, которое леденит нас ужасом. Ты, опрокидывающая горы и любящая гром оружия и колесниц, защити наши укрепления и навсегда сохрани нашим сынам наследство Даная.
Атенайя, Атенайя, зачем ты покинула свой город! Выйди из своего безмолвия, которое леденит нас ужасом. Разве ты не видишь дорогих твоему сердцу девушек, окружающих твой жертвенник?
Молодые девушки, молодые девушки! Не плачьте больше о ваших женихах. Их последние мысли были о вас. Пусть и ваши последние мысли будут об отечестве. Посвятите богине, вместе с вашей печалью, ваши песни и ваши мольбы.
Посвятите вашу печаль строгой богине, ревнивой ко всякой человеческой радости. Посвятите себя деве покровительнице и защитнице. Молодые девушки, мои подруги, отдадим ей наше сердце!
О, Афина Паллада, зачем ты допустила это оскорбление нашей славы? Неужели ты хочешь видеть разрушенным твой город и афинских девушек страдающими в плену на берегах Эврота?!
О, Афина Паллада, скажи нам, что это сон и что для нас занимается новая заря. Скажи нам, что Афины еще сильны и велики. Что они гнутся сегодня, как дуб во время грозы, чтобы, как и он, поднять потом гордо свою вершину еще выше в лучах сияющего солнца!»
Иерофантида умолкла и покрыла себе голову. Жрецы начали петь священные гимны. Народ повторял припев. Снова дым кадильниц заволок подножие статуи. Но, когда жрецы бросили на огонь влажные внутренности жертвы, огонь внезапно потух. Три раза зажигали рабы огонь и три раза невидимый ветер тушил начинавшее было разгораться пламя. Вопль отчаяния вырвался у народа при виде этого…
Афина не удостоила принять жертвы и осталась глуха к мольбам.
Толпа вдруг стихла. Опустив голову, молча пошли все обратно в город. Всем уже казалось, что они видят на горизонте паруса вражеского флота Лизандра.
Глава II
Несколько дней спустя пелопонесские галеры блокировали все три гавани. Ни одно судно не могло выйти из Афин. Спартанцы завладели Аттикой и опустошали окрестности города. Масличные деревья были вырублены, источники засыпаны, хлеб на полях сожжен. Дома, в предместье города, были разграблены и разрушены.
Все население Афин вышло на стены защищать родной город. Железные цепи, протянутые между молами, преграждали вход в гавани. Лизандр, потеряв несколько кораблей, оставил попытки прорвать эту преграду, расположил свой флот на рейде, готовясь к длительной осаде.
Афины продержались целых четыре месяца. Затем, голод и болезни восторжествовали и пришлось согласиться на все условия поставленные безжалостными победителями. Своими собственными руками афиняне разрушили десять стадий стен и сожгли свои последние корабли. Лизандр, увенчанный цветами, принес жертву Тезею, взошел на Пникс, и эхо в холмах повторило звуки грубого дорийского наречия, раздававшегося на трибуне.
После войны, окончившейся так бесславно, последовали события еще более печальные. Опираясь на спартанские копья, власть захватила олигархия[29]. Ужасный шквал войны гражданской пронесся над побежденным городом. Быстрее, чем голод и чума, тридцать тиранов превратили Афины в пустыню.
В эти мрачные дни Эринна жила в безмолвном и пустом храме. Некоторое время спустя после падения города, Леуциппа удалился вместе с семьей в Коринф. Но жрица не согласилась последовать за ними, как ни была сильна опасность служить богам, когда враг разрушал всюду их алтари. В своей тесной келии она укрывала Ренайю и ее сына. Гиппарх, приговоренный к смерти, должен был бежать, ему чудом удалось ускользнуть от тиранов. Он отправился к Тразивулу в Фивы.
Однажды вечером, молодые женщины, стоя на парапете пропилеев, смотрели, как садится солнце, равнодушное к тому, что совершается на земле. Они вспоминали прошлое, вспоминали все то, что могло напомнить им минувшие счастливые дни…
— Я ходила туда, — говорила Ренайя, — вскоре после того, как войско Агия ушло от города. Деревья срублены, одно из них, самое красивое, упало на рухнувшую крышу; стены разрушены. Всюду следы пожара. Из мастерской шел невыносимый запах. Я вошла туда и под грудой разбитых статуй увидела ужасные, распухшие ноги трупа. Шнурки сандалий глубоко врезались во вздувшуюся кожу. Бедная кормилица!.. Я бросила несколько оболов на кучу мрамора туда, где, как я предполагала, было ее лицо. Но запах был так силен, обломки так тяжелы, что я не смогла вложить ей в рот монету, чтобы заплатить за переправу. Может быть, ей все-таки удалось перебраться через огненную реку…
Ренайя умолкла, рыдая.
— Милая, — сказала Эринна, — я не хочу, чтобы ты предавалась так слезам и отчаянию. Гиппарх жив, и ты снова увидишь его. Вы вновь отстроите свой опустошенный дом. Не плачь, время, которое я предсказываю тебе, близко.
— О! Эринна, — отвечала молодая женщина, — какая ты сильная, я восхищаюсь тобой. Как бы хотелось мне иметь такое же мужественное сердце!
Необычный шум заставил их поднять голову. На Акрополь легла тень гигантской птицы. Ренайя в испуге прижалась к подруге.
— Не бойся, — сказала Эринна, закрывая ее своей рукой. — Это время, может быть, еще ближе, чем предполагает верховный жрец.
Гигантская птица кружила над Парфеноном. Она опускалась, все более и более суживая свои круги, и сложив крылья, села на самом верху фронтона.
— Пойдем, — сказала Эринна, — не надо пугать ее.
Она взяла Ренайю за руку и, направилась к дому верховного жреца.
— Отец, — сказала она, — птица опять прилетела. Это тот самый большой аист с черными крыльями, который возвестил нам о поражении.
Старец с трудом двигался, медленно направляясь к двери, опираясь на руку раба.
— Лептоптилос, — сказал он, — священная птица Гидаспа и великого Нила. Она должна была вернуться… Я ждал ее. Может быть, боги простили нас! Ты будешь наблюдать за ней, — прибавил он, обращаясь к рабу. — Она улетит только завтра на рассвете. Если птица полетит в сторону Фив, боги за нас!
На следующий день птица пробудилась от сна, взмахнула своими огромными крыльями и, покружив несколько минут над храмом, полетела к синей линии холмов, которые виднелись далеко-далеко на северо-западе.
Птица летела к изгнанникам…
— Теперь наш черед, — сказал иерофант. — Позови Ксантиаса. Пусть он завтра же будет в Фивах. Ты скоро увидишь своего мужа, Ренайя…
* * *
Однажды, безлунной ночью, свет показался на берегу моря.
— Это факелы возвращающихся изгнанников, — сказал иерофант. — Идите молиться, дочери мои. Их немного, увы!.. Им нужны наши молитвы. Падите ниц пред Атенайей. Молите деву войны.
Слышны были крики, лязг оружия, колесницы с грохотом катились по улицам. Свет факелов приближался к Афинам.
— Они идут, — воскликнул Ксантиас. — Они уже у ворот. Отец, я тоже пойду сражаться.
— Иди, дитя мое. Час наступил. Возьми с собою храмовую стражу, возьми рабов. Иди, благословляю тебя.
Молодые женщины сидели перед жертвенником. Ренайя положила голову на колени к Эринне, которая устремив глаза перед собой, сидела задумавшись, вспоминая о прошлом, и о том, что, может быть, в эту минуту Конон тоже смотрит на те же самые звезды… Где он? Куда забросила его судьба?
В городе вспыхнули пожары. Зарево кровавого цвета стояло над высокими холмами.
Как-то, уже давно она получила от него одну-единственную весточку. Глиняная дощечка разбилась, и она не могла всего прочесть. Он поступил на службу к великому царю. Он командовал кораблями на далеком неведомом море…
Пламя пожаров разрасталось… Можно было уже различить лязг мечей, слышались стоны раненых… И вот — крики победы! И мольбы о пощаде поверженного врага.
Старый иерофант стоит на ступенях храма, его руки воздеты к небу, он читает благодарственную молитву.
Афины свободны. Да будут благословенны бессмертные боги!
Глава III
Город медленно восстанавливался из руин.
Порыв искренней веры и благодарности собрал у подножья алтарей народ.
Эринна стала верховной жрицей. Иерофантида заменила иерофанта. Перед смертью он призвал к своему изголовью главного архонта и сказал, указывая на жрицу:
— Вот та, которую мудрость богов избрала на мое место. Древний культ эллинов сохранится во всей своей чистоте в ее руках. Я возложу на ее чело священную диадему.
Тщетно пытался отговорить его архонт, ссылаясь на обычаи.
— Я слишком близок к смерти, чтобы спорить, — отвечал старец, — так надо, этого хотят боги.
Он взял золотой обруч, знак достоинства великого иерофанта и возложил его на голову жрицы.
— Не плачь, дочь души моей; не плачь, мое дорогое дитя. Смерть это освобождение. Меня печалит только то, что я покидаю тебя. Сон тела это пробуждение души…
Когда последнее дыхание старца замерло на его устах, Эринна обратилась к собравшимся жрецам:
— Его мысль уже не на земле, — сказала она. — Молитесь за него, молитесь за него, чтобы он нашел успокоение в Гадесе[30].
И все жрецы, каков бы ни был бог, которому они поклонялись, опустились на колени и стали молиться…
Эринне было двадцать пять лет. В ее походке было все величие богов, которым она служила. Потемневшие волосы образовывали вокруг ее лица две тяжелых бронзовых волны. Ее взгляд был пристален и строг. Те, на кого падал этот взгляд, невольно становились смиреннее и почтительней, чувствуя уважение к молодой верховной жрице. И лишь в присутствии детей улыбка озаряла ее лицо. Особенно радовалась иерофантида, когда в храм приходил сын Ренайи. К великой жрице снова возвращалась веселость молодой девушки. Она играла с ребенком, бегала с ним, поднимая его на руки с легкостью, которая удивляла Гиппарха. Ребенок, не осмеливаясь сказать этого, предпочитал своей настоящей матери эту высокую молодую женщину, такую изящную и такую красивую, которая так нежно улыбалась только ему одному. Ему доставляло большое удовольствие присутствовать при церемониях. Он опускался на колени рядом с матерью, где-нибудь в уголке, и видел только жрицу, смотрел только на нее. В вышитой тунике, из-под которой виднелись обнаженные руки, она стояла перед узким треножником. Распущенные волосы, украшенные диадемой рассыпались волнами по плечам. Пурпурный шарф, перекрещивавшийся на бедрах, падал от пояса до земли сверкающими прямыми складками. Она простирала руки над золотым сосудом, наполненным очистительной водой. Трижды она обращалась к Афине с мольбой, трижды хор жрецов повторял ее слова; и это пение, сопровождаемое легким звоном кадильниц, замирало среди глубокой тишины. Затем жрица приближалась к молящимся и кропила освященной водой их склоненные головы. В эти минуты иерофантида казалась ему окруженной ослепительным светом…
Ни один народ не был так чувствителен к внешней красоте, как афиняне. Великая жрица стала олицетворением самой богини: живой Афины Парфенос, такой же молодой, такой же прекрасной. Когда она отправлялась в дом своего отца на колеснице, запряженной белыми лошадьми, которыми правил Ксантиас, все граждане останавливались, приветствуя ее, а однажды даже Диоген, лежавший среди улицы, поднялся, чтобы дать дорогу ее колеснице.
Она принимала деятельное участие в возрождении своего отечества: Афины снова постепенно занимали свое былое положение среди других государств. Философы, поэты, ораторы и артисты снова появились на площадях и под портиками… Собрания снова происходили на Пниксе, и неисправимая толпа, как и прежде, совершала те же самые ошибки…
В шестой раз после окончания войны солнце золотило жатву. Была годовщина того дня, когда в лесах Артемиды Эринна, держа за руку своего жениха, опустилась на колени перед богиней. Целую неделю она не выходила из храма. Жрецы, служители, особенно рабы, любившие ее за ее доброту, знали что каждый год она на один день отправляется на свое благочестивое богомолье. В этот раз она не покинула Акрополя. Ксантийс отправился один. Он возвратился на другой день весь в пыли на колеснице, запряженной другими лошадьми.
Вечером Эринна послала за Гиппархом и Ренайей.
— Конон огибает мыс Суний и будет здесь завтра на восходе солнца. С ним флот великого царя. Завтра двести триер, которые стоят под его командой, войдут в гавань Пирея, — сказала жрица, когда они пришли. — Я знала, что он вернется, что он вернется для Афин.
— Для Афин и для тебя, — добавил Гиппарх.
— Увы! Я — иерофантида! — сказала Эринна, вздыхая.
Глава IV
На следующий день необыкновенное известие распространилось по городу с быстротою молнии.
Конон, бывший стратег, победитель Сестоса, Кимеса и Метимна, прибыл в Пирей с целым флотом. Он просит разрешения высадиться; он предлагает афинянам союз великого царя.
Толпа любопытных, устремившихся к морю, увидела флот Артаксерса. Персидские галеры были больше триер. Это были трехмачтовые суда имевшие с каждого борта по девяносто весел. На верхушке грот-мачты развевался флаг с золотым солнцем посередине. На палубах сновали темнокожие, голые до пояса матросы, они черпали парусиновыми ведрами морскую воду. Все снасти были в порядке, паруса убраны.
Первыми высадились на берег командиры кораблей — персы.
Это были люди высокого роста, в высоких шапках, на которых сверкали драгоценные камни. Одежды их — ярких цветов, вышитые золотом и усеянные жемчугами, доходили до пят. На богато украшенной перевязи висел в ножнах из буйволовой кожи меч с широким, кривым лезвием. За пояс был заткнут кинжал. Обувь с загнутыми носками была расшита разноцветным шелком. Волосы на голове они брили, но зато носили очень длинные бороды, окрашенные в темно-фиолетовый цвет. Они шли с надменным выражением лиц, не глядя на рассматривавших их приниженных афинян, отцы которых некогда побеждали их отцов.
Вслед за ними сошел на берег Конон.
На нем была греческая одежда. Плащ был перекинут через руку. Пурпурный шарф с развевающимися концами опоясывал серебряную кирасу. Ступив на набережную, Конон опустился на колено и поцеловал родную землю.
— Ио, Конон! Ио, Конон, — кричал народ.
Толпа окружила его и приветствуя восторженными криками, подхватила и на руках донесла до колесницы.
Конон снял шлем, и все могли видеть его лицо. Это были все те же энергичные и добрые черты. Только две глубокие морщины перерезали лоб, да серебряные нити показались в темных волосах.
За ним следовал отряд фиванских гоплитов, составлявших его почетную стражу.
Все граждане собрались на агоре. Персы — командиры кораблей выстроились вокруг трибуны. Конон медленно поднялся по ступеням с величественной важностью, подобающей посланнику могущественного царя.
У его ног раскинулись Афины, залитые солнцем, освещавшим крыши храмов и памятников. Ничто не напоминало о былом поражении, кроме остатков долгих стен, осколки которых были рассыпаны по равнине. Его взгляд быстро пробежал по острову Саламину, по голубым берегам Арголиды, сверкающей линии моря, но обнаженным склонам гор, и остановился на Акрополе.
Белые колонны Парфенона и Эректиона сверкали на темном фоне синего неба, словно выточенные из слоновой кости. Копье и шлем Афины отражали солнечные лучи…
Народ терпеливо ждал, пока Конон окончит свою безмолвную молитву…
Наконец, он отвел глаза от Акрополя и окинул взором явившийся на собрание народ. Громким, звучным голосом прочел он предложения Артаксеркса а, когда закончил, все руки взметнулись вверх.
Тогда он поклонился народу, и сделав знак своим гоплитам, не спеша спустился с холма.
* * *
Конон шел по узкой тропинке, которая пролегая через долину, соединяла Пникс с Акрополем. По обе стороны между двумя холмами стояли маленькие домики. Совсем нагие дети играли в пыли, а женщины пряли, сидя на пороге. Собаки провожали его заливистым лаем, а петухи, вскакивая на деревянные ограды, орали во все горло, размахивая крыльями.
Скоро дома остались позади. Перед ним поднимались крутые склоны Акрополя, поросшие чахлыми кустарниками. Конон быстро стал взбираться по крутому подъему. Гоплиты следовали за ним шагах в двадцати. За плечами у них были стальные щиты, горевшие на солнце…
По знаку Конона воины остановились у пропилеев. Он один пошел к храму; короткая тень ложилась у его ног. Когда он поднял глаза, то увидел Эринну, стоявшую между колоннами.
Он увидел диадему и его руки опустились.
— Да!.. Великая иерофантида… — прошептала она.
— О, мое божество! Увидеть тебя более прекрасной, чем когда-либо, и увидеть тебя только за тем, чтобы снова потерять! — воскликнул он, в отчаянии закрывая лицо руками.
— О! скажи, что ты снимешь с себя диадему, скажи мне, что все это исчезнет, как дым… Скажи мне, что меня не напрасно влекла сюда надежда на счастье… — как горячая мольба раздавались эти его слова.
Вдруг он выпрямился.
— Ты думаешь, что я остановлюсь перед этой хрупкой преградой. Что мне до твоей диадемы, до твоей религии, до твоего храма! Вся Персия знает мое имя. Мой флот самый сильный на всех морях. Когда я вхожу во дворец Экбатаны, ударяют в медные гонги, и весь город падает ниц и умолкает. Ты поедешь со мною во дворец Экбатаны! Я совершил такой далекий путь не за тем, чтобы уехать без тебя… Ты простишь меня, когда будешь счастлива!..
— Конон, — возразила спокойно Эринна строгим голосом, — сыны Афин любят свое отечество и чтут своих богов…
И она устремила на него такой взгляд, что под тяжестью его Конон невольно опустился перед нею на колени.
— Я виноват, да, я виноват. Я не стану употреблять насилия. Прости меня. Не осуждай меня… я так люблю тебя. Почему ты отталкиваешь меня?..
Она опустила голову… Ей нужно было время, чтобы овладеть собою и ответить ему твердым, а не дрожащим от волнения голосом.
— Я не отталкиваю тебя, я бедная девушка… я, если хочешь, твоя несчастная сестра…
Уверяю тебя, что сердце мое стремится к тебе. Каждый день, в течение этих долгих лет я думала о тебе. Значит, ты не знаешь сердца женщины! Сколько раз я звала тебя… Как безумно хотелось мне увидеть тебя… Я не могу сказать всего: я иерофантида… я дала клятву. Но неужели ты не видишь… неужели ты не видишь…
Она подняла глаза, слезы блестели на ее длинных ресницах.
— Разве ты не понимаешь, что я называю тебя своим братом, чтобы не броситься в твои объятия!..
— О! — воскликнул Конон, — иди, они ждут тебя! Я унесу тебя в чудесные страны! Мы увезем из Афин только веточку апельсина в цвету. У меня есть воины, чтобы помочь тебе бежать, у меня есть корабли…
— Бежать, — переспросила Эринна. — Ты предлагаешь мне бежать… Нет. Теперь я мох этих камней. Уже шесть лет, как я дала клятву отречения… Я не имела права покидать святого старца, который называл меня своею дочерью… Я не имею права покинуть землю, в которой теперь покоятся его кости, покинуть священный храм, где еще обитает его душа… Я не могу… Я этого не хочу…
Конон опустил все еще раскрытые руки. Он понял, что дальнейшая борьба бесполезна, смутно, как во сне, слышал он, как она говорила:
— Я не хочу, чтобы ты, вспоминая потом, осуждал меня и считал бессердечной и холодной, как мрамор. Молодою девушкой я любила тебя наивной девичьей любовью. Мое сердце было кадильницей, которая изливала свои ароматы только для тебя, а мое тело — тростником, который искал опоры у твоего сильного плеча. Если бы я стала твоей женой, я любила бы тебя еще больше. Я была бы твоей утешительницей в минуты скорби, твоим верным и надежным советником и в минуты сомнения: часто люди, умеющие одерживать победы, оказываются слабыми и приходят в отчаяние от жизненных неудач. Я долго мечтала об этом. Но теперь у меня не осталось ничего из того, о чем я мечтала. Я потеряла тебя: вместо счастья я обрела лишь одиночество…
В эту минуту неясный гул донесся до Акрополя. Послышались крики. Народ требовал Конона.
Один из гоплитов подошел к храму и в нескольких шагах от ступеней выронил копье.
Конон гневно обернулся, его взгляд приковал воина на месте.
— Господин, — пробормотал он, — народ хочет тебя видеть. Он волнуется…
— Этот человек прав, — сказала иерофантида. — Прощай. Во время битвы думай о своем отечестве. С любого из берегов внутреннего моря ты можешь увидеть сверкающее над Олимпом созвездие Ориона. Наши взгляды встретятся на далекой звезде. И, если богам будет угодно, чтобы один из нас раньше времени отправился в Елисейские поля, другой узнает об этом, взглянув на небо. Прощай, — прошептала жрица.
Она простерла руки, благословляя его.
Конон понял этот жест, как призыв: он обнял ее, покрыл ее лицо поцелуями. Она не отстранилась и подставила ему свои горячие губы.
— Неужели это прощание навсегда? — прошептал он.
— Нет, — отвечала она, — только на земле.
Конон спустился со ступеней храма. Взволнованные гоплиты молча следовали за ним. При выходе из пропилеев, он обернулся. Стоя в темном проеме двери, Эринна смотрела ему вслед.
Вечерний ветер покачивал голубоватые верхушки масличных деревьев. Священные птицы бесшумно кружили над Парфеноном. Солнце спускалось к бесконечному морю, его последние лучи угасали на фронтоне бессмертного храма.
Примечания
1
Пропилеи — великолепная колоннада, при входе в Афинский Акрополь.
(обратно)2
Пританы — в древних Афинах, пятьдесят выборных лиц, по очереди председательствующих в суде и в народных собраниях.
(обратно)3
Пникс — место, где проходили народные собрания в древних Афинах, у Акрополя.
(обратно)4
Зевгиты — третий класс афинских граждан по законам Солона.
(обратно)5
Гинекей — женская половина в доме древнего грека.
(обратно)6
Ареопаг — высший уголовный суд в древних Афинах.
(обратно)7
Академия — название рощи близ Афин, где учил Платон.
(обратно)8
Агара — народное собрание в древних Афинах.
(обратно)9
Тесмофорий — в древней Греции, празднество в честь Деметры Тесмофорос (законодательницы), учредительницы гражданского общежития и законного брака.
(обратно)10
Метеки — чужеземцы, селившиеся в древней Аттике, пользовавшиеся охраной местных законов за плату.
(обратно)11
Эфебы — в древней Греции, юноши 16–18 лет, посещавшие школы и состоявшие под началом гимназиарха.
(обратно)12
Архонт — высшее правительственное лицо в Афинской Республике.
(обратно)13
Гномон — солнечные часы с вертикальной стрелкой, по которым древние греки определяли время.
(обратно)14
Опистодом — название сокровищниц в древнегреческих храмах.
(обратно)15
Элизиум — в древнегреческой мифологии — местопребывание праведных, рай.
(обратно)16
Элизиум — в древнегреческой мифологии — местопребывание праведных, рай.
(обратно)17
Экклезия — народное собрание в древних Афинах.
(обратно)18
Иерофант — учитель и толкователь религиозных таинств, жрец.
(обратно)19
Гоплит — тяжело вооруженный пехотинец в древней Греции.
(обратно)20
Пританы — выборные члены суда в древних Афинах.
(обратно)21
Панафинеи — народные празднества у древних афинян, установленные Тезеем в честь богини Афины.
(обратно)22
Анадема — головная повязка древних царей, похожая на митру.
(обратно)23
Пельтаоты — в древнегреческих войсках, солдаты вооруженные щитами и дротиками.
(обратно)24
Илоты — рабы в Спарте, вывезенные из захваченного ими города И л оса.
(обратно)25
Персефона — в греческой мифологии, дочь Зевса и Деметры, похищенная Плутоном. Олицетворение бессмертия души.
(обратно)26
Эреб — бог мрака, в древнегреческой мифологии.
(обратно)27
Наварх — начальник флота у древних греков.
(обратно)28
Елисейские поля, элизиум — местопребывание праведных, рай.
(обратно)29
Олигархия — образ правления, при котором верховная власть принадлежит небольшому числу лиц.
(обратно)30
Гадес — в греческой мифологии — ад, преисподняя, окруженная рекой Стиксом и охраняемая Цербером.
(обратно)
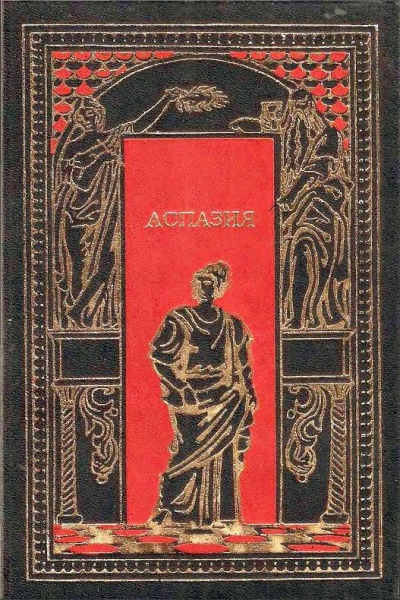

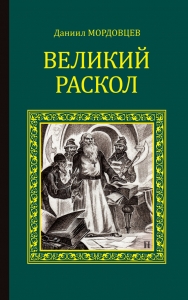



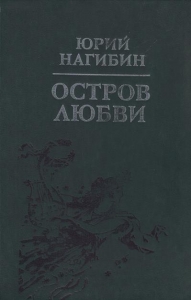



Комментарии к книге «Гетера Лаиса», Эдмон Фрежак
Всего 0 комментариев