Петербургский изгнанник. Книга третья
Глава первая ЗДРАВСТВУЙ, МОСКВА!
«Моё сердце говорит более, чем могут говорить мои уста».
А. Радищев.1
Изнуренные лошади медленно тащили забрызганные грязью, расшатанные и скрипучие возки. Дороги почти не было: её размыли бурные ручьи. Затяжная уральская весна с обильными дождями сделала совсем топкими лесные участки пути. Редкие деревни, что проезжали, принадлежали князю Шаховскому и находились в опеке. Разрушенные дворы и развалившиеся избы, почерневшие от сырости, с гнилыми углами, с окнами, заткнутыми соломой, дополняли неприглядную картину бедности.
Могучий лес стоял ещё обнажённым. Набухшие почки берёз и осин ждали тепла, чтобы выбросить клейкий и пахучий лист. Апрельская земля была бурой от прошлогодней травы и жнивья. Только редкие полоски зеленеющей озими радовали глаз. На заброшенных полях не было видно пахарей и первой чёрной борозды, облепленной грачами: всюду чувствовалось запустенье и безлюдье.
Последние вёрсты до Перми казались особенно утомительными. Встречных подвод, ни казённых, ни ямских, не попадалось. Ямщики с суровыми обветренными лицами, злые на бездорожье, на изнурённых лошадей, на себя и Радищева, которого подрядились везти, могли бы перевесновать в пути, но они сами хотели побыстрее дотянуть до Перми, чтобы увидеть, как будут отчаливать по Каме первые караваны с железом.
Александру Николаевичу тяжело было смотреть на детей, уставших от дорожных неудобств. Он больше всего беспокоился о маленьких — грудном Афонюшке и Феклуше с Анюткой. Но, к счастью, дети чувствовали себя хорошо. Афонюшка довольствовался коровьим молоком из рожка, неумелыми ласками и уходом за ним Катюши с Дуняшей. Смотря на Афонюшку, на его первую улыбку, скользнувшую по румяному и здоровому личику, Радищев невольно думал об Елизавете Васильевне. Иногда ему казалось, что сиротство малолетних детей будет вечным укором: он не сумел сберечь жизнь их матери, вырвать её из рук смерти. Он представлял, как печально детство без материнской ласки: расти без матери — всё равно, что живому на земле быть лишённым солнечного тепла и света.
Была ли в этом его вина перед детьми? Этот вопрос не давал ему покоя в долгие часы пути от Тобольска.
Вины его в смерти Елизаветы Васильевны не было. И если он с больной подругой, не задерживаясь на стоянках, проследовал до Тобольска, то в этом была её воля, вполне разумное решение, принятое ими совместно. Он возлагал все надежды на выздоровление жены в Тобольске: там могла быть и была оказана ей возможная врачебная помощь.
И сейчас, занятый неотступными мыслями о болезни и смерти подруги, Радищев приходил к одному и тому же выводу: видно, предстоит ему переносить удары в жизни один тяжелее другого.
Сосредоточив внимание лишь на прошлом, он острее почувствовал, как нужен ему отдых от всего, что тяготило и угнетало теперь. Быстрее преодолеть бы последние вёрсты пути.
Александр Николаевич не представлял, что ожидает его в Перми. Здесь находился единственный знакомый человек, у которого он мог остановиться с семьёй, — Иван Данилович Прянишников. Радищев знал его по совместной службе в Сенате в первые годы после своего возвращения из Лейпцига в Россию. Это был очень добросовестный человек, больше молчаливый, чем разговорчивый, любивший литературу и изредка печатавшийся в столичных журналах.
В прошлый проезд через Пермь Радищев не искал встречи с Прянишниковым: ему, ехавшему в ссылку, не следовало подчёркивать своё знакомство с людьми, которые при случае могли быть полезными. Теперь такая встреча вполне возможна. Остановиться у Прянишникова ему рекомендовали и тобольские друзья.
Был раньше в Перми ещё один человек, на дружбу которого мог надеяться Радищев. Это Иван Иванович Панаев, писатель по призванию, имевший широкие связи со столичными литераторами и пользовавшийся их горячей поддержкой. Но Панаев год назад умер. Александр Николаевич очень сожалел об его преждевременной смерти. Иван Иванович был искренне расположен к нему. Панаев навестил его в прошлый проезд через Пермь, не побоялся встретиться с государственным преступником. Панаев передал тогда ему деньги и вещи от Александра Романовича Воронцова, полученные губернатором раньше, чем Радищев добрался до Перми.
Иван Иванович поддержал изгнанника морально, приободрил приветливым словом друга, о существовании которого Радищев и не подозревал. Панаев вызвался переслать его письма петербургским знакомым, предлагал свою бескорыстную помощь, и согласись Александр Николаевич тогда, Иван Иванович сдержал бы слово.
Но Радищев не мог обременять Панаева своими просьбами: он боялся навлечь неприятность и немилость властей на тех, кто сочувственно относился к его несчастью.
Вспоминая теперь Панаева, Александр Николаевич искренне жалел его, как хорошего человека. Перед ним словно живой встал рослый мужчина с проседью в волосах, остроумный и весёлый собеседник, привлекающий к себе общительным характером всех, кто с ним встречался.
Застрявшие в грязи повозки и внезапная ругань ямщика отвлекли Александра Николаевича от раздумий.
— Ругань не поможет, — высунувшись из возка, заметил Радищев.
— Эх, барин! Оно може и так. Однако ямщикам без крепкого словца нельзя…
Ямщик прикрикнул на лошадей, сдержав крепкое словцо про себя, пронзительно свистнул, а затем, повернувшись к Радищеву, как бы пояснил:
— Не то, дело не получается, — и скупо ухмыльнулся.
Пермь была на виду. Ямщик облегчённо вздохнул.
— Добрались, кажись…
2
Сорокадвухлетний император Павел, долгое время живший в Гатчине, вступил на престол. Он делал всё наперекор своей матери Екатерине II. Ещё не успело остынуть тело усопшей, как Павел, опираясь на длинную трость — атрибут экипировки гатчинских солдат, провозгласил:
— Я государь ныне!..
К этому торжественному моменту начальником царской канцелярии Трощинским был услужливо заготовлен манифест о восшествии на престол нового императора России. Седьмого ноября 1796 года с раннего утра на улицах столицы появились полосатые караульные будки с часовыми. На площади перед Зимним дворцом император устроил смотр Измайловскому полку и остался недоволен гвардейцами. Офицеры, не сумевшие льстиво улыбнуться Павлу и нарушившие фрунт, тут же были разжалованы и отправлены в Сибирь.
Павловское царствование началось самыми невероятными причудами.
В столицу вступили три батальона гатчинских солдат, одетых в старинную прусскую форму — узкие панталоны, чулки с подвязками и чёрные башмаки. С этими солдатами Павел занимался в Гатчине, находясь при жизни матери на полуопальном положении.
Санкт-Петербург притих. Придворные и вельможи, бывшие при Екатерине II в фаворе, уступили место другим, замеченным и выдвинутым новым императором. Те и другие были объяты страхом. Что могло случиться с каждым из них завтра, они не знали. Поднятый сегодня на недосягаемую высоту, осыпанный царскими милостями и щедротами, назавтра же мог быть ниспровергнут и отправлен в ссылку или заточён в крепость. Павлу, подозрительному и мстительному по характеру человеку, всюду мерещились заговоры и мнимые враги: жуткие картины цареубийств прошлого держали и его самого в постоянном страхе.
Столица России напоминала казарму. По улицам маршировали солдаты с длинными косами. Редкие прохожие — горожане были безмолвны: они опасались за свою судьбу. Павловские драгуны и полицейские то и дело срывали круглые шляпы, срезали полы сюртуков, фраков, шинелей; в этом усматривалась французская крамола.
На столбах и тумбах пестрели декреты об изъятии из употребления некоторых слов и замене их другими. Того, кто по привычке произносил «граждане», хватали. В обиход входило слово «жители». Вместо «отечество» отныне следовало произносить «государство». «Сержанта» называть «унтер-офицером». В нарушении усматривалась революционная зараза, против которой император боролся узурпаторскими методами.
По распоряжению Павла торговцам под страхом наказания предписали стереть с вывесок французское слово «магазин» и намалевать русское «лавка». Российской Академии запрещалось в трудах о течении звёзд пользоваться термином «революция», артистам — употреблять слово «свобода», которое они ставили на своих афишах…
Казалось, страхом и подозрением пропитался даже воздух столицы. Люди боялись разговаривать друг с другом: могли нечаянно произнести запрещённое слово. Всюду шмыгали доносчики. Они выискивали недовольных новыми порядками, вводимыми Павлом, его царскими декретами, расклеенными на уличных тумбах.
Подозрительность и страх распространились всюду, как чума. Зелёные мундиры гатчинцев наводили на всех ужас…
Император не забывал и об опальных литераторах. Подписав милостивейший указ о переводе Радищева из Илимска в Немцово, Павел строжайше наказал князю Куракину:
— Наблюдать за поведением и перепискою..
И сразу же старательно было заведено секретное дело по тайному надзору за Радищевым. Князь Куракин, посвящённый в истинные намерения Павла, докладывал ему подробности, связанные с отъездом писателя из Илимска. Царским именем посылал предписания Калужскому губернатору о том, как лучше вести слежку за помилованным. Немцово относилось к этой губернии.
На очередной аудиенции Куракин, носивший кличку среди придворных «бриллиантового князя», увешанный лентами и позвякивающими орденами, докладывал:
— Высочайшая вашего императорского величества милость о дозволении жить Радищеву в своих деревнях, объявлена…
— А-а? Что-о? Радищев!?
Князь отвечал едва заметным кивком головы, ничего определённого не выражающим, чтобы не совершить ошибки. Маленький ростом, бледный император в больших ботфортах сделал несколько мелких, но быстрых шагов по гладко отполированному паркету. Вся тщедушная фигура Павла, с вздёрнутым носом и отвисшим, будто отяжелевшим подбородком, на мгновение замерла в ожидании.
— Ну-у, что-о?
По мягкой, хотя и грозной нотке, прозвучавшей в повелительном вопросе, князь Куракин понял: можно продолжать доклад. Сощуренные, на выкате глаза его следили за императором.
— Калужскому начальству дано знать от меня на основании высочайшего вашего величества указа…
— Как же?
— Храня глубокую тайну, наведываться к Радищеву тамошнему земскому исправнику…
Павел слегка хихикнул, качнул рукой, лежащей на трости, но тут же снова замер в неподвижной позе.
— О подозрительном немедля доносить, — продолжал Куракин. — Здешнему почтмейстеру распечатывать переписку…
Губы императора дрогнули, брови приподнялись, подбородок опустился. Князь понял: Павел будет возражать.
— Письма не распечатывать, но, собирая их, препровождать в конверте почт-директору Пестелю, которому дать знать доставлять те письма мне…
Снова мелкие и быстрые шаги императора и размеренный скрип его ботфортов. Теперь уже низкий поясной поклон князя Куракина, сопровождаемый тихим звоном орденов, означающий, что всё понято, монаршая воля будет исполнена в точности.
В тот же день папка с секретным делом пополнилась ещё несколькими предписаниями по тайному надзору за писателем.
Радищев, находясь в пути, не знал, сколь тревожна и приглушена была жизнь Санкт-Петербурга, какая тайная слежка готовилась за каждым его шагом в Немцово, хотя подозревал её.
В Пермь дошли лишь первые отзвуки павловского правления. Здесь, как в канун грозы, стояло гнетущее затишье: громовые раскаты были ещё где-то далеко. В Перми верили и не верили всему, что слышали от несчастных, разжалованных и прямо с плац-парадной площади отправленных в Сибирь.
Это были люди в разных чинах и званиях, от рядовых солдат до офицеров-гвардейцев, которым одинаково чужды и ненавистны стали гатчинские порядки. Многие из них не жаловались на свою участь, а высказывали горькую обиду за русскую армию, за фельдмаршала Суворова, приказ об отставке которого был отдан на разводе, как о простом, ничем не выдающемся полководце.
И когда фельдъегери, доставлявшие по губернским правлениям царские повеления, привезли и в Пермь указ об отставке боевого фельдмаршала, Суворов уже находился в ссылке, жил одиноко в обветшалом домике своего поместья Кончанское, затерянного в глуши новгородских лесов.
В Перми Радищев услышал о том, каковы подлинные веяния нового царствования, узнал теневые стороны, скрывавшиеся за громкими манифестами, и торжествами в честь государя Павла. И то приподнятое, обманчивое настроение, пробудившееся в Александре Николаевиче с получением высочайшего рескрипта о помиловании, которое теплилось всё это время в нём, вызывая светлые надежды на жизнь в Немцово, теперь погасло. Стало ясно, что помилование его — это только злая воля Павла, одна из карт, хитро брошенных императором в политической игре при восшествии на престол.
3
В доме Прянишникова Александр Николаевич задержался на несколько дней. Решено было плыть по Каме. Вниз спускались один за другим караваны. Иван Данилович брался устроить вполне приличное передвижение на барке до Нижнего Новгорода.
Прянишников — почти ровесник Радищеву, поражал своей энергичной натурой. Находясь в полном расцвете сил и здоровья, он был доволен собой, своей жизнью и службой: всё ему давалось легко, без сопротивления и трудностей. И если чего побаивался сейчас председатель гражданской палаты, так это отставки, которая в беспокойное Павлово царствование могла произойти сверху совсем неожиданно.
Лицо Ивана Даниловича, в свои сорок пять лет без единой морщинки, сохранило приятную моложавость. Каштановые волосы, всегда аккуратно приглаженные щёткой, не тронула седина; большие и живые глаза не утратили весёлого блеска и придавали лицу Прянишникова выражение нерастраченной молодости и удали.
Иван Данилович одевался изящно. На службе и дома он носил гладко отутюженный кафтан с бархатными отворотами, лишь сильнее оттеняющими белизну пышно собранного платка, повязанного вокруг шеи, и стоячих накрахмаленных воротничков шёлковой рубашки.
Семейство Радищева встретили радушно и окружили заботой. Своим вниманием Прянишников хотел сгладить разницу положений, какая была между ним и Александром Николаевичем. И в самом деле, эта разница положений особенно становилась заметной на фоне богатого прянишниковского дома, его счастливой семьи, не знавшей нужды и тяжёлых переживаний.
Дом Ивана Даниловича был богато обставлен. В зале стояли клавикорды, паркетный пол покрывали ковровые дорожки, стены украшали фламандские картины в тяжёлых багетах, сквозь толстое стекло массивного буфета отливали позолотой саксонские и китайские сервизы и серебро.
Иван Данилович несколько раз пытался подчеркнуть, что дом его — полная чаша всех благ, — результат его честной и добропорядочной службы. И хотя должность председателя гражданской палаты, возглавлявшего верхний земский суд, невольно порождала казнокрадов, ему не нужно было прибегать к взяткам, чтобы разбогатеть.
— Спорные имения обыкновенно так значительны, — говорил он, — и таких огромных цен, что выигравшая по праву сторона всегда за удовольствие считает добровольно приносить подарки… Грешно было бы, Александр Николаевич, отказываться, когда кругом вымогают взятки и бесчестно растаскивают казну.
«Зачем он так говорит о себе», — недоумевал Радищев и вместе с тем чувствовал, что Прянишников говорит искренне. Чистосердечная исповедь радушного хозяина ставила гостя в затруднительное положение. Сказать Прянишникову, что всякое преподношение чуждо его натуре, осуждалось и будет осуждаться им, Александр Николаевич не мог: он не понимал, почему хозяин дома заговорил с ним об этом.
Невольно припомнилось, как он, служа в столичной таможне, тоже мог нажить большое состояние на подарках иноземных и русских купцов, но не только гнушался, а беспощадно обрушивался на тех из них, кто готов был услужить ему. Однажды надсмотрщики таможни поймали русского купца с тайно привезёнными товарами. Купец незамедлительно явился к нему, стал упрашивать, чтобы пропустили его товар, и тут же, угоднически согнувшись, льстиво протянул большой пакет с ассигнациями. Радищев вскипел: вбежавшие на его голос надсмотрщики вытолкали купца из кабинета. Александру Николаевичу и сейчас, много лет спустя, до омерзения противно было вспоминать угодливую рожу и заискивающие слова купца.
Но история на этом не закончилась. Дня через три в дом Радищева приехала жена купца навестить ещё неоправившуюся после родов Аннет. По обычаю, купчиха положила на зубок золотой — дар новорождённому. По уходе её в углу другой комнаты слуги заметили оставленный кулёк, набитый подарками. Даже слуги, знавшие бескорыстие и строгий нрав Александра Николаевича, немедля послали верховую лошадь вслед купчихе и бросили ей кулёк в дрожки.
Многие осуждали Радищева за то, что он не пользовался удобным случаем и не нажил себе хорошего состояния, но никто не смел назвать его казнокрадом, даже самые злые на него люди.
— Не смею осуждать, Иван Данилович, ваших поступков, но что касается меня, то я ярый противник не только взяток, но и всяких частных преподношений по службе…
— Знаю, знаю! — поспешил предупредить Прянишников, — демон корысти не соблазнил вас и тогда, когда предоставлялся случай положить в карман полтора миллиона из каких-то забытых сумм, не значившихся по счетам…
Радищев пожал плечами, и потрёпанный кафтан его смешно приподнялся на ссутулившейся фигуре.
— Случай сей у многих в столице вызвал неодобрение, — пояснил Иван Данилович, — а скорее осуждение, мол, богатство из рук упустил…
— На каждый роток не накинешь платок. Я, Иван Данилович, придерживаюсь своих правил.
Однажды вечером, когда все хлопоты, связанные с дальней дорогой, отлегли, когда Радищев уже знал час и день отъезда, в гостиной собрались старшие члены семьи Прянишникова. За чаем вспомнили общих петербургских и сибирских знакомых. Среди них назвали Ивана Ивановича Панаева. Ещё свежа была в памяти его неожиданная смерть.
Старший Прянишников перекрестился.
— Милейший человек был, — сказал он, — царство ему небесное.
— Да-а! Горячо приверженный отечеству сын! — глубоко вздохнув, поддержал Радищев.
— Тш-ш! Боже вас упаси произносить вслух такие слова, — понизив голос, предупредил Иван Данилович.
— А что?
Тонкие брови Прянишникова сразу вытянулись стрелочками, в глазах появился испуг.
— За-апрещено-о! — ещё тише протянул Иван Данилович. И стараясь объяснить Радищеву, что именно запрещено, доверительно поведал:
— Декрет императорский есть: не говорить приверженность, а употреблять — привязанность или усердие. Отныне заменены, как крамольные, слова — отечество, гражданин, врач, стража, свобода…
Александр Николаевич сначала не мог понять, шутит ли Прянишников или говорит всерьёз. Но лицо Ивана Даниловича, мгновенно преобразившееся из беззаботно-весёлого в расстроенно-испуганное, было красноречивее всего.
— Но, где же здравый смысл?
— Здравый? — переспросил Прянишников и, вдруг поднявшись со стула, подхватил Радищева, направился в свой кабинет. Плотно прикрыв дверь и поудобнее сев в кресло, он сказал:
— Говорят, голова у него умная, но в ней какая-то машинка держится на ниточке: порвётся ниточка, машинка завертится и тут конец уму-разуму…
Александр Николаевич искренне рассмеялся.
— Смех сквозь слёзы, дорогой Александр Николаевич. Блины в печи не так скоро пекутся, как ныне начали печь российские узаконения на жарком очаге подражатели царской воли. Всякий день поспевают новые декреты, учреждения, новые статьи и места… Ныне считают: у двора нет серёдки — либо взлёт, либо гонение…
Радищева ошеломило такое суждение Прянишникова о новом государе, о теневых сторонах его правления, которые пока коснулись верхов, но не дошли ещё до низов. В народе, наоборот, жила какая-то слепая вера в облегчение своего тяжёлого положения, и все тайно ждали его.
Александр Николаевич накануне познакомился с караванным Никитой Афанасьевым. После разговора о предстоящем пути, они перекинулись с этим энергичным человеком словами о житье-бытье. Караванный, как понял Радищев, передавая мужицкие думы, рассуждал:
— Что жизнь наша? Колесо-о! Крутимся. Може, сейчас полегчает. Царь-батюшка пришёл, посулы делает… Дай бог, долго ждали, може дождёмся теперь…
Радищев знал, как обманчивы бывают надежды народа в начале нового царствования. И сейчас, невольно вспомнив этот разговор, Александр Николаевич глубже задумался над откровенным признанием Прянишникова. Ему важно было узнать, что Павел, подписавший рескрипт об его помиловании, ничем не отличался от других государей, по-разному начинавших царствование, и, по-человечески было больно за народ, обманутый напрасными ожиданиями какого-то облегчения для себя. Он понимал, как горько и обидно будет народу, когда самообман обнаружится и как гнилой пень под ногой рухнет их вера в царя.
— Я не забыл об изветах и лютостях прежних лет, — молвил Александр Николаевич, — и не убоюсь сказать теперь: несчастье нас учит быть благоразумными… Чем хуже, тем лучше, Иван Данилович, — повторил он свою излюбленную фразу.
— Не понимаю-с, — выразил недоумение на лице Прянишников.
— Из мучительства рождается вольность.
— Опять вольность! — с огорчением произнёс Прянишников, — когда вы её забудете, хотя бы ради своего личного покоя и благополучия.
— Никогда! Стоял в молодости на сём, на старости не покину…
Александр Николаевич спохватился.
— Завтра в путь, надо и отдохнуть…
Прянишников спросил:
— Не обидел ли я своим словом, а?
— Что обида, Иван Данилович, убеждения наши разные…
Радищев вернулся в гостиную. Пламя свеч, радугой отражавшееся в гранях венецианского зеркала и хрустальных ваз на столе, до боли ударило по глазам. Роскошь и богатство гостиной только резче подчеркнули внутреннее отчуждение, какое почувствовал Александр Николаевич, переступив порог гостеприимного прянишниковского дома.
4
С весной жизнь города перемещалась на берег. Казармы, пустовавшие всю зиму, наполнялись простым людом, собравшимся сюда со всего Урала, чтобы строить барки и коломенки. К началу сплава в Перми скоплялись ватаги ободранных и грязных бурлаков, пропахших потом. Они шли сюда в поисках куска хлеба.
На берегу стояли причалившие обшарканные, старые и новенькие барки, приготовленные к сплаву. Тут же валялись брёвна, кучи пакли, котлы, в которых варилась смола, лестницей сложенный металл, привезённый с железоделательных заводов.
В конце апреля разлилась река и подняла коломенки и барки. Их спустили к местам, удобным для погрузки. На пристанях днём и ночью кипела работа, чтобы успеть пустить караваны полой водой. Дня отчаливания барок ждали нетерпеливо. И теперь, когда погрузка подходила к концу, возле караванной конторы и складов стояла толчея, слышались крики и мужицкая ругань.
Никита Афанасьев появился на берегу за час до отплытия. Сразу же те, кто шёл с его караваном, направились от конторы к баркам. Началось прощанье со знакомыми и родными.
Радищев поместился в специально сколоченной для его семьи будке на одной из барок каравана горнозаводчика Яковлева, нагружённой полосовым железом.
Александр Николаевич внимательно наблюдал за последними приготовлениями. Прянишников также был на барке, давал свои советы, спрашивал, всё ли взято, не забыто ли что-нибудь? Но, кажется, всё необходимое было предусмотрено. Ферапонт Лычков, которому разрешено было проследовать до Нижнего, взял на себя все заботы, связанные с дорогой, и сидел теперь на скамейке возле будки и потягивал трубку. Радищев мельком взглянул на него и понял — всё в порядке: он верил старому солдату, привязанному всей душой к его семейству. Ферапонт Лычков оказался таким же, по-хозяйски расторопным человеком, как и Степан, оставшийся в Илимске.
— Не извольте беспокоиться, Иван Данилович, — отвечал Радищев, — Ферапонт — душа человек, всё сделал…
На берегу становилось всё шумнее и оживлённее. И в этом пёстром, разноголосом шуме выделялся голос караванного Никиты Афанасьева. Он весело смеялся с бурлаками, словно подбадривал шутками тех, кто трусил и шёл в плавание впервые. Ему помогали лоцманы — бывалые люди на Каме, известные удалью и находчивостью. Всем им для храбрости было преподнесено Яковлевым по чарке водки.
Когда всё оказалось готово к отплытию, Афанасьев взошёл на флагманскую барку. Он легко вскочил на скамейку.
— Молись богу! — и, сняв порыжевшую шляпу, широко перекрестился сам, обратившись лицом на восток.
— Оталива-ай! — крикнул он, соскочил со скамейки и сошёл с барки. Место его тотчас же занял вёрткий лоцман. Отвязали канаты и флагманская барка, подхваченная течением реки, пошла, направляемая рулевым на середину Камы.
— Отвалили, — вытирая пот шляпой, сказал Афанасьев и направился к другой барке, поджидавшей своего отвала.
Александр Николаевич, наблюдавший за караванным, с восхищением отозвался о нём.
— Бывалый в сём деле человек, — поддержал Прянишников.
Ферапонт Лычков, тоже следивший за Афанасьевым, добавил:
— Видать, мастак…
В последний момент, когда и вторая барка была готова к отчаливанию и караванный собирался отдать команду, на берегу возник шум. Протискиваясь сквозь толпу, появился унтер-офицер с женщиной, обвешанной узелками.
— Дьявол тебя возьми! — неизвестно на кого ворчал охрипшим, словно деревянным голосом унтер-офицер, вбегая на мостки, переброшенные с берега на барку.
— Чуть было не опоздал, — вытирая треуголкой пот, сказал он и снял из-за плеч туго набитый вещевой мешок.
— Шагать бы тебе с бабой вдоль берега, — небрежно бросил Афанасьев, — и командовать ей ать-два, ать-два.
Раздался дружный хохот. Сплавщики поддержали шутку своего караванного. Радищев присмотрелся и признал что-то знакомое в равнодушно чёрством лице унтер-офицера. Голос, лишённый живых человеческих ноток, показался тоже где-то слышанным, но где?
— Где-то встречался с ним, — указал в сторону унтер-офицера Александр Николаевич, — а где не помню.
— С унтер-офицером-то? — переспросил Прянишников. — Известный в своём роде человек, — и усмехнулся, — сопровождает ссыльных по этапу. — И, не заметив изменения в лице Радищева, Прянишников протянул руку.
— Счастливого пути, Александр Николаевич.
— Благодарю за всё, Иван Данилович, — сердечно отозвался Радищев.
Прянишников ещё раз крепко пожал его руку, сошёл с барки и задержался на пристани.
Послышалась команда караванного. Затем её повторил лоцман по прозвищу Рябой, и барка, освобождённая от канатов, стала неуклюже разворачивать нос и, подхваченная течением, отходить от берега.
Александр Николаевич припомнил унтер-офицера. Он сопровождал и его по этапу от Перми до Тобольска семь лет назад. Сразу перед глазами Радищева ясно всплыли теперь уже далёкие дни. Унтер-офицер, всю дорогу молчавший, впервые промолвил слово лишь при виде Тобольска. Александр Николаевич, обрадованный тем, что услышал человеческий голос, с сочувствием спросил унтер-офицера об его жизни, но в ответ услышал: — «По артикулу не положено говорить с ссыльным».
Ограниченность унтер-офицера, его тупость были смешны и странны. Как он не узнал его сразу по охрипшему голосу, лишённому живой интонации, скорее схожему с деревянным звуком! Воспоминания, вызванные встречей с унтер-офицером, подняли в нём чувство прежней обиды и горечи, тяжёлые и досадные в эту минуту.
Барку уже вынесло на середину реки. Радищев взглянул на берег, чтобы ещё раз увидеть Прянишникова, но в сгрудившейся на пристани толпе его уже трудно было различить: там всё слилось в сплошную безликую массу.
Барка плыла, полностью отдавшись течению Камы, с той скоростью, с какой её несла вода, и пристань с городом всё отходили дальше и дальше. Радищев, чтобы освободиться от мыслей об унтер-офицере, стал наблюдать за караванным.
Никита Афанасьев ходил по барке уверенными, твёрдыми, хозяйскими шагами. Внешне он был человеком внушительным: широкая грудь, жилистые руки и вся его крепко сложенная фигура подчёркивали в нём физическую силу.
Афанасьев и в самом деле был опытный сплавщик. Он спускался по Каме не впервые. Рослый, лет сорока, с открытым и добрым лицом, с русыми волосами, он был по-простому красив и смел. Он славился на Каме как большой мастер своего дела и гордился этим.
Афанасьев подошёл к Радищеву, сидевшему на скамейке рядом с Лычковым.
— Сызмальства на воде, привык к реке, как к бабе, — с добродушной прямотой сказал он и посмотрел из-под своей руки вдаль.
— Хлёстко пошли. Полая вода тянет, что откормленный конь…
Помолчал, словно собираясь с мыслями, и спокойно, чуть мечтательно, начал:
— Смотришь на неё, на водичку-то, бежит и бежит она, как человек, что живёт…
Никита Афанасьев любил порассуждать о реке в минуты, когда у него «на душе играло». А причиной такому приподнятому состоянию было то, что караван отчалил без причуд, дружно пошёл, значит, дружно и придёт. Примета такая есть среди сплавщиков.
— Что бежит она вечно, — продолжал он, — хорошо! Ветер и тот стихает, вроде как бы устаёт, а река всё идёт и идёт, как живая. На душе, когда на воде, такая лёгкость всегда…
Александр Николаевич с глубоким наслаждением слушал этого широкогрудого человека, захваченный душевностью его разговора. Он поддался настроению караванного.
Радищеву стало легче, и будто отодвинулись куда-то неприятные воспоминания.
— Душа песни просит. Не скомандовать ли, чтоб спели, а? — вдруг спросил Никита Афанасьев и, не дожидаясь, что скажет Радищев, зычно крикнул:
— Рябой!
— Ась! — отозвался лоцман.
— Затяни-ка душещипательную.
— Во рту пересохло…
— Ну-ну, не дури! Чарку после дам…
И по тому, как говорил и как обращался со всеми Никита Афанасьев, Радищев понял, что умел тот держать себя, как караванный между сплавщиками, показывая им, что он на голову выше их и в то же время мог быть равным с ними.
И Рябой присел на чурку, обвёл всех хитрыми глазёнками, чуть прищуренными, и затянул приятным звучным голосом старую уральскую песню про тяжёлую бабью долю.
Поклонюсь-ко я, Помолюсь-ко я Красну солнышку, Лику радости. Поклонюсь-ко я, Помолюсь-ко я Бледну месяцу, Что в поднебесье…Никита Афанасьев тяжело вздохнул, и лёгкая грусть скользнула по его мужественному лицу.
— Эх-ма-а!
Из будки вышли Катюша и Дуняша. Катюша держала на руках Афонюшку, завёрнутого в одеяльце, и легонько покачивала его. Александр Николаевич чуть подвинулся на скамейке и рукой показал дочери, чтобы она села рядом. Дочь присела и передала Афонюшку отцу.
— Видать, сиротинка? — участливо спросил Афанасьев.
— Без матери остался, — не скрывая боли, ответил Радищев.
— Несчастненький…
А Рябой пел.
Помолюсь-ко я, Поклонюсь-ко я Утрей зориньке, Да лазоревой. Не издасся ль мне, Не случится ль мне Обежать вокруг Доли маятной…— Доли маятной! Куда ж от неё денется народ-то, — сказал Афанасьев. — Доля бабья, а мужицкую душу будто калёными щипцами дерёт.
Александр Николаевич вслушивался в песню, в слова её, ложившиеся на сердце неизбывной болью. Проголосый напев и звучный голос Рябого находили отзвуки в сердце Радищева, поднимали в нём всё заветное. Он думал — «сколько настоящего человеческого горя вложено в народные песни!»
Катя, тоже поражённая неведомой для неё силой песни, её словами — простыми и задушевными, едва сдерживала слёзы. Чтобы не заплакать, она прижималась к отцу.
Дуняша навалилась плечом на угол будки, была сосредоточенно-задумчива и смотрела вдаль, словно там видела ту картину, ту жизнь, о которой говорилось в песне.
Ферапонт Лычков хмурил брови и тянул, тянул свою трубку, уже давно погасшую, и не замечал, что она не курится.
Одного лишь я И не чаяла. Одного лишь я И не ведала — Не дошли, видать, Те моления…Рябой выводил каждое слово песни отчётливо, словно отпечатывал его на бумаге. Никита Афанасьев, понурив голову, слушал молча и только сопел себе под нос.
С Камы лес по берегам казался плотной, могучей стеной, подпирающей небо. И когда барка, направляемая рулевым, проходила совсем близко к берегу, то от лесных тёмных глубин веяло страхом: так могучи были его дубы, клёны и ясени. И голос Рябого, такой звучный, когда барка находилась по середине реки, здесь, у берега, был приглушён, он будто тонул в дремучей заросли камских лесов.
Рябой тряхнул головой и на предельно сильных мужских тонах закончил:
Изжила я жизнь, Как и все живут, Как и все живут Люди бедные. Доли радостной Не притулилось. И вся жизнь прошла Чёрным горюшком.И эта уральская старая песня, полонившая сердце Радищева, и Кама с лесными берегами, и барка, бегущая по речному приволью, и сплавщики навсегда врезались в память дивной и незабываемой картиной, вырванной из народной жизни.
Ничто в этот первый день пути не оставило в нём такого яркого впечатления, как эта песня, голос Рябого и слова Афанасьева, как бы заключающие песню:
— И будет ли конец доле маятной, а? Доживём ли мы до светлого дня, а? А песня, какая песня-то! Ну, Рябой, вместо чарки две получишь! Сердце на куски песня разрывает…
Караванный метнул острый взгляд вперёд и властно крикнул:
— Право руля держи, Кама-матушка поворот делает…
5
Чем дальше плыли, тем зеленее становился лес по берегам, изумруднее — озими под благодатными лучами солнца. Весна с каждым днём всё ярче и краше принаряжала природу, радуя человека новыми надеждами на урожай, на лучшую жизнь.
Александр Николаевич наблюдал за пробуждением в природе и за жизнью, открывающейся перед ним на Каме. Она была своеобразна — вольная и просторная, хотя и тяжёлая, как на всех русских реках у сплавщиков и бурлаков, неприглядная и забитая у прибрежного населения в вотчинах горнозаводчиков, как во всех российских деревнях. Здесь часто встречались заводские пристани. Над уральскими деревнями и сёлами парила зловещая тень заводчиков, будто ястреб, высматривающий добычу.
Деревни были приписаны то к Воткинским, то к Невьянским заводам. Они принадлежали Голицыным, Шуваловым, Турчаниновым, Шаховским. И Радищев с болью думал, как далеко простёрлась владетельная рука этих именитых фамилий князей и дворян. На Каме почти не было свободных, как в Сибири, деревень, не принадлежащих никому.
Берега полноводной реки открывали Радищеву мир богатых и бедных, угнетённых и угнетателей. С прежней остротой он воспринял эту обычную картину крепостнической России, какую всюду наблюдал до ссылки.
Он присматривался ко всем сплавщикам на барке и мог судить уже о каждом из них. Это были совершенно разные люди, но удивительно похожие друг на друга своей безотрадной судьбой. На вид они выглядели сероватыми, с испитыми, обветренными лицами и вялыми движениями — все душевно искалеченные изнурительным трудом. Они понуро, неохотно отвечали, когда их спрашивали о жизни.
Бородатый старик Савелий обратил особое внимание Радищева. Он не отвечал на вопросы, а лишь помахивал рукой, покрытой ссадинами, и не разговаривал ни с кем на барке. Был он нрава кроткого и изредка, когда всё же отвечал, то растягивал слова и произносил их тоненьким голоском. При этом он приподнимал жиденькие брови высоко на лоб, словно ему было трудно говорить.
По виду сплавщиков Александр Николаевич безошибочно определял, что они пришли на Каму издалека, порядочно пообносились за дорогу и были недовольны всем, что их окружало, на всё смотрели безразлично и тупо. Глядя на них, Радищеву становилось всех их безгранично жалко: их нужда и забитость щемили его сердце, вызывали ноющую боль.
И всё же его тянуло поговорить со сплавщиками. Александр Николаевич расспрашивал:
— Откуда родом-то?
— Дальние мы.
— На заработки пришли?
— Какие заработки, по нужде. Казна пригнала, — сплавщик в коротком, изодранном кафтане из смурого сукна и в войлочной шляпе с низкой тульёй зло сжимал растрескавшиеся тонкие губы.
Никита Афанасьев, стоявший в стороне и внимательно прислушивавшийся к разговору, будто ждал минуты, чтобы сказать:
— Все они запроданы заране, вот и по нужде бредут на Каму…
Он сказал это твёрдо и уверенно, как человек, знающий цену себе и своим словам. Так он покрикивал и на сплавщиков, управляя баркой. Никита смолк, словно до конца выложил всё, что его занимало, и стоял, широко расставив крепкие ноги, и смотрел куда-то вдаль. Вертевшийся возле него бородатый Савелий казался совсем тщедушным и жалким с узкой иссохшей грудью и хлюпкой фигурой на кривых ногах.
Александр Николаевич давно оценил практический и сметливый ум Никиты Афанасьева, любившего в минуты раздумий и отдыха порассказать о себе, послушать песню, всгрустнуть по дому или помечтать о своём привольном житье-бытье.
Прошли Сарапул. Здесь была хлебная пристань. Отсюда барки с зерном направлялись в Пермь, а вниз, на Астрахань, шли с корабельным лесом, жёлтым, как восковые свечи.
Иногда приставали к берегу среди дня. Сплавщики бежали в деревню, чтобы купить молока, яиц, калачик или лепёшку, испечённые наполовину из отрубей. Вместе с ними выходил на берег и Радищев.
Очередная остановка была сделана у села Свиногорья. Тут покупались лодки для караванов. К барке, как только она пристала к берегу, подошёл расходчик из яковлевской конторы — знакомый караванному.
— Ноне воры снова пошаливают, — предупредил он.
— Добрались ничего, — ответил Никита Афанасьев.
— Тут в кабаке бывают, остерегайтесь.
— Нас не тронут. Найдём один язык с ними…
— Язык один, карманы разные.
— Поймём друг дружку…
Разговор этот заинтересовал Радищева. Он сошёл на берег, купил продукты и заглянул в кабак, чтобы посмотреть на воров. Их звали ещё и разбойными людишками. Они наводили страх на хозяев богатых караванов и судов, плававших по Каме и Вятке, Белой и Волге. Народ воров не страшился, зная, что они были связаны со смелыми ватагами Емельяна Пугачёва, остатки которых всё ещё бродили по большим рекам, неуловимые для властей, напоминая о своём незавершённом возмездии.
В кабаке Радищев увидел мужиков с мутными, навыкате, глазами, опухшими от водки лицами. Были здесь и сплавщики с барки. Значит, верно говорили, что воры дружат с бурлаками.
Мужики взмахивали мускулистыми руками с широкими натруженными ладонями. Они громко кричали, пытались что-то петь или надрывно хохотали над шуткой и острым словцом, брошенным их товарищем. По отрывкам фраз и слов можно было легко представить, что волновало их души.
Кто-то басил:
— Выше лба уши не растут. Рад бы в рай, ан грехи не пущают.
— А ты, Кузька, барину их на шею как хомут набрось…
Хохот заглушал слова. В другом углу мужик с лохматой головой, наклонясь к соседу, спрашивал:
— Что слышно, братец хватец?
— Давеча расходчик баял, караван богатый идёт, — отвечал голос, надтреснутый и властный.
— Башка плоха, но моя, оторви её — другой на базаре не купишь, — снова возвышался басок.
— Э-эх! Кузька-а! — сокрушался его сосед с властным голосом. — Боек ты на язык, боек на дела, а толку-то что из твоей храбрости?
А Кузька продолжал своё.
— Богатые и знатные всегда меж собой свои, а мы не живём — горе мыкаем…
— Э-эх! Кузька-а! Куда ни кинь, везде клин. У твоего барина-то на дворе собаки борзые, а холопы босые. Ты лапотками трясёшь, а на боженьку всё надеешься…
— Надеемся.
— Надейся, Кузька, — ехидно звучал голос, — а по мне господь-то на нас всех страшную планиду послал. Гнетёт нас налогами, сосёт нашу кровушку та планида, Кузька, — и с гневом продолжал, крепко ругнувшись. — Работаем день и ночь, Кузька, а всё на их, на боженьку и барина. Они же последний кусок отнимают. Ложимся со слезами и встаём глаза от них протираем. А они — боженька и барин — бесчувственные. Одно знают: палки и плети. Сулятся спину мягче брюха сделать. Кумекай, теперь, Кузька…
Кто-то затянул песню, полную угроз.
Мы-ы дво-оря-ян-го-оспо-од На ве-рё-воч-ки-и, Мы-ы поо-пов даа яярыг На-а ошей-нички-и-и… Мы-ы че-есны-ых люде-ей Да-а на во-олюшку-у-у…Певца грубо прервали:
— Без песен рот тесен…
Радищев почувствовал, насколько прав он был, когда в своём «Путешествии» говорил дворянину — бойся мужика, идущего в кабак, в нём всё накалено до предела. Достаточно искры, и взрыв народного возмездия уничтожит в пламени огня усадьбы, вскинет на шею петлю и вздёрнет ненавистного помещика на ворота. Приступ гнева охватил Радищева, но он старался умерить своё неровное дыхание, приостановить гулкие удары сердца.
Александр Николаевич возвратился на барку задумчивый и подавленный. Он не спал до утренней зари не потому, что боялся, как другие, появления воров, а оттого, что всю ночь размышлял над превратностями горемычной судьбы русского народа.
Не здесь ли на Каме и Волге, чаще всего поднимались народные бунты, от маленькой искры гнева вспыхивали восстания, потрясавшие своей силой спокойствие самодержавия?
Барка отвалила на восходе солнца, но, проплыв немного, стала на якорь близ высокого берега из плитняка, недалеко от села Амары.
Идти вперёд было трудно и опасно ввиду разыгравшейся внезапно непогоды: встречный ветер нагнал волны, Кама словно разъярилась и вся вздыбилась.
Сплавщики вышли на берег и скучились на площадке, где некогда был разбойничий стан. В яме сохранился выложенный из плитняка очаг со следами копоти, залоснившейся от времени.
Невольно разговор возник о тех, теперь уже давних днях крестьянского восстания, повторение которых было так же неизбежно в России, как смена дня и ночи.
Надрывно свистел ветер в береговых скалах, неистово шумела Кама, а на площадке бывшего разбойничьего стана с давно остывшим очагом, в затишье Никита Афанасьев рассказывал повесть о разбойнике Иване Фадееве, мучившем дворян и помещиков за то, что они бесчеловечно истязали своих крестьян. Караванный сидел на камне и неторопливо вёл рассказ. Изредка он высекал кресалом искру из кремня, окуривал всех приятным дымком, затем степенно, не спеша, закладывал тлеющий трут в трубку, придавливал его пожелтевшим пальцем и с наслаждением глубоко затягивался, выпуская изо рта густые клубы.
Слушали Афанасьева внимательно, затаив дыхание. Да и как было не слушать его! Караванный говорил о разбойнике Фадееве, заступившемся за воспитанницу барина, который начинал притеснять девицу-красавицу с белым лицом, будто умытым утренней росой. Разбойник вызволял из беды солдатскую вдову, обогревал круглого сироту, помогал встать на ноги бедному мужику. Не разбойником рисовался Иван Фадеев воображению слушателей, а добрым другом несчастных.
Унтер-офицер сидел в сторонке ото всех и ленивым взглядом наблюдал за людьми, собравшимися вокруг караванного. Он походил в эту минуту на сытого ястреба, которого тянуло ко сну после еды. Возле унтер-офицера стояла его жена, одетая в кубовый сарафан, в ярком платке, наброшенном на голову. Она с интересом вслушивалась в то, что рассказывал караванный, и не отрывала от него глаз.
Катюша, Дуняша и Павлик гуляли с маленькими поодаль от всех. Радищев, посматривая за детьми, слушал простое по содержанию, но покоряющее жизненной правдой повествование. Он многое подмечал со свойственной ему наблюдательностью. От него не ускользнули томительные и тайно завистливые взгляды жены унтер-офицера на Никиту и особая теплота и звонкость голоса Афанасьева, будто предназначенные для этой красивой женщины, искавшей себе совсем иного по складу и характеру человека, чем её муж. Он думал о том, как странно иногда складывается жизнь людей, брак которых освящён церковью.
А Никита Афанасьев повествовал, что однажды Иван Фадеев, приехав помочь мужику, был подкараулен, но сумел уйти от стражников, дав большие деньга мужику за то, что тот поджёг свой дом, а в поднявшейся суматохе Фадееву удалось бежать от преследователей.
— Заковать того мужика в кандалы надо бы и закатать в Сибирь, — нарушив молчание, сказал унтер-офицер.
— Но-но-о! — пригрозил Никита Афанасьев. — Кандалами и Сибирью не стращай, цепная собака, народ-то ноне не пужливый: кандалы рвёт и бежит, а своё на уме держит… Правильно говорю, ребятушки?
— Знамо! — отозвалось несколько голосов.
— На всех кандалов не хватит, железа мало, — вставил с явной издевкой лоцман Рябой.
— Вникай, унтер! — произнёс караванный и махнул рукой. — Что с ним разговаривать-то, у таких в жилах — рыбья кровь; заместо сердца — чурбан деревянный, — и сплюнул со злобой.
Радищев заметил, как вспыхнуло лицо жены равнодушно сидевшего унтер-офицера. И выражение лица женщины показывало, что она не разделяла мнения мужа, а, наоборот, осталась довольна караванным, справедливо отчитавшим унтер-офицера.
— Правду-то, правду-то где найти, а? — вдруг спросил бородатый Савелий, понявший по-своему повесть об Иване Фадееве.
— Каждый человек завсегда правду может найти, ежели искать её будет, — не сразу ответил караванный.
В разговор вступил лоцман Рябой. Он шевельнул сросшимися бровями и блеснул серыми глазами.
— На всех правды не хватит, — сказал он. — Думай о себе боле, говаривал мне дед бурлак. Он тоже правды добивался, но, кроме рваных ноздрей и клейма на лбу, ничего не нашёл. На земле правда махонькими дольками затеряна. Проще клад сыскать, нежели её найти.
— Врёшь, Рябой! — сердито прервал его караванный, — не то болтаешь. Правды для всех на свете хватит, — он скосил прищуренный глаз на унтер-офицера, потом перевёл свой взгляд на его жену и громче произнёс, — найти её надо, трудно, но надо! Есть, Рябой, люди, зоркий глаз которых помогает искать народу правду…
— В ночи и зоркий глаз — слепой, — не сдавался Рябой.
— И ночью зоркий — указка нам всем, — продолжал Никита Афанасьев, — ежели знает, в которую сторону идти надо. Ты в лоцманах ходишь, — назидательно подчеркнул караванный, — доведись тебе ночью плыть, дорогу найдёшь по звёздам. Звёзды путь тебе укажут, а коли большая из них скроется, рядом малые появятся, — по ним примечай. Так ночью, а к утру — солнышко твою дорогу осветит…
Радищев был до глубины души потрясён правдивостью и мудростью слов этого сильного мужика, хотел сказать ему об этом и вот так же правдиво поведать о своих думах, но Афанасьев встал и вышел из тесного кружка сплавщиков, сидевших возле очага. Он высек кресалом огонь, задымивший трут прижал пожелтевшим пальцем и опять крепко затянулся.
Задумчивое лицо, широкоплечая фигура Афанасьева были красивы, даже величественны, и Александр Николаевич залюбовался им. Никита игривым взглядом окинул жену унтер-офицера, шаловливо подмигнул ей и направился к барке.
— Кажись, Кама стихает, трогаться дале пора, — он повернул голову к сплавщикам и по-хозяйски крикнул:
— Э-эй, братва! По местам!
6
Трудно и беспокойно было плыть с маленькими детьми, ежеминутно и ежечасно заботиться о них, особенно о грудном Афонюшке, о покашливающих от простуды Феклуше с Анютой. С грустью Александр Николаевич смотрел на берега, утопающие в яркой зелени, залитые солнцем, на серебристые переливы реки. Живо вставала перед ним Елизавета Васильевна, слышался её голос. Он будто вновь чувствовал её угасающий и прощальный взгляд с жизнью.
А природа, селения, людские обычаи, за которыми Радищев наблюдал, — всё было новым в его путешествии по Каме. Он старался забыться, созерцая жизнь вокруг себя. Всюду жили люди со своими болями и горестями, быть может, тяжелее его личных утрат. И когда он думал о них, безымённых людях — крестьянах, сплавщиках, бурлаках, Александру Николаевичу становилось легче: будто отодвигались куда-то его личные горести.
Вокруг него жила Россия, которую он безгранично любил и хотел ещё лучше понять всю её красоту и ощутить всю её мощь и радость собственного бытия. Русь простиралась на тысячи и тысячи вёрст, непостижимая в своём многообразии и необъятности. И Радищев думал о ней и не мог не думать.
На другой день под вечер приплыли в Лаишев — небольшой городок, раскинувшийся почти в устье Камы. Здесь бывали большие стоянки караванов. Несколько лавок, построенных на берегу, в которых торговали приезжие казанские купцы, прямые улицы с маленькими домиками и каменная церковь, возвышающаяся над городом. Таков был Лаишев, наполненный шумом стекающегося сюда народа с караванов и близлежащих деревень.
По соседству с городом расположились селения, где крестьяне промышляли тем, что вытаскивали железо, потопленное с разбитых барок. Они превратили этот тяжёлый и опасный труд в свой постоянный заработок.
Каравану предстояло задержаться здесь дня три по делам конторы. Радищев воспользовался свободным временем и выехал на лошадях в Казань. Там должны были его поджидать посланные из Аблязова повозки и люди, о чём он просил отца ещё в письме из Перми.
Дорога была приятная. Она пролегала то сквозь дремучий лес, где в тёмной зелени дубов росли молодой вяз, клён, берёза, ольха, орешник, то полями ржи, загустевшей после обильной влаги и весеннего тепла.
В государственном селе Покровском, на постое, Александр Николаевич неожиданно повстречался с бухарским посланником, который возвращался из Казани. К удивлению обоих, они признали друг друга.
— Апля Маметов, здравствуй! — первым приветствовал Радищев.
— Ай-яй! Салям, салям, здравствуй! — прижав правую руку к груди и низко склонившись, отвечал бухарский посланник. Он поднял сияющее лицо, обрамлённой бородкой, выбритой наподобие полумесяца, и округлил чёрные глаза.
Они коротко обменялись новостями, как давние знакомые, вспомнили тобольские встречи в доме Сумарокова.
— Бальшой начальник стал, — рассказывал Апля Маметов о себе, — мал-мала слона привёл в подарок новый русский царь ат бухарского хана…
— Дипломатом заделался, в послы вышел, — смеялся добродушно Александр Николаевич. — Кому что суждено на роду, Апля. В каком же чине?
— Чин палковничий, — и он сделал несколько шагов назад, чтобы показать себя в военном мундире.
— Хорош, хорош! — сказал Радищев. — Совет-то мой помнишь?
— Какой савет-та? Савсем забыл, — наивно признался Маметов.
— Сочинение о торге русских с бухарцами написал?
— Ай-яй, забыл! — сокрушённо произнёс бухарский посланник. — Савсем забыл писать… — и поинтересовался. — В столицу едешь?
— Под столицу, — ответил шутливо Радищев и, догадываясь по недоуменному лицу Маметова, что тот не понял его, пояснил. — В свою деревеньку Немцово…
— Ай-яй? Счастливый дарога!
— А ты?
— Жду караван в Бухарию…
— Счастливого пути тебе, Апля!
Заночевав у ямщика, наутро Александр Николаевич был уже в Казани. Дальние родственники Кисловы встретили его радушно, но Радищев был огорчён тем, что аблязовские люди, приезжавшие от отца, не дождались его и уехали обратно. Он думал на первое время, пока не устроится его жизнь в Немцово, отправить, с ними детей к родителям. Теперь ему предстояло продолжать путь с детьми до Москвы.
Странствуя по городу, Радищев с удовольствием осматривал Казань, вспоминал свою встречу с отцом перед сибирской ссылкой. Александр Николаевич заглянул в книжную лавку, пересмотрел литературу, не утерпел, кое-что купил из старых газет и журналов, чтобы перечитать их в дороге.
В ночь Александр Николаевич выехал в Лаишев и утром был на барке. В тот же день караван отчалил и выплыл на Волгу. Кама осталась позади. Начинался наиболее сложный этап пути — предстояло до Нижнего Новгорода подниматься против течения — идти на шестах и тянуть барку бечевой.
Берега Волги сразу раздвинулись. Течение стало менее заметным, чем на Каме, но зато ощутимее могучая грудь реки, нёсшей множество караванов, плотов, коломенок под рогожными и полотняными парусами. Оживлённее были и берега. Чаще в зелени белели господские усадьбы, поднимали купола церкви, встречались остатки древних укреплений — рвы, валы, крепости с бойницами. Эти немые свидетели являлись памятниками ратной славы русских людей, и Радищев, всматриваясь в них, как бы читал летопись Волги.
7
Нижний Новгород — ворота Руси на востоке. Упоительны необъятные дали этого города, легендарна его история, история живой старой Руси с её сильными людьми, умевшими ценить вольницу, любившими красоту жизни.
Вид кремля и города на высоком берегу — твердыни русских на Волге был величав в этот солнечный июньский день конечного пути Радищева на барке, продолжавшегося почти полтора месяца.
Зеркально играла река в утренних лучах, уже свободная от лёгкого, пушистого тумана, открывая свои дали. Левый берег низкий и песчаный терялся в голубой дымке, и казалось, что там Волга совсем безбрежна. Расшивы под парусами и коломенки с барками, гружённые лесом, плыли дальше, на Астрахань. На Волге и Оке всюду видны были рыбацкие лодки, черневшие продолговатыми пятнами на лазуревой глади воды.
Правый берег с причалами, кишел народом. Тут приставали барки и бурлаки подтягивали их бечевой под громкие команды лоцманов, кричавших в берестяные трубы, команды, иногда сдобренной для вескости крепким и ядрёным словцом.
По пристаням вертелись бабы — торговки калачами и блинами, сновали мужики в войлочных и соломенных шляпах с посконными котомками, с топорами за опоясками и с пилами за пледами. Босые, в лаптях или чоботах, они искали для себя отхожие промыслы. Тут были оброчные крестьяне из разорившихся помещичьих усадеб, ясачные татары и сплавщики из беглых с уральских заводов.
Слышались окрики, ругань, хохот и, как тяжёлые вздохи, приговорки бурлаков.
— Ра-аз и два-а взя-яли!
И стону их вторила Волга.
— Я-и, я-и…
От пристани несло запахи гнили и солонины, дёгтя и смолы, которой были пропитаны новенькие лодки, барки и канаты. Рой мух, мошки и речных мотыльков, облеплявших всё своим белёсым цветом, вился и жужжал в свежем воздухе, смешанном с вонью пристани и купецких складов, вытянувшихся длинными рядами вдоль берега.
Рослые, мускулистые бурлаки выгружали купецкие товары с барок, приплывших снизу и сверху реки. Они катали бочёнки с рыбой, таскали кули с мукой и овсом. Загрубелыми руками двое, умеючи и ловко, подхватывали кули, третий, согнувшись, подставлял им спину и, крякнув под тяжестью, быстрыми шагами сбегал по прогибающимся мосткам на пристань. Потная шея грузчика блестела на солнце, как металлическая.
Но весёлые шутки, едкая ругань и какая-то особенная бесшабашность, окающий волжский говорок, слышавшийся всюду, отличали этих жадных до работы людей от сплавщиков. Бурлаки, подгоняемые своими артельными, сами поторапливались, стремясь побольше разгрузить барок с купецким товаром, побольше заработать и получить лишнюю чашку водки от приказчика, за быструю разгрузку.
Над городом, что возвышался над могучей рекой, стояла пыльная завеса, а над Волгой и Окой со свистом, подобно чёрным молниям, проносились стрижи, бесшумно ныряли белые чайки.
А издали, невидимо откуда, доносилась то ли бурлацкая, то ли рыбацкая песня, и от неё, как от Волги, веяло вольным простором. Песня та была стремительна и широка.
Радищев жадно вбирал в себя всю эту многоликую и многообразную, впечатляющую картину русской жизни, внимал всей душой голосу неизвестного певца. Александр Николаевич любил народные песни. Хотелось закрыть глаза и больше ничего не слушать, не чувствовать, кроме песни, а плыть, плыть за ней в бесконечные волжские просторы и голубые дали. Он стоял и тоже без слов, про себя пел…
Быть может, тот, кто пел эту песню, и не думал, что его слушают с таким вниманием и подпевают ему, пел потому, что не мог не петь, ибо всё пело внутри него в ту минуту, всё в нём было полно смысла, вложенного в песню.
Катя с Павликом подошли к отцу. Сынишка взял его за руку, нетерпеливо подёргал.
— Приехали, уже сходить надо…
Александр Николаевич молчаливо погладил по головке Павлика.
— Какая песня, дочь, слышишь, а?
Катюша кивнула головой. Она тоже чувствовала прелесть и задушевность песни.
Барка встала под выгрузку у своего, яковлевского причала, но Никита Афанасьев, прежде чем разгружать её, отпустил сплавщиков погулять в город. Был Иванов день. А в праздник и сам бог велел отдыхать народу: для работы ему по горло хватало и шести дней в неделю.
8
В Нижнем пришлось непредвиденно задержаться почти две недели. Радищев впервые после выезда из Илимска почувствовал своё мнимое помилование государем Павлом. Об этом ему дал понять комендант города, вежливо представившийся, но не сумевший при этом скрыть своего нетерпеливого ожидания гласно помилованного Радищева, за которым устанавливался тайный надзор, как за бывшим государственным преступником.
— Заждались, заждались, — заговорил комендант из старых военных в чине поручика. — Имеем уже не одно предписание…
— Какое? — насторожился Радищев.
— Надлежаще встретить. Известный порядок-с, возвращаетесь из дальних мест…
Радищев почувствовал, как сдавило грудь и кровь в его жилах наполнилась жаром.
— Простая формальность, — продолжал комендант. — Есть предуведомление по начальству…
— О чём ещё? — нетерпеливо вырвалось у Александра Николаевича, строго взглянувшего на коменданта.
— Ознакомлю в присутствии-с…
Сочтя, видимо, официальную сторону разговора оконченной, комендант перешёл на тему, щекотавшую его обывательское любопытство.
— Не читал, но наслышан о книге. Изволили нас, сударь, столбовых дворян, упреждать? Непростительно, сударь, непростительно, — он осуждающе покачал головой, как человек, привыкший высказывать назидание всем, с кем соприкасался по службе.
Радищев нахмурил брови. Он готов был дерзко проучить этого столбового дворянина в военном мундире, но сдержался, понимая, что комендант всего лишь исполнитель воли высшего начальства и сейчас высказывает чьи-то чужие мысли и слова. Оскорблённый и взволнованный, он ничего не ответил коменданту.
В присутствии Радищеву было передано содержание предуведомления, в котором говорилось, что ему предписывается следовать до Москвы без заезда в саратовское имение отца и незамедлительно явиться для ознакомления с особой инструкцией к московскому коменданту.
Стало до простоты ясно, что он прежний изгнанник, сменивший лишь место ссылки. Теперь ему предстоит жить в Немцово так же изолированно, как он жил в Илимском остроге. Он знал, что это будет для него очень мучительно. Здесь, под Москвой, родные и знакомые, с детства места, поблизости товарищи его юности, сослуживцы, родственники, а он попрежнему должен влачить жалкую участь одинокого изгнанника в своём имении, доставшемся ему от отца.
И хотя после разговора с комендантом были обеды и чаи в доме губернатора и то, о чём ему сообщили, больше не затрагивалось из светской деликатности, Александр Николаевич продолжал чувствовать себя в положении изгнанника. С кем бы за это время он ни встречался в Нижнем: с купцом Кабановым, знакомясь с его фабрикой, с чиновниками из канцелярии губернатора, всюду он ловил на себе любопытные взоры, как и семь лет назад, когда ехал в ссылку.
— Видно, я — редкая птица для них… — с досадой произносил он, — редкой птицей и останусь…
Александр Николаевич ходил по городу, вспоминал, как его взяли под стражу. Это тоже было в конце июня. С тех пор семь лет прошло, но ничего не изменилось в его положении ссыльного, разве только то, что нет возле него приставленного со штыком солдата или унтер-офицера.
Радищев старался забыться от тяжких и грустных дум, смирить свою чувствительную душу, вновь терзаемую и уязвлённую. Видно, до конца назначенного срока своей ссылки, как сказано в указе — «десятилетнего безысходного пребывания», а, может быть, и больше он обречён, несмотря на монаршее помилование, испытывать и переживать то, что пережито и испытано было им в первое время после ареста.
Александр Николаевич осмотрел кремль, заглянул в собор, постоял в глубоком раздумье возле гробницы Минина. Он с почтением склонил седую голову перед прахом земского старосты, «мужа рода не славного, но смыслом мудрого», как говорили про него в народе. Опередив мужей из знатного рода, Кузьма Минин бросил клич среди таких же, как он, посадских людей о помощи Московскому государству в тяжёлую его годину, не жалея ни животов своих, ни дворов, ни жён, ни детей. Он первым показал пример, добровольно решась пойти на ратный подвиг во имя спасения русской земли от иноземных: захватчиков, и собрал вокруг себя нижегородское ополчение.
Чувство достойного сына отечества Кузьмы Минина было хорошо знакомо самому Радищеву. В 90-м году он также организовал ополчение, «городовую команду» для защиты столицы от притязаний шведов.
Мужицкому войску, сколоченному Мининым, под водительством прославленного военачальника из обедневших стародубских князей — Пожарского, суждено было вписать в ратную историю России свои замечательные страницы, — освободить Москву от иноземных захватчиков.
— Слава, неувядаемая слава тебе, Кузьма Минин! — прошептал Радищев и ещё раз преклонил колено перед его гробницей.
Охваченный чувством гордости за геройский подвиг простого русского человека, Александр Николаевич с думами о своём народе ещё долго бродил возле кремля. Образ Минина воскресил в его памяти имена других верных сынов России — выходцев из простого люда — Ивана Болотникова, Степана Разина, Ермака Тимофеевича, Емельяна Пугачёва. Их имена также тесно связаны с великими реками, шумевшими у стен нижегородского кремля.
С низовьев Волги поднимались чёрные тучи. Ночью над городом неистово грохотал гром. Прошла освежающая гроза.
Радищеву стало душевно легче. В его мыслях отгремевший гром и затихшая гроза связывались с будущим громом, который должен ещё разразиться над Русью и и пронестись освежающей всенародной грозой. Ради неё стоило жить и бороться. Если не дождётся он этой освежающей бури, её услышат потомки!
9
Начался путь от Нижнего через Владимир на Москву, пересекающий древние русские земли. Ещё в Нижнем Радищева поразили полосатые будки, ворота и заборы. Теперь навстречу бежавшим лошадям надвигалась дорога с такими же полосатыми верстовыми столбами, мостами с деревянными перекладинами, выкрашенными чёрной и белой краской через полоску.
Александр Николаевич, покинувший Нижний с тяжёлым осадком на сердце, с грустью смотрел на это полосатое одеяние Владимирки, по которой попрежнему гнали колодников в Сибирь, и не мог отделаться от предчувствия чего-то ужасного, нависшего, как ему казалось теперь, над всей Россией.
Цвела чахлая рожь. Поля её чередовались с глухими лесами и затерянными в них разорёнными деревеньками, усиливая и без того мрачное настроение Радищева. Чащоба подступала к самой дороге, закрывая её своей густой тенью. И когда повозки въезжали в такие места, Александру Николаевичу становилось совсем жутко. Заметно ощущалась лесная сырость и прохлада с присущими им запахами прели и гниения.
Иногда дорога пролегала деревенской улицей с чёрными покосившимися избами под лохматыми соломенными крышами, с полуразрушенными заборами, над которыми торчали скворешницы на длинных тоже почерневших жердях.
С Мурома настроение Радищева несколько поднялось. Сюда приехал получивший отпуск повидаться со старшим братом Моисей Николаевич. Он служил в Архангельской портовой таможне.
Братья при встрече крепко обнялись. Оба прослезились и чуть всхлипнули.
— Слава богу, добрался, — сказал Моисей Николаевич, вытирая ладонью слёзы. — Чего только не передумали о тебе? Как ты постарел и поседел, брат…
— Измучился до крайности, Моисей.
— Родитель посылал людей в Казань, но они не дождались тебя, вернулись.
— Знаю. Заезжал туда из Лаишева.
Моисей Николаевич, растроганный встречей, всё стоял перед братом, забыв об окружающем, а потом, спохватившись, сказал:
— А племяшки-то мои…
Он расцеловал всех их, начиная с Катюши и кончая грудным Афонюшкой, которого подержал на руках.
И снова крупные слёзы невольно скатились по его чисто выбритым щекам. Братья лишь молча переглянулись, они прекрасно понимали друг друга. Взгляды их говорили, сколь несчастны осиротевшие дети, сколь тяжела участь их отца, столь много пережившего.
В добрых глазах Моисея Николаевича Радищев не уловил ни осуждения, ни укора, а лишь глубокое сочувствие. Он был за это искренне благодарен брату.
Дорога продолжалась. Братья сели в одну повозку. Им хотелось как можно больше узнать о жизни друг друга, рассказать о новостях, но, как бывает всегда при встречах после длительной разлуки, вопросов было так много, что, не успев ответить на один, тот или другой уже хотел расспрашивать о чём-нибудь ином, неожиданно всплывшем при разговоре.
— Как матушка, отец?
— Нетерпеливо ждут тебя, а здоровье всё попрежнему…
— Заехать-то без разрешения нельзя, — с огорчением говорил Александр Николаевич.
— Уведомлен уже…
Они оба тяжело вздохнули, помолчали.
— Как жить-то думаешь, Александр?
— Ещё не знаю.
— Граф Александр Романович ждёт тебя…
— Заеду, непременно заеду к нему. Предуведомлением запрещено посетить саратовское имение, об Андреевском ничего не сказано, — и горько усмехнулся. — Не знаю, как дотяну до конца. Так надоели все запрещения, что и сказать тебе не могу. Дантов ад, бесконечные пытки души…
— Крепись, Александр, самые тяжкие испытания уже позади.
— Так-то оно так, но тяжело и больно…
Незаметно, в разговорах, добрались до Владимира. Взорам путников открылась пойма Вязьмы, а на горе величественный древний город с царственными соборами — Успенским и Дмитриевским, казённой палатой, белевшими в зелёной гуще лесов.
10
Вокруг Андреевского лежали затерянные в смешанном лесу графские деревеньки — Пески, Степаньково, Филино, Неугодово. Из Ларионовой, кривая улочка которой затенена старыми бархатистыми вётлами, дорога, усыпанная гусиным пухом и перьями, вела в господскую усадьбу через небольшую речку Пекшу, живописно утопающую в тальниковой заросли.
С горбатого моста, высоко вскинувшегося над Пекшей, в тихой воде её, как в зеркале, отражалось голубое небо с пёстрыми облаками, ракитник, склонивший свои ветви к воде. Повозки прогромыхали по мосту, чуть взбежали на взлобье, и за полями благоухающей в цветении гречихи стала видна графская усадьба, обнесённая кирпичным забором с железными решётками сверху. За ним в зелени лип гордо поднялся золочёный купол церкви, горевший на фоне небесной синевы под лучами полуденного солнца.
Как только повозки миновали каретник, вся дворня забегала и засуетилась.
— Приехали, приехали! — слышались отовсюду голоса, и Радищев понял, что здесь нетерпеливо ждали его появления.
С учащённым биением сердца Александр Николаевич вылез из повозки и быстрым шагом направился навстречу графу Воронцову, появившемуся на парадном крыльце дворца в изящном камзоле, белых панталонах, чулках до колена и в лаковых туфлях с большими бронзовыми пряжками.
Александр Романович был по-домашнему без парика. Он с почтением протянул руки подошедшему Радищеву, затем дружески обхватил его и крепко прижал. Глаза обоих стали влажными.
Услышав от Радищева, что он намерен сегодня же продолжать путь, Воронцов не то что удивился, а скорее обиделся.
— Не отпущу! Как можно спешить с отъездом после столь продолжительной разлуки?
— Заезд мой в Андреевское — негласный, Александр Романович. Я слишком дорожу вашим честным именем, чтобы причинить неприятности.
— Глупости! Я понимаю, нет хуже положения человека поднадзорного, — с досадой произнёс Воронцов. — Всюду аргусов глаз стражи преследует и настораживает…
— Низко поступать со мной — их право, — с горечью сказал Александр Николаевич.
— Но всё же, мой друг, я готов взять долю неприятностей на себя, ежели сей шаг не осложнит твоего положения, хотя и знаю, что досада и злоключение из-за минуты делают неприятным весь год…
В глазах Воронцова была доброта, а в голосе звучала готовность принять на себя всю вину за невольную задержку Радищева в Андреевском.
— А пока словами сыт не будешь. Освежитесь после дороги и прошу к столу, — обратился Александр Романович к братьям и, улыбнувшись, скрылся за застеклённой дверью…
Дуняша с Катюшей и со всеми маленькими были обласканы прислугой Воронцова — помыты, переодеты, накормлены и теперь прогуливались и играли в парке.
В столовой, где кроме Радищевых и Александра Романовича, никого не было, текла дружеская и откровенная беседа.
Воронцов был приветлив и оживлён. Он чувствовал себя хорошо, непринуждённо, был весел и разговорчив. Внешний налёт английской холодности, знакомый Александру Николаевичу по встречам с графом до сибирской ссылки, словно исчез. Александр Романович, коренастый и круглоплечий, казался слишком подвижным для своего возраста. В его голосе и манере держаться чувствовалась простота русской натуры. Умные глаза графа светились неподдельным теплом: Воронцов с приездом Радищева был настроен задушевно и искренне.
— Сказывай, как жил, как жить думаешь?
Александр Николаевич рассказал о сибирском житье-бытье, о встречах с людьми, о смерти Рубановской, а когда надо было говорить о том, как же он будет жить в Немцово, Радищев лишь пожал плечами.
— Право я ещё не знаю, Александр Романович.
— А знать надобно.
— В деянии — жизнь моя, а беды мои — в страданиях за народ.
— Нет беды за правду страдать, — сказал Воронцов, — переносить неприятности лишь в тяжесть.
— Поведайте о себе, Александр Романович.
— Как знаешь, в 94 году ушёл в отставку, — сказал граф. — Жизнь столицы и все пороки двора так надоели, мой друг, что, не переселись в деревню, я бы скоро впал в гипохондрию. Почувствовал: для меня наступило время удалиться, дабы соблюсти правила честности и совести, и я предпочёл выехать в Андреевское. Суетность всего столь наскучила, что я оставил службу и, должен сказать, нашёл здесь выгодное для себя убежище со стороны морального удовольствия. Дела было много, лени не поддавался — строил большой дом, деятельно занимался хозяйством. Первые годы уединения скрашивал мне друг мой Лафермьер, — голос Воронцова заметно дрогнул, чёрные ресницы задрожали. — Год назад я утратил отраду моей души, лишился сердечного товарища…
Боль утраты, связанная со смертью Лафермьера — француза, пострадавшего в своё время за приверженность, оказанную им императрице Марии Фёдоровне в горькие дни её великокняжества, была ещё свежа. Братья чувствовали это, видя, как граф старается заглушить воспоминания о Лафермьере. О необычайной дружбе с ним Воронцова они знали давно. Опальный француз нашёл в доме графа убежище. Александр Романович высоко оценил в Лафермьере редкие способности и достоинства человека учёного и культурного, а тот в свою очередь, искренне благодарный Воронцову, привязался к нему, оказался полезным ценными советами по созданию и содержанию редкостной оранжереи, составлявшей гордость графа.
Воронцов, преодолев воспоминания о своём друге, продолжал:
— Павел вызывал меня ко двору. Но кому охота ставить ногу на вертящееся колесо? Благоразумнее в Андреевском, чем в столице…
Моисей Николаевич то наблюдал за выражением лица брата, то следил за Воронцовым, несколько удивлённый его откровенностью. Он понимал графа: тот говорил с удовольствием. Видно, наскучило ему жить одному в Андреевском, быть лишь с самим собою да с книгами, после деятельной и шумной жизни в столице, где он был постоянно окружён обществом и обременён государственными обязанностями.
Брат постарел больше, чем он предполагал. Глубокие морщины прорезали его лоб, пролегли на впалых щеках, но глаза попрежнему были внимательными и пытливыми. Во взгляде брата он улавливал что-то новое — неизбывную грусть и задумчивость.
Граф разоткровенничался с Радищевыми.
— Павел назвал себя первым русским дворянином, знатнейшим членом государства, а дворянство — своей подпорой. Хорошие слова! Он стал щедрее своей матери: Екатерины II раздавать казённых крестьян и деревни. Скажу, раздача земель помещикам сперва обрадовала многих, но когда увидели, что сегодня он давал деревни, а завтра ссылал в заточение, первое делал без заслуг, а второе — без вины, то цена милостям и щедротам его была сразу понята и всякому лестнее казалось быть забытым…
Граф передохнул, посмотрел на братьев и, почувствовав, что они слушают внимательно, продолжал:
— Он думал уменьшить раздачей деревень опасность народных смятений. А потомки Пугачёва напомнили о себе. У князей Голицыных и Апраксиных взбунтовались тысячи мужиков, и генерал-фельдмаршалу Репнину пришлось смирить их пушками…
Александр Николаевич вспомнил недавний рассказ караванного о разбойнике Иване Фадееве и разговор, услышанный им в кабаке. «Не только говорят, но и действуют», — подумал он, и радость за восставших крестьян наполнила его сердце.
— Тягостно слышать, — сказал он, — о горе народном. Пушками подавляют, а за что? Поток, заграждённый в стремлении своём, всегда сильнее становится…
— Расправа не смиряет, а озлобляет, — согласился Воронцов, — но послушайте меня. К пальбам из пушек понадобился закон о трёхдневной барщине. О-о! — Александр Романович поднял указательный палец. — В чём оказалась сила. Закон! Нужен закон. А кто вершит их теперь? Генерал-прокурор! Недаром земля слухом полнится: будто Павел ему сказал: «Ты да я, я да ты — одни будем дела делать». Так не может утверждать государь, называющий себя первым русским дворянином! Россия должна быть ограждена от произвола монарха. Вот о чём толкуют ныне московские дворяне меж собою, хотя и молчат в собраниях.
— Павел столько же щедр в дарах и милостях, сколько злобен во взысканиях и мщении, — сказал Моисей Николаевич.
— Совершенно верно. По сплетням и намуткам бабьим жестоко расправляется с теми, кто ещё вчера им был поднят!
Александр Николаевич был благодарен Воронцову за сказанное новое слово, помогающее понимать шире и глубже окружающую действительность, разбираться в происходящих событиях. Он не знал, что граф Воронцов, кроме справедливого осуждения Павловых порядков по своему убеждению, был ещё и лично зол на государя за его странный характер. Во всяком случае графу, как и многим, было ясно, что на троне сидит деспот, знающий, что приносимое им зло рано или поздно приведёт к мести, и трусливо ждёт её, часто прячась в Михайловском замке, выстроенном с этой целью.
Павел уже дважды предлагал Воронцову пост вице-канцлера, но граф отказывался, упорно живя в Андреевском. И государь дал понять, что недоволен им: он наложил запрещение на имущество брата Воронцова — Семёна Романовича, жившего в Англии.
— Дошло до курьёзов, — продолжал граф, — все генерал-губернаторы при Екатерине имели серебряные сервизы для их возвеличивания. Павел приказал востребовать сервизы ко двору и сперва велел из них сделать какие-то уборы для конной гвардии, потом новая мысль осенила его и то же серебро пошло на латы кавалергардам, которые до того были окованы, что в большие церемонии не могли уже двигаться. Когда и сие наскучит Павлу, он больше ничего не придумает, как всё серебро пустить в новую переделку…
— По городам рыскают фельдъегеря — рассыльщики Павла, — заметил Моисей Николаевич, — нагоняют страх на горожан…
— Павел не любил мать свою и, нанося теперь зло её памяти, заставляет жалеть о ней искренне…
Александр Николаевич вздрогнул: вот где таилась подлинная причина его помилования, как и других изгнанников, возвращённых из крепостей и ссылки под надзор в деревенские уединения!
— Чтобы возвысить Екатерину, надо было родиться Павлу. Он не щадит благородных. Ему потребны рабы, и он наслаждается раболепством вельмож, низводя сильных и возводя истуканов… Что царство ему, суды, истина, законы? Говорят, он встаёт чуть свет, сам разводит на караул, учит отрывисто бросать с руки на руку ружьё. Может ли государь размышлять при сём о пространстве царской должности, всеобъемлющей на такой широкой полосе света, как Россия? Коловратности Павлова царствования, я уверен, будут составлять горькую эпоху в летописях нашего государства…
Воронцов вновь изучающе посмотрел на Александра Николаевича, сидевшего в глубоком раздумье. Он отметил, что волосы его совсем поседели, а глаза, живые и большие, светились неугасшей энергией и умом. Воронцову показалось, что Радищев словно сузился в плечах за годы ссылки, будто высох от горя и поэтому стал выше чем раньше. Александр Романович подумал, что и в несчастье этот человек по-своему счастлив и непреклонно горд: ему не в чем упрекнуть себя — все силы свои, ум, вдохновение он отдавал однажды избранному делу, оставался и останется верен ему. Воронцов читал всё это в непотускневших и выразительных глазах Радищева и возлагал большие надежды на него. Он не смог бы сказать сейчас, даже объяснить самому себе, что это были за надежды, но он верил этому смелому человеку всегда, верит и сейчас в его звезду.
— Я, кажется, чрезмерно увлёкся, — вдруг сказал Воронцов, — но сие наболело и волнует дворянство. — А потом, отвечая на свои мысли о Радищеве, продолжал: — Великое дело и духа великого требует, чтобы попирать все предрассудки, — и мечтательно произнёс: — Горизонт наш ещё не очистился, чтобы воспарило на нём всяческое благо. Друзья, надобно возлюбить отечество превыше страстей, прилепляющихся к человеку, чтобы восторжествовали справедливость и твёрдые законы! Верю, сию благодать, ежели мы не захватим при жизни, то грядущие по нас поколения узрят.
Граф Воронцов встал и предложил братьям прогуляться по парку. Они охотно согласились.
Парк был чудесный. Сосны отливали позолотой под лучами, прорывающимися сквозь плотную крону, слезились смолой. Нежно шумели вершины, а внизу было совершенно тихо: слышалось, как падали, задевая ветки, прошлогодние шишки и, коснувшись дорожки, посыпанной белым песком, подпрыгивали и замирали.
Втроём они шли в один ряд по аллее парка и наслаждались его прохладой, запахами воздуха, густо пропитанного смолой. Разговаривали о предстоящей жизни Александра Николаевича в Немцово. Она волновала их всех. Граф давал советы, просил рассчитывать на его помощь и поддержку, писать ему обо всём откровенно, если позволит новая обстановка, а если нет, то поддерживать с ним письменную связь с оказиями, посылать с поручением своих надёжных людей.
Братья благодарили графа за отеческую заботу. Александр Романович, чуть сердясь, отвечал, что он поступает так из чувства долга и уважения ко всей семье Радищевых, с которой его связывает многолетняя дружба.
— А как же с отъездом-то? — обеспокоенно спросил Воронцов. — Задержитесь на денёк или намерены трогаться?
— Как ни больно расставаться, — ответил Александр Николаевич, — а нужно ехать. Поймите моё положение, Александр Романович, неприятностей не оберёшься…
— Да, да! — с огорчением произнёс граф. — Всюду павловы, то бишь аргусовы глаза стражи…
Они горько усмехнулись и стали возвращаться обратно.
— Проводит вас мой управляющий Посников.
— Захар Николаевич? — спросил Александр Николаевич.
— Да. Ваш большой заступник и почитатель…
— Помнится, я его выручил однажды…
— Долг платежом красен. Такова уж натура русского человека.
11
Александр Николаевич трижды, крест-накрест, по-русски, расцеловался с Воронцовым.
Радищев сел в лёгкие дрожки вместе с Посниковым. Оборачиваясь, он видел, что граф, проводивший их до конца усадьбы, стоял до тех пор, пока они не скрылись за поворотом дороги и не спустились на мост к Пекше.
Александр Николаевич, несмотря на короткое свидание с Воронцовым, чувствовал себя приподнято после разговора с ним. То, что тревожило неясностью и неопределённостью после беседы с Прянишниковым в Перми, теперь прояснилось.
С Посниковым, выглядевшим совсем моложаво в голубом кафтане, приятно было ворошить в памяти давние события.
— А здорово тогда получилось, а?
— Здорово-о! — смеялся Посников.
Глаза его тоже светлоголубые были и теперь доверчивы, как раньше. Он поправил на голове шапочку, какую носили простые люди, но сшитую из тёмного бархата, и голосом, осуждающим себя, проговорил:
— Бежал в Польшу…
И оба они припомнили этот случай в биографии Захара Николаевича. Посников тогда был секретарём Санкт-Петербургской портовой таможни, где служил и Радищев. Это был очень исполнительный и разумный в своём деле человек, снискавший уважение у многих сослуживцев и особенно у Александра Николаевича за честность и добропорядочность, его прилежание, усидчивость и бескорыстное поведение вызвали зависть и даже неприязнь у тех служащих таможни, которые относились к порученному делу недобросовестно и стремились извлечь из него как можно больше пользы для себя. И вот те, кто недолюбливал Посникова, решили вовлечь его в картёжную игру, запутать, а потом и оклеветать. И он по неосторожности и неопытности проиграл казённые деньги. Ему стали внушать о неизбежности суда над ним и советовали бежать. И Посников, приниженный своим поступком, скрылся, оставив после себя записку о причинах бегства.
Радищев угадал подлинные причины заблуждения молодого Посникова и настоял перед директором таможни о его прощении. Были приняты срочные меры к его розыску. Лишь спустя продолжительное время он был обнаружен в Польше. Посников вернулся. После этого случая он старался быть на службе ещё честнее, правдивее и исполнительнее. С тех пор, высоко ценя заступничество Радищева, Захар Николаевич глубоко привязался к нему, а Александр Николаевич в свою очередь проникся чувством дружбы к Посникову.
Когда Радищев был в ссылке, Захар Николаевич всякий раз в разговоре с графом напоминал о нём, отбирал и с любовью упаковывал посылки с книгами и физическими приборами и аккуратно отправлял всё в Сибирь. Теперь они вспомнили ещё многих знакомых по таможне, и то время им обоим казалось прекрасным. Приятно было поговорить о нём теперь, десять лет спустя.
Незаметно пролетели два дня в пути. Чем ближе была Москва, тем чаще появлялись дворцы подмосковных усадеб с парадными колоннадами и фронтонами, статуями и беседками на берегах зеркальных прудов. Последняя стоянка ими была сделана в Новой Деревне. Отсюда до Москвы оставался один перегон, и они выехали на рассвете.
Почти перед самой столицей лежал огромный лесной массив — Измайловский зверинец и место охоты москвичей. Тут же раскинулось богатое имение Разумовских. За ним, к дороге, примыкал заросший пруд, за которым синеющей стеной поднимались зубцы чернолесья.
Нетерпение всё больше и больше охватывало Радищева с приближением к Москве. Древний город открылся его глазам совсем неожиданно, залитый лучами утреннего света. Сердце Александра Николаевича забилось учащённо. Он попросил Посникова сдержать лошадей, соскочил с дрожек и приветствовал столицу.
— Здравствуй, Москва — мать всех городов и народов, владычица дум русских! — произнёс он про себя, любуясь её белокаменными строениями, золотыми луковицами сорока сороков, горевшими на солнце. Ему казалось, нет сейчас ничего краше на свете того, что он видел перед собою. Сердце говорило ему больше, чем могли говорить его уста. И Радищев ещё раз повторил, теперь уже вслух:
— Здравствуй, Москва!
Были ранние обедни, когда повозки въехали в столицу и остановились у Рогожской заставы.
Глава вторая СНОВА НЕВОЛЯ
«Можно закалиться против несчастья».
А. Радищев.1
«…Я наконец чрез пять месяцев путешествия достиг места для пребывания мне назначенного. Сопутница верная моего бедствия, друг мой Елизавета Васильевна — сестра твоя, скончалась в Тобольске. Я истинно могу сказать про себя, что я осиротел. Ах, любезный мой, если можешь верить моему слову, то верь, что я нещастливее себя теперь чувствую, нежели как я был в Илимске. Давно принимался я за перо, чтоб известить вас о сем нещастном для меня приключении, но сил на то не доставало, и если бы случилось тебе увидеть меня в постороннем месте, то ты меня не узнал бы…»
Московский почт-директор Пестель, назначенный на эту должность Павлом, не столь с любопытством, сколь по обязанности, вчитывался в обычное письмо Радищева, полное сердечного излияния, адресованное родственнику Александру Андреевичу Ушакову. И хотя читать чужие откровения было неловко и низко, он ещё не успел привыкнуть к этому, но служба повелевала, и Пестель, закрыв на защёлку дверь своего кабинета, старался в точности исполнить предписание вице-канцлера князя Куракина, ибо знал, что этим исполняется секретный указ императора о тайном наблюдении за Радищевым.
Радищев ещё не прибыл в Немцово, но вся слежка за ним была уже расписана до точности. Калужский губернатор Митусов должен был доставлять письма Радищева в особом конверте на имя Пестеля, а он обязывался аккуратно читать их, направлять копии князю Куракину, а подозрительные из писем пересылать в оригинале.
Почт-директор ещё в марте отписал вице-канцлеру Куракину, что высочайшее соизволение будет им исполнено в точности. И вот только в августе Митусов доставил ему первые письма. Они были адресованы Радищевым своему отцу в Саратов, брату Моисею Николаевичу, графу Воронцову и Александру Ушакову.
Все письма лежали на зелёном поле большого стола распечатанными. Почт-директор Пестель, перечитавший их, сидел задумавшимся и расстроенным. Адресаты были знакомы и ему. Пестель хорошо знал Александра Андреевича Ушакова — псковского губернатора и частенько с ним встречался. Граф Воронцов, как влиятельный человек среди столичного дворянства, был уважаем им.
И когда почт-директор распечатывал письма Радищева, краска стыда невольно залила его лицо. В том, что он воровски заглядывал в души знакомых ему людей, было что-то постыдное и неприятное, оскверняющее честность и человеческое достоинство. Он понимал, как должна быть тяжела и оскорбительна перлюстрация для тех, кто пишет письма и получает их.
Пестелю оказалась не чужда боль Радищева, рассказывающего родным и друзьям о роковой утрате в дороге — смерти Елизаветы Васильевны Рубановской. Видимо, обстановка одиночества в первые дни пребывания в Немцово, неустройство жизни заставляли погружаться этого несчастного человека, в размышления о недавнем горе.
В письме к Воронцову Радищев ещё полнее излагал свою боль, не скрывая от него тоски измученного сердца.
«Потрясённый, переставший быть, так сказать, самим собою вследствие роковой утраты, постигшей меня в Тобольске, я продолжаю следовать за моими воспоминаниями, которые ведут меня путями злосчастья, и питаться лишь печальными и бедственными предметами. Хорошая погода вызывает в моём воображении более весёлые картины, но гроза и дождь, загоняя меня под кровлю и умеряя некоторым образом его полёт, наполняют грустью всё моё существо».
Читая чужие чистосердечные откровения, Пестель представлял Радищева человеком совсем забитым и придавленным ссылкой, навечно искалеченным и призванным покорно доживать последние годы своей жизни в деревенской глуши. Он и в мыслях не допускал, что в Радищеве попрежнему жил вольнолюбивый дух. Коренной москвич, внезапно выдвинувшийся при Павле, Пестель рассуждал, что Радищев ныне сосредоточен в самом себе. В письмах были только описания человеческой душевной боли, ничего в них предосудительного усмотреть было нельзя. Каждая строчка дышала искренней болью. Пестель на минутку расчувствовался и подумал, следовало ли ему снимать с них копии? Но вспомнив, что такова воля императора, почт-директор старательно стал переписывать письма. Не мог в эти часы Пестель даже подумать, что его сын-первенец Павел, которому исполнилось четыре года, позднее захваченный революционной смелостью Радищева, под воздействием его книги, станет одним из организаторов восстания декабристов.
2
Немцово раскинулось на взгорье недалеко от Малоярославца. Оно лежало на Калужском тракте, на берегу небольшой речушки Карижи. Вокруг усадьбы росли тополя, кусты сирени, жёлтой акации, бузины. К небольшой усадьбе примыкал яблоневый сад. Перед стареньким домом поблёскивал маленький пруд, обсаженный курчавыми ветлами, а в отдалении, словно по линейке обрубленная, начиналась роща — богатое грибное место, куда приходили собирать грибы и малоярославецкие жители.
Однако живописное расположение Немцово не могло скрасить того запустения, в каком Радищев нашёл своё имение. Стены старого каменного дома, глядевшего окнами на дорогу, почти развалились. Александр Николаевич вынужден был временно поместиться в амбарушке, соломенная крыша которой протекала в дождливые дни.
Яблони повымерзли, и никто не сделал подсадки молодых деревьев. Забор сада разрушился. Крестьяне растащили его на топливо. Сад был арендован, и доход от него шёл в банк. Немцово также оказалось заложенным в банке, а домашняя утварь и мебель вывезены и проданы Морозовым, управляющим отцовским имением.
Оброк, взимаемый с обедневших крестьян, весь уходил на уплату процентов с заложенного имения, но долги, значившиеся за Радищевым, не уменьшались, а росли. Из банка требовали их уплаты и настаивали на новой продаже пустоши вслед за вырубленными лесами Мурзино и проданными деревеньками Дуркино и Кривской. Отец Николай Афанасьевич, положась на Морозова, который уже нажился на разорении Немцово, распорядился продать пустошь и другие деревеньки, чтобы хоть частично погасить долги.
Александр Николаевич видел мошенничество управляющего, которому доверял отец, но ничего не мог предпринять сам, ибо, не имея чина и лишённый дворянства, он по закону не мог распоряжаться имением.
Радищев не видел никакого выхода, чтобы предупредить дальнейшее разорение немцовского имения. Он писал отцу и умолял его не продавать ни пустоши, ни деревеньки до встречи с ним. Сестру свою Марию Николаевну он также упрашивал не требовать с него уплаты старого долга и, если можно, подождать ещё. Брата Моисея Николаевича просил исхлопотать денег взаймы у Ржевской. Александру Андреевичу Ушакову признавался, что помнит о долге, но расплатиться сейчас с ним не может, ибо дела его в полном расстройстве.
Лишь в письмах к графу Воронцову Александр Николаевич умалчивал о своём бедственном положении, не желая обременять докучными просьбами, боясь окончательно наскучить ими и тем самым потерять его поддержку на более тяжёлый случай. Об этом страшно было думать, но Радищев сознавал, что его бедственное положение приведёт в конце концов к тому, что он вынужден будет обратиться за поддержкой к Воронцову.
За четыре дня, прожитые в Москве, он сделал немногое: по совету брата устроил малолетних детей в пансион. При содействии Посникова произвёл самые необходимые хозяйственные закупки. Получил письма от сыновей, служивших в Малороссийском гренадерском полку, расквартированном в Киеве. Остальное время отняли особые обстоятельства: явки и разговоры с лицами, наставлявшими его в том, что ему милостиво разрешено ныне и что запрещено.
Александр Николаевич в письмах просил сыновей понаведываться к нему. В записке к московскому книготорговцу Рису обратился с просьбой выслать ему труды законоведа Филанджьери, «Элементы химии» Туркруа, а самое главное — «Гамбургскую газету» и «Московские ведомости».
Он хорошо теперь знал, что ему предстоит жить в Немцово, пока не наступит желанный день конца его ссыльной жизни и полной свободы. Александру Николаевичу было ясно, что положение поднадзорного в Немцово много тягостнее, чем ссыльного в Илимске. Там был простор, здесь его сковывали неусыпным тайным надзором.
Отрадные надежды он возлагал на жизнь в Немцово, будучи в Илимске! Теперь всё это рухнуло, как карточный домик, и ему было горько, что он обманулся. В новом своём положении ему следовало искать новые точки опоры, чтобы житейские невзгоды, обрушившиеся на него, не раздавили совсем.
Немцово — родовое имение. Здесь родился его дед Афанасий Прокопьевич — солдат Преображенского полка, дослужившийся до бригадирского чина при Петре Первом. Отправляя сына на службу, мать дала ему на дорогу шесть копеек да суконный кафтан. Участник Полтавской баталии, дед возвратился в Немцово, когда матери его уже не было в живых. Он построил себе каменный дом, а в Малоярославце — соборную церковь, где покоится его прах. Воспоминания о деде солдате Петра Первого были не только приятны Радищеву в эти дни, но и поднимали его фамильную гордость. Они придавали ему силы и указывали на пример его славного предка, достойный подражания.
И вот потекли дни немцовской жизни. Важно было не потерять их ни для труда, ни для жизни. Философский трактат «О человеке, его смертности и бессмертии», написанный в Илимске, лежал в папке среди бумаг, привезённых из Сибири. Ему хотелось видеть его книгой, но он боялся даже помышлять сейчас об издании трактата, не то, что с кем-либо заговорить об этом. И как ни бесцельным казалось ему вновь засесть за стол и писать, писать, он должен был это сделать. Радищев знал, если только начнёт писать, то забудутся унижения, обиды, нужда, смотрящая на него из всех углов дома.
Александр Николаевич не мог жить без дела. Только дело заставляло забыться, давало ему радость и оправдание жизни. И радость та была тем больше и сильнее, чем труднее оказывалось для него дело, требовавшее крайнего напряжения воли и ума. Жизнь для него была в деянии. И всё же первое время он не мог сесть за стол, сосредоточиться на чём-то большом и важном. Он решил привести в порядок своё хозяйство. За месяц, прожитый в Немцово, он успел поставить две избы без крыш, в которых намерен был устроить горницу и свой кабинет. И пока стояла хорошая погода, Александр Николаевич торопился закончить начатую стройку, вести которую ему помогали крестьяне.
3
Отдыхая, Александр Николаевич выходил на большую Калужскую дорогу, обсаженную по обочинам стройными берёзами в год, когда Екатерина совершала своё путешествие на юг, к Потёмкину. По ней мчались пары и тройки почтовых и ямских лошадей, поднимая за собой пыль.
Изредка по дороге шли солдаты, утомлённые длинными переходами, с лицами, обожжёнными ветром и солнцем юга. И стоило ближе всмотреться в солдатские мундиры, пропотевшие и пропылённые, в их стоптанную и избитую обувь, и безошибочно можно было определить, что солдаты прошли сотни вёрст. Ещё свеж был запах порохового дыма недавних боёв на амуниции солдат, принесших славу российскому воинству и оружию в борьбе с Оттоманской Портой.
Иногда по дороге долго тянулись цепочкой несчастные с полубритыми лбами. Скованные кандалами и цепями по нескольку человек, они тяжело шагали, утопая в пыли. На людей, на мир они смотрели со злобой и ненавистью, словно всё, что попадало им на глаза, было причиной их мучений и горя.
Перед Радищевым явственно вставал их дальний путь по многочисленным сибирским этапам, их безотрадная и беспросветная жизнь на солеварнях и рудниках. Ему хотелось встать впереди этой арестантской толпы, бросить призывной клич, который поднял бы их головы и заставил всю их злобу и ненависть обратиться против виновника их бедствий.
Но солдат, что шёл стороной с ружьём на плече, раскатисто гаркнул:
— Эй, барин, посторонись! — и словно обварил его кипятком.
Барин?! Такой же несчастный, как и эти арестанты, но только свободный от кандалов и цепей, не шагающий по этапу, а живущий в своём имении под надзором, не смея сделать шага без разрешения властей.
Подавленный, он возвращался с прогулки и ещё острее чувствовал, как не хватало ему сердечного человека, каким была для него Елизавета Васильевна. Воспоминания о жене с новой силой захватывали его.
Да, Лизанька была для него большим другом в самые трудные годы. Она умела во-время предупредить его желания, сделать так, как ему нравилось и хотелось. Её интересы всегда сосредоточивались на том, что волновало его в жизни. Она всё смелее и смелее пыталась заглянуть в его душу, понять его борьбу, познать его счастье и всё это делала не из простого любопытства и любознательности. Он знал, что Елизавета Васильевна разделяла его взгляды на свободу народа, хотя ещё и поступала не столь по воле разума, сколь по повелению своего всегда чуткого и отзывчивого сердца.
За всё это Радищев любил Рубановскую просто, по-человечески страстно, как любят искренних и преданных друзей. Он чувствовал, что вместе с нею способен выдержать любые испытания судьбы и, не взирая на её суровые удары, серьёзно трудиться над тем, что волновало его горячий ум, что поднимало в нём творческую энергию.
После прогулок в окрестностях Илимска Александр Николаевич наслаждался теплотой и радостью встречи с Елизаветой Васильевной, тем уютом в семье, который она сумела создать в трудных условиях сибирского житья. И от того, что теперь он был одинок и с ним не было любимого друга, и от того, что все мысли его были в такую минуту о Елизавете Васильевне, Радищеву стало ещё тоскливее.
Но Александр Николаевич всегда ловил себя на мысли: имел ли он право расслаблять свою волю, предаваться размышлениям о своей горькой человеческой участи? Нет, он должен чувствовать себя собранным, не сломленным никакими внутренними болями, как бы тяжелы они ни были, всегда быть готовым к борьбе и сопротивлению.
И Радищев встряхивался от своих тяжёлых раздумий. Ему не пристало ослаблять себя, ему ещё нужна энергия, физические и духовные силы для свершения его дел, которые стали призванием всей его так сложно начавшейся жизни.
Александр Николаевич возвращался к размышлениям о судьбах народа. Его не покидала мысль о том, что человек должен всегда к чему-то стремиться, испытывать, как биение сердца, напряжение, с которым он живёт и работает, а без этого и жизнь кажется бесцельной и бессмысленной.
4
В простой одежде — расшитой рубахе с наброшенным на плечи архалуком, в шароварах, вправленных в сапоги, Александр Николаевич вместе с долговязым Трофимом, мужиком-балагуром, устанавливал последние стропила на доме, когда к его двору подъехали лёгкие дрожки. В них сидел человек, на вид лет сорока, в дорожном кафтана и шляпе горожанина.
Приехавший бодро выпрыгнул из дрожек и торопливо направился к стройке. Радищев откинул свисавшие седые волосы и вытер тыльной стороной ладони вспотевший лоб.
— Александр Николаевич, здравствуйте! — услышал он снизу и не сразу узнал в приезжем Царевского, бывшего надзирателя, служившего некогда в таможне под его начальством.
— Александр Алексеевич! — с радостью отозвался он.
— Я, я…
— Какими судьбами?
— Приехал навестить тебя…
Александр Николаевич заспешил и стал спускаться по лестнице. Царевский протянул руки и принял в объятья спрыгнувшего Радищева. Среднего роста, худой, с впалыми щеками и нахмуренным лбом, он был чуть больше сутуловат, чем в их последнюю встречу.
— Не ждал, право слово не ждал, — проговорил Радищев. — Молодец, Александр Алексеевич!
— Ну, как живёшь-то, поведай? — участливо спросил Царевский.
— Жизнь моя нелегка, — Александр Николаевич подозрительно осмотрелся по сторонам, — лещу на сковороде легче, как говорят в народе… Ну, а всё же, каким ветром занесло ко мне, милый?
— Моисея Николаевича повстречал в столице, рассказал о тебе, а тут оказия представилась быть в сих краях, ну вот и завернул к тебе…
— Спасибо, дружище!
Александр Николаевич пожал руку Царевского и пригласил его заглянуть во вновь отстроенный кабинет, в котором лишь накануне были вставлены рамы.
Они вошли в новый дом. На пороге их встретила Катюша.
— Выросла-то как?! — здороваясь с нею, удивился Царевский и, смеясь, добавил: — Теперь кляксы в тетрадочке не посадила бы, а?
Катюша, ответив на приветствие, смутилась. До поездки в Сибирь Царевский обучал её вместе с братьями истории, географии, чистописанию, арифметике и грамматике. И то, что её домашний учитель Александр Алексеевич, которого она тогда побаивалась, неожиданно появился здесь, в Немцово, и вспомнил о кляксе в тетрадочке, заставило Катю смутиться и стыдливо опустить голову, как она это делала в детстве.
— Ба-а! — протянул Царевский, глядя на появившуюся Дуняшу. — Тут ещё одно знакомое лицо! — и учтиво склонил голову. — Здравствуйте!
Дуняша ответила застенчивым поклоном, а Царевский, улыбнувшись ей, прошёл за Радищевым в его ещё неблагоустроенный кабинет.
Здесь всё пахло смолой и свежеоструганным деревом. Они присели на табуретки возле самодельного столика, сколоченного Радищевым. На нём лежали исписанные листы бумаги, несколько номеров «Гамбургской газеты» и «Московских ведомостей» и семитомное сочинение Филанджьери «Наука законодательства».
— Знакомо! — показывая рукой на томики в кожаных переплётах с тиснением, сказал Царевский. — Знакомо…
— Всё там же служишь? — осведомился Александр Николаевич.
— В таможне.
Царевский — старый сослуживец Радищева был по-свойски вхож в его дом в те давние годы их совместной службы в таможне. Разное служебное положение, какое они занимали в то время — один директор таможни, другой — надзиратель при страже, не помешало им сойтись ближе, привязаться друг к другу и, наконец, сдружиться.
Александр Николаевич уважал в Царевском ум и честность. Он считал его незаурядным человеком, каким тот и был в действительности. Происходивший из семьи провинциального священника, Александр Алексеевич без всяких связей и поддержки влиятельных людей, благодаря своей настойчивости и трудолюбию, сумел закончить учительскую гимназию в столице и выбиться на самостоятельную дорогу жизни.
В таможню он пришёл из приказа общественного призрения, имея уже опыт учителя. Он был хорошо знаком с философией и риторикой. Сначала он только обучал грамоте старших детей Радищева, а потом, когда Александр Николаевич проникся к молодому учителю доверием, привлёк его к переписыванию рукописи своей книги для набора.
Царевский не только переписывал рукопись, держал корректуру книги, но когда она была отпечатана, помогал распространять её. После ареста Радищева, Царевского также допрашивали, но он скрыл своё участие в издании «Путешествия из Петербурга в Москву». Суду не удалось вырвать из уст Радищева признания об его сообщниках. «Один отвечает за всё, один представляет жертву закона», — записал тогда ответ Шешковский, допрашивавший Радищева.
— Много воды с той поры утекло, — вздохнув, сказал Царевский.
— Много! — в тон ему ответил Александр Николаевич.
— Теперь бы умнее поступили…
— Умнее.
— Заквас прежний бурлит, а?
— Бурлит, Александр Алексеевич.
Глаза у обоих задорно сверкнули. И хотя они перекидывались короткими фразами, со стороны казавшимися малозначительными, каждое слово для них было полно глубокого смысла, ибо за ним вставала жизнь, полная напряжений воли и ума.
— Привёз тебе подарочек. Не пропали даром труды наши. — Царевский довольно потёр руки, предвкушая, как обрадуется Радищев его подарку.
— Не терзай, дорогой, — взмолился Александр Николаевич.
— То-то! — Царевский запустил руку во внутренний карман кафтана, вытащил книгу Меркеля «Латыши» и протянул её Радищеву.
— Меркель? Какой Меркель?
— Остёр на язык, жёлчи много разлито против баронов и пасторов, утесняющих лифляндское крестьянство…
— Меркель?
Морщины, собравшиеся густым пучком на большом лбу Александра Николаевича, мгновенно расползлись.
— Припомнил, где слышал о нём.
И Радищев рассказал, как тринадцать лет тому назад он вместе с Германом Далем, служившим тогда управляющим таможни, совершал поездку по Лифляндии, знакомился с делами тамошней таможни. Вскоре в тех местах вспыхнуло волнение лифляндского крестьянства. Восставшие требовали свободы. Об этом позднее рассказывал Даль. Он же назвал имя Меркеля, чьи страстные статьи в газетах, касавшиеся лифляндских событий, наделали много шума и внесли испуг в правящие круги.
Александр Николаевич с заметным волнением, перелистал книгу Меркеля и вслух прочитал отчёркнутое карандашом.
«От грустной колыбели до могилы, под железною палкою деспотов, с разгоревшимися и потными лбами, работают на барщине целые народы, великие и прекрасные… Бедные братья, неужели вас создал бог для цепей?»
— С какою скорбью сказано о закрепощении человечества!
— Прекрасно сказано! — воодушевлённо отозвался Радищев. — Такие слова разят подобно стреле, прямо в сердце. Да можно ль говорить о сём без скорби, бесстрастными словами, Александр Алексеевич? Нельзя! Подарок твой дорог, спасибо тебе!
Радищев встал, отложил книгу, на стол и заходил из угла в угол по кабинету, пытаясь привести в порядок свои чувства. Он сжимал пальцы, и это выдавало его возбуждение.
— Расскажи о новостях столичных, пока нам не мешают, — нетерпеливо попросил Александр Николаевич.
— Новостей короб, — лоб Царевского ещё больше нахмурился. Он горячо следил ва внутренними событиями и знал их не только из газет. Он поведал: — Возвращён из заточения Новиков, говорят, прибыл дряхлым и согбенным стариком в разодранном тулупе. Его принял Павел и, якобы, прося прощения за мать, встал перед ним на колени…
И хотя всё это казалось необыкновенным для поведения самодержца, Радищев поверил, что больной Павел мог так поступить, ибо для него не было границ, которые определяли бы его безудержное «великодушие» и неописуемую жестокость поступков. Страшно было то и другое в деспотической личности императора России.
— Игралище властолюбия, — гневно сказал Радищев.
— Всё на изворот, — поддержал Царевский и, слегка склонившись, тише продолжал: — Первые дни двор был просто ужасен. Не было ни придворных, ни чиновника, ни простолюдина, которые бы улыбались. Был заведён порядок выставлять ящик к воротам дворца, в который жалующиеся кидали свои пакеты. Благородный жест! Секретарь потом вынимал пакеты, а затем в газетах объявляли резолюции, большей частью состоящие в отказах. Часто находили пренесносные пасквили на Павла… Вскоре сие было отменено… Да что рассказывать-то! — он отрешённо махнул рукой. — Многие перемены были столь же непонятны, как для нас египетские иероглифы… Всё сие терзает и сосёт внутренность, как змеиное жало… Поговорим о другом. Как живёшь-то, Александр Николаевич? Вижу, нужда ныне твоя сопутница.
— Печаль одна никогда не приходит, всегда с нею есть сотоварищи, — усмехнулся Радищев.
— Горести совокупными силами легче переносятся, — заметил Царевский. — Знаю от Моисея Николаевича, дела твои в расстройстве.
— Спасибо, друг мой, за искреннее сочувствие и радение обо мне.
Они заговорили о накопившихся долгах, о невозможности что-либо сделать Радищеву для восстановления пошатнувшегося безнадзорного немцовского имения.
— Если бы я знал положение здешней деревни, никак бы не назначил её для своего пребывания, — посетовал Радищев.
— Нет безвыходного положения, — заметил Царевский и охотно согласился съездить в Саратовское имение к отцу Радищева, чтобы упросить старика повременить с продажей деревень и найти возможности погасить долги.
— Я знаю нрав батюшки, он откажет…
— Попытка не пытка, — смеясь сказал Царевский. — Ежели ничего не выйдет, напишу кому-нибудь письмо и возьму деньги под вексель.
— Зачем обременять тебя!
— Не говори! За долг почту оказать тебе поддержку.
Александр Николаевич хотел высказать благодарность, но Царевский решительным жестом предупредил:
— Не надо. Не обижай, — и спросил: — Из соседей-то кто бывает или боятся заглядывать?
— Соседей много, но я никого не вижу, — с огорчением отозвался Александр Николаевич. — И то правда, побаиваются встречаться. Следят тут за мной денно и нощно.
Со двора донёсся разговор и громкий смех долговязого Трофима. Радищев выглянул в окно. Возле дрожек стоял примелькавшийся ему гусар, приставленный малоярославецким земским исправником, чтобы наведываться о поведении Радищева.
— Но, но, не гогочи, лапотник, — донеслись слова, — дело спрашиваю, кто приехал-то? — допытывался гусар.
— Царский вестовой низкий поклон привёз тебе за собачью службу, — с явной издевкой отвечал Трофим и снова зычно гоготал.
— Тьфу, дурак! — гусар грозился кулаком и что-то грубое говорил Трофиму.
— Напомине легок, — с горечью вырвалось у Радищева. — Тайный надзор! — Он криво усмехнулся. — Как надоели сии авгуры, и сказать тебе не могу…
— Да-а! А всё же крепись!
Радищев тяжело вздохнул.
— Я сам свою судьбу направил по трудному пути, — сказал он с той уверенностью, какая только может быть у людей, убеждённых в правоте своего, дела, у людей большой воли и решимости. И Царевский невольно подумал, что Радищев был страждущим человеком, к которому всю жизнь была несправедлива судьба, но глубокая вера в себя и в народ помогала ему и помогает сейчас стоически переносить все беды и несчастья.
— Крепись, а я скачу к твоему батюшке. Жди добрых вестей…
5
Александр Николаевич получил ответ от Ушакова, сообщавшего, что письмо шло до него целый месяц. Ушаков спрашивал, где бы оно могло задержаться? Радищеву стало ясно — письма его просматриваются.
Александр Андреевич писал:
«Содержание письма первоначально порадовало, а в продолжении поразило до бесконечности душу мою. Не так смерть милой моей сестры мне была бы прискорбна, если б она не сопряжена была уже со днями свободы твоей и приближения жизнию с нами…»
Ушаков писал сердечно. Письмо его согревало душу, трогало за живое.
«Верно, мой милый друг, что твоё состояние настоящего времени паче тягостно со всех сторон, — читал Радищев. — Но подкрепи измученное душевное состояние твоё. Помни, что твои дети от бытия твоего зависят. Они ещё не сиры, когда ты существуешь на земле. Им зрение тебя есть лучшая опора в жизни: береги себя, мой друг, для всех нас, приемлющих в тебе участие…
Забудь, что ты должен мне деньгами, а помни, что ты должен мне сбережением своего здоровья. Вот одно, чем заплатить можешь нелестно тебя любящему…»
Читать это письмо было не только отрадно. Каждая строчка ободряла. Радищев был растроган. Зная давно, ещё с юношеских лет, Александра Андреевича, его хорошее отношение к себе, быть может и не следовало напоминать ему о денежном долге. Радищев был уверен, что сводный брат Елизаветы Васильевны, принимавший самое горячее участие в его судьбе, готов взять на себя, если бы это было возможно, все беспокойства, происходящие от долга, лишь бы успокоить его теперь. Их дружба началась много раньше их родства, крепкая дружба, проверенная годами жизни, полной всевозможных испытаний.
Александру Николаевичу было радостно от того, что где-то вдали от него есть родной человек, вполне понимающий его состояние. И это было всего дороже для него, именно теперь.
Ушаков спрашивал, почему он ничего не написал о детях, здоровы ли они? Где ныне старшие сыновья, которых, тот не видел с прошлой зимы? И Александр Николаевич готов был принять это как заслуженный упрёк. Действительно, о младших и старших детях он ничего не написал.
И то, что Ушаков интересовался его детьми, трогало Александра Николаевича. Он продолжал читать сердечные строчки письма:
«Жена моя и ребятишки, обнимая, целуют тебя. А затем и обняв тебя, и милых детей твоих, пребуду с теми ж нелестными чувствами души моей, с коими всегда был и с ними, любя тебя от искреннего сердца, остаюсь на весь мой век, называясь верным другом и братом».
Радищев задумался над письмом и попытался представить, каковы Александр Андреевич, его жена Варвара Петровна, их дети. Почти десять лет он не встречался с ними. Должно быть изменились, постарели, а дети стали уже взрослыми. Как быстротечна жизнь, как незаметно летит время! Ему тоже уже под пятьдесят. Прожито много, пережито того больше, а сделано так мало. Не осуществлено одно, другое, третье.
Александр Николаевич предался раздумьям. Приостановить бы бег времени, сколько полезного и нужного успел бы сделать человек для народа и отечества за свою жизнь! Его потянуло на простор, в поля и лес. Взяв ружьё и пригласив с собою Павлика, Александр Николаевич направился на прогулку.
Первый месяц осени — сентябрь лишь только коснулся зелёного наряда лесов, над которыми спокойна плыли прозрачные и по-летнему лёгкие облака. В воздухе остро пахло спелыми ароматами садов, ощущалось медовое благоухание, слышалось бойкое гуденье пчёл, успевающих снимать последнюю богатую взятку.
Александр Николаевич с Павликом шли мимо сада едва заметной тропкой по направлению к берёзовой роще. Рощу слегка тронул пунцовый цвет — первый загар осени. Они шли неторопливо. Радищев всматривался и вслушивался в жизнь опустевших полей. Над их головами, как маленькие костры, пылали рябины, отягчённые спелыми гроздьями, а выше, в небесной синеве, чертили спирали грачи, готовясь к дальнему перелёту.
Поля были уже убраны. На них не золотели суслоны. Снопы давно были свезены в риги и овины. Лишь на лугах, как боярские шапки, стояли стога сена, и грачиные стаи, то дружно опускались на них, то снова взмывали ввысь и кружились, кружились по синему раздолью, заполняя воздух неугомонным говором.
В лесу было ещё лучше. Ни комаров, ни слепней, ни мошкары. Стройные берёзы словно излучали матовый свет, и так тихо и так покойно было в лесу, что хотелось присесть на пенёк и упиваться этой лесной тишью, этим нежным свечением берёзовых стволов!
Павлик, прихвативший с собой корзинку, как только забрели в глубь рощи, с радостными возгласами стал собирать поздние грибы, красневшие в редкой, но ещё зелёной траве. Невольно его увлечению поддался и Александр Николаевич. Вскоре корзинка была полна, а новые гнёзда грибов, попадавшиеся им, дразнили своей кучностью и ядрёностью.
Александр Николаевич, приятно утомлённый, присел на пенёк и предложил сыну сплести лукошко. Павлик горячо отозвался. Они с часок просидели за весёлой работой и сплели походное, достаточно вместительное лукошко. Так они бродили по роще час, три, четыре. Уставшие и довольные возвратились домой под вечер. Александр Николаевич не сделал ни одного выстрела, но прогулка укрепила в нём душевное удовлетворение, какое пробудило письмо Ушакова.
6
Постройка дома и сарайчика была закончена. Следовало как-то отметить участие в этом деле немцовских крестьян, добровольно изъявивших своё желание оказать ему помощь, и отблагодарить их за это. Александр Николаевич решил сделать праздник: к воскресному дню было сварено пиво, приготовлены скромные угощения — пироги с ягодами и грибами, на базаре в Малоярославце закуплены вяземские пряники. Радищеву помогал во всём Семён — хозяйственный мужик, лет десять назад переселённый сюда из аблязовского имения Николаем Афанасьевичем Радищевым.
Семён нравился Александру Николаевичу своей расторопностью. Радищев полюбил его, как и долговязого Трофима, за простоту в обращении, жизнерадостность и трудолюбие. И Трофим, и Семён безотказно трудились, увлекали за собой других мужиков, рассуждавших так: «Барину-то помочь надо, но работа — не волк, в лес не убежит, что стараться. Был бы ломоть хлеба господского, жбан кваса и день скоротать можно».
Воскресенье выдалось тёплое, солнечное, безветренное. Серебрились в воздухе паутинки, осыпался багряный лист с курчавых вётел, склонившихся над зеркальным прудом. Стояли последние дни чудесной золотой осени.
Столы расставили возле нового дома, накрыли их чистыми скатертями, уставили закусками домашнего приготовления, печёными яблоками, грушами, орехами, изюмом, черносливом. К столу были приглашены все мужики вместе с жёнами, принимавшие участие в постройке дома.
— Спасибо вам, честные люди, за усердие ваше, — угощая пивом своих гостей, говорил Александр Николаевич.
За всех ответил Трофим. Он пришёл в чистой рубахе с самодельной балалайкой и чувствовал себя совсем запросто и по-праздничному. Ему, как и Семёну, льстило внимание, оказываемое Радищевым. За доверие его они оба были готовы сделать впредь всё, что понадобится.
После двух-трёх кружек пива замужние женщины вышли из-за стола. Празднично разодетые — в коротких шерстяных юбках в красную клетку и в рубашках с вышитыми красными нитками рукавами, в понёвах, перетягивающих их талии, они составили кружок и затянули хором:
Уж и чей-от двор на горе стоит, На горе стоит, на всей красоте? Александрин двор, Николаевича.Женщины пели, подперев подбородки правой рукой, за локоть поддерживаемой левой, в такт песне покачиваясь из стороны в сторону.
Уж из той горы три ручья текут, Три ручья текут, три гремучие… Как первой ручей — ключевая вода; А другой ручей — то сладки мёды; А третий ручей — зелено вино.Повязки, покрывающие волосы женщин, украшенные блёстками, причудливо переливались на солнце, сверкая, как дорогие каменья.
Зелено вино Александру пить, Александру Николаевичу; А сладки меды пить боярышням. Ключевой водой-от коней поить, Коней поить, Александра Николаевича.Подальше от женщин стояли, сбившись в кучку, девушки, наблюдая за праздником. Они не принимали участия в общем игрище. Таков был немцовский обычай: когда веселятся взрослые, молодёжь остаётся безучастной. Это бросилось в глаза Радищеву. «В Илимске совсем не так». Ему вспомнились игрища в кубари на реке. Резвились парни, а все илимцы следили за страстной борьбой, развернувшейся на льду, награждали победителя радостными возгласами одобрения, шутками и взрывом весёлого, безудержного смеха. Здесь девушки, сжавшиеся в кучку, робко перешёптывались между собою и глаза их завистливо смотрели на веселящихся замужних женщин. Мужики за столами переговаривались о разных делах.
Семён, подвыпив, решил поведать о своих сокровенных думках.
— Женить сына хочу, Александр Николаевич.
— Доброе дело. А сколь же сыну твоему лет?
— Тринадцатый пошёл с петрова дня…
Александр Николаевич удивлённо посмотрел на Семёна.
— Какой он жених, мальчишка ещё…
Семён важно вытер толстые губы большой ладонью, просто и откровенно сказал:
— Жених-от, верно, молод годками, но девку взрослую в дом возьму. Присмотрел одну, работящая, — и он указал рукой на девушку, стоявшую в кучке. — Вон та, Нюшка, высоконькая и белобрысенькая. Хороша-а!
Радищев даже не посмотрел туда, куда указывал Семён. Он, успевший заметить испорченность нравов, особенно среди молодых немцовских женщин, намеревался поломать обычай женить малолетних пареньков на взрослых девицах. Он глубоко задумывался над тем, как предупредить распущенность молодых женщин, иногда только повенчанных и остающихся на полной свободе после ухода мужей на заработки в город.
— Не токмо советовать, Семён, а запрещаю думать-то тебе о сём. Поди знаешь, какому разврату подвергается молодая женщина, имея мужем своим дитя? Ему нянька ещё нужна. Запрещаю, Семён, слышь, запрещаю…
— Так-то оно так, — согласился Семён, — но в доме нехватка, бьюсь, как рыба в нересте, силёнки мне не хватает, а Нюшка — дочь хозяйского мужика, сама работяга…
— Нет, нет! — категорически запротестовал Радищев. — И не думай.
Семён поскрёб загоревший дочерна затылок. Он остался недоволен ни разговором, затеянным с Александром Николаевичем, ни той решимостью, с какой Радищев осуждал обычай, исстари укоренившийся у них. «По-господски-то оно може и так, а по-мужицки иначе», — подумал Семён. У него сразу испортилось праздничное настроение. Он вылез из-за стола, отошёл в сторонку, присел на завалинку и закурил.
Александр Николаевич заметил перемену в настрое-кии Семёна, но не подал виду. Семён слыл мужиком бойкого ума, и Радищев верил, что слова его как-то подействуют и заставят его призадуматься над сегодняшним разговором. Каких бы трудов и неприятностей ни стоило. Александр Николаевич твёрдо решил поставить на своём — не позволять таких браков в Немцово, осуждать в народе молодых женщин за испорченность их нравов и поощрять тех из них, кто будет отличать себя хорошим поведением или каким-либо подвигом добродетели.
А вокруг продолжалось беззаботное веселье. Трофим сидел на уголке скамейки и, зажав между ног балалайку, бойко ударял по её струнам. Он играл плясовую и сам задорно припевал сильным и приятным голосом, заметно выделяющимся в общем хоре голосов.
Женщины дружно подхватили его напев и пустились в пляс:
Под калинкою, под малинкою, Что под тем шатром, под лазоревым, Спит, почивает добрый молодец.Они пели и оживлённо плясали, прихлопывая в ладоши…
Под калинкою, под малинкою…— Э-эх! Гуляй бабы! — вскрикивал Трофим и ещё задорнее ударял по струнам. Балалайка его неумолчно звенела. Она то заливалась мелкими трелями, когда её струн касался один палец, то лихо гудела, будто охмелевшая и шальная под резкими и сильными ударами всей пятерни Трофима.
Когда балалайка смолкла, неугомонные женщины, любившие попеть и поплясать, затеяли игры. То была народная игра в лунёк с приплясами и с припевками.
Поймал белого лунька, белокрыленького. Ты присядь, присядь, лунёк, присядь, милый животок, Потихохоньку, полегохоньку…Тут две бойкие, раскрасневшиеся женщины сходились вместе на кругу, а другие пели:
Озернися, мой лунёк, озернися, животок, И на девок, и на баб, и на маленьких ребят. Обоймися, мой лунёк, обоймися, животок.И женщины в кругу, улыбаясь, показно обнимались, а остальные продолжали петь:
Ты привстань, привстань, лунёк, привстань, милый животок…А со стороны с прежней завистью смотрели на веселящихся девушки, не смеющие принять участие в игрище. Александру Николаевичу было жаль приунывших девушек, но он не решился нарушить установившегося обычая, хотя и не находил в нём ничего предосудительного. Он подозвал к себе Катю с Дуняшей и шепнул им, чтобы они взяли со стола тарелки с пряниками, орехами, яблоками и угостили молодёжь.
Праздник удался. Радищев, видя, что все остались довольны, тоже впервые испытал чувство неподдельной радости в своём немцовском уединении. Он был благодарен простым людям, принесшим ему эту радость своими незатейливыми играми и весельем, отражающим душу русского человека.
7
После солнечных дней октября наступило бездорожное время холодного ненастья. «Ни колесу, ни полозу хода» — говорят в народе и исстари называют ноябрь месяцем-грязником. Радищев не любил это время года — самое хмурое и пасмурное, навевающее мрачное настроение, время, считающееся сумерками года: проглянет тусклый день и снова темным-темно.
Во второй половине ноября пронеслись первые пороши, прошумели первые вьюги и лишь к концу месяца установился санный путь. Всё это время Александр Николаевич находился дома. Он мало читал и почти совсем не писал, исключая писем к друзьям и родным. Моментами было так же тоскливо на сердце, как неприглядно-тускло в природе. «Как мглисто на душе, как безотрадно», — вздыхал он. И настроение его ещё больше омрачали бесцветные, подслеповатые дни, непроглядно тёмные ноябрьские ночи.
Даже в такое бездорожное время немцовский дом не забывали то сержанты, то гусары, то подозрительные странники — эти неусыпные посланцы калужской и малоярославецкой властей, нёсшие строгий надзор за «помилованным». Радищев узнавал этих тайных пришельцев сразу, как только они переступали порог его дома, повсюду шарили глазами, обращались к нему со странными вопросами или просьбами. Странникам он велел подавать милостыню, сержантам и гусарам с издевкой отвечал:
— Веду себя тише травы, ниже воды. Так и доложите начальству, судари, — и уходил от них в дальнюю комнату, закрывая за собой дверь. Через два года истекал срок его ссылки, назначенный рескриптом Екатерины II, и Александр Николаевич надеялся, что сержанты, гусары и подосланные странники перестанут глумиться над его личностью, оскорблять своим посещением. Как осточертела ему неотступная царская слежка! Александр Николаевич решительно ничего не делал, никуда не выезжал и, стало быть, не давал никакого повода властям вести за ним слежку.
Единственно, что он мог и что делал в эти дни мрачного настроения, — писал письма. Но он знал, что их также старательно просматривают, и не мог сказать в них ничего, волновавшего его душу.
«Зачем писать, зачем нагонять тоску хотя бы на мгновение на других?» — спрашивал себя Александр Николаевич и, если писал письма, то прежде всего старался всячески сдержать себя и не дать просочиться в письма своему настроению.
Но всё же жёлчь прорывалась и с пера его невольно срывалась правда о его самочувствии. Он сообщал Воронцову, что у него теперь есть все основания быть более весёлым, нежели раньше, благодаря великодушию милостивого государя. Злая ирония, высказанная им, конечно, будет уловлена Александром Романовичем, но глубокого смысла написанного не поймёт недремлющее око — московский почт-директор Пестель.
Однажды вечером Александр Николаевич сидел у чайного стола с детьми и беседовал с ними о прочитанных книгах. Павлик увлекался морскими путешествиями и с жадностью прочитал присланную книгопродавцом Рисом первую часть путешествия в южную половину земного шара английских судов под начальством капитана Кука, а Катюша с Дуняшей — описание фейерверка, данного в Санкт-Петербурге на Царицынском лугу первого сентября 1796 года.
Павлик восторженно сказал:
— Я обязательно буду моряком и пропутешествую по всему земному шару.
— А мне бы хотелось побывать на Царицынском лугу, взглянуть хотя бы одним глазком на зелёные огни и фонтаны, — мечтательно произнесла Катя.
— А мне хотелось бы, — вдруг вставила Дуняша, — чтобы вся жизнь была красивой и всегда радостной…
Дуняша за эти годы совсем расцвела. Она не мыслила себя теперь вне семьи Радищевых. После смерти Елизаветы Васильевны девушка стала заметно молчаливее. Все радости и горести Радищевых она переживала как свои. С Катюшей она держалась, как старшая сестра с младшей, но уважала в ней прежде всего дочь Александра Николаевича. И по праву старшей иногда поправляла её, смотрела на жизнь глубже и серьёзнее.
Александр Николаевич с интересом слушал их откровения.
— Всё сбудется в жизни, как мечтаете, мои дорогие, — заговорил он, — ибо исполнение желаний зависит прежде всего от вас самих. — И спросил по очереди у детей, для чего нужно им исполнение их желаний.
— Чтобы принести пользу человечеству, — не задумываясь, бойко ответил Павлик.
Катя с Дуняшей улыбнулись, от души рассмеялся и Александр Николаевич. Не желая обидеть лучшие порывы юного гражданина, он поощрительно отозвался о намерении Павлика.
— А как думает Катюша?
— Тысячи ракет, фонтаны, — великолепное зрелище, — оказала дочь. — Я ничего подобного не видела ещё в жизни! Зрелище фейерверка не морское путешествие, — она вдруг запнулась и с огорчением добавила, — оно не может принести пользу человечеству…
— Принесёт, Катя, ежели оно будет услаждать вкусы народные, а не служить только удовольствию пресыщенных вельмож. — И Радищев рассказал детям о горькой судьбе придворного иллюминатора и декоратора Кулибина, талант которого загубили всевозможные устройства фитильных огней, ракет, пиротехнических машин, устраиваемых для развлечения царского двора.
Неожиданно на крыльце послышались шаги и тотчас же в дверях появились два молодых военных человека.
— Опять гусары? — вставая из-за стола, с горечью сказал Радищев и хотел удалиться в комнату, но не успел сделать и шага, как был уже в объятиях старших сыновей, приехавших повидать своего отца после семилетней разлуки.
Удивлению и радости не было предела. Сыновья были в гусарских доломанах с накинутыми на опашь ментиками, в туго обтягивающих рейтузах и коротких сапожках. С ними в дом будто ворвался свежий ветер: сами они дышали здоровьем, молодостью, красотой, были восторженно приподняты встречей с родными и возвращением в отчий дом после казарменной и лагерной жизни в Киеве.
Александр Николаевич смотрел на сыновей и не верил своим глазам, что они перед ним сейчас, наяву, а не в воображении, живые, радостные, и он слышит их голос, чувствует их объятия.
— Николай, Василий! — счастливо и умилённо говорил Радищев. — Какая радость! Утешители мои! — Слёзы текли по его щекам, и он снова, обняв сыновей, прижимал их к своей груди.
— Да что ж мы стоим, ничего не делаем, — вдруг спохватился Александр Николаевич.
— А что делать-то? — молодцевато развёл руками Василий.
— К столу, немедля к столу. В дороге, небось, застыли? Морозно! Чайку, горячего чайку…
— Чайку горячего хорошо, папаша, — немного сиплым голосом сказал опять Василий, — но я не отказался бы и от чашечки винца, — и рассмеялся, довольный тем, что он теперь совсем взрослый и может с отцом говорить и о вине.
— Дорога зимняя, дальняя, — поддержал Николай, — от Калуги скакали без остановок…
— Да, да, красного вина! — несколько растерянно, словно захваченный врасплох, проговорил Радищев.
Пока Катюша с Дуняшей возились с самоваром, подогревали его и заново накрывали стол, Николай с Василием обошли дом, с любопытством осмотрели немногие отцовские книги. Павлик не отставал от братьев. Он успел примерить ментик, сползавший с его плеч, но ему казалось, что гусарская верхняя куртка, отделанная золочёным шнуром, сшита на него.
Старшие сыновья с интересом рассматривали домашние предметы, спрашивали то об одном, то о другом и, если на их вопросы не успевал отвечать Александр Николаевич, всё ещё любовавшийся Николаем и Василием, отвечал Павлик. Он хотел, чтобы братья обратили на него внимание и заговорили с ним. Он мог бы порадовать их своими познаниями в области путешествий и рассказать о плавании капитана Кука к таинственным островитянам.
Получилось так, что за столом главенствовали сначала старшие сыновья, особенно после выпитых двух чашек красного вина. Василий говорил, что хочет выйти в отставку, что его тяготит павловская муштра, что служить в армии теперь, после Суворова, стало трудно и невыносимо.
— Ах, папаша, граф Суворов — само олицетворение спартанского генерала. Армия не знает более достойного в разуме фельдмаршала.
— А Фёдор Ушаков — бич турок и гроза Оттоманской Порты?
— То флотский человек, а среди армейских нет равных Суворову. Он никогда не отступал ни на один шаг, он сотворен по образцу Цезарей и Александров… Говорят, отставной полковник, бывший адъютант графа Суворова, организовал тайный кружок из недовольных павловскими распорядками в армии…
— Дай бог успеха сему кружку, — с большой радостью проговорил Александр Николаевич и возвратился к мысли о Суворове.
— Сказывают, скромен и прост он в своей приватной жизни, — заметил Николай, — непрестанно находится в действии.
Александр Николаевич слушал сыновей и удивлялся, как они выросли, возмужали. Из других источников ему было известно, что поведение их было отличным и Радищевы считались одними из лучших офицеров полка.
— Значит, твёрдо решаешь, Василий, выйти в отставку? — спросил отец, больше всего обеспокоенный этой стороной жизни сына. — И ты, Николай, тоже?
— Я уже отставлен, папенька, в чине подпоручика…
— Вот как! — искренне удивился Александр Николаевич.
— У меня склонности совсем иные. Хочу избрать себе поприще любителя словесности. Упражнял ум свой переводами и сочинениями…
— Так, так! Ново и неожиданно для меня.
— По вашим стопам хочу пойти, папенька.
Катя влюблённо следила за старшими братьями. Дуняша вслушивалась в разговор и радовалась тому, как повзрослели братья за время разлуки.
Николай и Василий пытались в беседе с отцом полнее раскрыть свои взгляды на жизнь, обрисовать перед ним свою будущую деятельность. Оба они вспомнили с благодарностью графа Воронцова, много внимания уделившего их воспитанию, и им было приятно об этом рассказать отцу. Вступив в службу, они не переставали приобретать знания, помогающие быть им полезными сынами отечества. Этому всячески содействовал и Воронцов.
— Граф Александр Романович был нашим покровителем, — сказал Николай, а Василий добавил, что он и сейчас не оставляет их своим вниманием.
— На то были и мои советы и пожелания, — сказал Александр Николаевич и ещё раз подтвердил, что их сердца должны быть полны благодарности к графу Воронцову, оказывающему поддержку всей их семье. Радищев радовался за старших сыновей. Наставления его и графа, как видно, пошли впрок. Сыновьями он остался доволен и теперь горячо желал, чтобы они с неостывшим рвением попрежнему тянулись к просвещению, благу и славе России. Как счастлив был бы он, если бы сыновья пошли по его стопам и нашли там своё призвание. Александр Николаевич призывал их и к трудолюбию.
— Древнейшие мудрецы учили — праздность мать всех пороков и несходна с трудолюбием. Помните, награждения достойны лишь общественные добродетели, человека воспитывает жизнь, обстоятельства делают гражданина, — и предупреждал сыновей, чтобы они на своём однажды избранном пути никогда не отступали. — Единожды смирившись, человек навсегда делается калекою…
Сыновья слушали отца внимательно. Это было его живое слово и воздействовало оно на молодой ум значительно сильнее, чем нравоучительные письма и сочинения. Перед ними был не только их родной отец, но и убелённый сединой человек, умудрённый опытом благородной жизни. И житейские советы его рождали у впечатлительных молодых людей новые мысли, будили в них новые действия. Свежая сила ума, исходившая от отца, помогала глубже понять их будущую деятельность.
8
После двухнедельного пребывания старшие сыновья снова уехали в Киев оформлять свою отставку.
Александр Николаевич проводил их до Калуги. Воспользовавшись случаем, он навестил своего лейпцигского друга Сергея Янова и прожил у него два дня. Желание его свидеться с другом сбылось. Но недаром говорят, что человек подвержен переменам. Так случилось и с Яновым.
Все лучшие качества, за которые Радищев любил Сергея, — независимый нрав, крепкий ум и смелость взгляда, отличавшие его от других лейпцигских друзей, теперь все эти качества были утрачены. Со временем они будто завяли в нём, как картофельная ботва глубокой осенью.
Может быть, от прежнего Янова остались только добрые глаза, но и те, казалось, утратили прежнюю восторженность и задор. То, о чём он когда-то говорил с жаром, сейчас произносил вяло, как старик, проживший долгую жизнь и уставший от неё.
— Я знаю, Александр, пока людей продают как скот, правда не может восторжествовать, разговоры о свободе — пустые мечтания…
— Надо бороться, а не складывать оружия.
— Печальный твой опыт разве не учит, к чему может привести такая борьба…
Сергей Янов на минуту смолк, собираясь с мыслями, которые полнее объяснили бы Радищеву, почему он отступил от прежних юношеских идеалов, почему ушёл в сторону от той опасной дороги, на которой остался его друг, не сломленный сибирской ссылкой и немцовским уединением. Радищев сидел перед ним, как грозный судья его совести, и говорить о себе было тем труднее, что он понимал — от проницательного ума друга не ускользнёт ничего. Янов никогда не кривил душой ни перед кем и сейчас не станет кривить, как бы ни было ему больно.
— Раньше я думал, что обязательно найду путь, а теперь его не вижу. Казни меня, Александр, с прежней горячностью казни, но не вижу пути…
Янов тяжело вздохнул. Он взял трубку с янтарным наконечником, закурил, распространяя приятный запах табака. Он выпускал клубы дыма через прямой нос с резко обозначенными ноздрями.
Радищев никогда не видел и не помнил таким беспомощным своего приятеля, сколько его знал. И в то же время сознавал, что Янов говорит правду, понимал его. Слушая друга, он думал: «Не каждому на роду суждено видеть дальние горизонты, скрытые от других». Сергей, такой искренний и откровенный сейчас, покорял Радищева своей сердечностью. Ему хотелось сказать Янову, что, смалодушничав однажды в жизни, он расплачивался теперь за это, мучаясь своим поступком. Но Радищев не сказал этого, а продолжал слушать.
— Ты, другое дело, Александр. Ты приверженный к борьбе человек. Ты рождён борцом и, видать, умрёшь им. Я же обыкновенный человек. Я всегда завидовал твоей крепкой упрямой воле, а мне её не хватало с лейпцигских лет…
Радищев, возбуждённый и взволнованный, шагал перед прежним другом, о котором до последней минуты сохранялось совсем иное представление. Он знал отзывчивость Сергея, его прямоту. Что он мог теперь сказать Янову, открывшему перед ним свою душу? Он сознавал, что Янов попрежнему умён и деятелен, умеет разбираться в людях. Он с успехом мог занять новую высоту, определяемую табелем о рантах, но павлово царствование загнало Янова в деревню и человек будто захирел…
— Ты, наверное, слышал печальную историю с бригадиром Рахманиновым? Невинно пострадал человек, а повод, каков повод был к его мытарствам и тасканию по судам?
Янов стал рассказывать о громком деле тамбовского помещика, отставного бригадира Ивана Рахманинова, вознамерившегося в своей козловской типографии отпечатать сочинения Вольтера без разрешения цензуры и властей.
— Верный человек сказывал мне, будто Рахманинов лишь перепечатывал Вольтеровы сочинения с ранее вышедших изданий в типографии Шнора, кои уже цензуровались в Санкт-Петербурге…
Радищев, мельком слышавший о судебной волоките с бригадиром Рахманиновым, теперь как-то заново воспринял рассказ о нём из уст Янова. Ему казалось, тот хотел оправдать себя, рассказывая историю с бригадиром Рахманиновым.
— Дело его было приутихло, затасканное волокитою по судам, но вдруг сгорела Козловская типография, прошёл слушок, якобы Вольтеровы сочинения, опечатанные городничим, пошли гулять по свету, и бригадира заново стали трепать по земским судам, снимать с него допросы, писать бумаги. Нет уж, что ни говори, страшновато становится, когда за безобидное дело человека по судам мытарят. Ныне мыслить боятся, не то, что говорить о деле.
Обидно было уезжать от Сергея Янова с сознанием, что та опора, которую Радищев хотел найти в друге, утрачена навсегда. Александру Николаевичу было всего досаднее, что круг друзей его юности, воспоминания о которых составляли его отраду в годы сибирской ссылки, теперь нарушился.
Рубановского с Кутузовым не было в живых, Янов изменился, а другие стали людьми, угодными при дворе, и о них не хотелось вспоминать. Чувство одиночества, несколько рассеянное с приездом сыновей, снова само вползло в его сознание: выдержит ли он до конца тяжёлое бремя одиночества?
Но одинок ли он в жизни? Означает ли утрата личных друзей потерю тех невидимых связей с народом, которыми он подкреплялся всегда, черпая в них силу, помогающую преодолевать горечи и превратности его необыкновенной судьбы?
Нет, он не был одинок и не останется одиночкой. Укрепление собственной воли Радищев всегда черпал, как из живительного источника, из общения с народом. Ему одному он обязан своими творениями в петербургский период жизни и в годы сибирского изгнания.
И сейчас эта близость к народу, понимание его дум и чаяний, помогут ему продолжать своё дело, грубо вырванное из его рук царскими властями. Он ещё вернётся к своей большой и плодотворной деятельности!
С этими мыслями Радищев приехал в Немцово от своего лейпцигского друга Янова.
9
В долгие зимние вечера Александр Николаевич всё чаще и чаще вспоминал Сибирь, свои илимские встречи. Захваченный воспоминаниями, он настолько уходил в своё сибирское былое житьё, что будто явственно слышал стук кнутовища в окно, видел входившего к нему Батурку в оленьих унтах, подтянутых к поясу ремешками. Он приходил с какой-нибудь своей докукой, просьбой или жалобой.
«Бога плохой, друга, — словно слышал сейчас Радищев глуховатый голос Батурки, — деньги просит, платить надо».
«Что, оштрафовали тебя?» — спрашивал он огорчённого тунгуса.
«— Аверка журнал писал».
«— Много уплатил?»
«— Один рублёвка — целковый».
Вместе с Батуркой Александр Николаевич возмущался тогда, осуждая несправедливость, объяснял, что Аверка в этом не виновен, и в знак сочувствия, стремясь смягчить огорчения тунгуса, отдавал ему рубль. Батурка радостно смеялся, довольный таким оборотом, говорил:
«— Дай бога тебе здоровья, друга».
Размышляя о жизни народностей, Радищев думал: «Милый человек Батурка, взрослое дитя, и все они такие доверчивые». Он представил чум Батурки и всё тунгусское стойбище, их небогатое хозяйство — оленей, упряжки. «Как ещё скудна и темна жизнь инородцев, как много ещё надо сделать, чтобы они стали родными братьями русских».
Взгляд Александра Николаевича задержался на медвежьей шкуре, висевшей на стене у кровати, — подарок Батурки и Кости Урончина в день его отъезда из Илимска.
Растроганный воспоминаниями, Радищев встал из-за стола, отложил «Гамбургскую газету», которую до этого просматривал, и зашагал по комнате.
— Разве можно забыть их добрые души! — сказал он уже вслух.
Вспомнились ему и верные слуги — Степанушка с Настасьей. «Он вольный и счастливый человек теперь, — подумал Радищев о Степане, — счастливее меня, своего барина, всё ещё скованного царскими невидимыми цепями и находящегося в неволе в своём родовом имении». Горькая усмешка скользнула по его лицу. Но Александр Николаевич был удовлетворён — Степан Алексеевич Дьяконов, крепостной его отца, ныне вольноотпущенный человек. Он свершил безмерный подвиг, добровольно поехал в Сибирь и теперь бескорыстно вершит своё благое дело, оказывает помощь людям, нуждающимся в лекаре.
Александру Николаевичу припомнился рассказ Степана про дьяка, лечившегося от болезни необычным способом. Дьяк уходил в тайгу, раздевался и терпеливо выносил, когда комары, облепив его тело, сосали кровь. Потом он бежал в баню и там парился. «Вот и полегчало сразу. Теперь лихоманка отступит от меня». Темнота и невежество! Александру Николаевичу захотелось поделиться мыслями с сибирским другом. Он взял перо и быстро написал письмо Степану, рассказав о своей жизни в Немцово, пожелав ему всяческих успехов на новой для него «ниве врачевания илимских жителей».
Радищев перечитал написанное. «Хорошо. Письмо придаст ему больше силы в бескорыстном рвении на благо народа. Пусть преуспевает. Бывший крепостной — лекарь и вольный человек! Как гордо и величественно звучит это».
Александр Николаевич закрыл глаза. Перед ним всплыли одна за другой картины прошлой жизни, незабываемые встречи с сибиряками. Среди этих встреч вспомнился приезд в Илимск доктора Мерка с рисовальщиком птиц и зверей Лукой Ворониным, разговор их о значении Биллингсовой экспедиции.
«— Экспедиция большой польза принесёт Россия! Государыня спасибо будет сказать Биллингсу! Нам, участник экспедиция!» — живо слышалась ему полная бахвальства речь Мерка. Сколько заносчивости, чванства! Он оборвал тогда Мерка. Доктор начал нервничать, говорить быстрее, и акцент его от этого становился ещё заметнее.
«Ви знайть, что там быль? Лысина? Ми ходиль, думаль, подариль. Флаг императорский развивайсь, Биллингс делаль!»
Картинно представилось, как доктор Мерк достал табакерку, быстро сунул понюшку табаку в нос, чихнул, взмахнул большим платком, выхваченным из кармана.
«Он будет настоящий ученый Русь. Британцы будут оставаться большой кукиш!»
Радищев невольно при этом рассмеялся. «Британцам останется большой кукиш! Что ж, по заслугам и награда». Александр Николаевич взял «Гамбургскую газету» и углубился в чтение. Ему, утерявшему нить событий, происходивших за рубежами отечества, следовало их восстановить по сообщениям корреспондентов.
Ещё будучи в Илимске, он вычитал, что в Англии корреспондентское общество, возглавляемое сапожником Гарди, приветствовало якобинский конвент. Английское правительство, боявшееся французской заразы, обрушилось на общество, арестовало и предало суду Гарди.
Сейчас, через пять лет, прокламации корреспондентского общества подняли на восстание английских моряков. Оно началось в Портсмуте и охватило десятки линейных кораблей королевского флота. На кораблях были подняты красные флаги, а на реях — верёвочные петли для устрашения офицеров.
Адмирал Дункан, страшась последствий, через своё правительство обратился к Семёну Романовичу Воронцову с просьбой о помощи. Адмирал хотел, чтобы эскадра Макарова, находившаяся в Англии, помогла подавить восстание, но русские не стали вмешиваться во внутренние дела королевства.
«Остались с большим кукишем» — и Александр Николаевич, довольный поступком своих соотечественников и английских моряков, поднявших на кораблях красные флаги восстания, потёр рука об руку. «Хорошо, чёрт возьми, хорошо!» И то, что где-то далеко от России происходили такие события, радовало Радищева, как если бы они происходили на родной земле.
10
Теперь, когда Радищев повидал старших сыновей, посетил Сергея Янова, его стала томить скука по аблязовским местам, по родителям. Свидание с ними и поездка в Аблязово были тем более необходимы ему, что нужда не покидала его дом, не забывала напоминать о себе, стучалась, как говорят, в окна и двери.
Поездку и свидание мог разрешить лишь император. И как ни тяжело было Радищеву снисходить с просьбой к Павлу, он должен был написать прошение на его имя. Прошение это следовало начать с излияния верноподданнических чувств, которые противны были его натуре, но нужно писать, кривя душой, писать.
И Александр Николаевич писал, что благословляет царскую десницу, избавившую его от бедствия, переменившую горестную его участь на благую и даровавшую ему новую жизнь, и просит всевышнего продлить на многие лета здравие императорского величества и царствование, под которым вся Россия «спокойствует, счастливеет, благоденствует».
Это была сущая ложь, противная и чуждая Радищеву, но необходимая в его теперешнем положении.
«Отца моего видел я незадолго перед отсылкою моею в Илимск, — писал он, — семь лет тому назад, мать мою не видал более двенадцати. Болезненное их состояние препятствует им приехать видеться со мною, хотя бы того и желали. Позволь, всемилостивейший государь, мне съездить к ним на свидание, позволь, великий монарх, да мог бы я хотя однажды видеть родивших меня, при истечении их житья, и родительского себе испросить благословения! Болезнь их и древние их лета побуждают опасаться, что недолго могут пользоваться благодеянием жизни: я сам, хотя ещё на пятидесятом году от рождения, не могу надеяться долголетнего продолжения дней моих, ибо горести и печали умалили мои силы естественные. Взглянув на меня, всяк сказать может колико старость предварила мои лета. Счастлив ныне избавленный от неволи всещедрою вашего императорского величества милостию, наипаче счастливым называться могу, если та же щедрота и милосердие благоволят, да увижу и облобызаю престарелых моих родителей».
Прошение было написано и отправлено, но какое-то тоскливое предчувствие и печаль долго не покидали Радищева после этого. Он много задумывался над своей жизнью. Правильна ли она? Так ли он должен вести себя в положении изгнанника?
И всегда, размышляя подолгу над этим, Александр Николаевич приходил к выводу, что жизнь его и должна быть такой. Самое главное не терять в жизни своего достоинства, а он не терял его: не унижался и не будет унижаться перед властями, как бы ни было тяжело его теперешнее существование.
Но он написал прошение Павлу, добивается разрешения съездить к родителям в Саратовское имение! Что это? Унижение или нет? И всё же это не было унижением. Он не терял своего достоинства в этой просьбе к царю, он оставался прежним и непреклонным в своих убеждениях. Прошение к царю — это необходимость, продиктованная обстановкой его изгнания, и он вынужден был ею воспользоваться, ибо другого выхода у него не было, как только испросить особое разрешение на выезд из Немцова, чтобы повидать отца и мать.
Это не могло смутить и испугать его… Да, это была необходимость, неизбежная необходимость в его положении изгнанника!
Радищев, усталый и измученный раздумьем, вышел во двор. Была светлая ночь. За околицей неоглядно широко застыли волны гребнистых сугробов, в лунном сиянии лежали поля, вдали темнел лес. Радищев прошёлся по улице Немцово.
Луна поднялась высоко. Она была в ореоле сияния. Светлее казался матово-зеленоватым. Звёзды тоже ярко горели в небесной вышине. Сыпучий снег искрился под ногами и переливался. Снежинки были легки и прозрачны, как чешуя слюды, и искрами вспыхивали вокруг Радищева. Такого вечера он ещё не видел в Немцово. И красота в природе смягчила горечь его души. Стало сразу легче. Александр Николаевич подумал, что человеку можно и должно закалиться против несчастья.
Глава третья ССОРА С ОТЦОМ
«Нужно в жизни иметь правила».
А. Радищев.1
Николай Афанасьевич, благообразный: старик, нетерпеливо поджидал к себе старшего сына. Тот писал о своём желании свидеться с родителями, если ему будет разрешено государем выехать из Немцова. Отцу хотелось, вылить всю горечь, все обиды на «непутёвого», как он внутренне окрестил Александра Николаевича.
Отец Радищев много лет питал надежды, что его старший сын-первенец, не в пример Петру и Моисею, обеспечит благосостояние их, стариков, окажет поддержку братьям, на старости лет создаст родителям покой и принесёт уважение. А всё повернулось по-иному: старший сын, которого они больше других пестовали, принёс им ни с чем несравнимые огорчения и разочарования.
Николай Афанасьевич, взыскательный по натуре человек, хотел и верил, как отец, что старший сын его, воспитанный в строгости и справедливости, отплатит родителям сыновней благодарностью — поправит их пошатнувшееся состояние, создаст им обеспеченную старость. Но, видно, родительская власть и суровость были недостаточными. Александр Николаевич стал совсем иным человеком, чем думалось им. И сознавать это было тем более горько, что оба они — отец и мать под старость страдали от неизлечимых недугов.
Служба государственная, так удачно начатая их сыном под начальством графа Воронцова, закончилась для стариков крушением их выношенной мечты. Александр не оправдал их надежды. Это было очень тяжело для родителей.
После того, как сына сослали в Сибирь, отец повёл замкнутый образ жизни. И хотя он попрежнему находился в своём аблязовском имении, но для всех сделался отшельником. Николай Афанасьевич занимал в доме небольшую комнатку, напоминающую скорее келью. Образ жизни его походил на монашеский. До своей слепоты он читал и перечитывал божественные сочинения, какие только мог достать от служителей Саровского монастыря. Монахи стали его постоянными посетителями. Под влиянием их Николай Афанасьевич ездил по церквям, посещал Саровскую пустыню — монашескую обитель, соблюдал все обряды — окуривал свою комнату ладаном, как монахи свои кельи, по вечерам и утрам напевал вполголоса псалмы. Монахов он принимал зимой в комнатке-келейке, летом — в избушке на пчельнике. У него дважды побывал настоятель Саровского монастыря отец Палладий — старец влиятельный и весьма учтивый. И Николай Афанасьевич всё чаще и чаще поговаривал, что у него остаётся один путь — отрешиться от всего земного и уйти в Саровскую обитель доживать последние дни в молитве, способной снять с его души грех, положенный старшим сыном.
Мать Радищева Фёкла Степановна, разбитая параличом, все эти годы была прикована к постели.
— Я виновата, грешница, во всём, — повторяла она беспомощно, с придыханием и всё больше и больше утверждалась в мысли, что, видно, согрешила перед всевышним и справедливо теперь наказана за это.
Несчастие, свалившееся на неё, сначала с сыном Александром, потом со слепотой мужа, Фёкла Степановна перенесла стоически, как должное за неизвестные ей грехи. Любимым занятием её в молодости и все годы до болезни было — вести большое домашнее хозяйство. И может быть самым мучительным в её переживании было именно то, что болезнь отняла у неё возможность хозяйничать по дому — шить, кроить, вышивать, варить, печь, кормить, угощать семью и знакомых, проводить день за днём в хлопотах о муже, детях, о большом доме. Теперь нечем было возместить эту многолетнюю привычку. Болезнь, без того тяжёлая, отнимали у Фёклы Степановны последние радости жизни.
Из-под чепца её выбивались седые, как лён мягкие, но поредевшие волосы, заплетённые вместо двух толстых кос в одну жиденькую косичку, схваченную сзади приколками. Капот лежал на ней мешковато, некогда сшитый на её полную фигуру, высохшую за долгие и малоподвижные годы болезни.
Несмотря на мрачные мысли отца и тяжёлое состояние матери, в аблязовском доме шли приготовления к приезду Александра Николаевича. Царевский, побывавший у Радищевых в конце лета, рассказал о неприглядной убогой жизни их сына в Немцово и заронил в сердцах Николая Афанасьевича и Фёклы Степановны чувство родительской боли, схожее с угрызением совести. Хотя и «непутёвым» окрестил Николай Афанасьевич сына Александра, но всё же это был их первый сын. Самолюбивая гордость Николая Афанасьевича была чуть поколеблена рассказом Царевского и постоянными напоминаниями о сыне Фёклы Степановны.
Старик Радищев совсем не сдался, но немножко уступил: отложил продажу деревенек и пустоши до приезда сына, как просил об этом в письме Александр Николаевич. Но Николай Афанасьевич готовил себя к серьёзному и решительному разговору с сыном. Он ждал и ещё верил, что строгое наставление образумит его хотя бы теперь, на склоне лет, после стольких невзгод и тяжёлых потрясений.
2
Только в конце февраля прискакал фельдъегерь от Калужского губернатора Митусова. Дрожащей рукой Радищев принял пакет, облепленный сургучными печатями. Что могло таить его содержание?
С трепетным волнением Александр Николаевич разорвал конверт. В конверте оказалось собственноручное письмо князя Куракина — долгожданный ответ на его прошение, поданное Павлу. Ему разрешалось съездить в Саратовскую губернию для свидания с родителями. В письме особо подчёркивалось: «Только один раз».
— Садитесь, что стоите, — обратился Радищев к фельдъегерю — тоже гусару, каких он часто встречал возле своего двора.
— Дуняша, Катюша! Подайте табуретку, поставьте самоварчик!
Гусар улыбнулся.
— Благодарствуем-с! — и отказался от чашки чая. — Служба-с! — он звякнул шпорами, склонил голову, потом подтянулся и, четко повернувшись, вышел.
Катя нетерпеливо спросила о содержании полученного пакета.
— Извещение. Милостивейше дозволено съездить к батюшке в Саратовское имение…
Катя радостно всплеснула руками.
— Как хорошо-то!
— Ехать, спешно ехать в Аблязово, — Александр Николаевич нежно потрепал за плечи подошедшую дочь. — Спешно ехать, Катюша, пока не прискакал другой фельдъегерь с пакетом, отменяющим сие разрешение. — Он потряс бумажкой в воздухе. — Ныне всё ожидать можно от царя, — и многозначительно усмехнулся.
Сборы были недолги. Радищев решил ехать на лошадях немцовских крестьян, чтобы меньше израсходоваться в дороге. Были подысканы лучшие санки и, запасшись провизией, Александр Николаевич выехал на трёх подводах со всем семейством. Возницей был взят расторопный Семён. Путь лежал через Москву. Там Александр Николаевич забрал из пансиона ещё меньших детей, с надеждой оставить их у родителей. Снова знакомая дорога с заездом в имение Андреевское.
Путь этот был дальше, чем через Калугу, но Радищев избрал именно его, чтобы вновь свидеться с Воронцовым, задержаться у него на пару деньков, переговорить обо всём, что наболело и накопилось за это время. Граф в письмах настойчиво просил его заехать, если государь разрешит ему посетить престарелых родителей.
Пригревающее солнце ещё не испортило дороги лесного Подмосковья. Половина марта — самое лучшее время для поездки: нет зимних морозов, лишь звёздными безветренными ночами немного примораживает. Блестят укатанные полозницы, хотя дорога ещё снежна.
Александр Николаевич любил это время года. Зима уже на исходе, где-то на подходе весна с ярким сиянием снегов, с чистой синью неба, до боли режущей глаза. Заметно оживились лесные дебри. Весенние нотки звенят в напеве жёлтой овсянки, бойкой синицы, проворных клестов и чечёток. Уже появились нарядные снегири, пробирающиеся с юга к месту своих гнездовий.
Заметно пригревает солнце. Веки сами смыкаются в радужном сиянии. Хорошо дремлется и мечтается в такие часы! Что-что не переберёшь в памяти за долгую дорогу, о чём про себя не переговоришь с друзьями, с которыми давно не встречался. Что не вспомнишь о тех, кого уже нет в живых, лишь сердце бережно сохранило далёкие встречи с ними, бурные споры, совсем забытые и вдруг воскресшие с такой ясностью, будто бы они происходили вчера.
Так всплыл образ Дениса Ивановича Фонвизина, с которым Радищев был в дальнем родстве, часто встречался на семейных вечеринках. Денис Иванович умер в 1792 году, вскоре после заграничного путешествия. Обедневшая жена, пережила своего мужа на четыре года.
Александр Николаевич очень ценил автора «Недоросля». Он вспомнился ему запальчивым собеседником, но малодушным человеком. Замах его всегда казался больше удара. Бывало размахнётся бичующей сатирой против развращённых нравов двора и тут же оробеет.
— Дух у меня не твой, — скажет и словно свернётся в комочек, — бог телом не обидел — на вид грузен, а душонка с кулак, — и захохочет.
Не щадил пороки других, высмеивал и себя, казня своё малодушие. И всё же при встречах они горячо спорили. Фонвизин говорил, что будет изобличать зло до конца, Радищев доказывал, что мало изобличать — зло следует уничтожать и он будет делать это до последнего дня своей жизни.
И когда споры их в горячности заходили далеко, Денис Иванович вдруг отступал, уходил от спора в сторону — заводил фривольные разговоры. Он был мастак рассказывать забавные случаи из окружающей жизни и умел развеселить друзей острой шуткой.
«Каждый в меру сил своих и способностей делал полезное дело», — с сожалением думал Радищев о Фонвизине, а память уже выхватывала давние споры его с голубоглазым Алексеем Кутузовым, встречи с Андреем Рубановским. Кутузов предстал перед ним сейчас как человек небесный, эфемерный, в отличие от Рубановского, любившего всё земное. И были те воспоминания так же ярки, как солнечные блики на снегу. То были горячие и страстные сердца в юности, не осуществившие в жизни своих благородных порывов. Друзей уже не было в живых, но память о них для Радищева оставалась священной.
Молчавший до этого возница Семён неожиданно сдвинул на затылок шапку и, полуобернувшись, сказал:
— Гляди-ка, барин, сколь их сидит, — и махнул рукой в сторону берёз.
Александр Николаевич открыл смежившиеся в дрёме глаза, поняв, что Семён обращается к нему. Полузабытьё его исчезло. Он посмотрел в направлении, куда показывал возница. На берёзе, что поднялась повыше над кромкой леса, как бусы, чернели тетерева. Они клевали почки. Над ними высматривающе кружился ястреб, выжидая удобного случая, чтобы врасплох напасть на свою добычу.
— Было б ружьё, — ощутив знакомый охотничий азарт, с досадой проговорил Радищев, — пальнули бы сейчас…
— Далековато, — с огорчением заметил возница и снова сдвинул шапку, теперь уже на лоб. — Эх-ма!
— Достанет! — сказал Радищев и спросил возницу, — Охотишься, Семён?
— Охоч! Ружья вот нема, барская то вещица, а у мужика кишка тонка его заиметь…
Слова Семёна болью ударили в сердце.
— Красиво, когда на зорьке бормочет черныш, будто восходу солнышка радуется… — мечтательно проговорил Семён.
Сказано это было с таким чувством, что Александру Николаевичу почти зримо представилось это чудесное токование косачей, с набухшими красными бровями, распустивших хвосты лирой. Он будто услышал переливы страстного голоса петухов.
— Что и говорить, хорошо!
— Краса божья, — подтвердил Семён.
3
Граф Воронцов был проницательнее многих своих современников. В Радищеве он признавал оригинальную и громадную силу, которая, не разбуженная ещё в народе, в нём вырвалась наружу, как могучий родник. Злая судьба тяготела над писателем, но даже она была бессильна смирить великий талант. Может быть, в этом таился ключ, помогающий разгадать дружеское участие Воронцова в жизни Радищева, искреннее радушие, с каким он встречал у себя этого смелого человека.
Он любил Александра Николаевича за то, что тот мало говорил о своей изгнаннической жизни. Лишь по коротким фразам его сибирских и немцовских писем, по обрывочным словам в разговоре, можно было представить, какие тяжёлые испытания и невзгоды он перенёс и переносил сейчас.
На этот раз они прежде всего заговорили о предстоящей встрече Александра Николаевича с отцом и матерью, о том, как лучше устроить пошатнувшиеся дела в немцовском имении. Граф высказал свои соображения, и Радищев с ними согласился: они сводились к тому, чтобы Александр Николаевич, приехав в Аблязово, тщательно разобрался с отцовскими запущенными делами.
Воронцов, как и многие люди его круга, имел свои странности, свои слабости. Ещё до сибирской ссылки Александр Николаевич, прочитав объявление об издании в Париже «Всемирной галлереи знаменитых мужчин, женщин и детей, украшенной их портретами», предложил Воронцову собрать серию портретов русских государственных деятелей и писателей. Граф ухватился за его предложение. В воронцовском имении под Петербургом, в деревне Мурине была собрана большая коллекция портретов.
Александр Романович после своей отставки, в связи с отъездом в Андреевское, перевёз сюда и свою редкую коллекцию. Теперь, пользуясь пребыванием у себя Радищева, Воронцов настоял на своём: графский художник Фёдор был у мольберта и писал портрет с позировавшего Александра Николаевича.
Граф сидел тут же. Он издали смотрел на выписываемый маслом портрет своего друга. Художник напряжённо работал, а они перекидывались между собой казалось внешне беспорядочными фразами, но имеющими свой скрытый смысл, известный лишь им. Они говорили о том, что обоих волновало, что осталось недосказанным в письмах или недоговорено при первой встрече.
Делясь своими ближайшими планами, Радищев сознался, что он всё это время, прожитое в Немцово, слишком мало читал и почти ничего не писал.
— Я наблюдал, но я запретил себе размышлять, — говорил он, стараясь сохранить ту позу, которую выбрал для него художник. Позировать было утомительно, но присутствие графа, разговор с ним, делали сеанс почти приятным.
— Знаю хорошо неугомонную натуру твою и не верю, — добродушно смеялся Воронцов, продолжая наблюдать за художником.
— Верьте мне. Я, кажется, писал вам, как я мало наслаждаюсь жизнью в своём уединении.
Александр Николаевич вздохнул и посмотрел на художника, стараясь по его быстрым броскам серых глаз угадать, не мешает ли он разговорами ему. Но Фёдор уже привык к подобным сеансам и, казалось, охваченный вдохновением, не обращал внимания на разговор, а увлёкшись, снимал кистью с палитры то одну краску, то другую, торопясь запечатлеть на полотне изображение человека недюжинной натуры, с исстрадавшимся выразительным лицом.
— Я наблюдал за жизнью, — говорил Радищев. — Повторяю, я был совсем один, но я наслаждался. После окончания летних работ, я видел целые толпы сельских жителей, которые, подобно стаям диких гусей и уток, проходили передо мною: они покидали свои жилища, чтобы отправиться на поиски пропитания, подобно тому как птицы покидают север с приближением морозов. «Значит, есть для них край более богатый, — думал я, — более привольный. Может быть, небо там чище и яснее и жизнь счастливее?»
Александр Романович слушал со вниманием и попрежнему следил за работой живописца. Он, прищурясь, то взглядывал на подрамник, то на натуру. Ему хотелось видеть изображение Радищева более облагороженным на портрете. Графу не нравились свисшие, клочковатые седые пряди, печальный взгляд и усталое выражение лица Александра Николаевича. Всё это не вязалось с той поэтической прелестью и силой, какую граф чувствовал в словах Радищева. Но сказать, чтобы художник подправил, он не мог, понимая, что тогда портрет живописца не будет отвечать натуре.
А голос Радищева звучал также мягко, убедительно просто, полный внутреннего волнения.
— Нет, простолюдин любит места, где он родился, — продолжал Александр Николаевич, — только необходимость заставляет его покидать свой дом и всё то, что человек покидает с сожалением. Но он вернётся сюда, я уверен, вернётся, нагружённый данью, которую его ремесло приносит ему, и радость снова войдёт в его дом…
Голос Радищева сразу как-то окреп и зазвучал сильнее. Воронцов насторожился, художник замер с занесённой над палитрой кистью в ожидании самого важного и значительного в этой тираде Радищева.
— Горе тому, кто её потревожит!
Граф невольно вздрогнул. Художник с радостным блеском в глазах взглянул на Радищева, и кисть Фёдора энергично забегала от палитры до подрамника, лицо его оживилось.
— Когда я вижу чужую радость, Александр Романович, мне самому становится радостнее жить… Я каждый день видел солдат, возвращавшихся к родным и друзьям. Сколько счастья! Сколько благословений тому, кто сему причина! Я зарёкся не размышлять, но привычка брала верх. Когда же крестьянин, измолачивая сноп, вместо зерна получал плеву и мякину, я невольно содрогался, думая, как тяжела жизнь нашего земледельца!
Радищев поднялся со стула взволнованный.
— Устали? — участливо спросил Фёдор.
Александр Николаевич согласно кивнул головой. Сеанс прервался. Вместе с Воронцовым он прошёл в его библиотеку-кабинет. Сквозь стекло книжных шкафов на них смотрели переплёты с золотым тиснением сочинений Вольтера, Дидро, Гельвеция и других великих мужей Франции. На письменном столе лежала пачка свежих газет и журналов, из китайской нефритовой вазочки торчали гусиные перья, палочка сургуча, на резной тумбочке массивный бронзовый канделябр с немного оплывшими свечами.
Стоя возле шкафа, Радищев излагал незаконченную мысль.
— Зима, мёртвое в земледелии время, употребиться должна на рукоделие, на фабричный труд. Дайте работу крестьянину, а с работой и плату и он будет иметь пищу, дом его согреется, птенцы его не погибнут.
— Так и знал, — рассмеялся Воронцов, — что вся поэтически прелестная беседа сведётся к скучной прозе о жизни мужиков. Предвижу и выход, не говори, не говори, — замахал он рукой, украшенной перстнями. — Сие твоя ахиллесова пята. Она мне давно известна и переизвестна из твоих же вольнодумнических сочинений… Послушай, что я скажу…
Александр Николаевич с готовностью склонил голову, сложив руки на груди. Он слегка прислонился к книжному шкафу.
— Буйное стремление черни всегда нуждается в направлении, ибо она никогда не знает сама, чего хочет, хотя действует совокупными силами и единодушно…
— Несогласен, Александр Романович! Первый учитель их — недостаток, тяжесть порабощения помещиками и дворянами.
— Да, да! Нельзя выводить народ из состояния равновесия, он взбунтуется и понесётся без направления. Ему нужны советы мудрости.
— Не дворянской ли? — И Радищев твёрдо, убеждённо произнёс: — Мудрости у него своей хватит к принятию истины. «Руби столбы, заборы сами повалятся», говаривал частенько Пугачёв, как мне рассказывали бурлаки на Волге и Каме…
Воронцов внимательно посмотрел на Радищева. Сейчас он производил впечатление закалённого и свыкшегося с изгнанническим положением человека. «Он ничего не страшится — всё страшное у него позади», — подумал граф. При всём этом Радищев оставлял впечатление человека» неподдельной скромности, не утратившего самых главных качеств своей страстной натуры — сдавленного, но не сломленного судьбой заступника угнетённого народа.
Разговор оборвался. Александр Николаевич понял, что своими словами попал в уязвимое место графа, в его ахиллесову пяту, и не стал развивать начатой мысли. У него не было решительно никакого желания обижать Воронцова, причинять ему неприятность. И граф, должно быть угадав, о чём подумал Радищев, заговорил о другом.
— Я, добрейший Александр Николаевич, тоже живу в глубочайшем уединении. Я не жду чьих-либо посещений из моих соседей, кроме близких родных и друзей. Ныне ведь все предпочитают отсиживаться в усадьбах, нежели выезжать…
— Живём во времена нового Нерона!
— То-то и оно! — подтвердил граф.
Разговор переходил с одного предмета на другой совсем произвольно и неожиданно. Воронцов, ярый противниц иноземных воспитателей в русских дворянских семьях, с азартом сказал:
— Для иноземцев Москва и вся наша матушка Россия — взаимный обмен денег и удовольствий. Мы всыпаем в их карманы миллионы, нажитые потом и тяжёлым трудом наших хлебопашцев, а иноземцы доставляют нам искусственные увеселения.
— Довольны все, кроме земледельца, — не утерпев, вставил Радищев.
— Почти, добрейший Александр Николаевич.
— Вспомнился мне доктор Мерк, участник Биллингсовой экспедиции, — сказал вдруг Радищев. — Не ведаю, как он врачевал, но деньги русские любил…
— Что иностранные врачи? Знаю их, они приезжают к нам не лечить, а набить себе карманы звонкой денежкой!
Воронцов нервно поднялся из ясеневого кресла с мягкими бархатными подлокотниками и с горечью сказал:
— Россия единственная страна, где пренебрегают изучением своего родного языка, а всё то, что относится к родной стране, молодому поколению внушается чуждым, — он тяжело вздохнул. — Человек с претензией на просвещение в Санкт-Петербурге и в Москве заботится более всего научить своих отпрысков по-французски, окружает их иностранцами, нанимает для них за дорогую цену учителей танцев и музыки, но не научает их отечественному языку. К чему ведёт такое воспитание? К совершенному невежеству, к равнодушию относительно своей страны, может статься, даже к презрению отечества, с которым связано собственное существование… А россияне — великий народ, обладающий способностями, не уступающими иноплеменникам!..
Граф заходил по кабинету. Полы его богатого шлафрока откидывались, когда он шагал, и розовые ленточки белого колпака трепались сзади.
Александр Николаевич слушал Воронцова, всматривался в его широкий лоб, изрезанный мелкими морщинами, в мешки, появившиеся под глазами, проницательными, но остающимися холодными. Годы брали своё. Граф заметно постарел, хотя ещё и бодрился, желая казаться моложе своих лет. Радищев понимал, что гордой натуре Воронцова, привыкшего к большой и напряжённой государственной службе, не только надоело уединение в Андреевском, о котором он заговорил, но что оно уже угнетало его. Как ни стремился Александр Романович занять себя то одним, то другим, после кратковременного увлечения наступало охлаждение. Мысли о порочной системе воспитания, высказанные графом, Радищев разделял и продолжал следить за их развитием.
Граф посмотрел на Радищева усталыми глазами, и Александр Николаевич опять подумал — граф сильно постарел за эти годы.
В кабинет вошёл слуга. Склонился в поклоне, чтобы сказать — стол накрыт к обеду, но не успел и слова произнести.
— Давно пора, батюшка, — опередил слугу Александр Романович, взглянув на кабинетные часы, — просрочил пять минут, — и укоризненно покачал головой.
Часы медленно пробили четыре удара. Это было условное время, когда обычно граф сидел уже за столом и обедал.
— Пройдёмте в гостиную, — пригласил Александр Романович и, почтительно отступив в сторону, пропустил вперёд Радищева.
4
После обеда Александр Романович любил прогуляться по расчищенным от снега аллеям парка, «поразмышлять наедине с самим собой», как он называл эти прогулки. Боясь простуды, граф одевался тепло, несмотря на мартовскую оттепель. Он набрасывал на плечи тёплую шубу, носил боярку из седого бобра с котиковым верхом, меховые сапоги и даже перчатки.
Вместе с Воронцовым был Радищев. Прогулка их началась с той же самой аллеи, по которой они проходили тогда, в летнее посещение Андреевского с братом Моисеем Николаевичем.
Парк под снегом казался ещё краше. Пухлая снежная навись на нижних ветках лежала нетронутой. Только откуда-то с вышины, как хлопья ваты, редко и неслышно слетал на землю мягкий снег. Стволы сосен золотились под ярким солнцем, снег излучал обильный свет. Пышное одеяние парка, похожее на соболье, было испещрено резкими, синеватыми тенями. Ровный шум, волной перекатывавшийся в вышине, скорее напоминал трепетный шёпот. Его оживляли говорливые грачи, прятавшиеся в вершинах сосен, только что прилетевшие с юга.
Сначала друзья шли молча, каждый по-своему наслаждаясь картиной предвесеннего парка и запахами подтаявшего снега, струившимися в чистом и прозрачном воздухе.
— Граф Александр Андреевич сообщает, — заговорил Воронцов, — Павел вызвал ко двору фельдмаршала Суворова. Из Кончанского в столицу его привёз князь Горчаков, кажись, его племянник…
Александр Романович усмехнулся. Он верил Безбородко, получившему при Павле титул светлейшего князя и назначение государственным канцлером. Из прежних писем он знал, что Безбородко придерживался политики мира со всеми державами и даже с республиканской Францией, чтобы дать возможность России оправиться после длительных и тяжёлых войн. Воронцов вполне разделял взгляды государственного канцлера, своего друга, и догадывался, что вызов Суворова в Санкт-Петербург Павел предпринял отнюдь не по личным побуждениям, а по каким-то более важным причинам, пока ещё ему не ясным.
— Немая баталия государя с фельдмаршалом, думаю, закончится победою графа Александра Васильевича. Неспроста сей шаг сделал Павел. Видать, ноне наш витязь важнее при дворе, нежели в Кончанском. В одном имени его сколь силы!
— Всегда побеждать есть его жребий, — уверенно отозвался Радищев, высоко ценивший полководческий гений Суворова.
Оба они, внимательно следившие последнее время за грозой, бушевавшей во Франции, жадно ловили каждое новое газетное известие о борьбе на берегах Рейна и в долинах Италии. Поднимался Бонапарт, которому сопутствовала звезда счастья. Там, где были королевства, рождались республики. Злому гению на первых порах помогал сам народ, чтобы избавиться от господства дворян, помещиков и церкви. Это был головокружительный военный успех Бонапарта, за которым последовала уже давно поджидавшая его первая неудача.
Воронцов, читая газеты, думал, что тень мирной надежды исчезла, как сон. Враги спокойствия и мира употребили самые отчаянные средства, чтобы продолжалось человеческое кровопролитие. Александр Романович считал самой жесточайшей из всех войн нынешнюю войну, продолжающуюся со всеми беспримерными её ужасами.
Он находил, что бедствия республики, её военная гроза происходят от забвения гражданских властей, от нарушения правил человечества. Чтобы восторжествовал порядок и было уничтожено зло, по его убеждению, следовало восстановить власть родителей над детьми, господ над слугами и хозяев над их работниками. Новый порядок, новый государственный строй не мог поколебать этого векового правила. Воронцов склонялся к тому, что виной всего происходящего в Европе — философский энтузиазм, безмерное увлечение вольностью. И он вполне был согласен с утверждением одного из ежедневных парижских листков, сообщавшего, что ложный смысл, который «сопрягают со словом вольность, увлёк народ к преступлениям».
Радищев, в отличие от Воронцова, из происходящего в Европе отбирал, как золотые крупицы, те события, которые «Политический журнал» образно называл «неслыханным приключением». Журнал сообщал, что во Франконии и Швабии поднялись крестьяне, вооружились, толпами напали на французов при их отступлении, взяли в плен и своим отважным поступком ускорили бегство противника. Радищев радовался, что война крестьян как у французов, так и у немцев останется памятной вехой в истории человечества. Она поднимала роль крестьян — вершителей своих судеб.
— Быть фельдмаршалу при армии, — прервал раздумья Александра Николаевича Воронцов. — Все сверстники его в войне останутся позади.
— Да они ему и неровня, — сказал Радищев, — ни сердцем, ни предприимчивостью…
Они ещё не знали, что Павел приступил к осуществлению своего плана «обуздать буйство французской нации», устанавливал тесные связи России с государствами, которых «не коснулась французская зараза», чтобы совокупными силами «охранять честь, целостность и их независимость».
В конце аллеи была беседка. Александр Романович предложил немножко посидеть на скамейке и отдохнуть.
— Скоро ль изживётся дух ссоры и вражды между народами и государствами и люди смогут жить в согласии и мире?
Воронцов взглянул на Радищева немного удивлённо. Из-под круглой лёгкой шапки-боярки Александра Николаевича небрежно выбивались пряди серебристых волос. Пышный воротник шубы спадал ниже плеч. Умные глаза смотрели лукаво и добродушно, проницательно и умно.
— Не от того ли, что отдельные фанатические головы сделали свою философию общею философиею целого народа? — вопросом на возрос отвечал Воронцов. — Заблуждения бывают опаснее, нежели невежество… Дух образа мыслей тому виною…
Радищев нервно встал со скамейки и заходил по беседке.
— Нет! — строго сказал он. — Не приемлю я сих слов, непонятны они мне в ваших устах!
— Горяч, горяч! — стараясь умерить его взволнованность, проговорил Воронцов. — Знаю, бесстрашен в действиях и поступках, но можно ль так строго судить о моих убеждениях?
— Прошу прощения, — виновато сказал Радищев.
— Уговор не серчать, то была дружеская беседа…
Граф встал, стряхнул с шубы приставший к ней снег, и оба они, молча, направились обратно.
5
Снова продолжался сеанс живописца. Назавтра, рано по утру Радищев должен был продолжать путь, и Фёдор спешил закончить его портрет. Воронцов был здесь же. Он сидел в кресле, стоявшем за мольбертом, и внимательно наблюдал за Радищевым и живописцем. Граф думал, как многообразны могут быть дарования человека, проявляющиеся в самых различных сферах его действия. Александру Романовичу припомнился его давний разговор с Радищевым. Тот говорил, что человек родится в мир во всём равен другим, что натура не взирает на родословные, что талант может проявляться в простом поселянине и в дворянине. «Надо до безграничности, до фанатизма верить в силы народа, чтобы быть твёрдо убеждённым в нём», — размышлял граф, вглядываясь сейчас совсем по-иному в спокойное и мужественное лицо Радищева. «Отгадчик искры человеческого достоинства. Надо не просто верить, но ещё и горячо, привязанно любить народ». Воронцов спрашивал себя, почему же этой глубокой веры и любви нет у него? Не потому ли, что не хватает сил отрешиться от вековых предрассудков, воспитанных в нём дворянским сословием и привилегиями, пойти против них, как мужественно пошёл Радищев, Нет, это было бы слишком рискованно и преждевременно! Да он и не рождён к такому самоотречению и душевному подвигу.
Граф считал, что дарования человека ниспосланы свыше. Представления о всевышнем, о боге и религии, у Воронцова были своеобразные. Правил религии граф придерживался более по воспитанию, нежели, как он говорил, «из натурального подвига души, озарённой истинным богознанием». Александр Романович во всех случаях жизни поступал по убеждениям собственного ума и совести.
Художник Фёдор, его крепостной, был от рождения одарён. «С талантом родился». Граф им гордился как своим одарённым человеком, но ему и в голову не приходила мысль — гордиться им как простолюдином. «А он, — Воронцов взглянул на Радищева, — не отрывает в своём сознании и Фёдора от всего народа». Выражение лица Александра Николаевича было очень строгое, будто говорило графу: «Я знаю всё, что знать я должен в жизни, знаю потому, что всё проникновенно вижу и глубоко понимаю». И граф тайно завидовал этому дару ясновидения Радищева.
«Да, Фёдор талантливый художник, — мысленно рассуждал Воронцов. — Кисти его принадлежат многие портреты, хранящиеся в галерее. Фёдор четыре года руководит труппой его театра в Андреевском, и граф гордится всем, что тот делает». Почти сто артистов, музыкантов, танцоров, учеников и пляшущих баб занято в труппе домашнего театра. На сцене с успехом разыгрываются комические пьесы и оперы, иногда трагедии, в зависимости от настроения Воронцова и желания родственников и знакомых. Александр Романович любил иногда «блеснуть», но» он искренне ценил только всё прекрасное, всё красивое и благоговел перед произведениями искусства. И в Радищеве он видел талантливого писателя, перед которым преклонялся, ставил его выше Гаврилы Державина, Дениса Фонвизина, Сумарокова, Княжнина. Он равнял его талант разве только дару Михайлы Ломоносова, которого ценил до самозабвения как истинно русского гениального человека.
В долгие зимние вечера граф любил развлекаться. В Андреевское съезжалась вся знать из Владимира и Москвы. В первые дни царствования Павла Александр Романович сократил свои театральные представления. Повеяло иным. Новый государь не терпел сборищ и даже боялся их. Он видел в них своеобразные клубы, напоминавшие ему общества, процветавшие в Париже. Павел опасался, как бы через дворянские сборища не проникла в Россию якобинская зараза — болезнь трудно излечимая и чреватая всякими неожиданными последствиями.
Домашний театр был тем единственным прибежищем, в котором граф забывал мрачные мысли и рассеивался. Не будучи охотником ни до собак, ни до вина, ни до карт, Александр Романович стремился отвлечься, забыть себя в пении и пляске актёров, в смехе или человеческой боли, изображённой на сцене.
В такие дни дворец графа озарялся множеством свеч, в зале гремела музыка. Приглашённые гости не успевали считать дни в неделе. В изобилии расточались роскошь и щедрость. Всё это нужно было Воронцову здесь, в Андреевском уединении, тоскующему по Санкт-Петербургу, по утраченной большой государственной деятельности.
У Александра Романовича сначала появилась мысль устроить вечером концерт и послушать музыкантов, разучивших новые пьесы, присланные братом Семёном из Англии. Но Радищев торопился с отъездом, и граф отказался от своей затеи.
Работа Фёдора над портретом заканчивалась. Радищев поднялся с кресла и расправил уставшее от неподвижного и напряжённого сидения тело, подошёл к мольберту. Фёдор с волнением ожидал оценки своей работы. Он никогда ещё не писал портрета с таким вдохновением, с каким работал над портретом сейчас. Художник хорошо знал, что был за человек необычный гость графа, что тот сделал и сколько много пережил и переживает за свой смелый и дерзновенный поступок. Всё это Фёдору хотелось выразить на портрете.
Александр Николаевич долго, прищуренными глазами смотрел на полотно. Фёдор нетерпеливо ждал. От волнения у него на лбу проступили бисеринки пота.
— Узнаю себя, — наконец, проговорил Радищев. — Всю горькую жизнь мою в глазах передал…
Фёдору стало легче. Он вытер платком лоб и благодарно взглянул на Радищева.
— Не слишком ли испито лицо? — спросил граф.
— Нет, нет! — поспешил возразить Александр Николаевич. — Всё правдиво.
Радищев обратился к художнику:
— Спасибо тебе, Фёдор, за усердие твоё, — и крепко пожал его руку.
6
Мартовский пейзаж изменялся на глазах. Чем дальше продвигался Радищев и ближе был к родным местам, тем всё больше и больше открывались из-под снега проталины и чернота зяблевой пахоты на помещичьих угодьях.
Берёзовые рощи отливали кофейным цветом, снежный покров всюду побурел. Кое-где отчётливо проступала жёлтая грязная щётка прошлогодней травы и там вились мелкие лесные птички, опьянённые ароматами прелой земли.
У деревень и сёл, возле скотных дворов, лежали кучи навоза. Посередине деревенских улиц пролегал сгорбившийся под мартовским солнцем санный путь.
Радищев страстно любил родные места. Эта любовь вошла в его сердце с детскими впечатлениями и никогда не сглаживалась из его памяти.
Чем ближе было Аблязово, тем неотвязнее и упорнее подымались воспоминания то о первой поездке к родителям в годы только что прошумевшей над этим краем пугачёвской вольницы, то о последней встрече с отцом перед сибирской ссылкой. Воспоминания перемежались с грустными предчувствиями встречи с родителями.
Александр Николаевич знал, что его встреча с родителями после стольких лет разлуки будет и радостна и тяжела. Ему вновь предстоит испытать безмерное счастье встречи и невыносимую боль огорчения от неё. Он уже представлял, каким у него будет разговор с отцом: резковато настойчивый с той и другой стороны, когда сходятся два сильных характера, по-разному оценивающие явления и по-разному смотрящие на жизнь.
С матерью — совсем другое. Это будет сдержанный и успокаивающий больную женщину разговор. Александр Николаевич думал, что, быть может, он виновен в её болезни. Это томило, и он ещё больше тревожился о том, как произойдёт его свидание с матерью.
Александр Николаевич хотел бы одного — не разрыдаться в первую минуту встречи с матерью, скрыть от неё свою взволнованность и суметь утешить её неизбывное горе тёплым, приветливым словом. Он знал, что мать расплачется от радости, станет расспрашивать его о жизни с Лизанькой, о маленьких детях, и он должен будет спокойно и сдержанно рассказать ей об этом…
Остановки в дороге были коротки. Радищевым всё настойчивее овладевало желание, как можно быстрее добраться до Аблязова. Время терять было нельзя — подгоняло резкое потепление, которое могло испортить дорогу. И он спешил воспользоваться благоприятным путём и прихватывал для езды ночное время.
Над головой расстилалось чистое небо, тихо мерцали звёзды в его вышине, и валдайские колокольчики в прохладной тиши воздуха переливались ещё мелодичнее. Иногда Радищев вздрагивал от резкого их звона — коренник, неожиданно споткнувшись, мотал головой, сильно встряхивая дугу.
Александр Николаевич спрашивал у возницы о давних днях, связанных с пугачёвской вольницей в этих местах. Радищеву хотелось узнать, вспоминают ли крестьяне об этом, какие новые мысли тревожат их головы теперь, над чем раздумывает народ.
— Семён, про Пугачёва-то говорят в народе, вспоминают его?
Возница ответил не сразу.
— С детства знаем твою добрую душу, Александра Николаевич. Не прогневайся, коль правду скажу, — Семён помолчал, подумал, как лучше выразить ему свою правду, и спокойно заговорил:
— Эх, барин, что вспоминать-то? Было всего! Утешились мы, только мало длилась воля-то наша при Емельяне Иваныче. Отвели душу-то, да не до конца. Над помещиками тешили удаль свою, правда, барин. Пусть помнят они: есть в мужике гроза, страшная гроза для всех, кто его истязает, кто его жизнью и сердцем мыкает…
Возница помолчал, нукнул на лошадей, мерно бежавших, хлопнул их вожжами по бокам. Вздрогнули колокольчики и оживлённее зазвенели под дугой.
— В грозе-то нашей, Александра Николаевич, лютая печаль, месть, горе, народное горе. — Семён вздохнул. — Так-от, барин! Скажем, прямо тебе, сколь знаем твою добрую душу, будут притеснять, мужик опять взбунтуется. Волюшку ему надо, барин, волюшку вольную… Вот тебе наша мужицкая правда…
— Горькая правда, — сказал Радищев, — но справедливая, Семён.
— Слаще-то пока нету, Александра Николаевич.
7
Последнюю ночь ехали напролёт. Нетерпение Радищева достигло высокого напряжения. Ему казалось, что лошади бегут не рысью, а едва плетутся. Александр Николаевич почти не смыкал глаз. В короткие минуты забытья он как бы переставал слышать звон колокольчиков, будто замиравших на это время, но тут же встряхивался. Перед ним маячила тёмная фигура Семёна. Перебарывая сон, Александр Николаевич возобновлял разговор, расспрашивал Семёна то об одном, то о другом, следя за созвездием Большой Медведицы. Хвост созвездия совсем опустился вниз. Значит, время было предрассветное и ночь уже миновала.
И действительно, вскоре заметно стал белеть восток, отчётливее начали проступать на просветлённом небосводе кромки чёрного леса, покрывающего гряду пологих холмов. Казалось, густой лес был совсем рядом, но чем светлее становилось вокруг, тем стена его отступала в синеве всё дальше и дальше.
Волнение Радищева не стихало, как ни старался он сдержать свои чувства. Выехали совсем на открытое место, иссечённое долиной Тютняра и старыми оврагами — суходолами. Уже были видны ветряные мельницы. Они стояли рядышком на взгорке, будто прижавшись друг к другу. Самая дальняя из них находилась на окраине Верхнего Аблязова и неторопливо размахивала крыльями.
Семён, уставший за ночь, взбодрился, снял шапку и перекрестился.
— Слава те, господи, Преображенское. Доехали, барин, благополучно.
Под первыми лучами солнца, словно нахлобученные шапки, показались тёмные соломенные крыши изб. Гордо вскинулся гранёный конус колокольни усадебной церкви, построенной ещё прадедом Григорием Аблязовым. В память прадеда Преображенское теперь чаще называли Верхним Аблязовым.
Рядом с церковью стоял отцовский каменный дом с облупившимся палевым фасадом. Четыре колонны подпирали балкон, под которым находились парадные двери дома. Пятьдесят лет назад Радищев родился в этом доме, провёл своё детство, научился грамоте у дядьки Петра Мамонтова, по прозвищу Сума. Он любил сидеть на балконе, смотреть на ветряки, вдали размахивающие крыльями, и слушать рассказы бабки Прасковьи Клементьевны про барское и мужицкое житьё-бытьё. «Мои пестуны, мои учители жизни», — с любовью вспомнил о них Александр Николаевич, благодарный им за уроки, полные житейской мудрости и пригодившиеся ему в жизни больше, чем многие поздние советы учёных, слышанные в Лейпцигском университете.
Мог ли он забыть в своей бурной и полной самых неожиданных, то радостных, то печальных, событий жизни, далёкие годы детства, этот красивый родительский уголок? Эти милые, недолгие годы детства, как и всё, что сейчас открылось его взору, было полно тёплых воспоминаний.
Лошади остановились под окнами дома, но никто не вышел ему навстречу. Не таким был его приезд в отчий дом, когда Александр Николаевич приезжал сюда получить родительское благословение на брак с Аннет. Тогда посыльные отца встречали его далеко за околицей. Лихая тройка его, остановившаяся возле дома, была окружена дворовыми людьми, приветствовавшими поясными поклонами. На крыльце стояли родители…
Теперь никто не показался из дому, словно он был нежилым. И вместо радости встречи стало горько на сердце Александра Николаевича. Оскудело родное гнездо, печать опустошения лежала на всём внешнем облике отцовской усадьбы, печать разорения. Радищев понял, что встреча с родителями не сгладит, а, наоборот, усугубит это первое его впечатление. Стоило ли ему совершать поездку, чтобы ещё больше растревожить незримые для других тяжкие раны?
Случилось то, чего больше всего боялся Александр Николаевич. В первую минуту встречи с матерью он не сдержался. Слёзы навернулись на его глаза, как только Радищев переступил порог спальни, где лежала разбитая параличом мать. Вместо того, чтобы самому утешить больную, Александр Николаевич услышал её бесхитростные, проникновенные слова, полные материнской теплоты и любви.
— Сашенька, сынок мой милый, вернулся родной, вернулся…
Александр Николаевич не успел даже рассмотреть бледного, измученного долголетней болезнью лица матери, испещрённого густыми морщинами, быстро опустился на колени перед нею, стал молчаливо целовать протянутые ему руки с высохшими пальцами, с резко проступающими на них синеватыми жилками.
— А я-то и не встретила тебя, не смогла, — говорила Фёкла Степановна, — нахожусь вот в постели с той поры, как над тобою стряслась лихая беда…
Фёкла Степановна лежала на высоко взбитых пуховых подушках в голубых наволочках, накрытая стежёным, собранным из пёстрых треугольничков, одеялом. Она, много раздумывавшая над тем, какой будет у неё встреча с сыном, молила об одном, чтобы божья матерь дала ей силы выдержать спокойно минуты свидания, не расплакаться, не показать себя совсем сломленной болезнью. Фёкла Степановна знала, что сын будет и без того тяжело убит её теперешним положением, её немощью, и не хотела отягощать его первого впечатления. И ей, ценою больших усилий и напряжения воли, на какие оказалось способно материнское сердце, удалось сдержать себя, хотя горячие слёзы сына, которые она ощутила на своих руках, едва не вывели её из этого внешне спокойного и сдержанного состояния.
— Ты уж прости, милый, прости меня больную…
— Я должен молить у вас прощения, маменька, — отрываясь от рук, прошептал Александр Николаевич и только теперь взглянул в лицо матери, такое родное, близкое ему, но до неузнаваемости изменившееся за эти годы.
Лучистые глаза Фёклы Степановны, переданные и ему, были теперь тусклы и не сияли, как прежде. Все черты её лица отражали, как показалось Александру Николаевичу, лишь тяжесть непоправимого и ничем неизлечимого недуга, который она скрывала.
— Не такой я хотел встречи с вами, маменька, — и Александр Николаевич обхватил руками седую голову в чепце и припал своей мокрой щекой к шершавой щеке матери.
— Сашенька, мой милый сынок, ты здесь, со мной и слава богу, — повторила Фёкла Степановна свои первые слова, но теперь произнесла их тоже шёпотом.
Фёкла Степановна была взволнована и расстроена свиданием, хотела сказать сыну ещё что-то, спросить его о многом, но с губ её срывались одни и те же слова.
Когда первые порывы чувств улеглись, Александр Николаевич, не переставая держать руки матери и гладить их, осмотрел небольшую мрачную спальню. Обои давно выцвели и кое-где ободрались. С тех пор, какой был здесь в последний раз, всё в спальне матери заметно обветшало и постарело.
Солнце, светившее в спальню через верхи лип, вплотную подступавших к дому, не играло яркими бликами на полу и стенах, а как-то сразу тускнело. На полукруглом, отделанном бронзой, комоде стояло зеркало в фарфоровой раме из бледнорозовых с зеленью цветов. Этот комод был ровесником старших сыновей Александра Николаевича. Мать заказала его московскому столяру по своему выбору и вкусу и больше всего любила его из мебели, украшающей её спальню. Теперь комод подряхлел, был побит и бронза его загрязнилась и потускнела. Овальное зеркало, уроненное ещё Катюшей в её приезд к бабушке, так и сохранилось до сих пор с трещиной внизу.
— А детки, где твои детки? — обеспокоенно спросила Фёкла Степановна, — где мои маленькие внучата? — и попросила, чтобы их ввели в спальню.
— Варенька, Варенька! — позвала она.
Тотчас же появилась на пороге Варенька — безродная и бездетная женщина лет пятидесяти, жившая многие годы в доме Радищевых и присматривавшая за Фёклой Степановной.
— Что изволите, матушка Фёкла Степановна? — чуть склонив голову, повязанную синим в крапинку платком, проговорила та.
— Ах, Варенька, какая ты недогадливая, стала. Детушек Сашеньки ко мне, взглянуть на крошек хочу…
Варенька, исполнительная и немногословная женщина, молча вышла, а вскоре возвратилась с внучатами Фёклы Степановны.
Катюша с Павликом подошли к бабушке и почтительно поцеловали её руки, теперь недвижно лежавшие поверх одеяла.
— Выросли-то, выросли-то как! — проговорила Фёкла Степановна, слегка приподнимая голову.
Александр Николаевич помог матери присесть на постели и подложил под её спину подушку.
Феклуша с Анюткой, войдя в спальню, робко озирались вокруг, в нерешительности остановились возле дверей, потом ухватились ручонками за платье Катюши и открыто удивлёнными глазами уставились на незнакомую им старушку в белом кружевном чепце, сидевшую на кровати. Афонюшку на руках держала Варенька.
— Подойдите ко мне, — ласково произнесла Фёкла Степановна и поманила рукой к себе Феклушу с Анюткой. Девочки несмело шагнули вперёд.
— Скорее, крошки мои, — подбодрила она. При виде маленьких внучат Фёкла Степановна теперь уже не смогла сдержать подступившие слёзы, они медленно покатились по её впалым щекам.
Слёзы больной матери многое сказали сердцу Александра Николаевича. Он понял, что младшие дети его, рождённые Елизаветой Васильевной, так же близки бабушке, как и старшие, рождённые Аннет.
Фёкла Степановна почувствовала себя усталой от глубоких переживаний, вызванных встречей, и попросила снова положить её. Дети вышли с Варенькой из спальни Фёкла Степановна взглядом дала понять сыну, чтобы он остался с нею.
Александр Николаевич был безгранично благодарен матери. Ему хотелось рассказать ей всё о своей жизни с Лизанькой. Пусть знает мать, он был счастлив в своей изгнаннической жизни только потому, что рядом с ним была Лизанька — его подруга в несчастье, светлая, чистая и благородная душа.
И Александр Николаевич поведал матери всё о себе, о пережитом за эти годы ссылки. А затем, как ни тяжело было ему слушать сбивчивый материнский рассказ о болезни, об одиночестве, о чудачествах отца, рассказ, похожий на исповедь, он выслушал до конца. Сын принял душевные боли матери, как свои, с самоотверженной стойкостью.
8
Александр Николаевич встретился с отцом через неделю после приезда в Аблязово, на третий день ранней в этом году пасхи. Николай Афанасьевич только возвратился из Саровской обители, затерянной в пензенских лесах, — одного из известных монастырей не только в здешней округе, но и далеко за её пределами. Ему всё ещё слышалось церковное пение и звон колоколов, гудевший в ушах. Николай Афанасьевич был полон и теперь праздничных звуков и голосов. В монастыре он говел.
Тёплая и мягкая хмарь марта сменилась в апреле чудесными и ясными днями. Легко и радостно дышалось на воздухе. Незаметно подошла вплотную весна. Где-то в невидимой синеве небес голосисто заливались жаворонки. Николай Афанасьевич с разлохмаченными седыми волосами, в длинной холщовой рубахе, перехваченной пояском, сидел на самодельной скамейке возле избушки на пчельнике. Он внимал тишине полей, пению жаворонков и теплоте апрельского солнца.
Рядом с ним сидел Пахомий. Поверх монашеской скуфьи, на нём был накинут потрёпанный подрясник. Он перебирал чётки и, как комар на ухо, пищал:
— Раб божий Николай, свечой за гривну царство божие не купишь, надо жертвовать всего себя. Перед царством божиим несметные сокровища наши меньше зерна песчаного на краю моря. Царство божие может быть куплено неусыпною молитвою твоей о блудном сыне…
Николай Афанасьевич знал о приезде старшего сына. Сейчас, покорный своему духовному наставнику Пахомию, он терпеливо слушал его жужжание и ждал прихода сына на пчельник. В душе своей он чувствовал какое-то смятение: отрешаясь от всего мирского, Николай Афанасьевич в то же время не мог ещё принять смиренную жизнь старца, похожую на залоснившиеся чётки, которые перебирал Пахомий, — жизнь гладкую, кругленькую и замкнутую монастырской обителью. Нет, душа его не принимала такой жизни и едва ли примет её.
— Пахомий, ты речешь о сокровищах, но где они у меня? Я доставал деньги от земли. Одна она оплачивала труды мои верно и щедро. Но теперь я еле-еле свожу концы с концами. Жить на доходы от имения становится всё труднее. Да и имение-то своё я отписал сыновьям, обойдя старшего. Не пошёл ли я супротив истины божьей, не сотворил ли греха перед правдою всевышнего?
Монах Пахомий промолчал. Неожиданный поворот в беседе ему явно не нравился. А Николай Афанасьевич думал о своём. Он, сумевший своим примером внушить детям чувство большого достоинства и привить им честность и порядочность, сам не мог сейчас справиться с собственными соблазнительными мыслями о мирском бытии. Он построил двухэтажный каменный дом — единственный в округе, развёл сад, плоды и ягоды которого употреблялись для нужд семьи. Он считал занятие сельским делом благородным для дворянина и осуждал тех, кто кинулся устраивать винокуренные заводы, пустился в торговлю, занялся подрядами на казну. Земледелие было единственным средством в его хозяйстве, обеспечивающим существование. Николай Афанасьевич вёл хозяйство сам, а аблязовские крестьяне у него были на барщине и давали ему небольшой доход.
Не легко было переживать крушение своего благополучия, означавшее не просто разорение, но крушение всего, во что верил, на чём строил свою жизнь и хозяйство. Первый удар нанёс старший сын, арестованный и сосланный в Сибирь за книгу, направленную против всего святого, что он больше всего ценил, — уважения к властям, церкви и начальству. Наконец, наступившая в 94 году слепота довершила всё: она заставила Николая Афанасьевича искать утешения и успокоения в религии.
«На всё воля божья, его гнев и милость», — часто говорил он и внушал себе покорность, стремился смирить гордость и самолюбие.
Монах Пахомий заметил подходившего к пчельнику человека и догадался, что это был старший сын Николая Афанасьевича, возвратившийся из ссылки — гордый и непокорный, принёсший в семью Радищевых беду и разорение. Он слышал о нём не только от Николая Афанасьевича, но и от аблязовских жителей. По-разному они отзывались — кто с похвалой, как о добром человеке, кто с порицанием, как о смутьяне, осмелившемся возвести хулу на царей — помазанников божьих.
Чем ближе Александр Николаевич подходил к избушке, тем сильнее у него билось сердце. Каково-то будет его свидание с отцом? Он ещё издали признал отца в старике, сидевшем на скамейке с монахом.
— Воспрянь духом, раб божий Николай, отторженный тобою приблуде к стопам отчим, — пропищал Пахомий.
Николай Афанасьевич торопливо перекрестился. Расслышав шаги приближающегося Александра, он поспешно встал и, нащупывая посохом дорогу перед собой, зашагал навстречу сыну.
— Батюшка! — произнёс в волнении Александр Николаевич.
— Александр, чадо моё!
Отец с сыном обнялись.
— Попроведовать приехал, посмотреть на вас.
— Что ж, погляди, — поддерживаемый сыном под руку ответил Николай Афанасьевич, возвращаясь с ним к скамейке.
Монах Пахомий встал, протянул было руку по привычке, но тут же отдёрнул её. Вместо этого он склонил голову.
— Какой ты есть, не вижу, — сказал Николай Афанасьевич, когда они присели на скамейку. Чуткой рукой слепца отец стал быстро ощупывать голову и лицо сына. — Постарел, морщины лоб твой изрезали…
— Жизнь состарила преждевременно, батюшка…
— Жизнь, говоришь, Александр? — наставительно произнёс отец. — А кто её вершитель-то? Не сам ли человек, а? Смирения в твоей душе мало, гордыни много. Осуждение власти состарило тебя!
— Перебесие, — вставил Пахомий.
Александр Николаевич косо и строго взглянул на монаха, и тот стал быстрее перебирать чётки.
— В письме об имении писал ты, а где и какое оно? — продолжал старый Радищев. — Поди, осмотрел уже. Преображенское братьям твоим отдал, пусть хозяйствуют, — сопя, бурчал под нос старик. — Пора мне от суеты уйти. Может бог-то и зрение отнял потому, что о душе своей мало думал, а грех твой мои грехи умножил…
Отец говорил сердито, хотя и спокойно. Александр Николаевич уловил незнакомые ему движения и манеры отца — беспрестанные повороты головой, словно он, разговаривая, стремился ещё уловить каждый звук, заменяющий ему теперь зрительное восприятие окружающего.
Брови Николая Афанасьевича поднимались и часто подёргивались, выражая тем внутреннее страдание. Лицо, заросшее бородой, похудело, изменившийся голос звучал тихо, но в нём слышались нотки скрытого раздражения.
— В Немцове-то ничего? — спросил старик.
— Разорено приказчиком Морозовым, батюшка.
— Дать больше нечего, — отец развёл руками, приподнял посох и пристукнул им о влажную землю. — Всё поделил, беден я ныне стал, достояние моё — кающаяся душа, да изба на пчельнике…
— Я ничего и не прошу, батюшка, ни себе, ни детям…
Отец смолк, повёл вокруг белёсыми глазами и, нарушив неловкое молчание, опять заговорил:
— Внуки-то большие стали, в гвардии?
— Есть и маленькие, — сказал Александр Николаевич, — в честь деда младшего Афанасием назвал…
Отец сразу нахмурился. Брови его дрогнули. Он весь сморщился, и страдание отразилось на всём его передёрнувшемся лице.
— Их знать не хочу! — раздражённо выкрикнул Николай Афанасьевич, строго осудивший сына за нарушение христианского обычая и дворянской чести. — Иль ты татарин, что женился на своячине? Да женись ты на крестьянской девке, я бы и то принял её как дочь.
— Батюшка, вы не правы! Нет в том ничего осудительного, что Елизавета Васильевна стала мне другом и женой…
— Молчи, грешник! — вскипел старик. — Видать, не образумился в Сибири, — он с силой пристукнул посохом и закрыл в гневе глаза. — Больно ты смел, погляжу, в разговоре с отцом. Рос-то ты смиренным, а вырос отменным. Только отменность твоя преждевременно сгорбила и ослепила меня, мать твою параличом разбила…
Александр Николаевич, побледнев, встал со скамейки.
— Безжалостно терзаете, батюшка, сердце моё.
— Безжалостно?! А много ль жалости-то у тебя сердобольного к родителям своим? Всё насупротив их воли идёшь…
— Таков уж я человек.
— Вот ты как рассуждаешь с отцом! — тоже вставая и грозно размахивая посохом, вскричал Николай Афанасьевич.
— Раб божий Николай, укроти глас свой, — проговорил испуганно монах.
— Не смей больше приходить сюда, грешник! — продолжал неугомонный в гневе старик, — и нехристей беззаконных, прижитых тобою в Сибири, именем Радищевых звать не смей…
— Будут Радищевыми!
— Не позволю! К государю поеду, слышь!
Александр Николаевич не слышал. Охваченный нервной дрожью, он торопливо уходил с пчельника. С отцом было навсегда кончено. Теперь уже в их отношениях не могло наступить примирения. Радищев быстро шагал, а вслед ему несся раздражённый выкрик:
— Не позволю!
9
«…Моё пребывание здесь не слишком благоприятно для меня и навевает лишь грусть. Ваше сиятельство, простите меня за то, что я раньше не ответил вам. Здоровье моё сильно пошатнулось, — писал Александр Николаевич графу Воронцову. — Я нашёл отца в состоянии, достойном жалости, а мать в ещё более печальном положении.
Страшную и грустную истину изрёк знаменитый французский трагик: «Как редки в старости безоблачные дни». Насколько я обрадовался встрече с ними, настолько же горестно было мне увидеть их в столь плачевном положении.
Вы, ваше сиятельство, упрекаете меня, что я не ответил на то место вашего письма, в котором вы пишете о том, чтобы я заехал к вам на обратном пути к себе в деревню. Раз и навсегда я сказал себе, что ваше слово — для меня приказ, который я исполню тем более точно, что сим исполню и моё желание повидать вас ещё раз. Здесь я провожу время среди самой близкой родни, так как у нас почти нет других соседей, за исключением нескольких, чудаков: Карпов и некий барин или знатный барин Зубов, о котором вы наверное слышали…
Я получил два письма вашего сиятельства. Что мне сказать вам? Ваши благодеяния опережают меня, я чувствую их повсюду, а как воздать вам за всё? Если простая благодарность глубоко растроганного сердца достаточна, то моё сердце полно чувства признательности за ваши благодеяния».
10
Фёкла Степановна не осушала глаз от слёз после разговора отца с сыном, о котором ей сразу же стало известно. Она плакала по ночам и тайно днём, когда в доме не было Александра Николаевича. К долголетним страданиям, до бесконечности измучившим её, прибавилась ещё одна неприятность. Она стала очень нервной и раздражительной.
Видя, что сын ходит сам не свой, хотя и не выражает прямо своей угнетённости и подавленности после разговора с отцом, Фёкла Степановна также стремилась быть внешне спокойной и не показывала своих страданий.
Николай Афанасьевич попрежнему жил обособленно в избушке на пчельнике. Он приходил в Аблязово по субботам, мылся в бане и снова удалялся на пасеку. Однажды между стариками произошло короткое объяснение.
— Боже мой, разве так поступают с родным сыном, Николаша, — сказала Фёкла Степановна мужу.
— Он тоже хорош! Утопил душу свою в грехах и родителей за собою в ад кромешный тянет, — зло и визгливо отвечал Николай Афанасьевич. Он явно нервничал и не мог скрыть своего состояния от Фёклы Степановны.
— Николаша, ты надумал всё же уйти в монастырь?
— И уйду скоро совсем.
— Не уживёшься ты с монахами, — примирительно сказала жена. — В обитель-то с открытой душою идти надо, а тебя бес гордыни мучит…
Николай Афанасьевич промолчал. Слова жены затронули в нём самое уязвимое и больное.
— Не осуждаю тебя, — продолжала она, — но подумай, Николаша, нехорошо ты поступаешь с семьёй и с сыном…
— О сыне своём молчи, Фёкла! Нет ему моего прощения.
Николай Афанасьевич гневно пристукнул посохом. Ему стало совсем душно в спальне жены, где спёртый воздух был пропитан запахами человека, не встающего с постели. Он удалился. Разговор с женой поднял в нём тяжёлые и мрачные думы. Для успокоения душевной тревоги у него был один путь — забыться в неусыпной молитве.
Смутные надежды, которые Николай Афанасьевич возлагал на разговор с сыном после его приезда в Аблязово, не оправдались. И желая «умилостивить карающую руку всевышнего», старик решил построить часовню на кладбище. Он горячо принялся осуществлять своё намерение.
Александра Николаевича всё это время одолевали острые и жгучие размышления. Встречаясь с матерью, он старался проявить больше трогательной заботы о ней. Сын говорил самые ласковые, самые приветливые слова, по сердце его изнемогало от сострадания. На больную мать страшно было смотреть.
Он хорошо понимал, что всё манившее в отчий дом утратило свою силу и что жизнь его здесь скоро станет совсем невыносимой и ему придётся уехать из Аблязова раньше времени. Но сказать об этом матери Радищев не мог, зная, что слова его причинят ей новые страдания и могут окончательно подорвать её здоровье.
Измученный неприятностями и долгами, Александр Николаевич, чтобы отвлечься от всего, занялся агрономией. Он с головой ушёл в опыты, проделываемые над тютнярским чернозёмом: обжигал землю, разводил её водой, обрабатывал кислотами, смешивал и взвешивал пробы и сожалел, что не имеет у себя микроскопа для более тщательного и глубокого исследования состава почвы. В кропотливой работе он забылся и отвлёкся от горьких мыслей и суровой действительности.
Радищев давно задумал написать работу о своём владении. И теперь был доволен — опыты его могут быть с выгодой использованы в этом экономическом труде. В «Описании владения» он ещё раз выскажет свои мысли о том, как пагубно действует крепостничество на крестьянское хозяйство. Это будет та же непримиримая линия его взглядов на самодержавную Россию, какую он высказал в «Путешествии из Петербурга в Москву».
И это окрылило Александра Николаевича, прибавило ему энергии. Он вновь попал в свою прежнюю колею, ведущую к заветной цели, которой он шёл всю свою жизнь и которая была причиной всех его несчастий и последней ссоры отцом.
Принимаясь со страстью за большой свой труд, Радищев подумал: «Нужно всегда в жизни иметь правила». Как хорошо, что он имеет эти правила в жизни и может быть теперь снова счастливым даже в своём несчастье.
Глава четвёртая СОБЫТИЯ ВЕКА
«Участь человека быть подвержену переменам».
А. Радищев.1
На Александра Николаевича сильно действовали смена событий, встречи с друзьями и разговоры по душам с простыми людьми, заставляющие глубже задумываться над своей жизнью и судьбами всего обездоленного народа.
По убеждению Радищева, человек, постоянно ищущий чего-то нового, к чему-то заветному стремящийся, не может находиться в состоянии долгого удовлетворения: достигнув одного и удовлетворившись достигнутым, он обязательно заглядывает вперёд и ищет для себя чего-то нового, чтобы в деянии своём дойти до следующей, более высокой ступени.
Если отсутствовало напряжение, а наступало какое-то душевное успокоение, он боялся его, как боятся люди потери сил в расцвете лет.
Только в том случае радость человека неизбывна, когда она достигнута в преодолении препятствий и трудностей.
Жить по Радищеву значило находиться в постоянном борении. Остановиться в его положении, значит сойти с намеченного пути, а после того, что было пережито, передумано и сделано в жизни, уже остановиться было невозможно.
Как только Радищев занялся изучением крестьянского хозяйства, задумался над тем, какими путями можно его улучшить, время потекло быстрее. Незаметно подошла страда, наступил петров день — лета макушка. Разъезжая по полям, Александр Николаевич слышал, как крестьяне, начинавшие жатву, говорили друг другу:
— Больших урожаев тебе.
— Прибыли хлебной, в поле ужином, на гумне умолотом, в сусеке спором, в квашне всходом.
Или один говорил:
— Из колоска тебе осьмина.
— Из единого зёрнышка каравай, — отвечал другой на пожелание соседа.
Но Александр Николаевич видел, что рожь у крестьян выросла посредственная, яровые были немного лучше, но до тех пожеланий, какие высказывались при встрече, было ещё далеко. И это заставляло его искать причины пестроты урожая хлебов в химическом составе почвы. Мысли Радищева работали напряжённо. Он стремился проникнуть в суть вещей, полнее ответить на все вопросы, возникающие перед ним. И прежде чем сделать какие-либо определённые выводы, он повторял свои опыты. «Они ещё недостаточны, — внушал он себе, — и доколе не исследую основательно, воздержусь от догадок и заключений. Иначе опыты введут в заблуждение».
Радищев заносил свои мысли в записную книжку, боясь, что они могут быть забыты им позднее.
«Чернозём в огне обожжённый совершенно, но не столько, как горшки, пожелтел, — замечал Александр Николаевич. — Один раз обожжённый и намочен водою, испустил дух серной печёнки, который однако же скоро разлетелся. Сей дух, думать надобно, произошёл от пережжённого колчедана. Размешанный в воде, он дал половину белого песку и несколько весьма чёрного, на железный похожего, но магнит его не притягивал».
Опыты подтвердили предположения Радищева, что в тютнярском чернозёме содержится много железистых веществ, он быстро пропускает воду. Александр Николаевич записывал, что от наличия железа зависит «зелёность травы, румянец розы, небесная синева василька».
Страницы записной книжки хранили множество записей, указывающих, что деятельная и беспокойная натура Радищева не удовлетворялась первоначальными результатами, а всё глубже вторгалась в сущность затронутого вопроса, искала совершенно точного и ясного ответа.
Так накапливался материал для будущей работы. Он не только ждал её, но и шёл ей навстречу. Сознание того, что он был полезен отечеству и в изгнании, доставляло Радищеву душевную радость. Десятилетняя ссылка его приближалась к концу, и он рассчитывал на полную свободу, открывающую перед ним двери к широкой деятельности.
2
Давним соседом Радищевых был Василий Зубов — родной дядя екатерининского фаворита Платона Зубова. Село Анненково, где он жил, находилось в шести верстах от Верхнего Аблязова. Зубов частенько навещал Николая Афанасьевича и, поглядывая на разорявшееся имение, лелеял мечту со временем за бесценок приобрести его с крестьянами и землёй. Так он купил и Анненково с 250 душами и множеством земли.
Про Зубова рассказывали, что, купив село, он прежде всего обобрал мужиков, живших в достатке, взял у них весь хлеб, скотину, лошадей и посадил на месячину. В рабочую пору он кормил мужиков на барском дворе, наливая им щей в большое корыто. За малейшие провинности Зубов строго наказывал крестьян, а за большие сажал в острог, устроенный в другой, несколько отдалённой деревне. Одного приказчика он держал на цепи более года.
Вот этот-то зверь в образе человека, навещавший Николая Афанасьевича, стал заезжать в дом Радищева и теперь. Ему лично хотелось поближе приглядеться к опальному сыну своенравного старика, завести с ним скуки ради знакомство. Зубов слыл в округе развратнейшим человеком, и для устройства своих кутежей искал подходящего напарника, чтобы веселее проводить время в пензенской глуши. За Зубовым установилась дурная слава самодура и ябедника, но в Пензе все его боялись как богатого и влиятельного дворянина, бывшего в коротких отношениях с самим генерал-губернатором.
Зная, что Александр Николаевич любит словесность и прослыл смелым сочинителем дерзновенной книги, Зубов пытался завязать с ним разговоры о литературе. Ему нельзя было отказать в некотором уме при всех странностях и жестокостях его характера. Он был лукав, пронырлив с начальниками, груб с подчинёнными. Он считал себя непризнанным стихотворцем.
Приезжая в Верхнее Аблязово, он прихватывал с собой издания Вольно-Экономического общества. Он не читал их сам, но зато пускался в рассуждения по поводу написанного, просмотрев лишь заголовки статей, незаслуженно расхваливая или порицая их авторов. Чаще всего Зубов высказывал мнения других, выдавая их за свои.
Александр Николаевич избегал встреч с Зубовым или не удостаивал его своим вниманием. Не найдя общего языка, не встретив в Радищеве человека, которого он надеялся найти, и Зубов в конце концов разочаровался и перестал ездить к Радищевым.
Теперь же, когда Александр Николаевич увлёкся агрономией и занялся серьёзно химическими опытами, прослышав, что у Зубова имеется микроскоп, он решил, хоть и не хотелось ехать к соседу, ненадолго заглянуть к этому «знатному барину».
3
У сарая на скамейке розгами пороли мужика. Вблизи в плетёной качалке сидел Зубов, будто собравшийся на бал или на какой-либо приём. На нём был шёлковый расстёгнутый кафтан, подобранный «в тонь лица». Из-под кафтана виднелся бархатный камзол, на ногах — шёлковые чулки и башмаки с металлическими пряжками. Шея Зубова была нежно укутана белой косынкой, на жилете сверкала золотая цепочка часов с эмалью, подаренных ему пензенским генерал-губернатором.
Потное оплывшее, кирпичного цвета лицо его выражало высшее удовлетворение. Он поминутно прикладывал ко лбу и багровой шее тонкий белоснежный платок и облегчённо вздыхал.
— Не будешь обижать мою любимую суку.
— Она же покусала мальчонку, — надтреснутым голосом говорил мужик, привязанный к скамейке. Грязная, холщовая рубаха его была закручена, лоснившиеся и залатанные портки приопущены.
Качалка Зубова стояла возле стола под деревом. На столе, накрытом скатертью, солнечные лучи играли на хрустальной вазе, в которой лежали яблоки, синим блеском отливал серебряный чайник. Зубов любил своеобразно обставлять каждую порку мужиков. Сидя за чашкой чая и наслаждаясь душистым ароматом крепкой заварки, ощущая запах свежего яблока, он наблюдал за тем, как корчилось мужицкое тело от удара розгами и на коже оставались пунцовые полосы.
— Мальчонку покусала, говорю ж, — молил мужик.
— Пусть не бегает мальчонка по барскому двору, — хладнокровно отвечал Зубов.
— Собака набросилась сама…
— А-а, виновата сука?! Добавить ещё!
И в воздухе свистели уже окровавленные розги, кусочки кожи падали тут же на шелковистую траву.
— За что, барин? — с угрозой кричал мужик, — за что бьёшь-то?
И с тем же спокойствием в голосе Зубов отчётливо говорил:
— Не обижай более барскую суку. Я за неё графу Кутайсову тридцать крепостных дал…
Из-за поворота показались лёгкие дрожки. Запряжённая в них вороная кобылица со звездой на лбу была знакома Зубову.
— Бог соседа Радищева посылает, — с неудовольствием заметил он и распорядился изодранную спину покропить солёной водичкой и мужика со скамейкой унести в сарай.
— А-а, соседушка! Наконец-то, я удостоился чести. Рад, рад! — поднимаясь навстречу Радищеву, залепетал Зубов. — Чему приписать сие благосклонное посещение?
— Дело у меня, вернее сказать, просьба. Узнал я, что микроскоп имеете…
— Вещь отменная! Приобрёл. Иногда забавляюсь. Крылья мух и комаров разглядываю. Зрелище забавное…
— Не одолжите ли?
— Почему ж нет? Непременно!
Зубов пригласил Радищева присесть к столу под деревом.
— Угощайтесь, соседушка! А я люблю пить жжёнку, вина заморские. Не составите ли компанию, а?
— Нет, благодарствую, спешу. Занят.
— А у меня вот нет занятий, — наигранно, с огорчением произнёс Зубов, — а иногда хочется представить себя занятым. Нынешним летом сбирался в столицу, не удалось. Скучища одолела здесь, в захолустье, — и оживился. — Какое великолепие Петергоф! От придворных звуков музыки, от многочисленных огней в садах и на воде, от яхт, колеблемых морскими волнами, от Самсона, мечущего брызги выше крыш придворных зданий, словом, от всей пышности и суеты я возвращался как из волшебного замка вне себя. Я не мог вместить своих восторгов. А какие жемчужины столичные одалиски! — и, косо взглянув на Радищева, рассеянно слушавшего болтовню этого знатного барина, мгновенно переменил тему разговора. — А позвольте спросить, чем срочным заняты в теперешнюю пору?
— Химическими опытами над чернозёмом. Хочу дознаться, почему по-разному родит земля в крестьянском хозяйстве, возвращая ему за тяжёлые труды лишь семена.
— Напрасное занятие! Мужик ноне извольничался, до смуты близко. Стало быть не чернозёмом надо заниматься. Нет, сударь, — торопливо заговорил Зубов, — ежели народ слишком облагодетельствовать, то его нельзя будет удержать в границах его обязанностей. Первейшая почесть крепостных с пользой служить барину. Я разделяю тех политиков, кои основываются на том, что народ, имея меньше знаний, чем другие сословия, едва ли остался бы верен порядку, который ему предназначивают разум и законы. Народ следует сравнивать с мулом, который, привыкнув к тяжести, портится от продолжительного отдыха сильнее, чем от работы…
— Но сие уж слишком! — энергично вставил Радищев, возмущённый рассуждениями Зубова. — Видать, родились вы дворянином для того, чтобы иметь крестьян, а крестьян иметь для того, чтоб с пользой заставлять работать их на барина и истязать…
Зубов резко захохотал, весь содрогаясь от смеха.
— Наивный разговор! Новый государь издал указ о барщинной работе по воскресеньям. Скажу, худого больше, чем хорошего, от государевой меры. Мужики пьют, совсем извольничались. Нет, что ни говори, три дня в неделю работы на барина мало. От пьянства и до смуты один шаг. Так-то, соседушка!
В это время из сарая явственно донёсся стон мужика. Радищев и Зубов переглянулись. Хозяин понял, что гость его догадался обо всём, и, не думая больше ничего скрывать, прямо заговорил:
— У меня голицынских чудес не случится, усмирять военными командами их не придётся. Я сам усмиряю: секу розгами.. Помогает, помотает! Вольничанье-то из мужика, как пыль из ковра, выбиваю. Больно, должно быть, но спасибо скажут мне, когда придут в себя. Уму разуму учу их…
У Радищева лопнуло терпение.
— Можно быть просвещённым человеком, — сдерживаясь заговорил он, стараясь показать, что осуждает подобную философию и поступки Зубова, — возвышенно мыслить, благородно чувствовать и подло делать, сударь..
— Не таюсь, таков по натуре я, — смеясь сказал Зубов, взял из вазы яблоко, протёр его салфеткой и откусил. — Аромат-то какой! Сударь, у меня нет совершенно намерения ссориться со своим добропорядочным соседом Вы любитель изящной словесности, и мне хочется вынести на ваш суд своё любимое дитя, рождённое долгими ночами.
Зубов важно откинулся в качалке. Он закрыл глаза и стал читать стихи о неизмеримости вселенной, о таинственности происхождения мира…
Он приоткрыл глаза и взглянул на Радищева, чтобы уловить, какое впечатление произвело на него начало стихотворения.
Александр Николаевич нетерпеливо встал.
— Галиматья какая-то! — раздражённо произнёс он.
— Что-о? — округлил мышиные глаза Зубов.
Скрипнули ворота сарая и оттуда показался взлохмаченный мужик в изодранной и окровавленной рубахе.
— За что, барин? — простонал он.
— Не будешь обижать барскую суку, — остервенело взревел Зубов.
Радищев взглянул на мужика, и слёзы готовы были брызнуть из его глаз. Тот, шатаясь, сделал несколько шагов и упал на траву.
— Пышный и богатый наряд не скроет и не сможет скрыть никогда души подлеца! — с гневом произнёс Радищев. Он направился к своим дрожкам, подавленный и оскорблённый тем, что услышал и увидел в имении этого знатного барина.
4
Случай с Зубовым был небольшим эпизодом той жестокой действительности, которую Радищев наблюдал всю свою сознательную жизнь. Но этот эпизод взволновал Александра Николаевича и поднял в нём неугасимую бурю ярости ко всему, что угнетало и могло угнетать бесправный, многострадальный, но великий своим духом русский народ. Он долго после поездки в имение Зубова не мог успокоиться и испытывал потрясение более страшное для него, чем размолвка с отцом.
Микроскоп и понадобившиеся ему книги были вскоре же присланы Воронцовым, химические опыты продолжались много успешнее, чем вначале, но спокойствие ещё долго не приходило к Радищеву. Душа его негодовала.
Нет худа без добра. Поездка к Зубову подсказала Радищеву верные пути к выходу свежих сил в нём. Ему захотелось в «Описании своего владения» ещё шире показать бедность и нищету крестьян, деревень и тем самым подчеркнуть, что крепостничество отжило свой век и нуждается в замене новым строем, новым хозяйством.
Повторение — мать, учения. Иными словами и доводами он снова скажет о том, что показал в «Путешествии из Петербурга в Москву».
«Блаженны, блаженны, если бы весь плод трудов ваших был ваш! — заносил Александр Николаевич в тетрадь. — Но ниву селянин возделывает чужую и сам чужд есть, увы!»
Мысли его были захвачены всё одним и тем же предметом его многолетних раздумий. Как можно, чтобы участь полезнейшего сословия граждан, от которых зависело могущество и богатство России, находилось в неограниченной власти небольшого числа людей, которые поступают с ними иногда хуже, чем со скотом. И перед глазами опять всплыла картина, недавно виденная в имении Зубова.
Страсть Радищева к прекрасному была ненасытна, так же как жажда деятельности. Он не просто читал книги, а глубоко продумывал каждую страницу, находя в ней для себя новые мысли, пополняющие запас его знаний. То, что он черпал сейчас из книг, обретало для Радищева своё новое значение. Он мог бы сравнить это с маленькими открытиями. Их следовало переосмыслить и творчески обогатить, чтобы сделать важными откровениями мыслителя. Радищев прочитал в эти дни в подлиннике «Мессиаду» Клопштока и «Энеиду» Вергилия. Особенно много раздумий поднял Клопшток. Он поразил Радищева выразительней энергией своего стиха, чародейством звуковой гармонии. Чтение Клопштока возбудило в нём горячее желание всерьёз поговорить о стихосложении, глубже вникнуть и изучить, где и в чём кроется успех и неудача стихотворца, почему одни стихи плохи, а другие хороши. Александру Николаевичу захотелось раскрыть законы звуковой гармонии и показать это на стихах поэта Тредиаковского.
Так возник ещё один большой замысел. Беспокойная и деятельная натура Радищева требовала нового вторжения в жизнь. Он видел и чувствовал повсюду любимую Русь, вдохновляющую его на смелые дела и подвиги.
5
С наступлением плохой погоды Александр Николаевич заболел. Перемежающаяся трёхдневная лихорадка после десяти приступов, наконец, прошла, но организм Радищева значительно обессилел. Болезнь ослабила его физические силы, он заметно постарел. На лбу прибавились глубокие морщины, мелкая сеточка борозд легла под глазами. Сдало сердце, и он почувствовал, что начал полнеть: камзол едва сходился на нём.
Нужно было возвращаться в Немцово. Александр Николаевич хотел тронуться в путь по первому снегу. Но отец вдруг принял решение произвести законный раздел имения и ему пришлось задержаться с отъездом. Доли самого Радищева в имении не было, была лишь доля его старших детей. Однако он надеялся, что отец даст ему незначительное обеспечение, хотя бы под капитал, вручённый Николаю Афанасьевичу ещё Елизаветой Васильевной перед её отъездом в Сибирь. Отец категорически отказался возвратить деньги Рубановской и вновь наговорил сыну всяких дерзостей. Старик не желал и слышать имени Елизаветы Васильевны и детей, рождённых ею. Случись какая-либо непредвиденная беда с Александром Николаевичем и младшие дети останутся совершенно без средств к существованию.
Радищев с семьёй выехал из Аблязова лишь в конце января и прибыл в Немцово в марте. С большими трудностями он добрался до своего села. Всё, казалось, противилось его путешествию: зима на редкость была морозной и суровой совсем на сибирский лад, в дороге прихворнули дети, и он вынужден был сделать длительную стоянку в Тамбове, окончательно расстроившую его денежные дела.
Всё, казалось, испытывало и без того душевную усталость и напряжение, подвергало пыткам его волю. С возвращением в Немцово семья Александра Николаевича увеличилась — приехали старшие сыновья из Киева, получившие отставку. Расходы по дому возросли. Он вынужден был просить денежную помощь у Воронцова и принять срочные меры к продаже своего дома в Петербурге. Доход, поступавший от съёмщиков дома, не покрывал всех издержек. С этой целью Радищев направил старшего сына Василия в столицу, посоветовав ему вновь устроиться на службу. Николай остался с отцом.
Житейские невзгоды, нависшие над Александром Николаевичем, не сломили его духа. Со стороны казалось, что Радищев должен был впасть в новое уныние, будучи задавлен бременем житейских невзгод. С ним же происходило нечто обратное. Трудности будто закаляли его. И чем больше неприятностей и испытаний готовила ему немцовская действительность, тем спокойнее он относился к превратностям жизни, тем с большим стоицизмом философа переносил их, внушая себе твёрдость духа и воли. «Жить не одной жизнью — вот мой удел», — повторял Александр Николаевич и старался забыть свои невзгоды в труде, в заботах о семье и немцовских крестьянах, влачивших также жалкое существование.
Крестьяне часто обращались к Радищеву. Робко входя в дом и боясь ступить на цветастые половики, они снимали шапки, расстёгивали полушубки, которые носили поверх армяков, и топтались на месте.
— С какою докукою пришли? — обращался приветливо к ним Александр Николаевич.
Робость и нерешительность их отступала. Мужики становились смелее. Они присаживались на сосновую скамейку, ставили вместе ноги, обутые в волоснички — лапти, сплетённые из конского волоса, складывали руки на колени и заводили разговор. Его начинал кто-нибудь один. Он излагал просьбу, рассказывал о бедственном положении, а остальные лишь поддакивали. Обычно такими просьбами были — разрешить им уйти на заработки — жечь извёстку, шить шубы, катать валенки или извозничать в городе. Радищев отпускал мужиков, давал им советы, но знал, что работа на стороне чаще всего безвыгодна и лишь обманывает их надежды.
Иногда приходивший просил помочь заболевшей жене или детям. Радищев шёл и лечил больного. Врачевание немцовских жителей, как и илимских, приносило ему большое моральное удовлетворение. Приятно было сознавать, что он полезен своим крестьянам, делает благое и нужное дело.
6
Неожиданно Радищева навестил Посников. Он передал деньги от Воронцова и посылочку из книжных и журнальных новинок.
— Я на часок заехал, — предупредил он сразу, — проездом. От горячего чайку не откажусь…
Захар Николаевич, отпивая из блюдечка чай, торопливо рассказывал:
— Перехитрил малоярославецких начальников, пытались узнать, не к тебе ли еду, — он хитро улыбнулся, — ответствовал, следую, мол, в Троицкое с поручением к княгине Дашковой от её брата графа Александра Романовича…
— В сорока верстах село, а я не удосужился побывать у Екатерины Романовны, — признался Александр Николаевич, — не засвидетельствовал ей своего почтения…
— Ничего не потерял. Это сделаю я, а сестричка Александра Романовича не того поля ягода, что он, да бог ей судья. Я твои наилучшие пожелания передам и уведомлю, что сам-то не можешь приехать…
Посников лукаво подмигнул, поставил блюдечко на стол и заразительно рассмеялся.
— Так-то, дражайший мой Александр Николаевич, не мытьём, значит, катаньем да возьмём… А земский исправник, видать, смотрит за тобой в оба?
— Смотрит. Опасный я человек для них…
— Опасный, что и говорить, — серьёзно подхватил Посников. — Был бы тихий — в звёздах ходил, а то держат под надзором. Душа у тебя тиши не любит, ей всё бурю подавай. Зато и нравишься ты многим людям, которые знают тебя…
Захар Николаевич отблагодарил за чай, встал из-за стола, любовно положил руки на плечи Радищева и доверительно сообщил:
— Радуйся, душа моя. Ходят верные слухи: «Путешествие» твоё в Москву читают офицеры в смоленском имении полковника Каховского…
Александр Николаевич припомнил, что о Каховском ему рассказывали ещё сыновья в первое своё посещение.
Значит правда, а тогда он не придал значения, хотя и обрадовался услышанному.
— Говорят, недозволенные собрания устроил он, — продолжал Посников, — а ноне всех их выследила тайная экспедиция. Сказывают, духом бунта и смятения пропитаны были, колебанием и изменой присяге… Так-то! Выходит, и впрямь ты опасный человек!
Захар Николаевич снял руки и опять, уже добродушно, рассмеялся. Оба они не знали и не могли ещё знать, что на тайных собраниях в смоленском имении отставного полковника Каховского офицеры расквартированного поблизости Московского гренадерского полка осуждали порядки, заведённые в армии Павлом, и намеревались двинуть войска на Санкт-Петербург и покончить с императором.
— Крылья бы тебе сейчас, Александр Николаевич, — сказал от души Посников, умевший кратко и ярко выражать свои мысли, — а они подрезаны у тебя…
— Эх, Захар Николаевич! Растревожил ты меня своим разговором, порадовал, но растревожил. Бескрылый я теперь. Может, они отрастут ещё, а?
— Ты и бескрылый высоко паришь, Александр Николаевич. Однако скачу в Троицкое. Екатерину Романовну и в самом деле велено навестить. Будет случай, на обратном пути заеду, а нет, так жму твою руку…
Посников так же быстро исчез, как и появился в доме Радищева.
Александр Николаевич разобрал присланную посылочку и остался доволен. В ней были: «Летопись Нестерова с продолжителями по кенигсбургскому списку до 1206 года», «Театр чрезвычайных происшествий истекающего века открыт и представлен очам света в следующих созерцаниях», номера «Санкт-Петербургского журнала» и «Московских ведомостей».
Дни и вечера оказались теперь занятыми этими молчаливыми собеседниками. Отец с сыном читали книги поочерёдно. Всё присланное было как нельзя кстати. Составитель «Театра чрезвычайных происшествий», учитель главного народного санкт-петербургского училища Павел Острогорский, имя которого Радищев встретил впервые, от души насмешил своими едкими созерцаниями — рассказиками. Он описывал «любострастные проказы» и «постыдное буйство» иезуитов и францисканских монахинь, осуждая французское воспитание, развращающее юношей.
Александру Николаевичу нравилось, что автор смело осуждает римского папу с католическими священнослужителями за распространение ими «подобострастного суеверия». Острогорский, не боясь, изобличал «пресмыкающихся тварей, которые только знают — дай», богачей, представленных, как «жадная пучина, пожирающая сокровища мира, желающая себе всего, а другим ничего».
— А ведь неплохо! — восклицал довольный Александр Николаевич, не скрывая своего восхищения автором. — Видать, учитель-то остёр на язык, за иезуитами и русских монахов разглядеть можно…
Радищев закрыл и отложил «Театр». Он посмотрел на сына, сидевшего тут же в комнате с книгой в руках.
— Отменная книжица, почитай, Николаша, — посоветовал отец, — Вольтерова злая насмешка проглядывает в сочинителе созерцаний. При нонешних строгостях «Театр» должно почесть книгою запретною…
«Летопись Нестерова» читалась более углублённо и вдумчиво Внимание Радищева останавливалось на тех событиях в истории Руси, в которых он видел, как отражалась активная роль народа в делах государственного управления. На полях «Летописи» Александр Николаевич делал различные пометки, а отдельные факты выписывал на листки. Таких выписок накопилась целая стопка.
Иногда, после усидчивого чтения, Радищев вставал и прохаживался по комнате. Сын знал: отец в эти минуты чем-то взволнован. И он пристальнее наблюдал за ним. Николай старался разгадать настроение отца по выражению лица — приподнятым или согнутым чёрным бровям, блеску глаз, изгибу губ. Сын нетерпеливо ждал, когда же отец заговорит с ним о том, что его так заинтересовало в книге.
«Летопись Нестерова» только укрепила в Александре Николаевиче прежнюю уверенность в высоком назначении человека и гражданина. С юношеской запальчивостью он говорил сыну о призвании русского народа к великим свершениям в отечественной истории и внушал ему, что свобода — врождённое чувство человека, что оковы, сдерживающие волю народа, будут сорваны, а законы, попирающие это врождённое чувство, — уничтожены.
— Пусть сеющий семена свободы и не дождётся плодоносной нивы, её сожнут потомки и с благодарностью отзовутся о первых сеятелях.
Николай любил такие беседы с отцом. Он глубже воспринимал в эти часы вольнолюбивые мечты своего отца. Александр Николаевич умел быть задушевным другом сыну.
Николай думал, как много получил бы он от отца, если бы последние годы жил с ним в Илимском остроге, где, как представлялось сыну, он ещё лучше познал бы отцовские убеждения.
Знакомство с «Санкт-Петербургским журналом» подняло в Александре Николаевиче сложные чувства. Журнал напомнил ему о тех днях, когда он в домашней типографии печатал свои сочинения. То была не бескрылая для него пора.
«Санкт-Петербургский журнал» печатал нравственные, философские, исторические и политические сочинения. В опубликованном объявлении журнал призывал всех желающих удостоить издателей своими трудами и высылать их в дом на Сергиевской улице и в Таврическом саду, принадлежащий надворной советнице госпоже Баженовой.
На журнале было указано, что отпечатан он в типографии Шнора. И это живо напомнило Радищеву, как он начинал своё типографское дело, покупал шрифты для печатания сочинений у этого же Шнора. Значит типограф и издатель живёт и здравствует!
Эпиграфом значилось: «Как трудно быть кем-нибудь довольным». Александр Николаевич усмехнулся. Эпиграфы красноречивее всего раскрывали замыслы издателей.
Николай Иванович Новиков на своём «Трутне» с злым сарказмом заявил: «Они работают, а вы их труд ядите». Панкратий Платонович Сумароков на «Иртыше, превращающемся в Ипокрену» начертал из державинской оды к Фелице: «Развязывая ум и руки, велит любить торги, науки, а счастье дома находить». А издатели «Санкт-Петербургского журнала» сочли нужным предупредить своих читателей о том, что трудно быть кем-нибудь довольным.
Александр Николаевич с особым вниманием прочитал статьи журнала, чтобы понять, чем же вызвано такое предупреждение издателей, каковы подлинные их намерения. Ему стало радостно. Дело, так хорошо начатое Новиковым, ныне сломленным и загубленным стариком, живёт. Его дело продолжает не известный ему Иван Пнин.
Радищева невольно потянуло отозваться на это хорошее начинание, в котором он ощутил знакомую ему струю, но как это сделать, он ещё не знал.
Внимание Александра Николаевича привлёк трактат о воспитании. Автор доказывал, что человек при рождении своём не расположен ни к добру, ни к злу. В трактате природа называлась первой матерью человека, а второй, — общество, которое образует его разум, прививает чувство, сеет в сердце семена погрешности, какие господствуют в стране. Автор отрицал врождённое дворянское благородство, а выдвигал личные достоинства, и эта мысль больше всего понравилась Александру Николаевичу.
С замиранием сердца он прочитал «Письма», подписанные «Читателем» с пометкой: «Из Торжка». Кто же мог быть этот пытливый автор «Писем», скрывающийся за подписью «Читатель»? Автор касался свободы печатания. В главе «Торжок» своего «Путешествия из Петербурга в Москву» Радищев говорил об этом же. В доказательство, как вредно «стеснение разума» и благодатна «свобода тиснения», читатель приводил Голландию и Англию. Он также ссылался на эти страны, где печатание не стесняется цензурой.
Александр Николаевич в первый момент даже не разобрался, что это могло значить? Его, как волной, захватила радость. Нет, он не ошибался! По-другому и понять нельзя было: публикуемые «Письма» в журнале напоминали читателю об его «Путешествии» и о нём самом, возвращённым из сибирской ссылки и теперь прозябающем в Немцово.
От такой догадки можно было сойти с ума. Что же такое делается вокруг него? Отставного бригадира Ивана Рахманинова судят за издание в своей домашней типографии сочинения Вольтера, в смоленском имении полковника Каховского читают его «Путешествие», проводятся тайные собрания и участников их заключают в крепость. В журнале же, издаваемом в столице, намекают о нём, в статьях поднимаются те же вопросы, какие были и остаются для него попрежнему близкими и больными. И всё это происходит где-то рядом с ним, несмотря на тёмное павлово царствование.
К тому, что происходило внутри России, прибавлялись и внешние события, также взволновавшие Радищева. В конце минувшего 1798 года началась война в Италии, на морях Европы, Америки и Африки. «Политический журнал» сообщал, что соединённые с турецким флотом российские морские силы в Средиземном море продолжали свои предприятия с неутомимой деятельностью. Они завоевали последний из французских Леванских островов Корфу и к флоту адмирала Ушакова подошли свежие подкрепления: к нему присоединилась эскадра под начальством контр-адмирала Пустошкина.
Журнал рассказывал, что император Павел возглавил мальтийский орден, издал манифест, призывающий дворянство всей Европы вступить в него рыцарями. Радищев угадывал тайный смысл и назначение этого ордена, собиравшегося бороться с «развратом умов и духом пагубной вольности».
Сообщение журнала о том, что фельдмаршал Суворов отправился в Италию, где будет командовать русско-австрийской армией против французов по настоянию венского двора, напомнило Александру Николаевичу недавний разговор с Воронцовым. «Немая баталия полководца с императором и впрямь увенчалась успехом. Фельдмаршал вырвался на простор. Вот в чём была разгадка вызова Суворова ко двору», — размышлял Радищев. Он радовался выигранному сражению Суворовым ещё и потому, что журнал всячески расписывал достоинства русского полководца. Фельдмаршал назывался «столь великим, и достопамятным человеком, что отменные свойства его заслуживали сохранения для потомства и в нашей современной истории». С восклицанием корреспондент заключал своё сообщение: «Вообще, редкие герои и полководцы в чужих краях осыпаны такими всеобщими и единодушными почестями, как генерал-фельдмаршал Суворов».
Александр Николаевич разделял восторг этого корреспондента. Он знал по себе, какие манящие возможности открывались перед Суворовым после кончанской ссылки, как должна была встряхнуть старого полководца свобода и возвращение его в любимую армию. Это душевное состояние было хорошо понятно Радищеву.
Где-то в глубине его поднялись постепенно назревавшие и теперь готовые прорваться наружу внутренние силы. Так личные радости Радищева вдруг слились с общими, большими радостями в единое, поднимавшее его чувство и к нему пришло вдохновение.
7
Александр Николаевич понял одно: молчать ему больше нельзя. Наступала пора, когда ему надо сказать то, что накопилось на сердце. И вдруг эти разрозненные известия о России, которые он услышал от умного, обладавшего большой памятью Посникова и вычитал в «Политическом журнале», заставили Радищева почувствовать их свежую родниковую силу.
Он не сразу нашёл себя. То брался за мелкие лирические стихотворения, словно пробовал свои силы, то продолжал своё «Описание владения», стараясь показать, что хорошие плоды выращиваются на хорошо возделываемой почве. В своём трактате он отвечал многим авторам «Трудов» экономического общества, которые рекомендовали способы поднять лишь доходы помещичьего хозяйства.
«Пустые бредни, — негодовал он, — как слепцы крутятся вокруг истины и не замечают её. Заботу должно проявлять о крестьянском хозяйстве. Всякая возделываемая земля должна быть плодородна и доставлять радость крестьянину».
Но трактат этот так и остался не законченным. В черновиках сохранились лишь начальные главы «Описания моего владения».
Порою Александр Николаевич отдавался тому спору, который разгорелся в своё время между поэтами Сумароковым и Тредиаковским, — как надо строить на русском языке софические и горациевы строфы, созданные древними греческими и римскими авторами. Он помнил этот спор, разгоревшийся в годы его молодости. Теперь поэтические чары Клопштока, которого он недавно перечитал, возвратили его к тому спору русских поэтов и ему самому захотелось создать софические строфы, так хорошо использованные Клопштоком.
Радищев тут же начертал метрическую формулу, а потом наполнил её и поэтическим содержанием.
Ночь была прохладная, светло в небе Звезды блещут, тихо источник льётся. Ветры нежно веют, шумят листами Тополи белы. Ты клялась верною быть вовеки, Мне богиню ночи дала порукой; Север хладный дунул один раз крепче — Клятва исчезла.В этот исключительно творческий вечер Александр Николаевич просидел долго. Незаметно для себя он сменил несколько сальных свеч в настольном подсвечнике, но нашёл то, что искал, создав свои «Софические строфы».
Ах! почто быть клятвопреступной!.. Лучше Будь всегда жестока, то легче будет Сердцу. Ты, меня лишь взаимной страстью Ввергла в погибель. Жизнь прерви, о рок, рок суровый, лютой, Иль вдохни ей верной быть в клятве данной. Будь блаженна, если ты можешь только Быть без любови.Радищев отложил перо и прочитал написанное. «Софические строфы» звучали несколько необычно в русском стихе. Они жили своей полной благозвучной гармонией. Это была первая его работа после длительного перерыва и первая его творческая радость. Она окрылила его поиски, подняла в нём смолкнувшее вдохновение.
Александр Николаевич оделся и вышел погулять. Беловатая, с палевыми кромками туча двигалась по небу, как огромный полог. И вдруг из-за неё выплыли серебристо-зелёные звёзды и нежно залучились и засияли. Лицо Радищева ласково тронул ветер, неслышно прилетевший от берёзовой рощи, и освежил его разгорячённые щёки своим прохладным дыханием. Александр Николаевич невольно повторил про себя только что написанные им «Софические строфы» и почувствовал, как сродни они всему русскому — этой дивной ночи, сиянию звёзд и появлению луны над деревенькой.
Но луна ещё долго не всходила. Прежде всего её зарево засветлело над шапкой тёмного леса, а потом выплыл огненный шар и стал взбираться всё выше и выше над сонной землёй.
Прошло ещё, быть может, час или полтора, как луна совсем поднялась и, задёрнувшись бледнозелёным облаком, тускло смотрела на тихую землю, на Немцово, где всё живое давно спало.
Радищев возвратился с прогулки, упоённый тишиной и прелестью лунной ночи, и снова присел к столу. Что же такое произошло в его жизни? Он будто помолодел, почувствовал огромный прилив энергии. Радищев стал перебирать события последних дней в своей немцовской жизни и происшедшие там, во внешнем большом мире, ещё далёком от него, но уже ворвавшемся в строй его мыслей.
«Их привёз Захар Николаевич», — вспомнил он Посникова. Друг, истинный сердечный друг, проявлявший о нём все эти годы заботу и внимание! Он взбодрил его своим живым словом. Но рядом с Посниковым встал совершенно неизвестный ему Иван Пнин, «Трактат о воспитании» которого он вычитал в «Санкт-Петербургском журнале». За ним увиделся бригадир Иван Рахманинов. Он также не знал его. Затем отставной полковник Каховский и безымённые офицеры Московского гренадерского полка, читавшие его «Путешествие из Петербурга в Москву».
«Все они мои друзья», — подумал о них Радищев, и ему захотелось ответить им благодарностью, написать «Оду к другу моему», рассказать о своих долгих и мучительных раздумиях, о неизбежной человеческой смерти — мудром и животворящем законе жизни, сказать о нём словами мужественной и суровой правды. И не откладывая замысла, Александр Николаевич тут же стал писать эту оду.
Летит, мой друг, крылатый век, В бездонну вечность всё валится, Уж день сей, час и миг протек, И вспять ничто не возвратится Никогда.Строки набегали одна за другою. Перо легко скользило по бумажному полю, оставляя слова, сильные и волнующие душу. Писалось без помарок, будто начисто: так был ясен ему в этот вечер смысл рождаемой оды к другу.
Давно Александр Николаевич не писал с таким вдохновением. Колеблющееся пламя свечи слабо освещало его неуютное и бедное деревенское жилище. Иногда он брал щипчики и оправлял нагоревший фитиль, счищал оплывшую свечу и опять писал. За окном то шумел лёгкий ветер, то стихал, а он, объятый думами и весь охваченный видением этого друга, изливал ему своё сердце, высказывал свои надежды.
Почто стенати под пятой Сует, желаний и заботы? Поверь, вперять нам ум весь свой В безмерны жизни обороты Нужды нет.8
Весна долго подкрадывалась тёплыми апрельскими днями и, наконец, в Немцово появились её первые вестники — скворцы. Потом, то углом, то трепетной ниткой, часто разрываясь и вновь подстраиваясь, должно быть, уставшие за своё далёкое путешествие из тёплых стран, летели дальше на север дикие гуси. Из небесной синевы отчётливо доносилось их радостное гоготание, их изумление перед необъятностью земли, над которой они летели.
Их голоса, как и первые щёлкания скворцов, Александр Николаевич принял за приветствие наступившей весны. А вскоре, росшие на берегу пруда ветлы, вытянули к солнцу свои жёлтые пушистые, пахнущие мёдом серёжки и с утра до вечера над ними тоже радостно гудели пчёлы, шмели и осы.
Днями Радищев работал в саду, а вечерами там же отдыхал, на скамейке, поставленной под раскидистыми ветками яблони. Он наблюдал за пробуждающейся вокруг него жизнью и с наслаждением вдыхал свежие, острые весенние запахи. Меж ветвей сквозило бездонное небо. Лёгкая синева берёзовой рощи дышала как живая, вся трепетная и подвижная.
Весна бодрила, вселяла надежды на скорую полную свободу, на возвращение к той жизни, которая для Радищева представлялась заполненной непримиримой борьбой со злом и темнотой, за светлую и лучезарную правду. Когда он думал об этом, казалось, что над всей землёй уже витает дух вольности, что искры её, вспыхивающие в родном отечестве и в странах Европы, непременно должны превратиться в бушующее пламя.
Таково было предчувствие Радищева, навеянное происходившими событиями. В эти минуты Александр Николаевич как бы оглядывался назад, старался осмыслить прожитый человечеством век. И уходящее столетие виделось ему безумным, но мудрым веком, в котором люди узнали, как на западе встают бури, рушатся, монархии, рождаются республики, а на их месте опять возникают империи.
Восемнадцатое столетие, век великих свершений, не будет забыто в историй человечества, не канет бесследно в бездну времени! Так размышлял Александр Николаевич наедине с собою. Это были искания и нахождения тех ясных поэтических мыслей, которые позднее должны были лечь на бумагу горячими, взволнованными словами и строфами. Что будет это — ода или песнь, лирическое стихотворение или поэма, Радищев ещё не знал: форма его произведения чаще всего рождалась, когда он брал перо в руки и садился за стол. Сейчас он только был эмоционально взволнован и, ощущая пробуждение в природе, одновременно ощущал, как накапливались в нём самом творческие мысли.
В такие минуты и часы Александр Николаевич забывал, что окружающая действительность несла ему неприятности, огорчения, личные обиды. Они казались мелкими и эгоистичными в сравнении с тем, что его волновало. Радищев весь отдавался вдохновению.
И как бы в унисон его приподнятому настроению в сад донеслись звуки скрипки. Это играл Николай. Он исполнял простенькую песенку Моцарта. Незамысловатая мелодия звучала неуверенно, Николай ещё слабо владел смычком, но и эта песенка была сейчас прекрасна.
Отец отметил, что у сына ещё не было настоящей игры, хотя чувствовался тонкий вкус и понимание звука.
Радищев любил музыку Генделя, Баха, ревностно почитал Моцарта. Ему было немножко обидно, что молодые, чуткие пальцы сына, его музыкальный слух были недостаточно развиты. Николай пытался, но не мог получить те звуки, какие составляли богатство скрипки, её бархатисто мягкие неисчерпаемые оттенки звучания.
Александр Николаевич поднялся со скамейки и направился к дому. Он заметил сыну, что надо увереннее владеть смычком, и взял у него скрипку. По давней привычке, прежде чем играть на ней, он проверил струны, чуть подтянул их. Александр Николаевич прижал скрипку заострившимся подбородком, нежно провёл смычком. Струны поочерёдно отозвались, и он, как-то сразу, не сбиваясь, проиграл ту же песенку Моцарта, и скрипка в его руках словно оказалась другой, она будто наполнилась живым трепетом.
Радищев стал импровизировать. Из-под смычка невольно полилась мелодия песни о бабьей доле, которую он слышал на Волге, когда на барке подплывал к Нижнему Новгороду. Мелодия лилась плавно и протяжно.
Катя и Дуняша вошли в кабинет Радищева. Слушая игру на скрипке, и они словно перенеслись туда, на Каму, и вновь очутились на барке.
И вдруг непрошенно в этот вечер, такой взволнованный и полный чудесными звуками скрипки, суровым напоминанием безжалостной действительности в дом неслышно и крадучись вошёл очередной «странник».
Катя, стоявшая с Дуняшей возле дверей кабинета отца, первая заметила постороннего человека, прижавшегося к стенке и бегающими глазами высматривающего, что происходит в доме Радищева. «Все свои, — уловил глаз «странника», — чужих нет». Ему, видимо, хотелось захватить кого-нибудь из посторонних у Радищева. И что-то похожее на огонёк досады блеснуло в бегающих зрачках этого человека, больше напоминающего коршуна, высматривающего свою добычу.
— Ай! — испуганно вскрикнула Катюша. — Тут чужой человек!
Крик дочери сразу оборвал мелодию песни. Душевное равновесие Александра Николаевича нарушилось. Он нажал на смычок, скрипка с болью взвизгнула, струна не выдержала и лопнула.
Радищев шагнул к двери.
— А-а, странничек! — с издёвкой произнёс Александр Николаевич и признал в нём одного из своих тайных блюстителей, давно не бывавшего в доме. — Не тебя ль как-то отчитал Трофим? Тогда ты был бравым гусаром, — и громко рассмеялся.
«Странник» скрипнул зубами.
— Веселитесь! — с злорадством сказал он, не пытаясь уже скрываться и таиться от Радищева.
— Так и доложите по начальству — веселюсь! — Александр Николаевич повернулся и быстро отошёл от двери в глубь кабинета. Он присел на подоконник и раскрыл окно.
Деревенька была окутана синеватыми сумерками. Только зеркалом блестел пруд, отражая погасающую вечернюю зарю. Радищев просидел так до тех пор, пока не стихли последние девичьи голоса возле немцовских гумен.
9
Прошёл ещё год, заполненный грустью и маленькими радостями, огорчениями и неудачами в личной жизни Радищева. Кончился срок его десятилетнего изгнания из Санкт-Петербурга по указу Екатерины II. Он имел право на возвращение в столицу. Как он ждал этого дня все годы, какие радужные надежды возлагал на него! Но никто не вспомнил о нём, ибо теперь Радищев был не нужен в политической игре, разгоравшейся при восшествии на престол нового государя.
Дела складывались неважно: нужда попрежнему не оставляла Радищева. Сын Василий сообщил, что с продажей дома получилось не так, как хотел отец. Дом был продан давно, но Радищев до сих пор не получил ни копейки, хотя сам израсходовался — заплатил маклеру, внёс деньги по сборам, истратился на содержание продавцов. Вместо наличных он получил заёмные письма с оплатой их в разные сроки в течение трёх лет.
При этом бессовестный покупатель дома и тут словчил — он выдал заёмное письмо на человека, чьё имение назначено было к продаже с торгов, а взыскание суммы с него повлекло за собой тяжбу и новые издержки.
Будучи в затруднительном положении, Александр Николаевич просил разрешения у калужского губернатора съездить в Петербург, но ему отказали.
Десятый год изгнания сложился для него много труднее, чет предполагал Радищев. Он перестал получать книжные новинки от продавца Риса: усилившаяся цензура, причуды Павла и тайный надзор за писателем были причиной этого. И в письме к Воронцову Александр Николаевич вновь вынужден был просить графа прислать новинки для чтения, журналы, в которых тот уже не нуждался. Радищев жаловался, что ему совершенно нечего читать. А лишиться своих лучших молчаливых друзей, значило оторваться от большой жизни, поддерживавшей в нём силы, помогавшей сопротивляться невзгодам.
Воронцов не замедлил отозваться и с оказией прислал в Немцово ободряющее письмо, книги и журналы. Опять в комнате Радищева зазвучал крепкий, уверенный, жизнерадостный голос Захара Николаевича. Как и в тот раз, он держал путь в Троицкое, к княгине Дашковой, а к Александру Николаевичу заехал на часок. И опять Посников выложил ему кучу новостей о том, что происходит в отечестве и за его пределами.
Александр Николаевич удивлялся необычайной осведомлённости Посникова.
— Не удивляйся, мой друг. Графская почта проходит через мои руки, как же не знать мне, что делается в столице. Семён Романович засыпал письмами из Англии, и будто весь мир у меня перед глазами…
Захар Николаевич смеялся и рассказывал, что одержимый Павел попрежнему щедр на законы и рескрипты: запретил танцевать вальс, носить одежду с цветными воротниками и обшлагами, кучерам и форейторам кричать при езде, а женщинам ставить на окна цветочные горшки без решёток…
Кроме смешного, было и много страшного в причудах Павла. Недовольные его порядками и подозреваемые офицеры и чиновники исключались из службы, прогонялись сквозь строй, ссылались в Сибирь с обрезанными языками.
— Павловы сумятицы! Особливо остёр был на их осмеяние покойный князь Безбородко, — говорил Захар Николаевич.
— Князь умер? — переспросил Радищев.
— Скончался минувшим летом. Александр Романович уважал князя, беспокоился, кто после него будет канцлером. Павел доказал, что он из ничего делает канцлеров. Иностранная коллегия, как трактирная девка, из рук в руки переходила. То Куракин, то Растопчин, а ноне Панин.
Радищев подумал, что резкость суждений, высказанных Посниковым, собственно больше выражает оценку графа Воронцова, некогда служившего в дипломатическом корпусе и теперь ещё не безразлично относящегося к деятельности иностранной коллегии.
— Александр Романович на колючие слова мастак, сказывал однажды, что иностранная коллегия, стоя всегда на ветру, как мельница вертится без умолку и мелет вместо чистой муки всякий вздор, который насыпает туда чудотворный Павел…
Посников чуточку передохнул и продолжал:
— Потому, Александр Николаевич, и фельдмаршал Суворов с армиею сначала был послан в италийскую землю, а ноне отозван. Так-то, мой добрейший товарищ! И впрямь не поймёшь сей ветряной мельницы…
«Должно быть, фельдмаршал оказался больше не нужен Павлу, — мелькнула мысль у Радищева, — одна политическая игра кончилась и в голове императора созрел новый план». Он почти угадывал — Павел шёл на разрыв с Англией и искал сближения с другим союзником. И Александр Николаевич сказал:
— Безрезультатное окончание италийского похода не умалит славы русского полководца…
Ничего хорошего не предвещали предстоящие перемены союзников, кроме новых народных тягот и осложнений в отношениях России с государствами Европы. Радищев был встревожен и, стараясь предугадать, кто же мог быть возможным союзником, подумал: «Не Франция ли?»
А Посников говорил:
— Буонапарте был назван победителем Италии. Да он в два похода своих не сделал того, что Суворов в три недели Французы имели в своих руках лишь часть того, что завоевал Суворов. Не Буонапарте, а наш фельдмаршал должен быть назван к чести российского воинства победителем Италии…
А месяца через полтора после этого разговора Радищева с Посниковым пришла ошеломляющая весть о смерти Суворова. Позднее было получено письмо от Василия с вложенной записочкой Павлика, устроенного Царевским гардемарином в морской кадетский корпус. Оба сына по-разному рассказывали о смерти и похоронах полководца в Александро-Невской лавре.
Василий сообщал о глубоком горе, охватившем всю армию, Павлик добавлял — при опускании гроба «трижды двенадцать раз» гремели пушечные залпы, по улицам «тьма-тьмущая народа» провожала в последний путь победоносного фельдмаршала.
Александр Николаевич был потрясён скорбной вестью. Он ясно сознавал, что российское воинство потеряла в Суворове своего гениального и любимого полководца.
10
За окнами шумели ветлы и старые берёзы, стройно покачивались ели, в стёкла постукивали редкие капли. Всё было затянуто сеткой дождя. Жухлый лист покрыл мокрую землю, будто ржавыми пятнами.
С наступлением осени больше загрустилось Радищеву. «Видно участь человека быть подвержену переменам», — рассуждал Александр Николаевич и искал для себя наилучшего и полезного способа избавиться от грусти, навеянной тусклым пейзажем. Однако такое настроение продолжалось до снежной зимы. Только установившиеся ясные, морозные дни, солнечное сияние лебяжьего пуха пороши вернули Радищеву душевный покой.
Толчком послужило чтение только что появившейся книги — «Героической песни о походе на половцев удельного князя Новагорода-Северского Игоря Святославича», знаменитое «Слово о полку Игореве».
Ненасытный ум Радищева пленило описание неудачного похода князя Игоря против половцев. Поражение, приведшее русских в уныние, сочинитель «Песни» сравнивал с прежними победами над половцами, напоминал о славных и достопамятных делах храбрых дружин и князей. И хотя в основе «Песни» лежало поражение, но вся песнь, названная героическою, дышала непобедимым, могучим духом воинства, любовью его к родному отечеству.
Духом древности была полна эта «Героическая песня» о походе на половцев. Когда Радищев читал её, ему казалось, что он слышит шум битвы, видит перед собой поле сражения, чувствует дыхание степи, покрытой серебристым ковылём, прорезанной синим Доном, ощущает горечь поражения, печаль и тоску, разорение родной земли, хватающие за душу.
И тут же прежние ратные подвиги русских порождали радостную веру в то, что нет силы, которая могла бы покорить родную землю и тех, кто: встал на её защиту.
Чтение «Песни» сближало в его представлении далёкие события с живой действительностью. Радищев думал, как дороги ему чувства тех людей, а дела их близки делам, свершавшимся чудо-богатырями Суворова в Италии.
В чудном творении неизвестного сочинителя он услышал много созвучного его настроению, неповторимо родного, русского, прекрасного, как сама жизнь.
Так задумалась и стала писаться богатырская повесть «Бова», где давние события истории перемежались с собственными впечатлениями, воображаемое путешествие сказочного героя Бовы с действительным описанием увиденного во время поездки в Сибирь. Он как бы отдавал дань своего уважения прошлому и настоящему, вымыслу и правде, создавая свою повесть в стихах.
Воздохну на том я месте, Где Ермак с своей дружиной, Садясь в лодки, устремлялся В ту страну ужасну, хладну, В ту страну, где я средь бедствий, Но на лоне жаркой дружбы Был блажен и где оставил Души нежной половину.То, что вынашивалось ещё в Илимске, то, о чём сказал тобольским друзьям в последнюю встречу, — созрело. Вслед за «Бовой» им были написаны «Песни, петые на состязаниях в честь древних славянских божеств».
До этого момента Александр Николаевич представлял себе чётко лишь отдельные куски, какие-то фрагменты. Целое ему ещё не виделось, не приходило чувство, необходимое творцу, не хватало умения, не вырисовывалась форма поэтического произведения. Теперь всё встало на своё место. Для воплощения мысли и чувства следовало сесть за стол и писать.
С Радищевым повторилось то, что было в Илимске, когда он засел за свой философский трактат. Сейчас из-под пера его бежали строчки, величественные и славящие древних. Но всё было органично и неразрывно слито с сегодняшним, прошлое не отрывалось от настоящего, а лишь помогало лучше воспринять подвиги, совершаемые его современниками.
Он вспомнил, как встретившись с тобольскими друзьями, прочитал им отрывок о великом предназначении своего народа. И Радищев страстным шёпотом повторил его.
О народ, народ преславный! Твои поздние потомки Превзойдут тебя во славе Своим мужеством изящным, Мужеством богоподобным, Удивленье всей вселенной: Все преграды, все оплоты Сокрушат рукою сильной, Победят — природу даже, — И пред их могущим взором, Пред лицом их одарённым Славою побед огромных, Ниц падут цари и царства…Да, Человек подвержен переменам! Радищев с небывалой силой пережил в эти дни, завершающие собой восемнадцатый век, чувство гениального прозрения, которое открывало ему движение человечества вперёд к заветной цели. Творец прозорливо видел будущее своего народа. Александр Николаевич был безгранично счастлив: он не утратил веру в человека, творящего свою историю.
Глава пятая В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
«Нет, ты не будешь забвенно, столетье безумно и мудро».
А. Радищев.1
Начались мартовские оттепели. В большом парке Андреевского имения снег чуть побурел от осыпающейся сосновой и еловой хвои. Всё оживлённее становились птицы, почуявшие весну. Стрекотали без умолку сороки, громче галдели грачи, пронзительнее цилинкали синицы, бойко перелетающие от куста к кусту. На солнцепёке, в помокревшем снегу шумнее вели себя воробьи, на крышах ворковали голуби.
Луна была на ущербе. По задранному вверх рожку, мужики предсказывали — быть апрелю тёплому, а весне — дружной.
Граф Воронцов, много гулявший, наслаждаясь первыми запахами подтаявшего снега, согретого солнцем парка, вечерами не знал, куда ему деваться. Раздумья наедине томили его. Воронцов словно предчувствовал какие-то грозные и большие события. «Томные дни», как называл он павлово царствование, долго не могли продолжаться. Всё предсказывало ему, что в столице должны произойти перемены. Об этом он читал между строк в письмах, получаемых из столицы и от зарубежных друзей.
Последние годы Александр Романович почти не выезжал из Андреевского. Он успел многое прочитать и просмотреть в своей большой библиотеке, накопленной за десятилетия.
После смерти Лафермьера граф всё чаще и чаще коротал часы в вечерних беседах с Захаром Николаевичем. Последние дни Воронцов был сосредоточенно задумчив, и Посников, замечая это, старался узнать причины испортившегося настроения графа.
— Устал так жить, — говорил Александр Романович. — Прежде любил заниматься древностью латинскою, напоследок авторы французские умом и приятностью своего языка к себе привязали, а ныне ничего не радует…
— Выехали бы ненадолго в столицу, развеялись, — советовал Захар Николаевич, — аль сестрицу свою понаведывали бы.
— Всё не то! — вздыхал Воронцов.
Перед сумерками одного из таких вечеров граф одиноко сидел у камина в большой гостиной. Он смотрел на фамильные портреты предков и весь унёсся в прошлое.
Неслышной поступью вошёл лакей с пакетом на серебряном подносе.
— С фельдъегерем-с из Санкт-Петербурга-а…
Воронцов вздрогнул. И тут, в глубине московских лесов, вдали от столицы, ему мешают спокойно жить. Уже дважды Павел присылал письма, вызывал его ко двору и предлагал пост вице-канцлера. Под разными благовидными предлогами Воронцов отказывался, и отказ его милостиво сходил ему. Теперь снова пакет с фельдъегерем. Какой новый пост придумал для него строптивый император!
Не обращая внимания на чёрную печать, граф дрожащей рукой вскрыл конверт. Глаза его просияли. Он тут же опустился на колено, забыв о присутствующем лакее. В полученном пакете находился собственноручный рескрипт воцарившегося Александра I. От белой бумаги, на которой он был написан, будто повеяло новым светом.
— Захара Николаевича ко мне, — сказал Воронцов, вставая с колена. Он живо и легко заходил по гостиной.
— Нежданная радость, — обратился Александр Романович к вошедшему Посникову и передал ему рескрипт нового императора.
Посников прочитал бумагу, молча и широко перекрестился.
Лицо Воронцова сразу сделалось гордым. Он важно встряхнул седоватой головой без парика и поднял глаза кверху.
— Благоволением судьбы кончились томные дни для России, Захар Николаевич. Заживут раны от прежних мук, отверженные кнут и топор больше не восстанут… — Воронцов был в этот момент привлекательно красив. — Благословим счастливое время и в нём окончим наш век…
В ночь граф Воронцов выехал в Москву, а оттуда в столицу, чтобы начать службу при новом государе.
Почти одновременно с вестью о воцарении Александра I в Немцово пришло известие о помиловании Радищева. Его принёс малоярославецкий земский исправник. Он официально «изъявил волю его высочайшего императорского величества» и объявил, что отныне Радищев свободен. К крайнему изумлению исправника, Александр Николаевич не выразил большой радости, какую земский ждал увидеть в доме поднадзорного ему человека.
Радищев не осенил себя крестным знамением, не вымолвил слов благодарности, не проронил слезу счастья и даже не оказал никаких знаков внимания ему, земскому исправнику, принёсшему в дом первым весть о свободе.
— Значит, можно выехать, куда мне угодно, не испрашивая на то разрешения? — спросил Александр Николаевич удивлённого и обескураженного исправника.
— Так точно-с!
— Катенька! — окликнул Александр Николаевич и, не дожидаясь пока появится дочь, сам направился к ней в горенку.
— Гордец! — зло прошипел земский и сильно хлопнул дверью.
Дочь стояла посередине горенки в простеньком платье из пёстрого ситца.
— Бумага о помиловании пришла…
На смугловатом лице дочери появились слёзы.
— Катя, что ты?
— День-то какой счастливый, папенька! — легко вздохнула Катя и обняла Александра Николаевича. — Полная воля!.. Помилованы, а вы будто и не рады?
Отец тряхнул седой головой.
— Третье помилование в моей жизни, — сказал он строго, — вроде привык, дочка, чему ж радоваться-то?
Она взглянула непонимающе на отца.
— Матушка-царица первая помиловала — смертный приговор заменила ссылкой в Сибирь, её сын Павел вызволил меня из Илимска под надзор в Немцово, внук же отнятые почести милостиво возвращает, волю отнятую дарует… Только чует сердце моё, воли-то попрежнему не будет, найдут, чем сковать её.
— Мрачные мысли у вас, папенька.
— Нет, дочь! Я в душе радуюсь. Не хочу, чтобы мою радость земские исправники видели. Радость у меня своя, тайная. Руки снова развязаны, и сколь можно будет я снова полезными делами займусь…
Александр Николаевич, обхватив руками голову дочери, привлёк её к себе и дотронулся сухими губами до её мягких волос. Потом он сказал Кате, что немедля выедет в Москву попроведывать младших детей, а там разузнает всё и, может быть, проедет ненадолго в столицу, чтобы поправить свои запутанные денежные дела, решить вопрос со службой.
Дочь слушала его внимательно. Ей казалось, что всё должно так и быть, как говорит отец.
— Ты побудешь здесь с Дуняшей…
— Я на всё согласна, папенька.
— Я знал, дочь моя, — и тише, доверительно, как совсем взрослому человеку, добавил: — а радость моя впереди. Ты о ней ещё узнаешь, — и широко, счастливо улыбнулся. Улыбка его, светлая, добрая, отцовская улыбка, согрела Катю. Ей стало по-настоящему радостно, ибо она поняла сердцем, о какой радости говорил отец.
2
Царствование Александра I началось коротким просветлением после страшного и тёмного Павлова правления. Новый государь словно спешил загладить ошибки отца и тем поднять свой авторитет в глазах общественного мнения. Возвращались на службу военные и гражданские лица, получившие отставку или осуждённые; снимался запрет на вывоз различных товаров и продуктов из России; амнистировались беглецы, укрывшиеся в заграничных местах; освобождались люди, заключённые в крепости, сосланные на каторжные работы, лишённые чинов и дворянства. В длинном списке счастливцев было названо имя Радищева, находившегося в ссылке дольше, чем это было предписано указом Екатерины II.
Меры, предпринимаемые новым государем, не вызывали у Радищева ни радости, какую вызвала у дворянства смена императора, ни равнодушия, с каким перемена царствования была встречена в народе. Александр Николаевич присматривался к тому, что же будет дальше.
Новые указы и манифесты продолжали создаваться и оглашались в присутственных местах. О них говорили всё больше и больше. Люди облегчённо вздохнули. Говорили, что открывалась возможность сделать что-то полезное и разумное для отечества и народа. Радищев уже не мог относиться к происходящему с прежним безразличием; указы государя затрагивали наболевшие вопросы общественности и были близки ему. Вновь открывались частные типографии и дозволялось печатать книги и журналы. В «Московских ведомостях» стали исчезать объявления о продаже людей без земли.
Чаще и чаще слышались голоса о том, что наступил век принципа законности, справедливого и открытого признания недостатков прошлого правления и горячего желания исправить их. Александр Николаевич тоже поддался этому приподнятому и искусственно раздутому настроению, завладевшему умами многих образованных людей.
Указы следовали. Каждый из них уничтожал какую-нибудь несправедливость, насилие, стеснение, произвол. Легко было поддаться этому общему настроению, как поветрию, а поддавшись, быть брошенным в его могучий, всё захватывающий поток.
Радищев старался сдержать себя, трезвее других смотреть на происходившее, правильно оценить меры молодого государя. Однако он окончательно поддался этому новому настроению, когда узнал, что среди пяти манифестов, появившихся второго апреля, одним из них уничтожалась тайная экспедиция.
Кому-кому, а ему известна была вся подноготная и неприглядная сторона этого царского учреждения. И радость, подкатившаяся огромным комом, словно оглушила его. Легко было поверить в возможность начинающихся преобразований, когда в манифесте писалось:
«Рассуждая, что в благоустроенном государстве все преступления должны быть объявляемы, судимы и наказуемы общею силою закона, мы признали за благо не только название, но и самое действие тайной экспедиции навсегда упразднить и уничтожить…»
На мгновение охватили воспоминания: нудные допросы Шешковского в каземате с низкими сводами, разговоры, слышанные в крепости о дознаниях верного слуги императрицы, после которых заключённые отправлялись на погост. Радищев почти физически ощутил облегчение, будто сбросил с плеч тяжёлый груз.
И всё же, как ни захватило Александра Николаевича чувство радости, где-то внутри, подсознательно, голос твердил ему: не испытание ли общественного мнения все эти указы и манифесты государя? Не так ли начинала царствование Екатерина II, бабушка нынешнего императора, широко объявив полномочия комиссии по составлению нового уложения?
Радищев, человек проницательного, ума, верно угадывая мнимое облегчение в жизни, сам обманулся в нём, увидев вскоре, как всё возвышенное и смелое оказалось кратковременным и быстро стало глохнуть.
3
Дела в Москве Александр Николаевич уладил в несколько дней. Можно было двигаться дальше, следовать по пути, по которому проезжал уже несколько раз раньше. Знакомая дорога: путешествие из Петербурга в Москву! А теперь из Москвы в столицу. Чем-то оно завершится?
Санкт-Петербург! Всю дорогу, пока лошади скакали от одной станции до другой и гремела повозка, Радищев думал о столице. Он видел её в мельчайших подробностях; настолько разыгралось его воображение.
Минутами ему казалось, что он никуда не уезжал из столицы, что далёкий путь его в Сибирь, жизнь в Илимском остроге и поднадзорном Немцове — лишь тяжёлый сон. Он скачет вновь по тем же станциям, которые проезжал до Москвы, а теперь делает остановки на них, возвращаясь в Санкт-Петербург.
Радищев видел всё тех же бедных крестьян, у которых от сохи и топора одеревенели суставы. Возле деревень и по грязным улицам бродили робкие овцы с исхудалыми свиньями. Над полями, очистившимися от снега, дико кричали галки, вороны, как бы дополняя собой невзрачную картину сельского жития. Он останавливался в избах со спёртым воздухом и чадом, с жалостью смотрел на оборванных и полуголодных крестьянских детей делился с ними припасами из дорожного погребца, слушал разговоры взрослых о злосчастном житье-бытье, о недоимках и долгах, о барщине. «Как не утаишь бородавки на лице, не спрячешь тёмные пятна и дыры на старом кафтане, — так не прикроешь и безотрадную жизнь народа никакими громкими манифестами!»
Радищев видел нищую сермяжную Русь, и думы его были о том, что он не будет шататься в сенях знатных господ, «искать их внимания, на которое они так искусны. Нет, он не будет гнуть спину до колена! Страшнее того, что он пережил, не будет».
Дорога до Петербурга убеждала: ничто не изменилось с тех пор, как он проезжал здесь десятилетие назад. Оно и не могло измениться: менялись лишь монархи, а власть оставалась прежней.
Радищев почувствовал, как застыла спина, ему трудно было разогнуться. Перед ним темнела ямщицкая фигура в малахае. Отчётливее громыхали колёса. Он понимал, что заснул, но долго ли или коротко спал, не осознавал.
Александр Николаевич просил сдержать лошадей и спрыгивал на подмёрзшую, покрывшуюся навозной ржавчиной дорогу. После долгого сидения было больно вставать на ноги и ещё больнее передвигаться.
Свежесть утра бодрила. Снова за тёмной стеной леса брезжил рассвет последнего дня его пути, его почти одиннадцатилетней разлуки со столицей и друзьями.
Радищеву не верилось, что перед ним Петербург, родной город, где прошли двадцать лет кипучей общественной и литературной деятельности. Подобное сегодняшнему он испытывал, когда въезжал в столицу после учёбы в Лейпциге вместе с друзьями — Кутузовым и Рубановским.
У заставы Александр Николаевич привстал и тронул ямщика рукой по плечу. Ямщик натянул вожжи, и разъярённые вспотевшие кони враз встали как вкопанные перед шлагбаумом.
Из караульной будки вышел заспанный отставной солдат в рваном полушубке. Поёживаясь от холода, прежде чем поднять шлагбаум, он раза два зевнул и почесал спину о столбик. Радищев узнал солдата и выскочил из повозки. Он обхватил несколько растерявшегося караульного и крепко прижал его к груди.
— Слава богу, свиделись, — растроганно произнёс он. — Не узнаёшь меня?
Солдат, немного отпрянувший от Радищева, пристально оглядел его с ног до головы.
— Запамятовал, малость. Кто будешь-то?
— Радищев!
— Радищев! Боже ты мой! Вернулся, значит, братец, — проговорил тепло и задушевно солдат, действительно припомнив, как давно, с десяток лет назад, повстречались они на этой же заставе в осенний дождливый день.
— Перемен много с того дня произошло, — сказал солдат и спросил: — Опять в службу?
— Ещё не знаю.
— Устроишься!
Александр Николаевич, преисполненный чувством благодарности к отставному солдату за то, что тот набросил тогда ему на плечи свой полушубок, вынул из кармана часы и протянул их.
— Добро не забывается.
Солдат замахал руками.
— Бери, бери!
Александр Николаевич ещё раз прижал солдата к груди.
— Спасибо тебе, русская душа! — сказал он и вскочил в поджидающую повозку.
Лошади тронулись. Солдат долго смотрел вслед.
Радищев въезжал в город в благоговейно приподнятом настроении. Неожиданно он вспомнил Елизавету Васильевну. Счастье его возвращения было бы полнее от того, что и она, эта женщина с героической душой, въезжала бы сейчас вместе с ним в родной Петербург.
Окраина столицы была грязна. Рубленые дома лепились неровными рядами. За ними вдали, поднимались огромные каменные здания. Александр Николаевич рассматривал всё это с живым интересом, будто видел город впервые.
Возле ворот с дощатыми калитками играли ребятишки с дворовыми собаками. У колодцев с журавлями толпились женщины с коромыслами и вёдрами.
Столица!
Народ шёл в чуйках и рваных зипунах, баре — в париках и камзолах, с накинутыми на плечи шинелями. Бабы кутали головы в тёплые платки, мужики нахлобучивали шляпы, прозванные «гречишниками», чиновный люд ходил в треуголках.
Ближе к центру, на более просторных улицах города, очищенных от грязи, выстроились шарообразные фонари, похожие на плошки на столбах. И на всё это давили каменные великаны, суровые и царственные, как подобает зданиям столицы.
У Синего моста, на Мойке, перед дворцом Чернышёвых было особенно оживлённо. С раннего утра здесь толпа людей занимала всю площадь, располагалась и на мосту. На парапете набережной сидели пильщики, маляры, ямские и другой простой люд.
Радищев окинул их пристальным взглядом и понял, зачем они здесь. Вытаскивая из котомок принесённую снедь, они закусывали, о чём-то толковали, кричали. Все они искали себе дела, чтобы заработать на кусок хлеба и не умереть с голода.
У подъездов мёрзли кучера, по улицам бродили нищие и юродивые, толпы пришлого народа. Он знал, это был простой люд, искавший работы в домах богатых дворян. Радищев заметил в толпе несколько женских лиц, и ему отчётливо представилось, как в девичьих, с рассвета и до темна, их проворные руки будут шить столовое и нательное бельё, вязать тёплые вещи, ткать ковры, скатерти, покрывала, стежить одеяла, вышивать по бархату, тюлю, батисту, атласу удивительные узоры.
Руками вот таких же крепостных женщин и девушек вязались кружева «паутинки» и «решётки». Они были так тонки, что лежащие в куче походили на пену. Эта работа требовала особой чистоты рук и умения. И те, кто её выполнял, обрекались на безбрачье, а тем из них, кто готовился стать матерью, стригли волосы, одевали в белое посконное платье и отсылали в деревню на скотный двор.
После одиннадцатилетней разлуки со столицей жизнь её Радищевым воспринималась острее и глубже.
Санкт-Петербург никогда ещё не был так хорош, так величав и значим для Александра Николаевича, как в этот раз. Ему казалось, что в столице всё было воодушевлено новой для него жизнью. Такое восприятие окружающего объяснялось его же личной приподнятостью и восторженностью, его радужными мыслями о предстоящей жизни.
— Куда прикажете везти?
— На Грязную улицу, — сказал произвольно Радищев.
Лихорадочный восторг овладел им в момент, когда лошади вынесли повозку на Грязную улицу. Сколько раз он проходил, проезжал по этой улице, сколько раз с детьми и Елизаветой Васильевной гулял тут.
Но, когда лошади были возле церкви владимирской божьей матери, он вспомнил, что дом на Грязной ему не принадлежит, он давно продан в уплату накопившихся долгов. С грустью взглянув на него, на знакомый сад во дворе, Александр Николаевич крикнул ямщику:
— Гони дальше! Остановимся в заезжем доме…
Ямщик покачал головой. Он подумал о странностях барина и подстегнул лошадей.
4
В числе тех, кто первыми был вызван в столицу, находился и граф Завадовский. После смерти императрицы он жил в своём роскошном дворце в Ляличах, на юге России. Павел не любил графа и старался всячески ущемить его интересы, затронуть самолюбие одного из фаворитов своей матери.
Однажды Павлу доложили, что якобы дом в Ляличах выше Михайловского замка. На юг немедля поскакал специальный фельдъегерь, чтобы узнать, действительно ли это так. Но граф, во-время уведомленный, успел насыпать перед своим дворцом террасу, закрыв ею нижний, подвальный этаж: дом при измерении оказался на аршин ниже Михайловского замка, и Завадовский спасся от нависшей над ним грозы Павла.
Старый граф, зная нерасположение к себе Павла, платил ему тем же и при случае поносил императора. Он считал, что за сорок лет усердной и плодотворной службы впервые безвинно отставлен и незаслуженно обижен. Поэтому Завадовский вдвойне обрадовался, когда Александр I вызвал его в столицу. Он вновь лелеял надежду занять при дворе важный государственный пост и «на старости лет послужить на славу новому императору».
Завадовский не ошибся в расчётах. Милостиво принятый государем, он был назначен членом совета, присутствующим в сенате, а вслед затем и председателем комиссии по составлению законов.
В рескрипте Александр I льстиво писал:
«К совершению сего мне казалось нужным избрать человека, который бы сверх обширных по сей части сведений имел и достаточное познание о действии бывших доселе комиссий, дабы тем скорее и успешнее мог он всё привести в настоящее движение. Находя в вас все сии свойства и зная, с одной стороны, с каким успехом употреблены вы были прежде по сей части, с другой, быв уверен, что честь содействовать пользам в столь важных отношениях не может не быть для вас нечувствительна, я поручаю вам сие дело во всём его пространстве, вверяя вашему непосредственному управлению существующую ныне комиссию о законах, под единственным моим ведением».
Граф Завадовский, как ни умён был, а клюнул на ловко заброшенную удочку. С горячим усердием он принялся за порученное дело.
— Нельзя не усердствовать, — говорил он при встречах с графом Воронцовым.
— Заря блаженства, — подтверждал тот, — наступившая в России, даст нам силы и дух для плодотворной службы во имя её обновления…
Граф Воронцов, четыре дня назад назначенный в сенат, успел получить от государя андреевскую ленту. Он был в приподнятом настроении и сам назвал это настроение «праздником своей души».
— Я не скор, но в преднамерениях своих твёрд, — говорил Завадовский и делился с графом, своим другом и единомышленником, — что обдумано мной, в том не колеблюсь. В мысль мою не входит, претерпев бурю, возвратиться на волны…
Завадовский считал, что он много пострадал от прошедшей бури, свирепствовавшей в России, как он называл павлово царствование, и верил словам Воронцова, что заря блаженства ещё сможет поднять его упавшие силы.
— Дело государево я делал с тем совестным страхом, — говорил он, — с тою боязливою осторожностью, с какою дворянин, прямой потомок знатного рода, должен был звание своё носить. Вот и был наказан, отставлен…
— Что говорить, зачем вспоминать! Словами Тацита выражаясь, говорить было опасно, а молчать бедственно…
— Да, да, милейший мой Александр Романович.
— Теперь можно сказать, — продолжал Воронцов, — брат Семён в письме намекает, что весть о смерти Павла в английских газетах появилась, когда он был жив и прикидывал на карте поход в Индию…
— Дворец кишел шпионами, — вставил Завадовский.
Воронцов спокойно говорил:
— Сия злая штука, думаю, совершена генералом Беннигсеном, весьма связанным с английской разведкой…
— Упаси бог от таких людей Александра I.
Они беседовали мирно и неторопливо. Уютная обстановка небольшого домашнего кабинета Завадовского располагала к такой беседе. Оба графа сидели на канапе, подложив под спины небольшие подушечки, искусно вышитые шёлком и бисером руками крепостных девушек Завадовского.
Воронцов рассматривал изящное с инкрустациями бюро и на нём портрет молодой графинюшки, уже потускневший от времени. Он невольно подумал, что его обошло семейное счастье.
— Утверждён непременный совет, а государь всё продолжает принимать личные доклады, — страстно продолжал он. — Зачем? Допрежь всего хочется мне, Пётр Васильевич, подать записку Александру о правах сената, от установления коих зависит и будущее устройство России, и, быть может, самое доверие, которое должно иметь к его установлению…
Завадовский тоже стоял за присвоение сенату некоторых верховных прав.
— Сенат должен располагать, — говорил он, — государственным доходом, наказывать смертью без конфирмации государя…
Воронцов соглашался.
— Сенат должен представлять государю о таких указах, кои сопряжены с большими неудобствами при исполнении их, либо несогласны с другими законами, или неясны…
Так они сидели вдвоём и изливали друг другу свои настроения и, откровенно, не стесняясь, делились планами. Не сговариваясь, они невольно вырабатывали ту близость взглядов на настоящее и будущее, какая им, старым екатерининским вельможам, была по душе и какую они намерены были провести теперь.
Однако, несмотря на внешнюю общность их взглядов на настоящее и будущее России, было в них много несходного, различавшего этих двух вельмож, двух членов сената. Граф Завадовский хотел служить новому государю, чтобы в службе своей выместить всю обиду и злобу на Павла, ущемившего его фамильную гордость и самолюбие. Воронцов же, не менее Завадовского оскорблённый Павловым царствованием, стремился сейчас к тому, чтобы ум и силы свои полнее отдать служению отечеству. Он желал быстрее залечить нанесённые раны и поднять любимую им Россию на новую ступень её государственного развития, оградить отечество от внутренних смут, пережитых при Екатерине II, от смут, которые растерзали на куски просвещённую Францию.
Боясь повторения русской пугачёвщины и французской «напасти Бастилии», граф Воронцов весь свой тонкий и гибкий ум дипломата и государственного деятеля сосредоточивал теперь на том, чтобы предупредить Россию от неизбежных столкновений дворянства с народной массой, ограничить безудержную власть монарха в государстве, в которой усматривал главное зло, хотел провести такие законоположения, которые отвечали бы этим его взглядам, а, значит, и обезопасить Россию от внутреннего раздора.
Нельзя было не заметить в этих взглядах Воронцова дальновидного политика, политика, во что бы то ни стало стремившегося оградить интересы дворянства, урезать самодержавные права государя и несколько расслабить крепостнические путы, сдавившие до удушья крестьян, и тем парализовать ту силу, которая поднимала их на бунты и восстания.
Завадовский, на минуту смолкнувший, вдруг мечтательно сказал:
— От времён царствования Петра Великого Россия непрерывно восходила в гору и лишь при Павле оборвалась и попятилась назад. Не ведали, откуда грянет гром!
Воронцов повернул голову и вскинул свои тёмные счастливые глаза на Завадовского.
— Уже в последние годы екатерининского царствования, — сказал он, — корабль сей не грузился, а выгружался людьми способными…
И хотя в другое время слова Воронцова могли бы обидеть Завадовского, теперь он промолчал, пропустил их как бы мимо себя. Будучи одним из фаворитов Екатерины II, осыпанный её милостями и щедротами, Завадовский все годы её бурного царствования прожил безмятежно, как влиятельный вельможа. Наоборот, Воронцов, открыто осуждавший фаворитизм Екатерины II и осудительно относившийся к её двору, вынужден был уйти в отставку и покинуть государственную службу в коммерц-коллегии. Он сейчас, как и раньше, придерживался своих взглядов.
— В записке своей, — добавил он, — я не могу не осуждать правление Екатерины… Кто служил при ней и имел вес и силу, у того самый ничтожный труд назывался подвигом и наравне с оным награждался и замечаем был. Разве не правда?
— Надо ль ворошить память государыни? — осторожно сказал Завадовский. — Не надо, Александр Романович. Ты ведь знаешь, суетность та столь мне наскучила, что я принял твёрдое намерение вслед за тобою оставить службу, окончить последние дни мои в деревне…
— Да, да, верно, знаю! Но я далёк был, чтобы затронуть в тебе воспоминания прежних лет. — И ещё убедительнее, словно извиняясь, повторил: — Знаю, что жизнь и пороки столицы надоели тебе, Пётр Васильевич.
Лакей внёс кругленький столик с маленькими голубыми с золотыми обводами чашечками и с дымящимся таким же голубым кофейником.
— Вот и отлично-о! — протянул Завадовский.
Лакей быстро налил чашечки и удалился. Отпив крепко сваренного кофе, они обменялись мнениями о членах законодательной комиссии.
— Сперанский заговаривал со мной о Радищеве, — начал Завадовский, и Воронцов уловил в его голосе заметную перемену и понял её причины. Тому неприятно было говорить о Радищеве как человеку, который вместе с другими сенаторами подписывал смертный приговор автору дерзновенной книги. Но Воронцов обрадовался случаю, что об Александре Николаевиче граф упомянул первый. — Михаил Михайлович заверяет, что Радищев может с совершенным успехом составить историю законов — творение необходимое, может много пролить света на тьму, нас облегающую…
Завадовский усмехнулся, скользнул взглядом по Воронцову. Тот сосредоточенно и внимательно слушал его.
— Признаюсь тебе, — продолжал Завадовский, — сомневаюсь в столь похвальной тираде Михаила Михайловича. Он человек экспансивный, увлекающийся. Хотел спросить твоё мнение, хотя наперёд знаю — у заступника вольнодумца оно будет не менее похвально…
Александр Романович не выразил своей радости ни жестом, ни взглядом. Совершенно спокойно он сказал:
— Участь Радищева жалка. Но верно и то — он навлёк гонения на себя тем, что был достойнее всемогущих…
— Я так и знал! — раздражённо заметил Завадовский. — Хвали, хвали! Набивай цену своему любимцу и себе, как покровителю вольнодумца, ныне сие модно! Сам государь именует себя республиканцем. Токмо скажу, живучи в его республике, не забывай права самодержца…
Они рассмеялись, вполне понимая друг друга и тот особый смысл, который вкладывался в последние слова.
— И всё же Радищев, — ставя на стол чашечку, сказал Воронцов, — в составлении сей истории может, действительно, много пролить света на тьму, нас окружающую…
— Вот и Сперанский таковую же мелодию на своей свирели играл. Говорил, не худо бы дать Радищеву углубиться в разыскания, каким образом обычай укреплять крестьян превратился в право, в каком положении сей род людей был в России при различных её превращениях…
— Что касаемо меня, Пётр Васильевич, думаю, Радищев, может быть полезен для комиссии более других её почётных членов по своим дарованиям и наклонностям к письменному труду…
— Письменный труд, что и говорить, примечательный вышел из-под его пера, в жёлчь обмакнутого…
— Радищев прощён императором, — строже сказал Воронцов, — следует ли тревожить старые раны смелого человека, повергнутого в беду за сочинение, выпущенное не ко времени?
— Не буду, не буду! — сдался Завадовский. — Понимаю сам, отнюдь не умысел, а неосмотрительность, некое легкомыслие повергнули его в несчастье…
— Боюсь, что ошибаешься, именно умысел и глубокомыслие.
Завадовский встал с канапе, за ним поднялся и Воронцов.
— Думаю, что несчастие его пойдёт на пользу ему, — и заключил, — непременно подам представление государю о Радищеве. Не в службу, а в дружбу нашу, — подчеркнул Завадовский.
— Спасибо, Пётр Васильевич…
5
Радищева невольно потянуло к монументу Фальконе, чтобы взглянуть на великое ваяние скульптора, изобразившего Петра — русского царя, смотревшего дальше других царей и глубже понимавшего пути, по которым должна была пойти Россия.
Памятник стоял всё так же незыблемо, главенствуя над Невой. И чем ближе подходил Александр Николаевич к нему, тем он становился величественнее на фоне просветлевшего петербургского неба. Нельзя было не залюбоваться великолепным произведением Фальконе. Бессмертное творение рук и разума казалось ещё краше, чем раньше.
Как зачарованный Радищев обходил памятник. Он смотрел на него с замиранием сердца, словно видел впервые. Творение великого мастера вновь вызвало в нём мысли, высказанные в «Письме к другу, жительствующему в Тобольске».
Великий всадник, вихрем ворвавшийся на скалу, лишь на мгновение застывший в своём движении, звал вперёд. Радищев подумал, что, может быть, самое главное величие этого русского государя состояло как раз в том, что он придал великой громаде, какой была Россия, это движение вперёд, открыв совершенно новую, замечательную страницу в отечественной истории.
Пётр свершил в своей жизни то великое и нужное, что так гениально воплотил в камне и меди Фальконе.
«Так и каждому, кто стремится вперёд и пытается сказать что-то новое, предстоит свершить своё правое дело». Говоря о фальконетовском творении и Петре Первом, он посвятил своё вдохновенное слово Сергею Янову. Как изменился с тех пор его друг в своих взглядах! Но как-то, сами по себе, личные обиды и горечи, которые пережил и переживал, отступили перед тем великим и нужным, что суждено свершить.
С этими мыслями Александр Николаевич пересёк площадь и долго шёл, пока не очутился перед Михайловским замком — мрачным зданием, будто окрашенным кровью, в стенах которого недавно свершилось цареубийство. Павел словно специально выстроил этот замок для того, чтобы, будучи замкнутым в его глухих стенах от живого мира и отгороженным рвами с водой, над ним тайно было совершено обдуманное до мелочей убийство. Деспота не спасла и не могла спасти от возмездия никакая крепость, никакие караулы, тайные лестницы и двери!
Он навестил Воронцова, о возвращении которого в Санкт-Петербург осведомился ещё в Москве. Граф жил в своём старом роскошном дворце на Обуховском проспекте. Здесь ничего не изменилось. Седенький камердинер графа несказанно обрадовался Радищеву, искренне прослезился при его появлении.
— Прибыли-с! — вытирая рукавом бархатного кафтана глаза, говорил он. — Почитай, лет десять отсутствовали…
— Немного более, — сказал Александр Николаевич, растроганный добродушием камердинера.
— Дайте-ка я на вас взгляну. Постарели-с, батюшка мой, как постарели! Голова-то вся седущая стала, — принимая шляпу, не унимался камердинер.
— Как не постареть, ежели не ошибаюсь, Савелий…
— Помните, значит?
— Помню, дорогой, помню. Александр Романович у себя?
— Сейчас доложу…
У графа Воронцова в доме остались прежние, раз заведённые исстари порядки. «Никакие смены царствований не коснулись старых порядков», — подумал Радищев. Здесь всё осталось по-старому, как в бытность Александра Романовича в должности президента коммерц-коллегии. Тогда особенно часто бывал в этом доме Радищев.
Граф в богатом шлафроке появился в дверях раньше камердинера и, широко раскинув руки, направился навстречу Радищеву.
— Рад скорому приезду, несказанно рад! — подходя к Александру Николаевичу, говорил граф. Обхватив Радищева, он направился с ним в домашний кабинет-библиотеку, часть книг которой только что была привезена из подмосковного имения. Они прошли зал с фамильными портретами и с большими зеркалами в бронзовых резных рамах. Александр Николаевич, увидевший своё изображение, был удивлён, что он и Воронцов после их последней встречи немного располнели.
Пройдя в кабинет-библиотеку, загромождённую шкафами, оба присели возле круглого столика в мягкие, обитые штофом кресла, всё ещё внимательно разглядывая друг друга и поражаясь изменениям, заметными им обоим после их последней встречи, три года тому назад.
— Друг мой, — с сердечной теплотой начал Александр Романович, — не мешает помнить, что начинается новый век в нашем отечестве, знаменующийся новыми веяниями и преобразованиями.
Воронцов был в хорошем настроении, какого не испытывал уже давно, находясь вдали от государственной деятельности. Недавняя награда — андреевская лента, которой граф был пожалован в связи с назначением его в сенат, говорила, что государь отнёсся к нему с почтительным уважением, хотя и без симпатии, считая его, видимо, человеком, всё ещё придерживающимся «старых предрассудков».
Молодые друзья Александра I, наоборот, подсказывали императору чаще встречаться и не пренебрегать советом этого деятельного вельможи, искушённого в государственных делах.
«Он стар, но идеи его молоды», — внушали они государю и напоминали, что граф был обвинён раньше за покровительство Радищеву.
Воронцов успел уже высказаться о правах сената, Державин, его старый недруг, не замедлил осудительно отозваться об этом.
Державин считал, что Воронцов — этот «атаман» молодой партии Александра I — вводит «мнения аристократические или ослабляющие единодержавную власть государя».
Различные отзывы и разговоры, доходившие до Воронцова, только распаляли его, и он ещё более энергично принимался за наброски то одного, то другого рассуждения, касающегося государственного переустройства. Служба захватывала всю его кипучую натуру.
Радищев помедлил с ответом Воронцову, заговорившему о начале нового царствования.
— От всей души желал бы, чтобы новый век увенчался и новыми преобразованиями. Начало многообещающее, каков будет конец.
— Добрейший Александр Николаевич, сомнениям не должно быть места в твоей душе.
— Как сказать, Александр Романович, обжёгшийся, на молоке дует на воду, учит народная поговорка.
— Да, да! — представив на минуту всё пережитое Радищевым за это страшное десятилетие, поспешил сказать граф. — Я понимаю, прошлое давит и всё ещё гнетёт твою душу. Но, друг мой, то кануло в вечность. Настал новый день России, и нас ждут её новые, святые дела.
— Новых дел не страшусь, ежели святость их сродни моей приверженности.
— Есть приятная весть, — продолжал Воронцов, — приобщить знания твои к государственному делу. Был намедни разговор у меня — определить тебя в законодательную комиссию, чтобы мог ты скорее упражнять ум свой на государственном поприще. Каково?
— Смею ли отказываться, Александр Романович!
— Я знал, я надеялся…
Радищев встал и подошёл к книжному шкафу.
— Вольтеровы сочинения. Всякий раз, перечитывая их, открываешь новые тайники, — с глубоким уважением к гению французов отозвался Радищев.
— Намедни в сенате попали мне бумаги, — чуть рассмеявшись, начал Воронцов, — дело отставного бригадира Рахманинова, начавшееся в 94 году и до сих пор затянувшееся волокитою. Велел резолюцию наложить — сдать бумаги архивариусу. Не порицать издателя следовало бы за его благое начинание, а ободрить поощрениями. Давно сие было, а разве можно забыть встречи мои с сочинителем, чья слава мир потрясла…
Александр Николаевич знал о том, что Воронцов встречался с Вольтером, но он никогда не слышал от Александра Романовича об этих встречах.
— С удовольствием послушаю, — Радищев сел в кресло.
Воронцов, полуобернув немного склонённую голову, окинул прищуренными глазами корешки вольтеровских книг с золотым тиснением.
— Было сие в мою образовательную поездку по Европе. Совсем юнцом я совершил тогда сей вояж, — спокойно стал рассказывать он. — Помню, дядя наставлял меня в письмах, что мотовством доброго имени не наживёшь. Отец поучал — в знании надлежит мне дойти до такой степени, чтобы не посрамить себя, когда в компании случится вступить в рассуждение о каком-нибудь деле…
Впервые я встретился с Вольтером в Мангейме за обедом у курфюрста. Кто я был тогда? Младенец! Но Вольтер со мною был как с равным. Вот великое достоинство гения! Я спрашивал у него совета про учение в Париже. Он сказал, что лучше учиться в Страсбурге, и хотел познакомить меня со своим приятелем, который знал натуральное право, истории древнюю и нонешнюю…
Радищев, слушая графа, подумал, что вольтеровы советы не прошли бесследно для Александра Романовича. Они дали ему направление. Воронцов хорошо воспринял, что труд, добродетель и честь — единственные правила для достижения поставленной цели на его жизненном пути.
— Забыть встречи с Вольтером нельзя, — продолжал граф. — Обаяние его ума и знаний было столь велико, что всё затмило в моей голове. Я стал вольтерьянцем. Помню, тогда в Париже я впервые заступился за крепостного. То был слуга Плещеева, человека жестокого нравом. Парень просил меня, чтобы я, с разрешения папеньки, выкупил бы его у Плещеева. И я возгорелся желанием освободить этого человека… С тех пор я и заразился идеей освобождения крепостных….
Радищев порывался возразить Воронцову, сказать ему, что мало желать освобождения крепостных, надо осуществлять его на деле. Но граф, видимо, хотел выговориться до конца и поведать обо всём навеянном воспоминаниями. Александр Николаевич продолжал слушать его.
— Батюшке моему поручили тогда составление проекта нового уложения. Сколько чести счастливой я видел в том! Уже тогда мне хотелось отдаться сему делу. Но слабое мое знание натурального права не позволяли сего сделать. Ещё тогда в молодости я думал, государство, какое бы ни было, один раз просвещённое, само собою пойдёт вперёд, только бы помешательства большие сему не делали. Что ж я могу сказать теперь? Набросал я в минуты своих раздумий рассуждение о непродаже людей без земли, в коем доказываю, что постыдный промысел рекрутской продажи следует отменить… Хотел бы я, чтоб рассуждение моё прочёл ты, Александр Николаевич, и сказал бы замечания свои…
— Хорошо, — согласился Радищев, но добавил: — Помнить надо, Александр Романович, где слово «раб» лишь государем истребляется, а вельможами ещё проповедуется со всею тягостью, там не должно надеяться, что бумаги произведут своё действие. Народ кормить, как Лукулл, словом мало — он жаждет вольности…
Граф встал, прошёлся по кабинету и остановился сзади кресла, навалившись на спинку.
— Но объяви общую вольность, не станет ли сие добро худшим злом для народа? — сказал Воронцов. — Я знаю, бунты утихнут, не станет причин к мятежам мужиков, но не получится ли другого, — неразвитая, слепая, дикая чернь бросит неблагодарный и тяжкий труд земледельца и хлынет в города? Кто будет возделывать хлебные нивы, платить оброк, давать рекрутов? Нет, Александр Николаевич, я думаю так: дай вольную волюшку, разнуздай народ и рухнет крепость империи — основа основ российского государства…
— Пусть рушится, на её основе народ воздвигнет новое государство, — с запальчивостью сказал Радищев. — Бояться сего, значит, не знать свой народ. Вольность сделает его хозяином, а какой же хозяин враг своего блага?
— Так-то оно так! — громко засмеялся Воронцов, — но вольные люди не дадутся, чтоб им лоб брили…
— Не к чему тогда и огород городить, Александр Романович, — несколько грубо, но со справедливой прямотой выразился Радищев. — Боюсь, признаюсь, боюсь, как бы новые веяния и преобразования не остались голыми плодами законодательной комиссии, службу в коей прочите мне…
— Горячность твоя мне по душе и делает честь тебе. Скажи мне теперь, как устроился ты? — спросил Воронцов, переходя с разговора о жгучих проблемах времени на житейские темы.
— Пока ещё никак, — ответил Александр Николаевич, — думаю нанять квартиру, а там видно будет. Прежняя усадьба моя пошла в уплату накопившихся долгов…
— Опрометчиво поступил, надо было посоветоваться, другой выход нашли бы…
— Не смел обременять лишними тяготами, — признался Александр Николаевич.
— Будет нужда впредь, обращайся.
— Спасибо. И так в неоплатном большом долгу…
— Ну-ну-ну! — подняв руку с белыми, изнеженными пальцами, украшенными перстнями, остановил его Воронцов. — Не обижай моих чувств к тебе…
Массивные кабинетные часы, стоявшие в углу, пробили четыре удара.
Вошёл лакей, чтобы доложить графу — стол накрыт.
Александр Романович пригласил Радищева отобедать вместе с ним.
6
Встреча с Воронцовым, как добрая фортуна, одарила Радищева радостными, сбыточными надеждами. Счастье, казалось, само шло ему навстречу. Мог ли он думать, что встретит в столице такую поддержку? Благодетельная рука графа, дружески протянутая к нему в пору его лихолетия, вновь покровительствовала и поддерживала его.
Да, это действительно была приятная и неожиданная весть! Разве мог он, недавний изгнанник, над чьей головой, как Дамоклов меч, одиннадцать лет висело царское возмездие, допустить, что о нём уже ходатайствовали, что бывшему государственному преступнику, как он значился в секретных бумагах, готовится место члена законодательной комиссии?
Даже мысль об этом показалась бы ему дерзкой и неосуществимой. Теперь, после слов Александра Романовича, он верил, что так и будет, ибо обещания графа никогда не расходились с делом.
«Быть членом законодательной комиссии?» Прямая натура, чистая и бескорыстная душа Радищева не могла и представить лучшего приложения своих сил и знаний! Что это практически означало для него? Какие открывало горизонты, что виделось за ними воспламенённому воображению Александра Николаевича?
«Неужели представится возможность?» Даже теперь, когда перед ним открывались пути к осуществлению давнишней мечты об обновлении общественного и государственного строя России, он чего-то страшился. Не обман ли это? Казалось, нельзя медлить. Он прикинул, что нужно будет ему в первую очередь, если днями объявят о назначении его членом комиссии.
Книги! Да, книги! Он должен будет подкрепить свои знания, освежить в памяти прежние догмы, глубже вникнуть в теорию законоведения. Не откладывая своего намерения, Александр Николаевич направился в книжную лавку. Он шёл вдоль Невского проспекта и вскоре очутился в Суконном ряду возле магазина, где некогда продавалось его «Путешествие».
На короткое мгновение Радищева охватили воспоминания, всплыли подробности, связанные с судом, в частности с книгопродавцем Зотовым. Он задержался на проспекте, прежде чем войти в лавку, но затем смело переступил её порог. За прилавком стояли совершенно незнакомые ему люди. Прежнего книготорговца давно и в помине не было.
Продавцы не могли знать Радищева. Обстановка лавки — полки, заваленные книгами, запах типографской краски и щекочущая пыль лежалых фолиантов, тронутых руками продавцов, несколько любителей словесности, перелистывающих пожелтевшие страницы и со вниманием рассматривающих старые рукописи и журналы, — всё это дохнуло на Радищева чем-то знакомым и почти родным. Он не определил бы в точности, чем именно, ибо то, что было знакомым и почти родным в книжной лавке, скорее являлось его приверженностью и любовью к литературе.
Александр Николаевич попросил продавца подать ему семитомное сочинение Гаэтана Филанджьери «Наука законодательства».
Продавец, немного склонив голову и приподняв очки, на сморщившийся лоб, с любопытством оглядел посетителя.
— Сей книги не имеем. Распродано-с! Ноне спрос велик на законников. Что изволите ещё?
— Труды касательно юриспруденции интересуют…
— Можем предложить, — оживился продавец. — «Учреждения Юстиниана», «Историю римского права», «Проект правового кодекса» Фредерика, «Трактат о гражданских законах», о «Тюрьмах Филадельфии», «Трактат о смертной казни»…
Радищев вздрогнул и невольно приподнял руку, словно защищаясь от внезапного удара. Старичок, как из рога изобилия сыпавший названия сочинений, касающихся законодательств, будто запнулся.
— Разрешите мне самому ознакомиться с книгами?
— Сделайте одолжение, милостивый государь, — открывая дверцу и пропуская Радищева за прилавок, учтиво склонился продавец.
— В сем отделе, — указывая на полку в углу, — вы найдёте много примечательных сочинений древних и новых законоведцев…
Радищев совсем забылся, увлёкшись просмотром книг. Он отобрал десятка три сочинений, казавшихся ему самыми необходимыми для начальной работы, уплатил за них и попросил связать покупку.
Александр Николаевич словно опомнился, когда сел в пролётку.
«Однако, я порядком издержался», — мелькнуло в голове. Но денег, которых было у него в обрез, Радищев не пожалел.
Сегодня он был под парусом и попутный ветер дул ему вслед. Александр Николаевич, обуреваемый нахлынувшими чувствами, не утерпел:
— Какой ноне погожий день! На душе так ясно и солнечно…
— Оно, барин, так, но и на ясном небе бывают тучки, а человеческая душа — потёмки…
— Фортуна ноне мне повстречалась…
— Коль повстречалась, так о других помни. Бывает и так: счастливец-то хочет весь рог изобилия высыпать себе в карман, а он и порвётся на беду… Смекай, барин, да на ус наматывай…
— Спасибо, милый, — искренне сказал Александр Николаевич.
Несколько дней Радищев был как в угаре. Он забыл об окружающем и о самом себе, живя в мире римских и греческих правоведов, сопоставляя английские и французские кодексы с учреждениями феодального властителя Тамерлана и сочинениями мусульманских законников Абу Иосифа и Абу Ганифи.
Купленные книги были прочитаны. На столе в беспорядке лежали десятки исписанных и исчёрканных листов с выписками из сочинений законоведов всех эпох и государств, с набросками собственных мыслей, касающихся законоположений.
И вдруг он будто очнулся, почувствовал, что, кроме книжного мира, есть жизнь с её нуждами и тревогами, радостями и печалями.
— Видать, пересыпал из рога фортуны, — усмехнулся Радищев и осудительно подумал: «Хорош родитель, с сыновьями ещё не повидался…»
За Василия, служившего в лейб-гренадерском полку, отцовское сердце было спокойно. Старший прочно встал на ноги. Карьера его определилась, видимо, суждено ему быть военным. Он как-то дальше других стоял от отца и отличался от младших братьев подчёркнутой самостоятельностью. В двадцать пять лет Василий был в чине подпоручика и довольный своей службой исполнял её вполне прилично. Каждый несёт свой груз по плечам.
Александр Николаевич понимал, будь он отцом посостоятельнее да не придавлен грузом несчастья, сыновья его, как и большинство молодых людей, их сверстников, мечтающих о карьере полкового офицера, добились бы её. Кого в их годы не восхищает мундир и шпага, шляпа с султаном, успехи ратоборца!
Николай целый год жил при нём. Он присмотрелся к сыну. Этот шёл по стопам отца, избрав своим поприщем литературу. Правда, не тот размах и не тот мятежный дух, но Александр Николаевич молчаливо благословлял сына, всячески наставлял и поощрял его первые опыты.
Радищев больше всего беспокоился о Павле, гардемарине морского кадетского корпуса. Через два года успешной службы и учёбы Павел будет выпущен мичманом.
В восемнадцать лет жизнь кажется радужной и полной заманчивых надежд. Отец припоминал: выбор Павла стать морским офицером определился в Сибири. Ещё там он почувствовал, как интересовался мальчик рассказами о подвигах морехода Шелехова, о плавании в Японии поручика Ловцова. Рассказы запали в пылкую душу сына.
Если бы кто-нибудь спросил Радищева об его отцовской привязанности к детям, он не задумываясь бы ответил: сердце его ближе всего к Кате, Павлику и к самым маленьким его сибирским чадам, рождённым Елизаветой Васильевной. Катя с Павликом были спутниками изгнания, разделили с ним тяжкий жребий; самые младшие осиротели и росли теперь, не зная ласки и любви матери. Естественно, его внимание, его забота была больше об этих детях.
7
Александр Николаевич не повидался с Павликом; сын находился в плавании на учебном судне и должен был возвратиться в корпус лишь в августе.
Василий, узнавший о помиловании отца от друзей, обрадовался этому помилованию, как реальной возможности быстрее и беспрепятственнее продвинуться по службе. Сын нетерпеливо ждал приезда отца в столицу. Его присутствие здесь окончательно развеяло бы в глазах общественного мнения ту двойственность в отношениях к Василию, какую он всё ещё чувствовал.
Любители российской словесности, особенно двое из них — Пнин и Борн, с которыми сблизился молодой Радищев, передавали ему самые лестные отзывы об отце. Находясь в опьянении от общего подъёма, охватившего столицу в первые дни нового царствования, друзья Василия прочили не только возвращение прежних чинов и наград Александру Николаевичу, но и милостиво предоставленную службу в законодательной комиссии.
Слух об этом действительно распространился в столице раньше появления указа о Радищеве. То ли он шёл от Завадовского с Воронцовым, преднамеренно распустивших слушок по свету; то ли о нём где-то обмолвился статс-секретарь царской канцелярии Сперанский. Всё могло быть. Сперанский благоволил к Радищеву с тех пор, как впервые, будучи ещё сам в духовной академии, прочитал его «Путешествие».
Мог и бывший сослуживец по коммерц-коллегии Николай Ильинский, уважавший ум и честность Радищева, поделиться с друзьями радостными вестями. Как бы там ни было, слух этот упорно распространялся в столице. В домах, где ещё недавно боялись произнести имя Радищева-писателя, теперь открыто и свободно заговорили о нём.
Василий счёл непременным отметить столь важное событие, поворотное в его судьбе. Он пригласил своих знакомых в трактирчик Лиона на Невском, куда любила заглядывать праздная столичная молодёжь. Здесь она чувствовала себя более взрослой в подражании дурным примерам старших, чем где-либо в другом месте.
Одним словом, Василий, до встречи с отцом, уже успел гульнуть с товарищами по случаю его помилования. Пнин и Борн, больше других проявившие интерес к необычно сложившейся судьбе писателя, упросили Василия, чтоб он непременно познакомил их со своим отцом. Тот обещал, чуть гордясь таким поручением товарищей.
Василий встретился с отцом преисполненный самых больших надежд. Александру Николаевичу не понравилась излишняя самоуверенность, с какой заговорил сын о себе, рисуясь перед отцом подчёркнутой самостоятельностью.
— Отец твой дожил до седин, — прервал его Александр Николаевич, — но остался скромным человеком, противником лёгких дорог в жизни! Я хочу от тебя, Василий, честного служения всюду, куда бы ни забросила тебя судьба…
Отец строго посмотрел на сына.
— Несчастье моё, если ты умён, не должно было угнетать тебя, ибо оно сроднилось с думами моими о счастье народа. За счастье я ратовал всегда и наперёд ратовать буду…
И как ни горько, как ни обидно было выслушивать эти слова, Василий, нервно подёргивая верхней губой и пощипывая на ней пробивающиеся усики, горячо принял упрёк отца, осудившего посещение трактирчика.
И отец, понявший, что сын только кичился самостоятельностью, рассказал, что граф Воронцов действительно проявил заботу о предстоящей службе в законодательной комиссии, но что пока ещё нет указа императора о зачислении его на службу. Василий с разочарованием выслушал отца о том, что состояние его непоправимо запуталось, долги выросли. Средств для уплаты их не хватит, если даже всё скудное их имение будет продано с молотка.
— Нерадение моё в сем деле велико, — признался Александр Николаевич, — не оправдываюсь перед тобою. Не будем унывать, а будем действовать, быть может, благие намерения и увенчаются успехами…
Отец заметил, как обескуражили сына эти откровения, и приободрил его:
— А с друзьями твоими непременно свидимся. Горячие головы и сердца! С прожектами о создании Вольного общества мечутся, пекутся о просвещении россиян. По душе мне их дела. Семена сеют добрые, такой посев может дать и обильную жатву…
8
Знакомство Радищева с любителями российской словесности состоялось 15 июля. Это был знаменательный день, положивший основание Вольному обществу, возникшему на дружеской связи молодых литераторов. Учредители общества ставили перед собою цель взаимного усовершенствования и оказания всякой помощи сообразно силам его членов общему благу россиян.
Радищев душевно радовался тому, что на его глазах зарождалось Общество, основанное на содружестве любителей словесности. И если этому Обществу суждено действовать, то плоды его вскоре скажутся; сеющий добро не пожнёт плевелы, а лишь умножит блага народные.
Людьми наиболее зрелого возраста в Обществе были Иван Пнин, Василий Попугаев и Иван Борн. Александр Николаевич присматривался к каждому из них в отдельности, изучал не только по хорошим словам, произносимым на собрании, но старался заглянуть каждому как бы в душу, чтобы разгадать её тайники, узнать сокровенные мысли.
Он видел в них своих будущих друзей, своих сочувственников. Но жизнь научила Радищева быть осторожным. Ошибиться в людях, которых он облекал доверием, в его возрасте было бы непростительно.
О Пнине Александр Николаевич уже кое-что знал. Этот невысокого роста, худощавый, очень живой в движениях человек, носивший кафтан и галстук, повязанный как шарф, был слаб здоровьем, казался хилым. Неестественный румянец горел на его впалых щеках, когда он говорил остроумно и горячо о предмете, захватившем всю его пылкую натуру.
Иван Петрович Пнин был незаконнорождённым сыном князя Репнина. Единственное, что он унаследовал княжеского, — это усечённая фамилия своего отца, как бы подчёркивающая обречённое существование его на всю жизнь.
Радищев имел право не доверять сыну генерал-фельдмаршала, смирявшего при Павле пушками взбунтовавшихся крестьян в помещичьих вотчинах. Но Иван Петрович возбудил в Александре Николаевиче чувство сожаления с той минуты, как он узнал о превратной судьбе этого молодого человека, к тридцати годам своей жизни подкошенного чахоткой. Сыновья рассказывали Радищеву — Пнин тяжело переносил своё положение незаконнорождённого.
В тот год, когда появилось «Путешествие» Радищева, Пнин был в походе против шведов, командовал пловучей батареей. До него, находившегося в финских водах, дошли слухи о создании по инициативе Радищева городовой команды для защиты столицы от притязаний шведов, о выходе в свет запретной книги. Уже тогда Пнин сердцем потянулся к её сочинителю, с болью встретил известие об его ссылке.
При воцарении Павла он оставил военную службу, подал прошение об «определении к статским делаем» и был приписан к департаменту герольдии. Отставка Пнина походила на его протест, как и многих офицеров, не примирившихся с военной реформой Павла, начавшего перестраивать русскую армию, воспитанную Александром Суворовым, на прусский лад.
С облегчением сбросив военный мундир, Иван Петрович поселился на квартире своего давнишнего приятеля Александра Бестужева, с которым познакомился, будучи в артиллерийско-инженерном кадетском корпусе. Бестужев оставил службу по тем же самым причинам. Теперь в доме Бестужевых, славившемся гостеприимством хозяина, часто собирались любители словесности столицы. Имея от природы чуткое и восприимчивое сердце, Иван Петрович незаметно приобщился к литературе.
При Александре I Пнин вновь возвратился на службу и был назначен письмоводителем государственного совета. Здесь он узнал, что Завадовский и Воронцов ходатайствовали об определении Радищева в законодательную комиссию. И вспыхнула давняя мечта Пнина о сближении с автором страстной книги, как набат зовущей к борьбе со злом и несправедливостью.
И вот состоялось их личное знакомство. Будет ли сближение с Радищевым, о каком Пнин мечтал в глухие годы Павлова царствования? Пнин был безгранично счастлив тем, что в «Санкт-Петербургском журнале» они с Бестужевым сумели тиснуть заметку о Радищеве. Заметкой напоминалось читателям, что сочинитель «Путешествия» не только жив и здоров, но и держит сухим порох в пороховнице.
Борн и Попугаев после окончания гимназии при Академии наук были учителями русского языка в петербургской немецкой школе. Но однокашники заметно отличались друг от друга не только внешним видом, а прежде всего характерами, своими взглядами и разными оценками одних и тех же явлений окружающей их действительности. И эта разница была подмечена Радищевым сразу же при первой встрече с ними.
Рослый Борн, светлорусый и светлоглазый, происходивший из финляндской помещичьей семьи, выделялся своими энергичными жестами и светской манерой. Он умел быстро сближаться со всеми, с кем считал нужным вести знакомство. Заметный практицизм во всём отличал Борна от его «сотоварища по учению» Попугаева.
Василий Васильевич Попугаев, низкорослый и почти кругленький, носивший русский кафтан простого покроя, пышные чёрные волосы с пробором посередине, выделялся резковатостью движений. Большие глаза его, всегда бегающие, словно высматривающие что-то в людях, как и манеры, казавшиеся неотёсанными и неприглаженными, в отличие от Ивана Мартыновича Борна, оставляли впечатление о Попугаеве, как о человеке внешне разбросанном и внутренне несобранном.
Но так только казалось. Александр Николаевич это сразу же понял. Он оценил простодушный и пылкий нрав Попугаева, его одарённую и добрую душу, его богатое воображение и самые чистые намерения его сердца.
Выходец из семьи бедного живописца императорской шпалерной мануфактуры, Попугаев, в раннем возрасте оставшийся без отца, был принят в академическую гимназию на «государево содержание». По выходе из неё он определился на должность чтеца петербургской цензуры и одновременно учителем в немецкую школу.
Равнодушный к суждениям света и житейским отношениям Василий Васильевич пламенно отдался литературе, желая стать неистовым другом правды и гонителем зла.
В нём удивительно сочетались верность идеалу и сомнение, благородство и вспыльчивость, простодушие и величие неузнанного гения. И все эти оттенки его души и характера, заметные со стороны, расположили Радищева больше к Попугаеву, чем к внешне страстному, но внутренне холодному оратору Борну. В первом раскрывались чистые порывы сердца и чувства, во втором — каждым его словом, шагом, поступком управлял бесстрастный разум.
Это особенно ярко проявилось после пышных и витиеватых речей, произнесённых в честь учреждения Общества. Все, кто присутствовал в собрании, стали читать свои стихи. И сразу куда-то отступили призывы ораторов быть верными друзьями просвещения, истины и добродетели, употребить свои способности на пользу, жить отныне только в благородном смысле этого слова, чтобы потом сказать, как заявил об этом Борн: «Мы жили не напрасно, мы сделали всё, что могли сделать».
Те же люди, но будто преобразились. В них заговорили простые человеческие чувства, подкупающие своей теплотой и искренностью, своей непосредственностью, более впечатляющей, чем ораторские выступления.
Иван Мартынович Борн, не любивший уступать пальму первенства, прочитал своё стихотворение «К друзьям моим».
При шуме ветра я спокоен, И сердце тёплое во мне. Надежды солнце озаряет Счастливый жизни путь моей…Он читал стихи так же рассудочно, как и произносил речь. И хотя Борн пытался раскрыть простые человеческие чувства к своим друзьям, вызванные его мечтами в дни недавнего путешествия по югу России, стихи звучали бесстрастно и не волновали Радищева. Он слушал Борна без наслаждения.
Иван Мартынович обратился к Пнину, но тот вежливо отказался, сославшись, что новых стихов у него нет, а старые переводы, напечатанные в «Санкт-Петербургском журнале» читать ему не хочется. Он поделился размышлениями о задуманной оде «О человеке». Александр Николаевич насторожился. Замыслы Пнина показались ему значительными и важными. Он одобрил их:
— Оду должно написать так, чтобы в ней звучал голос современника, повествующего, как много им пережито и передумано в наш осьмнадцатый век…
Иван Пнин благодарным поклоном ответил на пожелания Радищева, поддержанные и другими членами Общества.
Очередь была за Попугаевым. Он весело тряхнул головой, и волосы его взметнулись пышной копной, глаза скользнули по присутствующим. Василий Васильевич с задором начал:
Блажен тот, кто велик душой, Кто чужд смешных предубеждений, Не чтит людьми народ лишь свой, Не враг других для веры мнений, Зрит в кафре брата своего, В лапонце — мира гражданина, Творенье бога одного, Одной земли, природы сына! Кто стоны бедных укрощать Готов лететь за океаны, Готов, чтоб братьев просвещать, Лить злато в отдалённы страны…И стихи, и смелый задор, с каким они читались, и душа поэта, будто видимая на ладони, захватили Александра Николаевича, как и всех, кто слушал Попугаева.
— Браво, Василий! — не вытерпел Борн. — Здорово, чертяга, берёшь!
А Василий Васильевич, недовольно метнув в сторону Борна большими глазами, горевшими вдохновением, продолжал читать, призывая человека не искать больших честей, а быть готовым к любым ударам судьбы. Он снова тряхнул своими пышными волосами и так же горячо, как начал, читал:
Блажен, блажен тот круг людей, Кто может снять с себя оковы Предрассуждений света всех — Любить как братьев все народы, Не знать себе других утех, Как зреть счастливы смертны роды! Героев слава пропадёт, Тиранов мир весь позабудет, Но добрый Гений век живёт: Он жить в сердцах век добрых будет.Стихи Попугаева зажгли Александра Николаевича. В них ему виделся человек идеи — гражданин мира. Он подошёл и крепко пожал руку поэта. Чувствуя, что по старшинству все ждут его слова, Радищев сказал:
— Быть другом истины мало, надо быть ещё борцом, — и, обращаясь одновременно ко всем, подчеркнул: — Восхваляя истину, не следует забывать, друзья мои, и борьбу за неё… Помните, права народные проповедываются на крови погибших граждан за свободу — великую истину многих времён в истории человеческой… Воспоёмте достойно борцов за свободу, воспоёмте народ, жаждущий своего раскрепощения, своей воли…
Радищев хотел было сесть, но его упросили прочитать что-нибудь из написанного в годы одиноческой ссыльной жизни.
— Хорошо, — согласился он, — я прочту вам плод моих раздумий над веком нынешним и минувшим…
Все смолкли, приготовясь слушать человека, седина которого внушала уважение, величие души которого осталось несломленным тяготами и мучениями ссылки.
Спокойно и твёрдо зазвучал покоряющий всех радищевский голос.
Урна времён часы изливает каплям подобно; Капли в ручьи собрались; в реки ручьи возросли И на далёком брегу изливают пенистые волны Вечности в море; а там нет ни предел, ни брегов; Не возвышался там остров, ни дна там лот не находит; Веки в него протекли, в нём исчезает их след. Но знаменито вовеки своею кровавою струёю С звуками грома течёт наше счастье труда.Александр Николаевич читал, а слушавшие его как бы видели перед собой завершившийся восемнадцатый век. Движение истории, неумолимый бег времени будто на мгновение остановился. Они взглянули на минувший век, как на один день, прожитый человеком. Что было знаменательного в нём, что оставило неизгладимый след в истории?
Память воскресила перед ними вереницу смелых писателей, боровшихся за вольность народа, учёных мужей, подаривших миру замечательные открытия, ускорившие борение человека с тёмными силами природы.
Автор напомнил им, что все они были современниками двух революций — в Англии и Франции, пережили их взлёты и крушения. Нет, уходящее в вечность столетие оставило свой неизгладимый след!
Нет, ты не будешь забвенно, столетье безумно и мудро, Будешь проклято во век, в век удивлением всех. Крови — в твоей колыбели, преживание — громы сраженьев. Ах, омоченно в крови, ты ниспадаешь во гроб…И чем напряжённее и трагичнее становилось повествование сочинителя, тем голос его был менее громким, спускался почти до шёпота, но сила его пробивала до дрожи, потрясала душу слушателей до того, что хотелось плакать. А лицо Радищева, умные глаза его казались совсем молодыми.
Мощно, велико ты было, столетье! Дух веков прежних Пал пред твоим алтарём ниц и безмолвен, дивясь, Но твоих сил недостало к изгнанию всех духов ада, Брызжущих пламенный яд чрез многотысящный век.Радищев читал и словно приветствовал в стихах своих человеческий дух, непобедимый и упорный в своём вечном стремлении вперёд, к свету и счастью. Это был гимн поэта народному гению, жрецам науки, свободы и просвещения.
Александр Николаевич так же спокойно и твёрдо закончил читать, как и начал. Все долго молчали. Так сильно было впечатление от стихотворения.
Иван Пнин с гордостью произносил про себя: «Нет, ты не будешь забвенно, столетье безумно и мудро».
«Да, оно не будет забвенно», — мысленно соглашался он с поэтом и опять твердил запомнившиеся слова: «…радостным смертным дарует истину, вольность и свет, ясно созвездие во век». «Какая вера в победу человека, в его самоотверженную борьбу с угнетением!» — думал он.
Пнин первый как бы очнулся от магического воздействия радищевского стиха.
— Величественно-о! — сказал он. — Какая философская глубина! — И Пнин повторил слова, запавшие в душу, почти торжественно, блестя слезами, навернувшимися на его глаза:
«Нет, ты не будешь забвенно, столетье безумно и мудро!»Глава шестая ПОБОРНИК ИСТИНЫ
«Истина есть высшее для меня божество».
А. Радищев.1
Писать в положении Радищева — значило жить. И он писал до усталости в руках, до боли в пояснице. В последнее время он любил видеть возле себя молодых людей, особенно тех из них, кто с жадностью стремился познать жизнь, критически оценивал действительность, непримиримо относился к злоупотреблениям властей. Теперь Александр Николаевич имел возможность приглашать друзей. Он жил в небольшом домике, снятом у вдовы Матрёны Александровны Лавровой в тихом местечке столицы — на углу 9-й линии и Семёновской улицы. Домик прятался в густом палисаднике, а вокруг лежал пустырь. Сюда частенько заглядывали новые друзья Радищева и чувствовали себя в его доме непринуждённо.
Пнин все больше и больше нравился Александру Николаевичу своей цельной натурой, открытыми взглядами. Пнин верно угадывал причины пороков жизни и всю свою энергию направлял именно сюда, стремясь изобличать непорядки.
Иван Петрович говорил приподнято. Радищев с уважением смотрел на собеседника, с большим вниманием следил за развитием его мысли. Он отметил, что суждения Пнина точны и глубоки, в словах его чувствуется сердечная теплота. И Александра Николаевича самого потянуло поговорить с Пниным о литературе с тем увлечением, с каким он давненько уже не говорил.
Пнин утверждал, что писатель должен сделать героем своих произведений человека — творца всего прекрасного на земле, воспеть его гражданские чувства, его неугасимую любовь к отечеству. Мысли эти были близки и дороги самому Радищеву. Он радовался, что Пнин стоит на верном пути.
— Вы что-нибудь написали? — спросил Александр Николаевич.
— Да, фрагменты оды «Человек».
— Прочтите.
Иван Петрович вытащил из кармана небольшую записную книжку с позолоченным обрезом, с корочками, оклеенными зелёным шёлком, перебросил несколько листиков, начал было читать, но поперхнулся.
— Простите, волнуюсь, — признался он, налил из графина воды в стакан, торопливо отпил и стал откашливаться.
— Не волнуйтесь! — ободрил его Александр Николаевич. — Читайте, я очень люблю стихи…
Срывающимся голосом Пнин начал:
О, истина! Мой дух живится, Паря в селения твои; За чувством чувство вновь родится, Пылают мысли все мои, Ты в сердце мужество вливаешь, Унылость, рабство прогоняешь, С ума свергаешь груз оков — Уже твой чистый взор встречаю, Другую душу получаю, И Человека петь готов…Пнин остановился, чтобы перевести дыхание. Он взглянул на Радищева. В лёгком наклоне седой головы, в выражении пристального внимания, какое застыло на лице Александра Николаевича, было что-то красивое и величественное. И Пнин залюбовался Радищевым.
— Что же вы остановились? — спросил Радищев.
Пнин вновь потянулся к графину.
— Читайте…
Природы лучшее созданье, К тебе мой обращаю стих! К тебе стремлю моё вниманье, Ты краше всех существ других. Что я с тобою ни равняю, Твои дары лишь отличаю И удивляюся тебе. Едва ты только в мир явился, И мир мгновенно покорился, Прияв тебя царём себе…— Хорошо! — нетерпеливо вставил Радищев.
Пнин подумал, что он своими стихами словно обращается к Александру Николаевичу и, что тот Человек, который занимал его воображение, теперь уже не только плод его раздумий, но и образ его великого современника.
— Я перебил вас, простите, — Радищев ласково обвёл взглядом Пнина. — Продолжайте…
И Пнин читал. Стихи его прославляли нравственные качества человека, могущество его духа, безграничный взлёт его разума, твёрдость воли и свободу от всяких оков порабощения и угнетения. Слова поэта брали за живое.
Радищеву близка была всякая скорбь угнетённого человека, которому он желал облегчения его судьбы.
Александр Николаевич попрежнему слушал Пнина с радостно сверкавшими глазами. Он попросил ещё раз повторить особенно понравившееся ему десятистрочие.
— Пожалуйста, ещё прочтите…
Пнин прочитал десятистрочие с прежним вдохновением и страстью.
Ты царь земли — ты царь вселенной, Хотя ничто в сравненьи с ней. Хотя ты прах один возженный, Но мыслию велик своей! Препримешь что — вселенна внемлет, Творишь — всё действие приемлет, Ни в чём не видишь ты препон. Природою распоряжаешь, Всем властно в ней повелеваешь, И пишешь ей самой закон.— Спасибо, друг мой! — Александр Николаевич обнял и поцеловал поэта. — Порадовали меня, — и рукой смахнул навернувшуюся слезу. — Простите мне слабость мою… — и поинтересовался: — Ну, а ещё что-нибудь есть такое же?
— Нет! — признался Пнин, потрясённый взволнованностью Радищева.
— Пишите так же смело, с таким же жаром — посоветовал Александр Николаевич. — Ода должна быть восторженным гимном человеку…
Иван Петрович закашлялся от волнения.
— Нехороший кашель, — сказал Радищев и спросил: — Лечитесь?
Пнин безнадёжно махнул рукой.
— Испробовал все лекарства и снадобья.
— Посоветовал бы медвежий жир пить. Врачует хорошо. Илимские жители, особливо тунгусы, пользуются им охотно во всех случаях. Прекрасно помогает, Иван Петрович.
— Спасибо за добрый совет, только где же медвежий жир взять?
— Достанем, непременно достанем! Из Сибири пришлют с оказией, только написать. Друзей там у меня уйма… Есть тунгус Батурка, милейший человек, слуга Степанушка, ныне городовой лекарь, в Тобольске Панкратий Платонович Сумароков… Какие люди, Иван Петрович!
— Должны быть хорошими! — сказал Пнин. — Что касается Панкратия Платоновича, то мы с ним давнишние друзья…
— Как! — удивился Радищев.
— По пансиону ещё сдружились, но судьба разметала нас по свету. С ним неприятность приключилась…
— Знаю…
— Всё хлопочет о своём возвращении из Тобольска, писал прошение Павлу. Сейчас бумагу прислал на имя нового императора…
— Вот как! А мы так сошлись и сдружились с ним, словно знали друг друга с детства…
— Частично осведомлён…
— Откуда? — Александр Николаевич взглянул на Пнина широко раскрытыми глазами.
— Переписываюсь с ним. О вас самые похвальные отзывы.
— Порадовали меня, Иван Петрович, своей дружбой с Панкратием Платоновичем. Рачитель просвещения сибиряков! И сестра у него, Натали, чудесной, чистой души человек… Спасибо, Иван Петрович. Разговор напомнил мне самое дорогое, светлое и радостное, что связано в моей жизни с Тобольском и Панкратием Платоновичем…
Радищев ещё долго говорил о сибирских встречах, о необыкновенных людях, живущих в этом далёком, но благодатном крае России. Он был бесконечно благодарен Пнину за то, что тот воскресил в его памяти страницы сибирской жизни.
2
Указ государя об определении Радищева в законодательную комиссию был объявлен лишь 6 августа 1801 года. Указ, который он нетерпеливо ждал первое время после разговора с графом Воронцовым, был встречен Радищевым как что-то обычное и будничное в жизни.
Знакомые его, когда Александр Николаевич впервые переступил порог присутствия, горячо поздравили с монаршей милостью, с началом службы, сулившей блестящую карьеру законоведца.
Первым встретил его Николай Ильинский — старый сослуживец по коммерц-коллегии. Это был сорокалетний внешне цветущий мужчина, но уже лысеющий и поэтому взбивавший свои волосы. Необычайной причёской своей, как и всем обликом, Ильинский останавливал на себе внимание сослуживцев.
— Ба-а! — удовлетворённо протянул Ильинский, — Александр Николаевич! Заждались, заждались, — и, положив одну руку на его плечо, а другую немного откинув назад, с удивлением остановился возле Радищева.
— Здравствуй, здравствуй!
Ответив на радушное приветствие Ильинского, Александр Николаевич сказал:
— А ты почти не изменился, Николай Степанович, всё таков, каким я помню тебя по коммерц-коллегии…
— Таков, да не та-а-ко-ов! — акцентируя на этом, ответил Ильинский. — От копииста до члена законодательной комиссии — прыжок велик для человека без знатного роду-племени! — он чуть улыбнулся, сверкнул белизной зубов и довольный собой и встречей с Радищевым, которого уважал ещё в коммерц-коллегии, добавил:
— Поработаем теперь вместе…
Николай Степанович необыкновенной усидчивостью и желанием сравняться с товарищами по службе достиг своего. От скромной должности копииста в коммерц-коллегии путь его к законодательной комиссии, образованной ещё при Павле, но почти бездействовавшей, пролегал через усердие губернского секретаря в Псковском наместничестве.
С Радищевым Николай Степанович сблизился не столько по службе, сколько по занятиям литературой, к которой приобщился в те давние времена, когда ею стал заниматься и Александр Николаевич.
Ильинский писал стихи и обратил на себя внимание даже Державина. Это ободрило его. Александр Николаевич тоже поддержал и старательно внушал Ильинскому мысль о великом призвании писателя — быть достойным сыном отечества, его патриотом.
И Николай Степанович зажёгся вдохновением, сочинил историческое описание Пскова, стихи о славном муже — нижегородском купце Кузьме Минине и даже ударился в философию — изложил в особом сочинении свои мысли о человеке.
— Как твои упражнения литературой? — спросил Радищев, зная, что Ильинский в своё время был любителем словесности.
— Узрел никчемность пиита, понял — бродит во мне пустой заквас. Что было от слепой случайности, не мог ставить то к своему таланту. Ныне вкусил прелесть законоведца и не гнушаюсь поупражняться на сем поприще под твоим началом, Александр Николаевич.
И словно не желая продолжать разговор, видимо, неприятный, Ильинский перевёл его на другую тему с той же лёгкостью, с какой только он один мог это делать.
— А в комиссии есть твои знакомцы по Сибири.
— Кто же? — вскинул глаза Радищев.
— Иван Данилович Прянишников. Рассказывал, как ты останавливался у него в Перми.
— Ну и что же? — поинтересовался Радищев.
— Присмотрелся я к нему. Правду сказать, удивлён.
— Чем же?
— Как мог попасть сей человек в комиссию, — доверительно и тише произнёс Ильинский: — Чин не по делам и не к персоне. Очень сгибается, чтоб войти в службу…
— А разве что с ним случилось?
— А как же! Скандалёзный случай произошёл. Отстранён был от должности председателя гражданской палаты, шатался в сенях влиятельных господ, и дело его тут, в столице, замяли. А ноне Иван Данилович в комиссии первый груздь, словно места другого ему не нашлось бы.
— Да-а! — Радищев тяжело вздохнул, припомнив прежний разговор с Прянишниковым. — Сердце мне подсказывало, так и кончит сей человек, — и, заметив на лице Ильинского недоумение, пояснил: — Будучи в Перми, предупреждал его по-человечески, но слова мои не указ ему были, не внял их здравому смыслу. Жаль его…
В дверях появился Прянишников.
— Лёгок на помине, — шепнул Ильинский.
— А-а, Александр Николаевич! Вот и свиделись заново. В родную стихию ввалился. Поздравляю тебя! Просторы-то какие открываются ныне для службы. Титул деятельный дан тебе…
— За титулом никогда не охотился, Иван Данилович. Титул может быть большой, да пустой…
Прянишников поморщился.
— Сердцем-то я храбр, а духом-то уже, кажется, не таков.
— Не скромничай, Александр Николаевич, — заметил Прянишников. — Ты ещё скажешь своё слово…
— Сказать-то скажу, но будет ли оно попутным тому ветру, который ныне дует над Россией?
— И сердцем храбр, и духом крепок! — снова положив руку на плечо Радищева, сказал Ильинский и спросил: — К графу Завадовскому? Сегодня он в духе. Счастливо тебе, а после службы встретимся. А пока спешу к бумагам, — и Николай Степанович покачивающейся походкой удалился.
— Рад, безгранично рад за тебя! — продолжал Иван Данилович изливать свои чувства. Но Радищеву после рассказа Ильинского о делах Прянишникова было неприятно беседовать с ним и он напомнил о давнем разговоре.
— Не внял моим словам, Иван Данилович, а я будто в воду смотрел…
Прянишников сразу как-то скис.
— То ябеда, волокита, злой навет… Ныне всё отметено. Произведён в статские советники.
— Иван Данилович, никаким чином человек своей души не прикроет. Доволен службой-то?
— Ещё бы! Горизонты!
— Их достигают сильные духом. Прошу прощения, у меня аудиенция у графа Завадовского…
Они раскланялись и разошлись.
3
Граф Завадовский, увешанный лентами и орденами, был надменно строг. Он даже не привстал из глубокого кресла, в котором почти утонул, когда вошёл Радищев. Этим он косвенно подчеркнул своё не только пренебрежительное отношение к новому члену законодательной комиссии, но и свою старую неприязнь к вольнодумцу.
Завадовский не мог не заметить, что Радищев с тех пор, как он его видел, более десяти лет назад, заметно постарел, был худ и бледен, казался высохшим, как осенний стебель цветка, потерявшего прежнюю красу и ставшего блёклым. Новый мундир, с орденом Владимира четвёртой степени в петлице, никогда не украшал его фигуру и не мог украсить её теперь. Чувствовалось, что мундир тяготил всё его тело как непосильный груз.
— На комиссию нашу, — не глядя на Радищева заговорил граф, — высочайшим соизволением возложено составить новое уложение, долженствующее…
Александр Николаевич, почувствовав высокомерное и пренебрежительное отношение к себе, сразу же соответственно настроил себя к Завадовскому. Он решил держаться с ним независимо, показывая, что не только не признаёт над собой его старшинства, но считает графа человеком, посаженным сюда лишь свыше государем.
— Разрешите сесть? — и не дожидаясь разрешения, присел на кресло, стоящее возле письменного стола.
Председатель комиссии, недовольный поведением нового члена, крякнул, но ничего не сказал.
— Надеюсь, — продолжал граф, — вы будете весьма ревностно и хорошо отправлять свою должность.
— Совесть моя, граф Пётр Васильевич, противному чужда.
— Похвально-о! Н-да-а! Что я хотел сказать? — Завадовский явно запамятовал, о чём только что говорил и, желая припомнить свою мысль, тряхнул головой. Радищев, наблюдавший за ним, запомнил этот кивок лишь потому, что на уровне головы графа на спинке кресла был вырезан позлащенный российский герб. «Скудность мысли и символ власти монаршей, где человек должен олицетворять великую мудрость законоведца».
Наконец, Завадовский вспомнил и, расставляя слова, как учитель буквы перед первоклассниками, продолжал:
— Проект нового уложения непременно должен включить присвоение сенату некоторых, да, некоторых, верховных прав! Ну, скажем, располагать государственным доходом, наказывать смертью без конфирмации государя… Я знаю, сие встретит несогласие в совете, ибо не сообразуется с существующими законами, но…
— Я понял вас, граф, будущее всегда враг настоящему, — прервал его Радищев.
Председатель поднял голову. Брови его, клочкастые и седые, ощетинились в испуге.
— Я не то хотел сказать, — поправился Завадовский. — Подобные крайности опасны, а в вашем положении — чреваты всякими последствиями…
Радищеву стало душно. Он расстегнул крючки туго обтягивающего воротничка.
— Я не страшусь их, граф, ныне, а пекусь более о законоположении.
— Похвально-о! Не стесняю ваши полезные упражнения в сем деле, разрешаю отлучку из присутствия в любое время.
— Благодарю!
— Днями станет известно о коронации государя. Предстоит выезд в Москву. Вы будете со мною. О сём извещу особо.
Радищев понял, что аудиенция окончена, раскланялся и вышел из кабинета председателя законодательной комиссии.
4
Они шли вдвоём, минуя улицу за улицей, и увлечённые разговором не замечали ни встречных прохожих, ни мелькавших перед ними извозчиков, громко понукавших лошадей. Свой особый мир, где сегодняшнее переплелось с прошлым, свежие впечатления с воспоминаниями, захватили их обоих.
Николай Петрович, прекрасный собеседник, был добр и обходителен со всеми. Он умел вплетать в канву своего рассказа эпизоды и приключения, случившиеся с ним, и Радищев, слушая его о службе в законодательной комиссии, уже ясно представлял почти весь жизненный путь приятеля.
Ильинский напомнил, что в малолетстве он был учён старухой, женой одного дьячка, первоначально азбуке, потом часослову и псалтырю, а чуть окреп на ногах, был определён на двенадцать рублей в год копиистом в коммерц-коллегию. Служа в коллегии, он прилежностью своей старался привлечь к себе внимание. Собственно там он впервые приобщился к законоведческой деятельности, которая стала для него чем-то неотделимым от его жизни.
В коллегии Ильинского часто посылали в архив за делами и книгами, в которых хранились указы. Дежуря в коллегии каждую неделю, он вдумчиво читал эти книги и старые указы, открывавшие ему что-то новое. О многом Ильинский слышал от старых служащих и даже от сторожа коллегии Старкова, бывшего в дальних походах при Петре Первом и его преемниках.
Рассказ Ильинского, наполненный деталями, воскрешавшими и его годы службы в коммерц-коллегии, Радищев слушал с интересом. Ему было приятно окунуться в воспоминания и пережить как бы заново те годы, наполненные для него бурными и важными событиями отечественной истории. Он был благодарен приятелю и слушал, не перебивая его.
А Ильинский рассказывал, как он упорно искал в указах описания тех событий, о которых говорил ему сторож Старков. Особенно его внимание остановили те указы, в которых он находил, кто и за что был наказан или сослан в ссылку. Однажды, ночуя в коллегии у своего секретаря Потоцкого, он вытащил из шкафа хранившиеся там документы о казни Пугачёва и был потрясён ими.
Потом Николай Петрович вспомнил о секретаре Михайле Чулкове, собиравшем в свой архив все коммерческие законы, изданные во многих томах и поныне хранящиеся у него. С того времени и он, Ильинский, начал собирать российские законы, изданные позднее в пяти больших томах под именем «Словаря Чулкова». Так постепенно Ильинский втянулся и полюбил всё, что было связано с законоведением Российского государства.
— В Петербург я приехал в середине прошлого года, — говорил Ильинский, — и был принят членом комиссии по составлению законов. Давняя мечта моя сбылась. Комиссия состояла тогда под начальством генерал-прокурора Обольянинова. Членами в ней были тайный советник Иван Сергеевич Ананьевский, действительный статский советник Григорий Григорьевич Пшеничный, а младший был я. Начальником же архива — коллежский, а потом статский советник Гаврилов…
Ильинский усмехнулся, что-то припомнив, и, желая обратить особое внимание Александра Николаевича на рассказываемый случай, тронул его рукой.
— Однажды в общем нашем собрании, члены рассуждали о пользе трудов в составе законов. Князь Гагарин, умный и весёлый человек, сказал: «В самодержавном правлении, где государь делает что хочет, трудно утвердить законы».
— Справедливо сказал, — заметил Радищев.
— «Вот, — говорил Гагарин, — сегодня мы поднесём государю новый закон, он утвердит его, а завтра то же самое отменит. Сие мы видим ежедневно». А потом добавил: «Напрасно слишком силиться в бесполезном труде, подверженном ежечасно перемене». Так кончилось действие комиссии при Павле.
Николай Петрович вздохнул, словно сожалея, что не смог проявить себя в неблагоприятно сложившейся обстановке Павлова царствования.
Этот по-приятельски откровенный, такой непосредственный рассказ Ильинского о прошлой, бесполезной работе в комиссии, навеял какие-то грустные мысли на Радищева. Он подумал, не напрасны ли будут и теперешние труды его и других членов, не подвержены ли они тем же капризам государя, каким подвергались при Павле?
— А ныне труды наши не будут бесполезными? — спросил Радищев.
— Что ты, Александр Николаевич! Иные времена, иные веяния!
— Поживём, узнаем, Николай Петрович. А как граф Завадовский?
— С причудами! Ленив, но однако, умён и хитёр, как старая лиса, — Ильинский искренне рассмеялся. — Хочу поведать тебе презабавный анекдотец о нём…
Николай Петрович потёр ладони, и предвкушая, что Радищев будет тоже удовлетворён его рассказом, начал:
— Я привык пробуждаться рано, и граф Завадовский, хотя редко, но когда надобность настояла, приезжал в присутствие в девять часов. Часто я заставал его дома спящим. Пробудясь, когда докладывал ему камердинер с приезде моём, он спрашивал, давно ли я ожидаю. Так не однажды бывало. Наконец, в один день, говоря со мной в кабинете, он спросил меня, почему я так рано приезжаю. «С малолетства служа, с самых нижних чинов, привык к тому», — отвечал я. «Вы, конечно, и жизнь ведёте аккуратную, не как мы». И добавил: «Мы вчерась с князем Лопухиным почти всю ночь проиграли в карты». Спрашивал ещё, в котором часу я обедаю, ужинаю и ложусь спать. Я отвечал. «Вы, батюшка, хорошо располагаете жизнью, а мы в суете и рассеянии сами себя расстраиваем», — промолвил он. И тут же, похвалив меня, что ревностно отправляю свою должность, вдруг хитро спросил: «Вы, батюшка, не дивитесь, как другие, что я в течение многого времени ничего не сделал для законодательства и как бы оставлял сие поручение без внимания». Я отвечал, что не знаю сему причины, полагал, что приготовляете что-либо важное и полезное для руководства нашего. «Нет, батюшка, сказал он, препятствует сему другой случай. Я вас люблю, надеюсь на вашу скромность и решаюсь открыть вам то, чего другому не скажу. Вы служили при дворе?» Я отвечал, что совсем не служил. Тогда граф продолжал: «Следственно вы не можете знать тамошних деяний и всех оборотов, а я знаю двор весьма хорошо. Итак открываю вам моё предчувствие, что государь ещё молод, неопытен и окружён беспрепятственно молодыми и военными людьми и ему некогда заниматься столь важным делом, каково законодательство, которое едва ли, как я примечаю, в царствовании его и кончиться может».
А потом и говорит: «Закон нельзя шить на живую нитку. Мой рассудок не прилепляется к призракам, опыт жизни правит им».
Я так и не понял, к чему были сказаны такие слова, а лишь подумал: «Может, и в самом деле шестидесятилетнему старику трудновато осмысливать всё, что возлагалось на комиссию». Граф же внушал мне: «По преклонности лет моих и не предполагаю, как устроить основание возложенного на меня. Видно, довершить здание и произвести плоды остаётся вам, цветущим младостью». Говоря сие, он положил руки на мои плечи и повторил о моей скромности, пожелав мне здоровья и успеха во всём. Каков, а?
— Да-а! — протянул, глубоко задумавшись над рассказанным, Александр Николаевич. — Я сразу и не пойму, что к чему, — признался он. — Озадачил ты меня своим вопросом. Однако всё сие нехорошие симптомы одной и той же неизлечимой болезни самодержавного правления.
Незаметно они очутились на Конной площади.
— Страшные картины ещё недавно наблюдал здесь, — и Николай Петрович стал припоминать, как при Павле на этой площади устраивались экзекуции. Ильинский рассказывал, а воображению Радищева живо рисовались эти картины.
Через Конную площадь провозили преступника на позорной колеснице, одетого в длинный чёрный кафтан и большую шляпу. На груди у него висела чёрная доска с надписью о совершённом преступлении. Несчастный сидел на скамейке спиной к лошадям, привязанный к скамье за руки и ноги.
Колесницу сопровождали солдаты с барабанщиками, выстукивающими глухую дробь. В отдельном фургоне ехал палач в красной рубахе. Он выпрашивал у торговцев подачки на «косушку водки», чтобы приглушить в себе чувство человеческой жалости к преступнику, над которым совершалась экзекуция.
Затем начиналась казнь. Преступник поднимался на эшафот, к нему подходил священник с крестом, сзади уже стояли пьяные палачи с плетями в руках и возле них тюремные сторожа.
— Берегись, ожгу! — кричал палач и наносил первый удар.
По окончании казни преступника увозили в тюремную больницу. Если его потом ссылали на каторгу, то на щеках и на лбу ставили знак «вор», затирали порохом, вырывали ноздри и отправляли по этапу.
Сколько несчастных, заклеймённых таким тавром, видел Радищев, будучи в Сибири! Перед его глазами на минуту встал сибирский преступник из-под Челябы, и будто вновь он услышал его голос: «Сыскали по тавру».
— Милостью нового императора при восшествии его на престол сие варварство отменено.
Голос Ильинского вернул Александра Николаевича к действительности.
— Тут недалеко моя квартира, — и Николай Петрович пригласил Радищева заглянуть к нему и пообедать с ним. Александр Николаевич охотно согласился. Они пересекли Конную площадь и скрылись в одной из тихих петербургских улиц, где квартировал Ильинский.
5
Радищев всё чаще и чаще навещал Воронцова. Его тянуло на Обуховский проспект, как домой, после томительных и скучных часов занятий в законодательной комиссии. Здесь он мог, высказывая свои мысли, услышать сочувственный отклик или меткое замечание Александра Романовича.
Воронцов был не только сведущим государственным деятелем, но и остро чувствовал политические настроения в обществе и много задумывался над путями, какими предстояло идти будущей России. Отечество своё он любил искренне, как истинно русский человек. Но, в отличие от Радищева, он не признал, что вершителем судеб государства является народ. Александр Романович не признавал этого потому, что считал и упорно стоял на своём — свершения великого в истории немыслимы без просвещения и участия дворянства — носителя российских преобразований.
Разговоры с Воронцовым в последнее время, главным образом, вращались в сфере предполагаемых законоположений. Александр Николаевич забегал к графу обычно в вечернее время, перед тем, как ему возвращаться к себе на квартиру.
На этот раз коснулись церкви и её служителей.
— Ад, рай, сатана, бог — одни вздорные мечтания! — горячо сказал Радищев, стоявший у широкого окна графского кабинета, выходящего на Обуховский проспект. Воронцов сидел в глубоком кресле, и руки его, охваченные твёрдыми манжетами рубашки, покоились на мягких бархатных подлокотниках. Открытые глаза графа следили за Радищевым.
— Но человек, человек — венец творений божества, — возразил Воронцов.
— Венец сложений вещественных! — с той же страстной горячностью продолжал Радищев, не отходя от окна, а только повернув голову в сторону графа. — Царь земли, но единоутробный сродственник всему живущему на земле… Неудивительно, Александр Романович, что божество часто похоже на человека, поелику человек его сотворил, а богомазы изображают….
— Христианин-отступник! — осудительно, но не злобно сказал Воронцов.
— Да! Считаю себя более философом, нежели христианином, — засмеялся Радищев, отошёл от окна и присел в кресло.
Разговор их перешёл на другую тему.
— Как мыслится существенность гражданина? — спросил Воронцов, видимо, возвращаясь к какому-то прошлому разговору. Вопрос этот глубоко занимал их обоих, так как являлся продолжением того, что занимало всех членов законодательной комиссии. Радищев, много размышлявший над этим, не задумываясь, ответил:
— Каждый российский подданный пользуется невозбранно свободою мысли, веры или исповедания, слова или речи, письма или деяния…
Для него и не могло быть другого ответа: всё, что он сказал сейчас, выношено им за долгие годы в голове и сердце, всё это подсказывала ему жизнь российского народа, которую он хорошо знал от Санкт-Петербурга до глухого Илимска.
Граф Воронцов, восприняв глубину сказанных слов, хотел было возразить Радищеву, но тот ещё убеждённее и твёрже повторил совершенно ясную для него мысль. И Воронцов только подумал: «Хорошо сказано».
Опять коснулись церкви и священнослужителей.
— Веротерпимость должна быть совершенная и устранено всё, что стесняет свободу совести…
— Ну, милостивый мой сударь, — развёл руками Воронцов, хлопнув себя по коленям, — от первого в наш век слышу такие слова! Ратовал за веротерпимость Татищев, рассуждал Аничков, что не должно чрез усилие никакой веры переменять, а вот так утверждать о свободе совести ещё никто не насмелился…
Александр Николаевич хотел что-то сказать, но граф перебил его.
— Не в похвалу говорю, в предупреждение.
И после небольшой паузы продолжал:
— Нельзя отставать в наш век, но и грозно забегать вперёд. Скажу прямо, опасно, друг! Однако очень любопытно. Ну, а что же церковь, церковь, а?
Воронцов вновь сел в кресло.
— Александр Романович, думаю, что власти духовные должны заботиться о том, что принадлежит к церковным обрядам, не касаясь дел правительств гражданских…
Граф склонил голову, догадываясь, куда потечёт речь собеседника и к каким выводам он придёт.
— Священнослужители были всегда и есть изобретатели оков народных, — также горячо продолжал Радищев, как и в начале разговора. — Они всегда подстригали крылья человеческому разуму, боясь, чтобы он не обратил полёт свой к величию свободы…
— Положим, дорогой, сие не ново. Дерзкое перо твоё, всё обнажающее, уже написало об этом в книге, ставшей роковой, — прервал Воронцов.
— Повторяя ранее сказанное, Александр Романович, я лишь подчёркиваю прежние мои убеждения.
— Похвально-о! Но я не сомневался, а теперь и более того нет оснований сомневаться…
— Я хочу сказать, — с настойчивостью продолжал Радищев, — не будь предрассудков, суеверия и темноты, Декарт родиться мог бы столетия назад. Клеймить разум, науки, просвещение, объявлять глупым, мерзким и негодным всё, что является в свет без церковного благословения, — подобное право жестокого гонения несправедливо, Александр Романович, и, как отягчающее народ, должно быть уничтожено!
Граф Воронцов был бы недальновидным человеком, до сих пор не понявшим последовательности всей смелой и дерзкой деятельности Радищева, если бы допустил, что Александр Николаевич сделает на этот раз какие-то другие выводы. Он не хотел быть стрелком, не знающим, из какого дерева делается стрела, и вполне понимал упорный нрав Радищева. Ему по душе были крепкие и твёрдые убеждения этого человека.
— Когда семя падает на бесплодную почву, ещё невозделанную, которую ни дождь, ни роса не напоили, пожнёшь плевелы, — сказал он.
Радищев молчал. Он смотрел в окно на вечернее небо. На нём чередующимися полосами, от яркокрасной у линии горизонта до бледнопалевой в вышине, неподвижно застыли облака.
В словах Воронцова звучала правда. Он сам сознавал это и невольно подумал, сравнив свои мысли с красками заката, что сказанное им сейчас так же ещё далеко от действительности, как яркокрасный цвет от бледнопалевого в небесной выси. Сразу стало как-то горько и обидно.
В кабинет вошёл старенький слуга графа с зажжёнными свечами в канделябре. Он поставил его на круглый столик, разделявший кресла, в которых сидели Радищев и Воронцов. Александр Николаевич опять взглянул в окно, но прежние краски заката погасли, а на душе от этого не стало легче.
Воронцов продолжал:
— Ещё не пришло время в России для столь дерзких и смелых законоположений.
— Придёт!
— Кто может сомневаться в противном, но когда придёт?
— Я вижу его!
Воронцов повернул голову в сторону слуги. Тот поспешно спросил:
— Прикажете кофею?
Александр Николаевич торопливо поднялся и предупредил:
— Нет, нет! В другой раз. Мне домой пора, Александр Романович.
— Неволить не смею, — отозвался Воронцов и проводил Радищева до передней.
6
Снова предстояло совершить путешествие из Петербурга в Москву. Радищев вздохнул полной грудью, когда миновали городскую заставу и колокольчики весёлой трелью зазвенели в сельских просторах. Александр Николаевич следовал в поезде графа Завадовского и на этот раз чувствовал себя совершенно свободно — он ехал в отдельном возке. Мысли его чередовалась: то они невольно входили в полосу воспоминаний, связанных с впечатлениями той давней его поездки, после которой появилась книга, то захватывали его почти явными видениями арестантского возка с конвойными, сопровождавшими его, государственного преступника, то открывали перед ним новые горизонты и дали его теперешней жизни.
Странно сложилась его судьба! И те же почтовые станции, которые проезжал, и встречные люди, крестьяне, живущие в разорённых помещичьих деревнях, виделись ему уже глазами члена законодательной комиссии.
Навстречу шли обозы с крестьянской снедью. Они везли в столицу богатства помещичьих усадеб, нажитые мужицким потом и кровью. Оброк был только что собран в вотчинах петербургских дворян, не знающих всех своих деревень, доставшихся им в награду от государыни или государя. Век минувший щедр был на раздачу крестьян и деревень именитым дворянам!
Господские кучера беззаботно покрикивали на истощённых лошадок, едва тянувших поклажу. Радищеву представлялось за каждым мешком зерна, лежащим на телеге, за бочонком с маслом или мёдом — людское горе в курных крестьянских избах. Он будто видел обросших мужиков в изодранных холщовых рубахах, слёзы крестьянок, окружённых полуголодными детишками, отдающих в оброк последний десяток яиц, фунт шерсти, пудовку муки. Всё это барину положено по закону! Где справедливость закона, призванного оберегать права крестьянина?
На почтовых станциях Александр Николаевич расспрашивал об этих обозах.
— С барским добром, — коротко отвечали ему.
Он обратился к мужику, стоявшему с независимым видом. Сняв войлочную шляпу, сдвинув брови, мужик показался ему непокорным, несгибаемым перед начальством. Он спросил его о повинностях.
— Подать с поселян осьмигривенная, — отвечал ему мужик и, лукаво прищуря глаз, хитро, спросил:
— Не скостят ли ноне их, а?
Радищев знал, что повинности, умноженные при Павле, оставались в прежней силе. Налог был удвоен на гербовую бумагу, на паспорты, на подати купцов и мещан, на чугунные и медные заводы. Казне нужны были деньги. Их взыскивали с крестьян. Клубок взимания податей распутывался так: губернское правление, усматривая, что исправник не взимает недоимки с поселян, налагало на него денежные пени, которые обращались вновь на того же поселянина. Исправник, чтобы исполнить свои обязанности, брал деньги из платежа оброка. Мужик догадывался, что, заплатя пеню, исправник оставит его в покое, а заплатить её было всё же легче, чем недоимки, и он платил. Малыми издержками он не так изнурял себя, а долг на нём оставался прежний, состояние ухудшалось, зато исправник уже не беспокоил до следующего сбора податей. Так тянулось годами: недоимки росли и крестьянин, не видя никакой возможности погасить их, махнув рукой, на всё, ждал для себя худшей участи, чем сегодняшняя его бесправная и безрадостная жизнь.
И Радищев задумался над этим безвыходным положением крестьянина, размышляя, что же надобно сделать в законе, чтобы облегчить его участь?
Графский поезд остановился в небольшой деревеньке, живописно разбросанной на берегу безымённой речушки. Завадовский вышел из кареты, чтобы размять тело, уставшее от долгого сидения. Александр Николаевич воспользовался случаем и заглянул в крестьянскую избу.
Изба была небольшая. Много места занимала печь. За ней к стене был прибит рукомойник, а под ним стояла лоханка с помоями. Стены и потолки, почерневшие от копоти, отливали вороньим блеском. Посередине столик, сколоченный деревенским плотником. На нём — берестяная солонка без соли и в разбитой миске ржаные лепешки с толчёным конопляным семенем. Не было видно ни кровати, ни нар; хозяева спали на печи или на полатях. На божнице от времени совсем почернел лик угодника. Не хватало времени помыть и почистить его.
Таково было убранство избы, в которую заглянул Радищев под предлогом напиться кваску, утолить нестерпимую жажду.
Хозяйка, жена солдата, погибшего в последнюю войну, налила квасу в глиняную чашку, сказала:
— Угощайтесь, барин.
Радищев присел на скамейку. Отпив несколько глотков кислого квасу, он спросил её о вдовьем житье-бытье.
— Беду вдовью никаким языком не расскажешь, — ответила женщина. — Ребятишки да нужда в доме, кто поймёт жизнь нашу.
— Каков урожай ноне?
— Что урожай! Не себе сеяла, а барину. Рожь сжала, да на барскую усадьбу свезла…
В глазах женщины, добрых и открытых, выразилось всё её горе, вся её нужда.
— Тяжело живётся, — с сочувствием произнёс Радищев.
— Не сладко, — и вздохнула. — Будут ли для нас ясные дни? Дойдёт ли вдовья молитва до бога и царя-батюшки?
— Надежда — лучшая утешительница, — сказал Александр Николаевич, но почувствовал, что не этих слов ждала от него крестьянская вдова.
— Не украшай худого, барин.
— Будут и для сельского труженика ясные дни, верь, душа моя, и они быстрее придут.
— Красно сказываешь, да ждать мочи нету.
— Жди!
Что сказать ещё этой русской женщине, к которой в избу, кроме нужды, вошло и вдовье горе? Он произнёс несколько слов, чтоб утешить, но вдова не поняла его. Тогда Александр Николаевич спросил:
— Детей-то сколь?
— Мальчонка с девчуркой на барской усадьбе гусей пасут за кусок хлеба…
— А ты?
— Лён теребить пойду…
Радищев достал из кармана серебряный и положил на стол.
— Детям подарки купишь.
Женщина вскинула затуманенные слезой глаза на монету, и по лицу её словно пробежал испуг.
— Не возьму, барин, деньги. Квас того не стоит, — быстро сказала она. — Не вводи во искушение. Если добрая у тебя душа, оставь медяк.
И когда Радищев попытался убедить её, она решительно замахала рукой, глаза её сразу посуровели. Он вынужден был поступить так, как хотела крестьянская вдова.
Путь продолжался. Графский поезд медленно тянулся по дороге. Не доехали до Новгорода, а Завадовский вновь устал, его всего разбило. Радищев же, наоборот, с ещё большим вниманием всматривался в окружающую жизнь, размышлял над словами мужика, над горем крестьянской вдовы.
Иногда из глубоких раздумий над судьбой народа его выводили встречные казённые люди. Они ехали, сломя голову. Захлёбывающиеся от быстрой езды валдайские колокольчики под дугой не звенели, а будто стонали в переполохе.
Издали засияли купола Софийского собора. Древний Новгород! Радищев представил его седую старину, век его свободы: вечевой колокол, сборища народные, боевые дружины. Не в них ли следовало искать формы самобытного государственного правления? Не заимствовать их у просвещённой Европы, как это пытается сделать граф Воронцов, а глубже призадуматься над правлением древнего Новгорода. Старые русские события захватили все его думы, все его мысли и не оставляли до приезда в белокаменную Москву.
7
Коронация Александра I назначена была на воскресенье. Царский поезд в древнюю столицу прибыл накануне, а двор — за несколько дней перед тем. Все остановились в Петровском дворце.
В день въезда государя в Москву вся дворцовая знать была распределена по чинам и находилась в Кремле. Синод ожидал приезда Александра I в Успенском соборе, гвардия — на Соборной площади. Государь, въехав в Кремль, посетил собор, поклонился праху московских царей и изъявил желание отдохнуть в Слободском дворце.
В воскресенье с зарёй вся Москва пришла в движение. Войска, гражданство, духовенство и царская свита — все толпились внутри кремлёвских стен.
Радищев находился здесь же в числе дворцовой свиты. Равнодушный к коронационным приготовлениям, он с интересом осматривал кремлёвские древности, красоты соборов, теремов, палат, зная, что другого такого случая ему не представится. И весь Кремль вставал перед ним символом великого прошлого России.
Александр Николаевич любовался Успенским собором, напомнившим ему такой же собор во Владимире. Это были чудесные сооружения русских зодчих. Куда бы ни смотрел он, всюду было одно: неописуемая и неповторимая красота Кремля и его величие, созданные русскими людьми. Девятиглавый Благовещенский собор построен московскими и псковскими мастерами, настенная живопись нанесена руками русских художников, пол собора узорно выложен из уральского камня.
Архангельский собор, где были погребены московские князья и цари, Грановитая палата, где они принимали иностранных послов и заседал Земский собор, теремный дворец и венчающая весь этот удивительный слитный архитектурный ансамбль центра Руси колокольня Ивана Великого, самое высокое здание Москвы. Всё это только подчёркивало, как талантливы и изобретательны были русские мастера.
Радищев с восхищением остановился возле царь-колокола, отлитого мастерами Моториными — отцом и сыном. Колокол врос в землю. Какими же умельцами надо было проявить себя, чтобы отлить такую махину здесь же в Кремле!
Тут, где сейчас на Соборной площади, толпа ожидала коронации, некогда Минин и Пожарский, бросившие клич о спасении России, со своим ополчением завершили разгром иноземных захватчиков. Радищев живо представил себе те события, более близкие ему, чем коронация царя.
Близился час венчания на престол Александра I. В Успенском соборе, где дозволено было остаться немногим чинам, началось богослужение. Радищев и большинство других чиновников толпились на воздухе. Он стоял почти на краю площади, не видя, что творится возле собора. Он с наслаждением смотрел на древнюю столицу русского государства, лежащую за зубчатыми кремлёвскими стенами.
Удивительно яркий солнечный день, напоённый стужей, придавал особую прелесть подлинно русской картине, открывшейся глазам Радищева.
Думы Александра Николаевича были далеко от кремлёвского торжества. Он знал, что после коронации государь, как и все другие до него государи, будет осыпать милостями и щедротами тех, кто ближе стоит к нему. Он подумал, не воспользоваться ли и ему таким поводом и не подать ли прошение вместе с теми, кто будет писать письма Александру I, прося наград и новых милостей.
У него были большие затруднения из-за расстроенного имения. Радищев не мог погасить огромные долги, чтобы сразу избавиться от платежей, и решался передать имение в казну.
В прошении своём он не просил дары для себя, а хотел, чтобы числившиеся за его имением крестьяне, не попали бы в руки перекупщиков и тем самым не ухудшилось бы их состояние.
Просьба Радищева, не похожая на другие, могла показаться странной государю. Но это был самый лучший выход — покончить сразу с обременявшим его имением. Он готов был передать его в казну за какую угодно плату, назначенную по усмотрению царя.
Прошение было заготовлено. Александр Николаевич, взвешивая всё за и против, размышлял теперь над тем, следовало ли ему подать бумагу сейчас или выждать время и сделать это позднее?
Пушечный гром, сопровождаемый ружейными выстрелами, возвестил москвичей, что совершилось миропомазание, венчание на престол России нового государя Александра I.
Радищев от неожиданности вздрогнул: «коронация закончена», — подумал он, всё ещё занятый мыслями о расстроенном имении.
Так начались коронационные празднества. В последующие дни шли аудиенции и торжества, куртаги по вечерам и утренние церемониальные прогулки и посещения монастырей и церквей с крестными ходами.
Радищев не мог вынести шума этих празднеств. Он заговорил с графом Завадовским о возможности отлучиться в Немцово, чтобы свидеться с семьёй, подготовить её к выезду в Петербург. Граф Завадовский, находившийся в исключительно хорошем настроении, милостиво разрешил ему отлучиться из Москвы.
Александр Николаевич сразу почувствовал облегчение. На душе его отлегло совсем, когда санки уже неслись по заснежённым дорогам в направлении Малоярославца.
8
В конце декабря, снежного и морозного, Александр Николаевич возвратился в Санкт-Петербург. Катя, Николай и младшие дети приехали вместе с отцом. В Немцово осталась одна Дуняша, удручённая отъездом Радищевых.
Александр Николаевич заикнулся было о том, что Дуняша отныне свободна и может устроить свою личную жизнь так, как ей хочется, но услышал полные решимости слова:
— Куда ж я без вас? У меня и жизни другой нету: радости и печали одни. Воля ваша будет мне неволей…
Искренняя обида, прозвучавшая в голосе Дуняши, и сущая правда её слов, неоспоримая и такая убедительная, подействовали на Радищева. Он пообещал, что непременно возьмёт её в столицу, как только окончательно упрочится его положение. И Дуняша, согретая обещанием Александра Николаевича, осталась в разорённом Немцово ждать того счастливого дня.
В Петербурге Радищев прежде всего устроил младших детей в пансион Вицмана, своего старого знакомого, затем окунулся с головой в работу законодательной комиссии.
Всё шло своей чередой. Спокойный за семью, Александр Николаевич то навещал присутствие, встречался с членами комиссии и вёл с ними долгие разговоры, то посещал Воронцова и подолгу беседовал с ним, то, наконец, в тесном домашнем кругу отдыхал от дневной суеты за чашкой крепкого чая. Тут велись задушевные и непринуждённые разговоры с друзьями, навещавшими его. Это были самые разнообразные беседы, но больше всего вращавшиеся вокруг литературы и законоведения, отечественной истории и событий, происходящих за пределами России.
Среди частых посетителей был полковой священник Василий Налимов, живший по соседству, тут же в 4-й роте Семёновского полка. Он был запросто вхож в дом Радищевых, как сосед и человек, любивший светские разговоры. Александр Николаевич, собственно, и уважал за это полкового священника. Отец Василий приходил в рясе, широком тёмном платье, со скуфейкой на голове, из-под которой торчали его рыжеватые волосы. Иногда он снимал рясу и оставался в подряснике, перехваченном ремённым поясом, и чувствовал себя здесь совсем по-домашнему.
Катя и Николай, вначале робевшие при священнике, постепенно привыкли к нему. Они с любопытством слушали немножко растянутые и нравоучительные тирады отца Василия, когда он, как ярый охотник, напавший на след зверя, затрагивал излюбленную тему. Особенно воодушевлял его разговор о великих царях, жили ли они в России или в заморских землях с названиями почти таинственными и сказочными.
Однажды, сидя за чаепитием, отец Василий распространился о Петре Первом. Подняв тонкую руку, он глубокомысленно произнёс:
— Учёный богослов Феофан Прокопович про Петра выражался, что он виновник всех наших благополучии и радостей. Он воскресил от мёртвых Россию и воздвиг ей толикую силу и славу…
— Что верно, то верно, отец Василий, — поддержал Александр Николаевич, которому нравился окающий выговор священника. Он поставил чашку на блюдечко и отодвинул её от себя.
Катя, сидевшая за хозяйку возле самовара, быстро спросила:
— Папенька, налить ещё?
— Потом, дочь.
Иван Пнин, отпивая небольшими глотками горячий чай, внимательно вслушивался в речь священника. Он отставил чашку, облокотился и торопливо сказал:
— Любовь к отечеству и своим подданным отличала сего просвещённого правителя, не успевшего довершить свои замыслы и предоставившего сие сделать последующим поколениям.
— Мудрые слова-а! — заметил спокойно отец Василий. — Пётр, как Самсон, застал Россию слабой и дал ей силу адамантову, как Иафет, создал новый флот, как Моисей, сотворил законы, в мудрости не уступающие соломоновым…
Катя с затаённым вниманием слушала отца Василия. Её молодому, пылкому воображению почти картинно рисовалось то, о чём она впервые слышала. А отец Василий, чуть возвысив голос, продолжал:
— Кто может равняться с ним? Нет тому примера! Пётр выше всех!
— Верно, отец Василий, очень верно! — одобрительно отозвался Александр Николаевич, слушая Налимова о Петре.
Иван Пнин тоже не был спокоен. Крайнее напряжение его лица показывало, что он, давно ждавший случая высказаться по этому поводу, наконец, дождался его и теперь скажет всё, что думает.
— Руководствуемый благом общественным, Пётр ни на какие опасности не взирал. Он превозмогал все препятствия, не щадя себя.
Катя мельком взглянула на Николая. Брат внимательно слушал, и глаза его задорно блестели. Ему передалась страстность, с какой говорил Пнин.
— Обширный разум Петра проницал в самые сокровенные действия политики.
— Победить шведов в Полтавской баталии, — поспешно вставил Николай, воспользовавшийся паузой в разговоре, — выиграть сражение на море, когда флот лишь создавался…
Молодой Радищев, поймав неодобрительный взгляд отца, давшего понять, что неприлично перебивать речь собеседника, сразу как-то смолк, так и не досказав своей мысли.
— Премудрыми плодами петровыми напитана Россия, — попрежнему страстно звучал голос Пнина, — для коей он более сделал один, нежели многие государи вместе взятые до его правления. Пётр жил для своего народа и был ему во всём примером.
Иван Пнин смолк. Он вытер платком своё болезненное лицо, на котором проступили мелкие, как бисер, капельки пота.
— Пётр — муж необыкновенный!
Радищев взглянул в небольшие глаза Пнина, сияющие привлекательным, но лихорадочным блеском, и, чуть помолчав, продолжал:
— Славословя его деяния, не следует забывать, что он был, как и все царствующие особы, самым властным самодержцем.
Катя не поняла слов отца. Ей казалось всё, что говорили Налимов и Пнин о Петре, совершенно справедливо и незачем им возражать. «У папеньки натура несговорчивая», — подумала она, наблюдая, как же воспринято его возражение другими.
Отец Василий улыбнулся. Он дружески покачал головой.
— Протопоп Аввакум любил говаривать: «Кидаешься ты на ворога яко лев». Так и ты, Александр Николаевич, в каждой царствующей персоне зришь врага народного, а самодержец поставлен свыше, нам грешным, на сей земле… Что ни говори, а доброе петрово учение ко всякой пользе отечества пригодно. Оно корень и семя нашей жизни…
— Да, да! — горячо поддержал довольный Пнин и, обращаясь к Радищеву, пояснил:
— Не спорю, гений сего премудрого государя предпринимал иногда такие меры, которые не произвели желанных успехов, а в некоторых случаях даже показали совсем противное.
— То-то и оно, милейший Иван Петрович, — и чтобы отчётливее подчеркнуть своё отношение, высказать свою оценку деятельности этого предприимчивого и упрямого государя, Александр Николаевич сказал ещё более энергично.
— Нам не следует забывать хорошего, но губительно не замечать и плохого в правлении Петра.
Отец Василий протянул чашку.
— Тело требует блага телесного. Налей-ко ещё чашечку, дочка.
Разговор незаметно перешёл к законоведческой деятельности в России, ибо многие смелые преобразования начались с Петра.
— Когда я задумываюсь над созданием новых законов, — начал Радищев, — мысль моя сходится на том, что нужно постановить прежде некоторые твёрдые правила, как делал Пётр, но направляющие общий разум и нравы на благо народное.
— Общее мнение — твердейшая опора всех человеческих постановлений, — согласно отозвался Пнин. — Однако самый важный предмет, долженствующий занимать ныне законодателя, есть тот, чтобы предписать законы, могущие определить собственность земледельческого состояния. Доколе наши крестьяне будут находиться в бедственном состоянии, в отчаянии влачить свои дни и проклинать жизнь господ?
Катя теперь слушала с меньшим интересом разговор, происходящий за столом. Она лишь пристально наблюдала за Пниным, зная, что отец уважает и любит этого больного человека, ищущего в жизни истины.
Отец Василий молчал. Вдумываясь в слова, он не догадывался ещё, куда же повернёт свою пылкую речь Иван Пнин. Он держал левой рукой блюдечко, методично покачиваясь, отпивал чай. Когда священник слегка наклонялся, большой из перламутра крест отливал радужным сиянием. Катя смотрела то на этот сияющий крест, то на раскрасневшееся, полное и самодовольное лицо отца Василия.
Александр Николаевич, взволнованный словами Пнина, тихонько привстал. Ему нравилась убеждённость, с какой тот говорил о крестьянах. Он отошёл от стола, продолжая слушать глубокие и точные суждения Ивана Петровича.
— Доколе участь столь полезного сословия наших граждан, от коих зависит могущество и богатство государства, будет состоять в неограниченной власти господ, поступающих с ними иногда хуже, нежели со скотом? Сие ужасное злоупотребление власти помещиков над крестьянами унижает Россию перед европейскими державами. Горестно, весьма горестно, — Иван Петрович резко махнул рукой и с болью закончил, — для нас, россиян, своё отечество любящих, видеть в нём дела, совершающиеся разве в отечестве негров…
Пнин снова вытер своё потное лицо. Горячность его всё больше и больше была по душе Радищеву. Он подошёл к нему и крепко пожал руку Пнина.
— За горячими и правдивыми словами, Иван Петрович, жду горячих и больших свершений.
Отец Василий поставил блюдечко на стол и протестующе откинул голову.
— Царь Давид изрекал, что все мы всуе мятёмся, а Марк Аврелий справедливо вещал, что дня сего заря не есть дня вчерашнего и за утро той же не будет.
— Сказал аз, скажи и буки, отец Василий.
Налимов поднялся.
— Стезя, к истине ведущая, да не восхулит бога на небе и царя на земле. Речи ваши перешагнули грани дозволенного. Слух мой да не достигнут ваши якобинские словеса.
— А-а, испугался! — Александр Николаевич довольно раскинул руки, заразительно рассмеялся. — Не будем, не будем посрамлять слух отца духовного, как, Иван Петрович, думаете, а?
Пнин, немного, смутившийся, произнёс:
— Я, право, не знаю. Запретного в моих словах ничего нет. Готовлю сочинение на сию тему, дабы преподнести его государю.
— Совсем отменно-о!
Александр Николаевич знал отца Василия по прежним беседам. Это был человек, питающий большую страсть к разговорам откровенным и политически острым. Он понимал, что сан священника обязывал его возразить, и не обиделся на замечания.
— Еретики, право слово, еретики! — сдаваясь, сказал Налимов, а Радищев в том же шутливом тоне продолжал:
— Коль убеждён человек в том, что говорит, разве душа его будет порочна?
Отец Василий округлил глаза, насторожился.
— Принять обман души, разве не совершить грех пред всевышним, отец Василий?
Александр Николаевич скосил глаза в передний угол, где висела небольшая иконка с лампадой.
— Однако хитёр ты, Александр Николаевич, — поняв увёртку Радищева, заметил Налимов, а хозяин дома уже серьёзно говорил:
— Убеждение, убеждение, ещё раз убеждение! Токмо им, Иван Петрович, движутся лучшие побуждения человека в достижении его цели! — Радищев высоко и гордо вскинул голову с радостным и независимым выражением. — Что касается меня, то ежели счастье изменит мне, предпочту умереть, чем быть попранному! За правду и смерть красна.
— Бедовая головушка у тебя, Александр Николаевич, не сдобровать ей, помяни моё слово.
— Знаю, отец Василий! — уверенно произнёс Радищев, — и не страшусь! Самое страшное позади. К виселице присуждали…
Пнин, давно покорённый независимостью Александра Николаевича, с глубоким обожанием посмотрел на него и подумал: «Чем я заплачу за любовь и дружбу твою, чем, мой единственный наставник и друг?» Ему хотелось сказать сейчас, что он любит его не только за смелость суждений, но и за смелость действий, но, не сказав этого, опять подумал о том, найдётся ли человек, который может не полюбить его, однажды встретившись и поговорив с Радищевым по душам?
Зазвонил дверной колокольчик. Катя быстро поднялась и направилась в прихожую.
— Входите, входите, Андрон Семёныч! — послышался её голос.
— Андрон пришёл, — и Александр Николаевич зашагал навстречу гостю. — С какой докукою явился? — встречая отставного солдата, спросил он и ввёл его в гостиную.
— Пришёл посумерничать, послушать умную беседу, — ответил Андрон. Он низко поклонился сначала отцу Василию, потом Ивану Петровичу.
Александр Николаевич пригласил Андрона к столу и попросил Катю налить горячего чайку.
— Морозно на дворе?
— Озяб пока шёл…
Отставной солдат, с которым Александра Николаевича свела печальная судьба на заставе, уже не раз бывал в доме Радищевых. Его покорила простота Александра Николаевича, умевшего сходиться с людьми и располагать их к себе. Андрон, сердцем понявший большое горе, пережитое Радищевым, чаще стал навещать его дом после приезда семьи. Он приходил сюда, чтобы по-своему отблагодарить Радищева за хорошее и уважительное отношение к себе. Андрон старался чем-то помочь семье. Если Александра Николаевича не было дома, то он охотно помогал Кате: шёл в дровяник и колол дрова или напрашивался принести ей воды, брал вёдра и шёл с ними к колодцу.
Сделав что-нибудь приятное Радищевым, Андрон спокойно покидал их дом. И Радищев, понимая бескорыстие отзывчивого сердца Андрона, принимал его помощь. В свою очередь и он оказывал Андрону расположение. Иногда солдат приносил с заставы интересные вести.
— Не придётся ли собирать городовую команду супротив британцев? — спросил вдруг Андрон, слышавший на заставе разговоры военных о дерзкой выходке английской флотилии, появившейся у берегов Ревеля.
Последнее время в столице много говорили о Нельсоне, посмевшем нарушить правила нейтральной торговли и с военной флотилией появиться в территориальных водах России.
— Коль придётся, Андрон, так ударят сбор, — сказал строго Радищев и, обращаясь к Пнину, молчаливо наблюдавшему за отставным солдатом, пояснил:
— Забыть не может о сборе ополченцев супротив шведов в 90-м году. Был в команде.
— Был, — подтвердил солдат. — Опять буду, все будем, ежели клич услышим…
— Похвально-о, Андрон, похвально-о! — вставил отец Василий.
— Взять воды для флотилии! — сказал Пнин. — И придумал же Нельсон. Обычная британская дерзость!
— Малодушная дерзость! — подхватил Радищев. — Знают, что флот российский заперт льдами, и вот скалят свои волчьи зубы…
— Миролюбивый император наш великодушно простил сию выходку, — отозвался отец Василий.
И разговор с прежней пылкостью разгорелся вокруг англо-русского конфликта 1801 года. Александр Николаевич возразил отцу Василию. Он попытался объяснить, что дело было не только в миролюбии царя, а во взаимных уступках России и Англии во избежание новой войны.
— Ноне Англия превзошла богатством все европейские государства и вознамерилась быть повелительницей мира, а напрасно…
— Величие-то её, Александр Николаевич, обманчиво, может рассеяться, как туман, — запальчиво сказал Пнин. — Всё зависит от образа действия союзных государств.
— Конечно, — согласился Радищев и твёрже прибавил, зная наверняка, отчего может произойти крушение военных планов. — Истощится терпение оскорблённых народов, и рухнут все корыстолюбивые замыслы британцев!
— А всё ж следовало б Европе наказать их за дерзость, — с присущей откровенностью и прямотой сказал Пнин. — Запереть бы их гавани на годик и сбили б английскую спесь.
Вскоре явились ещё два Василия: Василий Радищев со своим приятелем Василием Попугаевым.
— Можно клуб открывать, — отвечая на их приветствия, пошутил Иван Пнин. — Не хватает Борна, а то было бы в сборе всё Общество любителей словесности.
— И в самом деле, — изумился Александр Николаевич. — Нет только Борна с Бестужевым.
Теперь в доме Радищевых стало совсем оживлённо и шумно.
— Василий Васильевич, — звучал голос Василия Радищева, — прихватил с собой рукопись нового трактата.
— Любопытно-о! — отозвался Александр Николаевич, обрадовавшийся случаю познакомиться с сочинением Попугаева.
— Не утерпел, выдал, — с укором глядя на приятеля, сказал Попугаев.
— А что секретничать-то?
— На какую же тему? — прежде других полюбопытствовал Александр Николаевич.
Смущённый вниманием старшего Радищева, Попугаев ответил:
— О влиянии просвещения на правление.
— Читать, сейчас же читать! — окинув взглядом всех, предложил Александр Николаевич.
Все уселись поудобнее. Попугаев, ещё не оправившийся от смущения, начал читать свою рукопись.
9
Александр Николаевич, наслаждаясь и дыша свежей прохладой на прогулке, продолжал раздумывать над законодательными проектами. Шея его была укутана шерстяным платком. На плечах накинута просторная и тёплая шинель, какую носили все столичные чиновники.
В этот воскресный день на прогулку с ним попросилась Катя. Отец взял с собой дочь. Они вдвоём долго ходили по улицам и площадям столицы, не замечая, что прогулка их затянулась.
Катя, не бывавшая в Санкт-Петербурге с того дня, как вместе с Елизаветой Васильевной уехала к отцу в Сибирь, теперь многое воспринимала совершенно по-новому. Она искренне восхищалась то графской каретой, на запятках которой стояли ливрейные слуги, то, задерживаясь перед памятником, с замиранием сердца рассматривала произведения ваятеля, то приходила в восторг от колоннад и дворцовых зданий, удивляясь творению зодчих.
Александр Николаевич заметил впечатлительность дочери. Он объяснял всё, что интересовало Катю, внимательно наблюдал за выражением её разрумянившегося лица.
Катя выглядела теперь совсем взрослой, миловидной девушкой. От матери она переняла нежные черты рта и задумчивые глаза, от отца — смугловатый цвет кожи и красивый разлёт бровей.
Смотря на дочь, Александр Николаевич испытывал угрызения совести, что не может купить ей хорошее платье. Из бархатной шубки, с потёртой меховой отделкой, Катя заметно выросла. Овальная беличья шапочка на ней тоже была уже поношена и побита молью. Но дочь, понимая затруднительное состояние отца, никогда не заикалась о нарядах. Она удовлетворялась самым скромным, простым и дешёвеньким платьем.
Они задержались возле монумента Петру Первому. Александр Николаевич рассказал дочери, как Фальконе создавал своё творение.
— Фальконе изобразил в Петре созидателя и законодателя. Ваятель любил говорить, что его царь простёр свою благодетельную десницу над страною.
Вспоминая тот давний день торжества открытия монумента и своё «Письмо другу, жительствующему в Тобольске», Радищев горько усмехнулся при мысли, что письмо было посвящено Сергею Янову, в котором он обманулся, и продолжал уже совсем о другом.
— В тот день были выбиты серебряные жетоны и медали…
Катя совсем по-иному смотрела теперь на памятник Петру, вспомнила и недавние разговоры о нём отца Василия и Ивана Петровича. Ей показалось, что от всей величественной бронзовой фигуры повеяло исполинской неудержимой силой.
На скалу взметнулся всадник, простирая руку на север. Пётр словно возвещал о победах. Как чудесно было изваяние Фальконе, отлитое в бронзу на фоне густых и лёгких, будто батистовых облаков петербургского неба! Кате хотелось сказать о памятнике что-то торжественное словами стиха.
От монумента Фальконе они прошли на Дворцовую площадь. Перед Зимним дворцом, возле специально устроенной грелки — дымного костра толпились кучера и лакеи, ожидавшие, когда появятся их господа из дверей дворца. В стороне находились кареты и выездные санки, похрапывали застоявшиеся лошади в богато убранной сбруе и цветных попонах.
Катя зачарованно смотрела на пышные кареты и санки, на узорчатые решётки дворцов, на которых причудливо блестел седой иней. Она просто залюбовалась открывшейся перед нею живописной картиной. А Радищеву всё это напомнило Иркутск, совместную прогулку с Елизаветой Васильевной по городу, посещение оранжереи Лаксмана. Это было уже давно, десять лет назад, а ему казалось, что на днях: так живо всё ему представилось в эту минуту.
Он припомнил, как Лиза просила его купить ей авабрахаз — драгоценный камешек, про который говорили, что носить его полезно, он предупреждает беды и болезни. И Александр Николаевич теперь, много лет спустя, сожалел, что не купил камешек, будто от этого и произошли с Елизаветой Васильевной и с ним все тяжёлые беды и утраты.
Потом память выхватила ещё одно воспоминание об Елизавете Васильевне. Он словно увидел перед глазами жену, вернувшуюся из Иркутска, куда она ездила, чтобы выхлопотать у генерал-губернатора Нагеля защиту от грубых выходок киренского исправника. Ей удалось услышать в доме Дрозмана, где она остановилась, исполнение на скрипке «Волшебной флейты» Моцарта. Жена рассказывала ему, что композитор, недовольный своим положением и преследуемый властями, вынужден был путешествовать по Богемии. Стараясь отыскать сходство в судьбах многих изгнанников, Рубановская словно легче переживала тогда его участь человека, сосланного в Сибирь.
И вдруг всё это будто оборвалось и заслонилось иконостасом с ликом божьей матери, пылавшим пучком свечей в огромном медном подсвечнике, горевшей лампадой, из цветного стекла, излучающей малиновые, зелёные, синие отблески огня…
— Папенька, что с вами?
Александр Николаевич вздрогнул и очнулся.
— Что, дочка?
— Я спрашиваю, спрашиваю, а вы молчите…
— Задумался. Воспоминания захватили меня.
— Побываемте на Грязной улице?
Александр Николаевич не стал возражать. Теперь, когда вся душа его переполнилась прошлым, он не боялся растревожить её ещё больше воспоминаниями о прежней жизни.
Радищев взял извозчика. Они сначала проехали по Миллионной улице. Александр Николаевич показал дочери дом Рубановских, где когда-то жила её мать. Затем они добрались до Грязной улицы, сошли с санок, вошли во двор. Они молча осмотрели сад и дом, где были прожиты самые счастливые годы Александра Николаевича и безмятежно пролетело детство Катюши.
Отсюда отец с дочерью проехали на Петровский остров, взглянули на дачу и вернулись домой.
Наступил уже вечер. Синие сумерки опустились на город. Сторожа сидели возле своих караулен и обогревались у костров. На них были надеты зипуны, перехваченные опояской, — кушаком, на голове форменные шапки с цветными кокардами, со стоячими, как девичьи кокошники, козырями.
На стене караулен висели металлические треугольники. Сторожа, подойдя к ним, ударяли палкой. Сразу на звук отзывались другие и улица наполнялась бесконечным перезвоном.
Катя, обычно слышавшая этот перезвон издали, от своего дома, восприняла его теперь как особую музыку, заполнившую зимний вечер и тихие улицы столицы.
— Поздно, — отозвался задумавшийся отец.
— Я так проголодалась и чуточку замёрзла, — вырвалось у дочери. — Но очень и очень довольна, папенька.
На углу возле их дома стояла пара заиндевелых лошадей, запряжённых в богатую кошеву, обитую бархатом. Радищев взглянул на выезд и подумал, к кому бы могли приехать в такой поздний час?
Оказалось, что Александра. Николаевича уже давно поджидал, беззаботно болтая с его сыновьями, незнакомый иностранец. Это был представитель торговой английской фактории Крамп и Казалет, обосновавшейся в столице лет пятнадцать тому назад. Радищеву хорошо была известна эта торговая фактория. Будучи управляющим санкт-петербургской таможней, он частенько имел с нею дела.
Англичанин — галантный молодой человек, державшийся высокомерно и заносчиво, представился Радищеву. Он обратился к нему на своём родном языке, сообщив, что приехал засвидетельствовать ему своё почтение и признание, как горячему приверженцу свободной торговли, придерживающемуся принципов учения его соотечественника Адама Смита. Затем англичанин повторил то же самое по-русски, произнеся каждое слово с акцентом и с особой изысканностью.
— Наша фактория рада засвидетельствовать вам свои добрые воспоминания, связанные с лучшими днями вашей деятельности в коммерц-коллегии и таможне…
— Благодарю, — несколько смущённо и сдержанно ответил Александр Николаевич, удивлённый появлением в своем доме официального представителя английской торговой фактории.
— Нам известно, что господин Радищев нуждается. Наша фактория готова оказать вам всяческую поддержку…
Лицо Александра Николаевича, красное с мороза, сделалось совсем пунцовым при этих словах. Казалось, прихлынувшая кровь готова была брызнуть сквозь кожу. Но, сдержав свой гнев, он спокойно ответил:
— Ваша фактория располагает ложными сведениями. Я ни в чём не нуждаюсь…
Англичанин холодно улыбнулся.
— В бытность вашу в таможне вы имели четвёрку прекрасных лошадей, а ныне ходите в присутствие пешком.
— Старость своё берёт. Медики так рекомендуют, полезнее для здоровья, — с издевкой произнёс Радищев, готовый нагрубить представителю фактории. — У вас какое-либо дело ко мне?
— Наша фактория хотела засвидетельствовать вам своё почтение, напомнить, что мы рады, мы готовы…
Дети никогда не видели своего отца таким внутренне негодующим и внешне сдержанным.
— Ещё раз благодарю, — Александр Николаевич склонил голову и по-английски добавил, что он более не задерживает господина представителя английской фактории Крамп и Казалет.
Англичанин сделал кислую мину. Он расшаркался и оставил дом Радищева, не достигнув главной цели своего посещения, поставленной руководителями торговой фактории, чтобы склонить на свою сторону человека, который мог бы оказаться им полезен.
— Какая наглость! — вырвалось у Александра Николаевича. — Как он смел?
Радищев посмотрел на сыновей и дочь, стоявших в стороне и тоже внутренне потрясённых дерзостью англичанина.
— Какая низость! Они ничем не гнушаются, — гнев клокотал в нём. — Хотели мою совесть купить под предлогом оказания помощи!
Александр Николаевич снова окинул взглядом своих детей, негодующе и назидательно заключил:
— Никогда отец ваш не торговал совестью и честью и никогда не будет продажным человеком! Какие наглецы! А-а?!
10
Тягость налогов и повинностей, разорительное мотовство дворян — всё это тяжёлым бременем ложилось на плечи крестьян. И сознавать такое состояние народа было тем больнее, что Россия изобиловала всеми богатствами земли. Они таились в её недрах от знойной Апшеронии до льдов Лапландии, от ковыльных степей Бессарабии до Курильской гряды. Чего-чего не вмещала в себе российская земля на таком необъятном пространстве!
Сердце Александра Николаевича трепетало от радости перед неисчислимостью богатств родной страны и обливалось кровью от нищеты народной, которую он видел вокруг себя. И сейчас, когда при непременном совете для «рассуждения о делах государственных» была создана комиссия по составлению незыблемых законов, способных поставить «силу империи российской», Радищев воодушевился: представлялся случай вновь сказать своё заветное слово в защиту народа.
Сначала комиссии поручили разработать «Всемилостивейшую грамоту российскому народу». Проект её предложил граф Воронцов. Прежде чем это сделать, он доверительно попросил Радищева, как прежде с «Рассуждением о непродаже рекрутов», прочитать «Грамоту» и внести в неё исправления по своему усмотрению. Это было то, чего ждал Александр Николаевич. Он согласился и охотно исполнил просьбу графа. Но Радищев понимал, что «Грамота» сдерживала его возможности изложить со всей прямотой мысли, касающиеся многих злоупотреблений. Однако он всё же не утерпел и внёс исправления о защите обездоленных и угнетённых. «Грамота» была благосклонно принята императором.
Радищев поверил в реальность того, что ему всерьёз предстоит выступить в защиту прав своих соотечественников, и, обложившись книгами, засел за «Проект гражданского уложения».
Какая-то яркая вспышка надежды, что будет провозглашена свобода, захватила на короткое время все помыслы его пылкой и отзывчивой натуры. Он не знал, что это был последний огонь, который вспыхнул в его светильнике, чтобы потом навечно погаснуть.
Надежды его духовно поддерживались тем, что вслед за «Грамотой российскому народу» представленная Воронцовым «Записка о России в начале нынешнего века», как говорили при дворе, встречена была также благосклонно. Сам граф, называя её «посильным трудом своим», при встрече радостно сообщил:
— С полною свободою я изъяснил свои мысли государю, будучи движим лишь усердием к отечеству… Россия ещё до конца не устроена, хотя с царствования Петра Великого о сем помышлялось. Плоды трудов сего государя, мало имевшие себе подобных, и теперь ещё ощутительны.
Радищев, высоко ценивший преобразовательную деятельность Петра, радовался тому, что мысли Александра Романовича были близки его мыслям. Всё это только подогревало и не могло не подогревать вспыхнувшие в нём надежды.
— Нельзя не признать, — убеждённо говорил Воронцов о царствовании Екатерины II, — что сердце России было истощено ежегодными рекрутскими наборами. К тому ещё прибавились налоги, кои Россия не могла выносить без изнурения…
Не об этом ли постоянно думал Радищев, не всегда ли освобождением народа от тягостей налога и повинностей была занята его голова, когда он писал своё «Путешествие», отбывал за него ссылку? В последние годы он наблюдал одну и ту же картину народной нищеты и бедности, роскоши и богатства дворян и помещиков! Он будто вновь услышал в эту минуту разговор с мужиком в свою последнюю поездку, живо увидел горе крестьянской вдовы. Могла ли бесконечно продолжаться эта несправедливость для трудового человека, который родится в мир во всём равен другим?
Мысли Воронцова были настроены в унисон его мыслям. Граф Александр Романович в «Рассуждении о непродаже людей без земли» писал:
«Условия бесчеловечного помещика, продающего человека своего в рекруты под прикрытием отпуска на волю, не могут быть сокрыты от присутственных мест, помогающих в сем торге людей… Для истребления сего зла нужно узаконить, чтобы всякий отпущенный на волю должен сам лично явить отпускную в присутственное место… Сим средством, кажется, упредится постыдный промысел рекрутской продажи, более неудобный и более содрогающий человечество, нежели самая продажа людей без земли…»
Радищев вновь перечитал это место в «Рассуждении». Он ничего не мог добавить к словам Воронцова. Они пленяли душу Радищева, вселяли веру в те возможности, которые открывала ему деятельность в законодательной комиссии.
И когда Воронцов спросил Радищева, каково его мнение о «Рассуждении», Александр Николаевич с присущей ему страстностью отвечал:
— Да, закон должен быть подтверждением того, что человеку даровала природа! Чем государство твёрже в своих правилах, чем стройнее и светлее оно само по себе, тем менее может оно покачнуться от дуновения каждого мнения, от каждой насмешки разъярённого писателя; тем более благоволит оно к свободе мыслей и к свободе писаний, а от неё под конец — только прибыль истине…
Радищев был почти опьянён теперь тем счастливым случаем, который шёл ему навстречу, и не воспользоваться им было невозможно.
Александр Николаевич с особым интересом выслушал тогда всё, о чём так убедительно говорил Воронцов, веривший не меньше Радищева в реальность своей давно вынашиваемой мечты о государственном преобразовании России. Потом они говорили о правах сената. В голосе Александра Романовича, как уловил Радищев, звучало ещё больше страсти деятеля законоведа.
— Большинство голосов, введённых в последние годы, обратило сенат в ничтожность, — говорил граф. — Нельзя не приметить, мой друг, что сенат занимался восстановлением своего состояния, в коем он был при учреждении своём Петром Великим, не собою на то побуждаем, а рескриптом императора… До ныне в нём мало что делалось. Я заметил, в сенат вступали только те дела, кои докладчики сами делать не хотели. Были и такие собрания, на которых, если б не прочесть журнал предыдущего заседания, и собирать бы их не для чего… Поспорили мы с графом Петром Васильевичем о том, что более применимо к России, и пришли к единому мнению. Лучше из самого источника черпать воду, нежели из ручьёв, удалившихся и мутных. Знаю, дорогой Александр Николаевич, вы супротивник мой, но скажу прямо, что не всё хорошее для Англии удобно приложить к России, но как быть, ежели лучшего образца государственного правления в мире не придумано?
Радищев осторожно ответил:
— Ежели доброе и полезное есть, почему не перенять? Разумный народ не стыдится взять доброе от других. Но пристало ль нам, русским, шапку ломать перед иноземным? Поискать лучше, и формы удобного правления в истории отечественной найти можно… Разве Новгород великий не давал сему примера?
И хотя затронутый вопрос о будущности России был тем вопросом, который сразу отбрасывал собеседников на разные полюсы их представлений о переустройстве родного отечества, он не разъединял их, не ссорил и не делал противниками, а наоборот, наталкивал того и другого ещё страстнее поспорить между собою, ещё глубже затронуть существующее законоположение и задуматься над новыми формами государственного правления. Разговор только разжигал пламень их спора.
Много ночей без сна провёл Радищев, сидя за столом, низко склонившись над бумажными листами, мелко испещрёнными его упрямым и твёрдым почерком. Он писал и хотел, чтобы каждый российский гражданин воспользовался свободою мысли, как было вписано им в проект «Грамоты российскому народу». Теперь, едва поспевая за бегом мыслей, он торопливо выкладывал их на бумагу, почти ясно представляя своих соотечественников уже под сенью величественной свободы.
Проект «Гражданского уложения» словно входил в жизнь. Он видел его животворное начало. Как хорошо было работать ему, недавнему изгнаннику, над тем, что приближало его заветную мечту к цели! Всё, всё, что так тяжело перенёс Радищев: и муки ссылки, и незаменимые потери дорогих сердцу людей — утрату Лизаньки, вознаграждалось теперь сторицей.
Александр Николаевич отрывал глаза от белого листа бумаги. Взгляд его устремлён был выше пламени догоравшей свечи, куда-то вперёд, в мир, рождённый взлётом его мысли. Так он сидел какое-то мгновение, упоённый вдохновением. Он был красив той неодолимой силой видения счастья, какая даже больных людей делает здоровыми и могучими.
Радищев с лихорадочной спешкой писал, и мелким, убористым строчкам словно тесно было на бумажном поле. Он верил в то, что писал. В этом было его большое счастье.
11
Сын Николай, служивший теперь секретарём в законодательной комиссии, передал отцу, что его желает увидеть какой-то человек, посетивший присутствие. Сын предупредил, что тот непременно зайдёт сегодня.
Александр Николаевич, которому графом Завадовским было разрешено отлучаться из присутствия, не злоупотребляя разрешением и не толкаясь без дела, как другие члены комиссии, больше занимался дома. Он рассматривал поручаемые дела и писал на них свои заключения и аккуратно являлся на заседания комиссии, где обсуждались эти дела с его особыми мнениями. Последнее время к Радищеву всё чаще и чаще обращались самые различные посетители с теми или иными просьбами, касающимися разбора судебных дел.
Радищев явился в присутствие вместе с сыном. Его действительно уже ожидал посетитель. Александр Николаевич совершенно не знал его: внешне ничем не привлекательный, чуть старше средних лет, с лицом, изборождённым преждевременными морщинами, посетитель был одет в поношенный чиновничий мундир.
Незнакомец при появлении Радищева сразу оживился. Он встал с дивана и подошёл к нему.
— Добрейший Александр Николаевич, здравствуйте! — Он протянул руку и несколько удивился. — Не узнаёте меня?
— Запамятовал, простите.
— Степан Андреевич Голышёв, помните?
Но фамилия этого человека ещё ничего не говорила Радищеву и не связывалась в памяти ни с каким событием.
— Где-то встречались, а не помню, — стараясь всё же воскресить в памяти возможную встречу с Голышёвым, проговорил Радищев.
— Припомните, как только я расскажу о себе…
Они прошли в кабинет, обставленный тремя небольшими столиками, простыми креслами и шкафами со всякими служебными бумагами.
Голышёв присел в кресло после того, как сел Александр Николаевич, и стал рассказывать о себе.
Степан Андреевич, чиновник не из дворян, за долгие годы службы накопил деньги, приобрёл домик и тем возбудил зависть и подозрение соседей, знавших его прежнюю бедность. Он стал две комнаты отдавать в наём. Одну из них занимал губернский секретарь, некто Чевычелов.
Александр Николаевич, внимательно слушая Голышёва и пристально вглядываясь в черты его лица, не мог припомнить, где встречался с ним и по какому случаю.
В кабинет шумно вошёл Ильинский с папками подмышкой. Заметив постороннего человека, беседующего с Радищевым, он кивком головы поприветствовал Александра Николаевича, спокойно присел за соседний столик и стал слушать.
Голышёв рассказывал, что однажды у него в доме остановился богатый купец и нанял свободную комнату.
— Сие случилось в праздник. Мы с Авдотьей Никоновной, супружницею нашей, ушли к заутрене и заперли свою комнату, а возвратясь из церкви, занялись своим делом. Приезжий купец должен был уже подняться к завтраку, а всё не поднимался. Мы с супружницею подумали, наверное, они крепко спят. Я пошёл разбудить его, а когда открыл дверь, то увидел купца убитым. Деньги его оказались похищенными…
Голышёв запнулся. Ему тяжело было рассказывать об этом. Но Радищев вдруг всё вспомнил: и Голышёва, и последующие события с ним до мельчайших подробностей, словно это совершилось днями.
— Вот теперь я узнал вас, — просто сказал он.
— Узнали? — с радостью проговорил Голышёв. — Узнали, значит?
И действительно, всё дело чиновника Голышёва предстало так ясно и отчётливо Радищеву, будто он вновь перелистал его бумаги.
Первое подозрение пало на Голышёва. Напрасно он оправдывался при допросах и на суде. Никто из соседей не подтвердил показаний о том, что Степан Андреевич был в церкви. Улики были против Голышёва.
Члены суда единогласно приговорили Степана Андреевича к лишению чина, телесному наказанию, как не дворянина, и к ссылке в Сибирь. Один Радищев, присутствовавший при разборе дела, был против. Он нашёл улики недостаточными и, полагая, что Голышёв невинно подозреваем, не подписал приговора и подал своё особое мнение.
Но осуждённый всё же был сослан. Рассказывая о горестях, которые он претерпел в сибирской ссылке, Степан Андреевич продолжал:
— Перед воцарением государя Павла, губернский секретарь Чевычелов, некогда квартировавший у меня, учинил в Казани новое смертное убийство. Он был приговорён к каторге, а на суде признался и в других преступлениях, а также в том, что убил и купца в моём доме. Я был возвращён из Сибири. Узнав, что вы живы и здоровы, явился отблагодарить вас за заступничество…
Радищев, растроганный искренней благодарностью Голышёва, не знал, как ему поступить теперь.
— Рад за вас, очень рад, — сказал он. — Что-нибудь имеете ко мне ещё?
— Что вы? Нет! Ещё раз свидетельствую вам моё глубокое уважение.
Голышёв крепко и продолжительно пожал руку Радищева.
— Прошу прощения, — и Степан Андреевич удалился из кабинета.
— Видать, редкой души человек, — обращаясь к Ильинскому, сказал Александр Николаевич, находясь под впечатлением встречи и разговора с Голышёвым.
— Прозорливец человеческой души ты, Александр Николаевич, вот что я скажу. Умеешь заглядывать в её тайники, веришь хорошему в человеке…
— А как же не верить-то, Николай Степанович, люди-то какие на Руси, а?
Радищев отдёрнул тяжёлую штору окна.
Сквозь изморозь, затянувшую стекло узорчатой паутиной, туманно вырисовывалась набережная Невы, а за ней вдали, едва проступали контуры Петропавловской крепости, иглистый шпиль которой будто пронизывал своим остриём ясное небо.
— Когда побываешь там, — сказал Радищев с грустью, — научишься верить в человека, да ежели ещё за пробуждение в нём хорошего туда и угодил…
Ильинский понял Александра Николаевича. Давно сгорая от нетерпения поговорить с ним о книге «Путешествие из Петербурга в Москву», он сказал:
— Александр Николаевич, хвалю твою книгу: одно дело смела, а другое — ума в ней много набито, — и спросил: — Что побудило тебя написать такое сатирическое сочинение против правительства?
— Одна правда.
— Ты и ныне не оставил вольных мыслей, на всё взираешь с критикой? Тебе всё кажется недостаточно совершенным: обряды нонешние, обычаи, нравы, постановления глупыми и отягощающими народ… Где ты напитался философским свободолюбием?
— Побывай в разорённых русских деревнях, погляди на бедность крестьян и на роскошь помещиков, и ежели сердцу твоему не чужда боль народная, и ты станешь свободолюбцем. Однако сие предмет особого рассуждения. Ты с делом ко мне?
— Граф Пётр Васильевич предложил ознакомиться с папкой, присланной из сената. В ней бумаги и мнения о ценах за убиенных крепостных, как на товар в лавке…
— Э-эх! Сидеть с ним за красным столом, пользоваться одним правом голоса противно! — запальчиво сказал Радищев и, будто отвечая на свои какие-то мысли, занимавшие его, добавил:
— Нет, больше терпеть нельзя!
При Ильинском Александр Николаевич не стеснялся откровенно выражать свои мысли. Он знал, что Николай Степанович, хотя и имел свои пороки, по был честным человеком.
С Ильинским он начинал службу в коммерц-коллегии. Тогда Николай Степанович был простым канцеляристом, а Радищев значился членом коллегия и имел звание надворного советника. Теперь, хотя они и занимали одинаковое положение, являясь членами законодательной комиссии, но права Александра Николаевича были ущемлены. Ему, словно подчёркивая его неблаговидное прошлое, государь назначил жалованье в 1500 рублей, тогда как все остальные члены комиссии получали по 2000 рублей. Понимая, что при крайнем его затруднительном положении, Радищев не обивал пороги председателя комиссии, как другие члены, и не добивался повышения жалованья, Ильинский приметил, что несправедливость эта тяготила Александра Николаевича. Бессильный чем-либо помочь приятелю, Николай Степанович с тем большим сочувствием и вниманием относился к Радищеву. Александр Николаевич, чувствуя к себе дружеское расположение Ильинского, проникся к нему полным доверием и был откровенен с ним.
Ильинский часто говаривал ему, что почитает главным основанием законодательности — уложение, регламент, наказ, но убедился, что читать бумаги этих учреждений излишний труд. Они просвещают статского человека, открывают ему пути к правде, поощряют к подвигам чести, учат порядочно думать и рассуждать о случаях, но остаются лишь бумагами… Что касается работы законодательной комиссии, то Николай Степанович прямо выражался:
— Тут надлежит больше прибирать хитрые обиняки, коверкать чистые идеи ради громкой политики, учиться ябедничать, крючкотворством заменять логику, пронырством — мудрость, велеречием надутым, — простое природное чувство приравнивать к сильному, волочить нищего и, зажмурясь, смотреть на расхищение казённых кладовых. Доколе сие будет продолжаться, Александр Николаевич, в нынешнем законодательном лабиринте, а?
— А как ты сам думаешь?
— Думаю, что лопнет такая затея, как мыльный пузырь.
— Значит соответственный урок извлечь надо.
— Надо!
— Хорошо, Николай Степанович. С делом я ознакомлюсь не спеша и ежели что, заявлю своё особое мнение. Истина для меня всегда была высшим божеством.
Глава седьмая ЗАВЕТ ИЗГНАННИКА
«Потомство за меня отомстит».
А. Радищев.1
Огромным достоинством Радищева, которого не имели многие из его современников, было самозабвенное отношение к отчизне. Ей он отдавал свои ум и силы, он жил не для себя, с постоянными думами о народе, об его горькой доле. Неистовый, он даже в ночные часы, когда всё вокруг отдыхало и набирало силы, сидел за столом, заваленным стопками книг, журналов и газет.
Накануне у Радищева состоялся дружеский откровенный разговор с Воронцовым — продолжение всё одного и того же, давно начатого разговора о настоящем и будущем русского народа и государства Российского.
Александр Николаевич, горячась, убеждал:
— Начинать надо с трона, и освобождение крестьян свершится само по себе. Лестницу метут сверху, учит мудрость…
Воронцов настаивал на своём:
— С властью можно мириться, нужно лишь облегчить долю мужика, чтобы не было терзания человека человеком. Гнёт страшнее всего…
— Торговые люди говорят, — возражал Радищев, — рыба тухнет с головы. Корень бедствия народного в самовластье державном. Придёт народовластье, и простой люд вздохнёт облегчённой грудью, расправит плечи, распрямит спину…
Граф Воронцов отлично сознавал неизбежность новых преобразований, но ему, крупнейшему вотчиннику, было страшно от одной мысли, что управлять Россией будут мужики. А где же родовое дворянство — венец человеческого разума, носитель лучших традиций просвещения?
Письмо брата Семёна Романовича, писанное ещё в годы «напасти Бастилии» о «муниципалитете в Пензе или Димитрове», как дамоклов меч все эти годы висело над ним.
Воронцов не принимал и не мог принять самой идеи народовластья, чуждой его взглядам, а искал золотую середину, которая могла бы примирить никогда непримиримые и совершенно разные по духу убеждения его и Радищева.
Александр Николаевич прекрасно это знал. Воронцову нужны были не новые, более убедительные, доказательства правоты Радищева, а то, что могло бы их примирить, когда можно было бы сказать: и волки сыты остались и овцы целы.
И сердце Радищева щемило чувство бесконечной грусти. Неизъяснимые мечты его о будущем народа были беспредельны. И чем больше он думал о народе, тем мысли о неизвестном и неизведанном всё больше и больше завладевали им.
Где был конец этим думам о народе, он не знал и не хотел знать. Тем и хороши были мечты и думы его, что они уносили вперёд, помогали забывать тяжёлое сегодня и видеть прекрасное завтра. Александр Николаевич не ответил бы, когда оно будет это прекрасное завтра? Но разуверить его в обратном никто уже не смог бы, а тем более он не мог пойти на сделку со своей совестью и изменить своим высоким идеалам. Он ради светлого будущего отдал всё лучшее в своей жизни, и оно было для Радищева бесповоротным и незыблемым.
2
— Счастье народа немыслимо без раскрепощения, Иван Петрович, а дворяне боятся народа, как воры уличных фонарей. Поверьте уж мне, человеку убелённому сединой, ибо знаю, даже умные и дальновидные среди них и те готовы с властью царскою искать примирения… Дворяне не приемлют простой истины, что натура не взирает на родословные. Она воспламеняет кровь к благородным подвигам в простом поселянине и в почётнейшем дворянине. Пример тому Минин и Пожарский. Разве Минин не олицетворение народа, поднявшегося на борьбу за своё освобождение?
Пнин внимательно слушал Радищева, покорявшего его своей искренностью. Он думал, какая ещё юношеская сила сохранилась в писателе, если он, несмотря на свои пятьдесят три года, мог так зажигательно и пламенно говорить о своих взглядах и убеждениях.
Речь Александра Николаевича была стремительна, голос твёрд и звонок, выражение лица человека, восхищённого жизнью, в которой он познал особую красоту в духовное богатство, неведомое для других.
Пнину казалось, что голос Радищева он узнал бы всегда из тысячи других голосов по его жизнерадостной интонации и утверждающей приподнятости. Пнин благодарил судьбу за то, что ему довелось встретиться в жизни с человеком смелым, самостоятельным, беспощадным в борьбе за свою правоту, дерзнувшим наперекор царской власти и силе утверждать новые начала гражданственности, видеть новые горизонты общественного переустройства России, освобождающего её народ от произвола и насилия.
— На Руси закон — извет воли самодержавной, — говорил Радищев, — а цель закона сделать нравы непорочными, веру чистой, природную вольность нерушимой…
Пнину казалось, что если замыслы этого смелого современника, необыкновенного человека их столетия, пока ещё остаются неосуществлёнными, то по важности его открытия и революционной дальновидности потомство обязано их сохранить в чистоте и передать, как главнейшую эстафету века, чтобы её доставили тысячи таких же смельчаков, как Радищев, к заветной цели. Этого требовала история российского отечества, требовал её народ.
— Александр Николаевич, вам от рождения начертано судьбою быть человеком с помыслами, устремлёнными вперёд, вам суждено быть нашим духовным вождём.
— Спасибо, друг! — сказал растроганный Радищев. — За добрым словом я жду от всех вас добрых дел. Все мы, кто одержим заветной целью освобождения народа от пут и гнёта, будут с похвалой помянуты потомками. Но, милый Иван Петрович, нам дорога должна быть не столь их похвала, сколь то, что они будут навсегда свободны и познают настоящее счастье в жизни. А что может быть превыше свободы и счастья народного?
«Ничего бы лучшего я не хотел для себя, — подумал Пнин, — как быть достойным и хотя бы частично похожим на Радищева в своей верности приверженному делу. Всё это даётся в награду лишь тому человеку, кто безгранично предан своему делу, найденному в жизни, а есть ли у него такое право? Отдал ли он все свои силы, всю свою энергию однажды найденному в жизни делу, как это сделал Радищев?»
Пнина охватило горькое чувство, сознание, что у него никогда не было и едва ли будет такая воля, какой от рождения награждён Радищев, что такие исключительные натуры бывают редки и нет второго среди современников, что они рождаются не сами по себе, а их выносит на бурлящую поверхность жизни сама судьба, а она, эта судьба, у него совсем иная, чем у Радищева, от рождения какая-то ущербная.
Он прожил немногим меньше Радищева, но силы свои растратил не так цельно, как Радищев. Он не сумел сделать источником вдохновения и борьбы чаяния своего народа, как это неповторимо сделал Радищев в своём «Путешествии из Петербурга в Москву». У него было дарование, но распылилось, не направленное на ясную цель, как у Радищева.
И Пнин понял, что ему не хватает главного, что есть у Радищева, — вдохновения революционера. Мало было говорить о рабстве народа и произволе властей, надо было ещё с таким же страстным возмущением осудить их, как Радищев. Но у него не хватило и не хватит сил, чтобы, не боясь, сказать гневное слово в защиту народа, проникнутое мыслью об его освобождении. У него не было дальнозоркости гения. Пнин был счастлив теперь тем, что познал в Радищеве своего великого современника — человека будущего и мог быть полезен ему как солдат в бою, идущий в наступление по велению полководца. Пнин искренне сожалел, что не встретил Радищева раньше, в 1790 году, тогда судьба его сложилась бы совсем по-иному.
Ему захотелось поделиться мыслями о просвещении, которые всё больше и больше волновали в последнее время.
— Хочется написать сочинение, — сказал Пнин, — и в нём рассказать об опыте просвещения россиян.
— Такое сочинение нужно.
— У нас ещё много говорят, мол, прежде чем даровать народу свободу, нужно просветить души рабов, — продолжал Пнин. — Пустые слова! Надо разгорячить умы, воспалить страсти в сердцах крестьян, благосостояние которых зависит от капризов барина…
— Не только от них, милый Иван Петрович, зло, зло — самодержавие. Тягость налогов и повинности, разорительное мотовство чиновников, гнёт царский — всё лежит камнем на несчастном крестьянине, всё душит его…
Радищев почти забывал обо всём, когда разговор заходил о крестьянах. Он хорошо знал их жизнь на огромных просторах России. Слова его были горячи, а сам он будто дышал весь внутренней клокочущей энергией и от того голос его был сильным, страстным, убедительным.
— Писатель обязан трудиться для пользы своих сограждан, для пользы человечества, Иван Петрович, и труды его окупятся сторицей. К месту, думается, ежели повторю сказанное в «Слове о Ломоносове» — пускай другие, раболепствуя власти, превозносят хвалою силу и могущество. Мы воспоём песнь заслуге к обществу…
Они долго говорили о призвании писателя, об его долге перед народом, о великом назначении его быть всегда провидцем истины.
— Я понял, Александр Николаевич, всё сказанное, — кивал головой Пнин. — Да, писатель никогда не должен терять из виду будущее, ибо целый народ никогда не умирает, а государство, каким бы ни было подвержено сильным потрясениям, переменяет только вид свой, но вовсе никогда не истребляется, — повторил он мысли Радищева своими словами, чтобы ещё раз уяснить их глубину и значение. — И потому, думаю я, сочинитель обязан представить истины так, как он их находит своим разумом, чувствует своим сердцем…
— Очень правильно, Иван Петрович, — мог только сказать Радищев.
Пнин понимал, какой юношеской верой надо выложить ему, чтобы быть таким же вдохновенным, и завидовал Александру Николаевичу. «Такое пламя веры, — думал он, — могло питаться и поддерживаться лишь одним — беспредельной любовью к народу, желанием видеть своё отечество преобразованным и передовым государством в мире».
И хотя последние годы надломили здоровье Радищева, он был попрежнему энергичным человеком, как и в бурную пору своего расцвета до сибирской ссылки. Но от взгляда Пнина не ускользнуло другое: Александр Николаевич иногда становился раздражительным, огорчался от того, что был бессилен сделать, что ему хотелось. В такие минуты он был дороже всего Пнину. Иван Петрович ещё больше любил и жалел его, видя перед собой болезненно-раздражительного человека, терялся и не знал, как: помочь ему.
И всё же, когда Радищев говорил о самом близком для него, с чем он сжился и без чего не мыслил теперь себя, он преображался.
— Любить отечество, значит, любить народ и всё человечество! — И тут же спрашивал: — Ну, что делать? Не любоваться же ужасной картиной жизни, сложа руки, а елико возможно действовать, действовать и действовать! Не мы, так другие, будущее поколение, не будет знать обременительных тягот крепостничества… Труды наши, Иван Петрович, не пропадут даром.
Пнин сам словно вырастал и поднимался после разговоров с Радищевым. Искренняя и горячая боль за Россию нынешнюю и страстная любовь к России будущей, которой принадлежали мысли Радищева, его кровь, труд, счастье, радость всей жизни, зажигали Пнина горячим пламенем борца.
3
Законодательная комиссия рассматривала очередное дело, не решённое в Сенате и переданное сюда для окончательного заключения. Прежде чем вынести дело в открытое заседание, все ознакомились с его содержанием, пришли к единодушному мнению, но Радищев заявил своё «особое мнение», выраженное письменно в дерзкой и вызывающей форме.
Председатель комиссии, которому всерьёз стали претить «особые мнения» её отдельных членов, и в частности Радищева, отрицательно настроенный к нему, был возмущён его настойчивостью и требовательностью. Терпение графа истощилось. Ему и без того надоели заседания, казавшиеся излишними; леность Завадовского и любовь его к вину и праздности были давно известны при дворе. О них открыто высказывался в кругу молодых друзей император, недовольный работой комиссии. Лишь накануне председатель комиссии получил официальный запрос государя о причинах медленной законодательной деятельности.
И граф вынужден был спешно дать ответ государю, объяснив ему, что комиссия продолжает заниматься выписками и сличениями пространных материалов, нужных для разработки законов, и что эта «огромная машина по натуре своей идёт тихо и медленно».
Он, искушённый в канцелярских делах сановник, оказавшийся неспособным к проявлению творческого духа в деятельности комиссии, с завистью, как соперник, относившийся к кипучему труду Радищева, писал:
«Наша материя законов у нас в кодексе и рассеяна по указам свыше десяти тысяч, которых и найщастливейшей памяти человек припамятовать не может; а в деле о составлении законов не столько нужна деятельность, как неутомимое размышление».
Но граф кривил душой. Он знал, что и сам государь, запрашивающий о работе законодательной комиссии, едва ли верил в её возможный успех, ибо знал — и создана-то она, комиссия, не столько для успешной разработки законоположений, сколько для провозглашения государевых громких фраз и широких обещаний. Действительные желания и намерения, которые хотел видеть претворёнными Александр I, осуществлялись им не в законодательной комиссии, а в негласном комитете, где императора окружали его молодые друзья. И Завадовский ненавидел этот кружок молодых друзей императора, как ненавидел и Радищева, искренне занятого предметом, им овладевшим, и стремившегося действительно к новым преобразованиям и государственному переустройству родного отечества.
«Недалеко отстою от предела жизни, — размышлял всё чаще Завадовский в минуты своей крайней физической усталости не от трудов тяжёлых, а скорее от неудовлетворённого тщеславия царедворца, — цветущим летам остаётся мало, а в отношении к грядущим — лишь мысли, сопричастные радованию».
Первое время граф хотел честно исполнить возложенный на него труд — исправить, очистить законы, как он говорил, писанные во мраке невежества, труд, за который в течение прошедшего столетия принимались несколько раз, но так и не закончили и не продвинули его заметно вперёд. Это льстило старому екатерининскому вельможе.
Возвращаясь после рабочего дня, исполненного честных намерений сделать что-то большое для государя, Завадовский в беседе с Воронцовым замечал:
— Роюсь наподобие моли в необъятных кипах старой и новой подьяческой смеси, которая не просвещает, а только тмит мою слабую память…
Первые месяцы Завадовский утомлял себя этой прескучной работой, в которой каждое слово вызывало пытку его внимания и воображения в куче книг теоретического законоведства. Но всё, что было вычитано и старательно выписано членами комиссии, не клеилось с русским бытом. И чем глубже он старался вникнуть во всё, найти ключ к ясному пониманию того, какие же законы более всего применимы в России, тем отчётливее он сознавал, что для этой работы, для свершения этого преважного дела, ему не хватит его жизни и врождённых способностей.
Завадовский старел. Сказалась бурно прожитая жизнь, зря растраченная энергия. Деятельность законодательной комиссии для него была просто в тягость.
Но надо было исполнять обязанности, порученные государем, и он исполнял их. Идя на очередное заседание с неохотой, граф заранее настроил себя против Радищева, приготовился высказать ему, что если он не перестанет писать свои «особые мнения», полные вольнодумнических мыслей, то с ним будет поступлено хуже прежнего.
Завадовскому не нравился и разработанный Радищевым проект нового гражданского уложения, над которым тот самоотверженно трудился. В проекте уложения неукротимый вольнодумец писал о равенстве всех сословий перед законом, об уничтожении табеля о рангах, об отмене телесных наказаний и пытки, о судопроизводстве и суде присяжных, о свободе совести и книгопечатания, об освобождении крепостных господских крестьян, о запрещении продажи их в рекруты. Он как бы обнажал в своём проекте с новой силой произвол и преступления властей.
Граф помнил, что потворство Воронцова однажды уже привело сочинителя к дерзновенной книге, ядовитым жалом направленной против Екатерины II, память о которой для него оставалась святой. Тогда он с облегчением на сердце, недрогнувшей рукой расписался под приговором о смертной казни писателя. Теперь, в пору увлечения молодого государя модными идеями, громкая и скандальная слава Радищева была как нельзя кстати, чтобы подчеркнуть сильнее якобы демократические настроения государя. Но, несмотря на это, Завадовский решил проучить зарвавшегося демократа — члена законодательной комиссии и остудить его чрезмерно юношеский пыл.
Задолго до начала заседаний, члены комиссии были в сборе. Они, сбившись в кучки, как потревоженный улей, жужжали на разные голоса.
Князь Вяземский, долговязый, будто высохший на корню стебель осоки, облокотившись на мраморный подоконник, воскликнул:
— Возможно ль допустить сие… Нет, человек в своём уме сего не напишет…
— Да, да! — подтверждал вившийся возле него Прянишников.
— Эдак недолго втянуть нас, членов, облечённых высочайшим доверием государя, в скандалёзную историю…
— Да, да!
Сенатор Ананьевский, задержав возле себя Ильинского, раскачивал большой облысевшей головой и, размахивая короткой рукой с растопыренными пальцами, выкладывал:
— Как ни говорите, смело, нельзя так…
— Приверженный к своему делу человек трогательно благороден! А почему? — он наклонился и доверительно сообщил: — Напитан правилами свободомыслия…
— В его годы пора бы и остепениться, ведь человек-то он способный…
— Способный и добрый, но непокорный, не терпящий повиновения.
В дверях появился запыхавшийся граф Завадовский с насупленными бровями и строгим лицом. Он учтивыми поклонами поприветствовал собравшихся и сановито вошёл в конференц-зал, где проходили заседания.
— Видать, не в духе, — заметил Ильинский.
Ананьевский только покачал головой.
Радищев неторопливо прохаживался тут же. По косым, быстромётным взглядам, которые ловил на себе, он давно понял: все они, шумно беседующие между собой, осудительно говорят о нём, выражают недовольство. Его «особое мнение» нарушило их тихое бездумье, как камень, брошенный в застоявшийся омут. Сегодня ему предстоит более дерзкий разговор, чем на прошлых заседаниях комиссии. Он будет один против всех и заранее готовился к этому.
Александра Николаевича не пугало, что он будет один а не встретит поддержки всех членов комиссии. Радищев даже не волновался. Обдумывая выступление, он лишь хотел сосредоточить силы своего удара на самом главном, что должно было обезоружить их и показать его правоту. И силы ему давала правда, которую он готовился высказать на заседании.
Послышалось дребезжание надтреснутого колокольчика. Все устремились в конференц-зал. За столом, накрытым красным сукном, на председательском месте под огромным, в рост, портретом государя в золочёной раме, сидел граф Завадовский и не поднимал головы на входящих. По столу против каждого кресла были разложены папки с чистыми листами бумаги, стояли чернильницы, песочницы и несколько подставок с зачищенными перьями.
Все важно и молча расселись в кресла.
Завадовский выждал, когда воцарится полное спокойствие, и, не вставая, объявил заседание открытым. Он медленно, чтобы придать больше важности и значимости своему голосу, огласил порядок разбора «особого мнения», поданного членом комиссии Радищевым, касающегося неумышленно убитых помещичьих крестьян.
Граф, стараясь сдержаться, изложил официальную точку зрения на этот вопрос. Он считал, что за неумышленно убитого крестьянина достаточно возместить помещику стоимость по существовавшей ранее расценке. Соображаясь с дороговизной продаваемых существ, как он выразился о крепостных, находил вполне возможным назначить за убитых людей мужского пола пятьсот рублей, а за женщин — вполовину меньше.
Князь Вяземский, откинувшийся на спинку кресла с царским гербом, слушал речь председателя с полузакрытыми глазами. Он прикидывал, большая это или маленькая цена.
Сложив руки и чуть подавшись вперёд, Ананьевский выжидал, когда же Завадовский изложит «особое мнение» Радищева.
Прянишников с застывшей улыбкой на лице, немножко вытянув шею, уставился на председателя. Ему было безразлично, какую цену назначат за убитого крестьянина и назначат ли её вообще. Он хотел одного, чтобы граф Завадовский взглянул на него и по выражению лица понял — он, Прянишников, заранее согласен с тем, что скажет председатель, и тот вправе рассчитывать на его поддержку.
Пшеничный, сидевший за столом дальше других от Завадовского, чуточку глуховатый, приставил к уху согнутую рупором ладонь и, повернув голову в сторону говорящего, старался не проронить ни единого слова. Для него было всё важно, что говорилось на заседании. Он считал, что, его чаще всего молчаливое, присутствие в конференц-зале государственно необходимо.
Только Ильинский, пристально наблюдавший за Радищевым, был задумчив и, казалось, совсем не слушал речи Завадовского, думая о чём-то своём.
Александр Николаевич был внешне спокоен. Но это спокойствие стоило ему больших усилий воли, чтобы преждевременно не выступить и тем не показать горячность, которая могла бы помешать ему нанести чувствительный удар по мнению заседавших здесь членов законодательной комиссии.
— Господин Радищев представил своё особое мнение, — вставая и тем подчёркивая личное отношение к этому особому мнению, продолжал Завадовский, — о ценах за людей убиенных. Он забыл, что дело сие рассматривалось в сенате и что члены его признали…
Председательствующий повысил голос. Он обвёл всех долгим, изучающим взглядом:
— …признали возможным оставить ранее существовавшую расценку, и нам следует лишь подтвердить её…
Вяземский важно кашлянул.
— Да, да! — послышался прянишниковский голос.
— Что ж тут спорного? — удивился Ананьевский.
— Спросим у господина Радищева, — садясь сказал Завадовский.
Александр Николаевич поднялся. Головы членов комиссии повернулись в его сторону.
— Цена крови человеческой не может быть определена деньгами, убийца должен быть судим, — начал Радищев и, сознавая, что его сегодняшнее выступление не пройдёт бесследно, решил высказаться до конца. Не прибегая к крику, в полную мощь своего голоса он стал громить ничтожность дел законодательной комиссии. Глаза его сверкали, Радищев словно метал из них огонь ненависти на всех членов, призванных быть законоучителями.
— Исполинские шаги в образовании российского государства и народов, в нём обитающих, сделанные за истекшие полтора столетия со времени постановления Соборного уложения, переменив общее умоначертание, дают вещам новый вид, — страстно продолжал он. — И то, что ныне существует, как бы законно, производит невольное в душе отвращение. Поймите же вы, что цена крови человеческой не может быть определена деньгами!
Завадовский с насмешливой ненавистью посмотрел на взволнованного Радищева. Оратор словно знал, как ни чужды были его мысли убеждениям большинства сидящих за столом, они должны были задеть их чёрствые сердца человечностью чувств, вложенных в эти слова.
— Какую цену можно определить за доверенного служителя, какой процент, если бы несчастие постигло и был убит тот, который заботился о своём господине в его младенчестве, в его отрочестве, в его юности? Какая цена ему или той, которая вскормила господина своими сосцами и стала ему второй матерью?
Стиснув зубы, Радищев почти задыхался от гнева. В голосе его всё резче и резче проступали ноты возмущения. Как раскаты грома надвигающейся грозы разрывают затишье в природе, так слова его разрушили молчаливое безразличие, которым было встречено его выступление.
Радищев не сказал, но все члены комиссии хорошо поняли, что слова убелённого сединой человека были брошены против варварского обычая, узаконенного ещё Соборным уложением царя Алексея Михайловича, при котором жизнь человека, подобно всякой другой вещи, измерялась и определялась только деньгами.
Своим гневным и горячим утверждением Радищев сметал всё устарелое, направленное против народа, и показывал, что законы не вечны, что их надо менять соответственно с жизнью, окружающей человека. Он шёл сейчас не только против сената и мнения комиссии, считавшей, что этот закон должен существовать и теперь, но он обрушивался на основу основ — нынешний государственный строй России.
Завадовский опять поднял глаза на оратора, но словно в ужасе отшатнулся под его колючим взглядом и подумал: «Он неисправим». Граф и боялся той крайности, до которой могла довести Радищева приверженность к правоте того, о чём он говорил, и хотел и ждал её.
Члены комиссии находили, что помещику должно быть уплачено вознаграждение за убитого крепостного, и готовились говорить лишь о цене, а он, Радищев, взглянул на всё это глазами справедливого человека. Он доказывал, что такая потеря неоценима и разговор о стоимости за убитого противен человеческому чувству и представлению о законе, стоящем на защите жизни человека.
— Закон, блюститель деяний человека, бывает его страж и тогда, когда он, хотя и в полном своём разуме, но мог бы деяния свои обратить себе во вред…
Князь Вяземский привстал в кресле. Часто заморгав блёклыми ресницами над нависшими мешками под глазами, он вполголоса произнёс:
— Подумайте, что говорите?
— Самолюбие не затмило в глазах моих истины!
— Каково, а?
— В делах, полезных обществу, смотреть должно не на намерения, но на сделанную пользу…
— А мы что тут, пешки какие, а? — вскрикнул князь и хлопнул руками по столу. И явно недовольный своей подавленностью от слов Радищева, недостойной в его положении, хрипло выкрикнул:
— Правила свободолюбия нам преподали! Сударь, вы забыли, где находитесь! — и, кашлянув, отодвинул кресло.
Он зашагал от стола к выходу, выражая этим свой протест.
— Чёрт знает что происходит!
— Да, да! — поспешно проговорил Прянишников.
Граф Завадовский, ждавший ещё какой-нибудь крайности от Радищева, теперь не выдержал:
— Видать, седина тебя ничему не научила…
Председатель злорадно захохотал.
— Охота пустословить попрежнему…
Он подыскивал слова, разившие как стрела прямо в сердце. Он хотел сейчас видеть сражённой свою жертву или довести её до возмутительного скандала.
— Или мало тебе было Сибири?
В голосе графа послышался грозный намёк.
Радищев, всё ещё стоявший со вскинутой рукой, словно призывавший членов комиссии внять его словам, вяло опустил её, как подстреленная птица крыло, и сел.
Завадовский торжествовал. Он достиг своего. Радуясь победе над Радищевым, председатель объявил перерыв. Члены комиссии с шумом поднялись и, выходя из конференц-зала, громко высказывали своё возмущение речью Радищева.
4
Радищев мог бы сказать, что никогда не щадил себя, но им овладело смятение после слов графа Завадовского, произнесённых в конце этого бурного заседания комиссии. «Охота пустословить попрежнему… Или мало тебе было Сибири?»
Сибирь его не страшила. Страшен был удар, который вновь могло нанести ему самодержавие. Для Радищева тяжелее всего было бы сейчас перенести тайны застенков Петропавловской крепости, мучительные допросы, подобные допросам Шешковского. Да, это страшило в годы, когда голова была покрыта сединой, здоровье подорвано, силы надломлены.
Александр Николаевич возвратился со службы крайне расстроенным. Всё, что случилось на заседании, он знал, было неизбежно. Рано или поздно это должно было случиться. В глазах его стояло полное ненависти лицо Завадовского, в ушах назойливо звучали его слова: «Охота пустословить попрежнему». Что могло всё это значить для него? Чем должно кончиться его участие в законодательной комиссии? Не бесплодны ли были дни его службы в комиссии?
Радищев, увлечённый работой, мало задумывался над всеми этими вопросами, вдруг всплывшими перед ним после речи Завадовского. И будто что-то прояснилось, стало обрисовываться перед ним всё полнее, всё отчётливее, как с наступлением утра проступают в исчезающей темноте очертания предметов.
Законоположения, на которые он возлагал надежды, ухватившись за них, как утопающий хватается за соломинку, он понял, останутся втуне, будут лежать в папках и покроются пылью. А в то же время в царском кабинете тайно от законодательной комиссии продолжали придумываться мертворождённые преобразования, которые ничего не изменяли и не могли изменить в государственном организме, остававшемся самодержавной монархией.
У Радищева начался упадок сил, он впал в болезненно-угнетённое состояние. Он был то меланхолически мрачным, то неумеренно подвижным для своих пятидесяти трёх лет. Это продолжалось несколько дней. Крайняя раздражительность и задумчивость стали уже проходить, как после одного из вечеров состояние Радищева снова обострилось.
Вернулись со службы сыновья, и Катя, посетившая пансион Вицмана, где воспитывались младшие дети. Все были дома, сидели за вечерним чаем и делились своими впечатлениями.
Александр Николаевич, отпивая чай маленькими глотками из стакана, чуть откинувшись на спинку стула, слушал поочерёдно то одного, то другого, вставлял свои короткие замечания. Василий, расстегнув крючки гвардейского мундира, рассказывал обыдённый случай из полковой жизни, как его товарищ, тоже подпоручик, посватался за девушку, думая женитьбой поправить своё состояние, а она оказалась бедной. Сын смеялся. Он и рассказал этот случай для того, чтобы развеять мрачное настроение отца.
— И поделом твоему подпоручику, — заметил Александр Николаевич, — будет выбирать невест по любви…
— Мы теперь над ним подтруниваем, ходу не даём ему…
Отец укоризненно покачал головой, мол, не хорошо смеяться над товарищем, но ничего не сказал.
Николай заговорил о том, как прошёл у него день в законодательной комиссии.
— Статский советник Прянишников снова добивался приёма у графа Завадовского, а тот не принял его. Просится в отставку. Слёзно молил Ильинского замолвить словечко. Тот обещал.
— Бесполезный человек Иван Данилович, — произнёс Радищев.
— Строго судите, папа, — возразил Николай.
— Нет, сын! — твёрдо, с убеждением проговорил Александр Николаевич. — Ласкательство, дары, угождения — душевные правила Прянишникова. Не забуду, как он говаривал мне, когда, мол, случаи идут, навстречу, непростительно ими не пользоваться… Не та погода для Ивана Даниловича в комиссии, какая была в гражданской палате. Пусть идёт в отставку, лучше для дела будет, — и, словно не желая больше слышать о Прянишникове, обратился к Кате.
— Как наши крошки?
— Афонюшка говорун стал. Сестрички совсем взрослые девочки. Воспитательницы не нахвалятся. Скромны, послушны…
— Чаще навещать их надо. Несчастны они, без матери растут, — с грустью сказал Александр Николаевич.
Сыновья и дочь невольно переглянулись. Слова отца щемящей болью отозвались в их сердцах: они тоже маленькими остались без матери и знали лишь ласку и любовь тётки Елизаветы Васильевны.
— Вы правы, папенька, — поспешила сказать Катя.
А Николай вновь вернулся к разговору о законодательной комиссии.
— Сегодня были оглашены указы о правах сената и об учреждении министерств. Министрами назначены граф Александр Романович, Завадовский, Державин. Говорят их помощниками государь поставил членов негласного комитета, своих молодых друзей…
Александр Николаевич вскочил и быстрыми шагами заходил по столовой. Полы его шлафрока раздувались, как крылья подстреленной птицы. Сыновья и дочь не понимали причины столь резкой перемены в настроении отца. Лицо Радищева вновь сделалось мрачным и угрюмым, а глаза лихорадочно заблестели.
— Рухнуло всё!
Дети не понимали отца.
— Что вы скажете, детушки, ежели опять придётся ехать в Сибирь?
Радищев неестественно рассмеялся, весь подёргиваясь, и вдруг смолк, остро почувствовав своё одиночество и своё бессилие что-либо противопоставить страшному чудовищу, с которым боролся всю свою жизнь.
Катя, взглядом окинувшая братьев, с твёрдой решимостью произнесла:
— Мы не оставим вас одного, папенька, мы поедем с вами…
Отец тяжело вздохнул и только махнул рукой.
— Папа, успокойся. Тебе следует отдохнуть, ты сильно устал, — сказал Василий, стараясь придать голосу твёрдость взрослого мужчины.
— Нет, не устал я, дорогие, а оказался у разбитого корыта, — сокрушённо произнёс Александр Николаевич.
— Но ведь ничего особенного не случилось? — с наивной откровенностью спросил Николай.
— Ты не понимаешь, что случилось роковое, чего я страшился… Зачёркнуты последние мои надежды…
Радищев обхватил голову бледными руками с вздувшимися синеватыми жилами и быстро удалился в свою комнату.
С этого часу усилился приступ меланхолии. Самоубийство, как последний протест борца, как единственная мера противопоставить себя всему ненавистному самодержавному строю, казалось ему единственным выходом из создавшегося угнетённого состояния. Другого он ничего не видел. Радищев до деталей стал обдумывать его. Всё его существо теперь полностью захватила мысль о самоубийстве. Иногда наступали моменты и Александр Николаевич осуждал себя за подобную мысль, окутавшую как паутиной его сознание, но не видел иного выхода.
Прошло ещё три дня тяжёлого раздумья и самоборенья. Александр Николаевич несколько раз садился за стол, чтобы написать будущему своему судье, что побудило его принять подобное решение. Но нужные слова для самообъяснения не находились. Их не было у него.
Всё, что сошло с пера и осталось на бумаге, скорее походило на завет его:
«Потомство за меня отомстит…»
— «Да, потомство за меня отомстит. Пусть судит потомство, оно не лицемерно!» — думал он, перечитывая написанную строку и не зная, что ещё можно было бы добавить к ней. Не он ли сам поучал — не бояться ни осмеяния, ни мучения, ни болезни, ни заточения… Лучше честно умереть, чем бесчестно жить.
Бесплодность законодательной работы стала до простоты ясна после обнародованных очередных указов Александра I о правах сената и учреждении министерств, зачёркивающих последние надежды на российскую конституцию и на введение нового уложения. Всё рушилось окончательно, всё было безнадёжно.
И сознание этой безнадёжности хоронило все чистые гражданские стремления и свободолюбивые помыслы Радищева. Всё было разрушено, что вынашивалось долгие годы, стоило больших жертв и лишений. Оставалось одно — бросить дерзкий и последний вызов самодержавию, не устрашиться пожертвовать своей жизнью, если смерть принесёт крепость и славу родному отечеству.
5
Радищев старался усыпить подозрение взрослых детей, он боялся, что они могут догадаться об его помыслах. Александр Николаевич за утренним чаем стремился быть спокойным и даже весёлым. Сыновья ушли на службу, думая, что отцу стало легче, а Катя, все эти дни не отходившая от него, и на этот раз была дома. Отослать дочь за чем-либо к соседям или в пансион Радищев не решался: ему казалось, что Катя пристально следит за ним, обо всём догадывается и обязательно помешает ему.
После обеда дочь отлучилась из дома, а сыновья ещё не возвратились со службы. Александр Николаевич остался один. Он осмотрелся вокруг, выглянул в окно: улица была пустынна. Радищев на цыпочках отошёл от окна, словно боялся кого-либо потревожить в доме, тихо приоткрыл тумбочку, в которой хранился заветный футлярчик Елизаветы Васильевны с лентой и золотым вензелем. Он взял его и присел на кровать. Несколько минут он не раскрывал футлярчика. Перед ним встал образ жены.
— Лизанька, простишь ли ты меня? — карие глаза его заволоклись навернувшейся слезой.
Александр Николаевич открыл футлярчик, взял вензель и припал к нему побледневшими и дрожащими губами. Он забылся и не слышал, как в комнату вошла Катя и нерешительно остановилась в дверях. Дочь не знала, удалиться ли ей лучше или обратиться к отцу. Наблюдая внимательно за ним последние дни, дочь поняла, что на душе отца всё ещё не спокойно, какие-то грустные думы тяготят и занимают его, какая-то непреодолимая боль лежит у него на сердце, от которой он не в силах освободиться.
Понимая всё это и видя, как внутренне мучается отец, Катя решилась теперь не уходить, а поговорить с ним откровенно и сделала шаг вперёд.
Александр Николаевич испуганно приподнялся и растерянно посмотрел на дочь. Она никогда ещё не видела такой опустошённой тоски в его открытых и выразительных глазах, какой они были наполнены в эту минуту. Застывшие слёзы блестели на длинных чёрных ресницах отца..
— Папенька, что с вами?
Катя подошла к нему и доверчиво прижалась головой к его исхудалой груди, как она это делала в детстве.
— А-ах, дочь моя, — тяжело вздохнул Александр Николаевич, — поймёшь ли ты меня и не осудишь ли своего отца? Всё, ради чего боролся, ради чего перенёс все лишения и тяготы, утрачено… К чему жить, если впереди пустота?
— Папенька, что вы говорите? Опомнитесь, милый…
— Да, да, Катюша! Незачем говорить, не то говорю тебе, дитя…
Александр Николаевич прижал дочь, провёл рукой по её волосам, немножко отстранил её от груди и заглянул в Катины глаза, полные жизни, глаза, спрашивающие его так много, что он сразу бы и не ответил на всё.
— Катя, если со мной что-нибудь случится роковое, ты не осудишь меня? — снова спросил он, желая услышать, что ответит дочь.
— Я буду с вами всегда, — произнесла Катя, а потом, словно осознавая, что она говорит не то, прошептала: — Мне страшно от ваших слов, папенька, — и опять припала головой к груди отца.
«И в самом деле должно быть страшно, — подумал он, — зачем я спрашиваю дитя, вынуждаю её отвечать, преждевременно омрачаю её полные жизни глаза?»
— Успокойся. Всё будет хорошо, дочь моя. Теперь иди.
Катя отпрянула от отца и заглянула в его глаза.
— Нет, подожди! Вот возьми, — он закрыл футлярчик, — спрячь его и храни…
Александр Николаевич поцеловал Катю в лоб и, больше ничего не говоря ей, жестом дал понять, чтобы она оставила его одного.
Дочь вышла и прикрыла за собой дверь, как она всегда это делала, уходя от отца. Она задержалась на мгновение и прислушалась. За дверью тихо поскрипывали половицы: отец ходил взад-вперёд по комнате. Катя успокоенная направилась на кухню, чтобы приготовить ужин.
Несколько минут Радищев находился в оцепенении. Он всё ходил по комнате, но не слышал, как ступали ноги по полу. Взгляд его, рассеянный, ни на чём не сосредоточенный, вдруг задержался на стакане, стоявшем на столике. В нём была крепкая водка, приготовленная Василием для вытравливания мишуры поношенных эполет. Решение созрело мгновенно. Радищев схватил стакан и осмотрелся по сторонам, будто кто-нибудь присутствовал в его комнате и мог помешать ему. С полным сознанием он спросил себя: всё ли им предпринято для того, чтобы осуществить заветное, не совершает ли он непоправимой ошибки, уходя из жизни, не складывает ли своего оружия, как побеждённый? Если бороться, то как? Что даст ему жизнь и что даст его смерть? Не он ли уже написал: «Потомство за меня отомстит»? Разве не он пришёл к выводу, что смерть его может тоже дать желаемые плоды?
Александр Николаевич вскинул ясные глаза на книжную полку. Книги все годы были лучшими друзьями в жизни, и взгляд его невольно остановился на томике сочинений Эпикура, утверждавшего, что самое зло — моральное и физическое не может быть долго, а, следовательно, жизнь его погаснет скоро.
Нет, он не страшится смерти, ибо понимает — человек и родится для того, чтобы умереть спокойно, если жизнь его прожита не бесцельно. Уйти в отставку, значит смириться с тем, что произошло, как бы признать над собой победу государя, остаться соучастником его авантюры. Смирение делало его нравственным калекой, а это было противно и чуждо мятежной душе Радищева.
Перед ним всплыли последние минуты жизни Фёдора Ушакова, друга его юности. Да, у него оставался единственный выход, подсказанный когда-то Ушаковым, — смерть. Народ, доведённый до крайности, восстаёт, человек, исчерпавший все силы для борьбы с несправедливостью, мужественно умирает. Пусть именно так прервётся его несносное и ненужное теперь существование. И Радищев, закрыв глаза, быстро выпил содержимое стакана.
Сразу будто всё внутри его охватило пламенем. Стакан, выпавший из, рук, разбился. Радищев застонал от охватившего удушья и повалился на кровать, зарываясь головой в подушки.
На стон отца в комнатку вбежала Катя и, увидев на полу разбитый стакан, всё поняла. На какой-то момент она онемела от страха и словно погрузилась во тьму. Затем вскрикнула и, схватившись руками за голову, выбежала на улицу.
— Помогите мне, помогите…
На её крик появились соседи. Не зная, что произошло, они устремились за Катей в дом.
— Папеньке худо, — рыдала Катя и не могла ничего толкового ответить на задаваемые вопросы.
Люди, собравшиеся в столовой, поочерёдно заглядывали в комнатку, где лежал Радищев. Яд оказывал своё действие. Александра Николаевича непрерывно тошнило. Присутствующие терялись в самых невероятных догадках.
— Молока надо дать, — советовали одни.
— Воды, — говорили другие.
— Бегите за полковым лекарем, — распоряжались третьи.
И сердобольные люди бежали за молоком, за полковым лекарем, а оставшиеся вздыхали, предлагали Александру Николаевичу «испить водички». Радищев молчал. Ему стоило больших усилий воли, чтобы не стонать. Он пытался поднять голову и спокойно взглянуть на всех, чтобы они поняли — всё уже безвозвратно потеряно для него, не беспокоились и не тревожились. Но жгучая боль искажала его лицо поминутными судорогами.
Сгущались сумерки. За окном побледнела розовая полоска зари. Прибежали со службы предупреждённые о несчастье сыновья, они вошли к нему в комнату.
Отец обвёл их мутными глазами и, не произнося слов, протянул вздрагивающие руки. Взгляд его, пробежавший по книгам, стоявшим на небольшой полочке, снова остановился на томике Эпикура. Александр Николаевич хотел сказать сыновьям, что ему уже не страшна смерть, но подступившие спазмы сдавили его горло и воспалённое лицо исказили приступы тошноты.
Весть о происшествии в доме Радищева быстро облетела город, дошла до дворца. Государь распорядился послать своего лейб-медика. Прежде чем тому выезжать, велено было зайти к Александру I.
У Радищевых в это время появился священник Налимов. Он быстро вошёл в дом, перекрестился в передний угол и сказал, чтобы перед иконой затеплили свечи.
Он прошёл в комнату Радищева и остался с ним один: сыновья тут же удалились.
— Что случилось, Александр Николаевич? — спросил вполголоса отец Василий, наклоняясь над ним.
Александр Николаевич узнал Налимова. Он открыл глаза, крепясь, посмотрел на священника. Они говорили раньше, если для добродетели человека не остаётся убежища на земле и он, доведённый до крайности, лишится даже самозащиты, то у него останется один выход — самому отнять у себя жизнь, чтобы её не отняли другие.
— Ненавистное несчастие испустило надо мною стрелы свои, отец Василий…
— Исповедуйся.
— Не до бога и не до грехов теперь…
Радищеву было трудно говорить. Он словно выдавливал из себя каждое слово. Отец Василий присел на стул возле кровати и опустил голову. Он уважал этого несчастного человека за бескорыстие и справедливость к людям и не мог допустить мысли, чтобы после его смерти над ним вздумали глумиться: он знал, что не соверши он исповедания, Радищева даже не похоронят на кладбище, а зароют гроб в земле и никто не будет знать его могилы.
— Не осуждаю, — проговорил священник, — но молитва моя и дружба моя пребудут с тобою…
Он помолчал.
— Не терзают раскаяния? — осторожно спросил отец Василий.
Радищев ответил не сразу, он собирался с силой.
— Нет! — совершенно чётко послышался ответ сквозь частые вздохи, которые делал Александр Николаевич, чтобы облегчить боль.
— Великий страстотерпец! Господи, спаси его!
Отец Василий встал, по привычке вскинул перст над головой больного и срывающимся голосом произнёс:
— Аминь, — и вышел из комнаты.
Возле ворот остановилась казённая рессорная коляска. Прибыл императорский лейб-медик Вилье. Был он высокого роста. Всё в нём казалось вытянутым — длинное лицо, нос, продолговатый подбородок и даже брови, взметнувшиеся вверх и оставляющие впечатление постоянного удивления. Мундир его, плотно обтягивающий тонкую фигуру, со стоячим воротником словно выжимал длинную шею Вилье и ещё более подчёркивал в нём человека с удивлённым выражением лица.
Императорский лейб-медик медленно и важно, как подобает людям, приближённым к государю, вошёл в комнату больного и, прежде чем взглянуть на него, потребовал таз с водой и полотенце, чтобы помыть руки. Затем он расспросил родных, когда случилось несчастье, при каких обстоятельствах оно произошло, каково было состояние больного в тот момент, и присел к столику, чтобы прописать микстуру, долженствующую несколько облегчить состояние Радищева. Но Вилье видел, что жизнь на исходе и нет совершенно надежд помочь больному.
И когда выписана была микстура и послан посыльный за лекарством, Вилье встал, отпил несколько глотков воды из стакана и собрался уходить.
— Ну, что, доктор? Есть надежда? Он будет жить?
Лейб-медик, задумавшийся, как и многие присутствующие в комнате, над тем, что могло побудить этого человека лишить себя жизни, скорее отвечая на свои внутренние мысли, чем на заданные вопросы, сказал:
— Видно, человек он был очень несчастлив.
Вилье почтительно раскланялся и вышел. Он спешил во дворец. Император Александр I, пославший его к больному, хотел знать, как протекает болезнь. От лейб-медика, как понял он императора, требовалось узнать, выживет ли Радищев. Он возвращался от больного с твёрдым ответом, что жизнь его сочтена часами. Вилье на этот раз оказался проницательным и дальновидным; он догадывался, что император, посылая его к больному, тайно желал ему не жизни, а скорой смерти.
Да, это было в действительности так! Александр I, узнавший о несчастном происшествии, понял, что оно может быть истолковано против него; как-никак Радищев, слывший неостепенившимся вольнодумцем и демократом в комиссии, мог подать повод к разговору о тщете всей законодательной деятельности. Это было очень невыгодно сейчас, в начале царствования. Наоборот, чрезвычайно важно было показать, что все нововведения исходили от него, государя. Недаром он сам в кружке молодых друзей называл себя «республиканцем», хотел преобразований для отечества, но не таких, какие ему предлагали старые вельможи Завадовский с Воронцовым, но и не таких, которые взбрели в голову неисправимого вольнодумца Радищева.
Вилье доложил императору о своём посещении, сказал о вполне вероятном и единственном исходе болезни. Он был молчаливо выслушан и тут же отпущен. Александру I всё было ясно; вокруг смерти Радищева не следовало создавать шума. Чем тише и скорее всё пройдёт, тем быстрее забудется это неприятное происшествие.
В первом часу пополуночи Александр Николаевич, охваченный страшной агонией, скончался. Он умер с полной верой, что поступил правильно, ясно сознавая — иного исхода у него не было. Катя, просидевшая возле постели отца до последнего его дыхания, не услышала ни единого слова упрёка, ни раскаяния, ни жалобы на мучительные боли, сделавшие его заострившееся лицо почти зелёным с глубоко ввалившимися глазами.
Катю охватила мелкая дрожь. Она припала мокрой щекой к холодеющей и безвольно повисшей руке отца и гладила его побелевшие пальцы. Братья и отец Василий едва отняли её от тела Александра Николаевича. Катю увели, но она никого не замечала вокруг себя, ничего не слышала: всё заслонили большие глаза отца с гаснущей жизнью. Она ещё помнила, как трясущиеся руки священника навсегда закрыли эти большие глаза, как что-то ей говорили братья, а потом, окончательно надломленная, лишилась чувств и пришла в себя лишь назавтра.
6
С утра следующего дня столица была залита яркими лучами солнца. По чистому глянцевито-синему небу не пробежали ни облачко, ни тучка. Воздух, почти золотистый, был совсем недвижим. Запахи солёной сырости, обычно нагоняемые с моря в эту пору сентября, ещё не тронули ржавчиной багряного наряда городских садов. Жёлтый лист берёз, лип, серебристых тополей, словно пронизанный осенним солнцем, излучал всё тот же золотистый свет, которым был полон воздух.
Казалось, окружающая природа не принимала и не хотела принять смерти человека в небольшом деревянном домике на Семёновской улице, а утверждала жизнь и её красоту.
Император, только что совершивший безмятежную прогулку по Летнему саду, возвращался во дворец в бодром и приподнято весёлом настроении.
Трощинский, докладывающий государю в начале дня о событиях, происшедших в столице, на этот раз уведомил его о смерти Радищева:
— Прискорбная весть…
Лицо Александра I, как успел заметить Трощинский, чуть сморщилось и плечи подёрнулись. Государь остался недоволен, что такое прекрасное утро, открывающее погожий день, испорчено мрачным сообщением.
Трощинский ждал, какие последуют распоряжения. Александр I молчал. Его молчание было понято, как того хотел он. В «Санкт-Петербургских ведомостях» не появилось объявления о кончине члена законодательной комиссии, похороны были организованы в тот же день и прошли, как доложили вечером государю, тихо и скромно.
И действительно всё шло своим чередом. В доме Радищева не догадывались, что невидимая рука подталкивала и ускоряла события. Родные хотели, чтобы гроб с телом Александра Николаевича остался ещё на ночь в квартире и друзья, извещённые о его смерти, смогли бы прибыть сюда и проститься с покойным. Но у ворот двора уже стояла погребальная колесница, заранее предупредительно поданная к дому.
Никто из родных, убитых горем утраты, не мог даже и заподозрить какое-либо преднамеренное действие в этом. Наоборот, им казалось, что всё это — знаки внимания и почтительности к памяти Радищева, чья-то забота и искреннее сочувствие к семье покойного.
Даже граф Воронцов, находившийся здесь и принимавший самое горячее участие в судьбе семьи, почтительно отнёсшийся к необычной смерти Радищева, ещё не совсем ясной для него, даже он не догадывался, чья же невидимая рука подталкивала и ускоряла похороны. Ему думалось, так делается по желанию родных.
Воронцов, глубже других потрясённый смертью Радищева, был несколько удивлен другим: к дому писателя подходили всё новые и новые посетители: старики, женщины, подростки, солдаты, простой люд в оборванной и заплатанной одежонке, чиновники, которых он не помнил по фамилиям, но узнавал по лицам, встречавшимся ему в портовой таможне или коммерц-коллегии. И среди них почти не было никого из дворцовой знати.
К гробу Радищева шёл народ — вот что заметил и на что обратил внимание Воронцов. От кого и каким образом эти люди узнали о смерти своего заступника, трудно было объяснить, но недаром говорят, что народная молва стоустая. И Воронцов подумал: все люди, которые пришли сюда, — самые лучшие друзья Радищева, ибо они почувствовали сердцем гибель своего верного заступника. Он признался себе в том, что раньше не подозревал, сколько же было в жизни Радищева настоящих, неизвестных ему друзей. Недаром слово писателя, самое дерзкое слово, когда-либо произносимое против самодержавия, было также первым словом, открыто сказанным в защиту народа.
Граф Воронцов всматривался в лица тех, кто проходил возле гроба. Он замечал, как они суровели при последнем взгляде на Радищева, как некоторые из них яростно сжимали кулаки, словно готовились к возмездию, ещё не зная, но уже догадываясь, кто мог быть, виновником смерти писателя. Александр Романович, всегда боявшийся народного гнева, мужицкого бунта, не предвещавшего ничего хорошего и в то же время почти неизбежного при крепостничестве, невольно испытывал сейчас чувство страха.
Воронцов огляделся. Рядом в молчании стояли друзья Радищева. Особенно бледен был Иван Пнин с впалыми глазами и ввалившимися щеками. Пнин из всех, кто присутствовал здесь, тяжелее других переносил непоправимую утрату. В Радищеве он обрёл наставника разума, полюбил его мятежную душу и всем сердцем привязался к нему. Его всегда тянуло к Радищеву, как к магниту, силу которого нельзя было объять.
Пнин смотрел на Радищева, словно желая навсегда унести и запомнить любимые черты. Его поразило совсем спокойное выражение застывшего лица Александра Николаевича, стоически перенёсшего муки агонии. Только в плотно сжатых губах как бы притаился гнев на тех, кого он ненавидел всю свою жизнь, против кого мужественно боролся и своей смертью будто протестовал всё против того же — рабства и насилия над человеком.
Мыслям Ивана Пнина были близки мысли Воронцова. «Кончилась жизнь человека, — думал граф, — которую отравляло ему самодержавие. Перестало биться и страдать сердце его, замолкли уста. Но что значила его смерть? Уйти из жизни в тот самый момент, когда комиссия, где он служил, стремилась выработать новые законы, а он, граф Воронцов, предлагал изменить права сената, отвергнутые Александром I, значит, разгадать что-то зловещее и деспотическое в действиях императора, раскрыть самообман».
И смерть Радищева стала понятна Воронцову здесь, у его гроба. В ней не было ничего загадочного, как раньше казалось Воронцову, а был тот естественный конец, к которому неизбежно привела бы действительность и другого человека с натурой, подобной Радищеву.
Подчиняясь невидимой силе, ускоряющей похороны Радищева, вопреки желанию родных и друзей задержать вынос тела хотя бы ещё на несколько часов, чтобы толпившиеся на улице люди смогли проститься с покойным, гроб, обитый дешёвенькой бахромой, был вынесен из дома, установлен в колесницу и процессия медленно двинулась в направлении Волкова кладбища.
Отпевание покойного было в кладбищенской церкви. Отец Василий, совершивший последний христианский обряд над Радищевым, в погребальную ведомость занёс: «Умер чахоткою».
Гроб от церкви до могилы несли на руках друзья — Пнин, Ильинский, Борн, Попугаев, Царевский. Сзади с поникшими головами шли сыновья и дочь Радищева, со слезами на лице шагал Воронцов, а за ним тянулась вереница всё тех же неизвестных ему безымённых друзей писателя.
Отец Василий дрогнувшим голосом закончил отпевание и первым бросил горсть сырой земли на гроб, спущенный в могилу. Глухо отозвались упавшие комья, брошенные сыновьями, Катюшей и друзьями Радищева. Протиснувшись вперёд, бросил ком глины отставной солдат Андрон.
Никто не обратил внимания на трёх иноземных матросов. Они пришли сюда вместе с погребальной процессией, чтобы проводить в последний путь человека, о судьбе которого слышали у себя на родине. Это были матросы с торговых кораблей Англии, Голландии и Дании. Они тоже протиснулись ближе к могиле, как и русские товарищи покойного, отдали дань памяти Радищева и незамеченными оставили Волково кладбище.
Люди возвращались с похорон, когда солнце уже склонилось к западу. Золотистое сияние воздуха было всё таким же чудесным, как в середине дня. Ещё ярче горел багрянец лип и берёз и синева бездонного неба была также чиста и прозрачна.
7
Назавтра граф Воронцов добился аудиенции и был принят императором. Александр Романович, всё ещё находившийся под впечатлением своих раздумий о смерти Радищева, хотел рассказать государю о действительных причинах, погубивших этого талантливого человека, но он знал, что разговор неизбежно сведётся им к записке о правах сената, которая отвергнута последним указом, и не заговорил. С полным сознанием граф мог бы теперь сказать: мысли, изложенные им в записке, не приняты императором, а, значит, и все надежды его на расширение прав сената оказались зачёркнутыми. Выходит, надежды его, как и надежды Радищева, тоже рушились. Сенат — ненужная государственная надстройка, попрежнему всё зависит от воли одного монарха. А он хотел показать, что будущее устройство России, самое доверие, какое должно иметь к управлению, началось бы с расширения прав сената. Теперь об этом бессмысленно было возобновлять разговор, и граф Воронцов начал с того, что заговорил о семье покойного, о долгах Радищева, о необходимости оказать ей милостивую поддержку.
Александр I, ждавший, что Воронцов заговорит о новых законоположениях, в частности об указе о правах сената, на этот раз несколько разочаровался. Император слушал графа рассеянно и, как показалось Воронцову, был чем-то недоволен и даже раздражён. Но Александр Романович решил твёрдо, что выскажется о Радищеве, и сделал вид, что не замечает настроения государя. Граф настаивал перед императором о том, чтобы сгладить тяжёлое впечатление, оставленное неожиданной смертью Радищева, необходимо проявить внимание и попечение об его семье.
— Ваше величество, сами понимаете, сколь благодарна будет семья покойного, как поднимется ваш престиж в глазах общественного мнения, — говорил Воронцов.
Император молчал. Воронцову по ассоциации вспомнилась аудиенция у Екатерины II, когда он просил её смягчить участь закованного в кандалы Радищева, уже отправленного по этапу в сибирскую ссылку. Теперь он поднимает голос в защиту семьи Радищева, нуждающейся в поддержке.
Александр I не вытерпел, сказал, что подумает над просьбой, и граф, раскланявшись, удалился.
Через день Трощинский докладывал императору:
— Ваше высочество, английская фактория, памятуя покровительство Радищева, оказываемое свободной торговле, подала бумагу…
— Что ещё? — с раздражением спросил Александр I.
— Фактория вызывается заплатить все долги покойного…
Император готов был вскипеть, но сдержался. Он понял — допустить этого нельзя. Он вынужден был не «подумать», как обещал настойчивому Воронцову, а немедленно принять решение.
— Велики ли долги покойного?
— Могу узнать, ваше величество.
— Нет нужды.
Император тут же выразил своё повеление. На уплату долгов Радищева было указано выдать из казённых сумм четыре тысячи рублей, малолетних детей определить в Смольный институт, старшей дочери Екатерине назначить пенсию. Брови Трощинского, всегда вскинутые вверх, словно застыли в удивлении. Он старательно записал царское изъявление.
— Будут ли довольны? — не то спросил, не то выразил вслух свои сомнения Александр I.
— Ваше участие в положении семьи покойного достойно безграничной благодарности, — поспешил сказать Трощинский. Лицо его вытянулось, большие глаза, пытающиеся не упустить малейшее желание государя, прямо смотрели на него. Императору было не до лести старого царедворца.
— Уведомьте графа Воронцова — просьба его уважена.
— Будут ли ещё повеления, ваше величество?
— Нет! — всё ещё раздражённо ответил император.
Трощинский минуту выждал и осторожно спросил:
— Как поступить с бумагой английской фактории?
— Оставьте без последствий.
Докладчик царской канцелярии склонил курчавую, седую голову и вышел из кабинета государя.
8
После смерти Радищева, Иван Пнин особенно заметно стал чахнуть. Худоба лица и бледность кожи лишь подчёркивали всё усиливающуюся болезнь. Восприятия его донельзя обострились, переживания углубились и, как это бывает у больных чахоткой, появилось желание в оставшиеся годы своей жизни сделать как можно больше полезного для общего дела.
Он сожалел теперь, что его кипучая энергия в молодые годы, полные несвершённых надежд, была растрачена во многом бесцельно и необдуманно. Особенно Пнин это почувствовал, провожая в последний путь Александра Николаевича — своего духовного наставника.
Иван Пнин сидел одиноко в своей комнате за столом и держал в руках исполненный на бумаге портрет Радищева. Художник удивительно тонко схватил строгое выражение лица Александра Николаевича, его открытые и ясные глаза, в которых так и светился ум, взлёт густых выразительных бровей, как бы подчёркивающих богатое воображение писателя и борца! Не верилось, что Радищев навсегда ушёл из жизни, и внезапная смерть его казалась необъяснимой. Пнин смотрел на портрет, и в памяти вставали все встречи и разговоры с этим обаятельным, вечно живым в его сердце наставником, как встаёт в памяти и никогда не забывается всё самое яркое и впечатляющее человека.
Какой бы разговор ни припоминался с Радищевым, он был пронизан приверженностью к делу освобождения народа.
Говорили ли об истории российской, Радищев стремился усмотреть в делах и людях прошлого преддверие современных деяний народа; заглядывали ли в будущее отечества, в нём он видел новые порывы ума и творчества свободных русских людей. Вера в народ, в его силы, неистощимая, как подземный родник, не покидала этого энергичного и неустрашимого в своих делах и жизни человека.
И вдруг нелепо оборвано всё своей же твёрдой рукой, грозный взмах которой разрушил не только собственную жизнь, но и тяжёлым карающим грузом лёг на царствование молодого императора, открывшего XIX век широкими преобразованиями, наполненными, казалось, новыми веяниями и идеями.
«Видимо, не было в царских преобразованиях того, что искало твоё неутомимое сердце, — мысленно обращался Пнин к Александру Николаевичу. — Что же тогда было? Иллюзии, одна видимость, слова?»
Эти неотступные вопросы оставались не разгаданными. Сознание Пнина было обострено после всего, что пережил, перечувствовал он в последние дни. И всё же мысли о живом Радищеве заслоняли в нём эти трепещущей важности вопросы.
— Скажи, посоветуй мне, — шептали его губы. — Молчишь?
«Что же происходит? — спрашивал себя Пнин, весь поглощённый и захваченный думами о Радищеве. — Прямой и честный, бескорыстный и непоколебимый в дружбе человек, перенёсший многие горести со стоической твёрдостью, и вдруг такой конец?»
Мысли Пнина стали складываться в его голове в какие-то совершенно ясные, предельно отточенные слова и фразы. Он положил портрет и взял перо. Всё его настроение вылилось в стихотворении «На смерть Радищева».
Иван Пнин тут же на портрете начертал первые строки стиха, словно обращаясь к неведомому другу, которому хотелось раскрыть своё сердце, поведать свои думы, найти в нём поддержку.
Итак Радищева не стало! Мой друг, уже во гробе он! То сердце, что добром дышало, Постиг ничтожества закон; Уста, что истину вещали, Увы! — навеки замолчали, И пламенник ума погас: Кто к счастью вёл путём свободы, Навек, навек оставил нас!Перед глазами Ивана Пнина всплыл день похорон. Тогда он не обратил внимания, что возле дома Радищева были неизвестные ему люди, и не задумался над тем, почему они шли за гробом до кладбища, желая проводить в последний путь писателя. Теперь ему стало ясно — неизвестные люди — это неизвестные друзья умершего.
Пнина осенила мгновенно ясная до простоты мысль и неотступно завладела им. Как они, члены Вольного общества, считающие себя последователями этого великого человека, остались в стороне, не поняли и не поддержали его гневный протест против самодержавия, загубившего писателя! Им следовало объявить траур и сразу же провести заседание общества, посвященное памяти Радищева.
Да, как это не пришло ему в голову раньше! Они выразят горесть свою о несчастной кончине Александра Николаевича, созвав такое траурное заседание, первое заседание их Общества.
Пылкий и деятельный по натуре, Иван Пнин решил как можно быстрее претворить свой замысел. Портрет Радищева с написанными на нём стихами остался на столе. Пнин в сером сюртуке, с повязкой на руке из чёрного крепа, торопливо оставил дом. Он поспешил к своим друзьям.
Прежде всего он направился к Ивану Борну, потом к Василию Попугаеву, а к вечеру, объездив и других членов Общества, Пнин усталый подъехал в коляске к дому Радищева, чтобы сообщить о предстоящем траурном заседании.
9
Траурное заседание состоялось в первое воскресенье. Это необычное заседание любителей словесности, кому дорого было имя Радищева, открыл Иван Пнин. Строгий и, спокойный, с глубокой стрелкой морщины, прорезавшей его высокий лоб, с грустно нависшими бровями, он поднялся из-за стола и долгим взглядом обвёл собравшихся в маленьком зале их клуба, разместившегося в здании немецкого училища на Невском проспекте.
Здесь были друзья покойного и его родные: сыновья Николай и Василий, дочь Екатерина, сидевшие рядом с председателем. На их лицах всё ещё отражалась скорбь переживаемого горя. На бледном лице Кати сильно выделялись большие карие глаза, окаймлённые синеватыми кругами печали. Чёрное платье плотно облегало её статную фигуру и открывало красивую шею, тонкие руки туго перехвачены у запястья манжетами длинных рукавов.
Катя волновалась больше братьев ещё и потому, что обстановка клуба, зал, расписанный эмблемами наук и литературы и необычное заседание — всё это было ново и непривычно для неё.
Николай, унаследовавший от отца большую доброту и доверие к людям, казался ей спокойнее Василия. И Катя невольно прижималась к нему. Она заметила, что старший брат кусал губы, чтобы сдержаться, и это так не шло к его внешнему виду гвардейского офицера.
— Радищев сказал своё первое слово о свободе в России и тяжело пострадал за свой принцип, — начал Пнин дрогнувшим голосом и удушливый приступ кашля прервал его речь.
Усталый и больной, по существу уже приговорённый к смерти человек, Пнин сознавал: ему мало осталось жить на свете. Это понимали и друзья его. Но чем меньше оставалось жить Пнину, тем он больше хотел сделать, чтобы передать грядущему поколению в чистоте и великой значимости славное имя Радищева. И в этом была особая нравственная красота его, ибо Радищев для Пнина оставался и теперь душой и пламенем борца.
— Мне тяжело говорить о человеке, боль утраты о котором ещё свежа, как кровоточащая рана. — Он запнулся. — Разрешите прочитать стихи, посвященные его памяти?
Иван Борн, сидевший рядом с ним, ободряюще тронул его за руку, Василий Попугаев согласно кивнул голевой, Царевский участливо посмотрел на него и взглядом своим будто сказал: «начинай».
Итак Радищева не стало! Мой друг, уже во гробе он!Все встали, чтя память Александра Николаевича. У Кати навернулись слёзы, и она смахнула их кисейным платком. Послышался кашель, сдерживаемый Пниным, а потом голос его зазвучал зажигательно. Он продолжал читать стихи, написанные им на портрете Радищева.
Кто к счастью вёл путём свободы, Навек, навек оставил нас!«Редко бывают люди, которые бы смело говорили правду явно и всенародно, как Радищев», — думал Попугаев, слушая стихи Пнина. Ему живо припомнились слова из радищевского «Путешествия» о том, что подобные сердца бывают редки, едва один такой человек явится в столетие.
А Пнин читал. Голос его, теперь ровный и сдержанный, властно витал над склонёнными головами стоящих людей.
Благословим его мы прах! Кто столько жертвовал собою Не для своих, а общих благ; Кто был отечеству сын верный, Был гражданин, отец примерный И смело правду говорил, Кто ни пред кем не изгибался, До гроба лестию гнушался, Я чаю, — тот — довольно жил!Пнин снова закашлялся и сел. За ним опустились на стулья все присутствующие. И каждый из них, кто больше, кто меньше встречавшиеся с Радищевым, невольно подумали: «Да, таким и был в жизни Александр Николаевич». Те, кто чаще соприкасался с Радищевым, острее других переживали сейчас незаменимую потерю, испытывали на себе пленительную силу его воли, цельность и целеустремлённость его несгибаемого характера.
— Он для нас был воплотителем лучших чаяний народных, — сказал Попугаев.
— Редкой нравственности человек, — подхватил Иван Борн, — обладавший тонким чутьём всего прекрасного…
Александр Царевский подумал: «Прозорливец человеческой души, заглянувший в её тайны, светильник опытности и разума».
Кто-то тяжело вздохнул, не скрывая слёз, всхлипнул. Это был Александр Бестужев, близкий приятель Пнина. Покорённый обаянием Александра Николаевича, он полюбил его за правдивость и непокорность его большого сердца. Отец четырёх сыновей, в будущем декабристов, чувствительный и отзывчивый на человеческую доброту, вытирая платком слёзы, катившиеся по его щекам, Бестужев виновато смотрел на всех.
Борн взглянул на него тепло и благодарно.
— Друзья! Посвятим слезу сердечной памяти Радищева. — Одетый в тёмный кафтан с повязкой из чёрного крепа на руке, он встал. — Не стало мужа вам всем известного, — чётко и независимо, высоко вскинув голову, говорил Борн, — причина смерти которого важна не токмо в очах философа, но и для всего человечества. Жизнь наша подвержена всяким переменам… Радищев знал сие и с твёрдостью философа покорился року…
Иван Борн говорил зажигающе, и чёрные глаза его блестели. Он всегда поражал друзей смелостью суждений, яркими мыслями, уменьем убедительно произносить речи.
Царевский, хотя и слушал внимательно Борна и речь его была близка ему своим содержанием, торжественно приподнятым тоном, но он был занят собственными мыслями. «Радищев не любил слоняться по сеням больших господ при дворе и оттого был ненавистен им». Он теперь отчётливо сознавал, что значили слова упрёка и грозного намёка, брошенные Завадовским на последнем заседании законодательной комиссии.
— Будучи в ссылке в Илимске, сделался он благодетелем той страны. И память о нём пребудет там священною у позднейшего потомства! — Борн возвысил голос. — Друзья! Он любил истину и добродетель. Пламенное его человеколюбие жаждало озарить всех своих собратий немеркнущим лучом вечности; жаждало видеть мудрость, воссевшую на троне всемирном. Он видел лишь слабость и невежество, обман под личиною святости — и сошёл во гроб. Он родился быть просветителем и жил в утеснении. В сердцах благородных патриотов да соорудится ему памятник, достойный его!
Лицо Борна, строгое и вместе печальное, голос, пронизывающий душу болью, заставил содрогнуться всех, кто его слушал. И каждый подумал о том, что ему следует что-то сделать, чтобы достойно почтить память гениального их современника. Бестужев думал, что он воспитает своих сыновей такими же бесстрашными и правдивыми, как Радищев. Пнин мысленно клялся, если силы не оставят его, то он добьётся — Общество издаст сочинения покойного, несмотря на царский запрет.
Каждый из них чувствовал ответственность, которая ложилась на них, за правдивое изображение личности писателя. Они невольно испытывали робость перед тем, что предстояло сделать им, рассказывая о Радищеве так, чтобы не снизить величие его образа и передать наследство его будущему поколению борцов.
— Радищев умер насильственною смертью, — продолжал Борн. — Как согласить сие действие с непоколебимою твёрдостью философа, покоряющегося необходимости и радеющего о благе людей в самом изгнании, в ссылке, в несчастии, будучи отчуждённым круга родных и друзей? Или познал он ничтожность жизни человеческой? Или отчаялся он, как Брут, в самой добродетели? Друзья! Положим перст на уста наши и пожалеем об участи человечества!
Тишина объяла расписанный зал, прозванный храмом изящной словесности. С чем могла сравниться их скорбь в часы траурного заседания? Трудно было подыскать слова, выражающие её, эту скорбь, но все чувствовали, что нет больше среди них человека, бесконечно родного и близкого, ушедшего из жизни.
Друзья знали, что смерть Радищева, этого политического великана, наделала при дворе столько тайного шума и тревоги, сколько, быть может, не сделало разрушение Самсоном храма. И они были удовлетворены, что истинная смерть Радищева была понята так, как она в действительности произошла.
Борн кончил говорить, но все ещё долго молчали. Николай, сын писателя, память которого Общество чтило сейчас, вынул из папки листок бумаги, на котором были написаны последние слова его отца и духовного вождя всех их, собравшихся здесь, в зале. Сделать это посоветовал ему Иван Петрович Пнин ещё накануне траурного заседания. Листок Радищева молчаливо обошёл членов Общества. Навсегда запомнились пророческие грозные слова великого изгнанника:
«Потомство за меня отомстит».
Это был вещий завет. Друзья Радищева поклялись пронести его имя, как революционную эстафету своего века, сквозь бури и невзгоды, взлёты и поражения до победного конца, до окончательного торжества свободы над гнётом порабощения и произвола русского народа. Они свято исполнили свою клятву. Поздние потомки с благодарностью вспомнили их имена, принимая в свои руки знамя борьбы, поднятое Александром Радищевым, знамя, предвещавшее зарю свободы над Россией.
ЭПИЛОГ
Напрасно царская власть стремилась захоронить народную память о писателе-революционере. Она жила и тайно передавались из уст в уста.
Мятежный дух Радищева нельзя было ни умертвить, ни запрятать под печатями императорской полиции, ни изгнать из сердца народа.
Прошло лишь несколько лет, и память о нём, как немеркнущий луч, вновь всплыла в достойном преемнике. Она возродилась в юном Пушкине и ожила в его стихах.
Имя запрещённого писателя Пушкин услышал от своей бабушки Ганнибал в годы, когда в его детском сознании на всю жизнь откладывались первые впечатления, первые услышанные разговоры. Ребёнок только начинал помнить себя.
Бабушка Пушкина, Марья Алексеевна Ганнибал, жила с дочерью Надеждой, матерью поэта, в северной столице как раз в те годы, когда Радищев печатал в домашней типографии своё «Путешествие из Петербурга в Москву», когда над ним свершался суд и писатель был сослан в Сибирь. Дом бабушки Ганнибал находился через улицу от усадьбы Радищевых. Елизавета Васильевна с детьми, а Марья Алексеевна с Надеждой ходили в одну церковь, часто встречались, навещали друг друга и, как это бывает между соседями, подолгу беседовали.
Ганнибал, происходившая из обедневшей дворянской семьи, была женщиной умной и рассудительной. Она любила читать книги и разговаривать о литературе.
Почти всегда, покидая двор Радищевых, она задерживалась возле памятника, поставленного Александром Николаевичем своей любимой Аннет. Марью Алексеевну, жившую одиноко с дочерью, трогала до глубины души большая любовь Радищева к покойной жене. Ей, несчастной в своём браке с Осипом Ганнибал, лишь мечталось о настоящей мужниной любви и счастье. Марья Алексеевна знала всё, что постигло Радищева, и по-своему сожалела о нём. И позднее, занимаясь воспитанием своего внука Сашеньки, она не уставала рассказывать ему о знатных делах Ганнибалов, о литературе, о писателях, которых знавала по их сочинениям и с которыми встречалась на своём веку.
Слова бабушки Ганнибал о смелом сочинителе, сосланном за книгу в Сибирь, запомнились ему на, всю жизнь. Вполне осознанно Пушкин вспомнил о Радищеве, когда был в лицее. И воспоминания детских лет оказались сильны в нём именно здесь, когда он очутился оторванным от своей семьи.
К лицею примыкал обширный екатерининский парк, украшенный памятниками славы родного отечества. Здесь воспоминания детских лет подкреплялись тем, что он видел и читал сам. На цоколе мраморной ростральной колонны, украшенной носами кораблей, воздвигнутой Екатериной II в честь побед, одержанных над турками в 1771 году, Пушкин читал: «Крепость Наваринская сдалась бригадиру Ганнибалу». Это был его дед. Бабушка рассказывала много интересного и увлекательного про ратные подвиги Ганнибала. Вспоминая эти рассказы, у Пушкина рождались поэтические замыслы — ему хотелось воспеть подвиги деда Ганнибала.
Недалеко от ростральной колонны лежало, как большое зеркало на лугу, широкое озеро, отражающее густые и яркозелёные купы деревьев, залитых солнцем. Удивительная тишина сковывала парк. Только звенели в листве птичьи голоса, их переливчатые трели и щёлканье. Пушкин любил приходить сюда после уроков и подолгу гулять здесь.
Царское село было в двадцати пяти верстах от столицы. Охваченный воспоминаниями, Пушкин уносился в Санкт-Петербург. Лицеистам воспрещалось выезжать в столицу, но он, в мыслях, каждодневно гулял по её проспектам, рассматривал её памятники и дворцы. Сейчас он лежал на шелковистой траве против мраморной колонны, увенчанной орлом. Память о дедовских подвигах уносила его в будущее.
Совсем недавно он прочитал сочинение покойного Александра Радищева. Сильные впечатления потрясли его. Всё, что он узнал из радищевских сочинений, перемежалось с воспоминаниями детства, с рассказами бабушки Ганнибал об удивительном и смелом человеке.
Ратные подвиги деда, — величественные и бесстрашные, отступали перед рыцарской самоотверженностью писателя, осмелившегося вступить в единоборство с самодержавием. Душу этого несломленного, но загубленного вольнодумца с сердцем неустрашимого воина, какое было у деда Ганнибала, Пушкин понял много позднее. В лицее он был окутан, словно колдовской силой, впечатлениями от радищевской богатырской повести «Бова».
Пушкин читал эту повесть, уединяясь от лицеистов в парке, но ночью, когда тушил свечу на конторке, ложился спать, подолгу не мог уснуть. Слабый свет луны, пробивавшийся сквозь листву деревьев, подступивших к окну его комнаты, бледными бликами лежал на полу, падал на кровать.
За окном свободно шумел ветер, перебирая тяжёлыми листьями дубов, а Пушкину казалось, это шумит море, неизвестное море, в которое раздражённые матросы выбросили Бову. И разыгравшемуся воображению подростка почти отчётливо виделся богатырь, прибитый волной к берегу незнакомого острова. Шаг за шагом, день за днём, Пушкин шествовал за своим героем, жил его думами, вместе с ним делил радости, огорчался неудачами.
Но занимательные приключения Бовы не заслоняли образ сочинителя. Созданный по рассказам бабушки Ганнибал, Радищев вставал перед ним русским богатырём, неустрашимым в своих поступках и действиях. Сочинитель, будто мимоходом упоминающий в повести о своей ссыльной жизни в Сибири, о приезде к нему Елизаветы Васильевны с детьми, заставлял отступить воображаемый мир Бовы. Пушкину ясно рисовался облик писателя, смелого борца с тиранией.
Лежать дольше с открытыми глазами в немом бездействии было уже нельзя. Пушкин вскакивал с жёсткой постели, зажигал свечу. Причудливой формы блики луны на полу и на кровати сразу меркли. Смуглое лицо, озарённое пламенем свечи, склонялось над конторкой, горящие вдохновением искристые глаза едва успевали следить за быстрыми движениями пера. Пушкин то хмурился, то прояснялся в улыбке, рождая свою поэму «Бова». Поэтические строчки словно дивная музыка звучали у него на сердце. И напевные рифмы поэмы слышались ему в шелесте листьев парка, в первом птичьем пении в часы надвигающегося рассвета.
Всё, что он знал раньше, всё, что слышал и только что по-новому понял в прочитанных сочинениях, запечатлено было навсегда мелкими сбивчивыми строчками, зачёркнутыми словами и вписанными вторично наверху или сбоку на этих белых листах бумаги.
Курчавая голова несколько отбросилась назад и глаза пробежали написанное:
О Вольтер! О муж единственный! Ты, которого во Франции Почитали богом некиим, В Риме дьяволом, антихристом, Обезьяною в Саксонии! Ты, который на Радищева Кинул было взор с улыбкою, Будь теперь моею Музою! Петь я тоже вознамерился, Но сравнюсь ли я с Радищевым?Брови Пушкина насупились. От нетерпения он грыз перо и снова перечитывал написанное, сначала про себя, потом вслух и бросал перо на конторку. Он стучал в перегородку маленькими кулачками. В соседней комнате отзывался сонный голос.
— Пущин, Пущин, — говорил ему Пушкин, — я написал стихи, послушай!
Он брал исписанные листы и начинал читать. За стенкой слышалось:
— Хорошо!
Похвала друга воодушевляла, и Пушкин продолжал писать поэму.
Белело окно, дымила догоревшая свеча. Пушкин ничего не замечал. Он всё писал и писал. Уже совсем стали различимы в парке липы и дубы, покрытые утренней росой. От напряжения и усталости будто судорогой сводило пальцы, держащие гусиное перо. Исписанные листы, соскользнувшие с конторки, теперь покрывали пол, как недавние блики луны. Всё, что вылилось на бумагу, всё, что было сказано, означало теперь — порыв вдохновения исчерпан. Пушкин подходил к окну и раскрывал его. В комнату врывалась свежесть утра. На востоке алел рассвет.
Пушкин накинул на плечи синий мундирчик с красным воротником, с блестящими как звёзды пуговицами и присел на подоконник. На небе зажглась заря, в парке сразу пробудился несмолкающий птичий хор. Он с упоением слушал эти птичьи песни, утверждающие наступление нового дня, будто славящие жизнь.
Потом, много лет спустя, будучи уже признанным поэтом, солнцем русской поэзии, Пушкин вслед Радищеву восславил свободу. Муза его была вместе с теми, кто в декабре 1825 года вышел на Сенатскую площадь, чтобы открыто провозгласить заветные идеалы, а потом бесстрашно умереть на виселице или быть заточённым в подземелья Нерчинской каторги. Среди них оказались Пущин, Рылеев, Кухля, братья Бестужевы, Раевский.
Александр Пушкин остался верен юношескому обету: звонкую лиру поэта он отдал народу, восславил и воспел свободу. К концу жизни Пушкин в своём поэтическом манифесте с возмужалой зрелостью и твёрдостью заявил:
И долго буду тем любезен я народу, Что звуки новые для песни я обрёл. Что вслед Радищеву восславил я свободу…1953—1955 гг. г. Челябинск
Александр Андреевич Шмаков
Александр Андреевич Шмаков родился в 1909 г. в г. Боготоле, Красноярского края. Вначале он учился в Московском литературном институте имени Горького, а затем закончил исторический факультет Ташкентского педагогического института имени Низами.
Литературную деятельность Александр Андреевич начал рано. Ещё юношей он писал небольшие заметки в городскую и областную газеты, затем стал литературным сотрудником военной, а позднее редактором заводской многотиражной газеты. Несколько лет он редактировал иркутскую областную газету, а сейчас работает корреспондентом газеты «Правда».
Тов. Шмаков — член Союза Советских писателей с 1949 г.
Первые очерки писателя были опубликованы в 1939 г. в Иркутском альманахе «Новая Сибирь» и Красноярском — «Енисей». Вскоре его очерки и рассказы появились в журналах «Сибирские огни» и «Звезда Востока». После войны вышли сборники рассказов и очерков: «Байкальские встречи», «Зелёная улица», «О матери и сыне», брошюры об А. Н. Радищеве.
Изучая в институте историю литературы XVIII века, А. А. Шмаков увлёкся революционными произведениями А. Н. Радищева, глубоко заинтересовался его биографией, полной драматизма и героизма. Возникла мысль написать книгу о первом русском революционере. Исполнению этого желания помогло назначение Александра Андреевича редактором областной газеты «Восточно-Сибирская правда». В Иркутске автор будущего романа получил возможность собрать и систематизировать документальный материал о Радищеве, хранящийся в государственном архиве. Но этим писатель не ограничился. В течение 15 лет он изучал архивы Тобольска, Свердловска, Красноярска, Владимира, собирал всевозможные официальные документы, письма, записки, дневники и сумел побывать во многих местах, по которым проезжал в ссылку А. Н. Радищев. Так, в 1951 году появилась первая книга романа «Петербургский изгнанник», в 1953 — вторая, и настоящей третьей книгой заканчивается этот исторический роман.





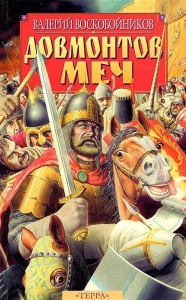

Комментарии к книге «Петербургский изгнанник. Книга третья», Александр Андреевич Шмаков
Всего 0 комментариев