МИРНЫЕ ДНИ
Деньги (Тайна «Нового русского»)
Мечты и свершения
Иван Петрович Батюшков стоял у окна в своей квартире и глядел на пешеходов, которые проходили по тротуару в обе стороны, спеша по своим делам. Его внимание особенно привлекали толстяки, женщины и мужчины разной степени сверхупитанности. Вот совсем еще молодая женщина облеплена жировыми отложениями. Фигура ее утратила нормальные очертания, она шла медленно, раскачиваясь из стороны в сторону, и тяжело дышала. Иван Петрович мысленно пожалел ее: «Бедная, как ты мучаешься… Но скоро я тебе помогу избавиться от страданий».
От этой мысли, а главное, от того, что наконец-то он может помочь всем толстякам, у Ивана Петровича стало легко на душе – отпали многолетние поиски, сомнения, неудачи. Наконец, он нашел формулу, которая осчастливит многих людей, а может быть и все человечество! Именно формулу: всего несколько латинских букв, знаков-закорючек. Но чтобы найти это сочетание, он потратил четыре года! Сам прибор изобрести, а точнее, сконструировать не составляло труда: взял обыкновенный пылесос, чтобы отсасывал…
Впрочем, надо начинать рассказ не с этого. Каждое явление или событие имеет свою предысторию, свои подступы. Были они и в открытии Ивана Петровича. Работал он фармацевтом, после окончания соответствующего факультета медицинского института. Работал, как все фармацевты: составлял порошки, готовил жидкие микстуры по рецептам и на свободную продажу в аптеке. Может быть, всю жизнь так и просидел бы над своими пробирками, колбами и маленькими, словно игрушечными весами и мельничками.
Но… Между прочим, все неординарные события и происшествия начинаются с этого вот «но».
Здесь, наверное, надо познакомить читателей более подробно с Иваном Петровичем и Елизаветой Николаевной.
Оба они в детстве были «деревенские», Ванька и Лизка. Родители трудились на рязанской колхозной земле. Ванька отца не видел, знал по тусклым любительским «фоткам» – погиб он в 1950 году, через пять лет после окончания войны пришла «похоронка». Как оказалось, служил он в части, которая вела борьбу с бандеровцами. Там и сложил свою красивую, кудрявую голову Петр Батюшков (передал сыну крепкое телосложение, спокойный, неторопливый характер, небыструю, но прочную смекалку и бесхитростную русскую покладистость и доброту). Таким Иван рос и пошел служить в армию, где и телом, и душой окончательно сформировался в крепкого, неторопливого, рассудительного человека. Наука определяет несколько типов характера. Холерик – энергичный, порывистый, быстрый на решения. Меланхолик – мечтательный, часто ленивый, человек в себе. Сангвиник – спокойный, вдумчивый, основательный, медлительный. Наш герой был типичный сангвиник.
После срочной службы Иван поступил в мединститут, окончил его и закрепился на постоянное жительство в Москве.
Елизавета тоже рязанская. Росла она, как и Ваня, на природе – здоровой, румяной, фигуристой девицей. В Москву подалась после окончания школы. Поступать в институт. В те годы высшее образование было доступно каждому желающему, но именно это создавало и определенные трудности – в интересные, престижные университеты и институты конкурсы были труднопреодолимые. Скромные деревенские, непробивные ребята Иван и Лиза даже не пытались пробиться в дипломаты, артисты или ученые. Они рады были учиться, лишь бы в Москве, и поэтому без хлопот определились: Ваня – на фармацевтический факультет мединститута, а Лиза – на библиотечный, в педагогический.
Познакомились случайно еще при выборе института. В большой, неведомой и даже страшной Москве почувствовали взаимную опору, все же земляки, рязанские. Особенно сблизило желание помочь, поддержать друг друга. Дружба переросла в любовь. В общем, нашли каждый желанного и после скромной студенческой свадьбы зажили, как говорится, душа в душу.
Лиза оказалась по характеру полной противоположностью Ивану – энергичная, настойчивая, порывистая, быстро загорается, резко судит, но в то же время отходчивая и как Иван по-русски мягкая, сердобольная. Наука называет такой тип характера, как было сказано выше, холерическим.
Несмотря на разницу темпераментов и склада характеров, в семье царили уживчивость и лад. Лиза объясняла это так:
– У нас каждой выпуклости соответствует определенная впуклость.
Шли годы, превратились они в Ивана Петровича и Елизавету Николаевну. Народили детей – Андрюшу и Катеньку. Одинаковые взгляды на воспитание (что бывает очень редко!) еще больше сближали, превращая семью в теплое, родное, всегда желанное убежище для «старых и малых». Все спешили домой со своими бедами и радостями, как говорил Иван Петрович: «Зализывать раны и делиться победами».
Шли годы. Росли дети. А родители толстели. Обычно от полноты с возрастом начинают страдать женщины. В семье Батюшковых было наоборот: Лиза худенькая, стройная, а Иван сначала понемногу, а затем очень заметно стал раздаваться вширь, а в районе живота вырисовывалась неестественная для мужчины беременность.
– Сидячая работа, – оправдывался Иван.
– Лень-матушка, – парировала Лиза. – Уже одышка у тебя, будто все время в гору идешь!
Она любила своего увальня Ивана, проявляя озабоченность о его здоровье, подбирала ему различные диеты для похудения. Вот и в тот день, с которого началось «но», Лиза, придя с работы, сказала:
– Ванечка, мне рассказали замечательную диету.
– У тебя их, наверное, сотня накопилась. Диеты надо не собирать, а соблюдать.
– Вот именно! – согласилась жена, и в этот миг ей и пришла в голову счастливая мысль, которая перевернула всю их дальнейшую жизнь: – Ваняш, придумай чего-нибудь получше диет. Голова у тебя светлая. Что ты все по чьим-то рецептам лекарства готовишь? Напрягись. Изобрети для себя, а потом уж и все человечество тебя оценит и на памятник водрузит. А уж денег ты кучу заработаешь! За похудение тебе женщины любые деньги заплатят!
Как ни странно, с этого разговора все и началось. Конечно, не за деньгами, не за славой погнался Иван Петрович. Был он человек интеллигентный, много читал, мыслил шире своей фармакологии. И сверкнула у него смелая и дерзкая гипотеза: «А почему не поискать? Не боги горшки обжигают!»
И с этого дня загорелся, заполыхал, да так увлеченно, что все получилось: открыл, создал, апробировал.
В день, когда мы с ним познакомились у окна его квартиры, он был счастливый, радостный и окрыленный. И женщине-толстушке, которая с трудом несла свои жиры мимо его окна, пообещал помощь не просто так, наобум. Он сам уже был как Аполлон – подтянутый, поджарый, живот не брюхо, а в мышечных буграх. И жена Лизонька стала еще более фигуристая, чем в молодости, потому что Иван исправил ей небольшие изъяны, которые как муж не замечал, а теперь, вот, как «скульптор» увидел.
Да не только они были счастливы результатом изобретения Ивана Петровича, попала в число первых счастливчиков еще и Матрена Федоровна – уборщица их подъезда. Увидел ее Иван Петрович раскоряченную, когда мыла лестницу, и воскликнул:
– Тетя Матрена (ее все тетей звали), хочешь я из тебя конфетку сделаю?
Матрена Федоровна залилась стыдливым румянцем, фартуком лицо прикрыла:
– Ой, Иван Петрович, нехорошо так над бедной бабой шутковать.
– Не шучу я. Брось свои тряпки. Пойдем ко мне. Немедленно в душ. Лиза тебе халат даст. Сегодня и начнем. Через неделю конфеткой будешь.
И слово сдержал. Через семь сеансов лечения Матрена из рыхлой, круглой, неохватной матрешки стала стройной женщиной с четко выраженной талией и округлыми бедрами.
Теперь они уже трое – Лиза, сам Иван да тетка Матрена – были такие фигуристые, хоть на подиум, новые платья демонстрировать.
Однако для того, чтобы стало понятно, как у Ивана Петровича это получилось, надо вернуться на четыре года назад.
Прежде всего он поставил цель: избавлять полных людей от лишних жировых отложений путем удаления этого вредного и ненужного балласта. Как удалять? Хирургически? Мучительно, сложно, опасно. Операции будут длительные, с потерей крови, возможными заражениями и осложнениями. На теле останется много обезображивающих швов. Не годится такой метод. Надо найти растворитель жира. Разжижать его под кожей и откачивать через тонкие катетеры. Жир будет удален, на теле останется несколько малозаметных пятнышек от катетера.
Вот и искал Иван Петрович четыре года растворитель жира. Сотни различных смесей опробовал, всю таблицу Менделеева в разных сочетаниях. Ничего не получалось. Главная беда: растворитель не только жировые отложения разжижает, но и соседние мышечные ткани травмирует. Да и кожа, под которую вводится растворяющий химический состав, превращается в тонкую нездоровую пленку. Эксперименты проводил на кусочках жира – бараньего, свиного. Подкожные инъекции апробировал на жирных курах. Все это дома, на лоджии, которую превратил в лабораторию. Лиза помогала, пошучивала и подбадривала. Андрей и Катя относились к экспериментам отца сначала с любопытством, а когда затянулась его затея на годы, интерес у ребят пропал. Между собой звали отца «колдуном» или «шаманом», но так, чтобы он этого не слышал. А очередную курицу, зажаренную мамой после папиных экзекуций (не выбрасывать же!), называли «жертвой науки».
Все гениальное просто и открывается часто случайно. То же произошло и у Ивана Петровича. Однажды…
Впрочем, здесь я должен прервать описание открытия фармацевта Батюшкова, потому что сам он держал состав растворителя в секрете и совершенно справедливо считал: как только этот состав станет известен другим, он, Батюшков, может оказаться ни при чем. Так случалось со многими изобретателями и первооткрывателями. Деловые люди быстро перехватывают изобретение, и автор в лучшем случае обретает популярность, а денежки уплывают мимо него.
Чтобы такая беда не случилась и с ним, Батюшков отправился в бюро регистрации изобретений с намерением запатентовать свое открытие и метод лечения. Он представил чертежи приборов: тонкоигольный шприц для введения раствора под кожу и механизм для отсасывания размягченного жира, который, по сути, был обыкновенным пылесосом, приспособленным для этой цели. Кроме того, Иван Петрович приложил несколько фотографий – свою, жены и Матрены Федоровны – до и после эксперимента, заснятых в трусиках.
Дальше консультантши Батюшкову пробиться не удалось. Строгая, всезнающая, не расположенная к долгим разговорам чиновница заявила:
– Ваше предложение не будет запатентовано, оно не имеет практического обоснования. Пример использования в семье не является доказательством. Из родственных отношений близкие могут дать любые высокие оценки.
– Я применю прибор для лечения других и принесу вам сколько угодно доказательств его полезности.
Губы собеседницы вытянулись в ниточку, она не сказала, а почти прошипела:
– Без патента, без одобрения Минздрава применять прибор на людях запрещается.
– Как же я принесу вам отзывы, кроме родственников?
– Обращайтесь в Минздрав, там изучат ваше предложение, создадут комиссию, проверят, если найдут нужным, на практике и дадут заключение.
В общем, говоря современным жаргоном, Батюшкова отфутболили. А разговоры о его изобретении пошли сначала в доме и во дворе, где он жил, а потом и дальше. Люди, замученные своими жирами, приходили и просили помочь. Иван Петрович помогал немногим – времени не было, занимался этим после работы да в субботу и воскресенье. Деньги брала Лиза. Сам стеснялся. Жена и определяла, с кого сколько взять, в зависимости от полноты клиента и прикидываемой ею же наполненности его кошелька. Но брала не много.
Андрей и Катя глядели теперь на отца глазами, расширенными от удивления. Они и раньше любили его, но теперь в их взорах прибавилось еще восхищение и уважение. Между собой шептались: «Наш фатер не колдун, а голова!»
* * *
Между тем молва о профессоре (теперь его так называли клиенты) расходилась все шире и дошла до самого главного органа в районе, откуда пришло письмо «Товарищу Батюшкову И.П.» В конверте был официальный бланк, в левом углу которого напечатано крупными буквами: «Краснопресненский районный комитет Коммунистической партии Советского Союза», и более мелкими адрес, номер телефона и номер этой бумаги, проставленный чернилами. В коротком тексте, напечатанном на машинке, было сказано, что уважаемый Иван Петрович приглашается к 15.00 (число и год) в комнату № 23 и далее: «Инструктор Краснопресненского районного комитета партии Сивков Г.В.» и его четкая, хорошо отработанная подпись.
Батюшков не был членом партии и очень удивился официальному приглашению в такой высокий орган, хотя и жил именно в этом районе на улице Беговой, недалеко от Ваганьковского кладбища.
Райком знали все, первый встречный показал на большой дом, выкрашенный красной краской. В вестибюле прохлада и мраморная чистота. Строгий взгляд милиционера: «Фамилия? Вам на второй этаж, комната двадцать три». Красная ковровая дорожка на лестнице и такая же яркая в коридоре. Тишина. Ни одного человека, только ряд одинаковых высоких дверей, обитых темно-зеленым дерматином под кожу.
Бабушкин хотел постучать, но подумал: не будет слышно по мягкой обшивке, потому приоткрыл дверь за медную начищенную ручку и тут же услышал строгий голос:
– Войдите! Жду…
– Я, вроде, вовремя.
Иван Петрович после эксперимента над собой был представительный, стройный, похожий на артиста Вертинского. Инструктор тоже был ему подстать – худой, чисто выбритый, в хорошо сшитом темно-синем костюме.
– Проходите. Садитесь. Разговор у нас будет недолгий, но серьезный. Что же вы, Иван Петрович, не зашли, не рассказали о своем изобретении?
– Я как-то не думал об этом. Я не член партии…
– Вы не член партии, но партии есть дело до всего. Тем более до события, можно прямо сказать, государственного масштаба. О вас уже наверху знают, а мы не в курсе, а живете в нашем районе. Нехорошо! Подводите нас. Мнение наверху нелестное складывается. Мне поручено разобраться, что к чему, и доложить своему руководству, а оно – наверх о вашем изобретении. Слушаю вас.
– Что вы хотите узнать? Меня не предупредили. Нет со мной ни чертежей, ни результатов экспериментов.
– Ничего. Объясните в общих чертах.
Иван Петрович рассказал. Сивков слушал, вроде бы внимательно, однако Батюшков уловил в инструкторе что-то очень похожее на консультантшу из бюро изобретений – и в превосходстве, и в поверхностном отношении к делу, то есть беседа «для галочки», поговорить, поставить отметку об исполнении и все. Таково было первое впечатление, но потом, по ходу беседы, Иван Петрович убедился – поскольку предстоял ответ «наверх», инструктор всячески старался показать, что он всесторонне разобрался в порученном деле. И всестороннесть эта в конечном итоге приводила к незначительности изобретения Батюшкова, поэтому и не обратили на него внимание районные руководители, и «верх» может не сомневаться, что в Краснопресненском районе полный порядок, и все достойное внимания мимо глаз и ушей райкома не проскользнет.
В заключение инструктор сказал утвердительным тоном:
– Ваше изобретение нельзя пропускать в жизнь. Оно в полном смысле аморально и вредно. Почему аморально? Куда девать человеческий жир, если вы начнете выкачивать его из людей массово. На переработку и повторное употребление? Где? В кондитерских изделиях? Это же каннибализм. Мировая пресса заклюет не вас, а нашу социалистическую систему.
– Я никогда об этом не думал. Считал: жир, как отходы после операции, будет выброшен.
– Вот именно, вы думали, а дельцы нашли бы применение. Дальше! Вы приносите колоссальный вред государству.
– Почему? В чем?
– Опять не додумали! Считайте. Выкачали вы тонны этого жира. Но те, кто его потерял, будут теперь усиленно есть! Не беда, что жир нарастет – опять можно будет выкачать! Получится сплошная, массовая обжираловка. А продуктов в стране и так не хватает. Очереди в магазинах видите?
– Вижу, сам стою, особенно за колбасой.
– Так на кого же вы работаете, товарищ Батюшков? Страна напрягается, а вы хотите сжигать тысячи тонн продовольствия. Это же экономическая диверсия.
– Что же мне делать?
– Ничего. Вот именно – ничего. Не время давать ход вашему изобретению. У нас есть сотни открытий, которые держатся до поры до времени в секрете. Наука тоже регулируется. Иначе нельзя. Иначе может получиться от нее вред, а не польза. Вот как в вашем случае. Надеюсь, я вас убедил, и вы уйдете без обиды. Мы вас ценим. Найдем способ отметить. Но, пожалуйста, не афишируйте ваши возможности. Договорились?
Иван Петрович пришел домой подавленный. Конечно, рассказал Лизочке о катастрофе. Жена сначала возмущалась:
– Как они смеют! Надо обратиться в ЦК.
– Так он и беседовал, наверное, по поручению ЦК.
– Обратимся в газету, придадим гласности.
– Наивнуля милая, какая газета об этом напечатает без разрешения?
– Ну, тогда надо передать в заграничную прессу.
– Тихо! Очень расхрабрилась. У стен уши есть! Это уже политика.
– Так что же, сидеть сложа руки?
– Поживем – увидим. Подождем.
Иван Петрович был натура рассудительная, что не раз помогало ему в жизни.
* * *
Совет инструктора: не афишировать, Бабушкин выполнял. Но тайно делал операции по оздоровлению друзей (особенно, их жен) и близких знакомых, в свою очередь предупреждая, чтобы не болтали. Ему хотелось еще и еще раз убеждаться, что достиг желаемого результата. Люди уходили после прохождения курса лечения обновленными, помолодевшими, безгранично благодарными.
И еще он совершенствовал приборы, которыми вводил растворитель под кожу и откачивал разжиженные отложения. Убирая излишки по своему желанию в определенных местах, он, как скульптор, изваял новые улучшенные фигуры. Особенно счастливы были женщины. Они крутились около зеркала в спальне Лизы, не веря своим глазам.
Но спокойная жизнь Ивана Петровича продолжалась недолго. Последовало очередное приглашение, а точнее, вызов, еще в одну «высокую инстанцию». На сей раз не посланием, а по телефону:
– Иван Петрович Батюшков? С вами говорят из министерства здравоохранения. За вами придет машина. Приезжайте, надо поговорить.
В министерском вестибюле было еще мраморнее, чем в райкоме партии, и дорожки в коридорах были шире и богаче. Двери кабинета, в который его ввели, были обиты не дерматином, а натуральной кожей, крупными выпуклыми ромбами. Кабинет отделан красным деревом и замысловатой лепкой по периметру потолка, очень высокого, метров пять, не меньше. В углу камин белого мрамора. За огромным, массивным столом сидел холеный, при золотых очках, с иголочки одетый начальник Главка.
Батюшков подумал: «На работу одевается, как на дипломатический прием».
Начальник изобразил приветливую улыбку (именно изобразил, а не улыбнулся):
– Присаживайтесь.
Иван Петрович сел на стул около полированного столика, приставленного к письменному столу. Роскошь кабинета его не подавляла, а внушала мысль: «Все, что здесь происходит, очень значительно, государственно».
Хозяин кабинета сразу подтвердил это:
– Мы рассмотрели ваше изобретение с государственной точки зрения и нашли ему применение.
Говорил он веско, негромко, не торопясь, солидно.
Иван Петрович опять про себя отметил: «Тон отработанный, давно здесь руководит, натренировался».
Начальник между тем продолжал:
– Есть у нас ЦКБ – Центральная клиническая больница, – помедлил, прибавил значительности в голосе: – правительственная… Вот для обслуживания номенклатурного контингента и будет применяться ваше очень оригинальное открытие.
– Благодарю вас. Большая для меня честь, – ответил действительно довольный Батюшков.
– Вы подготовите наш персонал, научите пользоваться аппаратурой. Кстати, она будет изготовлена новая, по вашим чертежам. Нашим фармацевтам передадите формулу для приготовления необходимых химикатов. И под вашим руководством наш персонал будет практиковать этот новый метод лечения. Скажу вам по секрету, Иван Петрович, жены высоких руководителей, в большинстве своем, очень полные дамы. Они заинтересовались вашим методом. И думаю, подвигли мужей дать указание на быстрое внедрение в практику. После апробации в ЦКБ, я думаю, они, каждая персонально, пожелают воспользоваться новинкой. Но это уже строго индивидуально, на квартирах или на дачах. Вот такие пироги, – вдруг весело, ни к селу ни к городу закончил начальник и, на сей раз по-настоящему, улыбнулся.
Из всей его тирады у Батюшкова застряла одна фраза: «Передадите формулы нашим фармацевтам». И поскольку это был самый принципиальный вопрос, Иван Петрович с этого и начал:
– Все, что вы сказали, прекрасно и приемлемо, кроме передачи формулы и способа приготовления растворителя. Это мой научный секрет и раскрыть его я до времени не могу. Тем более что мне на него даже патент отказались оформить.
– Это мы поправим, патент будет. И вообще, все останется в ваших руках. Вы сейчас кто? Кем работаете?
– Фармацевт в аптеке.
– А мы вас сделаем заведующим сектором, а потом, может быть, и отделения. В Кремлевке! Это вам не аптека…
– Почетно, конечно. Однако растворитель я должен готовить сам. Медперсонал может операции проводить, как это делать, я научу. Но секрет растворителя я хочу сохранить.
– Однако вы упрямый. Вы пройдете проверку в определенных органах, иначе в Кремлевку не попадают. Станете штатным работником. Какие же могут быть секреты? И вообще, содержимое вашего растворителя можно раскрыть путем химического анализа, и не станет никакого секрета.
– Это не так просто. В общем, я хочу оставить за собой авторское право, сохранить название «Метод Батюшкова» и не разглашать формулу растворителя, – спокойно и твердо сказал Иван Петрович.
– Вы маргинал, Иван Петрович.
Батюшков не знал смысл этого слова и по простоте своей так и сказал:
– Не ведаю, что значит маргинал. Оригинал – знаю, а это – нет.
– Маргинал – интеллигент, не понимающий смысл современной истории. Вы просто не понимаете, какие перспективы мы вам открываем. Подумайте. Мы тоже взвесим ваши пожелания. Я доложу о них своему руководству. Оно примет решение, и я вас вызову… приглашу.
* * *
Информация о методе Батюшкова из высоких инстанций, видно, просочилась за рубеж. Об этом свидетельствовал вечерний визит иностранного гостя. Он пожаловал на квартиру Батюшковых вечером. Принес букетик цветов Елизавете Николаевне и пакет с «выпить и закусить» для Ивана Петровича. На его возражения «Что вы! Что вы!» гость весело сказал:
– Сухая ложка рот дерет! – и тут же представился: – Я русский американец – Антон Борисович Морозов. Прилетел специально для встречи с вами, доктор Батюшков.
Гость был небольшого роста, толстенький, кругленький, подвижный, веселый, говорливый, элегантный, одет вроде в обычный пиджак и брюки, и в то же время вся одежда его подтверждала богатую фирменность.
Расположились в гостиной за столом, на который выложили деликатесы иностранного гостя – кетовая икра, копчености, нарезанные пластиночки сыра, бутылку виски.
– Чем Бог послал! – еще раз продемонстрировал Антон Борисович знание русских поговорок. Наполнили рюмки и выпили, опять же после его слов: «Со знакомством! Со свиданьицем!»
Как и полагается американцу, он сразу приступил к делу:
– Я о вас знаю все. О вашем открытии тоже. О трудностях, которые стоят на вашем пути, догадываюсь и поэтому сразу без дипломатии, как полагается бизнесмену, предлагаю вам всего-навсего блестящее будущее. Здесь, в Советской стране, с ее законами, вам ходу не дадут. Частное предпринимательство запрещено. В Америке для вас открывается полный простор как для научной деятельности, так и для бизнеса.
– Так это в Америке, – сказала Лиза.
– Разве я не сказал, что вы должны уехать в Америку? Это главная цель моего приезда – перевезти в Штаты вас, жену, детей.
Иван Петрович, как трезвый реалист, решил сразу остановить никчемный разговор:
– Дорогой господин Морозов, вы говорите о невозможном. Кому я нужен в Америке? Кто меня там знает? Я абсолютно не представляю, как оформляются такие выезды. К тому же меня не выпустят из страны, как изобретателя.
Морозова не смутил перечень преград, высказанный Батюшковым, он по-прежнему весело и легко стал отметать препятствия одно за другим, при этом не загибая пальцы, а поднимая их из сжатой кисти, как это делают иностранцы в отличие от нас:
– Кто вас знает в Штатах? Я знаю, Антон Морозов, и вскоре будет знать вся Америка! Кому вы там нужны? Всем, кто болен ожирением, а таких у нас больше половины населения, не исключая даже детей. Америка – очень богатая и благополучная страна, все едят, не закрывая рта, круглые сутки. Ха-ха! Оформление выезда я беру на себя. У меня есть такой вездеход, который открывает любые препятствия! – Морозов достал бумажник из бокового кармана и вынул из него несколько новеньких стодолларовых купюр. Помахал ими и убежденно изрек: – Вот они, эти вездеходы! У меня их много. А у вас будет еще больше. Вы будете миллионер через полгода!
– Остановитесь, – взмолилась Елизавета Николаевна. – Такое бывает только в ваших фильмах.
– Правильно! А фильмы – это наша жизнь.
Поддержал жену и Иван Петрович:
– Но в фильмах ваших мы видим и безработных, и гангстеров, и грабежи, и убийства.
– Вас это не коснется. Вы будете богатые люди, у вас будет все, вплоть до личной охраны. Я вам гарантирую: как только ступите на нашу землю – особняк, коттедж со всеми удобствами комнат на пятнадцать. Личные машины вам и детям вашим. Персональный семейный самолет, на котором вы будете летать на уикэнд на побережье, к морю.
– Позвольте спросить – на какие шиши все это?
– Я дам, сколько потребуется, в кредит, разумеется. Как только вы откроете клинику, деньги поплывут к вам рекой. Любой банк откроет вам свои двери и будет давать ссуду, какую пожелаете. Все, что я перечислил, вы можете получить в рассрочку в первый же месяц, без моей помощи! Но я вам помогу, сделаю все необходимое, чтобы вы покорили Америку. Вы это сможете, вы обладатель уникального открытия!
– Позвольте спросить вас на американский манер: а что вы будете с этого иметь? – спросила практичная Лиза.
– О! Я не скрываю! Я тоже буду иметь не мало. Поэтому я здесь. Я все вычислил и подсчитал. Мы создаем наш общий бизнес, в котором и я участвую. И хорошо заработаю. Конечно вы, Иван Петрович, не только хирург, но и хозяин! Владелец фирмы, дела! В ваших руках будет контрольный пакет акций. У меня 40%. Мне этого хватит. Повторяю, вы хозяин. А я ваш наемный директор-распорядитель. Вы ученый, вы делаете операции, ваша золотая голова должна быть свободна от забот. Все вопросы обеспечения я беру на себя. У нас будет великолепный бизнес. Знаете, почему я в этом убежден?
– Почему?
– У вас, у нас не будет конкурентов! До тех пор, пока вы сохраните тайну вашего открытия, а я всячески буду вас и ее оберегать, мы неуязвимы. Мы монополисты. Все деньги наши!
В общем, много наобещал нежданный гость, но не всему поверили Батюшковы. Особенно Елизавета Николаевна. Прощаясь, Морозов предостерег:
– В наших общих интересах прошу никому не говорить о наших намерениях. Даю вам на размышление сутки. Завтра жду положительный ответ и начну действовать.
Проводив гостя, Батюшковы вернулись к столу. Отодвинули в сторону тарелки с угощением, как бы желая быть независимыми от этих даров. Иван Петрович спросил:
– Что ты обо всем этом думаешь?
– Не понравился мне американец – прыщ какой-то, маленький, пузатенький, вертлявый, глаза навыкате. Прыщ!
– Ну, это внешнее, женское восприятие. А по сути дела?
– И предложения его не понравились – много говорит, золотые горы обещает, заманивает. Значит, что-то нечисто.
– Но все обещает он. С нашей стороны ничего не просит. Мы ничего не теряем. Наоборот, то, что он предлагает, вполне реально.
– На словах.
– Ну, и проверим на деле.
– Я вижу, ты уже согласился.
– А почему мы должны отказываться?
– Что тебя прельщает?
– Смогу применить в полном объеме свое открытие, без всяких местных ограничений и препятствий. И деньги заработаю приличные, что в наше время весьма желательно. А здесь разве позволят открыть свое дело? У нас все нельзя. В лучшем случае возьмут меня в Кремлевку, определят оклад. И все.
– Разве мы плохо живем? В Кремлевке ты будешь получать еще больше.
– Но пойми, метод, который я открыл, уже не будет моим.
– Поняла – значит, тебя прельщают слава и деньги?
– А почему бы и нет?
– А что будет с семьей – с детьми, со мной?
– Поедем все вместе. Поставим это одним из главных условий.
Елизавета Николаевна задумалась, отвела взор в сторону. Долго молчала и вдруг ошарашила:
– Я не поеду!
Иван Петрович опешил, даже мысли такой не могло быть:
– Как это не поедешь?
– Ты поедешь, а я останусь.
– О чем ты говоришь! О разводе не может быть речи! Как ты могла даже подумать об этом?
– Я не говорила о разводе – просто ты поедешь туда, а я останусь. Я уверена, ностальгия тебя замучит, и ты вернешься.
– Конечно, замучит, и не только ностальгия. Я тебя люблю, без тебя не могу и не хочу жить. Да и я тебе не безразличен. Поэтому ты должна ехать со мной.
– Я останусь здесь, на родине.
– Ну, это газетный патриотизм. Ты не понимаешь, какая счастливая, обеспеченная жизнь нам предстоит. Дети получат хорошее образование, овладеют английским языком. Вообще, свой кругозор расширят. У нас появится возможность путешествовать, мир увидеть.
– Кстати, дети почти взрослые, надо их спросить – захотят ли они уезжать?
Когда шла беседа с Морозовым, Кати и Андрея не было в квартире, они ушли в кино. Вернулись в разгар беседы родителей. Обнаружив на столе всякие вкусности, они тут же придвинули себе тарелки:
– Вы тут пируете, а дети умирают с голоду! – иронизирует Катюша. – Откуда у вас эта роскошь? По какому поводу праздник?
Иван Петрович, не торопясь, рассказал о том, что произошло во время их отсутствия, и закончил вопросом:
– Когда вы пришли, мы с мамой как раз решали проблему, как быть с вами? Вы уже почти взрослые и должны самостоятельно решать, остаетесь здесь или едете в Америку.
Ребята на раздумья не затратили даже минуты, одновременно почти закричали:
– В Америку! В Америку!
Катя даже запрыгала, как маленькая, и в ладоши захлопала.
Иван Петрович подождал, пока дети замолкли, и тихо сказал:
– А вот мама остается. Она не хочет покидать родину.
Наступила томительная пауза. Наконец, Андрей спросил:
– Вы что, разводитесь?
Елизавета Николаевна спокойно стала разъяснять:
– Нет, мы не разводимся. Просто на некоторое время разъезжаемся. Надо здесь квартиру сохранить. Если папа там хорошо устроится, я буду к нему приезжать. А потом поживем-увидим.
– А можно я сразу поеду с папой? – спросил Андрей.
– Можно, – ответил отец.
Катя подсела к маме, обняла ее и нежно замурлыкала:
– Мамочка, можно я тоже сразу поеду с папой? Мне так хочется посмотреть Америку.
Елизавета Николаевна поцеловала дочку, в голосе ее послышалась некоторая грусть:
– Дети мои дорогие, я желаю вам только хорошего. Может быть, папа прав. Поезжайте. Во всяком случае, мы расстаемся не навсегда. Все будет зависеть только от нас. Главное, чтобы у папы все сложилось удачно, и он смог бы осуществить свою многолетнюю мечту!
Дети были счастливы, они принялись целовать маму в обе щеки. А Иван Петрович, тоже растроганный до глубины души, обнял и поцеловал жену с особым чувством:
– Дорогая моя, какая же ты мудрая и добрая. Если ты скажешь, чтобы я отказался от этой затеи, я не поеду. Я останусь с тобой.
Лиза не прятала проступившие слезинки, она прижала голову к груди мужа и тихо молвила:
– Спасибо тебе, Ванечка… Все будет хорошо… Поезжай.
В дальний путь
Поднимаясь по крутому трапу-лестнице в самолет, Иван Петрович видел перед собой толстый зад женщины. Наверху у люка произошла короткая задержка, поднимающиеся пассажиры останавливались, Батюшков едва не ткнулся носом в этот зад впередистоящей. «Моя клиентка», – думал он, оглядывая ее объемный тюрнюр. Женщина остановилась на площадке трапа, повернулась лицом к зданию аэровокзала. Батюшков думал, что она хочет кому-то помахать рукой на прощание. У нее было красивое бело-румяное лицо. Она оказалась совсем молодой, лет тридцати. От нее пахло хорошими дорогими духами.
Вдруг ее красивое лицо преобразилось – глаза гневно расширились, она злобно крикнула кому-то к основанию трапа:
– Наконец-то мы от вас избавились. Тьфу на ваши рожи!
Батюшков обернулся, глянул вниз. Там стояли два пограничника в зеленых фуражках.
Во время полета эта женщина со своими родственниками веселились от души. К посадке в Шенноне на дозаправку они уже так хорошо «заправились» спиртным, что не видели соседей, говорили и кричали громко, как будто рядом никого не было.
«Эмигранты», – определил Иван Петрович. – «Наверное, долго им пришлось добиваться разрешения на выезд из Советского Союза. Только почему-то они летят не в Израиль, а в Штаты».
Первая заграница для Батюшковых – аэропорт Шеннон в Ирландии. Светлые небольшие залы представляют собой сплошные витрины, рекламу и входы в магазинчики, бары, киоски. Аэропорт больше похож на универсальный магазин. Здесь продается все – от носовых платков до шикарных костюмов и дамских шляпок.
У Батюшковых глаза разбегались от этого изобилия после небогатых советских магазинов.
– Вот это да! – восклицала Катя. – Вот это жизнь!
– Жизнь будет в Америке, – солидно поправлял Морозов. – Это предбанник!
Каждую минуту хорошо отрегулированные динамики мягко и доброжелательно приглашали пассажиров на посадку. Шеннон – международная заправочная станция, ее не минуют летящие из Америки в Европу, Африку, Азию и наоборот. Шеннонская заправочная зарабатывает огромные деньги.
«Боинг», на котором летели Батюшковы, тоже залил полные баки, путь предстоял не ближний, через океан, в течение семи с половиной часов. Все это время было заполнено обедом, ужином, а между ними – чаем, кофе, фруктами, соками, винами, пивом, крепкими напитками – по желанию. Так ублажали в первом классе. Но и других пассажиров кормили и поили тоже хорошо.
В Нью-Йорке невиданное нигде раньше новшество: из самолета пассажиры выходят на трап. Он, как автобус, увозит их к зданию аэровокзала. Другие пассажиры заполняют следующий трап.
В таможне толкучка и духота. Служащие, негры и белые, одетые в одинаковую форму с яркими нашлепками на груди и на рукавах, быстро и сноровисто делают свое дело – осматривают багаж и пассажиров. Пропускают без задержки. Глаз у них наметанный, они знают, кому уделить особое внимание.
Антон Морозов всюду впереди семейства Батюшковых. Он предъявляет документы, объясняется с проверяющими и командует:
– Проходите.
Нью-Йорк ошеломил прежде всего небоскребами, они торчали из скопища других домов прямоугольными высоченными глыбами с множеством, как соты, окон. Скопление маленьких домов тоже состояло из десяти-пятнадцатиэтажных зданий. Между ними сплошные потоки автомобилей и людей. Все куда-то спешат, движутся каждый в своем направлении, без остановки.
На такси приехали к гостинице «Президент». Название ко многому обязывает, но после шикарного вестибюля номера оказались довольно скромные. Для Ивана Петровича и Андрея – однокомнатный с двумя кроватями, столик, два стула, на тумбочке у кровати рекламные проспекты и Библия. Туалет со всеми удобствами, включая биде. В номере Кати то же самое, только комната поменьше и одна кровать.
– Располагайтесь, – устало сказал Антон. – Отдыхайте. Захотите есть, спуститесь в ресторан, заказывайте, что захочется. Счет за ужин я оплачу позже, с оплатой номеров. Я тоже поеду домой, отдохну. Спокойной ночи в Америке! До завтра.
Но тут же вернулся от двери:
– Чуть не забыл. Вот на всякий случай моя визитка с телефонами. И обратите внимание – в США я Том Колдер. При оформлении гражданства я просто перевел свое имя на Том, а фамилию Морозов – на Колдер.
* * *
Утром он появился, как всегда, сияющий, гладковыбритый, в светском костюме и шляпе с кисточкой.
– Ну, как спалось? Какие сны вам снились в противоположном полушарии? – Не ожидая ответов, продолжал: – Сегодня день ознакомления с Нью-Йорком. Так сказать, общий обзор. Вот вам план города для туристов. Смотрите: как шахматная доска. В Нью-Йорке невозможно заблудиться – все стриты пронумерованы, их пересекают авеню, каждая со своим названием. Я пригнал свою машину. Буду вашим гидом. Не возражаете? Вперед, за мной!
Машина оказалась с опущенным верхом.
– Я специально приехал на кабриолете, чтобы у вас был широкий обзор.
– Дядя Том, у вас несколько машин? – спросила Катя.
– Да, милая, эта специально для прогулок, особенно, летних, загородных. Нравится?
– Очень.
– Я подарю ее тебе, как только ты получишь права. Кстати, сразу после устройства с жильем вам всем надо пройти курс обучения в автошколе и получить права. Без автомобиля в Америке жить невозможно.
Разместились в мягких, ласкающих, кожаных сиденьях. Чуть слышно замурлыкал мотор, и Том влил машину в бесконечный поток сверкающих глянцем автомобилей.
– Начнем с главной улицы, – сказал Том. – В Москве это улица Горького. У нас…
– Бродвей! – подсказала Катя.
– Бродвей – это показуха, – весело поправил Том. – Его мы будем смотреть ночью, когда он весь в прыгающих, пульсирующих, брызжущих огнях, как у дьявола в преисподней. Главная, не только в Нью-Йорке, но и во всей Америке, Пятая авеню! У вас и у нас живут на главных улицах ВИП-персоны – вери импотент персоне. По вашим понятиям, номенклатурные, они у вас ВИП по должностям, а наши ВИП – по деньгам, по богатству.
Машина покатилась по чистой, ухоженной улице, с не очень высокими домами. Из многих подъездов, пересекая тротуар, к дороге подходили цветные тенты, защищающие от дождя или солнца. Около одного из них, темно-зеленого, Том сбавил ход:
– Здесь два этажа занимает Катрин Онассис, дочь миллиардера, владельца нефтяного флота.
Андрей, демонстрируя свою осведомленность, веско сказал:
– Она не ваша, а наша ВИП-персона, потому что вышла замуж за русского и приехала с ним в Москву.
Том хохотнул:
– Ха-ха! Правильно, Андрюшенька. Но если быть совсем точным, она высмотрела себе в мужья не русского, а одессита Сережу. Но это уже в прошлом, теперь у нее другой муж. Она живет как при коммунизме – все у нее по потребности, даже мужья.
Плавно продвигаясь мимо другого дома, Колдер продолжал:
– В этом белом красавце живет вдова убитого президента Кеннеди. Она занимает этаж. Кстати, Андрюша, ты знаешь продолжение семейной жизни Онассисов?
– Нет, не знаю.
– Жаклин Кеннеди стала мачехой Катрин, она вышла замуж за ее отца. Но и ее замужество было не долгим: старик умер. Наследницей его миллионов стала Катрин. Она откупилась от Жаклин, выделив ей мизерную сумму – всего 26 миллионов. На Пятой авеню имеют апартаменты многие самые богатые американцы. Это для престижа. Но живут они за городом, на дачах, виллах и даже в замках.
Том прибавил скорости и продолжал рассказ:
– Теперь для контраста я покажу вам негритянский район – Гарлем.
Машина вошла в улицу, с обеих сторон застроенную высокими, однообразными кирпичными башнями. Показывая на них, Том спросил:
– Иван Петрович, хотите стать буржуем сегодня же?
– Каким образом?
– Выбирайте из этих домов пять или десять штук, и немедленно их оформят как вашу личную собственность. И по вашим понятиям вы уже буржуй.
– Не понимаю, как это может быть?
– Очень просто, вам эти дома отдадут с большим удовольствием, потому что за них надо платить немалые налоги. Дома убыточные. Не окупаются. Живущие в них негры регулярно не вносят квартплату. Поэтому от них владельцы готовы избавиться в любое время.
Том сбавил скорость:
– Обратите внимание, как много прекрасных машин припарковано у этих домов. Негры любят машины.
– А на какие шиши они их покупают, если даже за квартиры не платят? – спросил Андрей.
– Деньги у них есть. Каждая семья получает пособие на детей. А детей они штампуют до десятка и больше. Пособия на них хватает на питание, и можно накопить на машину. Многие черные – лентяи. Вообще не работают. Живут на эти пособия.
В подтверждение слов Колдера, вокруг домов и машин кишели черные ребятишки разных возрастов – от бесштанных карапузов до хиппово одетых подростков.
– Недалеко отсюда находится Яшкин-стрит. Заедем туда. Познакомлю вас с моим приятелем.
Яшкин-стрит оказалась узенькой улицей, сплошь из небольших магазинчиков и вдоль них вынесенных на тротуары прилавков с товаром. Том пояснил:
– Яшкин-стрит – это жаргонное название. Я не знаю, как эта улочка называется в действительности. Основал ее какой-то предприимчивый Яша. Здесь торгуют одни евреи. Джинсовые брюки, куртки и прочие изделия можно тут купить наполовину дешевле, чем в магазинах.
– А почему? – вклинилась Катя.
– Потому что продавцы берут товар напрямую от производителя, без оплаты налогов. Это, так сказать, левый товар, незаконный. На разнице в цене хорошо зарабатывают. Сюда едут покупать многие, торговля идет успешная.
Том остановил машину около магазина с большими витринами и широкой стеклянной дверью.
– Зайдем к моему приятелю.
Встретил пожилой мужчина, уже седоватый, но крепкий, с быстрым, приветливым взором.
– Знакомьтесь – Коля, – представил Том. – А это мои друзья – Батюшковы, они только что приехали из Союза. Петр Иванович – крупный ученый. Откроет у нас свой бизнес.
Хозяин пригласил в кабинет. Тут же на столике появились чашки с кофе. Том продолжал представлять:
– Николай – наш, советский, он фронтовик, имеет награды. Приехал в Штаты после войны.
Инициативу перехватывает Николай:
– Я не убегал из Союза. После войны получил сообщение о смерти отца, который постоянно жил в Америке. Он оставил наследство мне и брату Мойше, который жил здесь, в Штатах. Я приехал за получением наследства и решил остаться. В Союзе не нашел бы применения своим деньгам. Вы угощайтесь, берите, вот, печенье…
Николай подвинул сладости и, как человек общительный и разговорчивый, продолжил рассказ:
– Не получилось у меня общее дело с братом. Приехал я с открытой душой. Встретили меня хорошо. Привезли в дом брата, отвели комнату. Но порядки в доме Мойши мне не понравились. Он, как старший, держал себя высокомерно, даже со мной. Другими членами семьи командовал, как капрал. Не нравилось мне это. Однажды за ужином я стал рассказывать про свои фронтовые дела. Все слушали внимательно. А брат, вдруг вижу, заснул в своем кресле. Я разволновался, вспоминая войну, а он, жирная свинья, спит! Хлопнул я рукой по столу, разбудил его и сказал:
– Ты – жирная жопа, а не брат. Я про свои переживания рассказываю, а ты спишь бессовестно. Знать больше тебя не хочу. Забираю свою долю наследства и ухожу от тебя.
– Вот открыл свой магазин. Сначала джинсами торговал, а теперь перехожу на дубленки, они входят в моду.
Ивану Петровичу понравился Коля – буржуй с нашими армейскими замашками. Сказал ему:
– Надеюсь, мы подружимся, как только определимся с жильем, приезжайте к нам в гости. Я тоже служил в армии, нам есть о чем поговорить.
К вечеру, когда настало время ужинать, Том, поколесив еще по городу, сказал:
– Повезу вас в русский, а точнее, еврейский район – в Бруклин, на Брайтон-бич. Здесь евреи начали поселяться еще в 1895 году, после первых погромов. Потом была вторая волна в годы Октябрьской революции. И третья волна: эмигранты – наши современники. Особенно много их бежало, когда началась в Советском Союзе кампания космополитизма.
Машина остановилась около ресторана с вывеской над входом – «Одесса». В зале на втором этаже было много электрического света. На невысокой эстраде играла джаз-группа – пианист, гитара, саксофон.
Батюшковых тут же пригласил выбрать столик услужливый молодой, красивый официант. Том назаказывал всяких закусок, а про горячее спросил:
– Кто что желает?
– Я – курицу! – первой попросила Катя.
Том подсказал:
– Есть котлеты деволяй, у вас их называют колеты по-министерски. Это куриное филе со вкусным горячим маслом внутри.
– Согласна!
– Я поел бы рыбки, – попросил Иван Петрович.
– Рекомендую запеченного карпа, – предложил Том. – Очень вкусно, запекается в форме, обложен румяной картошечкой.
– Подходит.
Андрей тоже, как и отец, заказал запеченную рыбу.
Огляделись. За столами веселые, хорошо одетые дамы и господа. Многие идут танцевать, как только заиграет оркестрик. За тремя сдвинутыми столиками шумная компания отмечала чей-то день рождения. Музыканты исполнили для них мелодию «Хэпи бос дей ту ю».
Все заказанные блюда Батюшковым понравились. Настроение было прекрасное. И тут очень кстати появился на эстраде певец Вилли Токарев. Небольшого роста кудреватый брюнет с черными усами, он больше походил на коммивояжера, чем на артиста. Но пел он хорошо. Душевно. Бархатным баритоном: «Небоскребы, небоскребы, а я маленький такой…». Потом очень трогательную, ностальгическую песенку: «Самолеты в воскресенье улетают». Пел он под Высоцкого, с хрипотцой, но без надрыва. Аплодировали ему громко. Эмигранты искренно благодарили, растроганные воспоминаниями о покинутой родной земле.
Вечер прошел очень приятно. В вестибюле Том сказал:
– Я вижу, вам понравился Токарев.
– Очень, – за всех сказала Катя.
– Я куплю вам кассеты с его песенками, будете слушать его дома.
И тут же в гардеробе купил три кассеты.
На следующий день после ознакомления с городом неутомимый Том с утра предложил:
– Давайте сегодня займемся устройством быта. Будем подбирать жилье.
Он развернул объемистую рекламную газету, вроде нашей «Из рук в руки»:
– Здесь предлагается все, что нам нужно. Прежде всего надо решить главный вопрос: где вы хотите жить – в квартире или в отдельном доме, особняке, коттедже.
Катя, как всегда, воскликнула первой:
– В коттедже, в коттедже!
Иван Петрович, подумав, согласился с ней:
– Хорошо бы в небольшом недорогом домике.
Том подсказал:
– Не скромничайте, Иван Петрович. Вам полагается удобный, солидный особняк.
– Но сколько он стоит?
– А мы не будем покупать. Для начала возьмем в аренду. Например, на полгода. Потребности и возможности ваши будут расти. Через год вы захотите еще больший, с гаражом на три машины, с бассейном. И арендуем, что вам понравится. А вот через два года будем покупать или строить для окончательного устройства.
– Вы правы.
– Нужно определить еще один очень важный вопрос. Где мы будем создавать нашу лечебницу? В каком районе города?
Пока Батюшков думал, глядя на план города, Андрей посоветовал:
– Надо где-то в центре, у всех на виду, чтобы клиенты легко находили.
Том не согласился:
– В центре очень дорогая аренда. Здесь загазованность, суета. Лучше на окраине. Недалеко от дома, который вы выберете для жилья. А клиенты и особенно клиентки найдут вас, даже если вы откроете фирму на северном полюсе. Ради того, чтобы избавиться от жиров, женщины приползут к вам, куда угодно.
– Согласен, – кивнул Иван Петрович. – Вы, как всегда, правы.
– Я предлагаю район Бруклина. Здесь не шумно. Много зелени. Нет небоскребов.
– Согласен.
– Посмотрим, что нам предлагают в этом районе. – Том стал читать объявление в газете: – Двухэтажный… гостиная, кабинет, спальни, полностью меблированный. Да, вот еще надо определить. Хотите с мебелью или сами будете ее подбирать по своему вкусу?
– Лучше посмотреть то и другое, – предложил Иван Петрович.
– На этот раз вы правы! Поехали.
Батюшковы осмотрели несколько домов. Все они были чистенькие, ухоженные, с небольшими участками земли, на которых ласкали глаз ярко-зеленые, подстриженные газоны.
Остановили выбор на коттедже средних размеров с мебелью:
– Зачем пустой? Ни к чему возиться с покупкой мебели. Все здесь подходит. Тем более вы сами сказали – это не навсегда.
И Катя сказала свое мнение:
– Хорошо, что четыре спальни – папе, мне, Андрею, и мама приедет.
Беседу с риэлтором, оформление контракта, оплату аренды конечно же взял на себя господин Колдер, бывший Морозов. Затем поехали в гостиницу. Перевезли вещи в новое жилье и, когда Том уехал, счастливые, веселые ходили по комнатам, обнаруживая все больше удобств: туалеты и ванные комнаты внизу и наверху. На втором этаже даже два – мужской и дамский с биде. Андрей и Катя обживали свои комнаты-спальни на мансарде. Все вместе обследовали и кухню-столовую. А затем Иван Петрович в кабинете сел в удобное, мягкое кресло у письменного стола, положил голову на мягкую подушечку подголовника, закрыл глаза, легко и вдохновенно подумал: «Господи, спасибо тебе за твою великую доброту!»
Что будем делать?
В очередное утро Том вкатился в комнату, как большой колобок, глаза его весело сияли и выражали готовность действовать.
– Где ребята? – спросил он.
– Как обычно, развлекаются.
– Они пусть гуляют… А нам пора заниматься делом. Туристический период пора кончать. Огляделись. Поселились. Что вы намерены предпринимать дальше?
Иван Петрович задумался. Том подождал минуту и прервал молчание:
– Русский мужик долго запрягает.
– Но зато далеко едет, – продолжил Батюшков и добавил: – А еще говорят, долго едешь – дальше будешь.
Тут нашелся Том:
– От того места, куда едешь. Ну, а если серьезно?
– Я думаю, надо предложить мои услуги какой-нибудь клинике. Где уже все на ходу. Идет лечебный процесс. Они выделят мне помещение. Я изготовлю оборудование. Приготовлю химикаты и начну практиковать.
Том замахал руками:
– Нет, нет! Это русский вариант. Мы с вами в Америке. Здесь нужен размах. Мы откроем свою клинику. Надо все держать в своих руках.
– Где, на какие шиши вы собираетесь это делать? Будете строить? Сколько на это уйдет времени?
– Ничего не будем строить. Найдем подходящее помещение. Арендуем. Оборудуем. Начнете работать. Я организую рекламу. Без рекламы никакой бизнес невозможен. Первых же ваших пациенток сфотографирую до и после операции. Женщины прибегут к вам со своими жирными телесами и такими же жирными кошельками. Только успевайте получать и считать гонорар!
Том не мог усидеть на месте, все это он говорил, бегая и жестикулируя короткими ручками перед сидящим Батюшковым.
– Кстати! Деньги любят счет? Мы найдем хороший банк. Как будет называться наша фирма?
– Не представляю, – Иван Петрович пожал плечами.
– Она будет называться «Батюшков и К°». Вы – президент, я – коммерческий директор. Счет в банке на ваше имя. Все деньги ваши. Потому что все держится на вас. Вы хозяин – по-русски, босс – по-американски. Я буду у вас работать по найму, по контракту. Какой оклад вы мне положите?
– Не знаю, в финансовых делах ничего не смыслю.
Глаза Тома сияли веселой добротой и покладистостью, казалось, он готов был для этого русского медведя на самое небольшое вознаграждение, ради искреннего желания помочь ему выйти в люди.
– Мне много не надо. Раз мы «Батюшков и К°», определите мне, как компаньону, 20% от дохода. Восемьдесят будут ваши. Справедливо?
– Не совсем, – возразил Иван Петрович. – Фактически все организационные и финансовые вопросы лягут на ваши плечи.
– Это правильно. Я буду везти всю телегу. Но она будет пустая без ваших мозгов. Вы как босс – ноль. Но как ученый, как профессор – вы главный мотор всей этой затеи.
– Пожалуйста, не величайте меня, я не профессор, – Иван Петрович поморщился, ему давно уже резало ухо это звание. Но Том, как только прибыли в США, стал звать его и особенно обращаться при посторонних, как к профессору.
Лицо Тома стало серьезным:
– Определимся раз и навсегда. Поставим точки над «i». Вы не только профессор – вы крупный советский ученый. Вам придется давать много интервью журналистам. Как только появятся первые фотографии граций, которых вы сформируете из толстух, к вам повалят из всех газет корреспонденты. Поэтому запомните свои ответы раз и навсегда. Вы крупный ученый, у которого конфликт с советской властью. Вы не смогли жить и двигать науку при тоталитарном режиме, поэтому покинули свою страну и приехали в Америку, где все пути для вашей деятельности открыты.
– Но это неправда, я не стану врать!
Взгляд Тома стал холодным и жестким:
– Нет, это правда! Разве вас не зажимали, не гробили ваше открытие? Почему я вытащил вас сюда? Потому что вы не имели возможности там реализовать свое открытие. Это и есть тоталитаризм! И прошу вас давать интервью только в таком духе. Иначе вы и здесь будете конфликтовать с властью.
Иван Петрович примирительно улыбнулся:
– А как же насчет демократии?
Том опять засиял своими веселыми глазками.
– Демократии сколько угодно: делайте деньги, в неограниченном количестве! Но в политику не лезьте.
– А разве то, что вы предлагаете мне говорить, не политика?
– Да, это политика, ваша – та, которая осталась там, за океаном. Здесь надо свободно дышать, зарабатывать деньги и радоваться. Давайте на этом прекратим наше словесное фехтование. И я, с вашего согласия, начинаю осуществлять то, о чем мы договорились. Регистрирую фирму «Батюшков и К°», открываю счет в банке. И попытаюсь сразу же выбить у них кредит.
– А чем расплачиваться будем?
– Дорогой господин Батюшков, привыкайте к своему новому положению – вы без пяти минут миллионер!* * *
В этот день Том Колдер выглядел особенно торжественным – на нем новый костюм кофейного цвета, брюки-гольф, будто накачанные воздухом, клетчатые гетры и ослепительно сияющие коричневые полуботинки. Американец, одетый по моде тридцатых годов, но в новом сегодняшнем издании. Наряд еще больше подчеркивал его шарообразную внешность. Лицо и веселые глаза его сияли ярче обычного. Он без вступления, без долгих разговоров, как полагается бизнесмену, вдохновенно сказал:
– Ну, Иван Петрович, начнем делать деньги! Что вам для этого нужно?
Они сели в кресла у журнального столика. Том достал блокнот и приготовился записывать.
Батюшков стал перечислять все необходимое для работы:
– Провизорный стол с множеством ящиков, мензурок, колб, пробирок, весами и прочей мелочью, необходимой для составления реактивов. Если вы будете покупать или заказывать в специализированной фирме, они знают, что входит в понятие рабочее место для провизора.
– Будет заказано в лучшей фирме!
– Тогда там же приобретайте вешалку для капельниц, ну, и сами капельницы на 500 и 1000 грамм. Холодильник для приготовленных мною снадобий.
– А составляющие их химикаты?
– Буду приобретать сам. Вы покажете мне несколько магазинов, где продают химикаты.
– Мне не доверяете? Боитесь, определю состав вашего растворителя жира? Напрасно, я заинтересован в сохранении вашей тайны больше, чем вы, потому что вкладываю в это дело немалые деньги. Если у вас украдут секрет и перехватят метод лечения, прежде всего пострадаю я.
– Вот и помогайте мне сохранить мою тайну. Дальше – нужен обычный массажный стол, на котором я буду проводить операции. Белье – простыни, салфетки, занавески. Теперь самый главный агрегат. – Иван Петрович достал из шкафа основной рабочий прибор, он сделал его сам по приезде в Америку, поставил его на столик:
– Как видите, это обычный модернизированный пылесос. По одному шлангу поступает из капельницы растворитель жира. На шланге кнопка, которой я регулирую подачу растворителя и одновременно напор воздуха из пылесоса. Главная деталь этого агрегата – щетка. Вот смотрите – похожа на обычную щетку. Только вместо волосков у нее пластмассовые тончайшие трубочки, по которым вводится под кожу растворитель. Вы видели рисовое зернышко, на котором записаны стихи или даже законы?
– Видел, под микроскопом.
– Вот, обработка трубочек в щетке должна быть на таком же микроскопическом уровне, из особой пластмассы, чтобы не гнулись и не ломались. На теле человека растут волоски, иногда еле заметные. Некоторые модницы удаляют эти волоски различными кремами. Для меня это даже лучше, остаются свободные от волосков поры. Вот в эти поры, не повреждая тело, как бы протискиваются трубочки щетки и вводят растворитель под кожу. А потом, когда жир стал жидким, я включаю другой, отсасывающий, шланг. Вот на нем тоже кнопочка. И откачиваю растворившийся жир. Вот, собственно, и вся операция. Постепенно перемещая щетку, включая и выключая разные функции пылесоса, я продвигаюсь по месту накопления жира и удаляю его. После операции на теле пациента появляется покраснение, но с помощью успокаивающей мази тело приводится в норму. Если жировые залежи большие, операция проводится в течение нескольких дней. Удобно в моем деле то, что не надо класть пациента в стационар, он живет дома и приходит на лечение в назначенное время.
Том засомневался:
– Пылесос выглядит как-то не солидно, кустарно. Можно ли его переоборудовать под прибор, который внешне будет выглядеть как специальный медицинский агрегат?
– Можно. Но только, как вы сами сказали, внешне, функции отсасывания и подача должны сохраниться, и мощность этих функций – тоже как в пылесосе.
– Все будет сделано, шеф, как вы пожелаете. Через неделю изготовлю и установлю в помещении, которое я вам уже показал. Есть ли у вас какие-нибудь пожелания по жилью, питанию, развлечениям?
– Спасибо, все прекрасно. Ваши заботы и доброта безграничны.
– Благодарю вас, профессор. Без промедления помчусь исполнять ваши указания. Но надо решить некоторые организационные вопросы. Как я понимаю, у нас разделение труда – вы лечите, выкачиваете жир, я организую выкачивание денег.
Батюшков поморщился:
– Вы циник, Том.
– Я не только циник, я еще и ценник. Я знаю, что сколько стоит. Причем не только вещь или дело, и даже люди. Например, ваша цена – сотни миллионов. Как коммерческий директор-распорядитель я введу систему оплаты лечения по контракту. Американцы любят определенность: за что и сколько надо платить. Мы с пациентом будем подписывать контракт, закажу бланк на дорогой бумаге с нашим фирменным логотипом. В нем будет указано, что мы должны с пациентом сделать, сколько это стоит. А также его обязанности: платить в срок наличными или чеками, соблюдать режим лечения, указанный в инструкции, которую я тоже разработаю. Я с вами абсолютно не согласен в том, что пациенты будут жить у себя дома и приходить к нам, как в поликлинику.
– Почему и в чем вы не согласны?
– Не согласен потому, что у вас, извините, отсутствует коммерческое мышление. Я считаю необходимым качать деньги из клиентов там, где это возможно. Я не циник, я реалист. Если клиент накопил или, скажем прямо, нажрал много жира, значит, он не бедный человек. И мы заставим его раскошелиться по полной схеме. Вот мои соображения на этот счет. Мы создадим холдинг, в котором будет гостиница. Почему иногородние клиенты должны отдавать деньги в отели и рестораны, где они будут питаться. Они должны жить в нашей гостинице, которую я создам. Нет, я не буду ее строить. У нас нет на это времени. Я арендую поблизости отель, создам в нем госпитальный вид и порядок. Питаться они будут в нашей столовой. И все это за плату! За денежки!
Батюшков удивлялся предприимчивости партнера, все, что он обещал, действительно может состояться. И Том прав, на этом можно дополнительно зарабатывать.
– Вы, как всегда, правы, у вас дьявольски гибкие мозги. Я согласен со всеми вашими намерениями. Действуйте! Будем вместе качать доллары!
Том громко захохотал:
– Иван Петрович, вы уже думаете как американец! Поздравляю!
Начали. Дело пошло.
Все, о чем говорил Морозов-Колдер, сбывалось, как по мановению его невидимой дирижерской палочки. Он снял в аренду приличный особнячок, обставил его белой медицинской мебелью. Белые халаты, простыни, салфетки были с фирменным знаком «Батюшков и К°». Оборудовал кабинет профессора и еще удивил своего босса находчивостью: для работы были изготовлены белые аппараты с фирменным знаком «Батюшков и К°», которые он заказал на фабрике, выпускающей пылесосы, но модернизировал их внешний вид под солидную и даже загадочную медицинскую аппаратуру.
Первых пациентов организовал тоже Морозов. Он привел двух полных женщин, то ли родственниц, то ли хороших знакомых. Иначе никто не пришел бы к безвестному экспериментатору.
Батюшков ожидал, одетый в белый халат и белую шапочку. На столе белые специальные перчатки – все, как полагается хирургу. Колдер привел в операционную женщин, представил:
– Фаина, жена моего родственника. Мы ее зовем просто Фаня. А это Людмила, тоже моя родственница по линии папиных дядей. Ее мы зовем Милочка. Я им объяснил, почему мы с них начинаем, пока нас еще не знают, нет клиентов. Они согласны. Я их сфотографирую до и после операции и использую снимки для рекламы.
Людмила – брюнетка лет тридцати с хорошей модной прической, модно одетая, когда-то у нее была хорошая фигура. И теперь она не была безобразно толстой, но уже не было талии, обвисли и навалились на зад жирные боковые складки, да и живот, хоть и спрятан под широким поясом под платьем, но заметно угадывался.
Фаина была небольшого роста, в широком платье-балахоне, под которым колыхалось очень ожиревшее тело.
Иван Петрович любезно улыбнулся обеим и тут же предложил:
– Не будем терять время – приступим. Начнем с вас, – он указал на Людмилу. – Раздевайтесь до купальника. Чулки можете не снимать и ложитесь на этот стол. А вы, Фаина, можете сесть вон в то кресло и наблюдать процесс лечения, пока вам не надоест. Предупреждаю обеих – операция будет длиться довольно долго.
Том подвел Людмилу к большому настенному зеркалу. Когда она разделась до трусов и бюстгальтера, он поставил ее лицом к себе, а жирная спина и бедра отражались в зеркале.
– Вот, получится на фотографии модель со всех сторон. В полном объеме.
Уложив на операционный стол Людмилу, Иван Петрович выключил общее освещение в комнате, оставил только мягкий рассеянный свет над столом, где лежала Людмила. Спросил ее:
– Вам удобно? Вот этой щеткой я буду вводить под кожу специальный растворитель жира. Это не больно, вы будете ощущать легкое покалывание этой щеткой, она будто прилипнет к вашему телу. Думайте о чем-нибудь своем, приятном, ну, например, как вы появитесь на пляже и все будут обращать внимание на вашу красивую фигуру. А я ее такой сделаю, обещаю вам!
Колдер с Фаней сели в сторонке. Батюшков включил мотор и, мысленно сказав: «Господи, благослови», – приступил к операции. С первых же минут он убедился, что аппаратура американского производства работает великолепно, мотор мурлыкал тихонько, не то что его приспособленный пылесос, щетка прошлась по телу, смазанному глицерином, и нежно стала всасываться в поры своими волосками-трубочками, которые тоже оказались более тонкими, легко проходимыми к залежам жира. Раствор из капельницы пошел по шлангу и по капиллярам щетки послушно, под хорошим давлением. Иван Петрович был очень доволен, работал с удовольствием и даже вдохновенно. Он быстро очистил обвисший живот женщины, затем складки на боках. Причем, обрабатывая талию, особенно постарался, обойдя ее неоднократно по всей окружности, и сделал плавный переход на бедра, которые тоже округлил, придав им красивую форму.
Том и Фаня уходили пить кофе. Батюшков работал без перерыва и еще раз отметил: с таким оборудованием даже не пришла усталость.
Завершив операцию, включив свет, Иван Петрович сказал:
– Ну, милая, поднимайтесь, идите к зеркалу и посмотрите, какую Афродиту я из вас изваял!
Людмила, улыбаясь, пошла к зеркалу, туда же поспешили Том и Фаина. Некоторое время все молчали. И вдруг пациентка в ужасе вскрикнула:
– О май год! Боже мой! Что вы со мной сделали!
В зеркале она увидела себя, покрытую красными и розовыми пятнами, как прокаженная, в язвах и рубцах! Батюшков поспешил ее успокоить:
– Это все пройдет! Тело будет нормального цвета, подтянется. Складок не будет. Том, дайте ей тюбики крема. Вы должны смазывать обработанные места утром и вечером, и все будет в порядке. Смотрите, какие я сделал формы!
Том, в некоторой растерянности, стоял с фотоаппаратом в руке.
– Сейчас ее фотографировать не надо. Вот дня через три придет все в норму, тогда сделаете снимки для рекламы.
Людмила, все еще расстроенная, не очень-то верила словам доктора:
– Вы говорили о пляже. Если я появлюсь с такими красными блямбами, люди будут от меня шарахаться!
– Я же вам объяснил – все это временно. Пройдет. Никаких следов не останется. Проверено на сотнях пациентов, когда я работал в нашей стране.
Хорошее настроение Ивана Петровича было подпорчено. Чтобы сменить неприятную тему, он обратился к следующей пациентке:
– Ну, вы готовы? Раздевайтесь. Том, сфотографируйте ее в первозданном виде.
Однако Фаня подняла руки перед собой, как бы защищаясь от Батюшкова, и залепетала испуганно:
– Нет, я не хочу. Я не буду. Не хочу быть такой страшной.
Батюшков обиженно махнул рукой:
– Как же вы не понимаете. Я же объяснял – все это пройдет.
А она все лепетала:
– Нет, нет. Я не хочу. Вот когда у нее пройдет, может быть тогда…
– Первый блин комом, – подвел итог Иван Петрович. – Том, пожалуйста, проследите за режимом восстановления тела вашей родственницы. И сфотографируйте ее в… (помедлил) в готовом для рекламы виде.
– Я сделаю снимки, как мы договорились, все будет в порядке, шеф. Я же видел ваших клиентов в Москве. Собирайтесь, дамочки, едем по домам!
Дело развернулось и приобрело популярность быстрее, чем предполагали организаторы. Был такой наплыв клиентов, что пришлось вести предварительную запись.
Том торжествовал:
– Что я говорил? Давайте расширяться. Надо подготовить вам помощников. Я приглашу врачей или медсестер. Кого хотите?
– Лучше сестер.
– Будут. Аппаратуру закажу дополнительно. Как быть с химикатами?
Это был очень трудный и щекотливый вопрос. Батюшков не мог открыть свой секрет. Понимал: как только это случится, он будет не нужен. Хотя бы тот же Морозов-Колдер перехватит дело со своей веселой улыбочкой. Поэтому Иван Петрович твердо сказал:
– Растворители буду готовить я сам. Сейчас и в будущем. Персонал будет выполнять только практические операции. Каждому будем выдавать ампулы по счету под расписку – вы или я. Но готовить всегда буду только я.
Морозов не возражал:
– Как скажете, вы хозяин!
Популярность метода Батюшкова росла с каждым месяцем все шире. Но Колдеру и этого было мало.
Однажды Том долго смотрел на Ивана Петровича особенно внимательно и молчал. После таких затяжных молчаний он обычно высказывал какую-нибудь новую придумку. И на сей раз ожидая того же, Иван Петрович спросил:
– Вы что-то придумали?
И Том огорошил:
– Вам надо отпустить бороду. Большую, широкую. Лопатой.
– Зачем?
– Американцы считают – все русские бородатые. А по улицам у вас ночью ходят медведи.
– А как же мое изобретение? От дикости? Такого у американцев нет.
– Вы правы – они дураки, обыватели. Но борода нужна – для рекламы, для большей притягательности.
Батюшков не раз убедился в находчивости партнера. Согласился и на этот раз. Бороду отпустил. Через полгода она украсила не только его лицо, но и новые рекламные буклеты и газетные публикации, в которых он теперь был не просто профессор медицины, но и загадочный «а-ля русс», таинственная русская душа. И надо признать, Том оказался прав. На «таинственную русскую бороду» американские дамочки пошли еще более мощным потоком. Пришлось расширить приемные в поликлинике и реабилитационные номера в гостинице. И это еще не все. Том, игриво улыбаясь, однажды сказал:
– Шеф, с вас причитается за мою бороду.
– В каком смысле?
– Некоторые американочки хотят попадать только в ваши руки. Я повысил за это тариф. И они платят. Теперь у вас идет дополнительный гонорар. Хотя борода моя, на долю не претендую. Я не жадный человек.
Богатый клиент
Сначала приехал секретарь или доверенное лицо. Он не сказал, кто он, а значительно произнес:
– Я от мистера Окфельдера, – помолчал, как бы проверяя, какое впечатление произвело имя его босса. Имя было знаменитое. Несмотря на недолгое проживание в Америке, Батюшков знал: Окфельдер – один из крупнейших денежных воротил.
Прибывший продолжал:
– Господин Окфельдер хочет с вами поговорить. Сам приехать сюда к вам он не может, по разными причинам, в том числе из соображения безопасности.
В Штатах любое дело, услуга или, вот, предполагаемое свидание стоит денег. Понимая это, гость сказал:
– Ваш визит будет оплачен, независимо от того, договоритесь вы или нет.
– Я хотел бы знать, зачем я понадобился господину Окфельдеру?
– Мой шеф хочет воспользоваться вашим искусством. Он очень полный.
– Пожалуйста, моя клиника к вашим услугам. Я на дом не выезжаю. Здесь вся необходимая аппаратура.
Посланец проявил нетерпение от непонятливости доктора:
– Мистер Окфельдер – не обычный клиент. Все будет оплачено, не беспокойтесь. Сегодня при встрече с вами именно об этом пойдет разговор.
Том стоял сбоку от визитера и делал руками осторожные жесты, и глаза его едва не выскакивали из орбит: мол, соглашайся!
– Хорошо. Я согласен навестить вашего босса. Когда он назначает встречу?
– Мой босс никогда не откладывает. Надо ехать сейчас.
Том закивал очень энергично.
– Ну, что же, – сказал Иван Петрович. – Ваш хозяин – очень уважаемый человек, я не могу отказать, поехали!
Визитер расслабился, заулыбался, видно, он опасался – вдруг доктор заупрямится и не поедет, и тогда ему от босса влетит. До этого он стоял прямой, официальный, от таких говорят – аршин проглотил. А получив согласие, обмяк, позвоночник у него стал гибким.
– Благодарю вас, мистер Батюшков. А мой хозяин отблагодарит вас очень щедро.
Сели в сверкающий, мощный «джип». Иван Петрович прикинул: «Тысяч на семьдесят потянет». Шофер ничего не спросил, сразу дал газу и помчал очень быстро. Батюшков подумал: «Наверное, у него, как и у нас в Союзе, какие-то особые номера». Да и сам шофер был явно мастер: крутился и вилял в уличных пробках, чудом не задевая соседние машины.
– Ювелир! – восхищенно сказал Батюшков, показывая Тому на водителя.
– Фирма! – значительно молвил компаньон.
Приехали в загородный не коттедж, а настоящий замок, окруженный высокой металлической фигурной оградой черного цвета. В ограде был шикарный, ухоженный парк, цветочные клумбы и несколько фонтанов.
Кабинет босса – на первом этаже, рядом с богато отделанным белым мрамором вестибюлем. На верхние этажи ему трудно подниматься, отметил Бабушкин, поэтому кабинет внизу.
Окфельдер сидел на диване, раскорячив толстые ляжки, ни в один стул или кресло он не поместился бы. «Вот так туша! Много я видел толстяков, но таких еще не встречал», – первое, что подумал Иван Петрович. – «Килограмм на двести. И половина в нем – жир. Тут придется работать неделю!»
– Господин Батюшков, – представил сопровождающий, сделав, как и прежде, ударение на «ю». О Колдере он ничего не сказал, будто его здесь не было.
Окфельдер весь состоял из округлостей: толстые руки, как клешни, оттопырены, ноги, такие же округлые, раздвинуты, шея и двойной подбородок тоже округлые. Лицо как тыква, только с глазами, которые мигали из жирных складок. Он тяжело дышал, будто только что поднялся по лестнице.
Босс изобразил на своем тестообразном лице нечто похожее на улыбку и сразу, как и полагается бизнесмену, приступил к делу:
– Я располагаю о вас полной информацией. Меня устраивают результаты операций, которые вы проводите. Что надо делать, вы видите. Я заплачу вам сто тысяч долларов, если вы облегчите мое существование.
Названная цифра несколько обескуражила Батюшкова. Том, стоящий на шаг позади, даже тихонько икнул, чем напомнил Ивану Петровичу о своем компаньонстве.
– Я не могу принять от вас деньги. У нас холдинг, компаньоны должны получать проценты со всех доходов. Вам придется заключить с нами контракт и перевести гонорар на счет нашего холдинга.
– Меня не интересуют формальности, – он взглянул на своего посыльного, и тот жестами показал, что все будет в порядке. – Помогите мне избавиться от этого безобразия, и я вам хорошо заплачу.
– Вам придется приезжать ко мне в операционную, там вся аппаратура. Причем операции займут больше недели.
– Это меня не устраивает. Ездить к вам не могу. Везите сюда вашу аппаратуру. Мой массажный кабинет, надеюсь, вам подойдет. Гарри, покажите доктору массажный кабинет.
Батюшков не согласился с хозяином:
– Я не могу возить к вам свою аппаратуру. У меня контрактные обязательства перед другими пациентами. В контракте указаны определенные сроки. Я должен работать в своей клинике.
– Хорошо. Гарри, посмотрите, какое у доктора оборудование и закажите для меня на той же фирме, где для них изготовляли. Вот так, доктор, оборудование будет постоянно здесь, вы будете только приезжать. Вернее, вас будут привозить и отвозить. Если у вас возникнут нелады с пациентами по срокам их лечения, я буду оплачивать неустойку по вашим контрактам.
Он сам тут же подвел итог разговора – не привык, чтобы ему возражали или отказывали:
– Все, договорились! Гарри, действуйте, все должно быть сделано быстро! А теперь отвезите доктора. – И Батюшкову: – Извините, больше не могу уделить вам время. У меня дела!
Он грузно поднялся и, широко расставляя ноги и растопырив руки, как борец-тяжеловес перед схваткой, двинулся к огромному письменному столу. Даже не оглянулся. Он все решил. И все будет так, как он пожелал.
В машине, при возвращении, Том не разговаривал – мешал Гарри и шофер. По приезде в клинику, Гарри записал адрес фирмы, в которой была заказана аппаратура.
– Чертежи? – коротко спросил он.
– В фирме остались образцы. К тому же мы расширяемся, для нас там изготавливают десять новых комплектов.
– О,кей! – и умчался на своем шикарном «джипе» выполнять приказ шефа.
Когда остались вдвоем, Колдер с восторгом сказал:
– Знаете, с кем вас свела судьба?
– Обыкновенный обожравшийся денежный мешок.
– Нет, не обыкновенный! Этот миллиардер может купить небольшую европейскую страну со всеми ее потрохами. Сто тысяч долларов для него пылинка. Надо хорошо потрясти этот, как вы говорите, денежный мешок!
– Сколько на нем жира, вы видели? Мне придется больше недели его обрабатывать. Если разделить его сто тысяч на эти дни, не такой уж большой гонорар получится. Жмот ваш миллиардер.
– Надо подумать, как избавлять его не только от жира, но и от долларов.
На следующий день примчался Гарри и с порога воскликнул:
– Все готово! Я купил один из приготовленных для вас комплектов. Можем ехать.
Иван Петрович положил докторский чемоданчик с растворителем, смазку, кремы и сказал Тому:
– Я думаю, вам не надо ехать.
– А как будете объясняться?
– Языком жестов, и моих знаний английского языка достаточно.
В замке Окфельдера Батюшкова провели в массажную – большую комнату с высоким потолком и ярким светом. Необходимое оборудование установлено рядом со столом для массажа. Вся аппаратура с фирменным знаком «Батюшков и К°».
Гарри сказал:
– Проверьте, все ли работает, и я позову шефа.
Иван Петрович залил растворитель в капельницу. Включил основной агрегат, который мягко и знакомо заурчал.
– Зовите.
Окфельдер пришел в спортивном костюме. Батюшков показал жестом – надо снять одежду.
– Раздевайтесь. Все, до трусов.
Толстяк, кряхтя и отдуваясь, разделся и взгромоздился на массажный стол. Иван Петрович осмотрел, ощупал пациента и пришел к неприятному выводу: толстяк, желая похудеть, занимался с гантелями, гирями, штангой, от чего в жировых отложениях образовалась прослойка мышц, они будут мешать удалению жира.
Гарри стоял в сторонке. Батюшков сказал ему, подтверждая слова жестами, будто выжимая штангу:
– Спортсмен! Жирный, но плотный. – Помял бока пациента и добавил: – Дификулт ту ворк! (трудно работать).
Окфельдер заерзал, он понял, о чем говорит доктор, приподнялся и твердо приказным тоном буркнул:
– Ай шел пей фор эврисин! (я плачу за все!).
Иван Петрович начал с большого рыхлого живота – нанес глицерин, чтоб раскрылись поры, включил подачу растворителя из капельницы и с легким нажимом стал через щетку вводить растворитель. Пациент покорно лежал и пыхтел, даже лежать ему было трудно. Сеанс длился около двух часов. Батюшков выкачал из пациента полтазика белого, похожего на слизь жира. Показал его Окфельдеру. Тот посмотрел и радостно воскликнул:
– Черт возьми! Вы и вправду чудотворец.
Батюшков натер ему кремом покрасневшие от обработки участки живота. Дал тюбик и показал, будто ложится спать.
– На ночь. Бефор слип! Перед сном еще раз намажьте. На сегодня все.
Через неделю Окфельдер стоял перед ним, как большой мяч, из которого выпустили воздух. Морщинистые розовые складки тела местами висели, как тряпки. Босс смотрел на себя в большом настенном зеркале. Не было одышки. Радость и удовлетворение были на его все еще тестообразном полном лице, которое Батюшков не обрабатывал.
– Браво, док! Я словно заново на свет родился.
Иван Петрович подал ему два тюбика успокаивающего крема.
– Мажьте утром и вечером. Эти складки рассосутся. Тело войдет в норму.
Окфельдер прошелся нормальным шагом по комнате:
– Я дышу! Гарри, вы видите, как я дышу?
Гарри был счастлив не меньше самого босса.
– Вы помолодели на сто лет, босс!
Хозяин натянул спортивный костюм и поманил Батюшкова идти за ним. В кабинете он открыл сейф. Достал две пачки по десять тысяч новеньких долларов, подал их Ивану Петровичу и торжественно произнес:
– Окфельдер высоко ценит ваше искусство! Это вам помимо контракта. – И тут же, очевидно вспомнив о своих неотложных делах, согнал с лица улыбку и скомандовал: – Гарри, отвезите дока!
Катя
Пока шло становление холдинга «Батюшков и К°», Иван Петрович, занятый делами, не обращал внимания, не вникал в жизнь Кати и Андрея. Ходят в кино, в театры, где-то проводят вечера – вот и хорошо, пусть радуются вольнице. Но и у него появились, наконец, свободные вечера, и он с удовольствием проводил их в своем уютном, комфортабельном коттедже, наслаждаясь тишиной, удобствами быта, красивой мебелью, красивыми видами с балкона в сад, окружающий особняк. Вот в эти счастливые вечера отец не раз обнаружил у своих деток неприятное и неожиданное новшество – от них попахивало спиртным. И вообще, они приходили с вечеринок какие-то другие – развязные, болтливые, сумбурно жестикулирующие. Решил поговорить с ними прямо, без обиняков:
– Что-то вы, детки мои, не туда идете, не туда заворачиваете.
Катя остановила на нем удивленные глаза:
– Что ты имеешь в виду, фазер?
– Попахивает спиртным, это может войти в привычку и плохо кончиться.
Катя беззаботно махнула рукой:
– Не напрягайся, фазер, мы коктейлями балуемся, крепких напитков не принимаем. На дискотеке надергаешься, душа холодненького просит. А в коктейле соки, лед, ну и чуть-чуть виски.
– Смотрите, ребятки, все начинается с этого «чуть-чуть».
Андрей не оправдывался, он на дискотеку ходил изредка, все время помогал отцу, старался и вникал в дела холдинга.
На этом разговор кончился. Но продолжались Катины коктейли. Причем явно прогрессировали.
Однажды Иван Петрович попросил Андрея:
– Своди-ка ты меня на эту дискотеку.
– Может быть, не надо, па?
– Почему?
– Расстроишься. Переживать будешь.
– Нет, я должен увидеть и понять, что происходит с Катей.
Не откладывая, в тот же вечер направились на танцы. Вход в дискотеку пылал рекламными огнями, они мигали, прыгали, гасли и загорались в ритме джазовой музыки, которая вырывалась из входа.
В огромном пространстве, похожем на ангар с балками и арками, поддерживающими крышу, сразу у входа бар сверкал яркими бутылками и посудой. За стойкой в красной рубашке, полыхающей, как огонь, в электрической подсветке, манипулировал бармен. Он, как жонглер, ловко крутил, подкидывал и ловил смеситель для коктейлей.
В дальнем углу, на ярко освещенной эстрадной площадке, издавала невероятно громкие звуки и колотила в барабан группа из пяти дергающихся фигур. Все, что они извлекали из своих инструментов, усиливалось спецтехникой, подвешенной вокруг гладкой, блестящей площадки, на которой в ритме музыки дергались пары. Танцующими их назвать нельзя – это были конвульсии с беспорядочным выделыванием вензелей ногами и руками. Да и в пары они сходились на некоторое время, когда слипались и терлись в экстазе, особенно теми местами, где под одеждой скрыты половые органы. Потом они отскакивали и дергались поодиночке. И опять слипались и терлись, терлись, терлись. Иван Петрович вспомнил: в молодости он бывал на танцплощадках, там тоже прыгали в фокстротах и румбах, но как-то по-другому, без похоти. А когда в плавном танго один его приятель очень плотно привлек к себе партнершу, Лиза шутливо шепнула Ивану:
– По-моему, после этого он должен на ней жениться.
Иван Петрович показал Андрею на трущихся в сексуальной истоме и пересказал ему шутливую фразу Елизаветы:
– После этого полагается жениться.
Андрей даже не улыбнулся, серьезно пояснил:
– Здесь это не обязательно, когда становится совсем невтерпеж, идут туда и трахаются.
Иван Петрович не понял:
– Как это?
– Вон, смотри, справа дверь за занавеской и слева такая же. Входят с разных сторон. Там небольшой холл, в нем сидит кассирша. Платишь десять долларов за сеанс, берешь презерватив и входишь в темную комнату, где ждет партнерша, которая так же вошла с противоположной стороны. Мрак абсолютный. Находят на ощупь. И трахаются. Там для этого поставлен диван. И все в порядке, не нужно никакой свадьбы.
Иван Петрович онемел от этих подробностей. Андрей продолжал:
– Больше того. Могут в этой комнате встречаться не только те, кто договорился. Любой, кому захотелось трахнуться, может заплатить десять долларов и встретиться с незнакомкой, тоже жаждущей секса. Трахнулись и разошлись. И не знают, кто был партнером. Романтика. Многим нравится.
– И ты заходил?
– Попробовал…
– Ужасно… Неужели и Катя там бывает?
– Не знаю. Я ее об этом не спрашивал…
– Но ты брат! Должен оберегать ее нравственность.
– От кого? Здесь такая жизнь. Здесь все можно. Полная свобода личности.
– Но это же скотство. Так только собаки под забором случаются.
– Ты старомоден, па.
– А ты почему этим не увлекся?
– Я буду всегда рядом с тобой.
Отец ощутил прилив радости от этих его слов. Но то, что сказал сын дальше, его ужаснуло:
– Я буду с тобой – делать деньги!
При этом у него были такие холодные и чужие глаза, каких отец прежде никогда не видел.
Но сейчас было не до сантиментов, отец сказал:
– Надо спасать Катю. Надо ей запретить…
– Поздно, папа. Ей эта жизнь очень понравилась.
– Разве это жизнь? Что ждет ее в будущем?
– То же, что всех этих парней и девушек. Перебесятся, станут порядочными, трудолюбивыми американцами, бизнесменами, торговцами, врачами, клерками, шоферами. И спутников жизни найдут, и семьи будут у них хорошие. В общем, не сомневайся, па, в Америке все, как в фильмах, кончается хэппи эндом.
– Нет, я так не могу. Я должен серьезно поговорить с Катей.
И поговорил. В тот же вечер увел ее за руку с дискотеки. Она, потная, раскрасневшаяся, сопротивлялась. Но он властно сжал ее руку и привел домой.
– Ты что, совсем очумела в этой Америке?
– Не понимаю, о чем ты?
– Я все видел. Андрей рассказал мне о темной комнате. Это даже не проституция, а что-то еще более мерзкое!
– Не знаю. Не пробовала. Но раз ты говоришь с таким осуждением, надо обязательно попробовать.
Батюшков не узнавал свою дочь. У нее были наглые, немигающие глаза. Ни малейших проблесков совестливости, не говоря уж об уважении к отцу. У нее были глаза нахальной, гулящей девки.
Иван Петрович чувствовал – сейчас его расшибет инфаркт. На его глазах погибала дочь, и он не может ее спасти. Рушилось все! Благополучие, созданное в Штатах таким трудом. Никчемным становится широкое применение своего изобретения. Поток денег! Будь они прокляты! Из-за погони за долларами он теряет детей. Он сам привез их в эту клоаку! Господи, накажи меня! Пошли мне смерть!
В груди страшно, как ножом, резануло, и Иван Петрович упал, потеряв сознание. Дети кинулись к нему. Подняли. Положили на диван. Они не знали, что делать. Катя махала платком. Андрей расстегивал пуговицы на сорочке отца.
– Это все из-за тебя! – прорычал Андрей.
– Нет, из-за тебя! Зачем ты его привел на дискотеку?
– Вызывай скорую!
– Я не знаю, как это делается в Америке.
– Надо звонить Тому, он все знает.
Позвонили. Том действительно знал, что надо предпринимать. До его приезда уже примчался врач, пожилой господин при роговых очках, с традиционным докторским баульчиком. Он быстро осмотрел, ослушал пациента. Достал шприц, наполнил его из ампулы лекарством и деловито сказал:
– Это очень дорогой препарат. Кто будет платить?
Андрей закричал и замахал руками:
– Да колите скорее! Мы за все заплатим.
Доктор сделал укол в предплечье отца.
– Сейчас ему будет лучше.
И действительно, Иван Петрович открыл глаза. В эту минуту ворвался в комнату Том. Он с порога закричал:
– Что случилось? – Увидев доктора, кинулся к нему: – Доктор, делайте все возможное. Этот человек стоит миллионы долларов. Делайте все возможное и невозможное. Я все оплачу!
Иван Петрович попытался сесть. Но доктор остановил его и тихо сказал:
– Полный покой. Не вставать. Не ходить. Завтра утром я приеду.
Том пытался узнать у Кати и Андрея:
– Как и почему это случилось?
Но они пожимали плечами:
– Вошел в комнату и вдруг пошатнулся и упал.
– Переутомился, – заключил Том. – Это я виноват, надо было заботиться и о его отдыхе.
* * *
Правильно гласит русская пословица: «Пришла беда – отворяй ворота!» Как беспощадный, все разрушающий цунами беда обрушилась на холдинг «Батюшков и К°». Все началось с публикации в местной газете в Майами статьи на первой полосе под заголовком огромными буквами: «Очередной удар русской мафии», и буквами поменьше на той же полосе другой подзаголовок: «Русский мафиози Батюшков обирал американцев под личиной профессора».
И дальше излагалось, как этот самый лжеученый, обещая легкое похудение путем избавления от лишнего жира, на самом деле обманывал людей, брал у них доллары за лечение и вводил под кожу какую-то дрянь, от которой у людей начинались нарывы, нагноение, и даже угрожала смерть от заражения крови.
На холдинг немедленно наложили арест. Заморозили счет в банке. Опечатали помещения в клинике. Около лаборатории поставили полицейский пост.
Иван Петрович был в полной растерянности, не мог понять, что происходит. Прибывшему следователю он сказал:
– Я не имею никакого отношения к лечебнице в Майами. Это, наверное, какие-то аферисты решили подработать под нашей маркой.
На это следователь показал Батюшкову документы об открытии лечебницы, рекламу, контракты, заключенные с пациентами и иски этих пациентов, поданные ими в суд за ущерб, причиненный их здоровью. Иски были со многими нулями от каждого, потому что вопрос шел не только о здоровье, но даже о жизни.
Иван Петрович, взволнованный и растерянный, обратился к Тому Колдеру:
– Объясните, что происходит?
Том утратил свою обычную веселость и порывистую энергичность. Он опустил глаза и тихо сказал:
– Бес попутал. Это я открыл филиал в Майами. Хотел большие деньги заработать. Там курорт, на пляже тысячи толстых женщин, которые за хорошую фигуру готовы выложить пачки долларов.
– Но что вы им вводили? Вы же не знаете состав моего растворителя, – воскликнул Иван Петрович.
– Вот это нас и подвело. Я посоветовался с врачами. Они вроде бы составили какой-то эликсир, но, как видите, получился полный провал. Я очень виноват перед вами, Иван Петрович. Но я же спасу вас, не сомневайтесь. Вы знаете, у меня голова полна очень изворотливыми мозгами.
Спасение не получилось. Улики мошенничества были неопровержимые. После недолгого расследования состоялось несколько заседаний суда в Нью-Йорке, потому что главный офис холдинга был здесь. Несмотря на заявление Батюшкова, что он не имеет отношения к лечебнице в Майами, и предъявленные им отзывы и фотографии пациентов, которых он лечил в Нью-Йорке, суд вынес решение закрыть холдинг «Батюшков и К°» как несоответствующий заявленному статусу. Деньги на счету холдинга обратить на удовлетворение исков пострадавших пациентов и на уплату арендной платы за все помещения холдинга, а также личного жилья, автомобиля и другого имущества президента холдинга Батюшкова.
Газеты неделю покричали о русской мафии, которая продолжает проникать в Соединенные Штаты, и забыли об этом скандале, появилась новая сенсация, какой-то маньяк убил подряд четырех девушек и где-то на свободе подкарауливает новые жертвы.
Наступила для Батюшкова тишина, пустота и полная неизвестность о том, что его ожидает в будущем.
* * *
Иван Петрович предполагал, что Колдер будет избегать встреч после краха, который произошел по его вине, но Том, как ни в чем не бывало, пришел после завершающего заседания суда и непринужденно, как бывало прежде, сказал:
– Профессор, не отчаивайтесь, все уладится! Перемелется – мука будет.
– Мэка уже есть! – поправил его Батюшков, изменив ударение в слове мука.
– Вы еще раз подтверждаете свою полную некомпетентность в бизнесе. Обанкротился холдинг «Батюшков и К°», появится новый холдинг «Том Колдер и К°». Это вы обанкротились, а я чистый, через месяц зарегистрирую свой холдинг. Теперь я буду босс, а вы у меня станете главным врачом с правами компаньона. Я вам, кроме приличного оклада, предусмотрю в контракте 30% годового дохода. Буду более щедрым, чем вы с вашими 20% за все мои хлопоты.
– Двадцать процентов не я, а вы назначили. Теперь они на вашем личном счету сохранились полностью, а мой счет арестован, и деньги уходят на оплату кредитов за поликлинику, гостиницу, ресторан, мой коттедж и все прочее, что вы организовали за мой, а не за свой счет.
Не моргнув бесстыдным глазом, Колдер ответил:
– Вот и хорошо! Если бы холдинг «Батюшков и К°» был оформлен на нас обоих, у нас сегодня ничего не осталось бы! Я это предвидел. Вы погорели, а я на плаву! Мои деньги целы. Мы откроем новый бизнес. Через год все неприятности позабудутся. Женщины обязательно придут к вам со своими жирными телесами. Деньги опять поплывут рекой. И заживем мы счастливо в Америке – стране чудес.
– Нет уж, увольте! Мое имя скомпрометировано. Как я буду людям в глаза смотреть?
– Вам надо честное имя? Пожалуйста! – воскликнул Том. – Подайте на меня в суд. Банкротство произошло по моей вине? Так? Вы ничего не знали об открытом филиале. Претензии больных – к моей незаконной лечебнице. Хотите, я создам из ваших пациенток «Комитет защиты Батюшкова», устрою пикетирование суда студентами, которые будут носить плакаты «Руки прочь от Батюшкова», «Не позорьте американскую свободу и демократию»? Это будет мне стоить немалых денег, но, чтобы загладить вину перед вами, я согласен на эти расходы. Вы мне нужны, без вас у меня ничего не получится. Я уверен, вы выиграете. Суд вернет ваше доброе имя. Согласны?
Батюшков поразился не только изворотливости, но и бессовестности бывшего партнера.
– И я буду в суде обзывать вас мошенником и подлецом?
– Пожалуйста, называйте, кем хотите. У меня с этого, как говорится, не убудет.
– Нет уж, я не умею так изворачиваться. Судебная тяжба, допросы, очные ставки, адвокаты, корреспонденты, газетные сплетни – это не по мне.
– Ну, тогда остается мой вариант – будете на меня работать. Иного выхода у вас нет. Вы на мели. Если я не заплачу очередной взнос за особняк, вас с детьми вышвырнут на улицу и станете вы бомжом, потому что у вас нет денег не только на отель, но даже завтра пообедать.
Иван Петрович сознавал – Том абсолютно прав, нет не только денег, но даже близкого человека, у которого можно было бы взять взаймы. О банке говорить нечего – банкроту никто не даст. Вот как получилось: целые дни на работе – деньгу гнал! И остался без цента. Даже друга не завел за эти годы. Прав Колдер – завтра я бомж.
После долгой и тяжелой паузы Иван Петрович сказал:
– Америка, страна чудес, обокрала меня до костей: дочь – шлюха, сын – алкоголик, я – нищий.
Том холодно, на этот раз без улыбки:
– Насчет детей: вы сами виноваты. Вы отец, ваше воспитание. Надо было обращаться построже. Обдумайте мое предложение. Ваше благополучие в ваших руках.
И ушел, кивнув официально.
Обдумав и взвесив все «за» и «против», Батюшков решил: единственный выход – вернуться на родину. Благо не отказался от советского гражданства, а дети, как несовершеннолетние, еще вписаны в его паспорт.
Вечером Иван Петрович завел разговор с детьми. Объяснил, в каком положении он и они оказались. Спросил:
– Что скажете насчет возвращения домой, к маме?
Катя ответила немедленно, еще казалось, вопрос отца звучал в воздухе:
– Я не поеду! Я остаюсь в Америке! Мне здесь нравится.
Андрей ответил не сразу. Подумал и, как бы продолжая размышлять, сказал:
– Мне тоже здесь нравится. Но я не могу остаться. У меня нет не только денег, но даже профессии. Мое будущее зависит от тебя. Я, надеюсь, наследник твоего дела. Когда-то ты мне откроешь тайну своего открытия, и я будут этим зарабатывать на жизнь.
– Ты прав, – оценил отец рассудительность сына. – Значит, ты едешь. А как быть с этой, – он показал на дочь, – финтифлюшкой? Оставить не можем. Она несовершеннолетняя, у нее нет документов.
Катя вскочила и закричала:
– Это ты финтифлюх, просрал миллионы. А я выйду замуж, будут у меня и документы, и фамилия, и американское гражданство…
И выбежала из комнаты.
* * *
Катя убежала из дома, прихватив деньги, которые были в ящике письменного стола. Деньги не большие, на еду недели на две. Как она будет жить одна? Пропадет, дурочка, в этом беспощадном американском омуте.
Но судьба дочери намечалась не так уж безнадежно. Об этом сказала сама Катя. Она позвонила по телефону и, явно бодрясь, защебетала:
– Папочка, прости меня, я взяла твои деньги, но мне они нужны хотя бы на первое время.
– А как ты собираешься жить дальше?
– Я выхожу замуж! Все будет о’кей, не волнуйся.
– За кого? Разве можно так скоропалительно?!
– Мы с Джимом давно знакомы. Я рассказал ему, что у нас случилось. Он меня успокоил – будем жить вместе.
– Кто он? Полагается родителей знакомить с будущем зятем.
– Он степ-мейкер.
– Что это значит?
– Артист, чечеточник. Не могу вас познакомить. Боюсь!
– Чего боишься?
– Он черный. Негр.
– Час от часу не легче, – вскричал Иван Петрович, – только этого нам не хватало!
Катя торопливо закончила:
– В общем, я не пропаду. А вы уезжайте. Маме скажи, что я ее очень люблю.
И в трубке раздалось пипиканье, отрезающее Катю, может быть, навсегда.
Где она? Кто этот чечеточник Джим? Расспрашивал Андрея. Он видел Катю с ним на дискотеке: очень черный, блестящий, как баклажан, с кудрявыми завитушками на голове. Больше ничего об этом негре не знает.
Сборы, суета, не отъезд, а, по сути, бегство из Америки закружили Ивана Петровича. Искать и что-то предпринимать для спасения Кати было бесполезно. Надо было не спускать глаз и с Андрея, как бы он по примеру сестренки тоже не решил остаться.
Возвращение
Иван Петрович и Андрей летели в Россию маршрутом, каким они прибыли в Америку: Нью-Йорк, Шеннон, Москва. Под самолетом медленно проплывали сначала океан, потом реки, леса Европы. Все было таким же. Только воспринималось это зеленое многообразие теперь совсем по-иному и даже прямо противоположно. На пути в США Батюшков смотрел на все с неба с восхищением, он открывал новый неведомый мир с его, как тогда казалось, огромными богатствами и возможностями. Радость предстоящей свободы, осуществления своего открытия окрыляли его. Нью-Йорк, как под вспышкой огромного фотоаппарата, ослепил, вызвал восторг, восхищение небоскребами и невообразимой толчеей на улицах людей и автомобилей. Полосато-звездный флаг трепетал на ветру повсюду, и казалось, звезды его искрятся и в глазах счастливых американцев. Город-гигант был освещен ярким солнцем и выглядел сказочным. Смотрел и не верил, что можно возвести такие громадные небоскребы.
Отъезд – полная противоположность: серенький, мелкий дождь, под которым сморщился, повис, как тряпка, звездный флаг. Люди и манекены в витринах улыбались одинаковыми мертвыми улыбками. Теперь Батюшков знал: сервис работников в аэропорту, в лайнере, белозубые улыбки, наглаженная красная спецодежда – все это тяжелое амплуа хорошего работника. За этим светлым фасадом втайне страх недоулыбнуться, вызвать недовольство клиента, шефа (хозяина) и, ужас, потерять работу, что хуже пожара в доме.
Европа под крыльями, когда самолет снижался, обходя грозовые облака, теперь выглядела одним перенаселенным городом с множеством чадящих труб и паровых извержений. Города, поселки, связывающие их дороги покрывали все видимое пространство, похожее на замусоренный двор огромного, изношенного предприятия. Только редкие реки пересекали эту неприглядную картину, да и они были серые, склеротические, их перехватывали тромбы плотин, электростанций, промышленных сливов.
И вдруг словно огромный занавес перед самолетом раздвинули – засияло солнце, запушистились мягкие белые облака, на земле зеленый простор, кудрявые малахитовые леса, голубые ленты речек. Ивану Петровичу стало легко на душе, он сказал Андрею:
– Границу перелетели. Смотри, какая благодать.
Андрей не ответил, скривил кислую мину, его явно не радовала потеря Америки.
В Шереметьево Иван Петрович из суматошного терминала шагнул в солнечную прелесть веселой Москвы.
Их встречала Елизавета. Она обняла первым Андрея. Потом, не отпуская его, немного отстранилась и пристально вглядывалась, не веря глазам, что это ее сын, такой большой, элегантный. Немножко чужой, иностранный, но свой родной, выношенный под сердцем. И она опять прижималась к сыну, дышала ароматом родной кровинки.
Потом она обняла Ивана Петровича, по-доброму, приветливо, ласково целовала его в обе щеки, держала его голову в своих руках. Иван Петрович тоже целовал жену, охваченный вихрем счастья, одна мысль металась и трепетала в сознании: «Господи, какое счастье! Господи, ничего на свете мне не надо – все у меня есть! Вот огромное счастье – Лизонька, Андрюша. Придет время, и Катя вернется».
Немного успокоясь, отмечал для себя: Лиза прекрасно выглядит, помолодела, похорошела. И слезы в ее глазах не те тусклые, которыми провожала, а веселые, с маленькими солнечными зайчиками. Батюшков ожидал увидеть жену постаревшей, согбенной от одиночества и тоски, а она вдруг такая цветущая, румяная, как в день свадьбы. И одета не в старое знакомое платьице, которое он тоже предполагал увидеть, а в новый светло-сиреневый костюм. И только туфельки из прошлого – ее любимые «лодочки», которые, как она говорила, всегда в моде. И туфельки эти, как и в молодости, подчеркивали, заставляли глядеть на красивые, стройные ноги Лизы.
Время радости всегда коротко, кончилось и это. Елизавета с тревогой спросила:
– Где Катя? Почему она не прилетела?
Иван Петрович молчал, не зная, что сказать. Ответил Андрей:
– Она осталась в Нью-Йорке.
– Почему? Как вы могли ее оставить?
– Не захотела возвращаться. Она теперь американка.
– Но ты, Ваня, отец, почему ты ей разрешил?
Иван продолжал молчать. Опять отвечал Андрей:
– Ее уговорить! Бзыкнула и убежала из дома. Ее с полицией искать нельзя. Мы сами полулегально уехали.
– Ну, ладно, – смирилась мать, – дома разберемся. Поехали домой.
– Сейчас я такси подгоню, – встрепенулся Андрей, но мать его остановила:
– Не надо такси, у меня машина припаркована на платной стоянке.
Иван Петрович удивился:
– Ты не одна? Кто в машине?
– Одна. Я сама за рулем. Наш старенький «жигуль» гоняю.
– Сама? Раньше ты к машине подходить боялась.
– Раньше многое было по-другому. Жизнь заставила, окончила автошколу, получила права. Вот, рулю не один год. В основном на наши шесть соток езжу. Из-за них и водить научилась. По электричкам да пешком, бывало, так намоталась, что на огород сил не оставалось. А «жигуля» освоила и теперь мчусь с удовольствием.
Машина оказалась опять же не той, какую ожидал увидеть Петрович, – не старенький, проржавевший по швам, а сияющая, как только что из магазина «шестерочка» слонового цвета. Жена объяснила:
– Мне ее в автосервисе отдраили, отшпаклевали и покрасили. И мотор у нее как часы работает!
– У тебя даже шоферский жаргон.
Андрей обошел «жигуля» и с грустью сказал:
– Примус. А у меня и Катьки были классные «форды» последней модели.
– Были, да сплыли, – усмехнулась мать. Ничего, этот примус нам еще послужит.
В квартире Ивану Петровичу открывались новые неожиданности – полная противоположность тому, что он здесь оставил и помнил. Как только открылась входная дверь, и он вошел в холл (именно, холл, а не коридор), перед его взором буквально распахнулась великолепная, в светлых тонах после евроремонта студия, а не прежние комнатки-клетушки. Стены между комнатами исчезли. Сияла веселая, светлая гостиная, она же столовая, она же кухня, да белели двери в спальни и санузел.
– Вот это да! – воскликнул Андрей.
– Нравится? – спросила мать.
Теперь пришло время отвечать Ивану Петровичу. Андрей онемел.
– Очень нравится. Не хуже, чем у нас в Америке. Даже лучше – это же наше, свое, а не контрактное. Как же ты смогла все это отделать?
– Ты мне деньги присылал. Вот я и решила выбросить все старые шкафы, тумбочки, этажерки, кровати скрипучие. Заключила договор с фирмой. И они мне все это «под ключ» оборудовали. Чтобы не терзаться от расставания со старой мебелью, сказала бригадиру: «Я буду жить на даче, когда закончите, позвоните по мобильнику». Оставила в одном углу твои книги и рукописи, альбом с фотографиями, посуду, одежду. Закрыла глаза и ушла из старой, занюханной квартиры и через два месяца вошла в эту, что вы видите.
– Ну, молодец! Ну, хозяюшка моя золотая! – восторгался муж. А жена наращивала свои заслуги:
– Увидишь, что я на наших шести сотках натворила – еще раз на мне женишься.
– Да мы с тобой и не разводились!
– Я говорю, еще раз женишься, раз я такая хорошая хозяйка. Ну, располагайтесь – ты, Ваня, иди в спальню, а ты, Андрюша, в твою с Катюшей совместную комнатку, она теперь рядом с туалетом. В ней ваши книги, тетрадки, игрушки я приберегла. Раздевайтесь, купайтесь с дороги. А я стол накрою.
– Может быть, в ресторан пойдем, встречу отметим? – предложил Андрей.
– Все, кончилась ваша ресторанная жизнь! – властно сказала мать. – Домой приехали! Дома все вкуснее, чище и дешевле. Теперь, как я понимаю, ваши миллионы тю-тю! Начинается, как говорили Ильф и Петров, жизнь «пролетариев умственного труда».
Новая, красивая, под красное дерево мебель не затмила воспоминания о прежних застольях: на столе манила селедочка «под шубой», грибки с луком, нарезанным колечками, ароматный винегрет и маринованная рыба. Все свое, домашнее, приготовлено золотыми руками женушки. Все это как раньше. Бутылочка «Столичной» объединяла живописный натюрморт закусок.
Выпили за благополучное возвращение. Елизавета предложила тост:
– За светлое будущее!
Иван Петрович выпил, закусил с наслаждением нересторанной снедью, а насчет будущего сказал:
– Станет ли оно счастливым? Не начнется ли волынка, от которой я убежал в Америку?
Жена махнула рукой:
– Теперь к нам пришла Америка! Полная свобода предпринимательства и болтовни в газетах и по телевидению. Откроешь свою лечебницу, и никто тебе не указ. Только не забывай платить налоги. Иначе загрызут.
– Неужели так просто?
– Нет, дорогой мой, совсем не просто, я не сказала о главном – нужны деньги. Надо для начала взять в аренду пару комнат в какой-нибудь поликлинике или в больнице, приобрести необходимую аппаратуру, мебель, белье. Ну и, конечно, дать рекламу в газетах. На все это нужны деньги.
– Ты же знаешь, мои счета в Америке заблокированы по суду. Денег у меня нет. Может быть, предложить мое открытие какой-нибудь больнице?
Жена возразила:
– Не в твоем характере быть зависимым. Тем более после такого размаха в США. Надо открыть свое дело.
– Но деньги?
– У меня кое-что лежит на депозите.
– Опять кредит! – воскликнул Иван Петрович. – А под какой процент и под какой залог?
– Не дури. Я тебе отдам все, что у меня есть. Для начала хватит. С тобой дело ясное. Вот как быть с Андреем?
– А что со мной? – спросил и тут же ответил сын: – Буду помогать папе, ассистировать. Он мне зарплату будет платить. Дай Бог ему прожить сто лет, но когда-то настанет время, и я стану наследником. А если откроет мне тайну своего растворителя, можем параллельно работать. Толстяков на наш век хватит. Если бы не эта тайна, я бы с ним сюда не вернулся.
Мать внимательно его выслушала и покачала головой:
– Нет, сынок, все это несбыточно. Прежде всего тебя забреют в армию. Тебе сколько лет?
– Восемнадцать.
– Вот то-то! Призывной возраст. Ты гражданин России, и повестку тебе пришлют очень скоро.
Андрей даже вскочил:
– Может быть, и в Чечню воевать пошлют?
Мать спокойно осадила его:
– Может быть. Сядь. Ты должен срочно поступить в институт, где дают отсрочку от военной службы или готовят офицеров запаса.
– Куда я поступлю! – почти кричал Андрей. – Кто меня примет. Я несколько лет болтался в Америке. У меня нет аттестата и образования, необходимых для сдачи экзаменов в институт. И зачем я приехал в эту чертову страну!
Тут уж взвился Батюшков-старший:
– Не смей так говорить о своей родине. Ишь какой космополит у нас в доме объявился.
Андрей не сдавался:
– Да, космополит, не нужна мне ни Россия, ни Америка. Открой тайну, и я создам свое дело в любой стране, хоть в Европе, хоть в Африке. Я смогу. Я видел, как ты раскручивал дело с Томом. У меня получится, только секрет открой.
Елизавета молчала. Молчал и Иван Петрович. Он думал. Наконец, сказал:
– Секрет я тебе не открою, ты еще не созрел. Ты легкомысленный человек. Секрет разболтаешь, или выманит у тебя какая-нибудь смазливая девка. Будешь работать со мной. Повзрослеешь, посмотрим.
Елизавета облегченно вздохнула:
– Ну, все. Проблемы разрешили. Одевайтесь. Повезу на дачу. Хочу показать вам все сразу, сегодня же.
Около машины Андрей попросил:
– Мам, может, я поведу? Соскучился без баранки.
– Нет, Андрюша, присмотрись, вспомни правила, а потом посмотрим.
– У меня права международные. Я на своем «форде», знаешь, как гонял?
– Не знаю и знать не хочу. Здесь не погоняешь – пробки на всех улицах, а за городом гаишники на каждом перекрестке. На штрафы денег не хватит. Гаишник всегда прав.
Жена вела «жигуль», не торопясь, умело перестраивалась в пробках, давала газу при первом же просвете на дороге впереди. Иван Петрович не верил глазам!
Когда приехали в свое садово-огородное товарищество, Батюшков не узнал это место. Когда разметили поляну по шестисоткам, была она жалкая, голая, с белыми колышками, как с крестами на неухоженном кладбище. Потом кто-то притащил железнодорожный большой контейнер, пробил в нем окна и приспособил под жилье. Стали появляться домишки, похожие на уголки для отдохновения. Скорее, это была добровольная трудовая повинность – ковырялись дачники в матушке-земле до полного изнеможения. И вот открылось взору сплошное садовое раздолье. Лето подходило к концу. Деревья, усыпанные плодами, стояли плотным, ароматным массивом: больше всего яблонь, у которых нижние ветви, отягощенные плодами, согнулись до земли, груши, сливы, яркие, как с бусами, рябины. Все это скрывало садовые домишки, только кое-где торчали островерхие крыши.
Елизавета остановила машину у красивых ворот, сваренных из толстых прутов и покрашенных зеленой краской. Распахнув такую же ажурную калитку, Елизавета широким жестом пригласила:
– Прошу к моему шалашу!
Иван Петрович не верил своим глазам – в яркой зелени деревьев стоял красивый двухэтажный домик, облицованный солнечного цвета вагонкой. Домик просто сиял, улыбался навстречу своим хозяевам.
– На какие шиши? – спросил Петрович.
– На твои.
– Но разве их хватило на жизнь и на стройку?
– Хватило. А дом я не строила, наш старый перепланировала внутри да вот еще и вагоночкой украсила.
На даче жена, как и в квартире, избавилась от старой мебели и разной рухляди, которая захламляет.
– То ли жадность, то ли вечное удерживающее – может еще пригодиться! Преодолела я этот тяжкий пережиток, раздала соседям и просто выбросила, что не хотели брать. И вот, смотрите!
Смотреть, собственно, не на что. Глазам открывалась просторная, светлая комната. Нет занавесок на окнах, солнце заливает все свободное пространство. Огромный солнечный, не зайчик, а золотой квадрат на крашеных досках пола. Только в дальнем от двери углу, рядом с камином два мягких кресла и торшер. Кухонный уголок отгорожен легкой стойкой. За ней столик и стулья для трапезы.
– Наверху твой кабинет и наша спальня. Ребята, когда останутся с ночевкой, будут спать здесь, внизу. Ну, что скажете? – не скрывая гордости, спросила хозяйка.
– Восхитительно! Ты настоящий дизайнер! – с восторгом сказал муж.
– А ты что молчишь? – спросила мать Андрея.
Он скривил губы:
– Курятник! По сравнению с тем, что мы имели в Америке, – курятник!
Мать не обиделась:
– По одежке протягивают ножки.
Отец пожурил Андрея:
– Как тебе не стыдно! Мама так славно потрудилась. Ты не курятник – труды ее оценил бы.
– Я ничего. Понимаю. Извини, мама, я не хотел.
– Вот и прекрасно. Сейчас будем чай пить. Из колодезной воды. Это вам не водопроводная вода с хлоркой.
Еще в городской квартире Ивана Петровича охватило ощущение счастья: настоящего, простого, человеческого. На даче это чувство расширилось до блаженства!
Пили чай с какими-то пахучими деревенскими травками. Сама в лесу собирала. Лакомились вареньями из малины, земляники, крыжовника (сама варила эти ароматнейшие сладости).
После чая сели к камину. Разжигать заготовленные в нем дрова не стали. Тепло. Некоторое время молча наслаждались тишиной, смолистым запахом сосен, который струился в раскрытые окна. На соседнем участке звонко смеялись играющие дети.
Иван Петрович испытывал не только обновленную разлукой любовь к жене, но и огромное уважение к ее порядочности. Ждала! А он не обнадеживал возвращением. Могла обидеться, плюнуть на него, жизнь-то проходит. Вышла бы замуж: собой еще хороша. Не зря говорят: «В сорок пять баба ягодка опять!» К тому же приданое по московским меркам солидное. Но ждала и надеялась! Иван Петрович привлек к себе жену и нежно поцеловал в висок, погладил по волосам. Ему вдруг стало очень обидно за нее. После стольких трудов услышать от сына прямое оскорбление. Андрей все время молчал, он явно не мог смириться с потерей американского благополучия. Ивану Петровичу захотелось еще раз заступиться за жену, напомнить Андрею о его легкомыслии. Он тихо, не обращаясь к сыну, сказал:
– Курятник, говоришь? А что у нас было в Америке? Ничего своего. Все в рассрочку, по контрактам. Не наше. Чужое. И доказательство тому, что потеряли все в один день. Все: и дом, и дачу, машины, клинику, гостиницу. Все. И деньги в банке. Деньги, честно мною заработанные. А здесь все наше, свое. Не богатое, но прекрасное. Имеем все, что нужно для спокойной жизни и работы. Наше, законное, незыблемое.
– Если бы тебя не обжулил Том, все было бы о’кей по сей день, – упрямился Андрей.
– Если бы! Вот в том то и дело. Там деньги и только деньги двигают поступками людей. Из-за денег теряют совесть, честь. Убить могут!
– А здесь разве другое? – возразил Андрей. – Тоже за деньги убьют, ограбят, обманут.
– Правильно, – согласился отец. – Потому, что у нас теперь американские порядки. И нам придется с волками жить – по-волчьи выть. Тем более что мы кое-чему научились в Штатах.
Елизавета высказала свое мнение:
– Надо жить по-новому, но и не поддаваться зарубежному психозу. На работе трудиться с американским напором и деловитостью. А после работы, в доме – по нашим русским, доброжелательным, неторопливым законам. Я бы назвала это – вразвалочку, не торопясь, но поторапливаясь. Дома надо отдыхать, гулять, дышать, заниматься чем-то любимым, читать, смотреть телевизор, просто валяться на диване. Главное, в доме должен быть мир и покой.
Остались ночевать на даче. Давно, пожалуй, со дня отъезда в Штаты не испытывал Иван Петрович этого мира и покоя. Там вся жизнь была на нервах, какая-то бесконечная погоня за деньгами, страх перед какими-то неожиданными неприятностями.
В постели, ощутив рядом теплую, родную Лизочку, почувствовав через запах ее духов еще и аромат ее здорового, горячего тела, Иван Петрович вдруг икнул, останавливая ком, подкативший к горлу. Жена тут же склонилась над ним:
– Что с тобой, Ваня? – ощутив влагу на его глазах, удивилась: – Ты плачешь?
– От счастья, моя дорогая, от полного, переполняющего меня счастья. Сегодня я люблю тебя больше, чем в брачную ночь.
– Тогда тоже нам было хорошо. Главное, что я поняла за эти годы: все зависит от нас. В том числе и счастье! У нас все есть для этого счастья – ты у меня, я у тебя!
Реставрация. Письмо от Кати
В Штатах и особенно у Тома Колдера Батюшков многому научился. Возвратясь в Россию, он сам стал настоящим предприимчивым, как американец. Знал, где и как оформлять новую фирму. Назвал ее частным медицинским предприятием «Батюшков и К°». Все формальности оформил быстро чиновник, которому было дадено «на лапу».
В районной поликлинике, ближе к квартире, Иван Петрович взял в аренду несколько комнат, отгородил их от общего коридора и сделал свой отдельный вход с торца здания. Здесь же повесил вывеску, не броскую, с традиционной медицинской змеей и чашей. Договоренность об аренде тоже состоялась быстро, потому что кроме арендной платы Батюшков обещал лично начальнику поликлиники ежемесячный «конверт» с определенной суммой и опять-таки «на лапу» предложил конверт с солидным авансом. В две недели отремонтировал и обставил свою половину. На комнатах появились таблички: «Главный врач Батюшков И.П.» Рядом приемная, где работала Елизавета Николаевна. Она принимала клиентов, разъясняла им условия контракта и правила поведения до и после операции. Устанавливала очередность и вела бухгалтерию. На этот раз величину гонорара она не определяла на глаз, как это было при первых опытах мужа, плата была определена в зависимости от количества сеансов, то есть степени ожирения клиента. Две операционных, в одной принимал сам Иван Петрович, в другой – Андрей, который приобрел достаточный опыт еще в Нью-Йорке.
Не забыл Иван Петрович и о рекламе, и о тюбиках с кремом – дооперационным и послеоперационным. Помнил слова Тома – с двух тюбиков больше в кассу капает. Тюбики заказал Андрей на фирме, которая изготовляла косметику и разные кремы для ног, для рук, для белизны и нежности лица и даже для загара. Тюбики со своим логотипом «Батюшков и К°», содержимое их отличалось лишь цветом и запахом: один розовый – и запах в нем розы, другой зеленоватый – и запах в нем мятный. Кремы действительно помогали смягчать тело перед процедурой и успокаивали после нее. Хотя содержимое в них было идентичное, но это, как говорится, был секрет фирмы. Накапывало за эти тюбики немало, и в этом заключалась их главная польза. Гостиницу и столовую Батюшков не открыл, не хватало денег. На то, что было создано, ушел весь кредит, который был взят в банке, под залог квартиры. Очень боялся Иван Петрович кредитных и залоговых обязательств, помнил, как в Америке в один день лишился всего из-за невозможности оплачивать проценты по этим проклятым кредитам. Но для открытия нового предприятия иного выхода не было, пришлось заложить квартиру. Батюшков был уверен – дело пойдет, деньги потекут, как Штатах. И он не ошибся. Добрая слава о его чудесном избавлении людей от лишних жиров распространялась широко и быстро даже без рекламы. Клиенты ожидали очереди месяцами. Надо было расширять клинику. Никаких препятствий к тому не было. Правда, мучили мелкие блошки: инспекторы – противопожарные, санитарные, налоговые, но они, получив мзду, оставляли в покое на некоторое время.
В общем, права была Елизавета Николаевна, сказав однажды:
– Не надо было тебе убегать, Америка сама к нам пришла.
Теперь об Америке вспоминали, только беспокоясь о судьбе Кати – как она там? Больше года прошло, а от нее нет вестей.
И вообще, как-то не ладилось с детьми: Катя за океаном, Андрей, хоть и рядом, но странная у него складывается жизнь. Родителей вроде бы слушается, особенно отца, ему никогда не перечит. Но какой-то он замкнутый, себе на уме. Свой и в то же время непонятный. То, что тайком регулярно выпивает, это известно, и не велик грех, лишь бы не спился. Но он увлечен работой и особенно дорожит заработком. Поэтому сдерживается насчет алкоголя, опасается – руки будут дрожать, и отец может отстранить от лечебных процедур.
Настораживало родителей и другое. Андрей уже не только зрелый, но даже перезрелый для женитьбы мужчина. Здоров, красив, все при нем. В отца – рослый, широкоплечий – Аполлон! А избранница у него не появляется. И не потому, что он к женщинам равнодушен. Совсем наоборот! Женский вопрос как раз и беспокоил родителей. Андрей во время лечебных процедур видит много голых женщин. И приходят не только пожилые толстухи, но и молодые, совсем еще не безобразные дамочки и даже девушки, они хотят подправить фигуру. Андрей, как искусный скульптор, формирует им бедра и попочки, по их желанию. А у некоторых пациенток, кроме скульптурных потребностей, возникают и сексуальные желания. И Андрей кое-кому не отказывал. Знакомство продолжается и после лечения. Ну, ладно бы увлекся одной из них по-настоящему, женился бы, так нет, избаловался, на одной остановиться не хочет. Тем более выбор большой. Надоела очередная, других пруд пруди! И лежат они перед ним голенькие, соблазнительные, одна другой лучше.
Вот так и разбаловался. Родители стали беспокоиться. Мать однажды с намеком пошутила:
– Ну, ты, петушок, долго еще будешь курочек топтать? Смотри, для заведения потомства сил не останется.
Андрей покраснел, насупился:
– Ты что, мама. Зачем такое говоришь?
– Затем, что жениться пора. Мне уже внуков понянчить хочется. Катя, видно, навсегда пропала. На тебя одного надежда. А все никак не определишься. Про бабу говорят: по рукам пошла, а о тебе как сказать?
Андрей замкнулся. Махнул рукой, ушел, не ответив.
Отвлекать Андрея от соблазнов родители решили загрузкой делами. Отец пригласил его в кабинет, подчеркнув тем самым официальность разговора, и сказал:
– Займись-ка ты созданием отеля со столовой, как в Штатах у нас было. Найди поблизости небольшую гостиницу, оформи аренду и преврати ее в наш приклинический пансионат.
Наконец пришло письмо из Нью-Йорка. Первое за минувший год. Родители после сокрушительных предположений о судьбе Кати постепенно смирились с мыслью о ее гибели. Целый год ни строчки, ни звонка по телефону. И вдруг это послание. Елизавета Николаевна вскрывала конверт дрожащими руками, хотя адрес, написанный знакомым Катиным почерком, обнадеживал – жива!
А письмо дочери было в духе ее быстрого говорка:
«Здравствуйте, дорогие, любимые папа, мама и Андрюша!
Я жива, здорова, счастлива! Родила сыночка! У нас с Джимом теперь шоколадный мальчик. Решили в честь тебя, папа, назвать Ваней. Джим произносит это имя с мягким знаком – Ванья. Ванечка не такой черный, как Джим, и не такой белый, как я. В общем, кофе с молоком. Чудесный парень! Дрыгает ножками, как папа, наверное, тоже будет степ-мейкер! Я уже степ-мейкерша, выступаю с Джимом в ресторанах. У меня, кроме степа, хорошая фигура. Ваню, как только начнет ходить, начнем тренировать степу. Будет у нас потрясающий номер. Представляете: выходим мы с Джимом под ритмичную музыку, на руках у меня завернутый в одеяло ребенок. Ему будет годика три-четыре, но в одеяле он будет одет, как малютка, в памперсах, на ножках пинетки с бантиками, но подошвы у них твердые для чечетки. И вот младенец вскакивает на столе и вместе с нами начинает бить степ! Успех будет потрясающий! Нас будут приглашать нарасхват! Мы хорошо заработаем. И тогда пригласим вас в гости.
Я вас обнимаю и целую! Джим и Ванюша тоже.
Ваша взбалмошная дочь – Катя».
Ну, слава Богу, жива, с облегчением вздохнула Елизавета Николаевна, даже пошутила:
– Пусть даже шоколадный, но все же наш внук. И назван хорошо – Ванечка!
Рэкетиры. Сердечный приступ
Лечебное учреждение «Батюшков и К°», наконец, заработало в полном объеме: основной операционный корпус сверкал стерильной чистотой, белой мебелью и белым фирменным оборудованием. Гостиница и кафе-столовая являла собой нечто среднее между санаторием и отелем. Клиенты записывались на очередь за месяц. Андрею купили по его выбору джип «Чероки». Елизавета Николаевна отказывалась менять на иномарку своего «жигуленка».
– Бегает отлично. Меня слушается. Привыкла я к нему.
Для себя Иван Петрович машину покупать не захотел. На дачу ездил с женой на «жигуленке», по делам возил Андрей на своем красивом джипе. И вообще, некуда ездить – с утра до вечера Иван Петрович, как он сам шутил:
– У станка, жир выкачиваю, деньги накачиваю.
В общем, дела шли очень хорошо. Но Иван Петрович почувствовал усталость. После того как Андрея перевели на отель, основная нагрузка легла на Батюшкова-старшего. Жена помогала по линии административных обязанностей. Мужу она советовала:
– Подготовь двух-трех, а может быть, даже пятерых операторов. Все равно придется расширяться. Желающих лечиться все больше и больше. Пусть операторы под твоим наблюдением трудятся. А ты отдыхай – заслужил. Такое дело наладил! Теперь, слава богу, деньги есть и перспективы прекрасные.
Елизавета Николаевна была права – все было на взлете. Будущее просматривалось еще лучезарнее.
Но оказалось, это видели и понимали не только Батюшковы.
Однажды вечером, когда все сотрудники закончили рабочий день и разошлись по домам, Иван Петрович сидел в своем кабинете, к нему вошли двое. Они были одеты в кожаные куртки, под которыми выпирали накачанные мускулы. Физиономии и особенно глаза у них были весело-иронические. Один – белобрысый, голубоглазый, второй – черный, явно «кавказской национальности». На лицах у них масок не было, но и без этого ясно – рэкетиры, «братки», какими их обычно показывают в детективных сериалах.
Они сели на стулья напротив Ивана Петровича, развязно развалились и продолжали иронично смотреть на Батюшкова.
Наконец, белобрысый молвил:
– Иван Петрович, мы вас не беспокоили, пока вы налаживали фирму. Теперь у вас все о’кей. Бабки загребаете приличные. Нехорошо одному жить хорошо! Пора делиться.
Иван Петрович понимал, с кем имеет дело и на что они намекают, но все же спросил:
– О чем вы говорите? Кто вы? Почему считаете возможным предъявлять мне какие-то требования?
– Все ты, Иван Петрович, понимаешь!
Переход на «ты» и холодок в голосе показывал, что визитеры дальше шутить не намерены.
– Твоя фирма в нашей епархии. Ты должен платить ежемесячно двадцать процентов от своего дохода. Мы много не берем. Понимаем, тебе тоже надо крутиться.
– Но с какой стати?
– Такой порядок, Петрович, не прикидывайся и не жмотничай. Двадцать процентов назначил наш шеф сегодня. Будешь упираться – завтра процент увеличится до тридцати. Ну, а если вообще откажешься или, не дай бог, вздумаешь заложить нас, твоя лечебница сгорит, – он помедлил, развел руки и, улыбаясь, закончил: – А сам ты в этом случае можешь сыграть в ящик.
В полной растерянности Иван Петрович не знал, как поступить, что ответить.
– Как-то все неожиданно. Непонятно.
– Нечего понимать, все начистоту. Я объяснил, предупредил. А ты выбирай. И мой совет – не трепыхайся. Тебе же хорошо будет. Мы тебя крышуем, ты спокойно бабки заколачиваешь.
– Сегодня пришли вы, завтра придут другие.
– Если придут, скажешь – я дружу с Фомой. И они отвалят. В нашем районе Фома старший. Усек? Никто больше тебя доить не имеет права.
Наконец, строго заговорил и кавказец:
– Ну, все, базар закончен! Делаешь первый взнос – двадцать кусков.
Батюшков пожал плечами:
– У меня таких денег нет. Деньги в банке.
Так же строго кавказец приказал:
– Возьмешь в банке. Мы завтра придем, вечером. Баксы неси еврами, доллары сейчас не котируются. Все. Пошли, Сивый.
И они ушли. Иван Петрович позвонил Андрею:
– Приезжай за мной. Мне плохо. Отвезешь домой.
Дома сын участливо спрашивал:
– Что стряслось, па? У тебя лица нет.
Отец рассказал о визите рэкетиров. Потирал грудь. Сосал валидол. Охал.
– Может быть, «скорую» вызвать?
– Погоди. Отойду. К тому же телефон наш, наверняка, прослушивается. Рэкетиры могут подумать, что мы через «скорую» в милицию хотим заявить.
– Я по мобильнику.
– Погоди. Накапай мне чего-нибудь. В шкафчике на кухне флакончик с микстурой Вотчала был.
Андрей принес рюмку с лекарством. Отец выпил, лег на диван. Сын сел рядом. Помолчали.
– Худо мне, – сказал Иван Петрович, – наверное, придется «скорую» вызывать. Маме на дачу позвони, пусть приезжает.
Андрей пошел в гостиную, где на тумбочке красного дерева стоял красивый, под старину, телефон. Но звонить не стал. Растерянность и сострадание к отцу сменились на его лице строгой сосредоточенностью. Он о чем-то напряженно думал. Возвратясь к отцу, тихо сказал:
– Первый звоночек у тебя еще в Штатах был. Теперь второй намечается. Ты извини, па, может быть не вовремя, хочу тебе напомнить: все может быть, а ты оставишь нас с мамой в неведении, унесешь с собой тайну.
Иван Петрович хотел было встать, но Андрей удержал его.
– Ни-ни, не колыхайся. И еще раз извини. Но сам понимаешь.
А Батюшкову от этого неприятного разговора стало еще хуже. Он прижал руки к тому месту, где сердце. И вместо того, чтобы упрекнуть сына в словах о преждевременной его кончине, скрученный острой болью, простонал:
– А ты, пожалуй, прав. Мне очень плохо. Вот слушай – тайна заключается в том, что ее вообще нет. Не существует!
– Как это? – поразился Андрей.
– А вот так. Все, кто хотел ее разгадать, и особенно Том в Америке, перепробовали в анализах все и ничего не открыли, потому что нет никакого растворителя.
– Ничего не понимаю!
– У пациентов Тома в Майами воспаления начались потому, что они придумали свои растворители. Я всем голову морочил, когда покупал разные химикаты и вроде бы приготавливал из них свой таинственный растворитель. А его нет. Все гениальное просто. Великие открытия совершались случайно. И я тоже случайно сделал свое. Проводя опыты над жирами с разными химикатами, я испытал их сотни. Все кончалось неудачей. И только однажды жир растворился и покорно потек, пошел на удаление. Оказалось, что я в тот раз то ли от усталости, то ли по недосмотру не зарядил в аппарат никакого растворителя. Аппаратура работала с пустым баллончиком. Вот я и открыл: растворителем жира является азот, который находится в воздухе. Я сделал тайной это открытие. Все, кто хотел ее разгадать, ломали голов, составляя различные комбинации из химикатов. Всю таблицу Менделеева перепробовали в различных сочетаниях. А секрет в том, что не надо ничего добавлять. Только из воздуха подавать под кожу азот более концентрированный, что и делает мой баллончик, который я назвал просто датчик воздуха. Вот так, сынок. И ты храни эту тайну. И чтобы те, кто будет за ней охотиться, шли по ложному следу, регулярно покупай побольше химикатов и колдуй в одиночестве, якобы составляешь уникальный растворитель. А химикаты, без свидетелей, в канализацию. Только в канализацию и без свидетелей.
После этого непростого разговора, который тоже ударил и по сердцу, и по нервам, Ивану Петровичу стало совсем плохо.
Андрей вызвал «скорую помощь». Врач и медсестра быстро раскрыли чемоданчик для снятия кардиограммы.
Но оказалось все напрасно. Врач тихо сказал Андрею:
– Ваш отец скончался…
– Что вы говорите! Этого не может быть! Включайте еще раз ваш прибор.
– Все кончено. Мы забираем его в морг.
– Зачем в морг?
– Так полагается. На вскрытии будут определены причины, и вам выдадут свидетельство о смерти, для формальностей, связанных с похоронами.
Пришли из санитарной машины помощники в синих халатах с носилками и унесли тело Ивана Петровича.
Да, теперь уже тело!
В жизни с каждым когда-то случается подобное. Этого еще никто не миновал. У Батюшкова после стольких радостей и печалей, взлетов и падений, и даже приключений, конец наступил так неожиданно. И рано. Был он еще совсем не старый, и даже болезни не было какой-нибудь долгой и медленно сводящей в могилу. Миг, и не стало человека!
Однажды мы уже вспомнили поговорку: «Пришла беда – отворяй ворота». Так и в этом случае несчастья продолжались. Елизавета Николаевна примчалась на своем «жигуленке» с дачи, когда мужа уже увезли.
– Что случилось? Где он?
Андрей не знал, что сказать. Он боялся: правда может сразить и маму наповал, замялся, отводил глаза, несвязно мямлил:
– Увезли на «скорой». Может, обойдется.
– Куда увезли? В какую больницу? Я поеду к нему!
– Не знаю, куда увезли. Подождем. Они обещали позвонить. Успокойся, ма.
Но позднее, когда мама вроде бы немного успокоилась, Андрею все же пришлось рассказать о рэкетирах, визит которых он считал главной причиной сердечного приступа. Потом, опять-таки с оттяжками, с оговорками все же пришлось произнести роковое:
– Папа скончался.
После этих страшных слов будто повторилось все происшедшее с Иваном Петровичем: и у мамы был сердечный приступ, «капли Вотчала», «скорая помощь», электрокардиограмма, уколы. Только Елизавету Николаевну не увезли в больницу, а оставили под присмотром Андрея, снабдив лекарствами и указаниями, как их применять. И номером телефона «на всякий случай».
* * *
На этом кончается мое плавное повествование о жизни семьи Батюшковых. И не только потому, что Иван Петрович умер. Дальше происходили события типично детективного характера, о которых мне придется рассказывать, уже не находясь в доме Батюшковых, а как бы со стороны, вместе с вами, уважаемые читатели.
Следствие
Телефон в квартире Батюшковых не умолкал. Звонили сотрудники, которые очень уважали и любили Ивана Петровича. Звонили и высказывали соболезнования многие клиенты, узнав о постигшем горе. Всем отвечал Андрей печальным, тихим голосом страдающего человека. Но один звонок заставил его на несколько мгновений онеметь:
– С вами говорит следователь прокуратуры Вяткин, прошу вас не отлучаться, я скоро приеду.
– А зачем? – пролепетал Андрей.
Мать заметила перемену в лице сына, спросила:
– Кто звонил?
– Следователь… Может быть, насчет рэкетиров. Но мы никуда не заявляли.
– Что сказал?
– Сейчас приедет.
И приехал. Молодой, с короткой модной стрижкой, не по возрасту усталым с желтизной лицом. Он показал удостоверение и задал странный вопрос:
– У вас есть скотч?
– Зачем вам? – изобразив крайнее удивление, спросил Андрей.
– Прошу вас отвечать на вопрос: есть ли у вас скотч? – Следователь обвел взором комнату и тут же воскликнул: – Впрочем, я его вижу.
Он подошел к серванту, на котором лежал рулончик скотча.
– Вот и прекрасно, обойдемся без обыска.
Елизавета Николаевна в крайнем удивлении:
– Объясните, пожалуйста, что все это значит?
– Объясню и зафиксирую как протокол допроса.
Он сел к столу, раскрыл кейс, достал бланк и приступил к заполнению его. (Для краткости я опускаю многие анкетные данные).
– Скажите, пожалуйста, гражданин Батюшков, кто находился в квартире в час кончины вашего отца?
– Я и он. Больше никого не было.
– Когда вы вызвали «скорую помощь»?
– Сразу, как только ему стало плохо.
– Не помните время?
– Не помню
– В приемной «скорой помощи» записано время вызова – 14.25.
– Может быть, я на часы не смотрел.
– И напрасно. Машина выехала к вам немедленно. Через пятнадцать минут врач был у вас – это значит в 14.40. Не кажется ли вам странным, что за пятнадцать минут ваш отец не только скончался, но и остыл?
– Я не понимаю, о чем вы говорите.
– Я говорю о том, что умерший человек не мог остыть за такой короткий срок. Значит, вы позвонили, когда он был уже мертвый. А почему вы не звонили, пока он был еще жив? Ну, допустим, даже в агонии.
– Я звонил из холла маме на дачу, пришел от телефона. Смотрю, он совсем плох, вызвал «скорую», считая, что он еще живой.
Следователь взял в руки рулон скотча, показал его Андрею:
– Эта штука вам ничего не напоминает?
Андрей побледнел и отвернулся. Следователь жестко сказал:
– Ну, хватит ходить вокруг да около. Гражданин Батюшков Андрей Иванович, вам предъявляется обвинение в убийстве отца Батюшкова Ивана Петровича. Экспертиза установила: отец ваш скончался не от сердечного приступа, а от удушья. Вы задушили его, заклеив рот и нос вот этим скотчем. Микроскопические следы клеящей ленты обнаружены на лице трупа. Я думаю, экспертиза подтвердит идентичность ленты в этом рулоне и тех микрочастиц, которые обнаружены на лице вашего отца. Зачем и почему вы убили его? Я не спрашиваю как, мне это ясно.
Пронзительный вскрик Елизаветы Николаевны прервал допрос.
Опять приезжала «скорая помощь». На этот раз она увезла больную без сознания в больницу. Там она и скончалась, не в состоянии была перенести смерть любимого мужа и то, что убийцей стал ее сын.
После ареста на первом допросе следователь сказал Андрею:
– Ваше дело в моей десятилетней практике первое такое легкое. В смысле раскрытия. Не было преодоления запирательства обвиняемого. По сути дела, при первой нашей встрече, еще до вашего ареста, все выяснилось. Я нашел. Даже не нашел, а увидел скотч. И вы признались в убийстве. Кроме формального следствия меня просто из любопытства интересует: почему вы так легкомысленно поступили? Почему не спрятали улику? Я имею в виду этот скотч?
– Я был уверен, что «скорая помощь» зафиксирует смерть от сердечного приступа.
– А я сначала подумал, что вы купили и положили на виду другой рулон скотча. Если бы вы это сделали, было бы труднее доказать вашу вину.
– Я не преступник и не знаю уловок вводить в заблуждение следствие.
Следователь улыбнулся:
– Вы правы только наполовину. Вы преступник, это несомненно. И я обязан подготовить для суда все формальности. Итак, первый вопрос: вы признаете себя виновным в убийстве вашего отца Ивана Петровича Батюшкова?
Андрей твердо сказал:
– Признаю. И заслуживаю самого строгого наказания.
– Наказание определит вам суд. Почему вы совершили это преступление? Какие были на то причины – ненависть, месть с вашей стороны или оскорбления, преследования с его стороны?
Андрей и сам не мог понять, как это неожиданно и быстро произошло, честно рассказывал:
– Какое-то затмение рассудка. Я совершал это как-то механически. Видел раньше в кинофильмах, как убивают людей легко и быстро. И я, по инерции, увидел этот проклятый скотч, подумал – миг, и все будет кончено.
– А причины? Не ради киношного эпизода вы на это решились. Должны быть причины, цель?
Признаваться было стыдно, однако Андрей решил не только ответить следователю, но и осудить себя, как бы не было позорно и подло:
– Всему вина – деньги. Я видел, как шикарно живут люди, имеющие большие деньги.
– Но у вас было все – квартира, машина. Отец вам ни в чем не отказывал.
– Это не то. Много лет я зависел от отца. Мне хотелось жить на широкую ногу самостоятельно.
– Можно было договориться об этом с отцом. Попросить его выделить вам капитал, он помог бы организовать ваш собственный бизнес. Я думаю, он не отказал бы. Он очень любил вас.
Спазмы сдавили горло Андрея. Не мог отвечать. Наконец, он поднял глаза, влажные от слез.
– Вы правы. Я прошу вас, не мучайте меня. Ведь я во всем признался. Оформляйте и судите. Пожалуйста, избавьте меня от этой пытки.
– Андрей Иванович, вы сами виноваты, что мне приходится вести с вами такой неприятный разговор. Поэтому вам придется отвечать на все мои вопросы.
Как только заканчивался очередной допрос и Андрей оставался наедине со своими мыслями, перед ним вставали глаза отца, полные ужаса. Он не мог избавиться от этого страшного видения.
В камере, куда перевели Андрея в ожидании суда, оказался старенький длинноволосый седенький старичок. Андрей надеялся в беседах с ним отвлечься от преследующих глаз отца. Но старичок оказался неразговорчивым. Однако потом все же пришло время знакомиться.
– Евлампий, – представился старичок.
– А отчество? – спросил Андрей. Такого пожилого без отчества называть неловко.
– Я священник. Для всех нас отец един – Господь Бог. Поэтому родитель-батюшка не поминается.
– И за что же вы, святой отец, сюда угодили?
– За доброе дело, сын мой.
– Так не бывает. Сюда за добрые дела не сажают.
– Так-ить, каждое дело, с какой стороны посмотреть, может быть добрым или недобрым. Смотря за что убил. Я тоже убивец по уголовному кодексу. А по справедливости, по суду Божьему, я послужил вере.
– Не понимаю, батюшка, как это может быть. По вере одно, а по уголовному кодексу – другое.
– А вот как. Появился антихрист в образе тоже священнослужителя. Город Вятка небольшой. Но смутил своими сатанинскими проповедями этот еретик почти всех прихожан.
– Что же он проповедовал?
– Не стану повторять его крамолу. Сомнение зарождал в подлинности православной веры. Увещевали его старшие пастыри, спасти пытались. Но он в своем богохульстве погряз до неисправимости. Отлучили его от церкви, лишили духовного сана. Он секту создал. Помрачил рассудок очень многим. Другие верующие стали роптать. И чтобы пресечь зло, нашелся один подвижник и ночью зарубил топором еретика. Сделал доброе, богоугодное дело.
Андрей возразил:
– Не может быть убийство богоугодным. В Библии сказано – не убий.
– Может, – наставительно сказал старец. – Во время войны церковь, священники молились и благословляли наших воинов на подвиг ратный, и они истребляли многих наших ворогов. Так что в святом учении имеется в виду: не убий ближнего своего, а насчет ворога и служителя антихристу не указано.
– А ты, мил человек, кого лишил жизни?
– Богатого человека, хотел его деньгами завладеть.
– Вроде ты на бандита не похож.
– Я и не был бандитом. Один раз в жизни представился случай большие деньги заиметь, и вот – бес попутал. Даже не бес. Неверующий я. Сам, без всякого беса много лет хотел стать богатым. Жаждал этого. Ночами мечтал, как заживу славно.
Сосед помолчал. Потом тихо молвил:
– Да, грех твой велик. Может быть, лишил ты жизни человека достойного, честного.
– Так и было. Он был очень хороший человек.
– Вот видишь. И правильно мыслишь, бес тут ни при чем. Главная беда твоя, ты тоже сам сказал – нет у тебя веры. Если бы ты верил, может и оберег бы тебя Господь.
– Не верил. Пусто было в душе…
– Так не бывает, сынок. Даже наука говорит: природа не терпит пустоты. Была в тебе другая, своя вера.
– Как это может быть? – удивился Андрей.
– Очень просто. Сейчас в России настала такая пора, когда многие забыли не только Бога, но отвергли всякие «измы» – марксизмы, ленинизмы, а взамен для души ничего не дали.
– Ты не прав, батюшка, – пришел новый «изм» – капитализм.
– Пришел, да не нашел. Капитализм во многих государствах процветает. И люди там живут неплохо, и вера какая ни на есть – христианская, мусульманская, иудейская – людей объединяет. А у нас капитализм не получился.
– Так что же у нас?
– Джунгли, сынок, в которых все построено на борьбе за деньги, на себялюбии, на эгоизме.
– Вот видите, опять «изм».
– Да, только эгоизм не имеет теоретической основы. Вот ты убил человека не из-за каких-то идейных побуждений, а движимый своей алчностью, эгоизмом. Ты и есть порождение того дьявольского наваждения, которое несут пришельцы, бесовские посланники. Вот я устранил одного из них. Я сделал доброе дело. Послужил вере и отечеству.
– А совесть не мучает?
– Нет. Совесть моя чиста. Потому что, повторяю, я послужил вере и отечеству.
Андрей был озадачен не только философией старца, но и оценкой своего поступка в этой философии и особенно точным, неблаговидным его определением – эгоизм. Как ни стыдно, ни обидно, ни позорно, а ведь прав этот старичок!
Вспомнились Андрею в эту ночь и рассуждения Тома Колдера о том, что бизнесмен не имеет национальности. Он тогда о себе сказал: для делового человека национальность не обязательна. «Я американец, но был русским, мог стать французом, итальянцем, мексиканцем – кем угодно на бумаге, в паспорте. Бизнесмен – космополит, у него нет родины. Цель его жизни – деньги, с ними он хозяин на всей Земле!»
Андрей улавливал явное сходство суждений Тома и соседа-старика. Напрашивался знак равенства между деньгами и эгоизмом. Земной шар для Тома и ему подобных лишь поле деятельности, а урожай на этом поле – деньги только для себя, любимого. Вот и соединились эгоизм и деньги в какую-то новую движущую силу.
И опять возникли дикие, испуганные глаза отца. Андрей вскочил с койки, стал шагать по маленькому пространству от двери до окна. Хотелось опять поговорить со стариком, о чем угодно, лишь бы избавиться от страшного видения. Но старик спал.
Андрей подумал: вот, тоже убил человека, а совесть его чиста. У него вера, а у меня деньги. Будь они прокляты! Хорошо ты пригвоздил меня, старичок. Точно определил – эгоизм, ни отца, ни матери не пощадил. И опять возникли полные ужаса глаза отца. «Как же я мог пойти на это? Господи, помоги мне подохнуть. Никогда ни о чем тебя не просил, Господи, помоги подохнуть».
Может быть, Андрей произнес эти слова вслух. Старичок, не поворачивая лица от стены, вдруг сказал:
– Господь добрый. Молитв не знаешь – молись по-своему, как сумеешь. Господь добрый, может, пошлет тебе утешение.
Андрей возмутился и закричал:
– Разве можно такое прощать! Молчи, старик, ты даже не представляешь, какой я злодей! Нет мне прощения, и не хочу я прощения! Я хочу только одного – подохнуть. Но не повешусь до суда. Надо, чтобы люди услышали, узнали, увидели, какая я сволочь!
Суд
В суд Андрея привезли на маленьком «черном воронке». У входа в здание он прочитал: «Суд Краснопресненского района». На двери, в которую его вели из коридора, табличка: «Зал № 4». За дверью был не зал, а небольшая комната, на возвышении что-то вроде прилавка, за которым виднелись три кресла – одно с высокой спинкой и два пониже. Перед возвышением – несколько рядов стульев, на них сидели люди спиной к вошедшему. Справа – клетка, в нее ввели Андрея, сняв предварительно наручники. Пока Андрей растирал руки после наручников, заняли свои места секретарь, пожилая женщина в обычной одежде и государственный обвинитель, коренастый, средних лет мужчина в синей форме работника прокуратуры. Кресло защитника пустовало.
Андрей разглядел в зале знакомые лица сотрудников фирмы. Пришли от уборщиц до операторов. Секретарь суда без традиционного «Встать, суд идет!» просто сказала:
– Прошу встать.
Вошли судьи в черных мантиях с белыми воротниками. На центральное кресло села судья – молодая, красивая женщина с белым пробором на гладкой прическе. Справа сел мужчина, слева – женщина, оба пожилые, какие-то бесцветные, с простыми, ничем не приметными лицами.
Опросив подсудимого по анкетным вопросам, судья, у которой оказался четкий профессиональный голос, спросила:
– Подсудимый Батюшков Андрей Иванович, признаете ли вы себя виновным?
– Признаю, – твердо сказал Андрей.
– Изложите коротко, что побудило вас совершить убийство вашего отца, Батюшкова Ивана Петровича?
– Я все подробно рассказал на следствии. Это изложено в деле, с которым вы знакомились. Я признался в совершении преступления.
Судья строго сказала:
– Суд для себя, кроме материалов следствия, должен определить степень вашей виновности или невиновности.
Желая только одного, чтобы эта процедура завершилась как можно быстрее, Андрей сказал:
– Я виновен. Виновность свою подтверждаю. Что еще нужно для суда?
– Нужна полная ясность для вынесения справедливого приговора. В деле сказано, что в момент убийства вы не владели собой. Что это значит?
– То и значит, что на меня нашло какое-то затмение в рассудке.
– Но в деле имеется заключение судебно-медицинского обследования, которое вы прошли, и определено, что вы человек нормальный, без каких-либо психических отклонений.
– Я это не отрицаю. И сам без всяких обследований утверждаю – я совершенно нормальный. Судите меня, пожалуйста, по всей строгости закона, я это заслужил. Только, прошу, побыстрее.
В зале прошелестел ропот зрителей. Судья настаивала:
– Мне окончательно не ясны мотивы вашего преступления. За что, почему вы убили отца?
– И это я подробно объяснял следователю. И вы все знаете. Деньги. Желание и возможность завладеть тайной отца, чтобы зарабатывать большие деньги. Я отказался от защитника – нет мне оправдания. Не надо меня защищать. Я отказываюсь от последнего слова. Пожалуйста, выносите скорее ваш приговор.
В зале прошел еще более напряженный ропот. Судья наклонилась к своим заседателям, о чем-то с ними пошепталась. И сказала секретарю:
– Зафиксируйте это заявление подсудимого. Слово предоставляется государственному обвинителю.
Он, не торопясь, встал, одернул свой китель, поправил бумаги на столе и начал ровным, спокойным, громким голосом:
– Уважаемые судьи, вам приходилось не раз рассматривать дела об убийстве. Но отцеубийцу вы, наверное, видите впервые. И не только отца. Он убил и мать свою, Елизавету Николаевну Батюшкову, которая жила бы и сегодня. Она не пережила не только смерть своего мужа, но и то, каким раскрылся перед ней сын, этот изверг.
Судья прервала обвинителя:
– Прошу вас высказываться по существу, мы рассматриваем дело об убийстве Батюшкова Ивана Петровича.
Обвинитель жестко сказал:
– Я говорю по существу и прошу суд рассматривать дело как о двойном убийстве. То, о чем я сказал, очевидно и не требует никаких доказательств.
Андрей для себя отметил: «Прав этот казенный человек, я и маму убил».
Обвинитель между тем продолжал:
– Этот субъект – не простой преступник, он – социальное явление, порожденное происходящими в нашей стране негативными переменами. Он – продукт этих изменений, так называемый «новый русский». Название неправильное, оно не отражает сути этих личностей. Во-первых, они не новые, а буржуазные типы капиталистического общества, которых оно порождало не один век. Во-вторых, никакие они не русские, это явление международное, космополитическое, у них нет родины, нет национальности, они везде, где есть возможность загребать деньги. Деньги – их бог! Андрей Батюшков жил, учился, воспитывался в нашей стране. Он стал бы таким же честным тружеником, какими были его отец и мать. Но он заразился бациллой стяжательства, эгоизма, наживы любой ценой. Он мог заразиться этим губительным пороком не только в Америке, но и в России, потому что эта эпидемия свирепствует и в нашей стране в полную силу. Он проявил себя в качестве так называемого «нового русского» в полном его гнусном безобразии – ради добычи денег убил отца и мать! Вы спросили о мотивах убийства, но он вам не ответил. Это не случайно! Этот хищный волк рядится в овечью шкуру. Этакий тихенький, скромненький, раскаявшийся ягненок. Это не что иное, как попытка повлиять на вас. Вызвать к себе жалость. Уйти от справедливого строжайшего наказания. Не поддавайтесь этому. Перед вами безжалостный, до мозга костей отравленный ядом наживы, страстью к деньгам. Деньги для него все! Зелененький доллар – его бог! Какие нужны для этого доказательства? Они налицо – он убил отца и мать, только ради денег, о чем признался на следствии. Если для обычного уголовника, бандита, убийцы вы определяете высшую меру – расстрел, заменяемый пожизненным заключением, то какое может быть наказание для Батюшкова, который с целью присвоения денег, принадлежавших родителям, убил отца и мать? Я настаиваю, уважаемые судьи, на обвинении в двойном убийстве, и определить Андрею Батюшкову самую высокую меру наказания.
Судья еще раз спросила Андрея Батюшкова:
– Вы не передумали, отказываетесь от последнего слова?
– Отказываюсь.
Суд удалился на совещание. Длилось оно не долго. Все было ясно. Потребовалось только время для написания приговора.
Если отбросить повторение анкетных данных, описание сути преступления, номера статей Уголовного кодекса, мера наказания была определена: пожизненное заключение.
Андрей вздохнул с облегчением. Наконец-то все кончилось! Присутствующие в зале теперь не шушукались, а загудели, как пчелиный улей. И было не понятно – они одобряют или осуждают этот строгий приговор.
Финал
Сотрудники фирмы «Батюшков и К°», которая с началом следствия была законсервирована, послали еще до суда Кате в Нью-Йорк телеграмму с печальной вестью о гибели родителей.
Катя прилетела в Москву с мужем Джимом и сыном Ванечкой. На похороны и на суд они не успели. Пришли на кладбище к двум свежим могилам, над которыми стояли два деревянных креста, внизу прислонены две фотографии в рамочках, уже попорченные дождями, увядшие поблекшие цветы лежали на еще не просохшей земле.
– Здесь лежат твои бабушка и дедушка, – сказала Катя сыну.
– А почему их закопали? – спросил Ванечка, поблескивая белыми, как жемчуг, зубками.
– Они умерли.
– А когда мы умрем, нас тоже закопают?
– Обязательно. Так полагается.
– А я не хочу, чтобы меня закапывали.
– Тебя не будут закапывать, ты будешь жить счастливо и долго.
Эти слова Кати были пророческими. Ванечка жил в России долго, богато и счастливо. Рассказ об этом требует написания другой книги. Но я поведаю только о том, как начиналась новая жизнь нового поколения Батюшковых. Ваня родился, когда еще не было официально оформлено замужество Кати. Она записала его на свою фамилию. Так появился на свет черный Иван Батюшков.
Приехав в Россию, Катя, Джим и Ванечка поселились в квартире родителей. Кстати, не помнила Катя, где находится эта квартира. Москва очень изменилась, улицы здесь назывались теперь по-другому. Но пожилой шофер такси, которого они наняли в аэропорту Шереметьево, помнил старые названия улиц и доставил американцев, куда они хотели.
Да, все трое они были американцами, и предстояло немало хлопот, чтобы получить «вид на жительство и разрешение занять квартиру. Благо в архиве паспортного стола нашлась старая Катина московская прописка.
Как наследница, Катя имела право на получение половины имущества родителей. Это тоже надо было оформлять через нотариуса. Вторая половина наследства принадлежала осужденному Андрею, приговор суда не предусматривал конфискацию имущества, потому что оно принадлежало Батюшкову-старшему.
Джим с Ванечкой мотались по Москве. Джим удивлялся, какая она красивая и современная. Вечерами он делился с Катей впечатлениями, сверкая белками глаз, причмокивал большими фиолетового цвета губами и восклицал:
– Фантастика! Не думал, что здесь, как и у нас, небоскребы и автомобильные пробки. В газетах наших я читал, что в России ночью по улицам бродят медведи!
Катя решила повидать Андрея. Все же брат. Она добилась разрешения на свидание. Поехала в N-ск одна, без Джима и Ванечки.
Ее пропустили в комнату, предназначенную для таких встреч. Андрея привели два конвоира. Он, одетый в полосатую робу, шел согнутый, руки его были заведены за спину и скованы наручниками.
Катя не узнала брата, она подумала, что по ошибке привели другого заключенного. Перед ней стоял скрюченный старик с белой шевелюрой и белой бородой.
– Не узнаешь? – спросил Андрей.
Катя ужаснулась, как изменился, совершенно поседел Андрей всего за несколько месяцев.
– Я это, не сомневайся. Ну, что, пришла меня упрекать, осуждать?
Катя молчала, она не знала, что ему сказать. Андрей между тем продолжал:
– У нас мало времени, давай сразу о деле. Я подлец и понес заслуженную кару. Но ты меня не осуждай – я сделал тебя богатой. Ты будешь жить счастливо, потому что все наследство принадлежит тебе. Найди в этом городе нотариуса, пусть он подготовит документ о моем отказе от доли моего наследства. Приходите вместе, я подпишу. Мне теперь ничего не нужно. А тебе жить. Когда придешь с нотариусом, я подготовлю тебе описание секрета, который открыл мне отец. Теперь это нужно тебе, для продолжения дела. Все. Больше нам не о чем говорить. Уходи.
Катя не сказала брату ни слова, но, понимая, что надо что-то сказать, молвила:
– Может быть, тебе что-то нужно? Я привезу. Буду тебя навещать.
– Ничего мне не нужно.
Он повернулся спиной с заведенными за нее руками, сказал конвоирам:
– Уведите меня.
От двери оглянулся. Первый раз за все свидание посмотрел прямо в глаза сестры. Мучительная тоска была в его взоре. Он тихо сказал:
– Принеси мне фотографию Ванечки.
И побрел за лязгнувшую решетчатую дверь.
Нотариуса Катя нашла. Посвятила его в сложную семейную драму. Нотариус, пожилая, добрая женщина, согласилась в порядке исключения посетить с Катей тюрьму для подписания Андреем его отказа от наследства.
Просьбу Андрея о фотографии Ванечки Катя могла выполнить сразу же на первом свидании, потому что карточку сына всегда носила в своей сумочке.
Безгранична доброта русского человека, прощает он своим недругам тяжкие обиды. Отходчив. Прогневается, может нехорошим словом обложить, но пройдет время, и спадает накал злости, появляется даже сострадание – не слишком ли круто обошелся с обидчиком?
Так случилось и у Кати. Очень хотела она отчитать Андрея за совершенное им злодеяние, но увидела его, седого и согбенного, и злость угасла. А когда попросил Ванину карточку, совсем обмякло женское сердце. Поняла: оставшиеся в живых Батюшковы – единственное светлое пятнышко в жизни узника.
Решила Катя не только фото подарить, но и показать Ванечку. Позвонила Джиму по мобильнику, попросила привезти сына. Когда они приехали, объяснила, зачем.
– Тебя на свидание не возьму, – сказала Джиму. – Не положено. Да и перепугаешь ты всех своим видом!
С нотариусом и Ванечкой она пришла в назначенное время к знакомой уже проходной. Пропуска им оформили сразу. А как быть с Ванечкой – проблема.
– Документов у него нет, – засомневался дежурный офицер. – И вообще, он какой-то не наш – черный.
Катя возмутилась:
– Что вы говорите! Не наш. Да, он не ваш. Он мой, вот, в паспорте моем записан.
– Паспорт американский, что в нем по-английски написано, я не понимаю. Пускать на свидание не положено.
Катя нашлась, приврала:
– Куда же мне его деть? Я приезжая. Оставить не с кем. Не брошу же я его на улице или у вас здесь на проходной.
Дежурный смягчился, улыбнулся:
– А что, у меня можно. Мальчик хорошенький, мы с ним побалакаем. Американец, ты по-русски говорить умеешь?
Ваня не смутился:
– А вы на английском можете?
– Нет, по-английски ни бельмеса, – сказал охранник.
Подбирая русские слова, Ваня произнес:
– Извините, я с вами не останусь. Разрешите, господин офицер, пойти с мамой.
– Раз ты такой вежливый, придется разрешить.
В той же комнате, где проходило первое свидание, встретились с Андреем. Когда его ввели, полосатого, согнутого, закованного, Ванечка прижался к матери. Андрей, заметив это, улыбнулся:
– Что, Ванечка, страшен твой дядя?
– Нет, я вас не боюсь, – пролепетал мальчик. – Мне страшно, что здесь так вас сгибают.
Хотели приступить к оформлению документа, но возникла непредвиденная и непреодолимая трудность. Содержание бумаги нотариус Андрею зачитала. А как подписывать? Руки закованы за спиной.
– Может быть, на минуту освободите от наручников? – попросила нотариус.
Дежурный даже поперхнулся, отвечая на такую небывалую просьбу в этой тюрьме:
– Вы что! Невозможно! По инструкции наручники надевают и снимают, когда осужденный находится в камере, а руки высовывает в специальный лючек.
– Как же быть? Может быть, я зайду вместе с вами в камеру, и он там подпишет?
Конвоир замахал рукой:
– Это вообще невозможно, посторонние ни в коем случае внутрь тюрьмы не допускаются.
Катя предложила:
– Тогда вы без нас сходите с ним в камеру, он там подпишет, а вы принесете нам документ.
На это возразила нотариус:
– Невозможно. Документ должен быть подписан в моем и в вашем присутствии. В противном случае он в любой день может обжаловать и отказаться от своего согласия, напишет заявление прокурору, что его куда-то уводили, принудили подписать без нотариуса. И прокурор немедленно объявит вашу договоренность недействительной.
Оформление зашло в тупик. Две инструкции взаимно исключали возможность законного оформления – закованный Андрей не мог подписать документ. Думали, искали выход все. Но ничего не могли придумать. Вдруг Ванечка сказал:
– Дядя Андрей, а ты попробуй задом. Я на стенке рисовал фломастером задом. У меня получалось.
Даже суровые конвоиры засмеялись:
– Ишь, какой шустрый! Как и зачем ты писал, повернувшись спиной?
– Дворник меня ругал: зачем пачкаю стенку. Потом он отошел. Подметал. Смотрел в мою сторону. А я встал спиной к стене и нарисовал кружочки.
– Ну, проказник! Пачкать стены нехорошо!
– Я больше не буду.
– Может, попробуем? – предложила нотариус.
Конвоир спросил:
– Осужденный, вы согласны, сможете поставить подпись?
– Надо сначала попробовать, чтобы я не испортил документ.
Его подвели к столу. Положили чистый лист бумаги. Андрей встал спиной к столу, положил руки на бумагу и несколько раз расписался.
Нотариус показала подпись Андрею:
– Вы всегда так расписываетесь?
– Да, это моя подпись.
– Но надо попасть точно в графу, где она должна появиться.
– А вы мои руки нацельте.
С помощью конвоиров и нотариуса Андрей положил руки на бумагу, нацелили ручку на нужное место, и Батюшков расписался, где полагается.
Все были довольны – выход найден, хвалили Ванечку. Андрей стал быстро по-английски говорить Кате, в чем заключалась тайна отца. Но конвоир прервал его:
– Стоп! Это не положено! Говорите только по-русски.
Но Андрей спешил и продолжал на английском:
– Только своему черномазому не доверяй этот секрет. Он может от тебя избавиться. И не забывай – побольше покупай разных химикатов, чтобы запутать тех, кто попытается разгадать тайну.
Конвоиры уже на полном серьезе закричали:
– Прекратить разговоры! Свидание прерывается! Осужденный, марш вперед.
Катя сунула фотографии ближнему конвоиру:
– Пожалуйста, передайте ему. На них нет никаких надписей.
Лязгнула решетчатая дверь, Андрей крикнул уже из коридора:
– Ванечка, не забывай дядю!
Катя и нотариус быстро пошли к выходу. Ванечка плакал.
– Ты что, сынок?
– Мне дядю жалко.
Прозрачные слезинки скатывались по его черным щечкам, в них отражались крошечными белыми пятнышками светлые окна с решетками.
После всех формальностей лечебное учреждение «Батюшков и К°» заработало с прежним успехом. В нем все было на ходу. Катя стала полноправной хозяйкой. Она не пожелала менять название фирмы, объявляла его по-своему: «Батюшков и Катя». Она взяла на себя все административные и бухгалтерские заботы, которыми раньше занималась Елизавета Николаевна. Клиентов, как всегда, было много, и практичная Катя со временем изменила профиль на лечебно-косметический. Надоели хлопоты с грандиозными толстяками обоего пола. Они требовали много времени на обработку. Поэтому им отказывали, отсылали к докторам лечиться.
Джим со временем освоил работу оператора и вскоре даже превзошел своих коллег, старых операторов, то ли искусством, то ли внешностью: к нему особенно охотно записывались дамы. В его руках для них сочеталось полезное с приятным. Романтика! Разве не приятно, когда тебя месит такой черный детина!
Катя ревновала своего муженька, частенько заходила в операционную во время сеансов. Джим обижался, но не выражал своего недовольства в грубой форме. Он был воспитан в Америке и знал, кто такой хозяин! А Катя со временем стала действительно полновластной хозяйкой. Однажды она ему даже пригрозила:
– Вышвырну тебя, и пойдешь свою чечетку выбивать.
В дни, разрешенные для свидания, Катя с Ванечкой навещали Андрея. Приносили ему передачи, книги, которые он просил, новые фотографии.
Катя посоветовала:
– Может быть, подашь кассацию на пересмотр твоего дела? Или обратишься с просьбой о помиловании?
Андрей покачал головой:
– Нет, Катя. Я заслужил то, что мне дали. Лучше бы расстреляли. Я часто вижу во сне и наяву страшные глаза отца, какими он на меня посмотрел перед смертью. Это ужасно. Наверное, я от этого взгляда сойду с ума.
Катя не сочувствовала брату, гибель отца и матери простить ему не могла, считала, что страдания свои он заслужил. Навещала его по родственной обязанности.
А жизнь американских наследников Батюшковых складывалась, как в фильме с хеппи-эндом. Стали они теперь, уже по русской поговорке, жить поживать и добра наживать. Но на самом деле это был не хеппи-энд, а хеппи-начало, и что ждет впереди, будут определять деньги, как это случалось в судьбе Ивана Петровича и Елизаветы Николаевны.
Деньги в новом состоянии России, в ее настоящем и будущем стали движущей силой, от них теперь зависело то, что называется судьба.
А русский негритенок Иван Батюшков рос веселым, умным, красивым мальчиком, и никто даже не предполагал, как сложится его жизнь. Определенно можно сказать одно – он тоже будет новым русским. Но это уже другая тема.
Полино счастье
В деревне остались одни старики да бабы – вдовы или брошенные. И тех выкосил голод и сыпной тиф. Мужиков – одних на фронте побило, другие, еще живые, в гражданской мясорубке дожидались часа своей гибели. Одним словом, деревня – под корень. Считалось, повезло тем, кто от сыпняка в беспамятстве кончился и не видел окружающего ужаса, а не повезло тем, кто от голода в полном сознании долго мучился. Уцелевшие блюли до последнего деревенскую добрую взаимовыручку: веками жили здесь предки, как не помочь, сами едва на ногах держались, а то и не держались, но хоронили соседей обязательно. Правда, без гробов, завертывали в постельные одеяла и закапывали. Но не бросали в опустевших домах. Нехорошо это.
Ползали детишки. Им еды меньше надо. Некоторые выдюжили. К примеру, Поля. Шел ей седьмой годок, но на вид больше четырех не дашь. Усохлась. Одни глаза живые двигаются, а все остальное усохло, скелетик тонкой кожицей обтянутый, все косточки можно пересчитать. Да и от рождения невелика была, широкая грудка, а руки ниже колен, как обезьянка маленькая. Да и на лицо, прости Господи, все та же обезьянка – лоб низкий, нос дырочками навыворот, еще бы чуть, и настоящий пятачок.
Но как ни странно, эта внешность спасала Полю от голодной смерти. Приспособили ее добрые люди в городе милостыню собирать. Даже в лохмотья обряжать не надо: все свое на ней рвань да заплаты. Научили ее жалобным голосом просить на хлеб копеечку. Уж такая она была страшненькая – мимо не пройдешь, копеечку, а то и пятак бросишь.
Выжила Поля на нищенских подаяниях, да еще и хозяев кормила. Они ее ценили, берегли, чтоб никто не переманил. Но не уберегли… Одна сердобольная женщина чаще других медяки, а то и хлеб Поле подавала, расспросила ее, кто она, откуда. А Поле и рассказывать нечего – родители померли, деревня вымерла, вот и вся прежняя жизнь. Сжалилась незнакомка над сиротой, увела в свой дом, обмыла, переодела. У нее свое дитя малое заботы требует, а дел по дому невпроворот. Приспособила она Полю в помощницы:
– Будешь около люльки сидеть денно и нощно и качать, если заплачет. Пеленочки сменишь. Постираешь их, просушишь. Одним словом, ты – мои глаза и руки за Боречкой.
У счастья нет единицы измерения, как у длины – метры, сантиметры, у веса – граммы, килограммы. Счастье – оно невидимое, неизмеримое, оно – состояние души, как бы и нет его, однако оно есть, оно в тебе, оно наполняет жизнь радостью, дает надежду на будущее. У каждого мера счастья своя: у одного – миллионы денег, у другого – чего-нибудь изобрести, у третьего – полюбить кого-то, лучше которого нет.
У Поли счастье – жить в теплом доме, спать возле люльки на мягкой подстилке, быть сытой, хоть на остатках хозяйского стола, но все равно вкусной пищи, какой Поля раньше не едала. И вообще все вокруг в этом доме казалось после нищенского подвала шикарным дворцом. Хозяин, Роберт Иванович, пожилой, уже в седых висках, и бородка с белой струйкой посередке. Он – кабинетный фотограф. Салон его на первом этаже, у входа с улицы витрина с лучшими работами – невесты в фате, женихи в черных сюртуках при галстуках, нежные пары, склонив головы друг к другу, детишки голенькие и подростки в коротких штанишках. В салоне загадочная аппаратура, над которой мастер, накрываясь черной накидкой, что-то колдовал, нацеливался на снимающихся, потом, выныривая из-под черной мантии, поправлял их – руки, головы поворачивал, как надо, все подготовив, совершал таинство запечатления при яркой вспышке магния, после которой некоторое время колыхался дымок над аппаратом и пахло серой.
Поля, когда увидела это в первый раз, сердце у нее взволнованно забилось и замерло от таинственности происходящего. А трепетное уважение к Роберту Ивановичу поселилось навсегда.
Хозяйка, Зинаида Григорьевна, была моложе мужа, нарожала троих детей: две девочки уже в школу ходили, на пианино учились играть. Да вот третьего, желанного сыночка Бог послал, Бореньку, за которым ухаживала Поля.
Семья жила в достатке. Квартира на втором этаже, над салоном, просторная гостиная, в ней пианино стояло, диваны, кресла мягкие, три спальни – одна для взрослых, другая для девочек и третья, крошечная, для будущего ее обладателя – Бореньки. Был он хорошенький, розовенький, пухленький, весело дрыгал ножками и ручками, когда его Зинаида Григорьевна и Поля купали в белой эмалированной ванночке. Плакал он редко. Больших забот Поле не доставлял, она даже спала ночами возле его люльки и приспособилась мгновенно просыпаться, как только входила хозяйка и спрашивала:
– Спишь?
– Нет, лежу просто, они спят, я и прилегла.
Мать щупала пеленки, они всегда были сухие. В этом деле Поля не допускала промашки.
– Ну-ну, смотри. Не дай Бог, простудишь.
– Что вы, Зинаида Григорьевна, глаз не смыкаю. Боренька завсегда сухенькие.
Поля по-настоящему полюбила Бореньку, стал он ей как родной. Вспоминала с грустью братика Петеньку – совсем маленький остался, ходил нетвердо, больше ползал. Сестренку Машеньку – беленькая, голубоглазая, худенькая, как былиночка, только ножки в грубых красных цыпках, босиком ходила, до башмачков так и не дожила. Если бы их помыть, приодеть, они были бы как Боренька хорошенькие.
Счастье длилось три года. Боря уже ходил. Поля с ним гуляла в скверике. Жизнь наладилась не только у Поли, но и в стране. Кончилась гражданская война. Фотография Роберта Ивановича стала одной из модных в городе, салон расширили, на витринах кроме свадебных пар появились революционные персонажи с саблями, при шпорах, а то и с «маузером».
Появилась новая власть, которая стала проявлять заботу и о Поле. Ей уже исполнилось девять лет, она была все такая же неуклюжая, приземистая, с непривлекательным лицом. Однако это и подчеркивало ее пролетарское происхождение. Стали наведываться, беседовать представители из каких-то комитетов, кружков. Объясняли о борьбе с неграмотностью. Хозяев обязали отпускать Полю на занятия в «ликбез». Там учили писать буквы, потом как складывать их в слова и читать. Беседы разные, все больше про политику, в которых Поля ничего не понимала. Но одну очень запомнила: про то, что каждая кухарка может управлять государством. Хозяйка отказать в учебе боялась, отпускала, но расспрашивала Полю, чему там учат. Однажды Поля поделилась с ней приглянувшейся ей фразой:
– Говорят, что каждая кухарка может управлять государством. И в пример Дуньку Зюзину привели – была она потомственная прачка: бабка, мать, она сама – все прачки были, а вот подучилась и сейчас в профсоюзе с портфелем работает.
Зинаида Григорьевна неопределенно хмыкнула:
– Ну-ну. Только ты предупреди меня, когда в наркомы пойдешь, я тебе замену буду подыскивать.
Поняла Поля ее иронию. Испугалась. Руками замахала:
– Что вы! Зинаида Григорьевна! Я от вас никуда. Вы моя благодетельница навек!
Однако намек хозяйки поняла и в «ликбез» ходить перестала.
* * *
Прошло еще десять лет… Боря вырос, ходил в школу, няня ему не нужна. Дочки выросли в невест, ждали женихов, помогали матери по хозяйству в доме, стажировались на будущих жен. Поля стала лишней в квартире, ей нечего было делать, разве только посуду помыть после общего обеда и ужина. Исполнилось ей восемнадцать лет. Тоже барышня. Но кто обратит внимание на такую несимпатичную девушку? Но и в доме держать лишний рот нет расчета. Зинаида Григорьевна решила проблему по-своему, по-женски. Она нашла жениха для Полины. Работал в фотосалоне много лет Ефим – такой же, как Поля, беженец из голодной деревни. Был он в фотостудии грузчик, дворник, сторож и даже вышибала (попадались и буйные клиенты). Ефим, человек бесхитростный, выполнял любые поручения хозяина. За все свои должности получал одну зарплату, что особенно устраивало Роберта Ивановича. Была у Ефима комната в густонаселенной коммуналке, где он появлялся редко, потому что в качестве сторожа ночевал в вестибюле фотостудии. По возрасту он был раза в два старше Полины, но это не смущало Зинаиду Григорьевну, она нашептывала ему:
– Поля – чистюля, приведет в порядок тебя и твое жилье. Очень честная, за много лет в нашем доме не пропало ни копейки. И вообще сколько можно жить бобылем?
Ефим ухмылялся:
– А мне баб хватает. У меня знакомки и в магазинах, и в дворницких.
– Это все случайные встречи. Нужна семья, уют, постоянство. А Поля рождена для этого, она все умеет: и шить, и варить, и мужа приласкать.
– Да очень она некрасивая, – упирался Ефим. – С ней нигде не покажешься.
– А тебе что, на банкеты в высокосветское общество ходить? Тебе уютный дом, хороший друг нужен. Заболеешь – стакан воды некому подать. А тут Поля рядом, она тебя выходит.
– Ну, разве что на пробу, – согласился Ефим. – Только без регистрации и без венчания. Вы, Зинаида Григорьевна, представляете ее в фате?
В общем уговорила Зинаида Григорьевна. Поле она напела еще больше о семейном счастье, о близости дорогого человека, об опоре в жизни и прочих супружеских радостях.
Поля никогда даже не мечтала о таком. Она знала свои внешние недостатки и решила для себя раз и навсегда не тяготиться этим и жить, как Бог даст. И вдруг такая хорошая радужная картина. Конечно, она была согласна на предложение Зинаиды Григорьевны. Ефима она знала много лет. Встречались они во дворе, в вестибюле, но близко не знали друг друга. Он звал ее шутливо мартышкой, пока она была девочкой, но позднее понимал, девушку обижать таким прозвищем нельзя. Стал называть соседкой.
Поля после разговора с хозяйкой уже прикидывала, как она приведет в порядок Ефима. Ходил он много лет в одном и том же комбинезоне, когда-то синего цвета, а теперь просто грязно-неприглядного. Из комбинезона выглядывала фланелевая рубашка, мятая-перемятая, от грязной шеи так засаленная, что из нее можно было сварить жирный бульон. Поля думала о том, как она все это выстирает, какой станет Ефим опрятный и чистый. Она готова была с ним одолеть любые трудности и невзгоды. Одним словом, она была согласна, и женитьба состоялась на условиях Ефима – без регистрации и без венчания.
Добрейшая Зинаида Григорьевна дала в приданое Поленьке два стула с гнутыми спинками. Поля подготовила себе новобрачный подарок: две новых белых простыни и байковое одеяло очень красивой, в клеточку, расцветки.
Свадьба состоялась в комнате Ефима в коммуналке, без гостей, как говорится, тет-на-тет. Ефим поставил на стол бутылку водки, открыл несколько банок консервов. А Поля убрала с его кровати старые тряпки и постелила белые простыни, накрыв их ярким одеялом. Они еще пахли магазином.
Сели за стол. Ефим налил водку в стаканы поровну, чуть больше половины и доброжелательно сказал:
– Ну, будем знакомы! – и опрокинул в себя содержимое стакана.
Поля пригубила. И тут же отдернула стакан. Она никогда в жизни не пробовала спиртного.
– Ничего, привыкнешь, – подбодрил Ефим, выковыривая из консервной банки сайру.
Потом они посидели некоторое время. Поля смущенно опускала глаза долу, а Ефим прикончил поллитру и решительно сказал:
– Будем женихаться!
Снял рубаху и брюки и лег на чистые простыни. Полина, как во сне, не понимая происходящее, пошла к нему.
– Чего же ты одетая? Сымай!
Она вспомнила то, что видела в такие минуты в кинофильмах, ждала поцелуев, ласки, но Ефим схватил ее, подмял под себя. И все дальнейшее Поля позднее вспоминала с ужасом. Как пытку.
Когда Ефим свалился на бок и захрапел, Полина осторожно выскользнула из постели. Оделась. Взяла свое приданое, два гнутых стула, и ушла из комнаты новоявленного супруга. Навсегда.
Зинаида Григорьевна ее уговаривала:
– Стерпится, слюбится.
Да и сам Ефим бубнил:
– Ну, чего ты фордыбачишь? От людей стыдно.
Но она четко отрезала:
– Сходила замуж, все, больше не хочу.
* * *
Вскоре Полина нашла по объявлению работу уборщицы на областной пушно-меховой базе. Располагалась она на окраине города, окруженная общим забором, за которым были цеха обработки пушнины, контора и несколько хибарок, прилепленных к общему забору. В хибарках жили сторож, кладовщик, а в пустой поселили новую уборщицу Полину.
На базу свозили шкурки кроликов, лисиц, волков, иногда медведей – все, что сдавали охотники в районные заготконторы. На базе шкурки выделывали, обрабатывали, упаковывали и отправляли на меховую фабрику. Базу возглавлял пожилой, спокойный, интеллигентного вида Михаил Николаевич Гаврилов, специалист по меховым делам и добрый, некрикливый руководитель, которого уважали все работники. А заслужить здесь уважение не просто: мастера-скорняки, как говорится, штучные специалисты, найти их было очень нелегко. Обходительный, знающий дело директор пришелся им по душе, работа шла спокойно, без командных криков директора, при добросовестном отношении к делу всего коллектива.
Поля с первого дня почувствовала общую доброжелательность, была очень рада и довольна. В отведенной ей комнатушке она была счастлива. Много ли человеку надо для ощущения счастья? И опять-таки, чем его мерить? Избавилась от свадебной передряги, улеглась внутри дрожь от ожидания ужасного будущего. Легко на душе, как после тяжелой болезни. Теперь она ни от кого не зависит. У нее свой угол, работа, зарплата, добрые люди вокруг. Все, что нужно для того, чтобы почувствовать себя счастливой.
И она была счастлива!
* * *
Работа у Поли оказалась нелегкой. Мастера-скорняки после завершения трудового дня оставляли клочья шерсти не только на верстаках, но и на полу, ее разносило сквозняком на подоконники, во все щели и выступы на стенах. Раньше здесь убирались только верстаки и подметался пол. Новая уборщица в первый трудовой день, вечер и до полуночи вычистила все давние залежи шерсти. Вымыла окна, протерла поблекшие электролампочки под потолком. Все работники и особенно директор обратили на это внимание. Кое-кто подумал: для начала цену себе набивает. Но цех обработки и контора базы каждое утро встречали сотрудников чистотой и ухоженностью. Мастера даже аккуратнее стали работать, не сбрасывали отходы на пол.
Михаил Николаевич был очень доволен новой уборщицей. Однажды она помогла ему донести домой покупки, сделанные на рынке по поручению жены. Случилось это к вечеру, когда семья собиралась к столу ужинать. Жена Михаила Николаевича, Варвара Сергеевна, женщина крупная, сначала испугала Полю властным взором и голосом. Но оказалась она человеком добрейшего сердца, голос и строгость исходили от ее массивности, а все, что она делала и говорила, было добрым и не обидным.
В этот первый вечер Варвара Сергеевна скомандовала:
– Садись за стол, будешь с нами ужинать.
Поля не знала, как относиться к этой громкой команде. Подбодрил Михаил Николаевич:
– Садись, садись, Поленька, не смущайся.
За ужином все были веселые, шутили, громко разговаривали. Хозяйка пододвигала Поле салатницы, тарелки с закусками и, видя, что девушка стесняется, сама щедро накладывала в ее тарелку разную снедь. После ужина все отправились на веранду слушать новости по радио. Никто не обратил внимания на то, что Поля к ним не присоединилась, а когда хватились после новостей, обнаружили ее на кухне, где она перемыла всю посуду, которая набралась после ужина, и ту, что залежалась от обеда.
Варвара Сергеевна ахнула:
– Какая проворная! Да как чистенько все вымыла! Ну, спасибо тебе, милая! Приходи к нам почаще, я такой гостье всегда буду рада.
И Поля приходила. Сначала Михаил Николаевич ее приглашал. А потом по просьбе Варвары Сергеевны приходила сама, по воскресеньям, когда не было забот на базе, да и пойти-то больше некуда.
Присмотрелась Поля к Гавриловым, узнала о них многое. Построили они этот дом недавно, на новой улице, когда отводили здесь участки. Проект начертил сам Михаил Николаевич: большая гостиная-столовая, из которой широкая дверь и окна на такую же большую веранду. Две спальни: одна – себе с женой, другая – сыну-подростку Сашеньке. Кухня, санузел и закуток для котла отопления. В дальнем углу двора небольшой флигелечек – одна комнатка и верандочка – это для себя, сюда Михаил Николаевич уединялся почитать, попить пивка и, как узнала Поля позднее от него же:
– Прячусь туда от децибелов Варвары Сергеевны, особенно когда к ней приходит подружка-соседка Елизавета.
Центром, который объединял, делал семью счастливой, был Сашенька. В отца. Крепкий, широкогрудый, рослый, такой же добродушный и покладистый. Он был всеобщим любимцем. Его любили в школе товарищи, ребята, с которыми катался на велосипеде по улице. В семье любили по-своему. Отец строго говорил, как мужчина с мужчиной:
– Саша, пожалуйста, приходи домой точно, как обещаешь. Мама волнуется, когда ты не возвращаешься вовремя. Опаздывать неприлично.
Мама, наоборот, не скрывала своей любви к сыну, даже голос ее грубоватый превращался в мурлыканье:
– Сашенька, миленький мой, опять ты закатался на велосипеде. Я так волновалась.
Николай Михайлович не одобрял подобное «сюсюканье». Но сам ни в чем не отказывал Сашеньке. Даже гараж построил во дворе напротив ворот для будущей Сашиной машины. До того будущего гараж служил курятником с огороженной сеткой территорией, чтоб не портили куры двор. Но и курочки эти были нужны для свежих яиц Сашенке.
Соседка Лизавета тоже обожала Сашеньку. Но по-своему, не как мать и отец, а как-то шутливо, с иронией к нему обращалась:
– Ну, что, молодой человек, партию в шахматы мне проиграешь?
Саша вежливо соглашался, но, как правило, обыгрывал Елизавету.
– Нехорошо, молодой человек, мог бы и уступить женщине! – говорила она, глядя на него любящими очами.
Соседку Поля встречала у Гавриловых часто. Была она худая, энергичная, говорила тоже громко и категорично. Как выяснилось позднее, настоящее имя ее – Эльза Карловна. Она немка. И муж у нее был немец – Роберт Фридрихович Зитлер. Он построил здесь дом рядом с Гавриловыми, одноэтажный, но на высоком цоколе, поэтому видный, красивый. Пожить ему в этой осуществленной мечте не удалось – арестовали. Никто не знал, за что. Был он простой бухгалтер, ни с какими секретами и тайными работами не связан. Эльза Карловна доверительно сказала Гавриловым:
– Наверное, за фамилию и даже за одну букву: Зитлер это почти Гитлер.
В предвоенные годы имя Гитлера стало появляться в печати все чаще. Может быть, и права соседка: не понравилось органам это сходство – Зитлер-Гитлер.
Надолго прижилась Поля в семье Гавриловых. Услужливая и трудолюбивая, она была хорошей помощницей Варваре Сергеевне в доме, а Михаилу Николаевичу на работе. Все чаще ее оставляли ночевать. Спала в гостиной на диване. А иногда, вечером, Михаил Николаевич говорил ей:
– Иди, Поля, спать в мой терем, отдохни от нас.
Семейные отношения не повлияли на работу Поли на базе: цеха и контора постоянно были добросовестно ухожены. За это директор отмечал премиями в праздничные дни, особенно 8 марта. А работники базы в день ее рождения вскладчину покупали подарок Поле: то ботинки на зиму, то плащ от дождя.
Было Поле тепло и уютно, и, может быть, годы, проведенные на базе и в доме Гавриловых, стали бы самым настоящим и полным ее счастьем… Но…
Это «но» часто меняет и переворачивает все в жизни не только одного человека, но и всего государства.
Грянула война…
* * *
Началась срочная мобилизация. Михаил Николаевич освобождался от призыва по возрасту. Саше еще не хватало до восемнадцати лет четыре месяца. Но он сказал, что пойдет в военкомат и запишется добровольцем. Поля стала свидетельницей разговора по этому поводу. Варвара Сергеевна закричала:
– Ни в коем случае!
Саша сказал спокойно и убедительно:
– Мама, я должен!
– Никому ты ничего не должен. Не отпущу.
– Я должен защищать родину.
– Газет начитался, радио наслушался. Не пущу!
Саша сказал спокойно:
– Мама, надо!
Она кричала свое:
– Что надо? Кому надо? Мне ничего не надо! Ты у меня один-единственный. Тебе еще восемнадцать не исполнилось. Скажи ему, Миша! Ты же отец, он тебя послушает.
Оба они – и Саша, и мать – во время обмена этими фразами тайком зыркали в сторону Михаила Николаевича, который стоял у книжного шкафа. Наконец, он молвил:
– Александр (впервые так назвал сына), ты поступаешь правильно. Ты должен защищать родину.
Варвара Сергеевна от этих слов мужа чуть не взвилась над полом вслед за своим выкриком:
– И ты, черт старый, заразился пропагандой! Он у нас единственный!
Михаил Николаевич все тем же спокойным голосом сказал:
– Он сам решил. И решил правильно. Я горжусь поступком своего сына.
Варвара Сергеевна тихо, словно угасая, произнесла:
– Очнитесь. Вы же не на митинге. Встает вопрос о жизни и смерти! Опомнитесь.
И тут Поля услышала одно слово, сказанное Гавриловым-старшим, прозвучало оно так, что запомнилось Поле на всю жизнь не смыслом, а тоном, уже без всякой вибрации – строго, холодно, непререкаемо:
– Варвара… уймись!
Поле показалось, что произнесенное Михаилом Николаевичем имя жены повисло в воздухе и некоторое время резонировало под потолком. Жена сникла, будто мяч, из которого выпустили воздух, обмякла, руки ее повисли вдоль большого, но теперь утратившего силу, тела. Она зашаталась и, наверное, упала бы, если бы ее не подхватил Саша.
– Мама, мамочка, не надо, не расстраивайся так. Ничего не случилось. Все будет в порядке. Я повоюю и вернусь.
Он повел ее в спальню, а она, улыбаясь сквозь слезы, шептала:
– Дурачок ты мой ненаглядный – повоюю и вернусь…
Сашу в армию не взяли, но он поступил в училище. На некоторое время в семье воцарилась прежняя спокойная жизнь. Сын приходил по воскресеньям домой, в красивой курсантской форме. Сияли начищенные пуговицы, белоснежная струйка подворотничка, зеркально начищенные сапоги. Высокий, стройный, подтянутый, румяный, довольный своим положением военнослужащего. Его усаживали к столу, со всех сторон подвигали угощения. Он ел, не стесняясь, и рассказывал о курсантской жизни. Но потом все вдруг вспоминали о плохих делах на фронте, об отступлении, сдаче городов, о том, что фронт приближался к их родному N-ску. Радость встречи сникала, у всех на лицах появлялась озабоченность по поводу возможного очень скорого расставания.
У Поли забот прибавилось, теперь, кроме уборки и мытья посуды, она уходила в магазины еще до рассвета, записывалась в бесконечные очереди, выстаивала их и возвращалась с полученными по карточкам хлебом и другими продуктами.
О том, что Саша убыл на фронт, узнали от знакомых, чьи сыновья учились вместе с ним. Училище ночью подняли по тревоге и бросили закрывать какой-то очень опасный прорыв немцев, которые уже переправились через Днепр.
В доме Григорьевых словно свет погас, стало мрачно и настороженно. Ждали весточки от Саши, а он все не присылал.
Теперь Поля не только убиралась, ходила по очередям, но еще до полночи стояла на коленях рядом с Варварой Сергеевной и молилась, просила Бога, чтобы он уберег от смерти дорогого Сашеньку.
Соседка Елизавета стала реже бывать в доме Гавриловых. Когда больше недели не появилась, Варвара Сергеевна послала Полю:
– Сходи, навести, не заболела ли. Может помочь надо?
Поля бывала у Лизы и раньше, знала, где и как войти. Вошла тихо, чтобы не испугать соседку. То, что она увидела, очень удивило Полю. В зале Лиза стояла перед географической картой, которая висела на стене и, как военный человек, что-то чертила на этой карте. Поля кашлянула, чтобы привлечь внимание. Лиза быстро обернулась и расставила руки, будто хотела прикрыть собой карту. Но карта висела выше ее головы, и Поля рассмотрела на ней ленточку, обозначающую линию фронта. Не видя в этом ничего худого, Поля спросила:
– За боевыми действиями наблюдаете?
Подошла и сама стала разглядывать, где же сегодня проходят сражения. Лиза несколько растерянно подтвердила:
– Отмечаю. Читаю сводки информбюро и отмечаю.
Поля не могла понять, где же наши войска. Она знала, что немецкие позиции обычно рисуют синим цветом, а наши красным. Но на карте была только красная ленточка, прикрепленная булавками.
– А где же немцы? – спросила Поля.
– Вот, где красная линия, перед ними немцы.
– Вы их не рисуете, потому что быстро продвигаются?
– Да, очень быстро. Не успеваю наносить. Скоро будут здесь, у нас.
По тому, как Лиза это сказала, Поля вдруг вспомнила, что соседка – немка, и поняла, что она красным наносит положение немецких войск. Ждет их прихода! Полю охватила оторопь от этой догадки, она не знала, что сказать и не сумела скрыть своего испуга. Эльза Карловна поняла ее состояние, сухо отрезала:
– Донесешь?
– Что вы, что вы! – замахала руками Поля. – Я не такая…
Соседка, уже не скрывая, объяснила:
– Жду. Они моего мужа освободят. Он ни за что сидит. Они его освободят обязательно.
Поля между тем потихоньку отступала к двери, лепетала:
– Меня к вам Варвара Сергеевна… Узнать, не больны ли вы. Не приходите…
– Скажи: здорова. Приду. Скоро приду.
Поле послышалась тайная угроза в ее жестких словах, вроде бы она хотела сказать: приду вместе с ними.
Поля о своем открытии ничего не сказала Варваре Сергеевне. И Михаилу Николаевичу тоже не открыла тайну соседки. Опасалась, вдруг они сообщат об этом куда нужно, а она, Поля, обещала не доносить. В общем промолчала. А соседка вскоре пришла. Поговорили о невеселых делах на фронте. Спросила, какие вести от Сашеньки. Но Поля по глазам Эльзы Карловны поняла – пришла она проверить, не выдала ли ее Поля. Убедившись, что Гавриловы ничего не знают, повеселела, уходя, очень значительно поглядела Поле в глаза, заговорщицки улыбнулась.
Наконец-то принесла почтальонша письмо от Саши. Листок, сложенный треугольничком, видно, конверта не было. Сын коротко сообщал: «Жив, здоров. Скоро погоним фрицев назад. Не скучайте. Не беспокойтесь. Всех целую. Привет Поле. Целую, Саша». И дата месячной давности. Где он теперь? Фронт совсем близко подступил к N-ску, может быть, забежит хотя бы на часок, если здесь их часть отступать будет.
В городе готовилась эвакуация. Но на подготовке все кончилось. Немцы прошли правее и левее, N-ск оказался в зоне оккупации. Больших масс ни своих, ни гитлеровцев через город не проследовало. Бои прогремели стороной. Легли спать при своих, проснулись при чужих. Но немецкая администрация в N-ске появилась: комендатура, офицеры, солдаты – в светло-зеленой форме, гестапо, полиция – в черной. Начались аресты. Чистили город от коммунистов, евреев, ловили разных бывших начальников.
И вот однажды, как и обещала Поле, пришла к Гавриловым соседка в немецкой форме, но без погон. Она торжествующе и весело представилась:
– Здравия желаю! Честь имею – переводчица градоначальника Эльза Карловна Зитлер!
Гавриловы онемели, не знали, как себя вести.
– Дорогие соседи, я ценю нашу дружбу. Особенно твою доброту, Поля. – Обращаясь к Гавриловым: – Она спасла вам жизнь тем, что меня не выдала. Я поручилась за вас в немецкой комендатуре. Вас не тронут. Не беспокойтесь. О том, что Саша служит в Красной Армии, молчок. Я тоже умею держать язык за зубами. Ну, будьте здоровы. Если что – обращайтесь.
И ушла твердым шагом с гордо поднятой головой. Когда Эльза удалилась, Поля рассказала, как застала ее около карты с отметками продвижения немецких войск. Варвара Сергеевна упрекнула:
– Что же ты нам не рассказала.
А Михаил Николаевич похвалил:
– Правильно поступила, доносительство при любой власти подло, хоть при советской, хоть при фашистской.
С приходом гитлеровцев перевернулись думы о Саше на сто восемьдесят градусов. Теперь он находился по ту сторону фронта, а Гавриловы и Поля – в немецкой зоне.
* * *
Гитлеровцы в N-ске продержались недолго. После Битвы за Москву их полчища покатились на запад. Во время этого отступления выбили их и из N-ска. Однако за недолгие месяцы оккупации жители насмотрелись много бед. Гавриловых не тронули благодаря покровительству Эльзы Карловны.
Госпожа Зитлер очень переменилась за эти дни. Однажды она подстерегла Полю на улице и завела в свой дом. Вид у нее был теперь не такой воинственный, как в тот день, когда представилась Гавриловым переводчицей немецкой администрации, глаза у нее не только потускнели, но и бегали, как у провинившейся в чем-то нехорошем. Она сама об этом сказала Поле:
– Я тебя позвала потому, что ты умеешь держать язык за зубами. Я помогла Гавриловым и тебе, защитила от фашистов. Теперь ты должна мне помочь. Я увидела пытки, издевательства, расстрелы, как живых зарывали в могилах. Особенно меня перевернул поджог школы, в которую они собрали «неблагонадежных». Фашисты забили окна и двери досками и сожгли людей заживо. Они не немцы. Они какие-то искусственно выращенные существа, без души, сердца, элементарного интеллекта. Я не могу с ними сотрудничать. Не хочу участвовать в их преступлениях. Понимаешь?
Поля кивнула. Слушала она эту исповедь с не меньшим удивлением, чем когда увидела Эльзу около карты с немецкой линией фронта. Эльза Карловна между тем продолжала:
– Зачем я тебе это рассказываю? Ты теперь знаешь обо мне все. Я с ними отступать не буду. Это не мои немцы. Но после возвращения наших меня могут арестовать и наказать за то, что я у них работала. Вот и решила я искупить вину. Буду помогать нашим партизанам и подпольщикам. Мне известны некоторые секреты немцев: когда и где они намечают облавы, за кем следят. Что узнаю, буду сообщать нашим через тебя, записочкой или устно.
Поля не испугалась, но высказала сомнение:
– А где я найду партизан? Я никого не знаю.
– Это я предвидела. Мне известен адрес одной группы, за которой следят полицейские. Скоро их должны арестовать. А ты пойдешь сегодня вечером и предупредишь их. И скажешь, что я готова с ними сотрудничать. Они тебе сразу не поверят, не скажут, где скроются от ареста. А ты и не спрашивай. Укажи, где они сами могут тебя найти. Придут к тебе тайком, а ты им новую записочку от меня передашь. Вот и поверят. Наши вернутся, и у меня алиби будет. Поняла?
– А кто этот алибе? – поинтересовалась Поля.
– Это не кто, а что. Отсутствие вины по юридическим правилам. То есть я ни в чем не виновата.
– Боюсь я, Эльза Карловна, не смерти боюсь, справлюсь ли? С людьми-то я и поговорить не очень умею.
– И не надо. Суть дела скажешь, они все поймут. И главное, ни Гавриловым и никому другому обо мне и нашей затее ни слова. Ты добрая женщина и способна только на добрые дела.
Поля взяла записку, а вечером сказала Гавриловым, что идет в свою комнату на базе. Пошла по адресу, написанному на записке переводчицей. Нашла нужный дом. Постучала в калитку. Долго не открывали. Вышел бородатый мужик, типичный партизан, какими их представляла Поля.
– Чего тебе? – глухо спросил он.
Она подала послание:
– Вот. Это вам велено передать.
Бородач тут же развернул бумагу. Прочел. Внимательно посмотрел на Полю.
– Ну-ка, зайди.
Ввел ее в комнату, тускло освещенную керосиновой лампой. Позвал еще двоих, таких же бородатых. Подал им послание:
– Вот, принесла.
Соратники прочитали, стали расспрашивать, кто писал, от кого узнала адрес. Поля односложно отвечала дрожащим голосом:
– Ничего не знаю. Никого не знаю. Просили передать.
– Кто просил?
– Не знаю, не ведаю.
– Ты, красавица (явно пошутил один из них), нас не бойся. Мы тебе ничего плохого не желаем. Но нам надо знать, можно ли верить этому предупреждению.
– Ничего не ведаю. Никого не знаю. Утекать вам надо, иначе заарестуют. Поверите, ко мне приходите. Тайно (объяснила, куда). Принесут мне и другие записки, я вам передам.
– Кто принесет? Откуда?
– Ничего не ведаю. Никого не знаю. Сказали мне, чтобы вам, партизанам, передавала. Вы мне свое новое тайное жилье не выдавайте. Сами приходите ко мне опосля.
Мужики заулыбались.
– От нее ничего не добьешься. Молодец, баба, умеешь конспирацию соблюдать.
Поля не поняла, что значит это слово, тоже улыбнулась:
– Ну, я пойду?
– Иди, красавица, спасибо тебе. Не боишься одна ночью? Может, проводить?
– Не-а, не боюсь.
И ушла со двора в темную, без освещения улицу.
* * *
Гитлеровцы отступали через N-ск длинными пешими колоннами, шагали вразброд, кто по обочине, кто по центру дороги. Танки гудели и скрежетали гусеницами в обход города, по шоссейным и полевым дорогам. Отступающие побили во дворах скотину на мясо. У Гавриловых двое солдат постреляли из автомата всех кур. Уцелела одна пеструшка, упорхнувшая через сетку.
Наши проходили город без остановки, в грязных белых масккостюмах, многие в полушубках.
Восстановила работу советская власть: горсовет, райсоветы, горотдел, райотделы НКВД и милиции. Теперь арестовывали тех, кто сотрудничал с фашистами. Эльзу Зитлер тоже арестовали.
Поля не только молилась с Варварой Сергеевной по вечерам, но на рассвете опять отправлялась записываться в длинные очереди за хлебом по карточкам, за крупой, сахаром и солью в продмаг. Ей писали на ладошках номера химическим карандашом, и она иногда путала, от какого они распределителя.
Опять ждали писем от Саши. Восстановилась работа областной пушно-меховой базы. Сошлись мастера-скорняки и служащие конторы. Мужики все непризывные по возрасту ни у наших, ни у гитлеровцев. Михаил Николаевич хлопотал в поисках сырья – охотничьей пушнины не было. Стали выделывать шкуры коров и лошадей. Большинство браковали, падаль не принимали.
Вымолила Варвара Сергеевна у Бога милости, пришел треугольник от Сашеньки! Опять короткая писулька: «Жив-здоров. Гоним немцев с родной земли. Я уже лейтенант. Целую всех. Привет Поле». Дата недавняя, видно, прошел он со своим полком где-то далеко правее или левее родительского дома, наступление велось на широком фронте от Белого до Черного моря.
Радовались мать и отец. Плакала от счастья Поля. Даже не от письма, а что не забыл ее Сашенька, наградил приветом.
Однажды в контору базы пришла повестка – Полину Голубеву вызывали в районное НКВД в такой-то день, к такому-то часу. А если не придет, будет доставлена под конвоем. Михаил Николаевич успокоил:
– Иди. Совесть твоя чиста. Это, наверное, насчет соседки Эльзы Карловны.
Полина пришла по адресу к большому серому дому. На окнах решеток не было, простые белые занавески. Не тюрьма, а входить страшно. Страшнее, чем в ту ночь, когда к партизанам шла.
Следователь сразу рявкнул на нее обвинительным тоном:
– Фамилия? Имя? Отчество?
У Поли пересохло во рту, не могла говорить, показала, где в повестке все это написано.
– Отвечай на вопросы, как положено! – гаркнул следователь.
Он даже не посчитал нужным говорить на Вы с этой похожей на орангутангшу женщиной. Поля действительно выглядела неказисто: приземистая, широкая в плечах – квадрат на кривых коротких ногах. Да к тому же еще и лицо сплюснутое, тестообразное, окаймленное плохо причесанными, с густой проседью космами. Поэтому и прорывалось у него недовольство в рявкающем тоне:
– Что можешь показать о шпионской, предательской деятельности Эльзы Зитлер?
Поля лепетала:
– Ничего не знаю. Никакого шпионства.
– Она у немцев работала?
Поля кивнула.
– Значит, предательница, а ты ей помогала. Она тебя завербовала?
В этот момент раскрылась дверь и вошел высокий, в коверкотовом кителе с золотыми погонами на плечах, холеный, чисто выбритый, красивый офицер, явно начальник. Он слышал последнюю фразу следователя и, видно, был недоволен его властным тоном.
– Не педалируйте, Горбунов, – и, обращаясь к Поле: – Вы часто встречались с Эльзой Карловной?
Поля немного опомнилась от его мягкой манеры обращения.
– Часто. Она наша соседка.
– А во время оккупации?
– Нечасто. Один раз она пришла и сказала Гавриловым: «Вас не тронут, я за вас поручилась».
– Значит, она у немцев имела какой-то авторитет, если поручилась?
– Она у них была переводчица. Она немка, говорить умела по-ихнему.
– А какие поручения она вам давала? Вы же с ней сотрудничали?
– Нет, она сами по себе, я сама по себе.
– Но задания она вам давала?
– Нет, никогда никаких заданиев. Только одну записку отнести партизанам. Я отнесла. А потом они ко мне сами приходили, тайно, за записками Лизы. Она мне их вроде бы мимоходом подсовывала.
– Значит, вы делали доброе дело, помогали партизанам.
– Не знаю. Я только писульки ее передавала.
– Вы и Эльза Карловна спасли жизнь многим подпольщикам и даже нашим разведчикам. Это установлено. Спасибо вам, Полина Николаевна. Давайте пропуск, я подпишу, чтобы вас выпустили. А вы, товарищ Горбунов, проводите свидетельницу до выхода.
Поля не верила своим ушам, с приходом этого доброго начальника все повернулось в ее пользу. Она кланялась, говорила спасибо и пятилась к двери.
Следователь довел Полю до дежурного, который выдавал и отбирал пропуска и неожиданно сказал мягким голосом своего начальника:
– До свидания, гражданка Голубева.
Эльзу Карловну вскоре выпустили. Она пришла к Гавриловым, рассказала свою одиссею и поблагодарила Полю:
– Ты мне очень помогла. Твои показания просто спасли меня. Не могли найти моих записок. Разбрелись, разъехались партизаны. А ты – живой свидетель.
* * *
Боевые действия откатились на запад. Письма от Саши приходили чаще, иногда в конвертах. Варвара Сергеевна и Поля стояли на коленях перед иконой теперь не так долго, как в первые годы войны. И вот, наконец, пришла весть о Победе, так же как о начале войны, по радио.
Словно солнце засветило ярче, все вокруг ожило. Люди постарели, похудели, одежда на них обносилась, но они, встречаясь, даже незнакомые друг другу, улыбались. Просто так, беспричинно. И все понимали, почему они улыбаются.
Саша приехал в отпуск. Он был уже майор! На груди два ордена и несколько медалей. Стал он мужественным, обогнал отца в росте. Военная форма очень шла ему, будто никем, как красавцем-офицером, он и быть не может.
За годы войны Сашу даже не ранило. Поля подумала: «Услышал наши молитвы Господь Бог».
В годы войны многие погибли, стали инвалидами. Но счастливых было не мало – стали полковниками, генералами, директорами заводов, институтов.
Только Поля как была, так и осталась уборщицей базы.
У всех жизнь вошла в прежнюю колею, у каждого со своими радостями и печалями.
* * *
Прошло пятнадцать лет. Город расширялся и обновлялся. Пушно-меховая база оказалась уже на окраине. Ее снесли. На этом месте построили многоэтажный жилой дом. Поскольку хибарка, в которой жила Поля, значилась в документах как квартира № 4, то ее обладательница имела право на возмещение жилплощади. И Поля, к великому счастью, получила в новом, построенном на месте бывшей базы красивом доме однокомнатную квартиру со всеми удобствами. Она ходила из коридора в комнату, в кухню, в совмещенный санузел, потом шла в обратном порядке. И так не раз, и не два. Не верила своим глазам. Вопрошала кого-то неведомого: «Неужели это все мое?» Потом она сообразила, кто этот благодетель: купила икону с изображением Христа. Укрепила ее в переднем углу еще пустой комнаты. Засветила лампадку. Одна на середине этой пустой комнаты стояла на коленях и горячо благодарила Господа за великую милость к ней, убогой и одинокой, немолодой уже женщине.
Пришли посмотреть новое Полино жилье Гавриловы. Без Саши, он, как всегда, был где-то далеко на своей военной службе. Квартира очень понравилась. Варвара Сергеевна советовала, как обставить. А Михаил Николаевич помогал конкретно:
– Заберешь у меня из флигелька кровать и тумбочку к ней. Торшер тоже забери. Варя, отдай ей три стула, у нас никогда не бывает столько гостей, чтоб занимать все восемь.
Поле очень нравился комод, который стоял в спальне Гавриловых. Она подобрала и купила себе не такой же, не из красного дерева, но со многими выдвижными, большими внизу и половинными наверху ящиками. Кухню почти всем, вплоть до посуды, обеспечила Варвара Сергеевна. Через неделю, завершив оборудование нового Полиного жилья, Варвара Сергеевна встала посредине комнаты, перекрестилась на образ Христа и торжественно сказала:
– Мир дому сему. Будь счастлива, дорогая Полюшка. Владей всем этим и радуйся, – сделала паузу и сказала тоном, не допускающим возражения: – А жить будешь у нас, – и тут же мягко, просительно молвила: – Не оставляй нас, Полюшка.
Так они и жили втроем довольно долго. Михаил Николаевич был уже пенсионер, со дня ликвидации базы. Саша помогал родителям то денежным переводом, то при личном общении. Он был уже полковник, как отец, пополнел, седина посеребрила виски. Приезжал во время отпуска со своей семьей: жена Бэлла – очень красивая, подстать ему крупная блондинка, сероглазая, фигуристая, тоже, как и Саша, добрая и покладистая. Жили они душа в душу, очень любили друг друга. Был у них и сыночек Мишенька (в честь деда) – спокойный, неторопливый, не шкодливый, настоящей гавриловской породы. А внешне – полный двойник Сашеньки, когда он был в таком же возрасте.
Поля после приезда Гавриловых-младших на несколько дней уединялась в свою квартиру, давала возможность насладиться семейной радостью старшим и младшим, надышаться друг другом. Но через пару дней приходил за ней Саша и с шутливым упреком звал:
– Ты чего это кинула нас на произвол судьбы? Давай, давай, выходи строиться. Все тебя заждались.
Жизнь в семье Гавриловых входила почти в довоенную колею. Только теперь объектом общей любви и внимания стал Мишенька.
Прошло еще пять лет. Подошла грустная пора, когда лампада угасает. Этого еще никто не избежал, но каждый раз смерть приходит неожиданно. Первой умерла Варвара Сергеевна. Кормила курочек и вдруг вскрикнула и упала, потеряла сознание. Внесли ее в дом, положили на диван в гостиной. Вызвали «скорую помощь». Врач осмотрел, послушал стетоскопом, сняли кардиограмму. Диагноз был короткий:
– Инсульт. Нужен полный покой. Обращайтесь в районную больницу. Нужна госпитализация.
В больницу определить не успели. До прихода районного врача у Варвары Сергеевны наступил «полный покой».
На ее могиле Михаил Николаевич поставил светлую, белого мрамора плиту: у верхнего ее обреза выдолблен и позолочен небольшой крест, ниже тоже с позолотой: «Варвара Сергеевна Гаврилова. 1901—1982 г.» Надпись расположена вверху плиты, низ оставлен, как понимала Поля, для продолжения. Никаких печальных слов, вроде «Дорогой жене и другу» или «Буду помнить и любить вечно», муж заказывать не стал. Объяснил: «Банально. Ни к чему. Такое в душе хранится».
После похорон Поля жила в доме Гаврилова неотлучно. Старик молча переживал свое горе. Почти не разговаривал. Поля жалела его, старалась быть во всем предупредительной, утром и вечером готовила ему чай с молоком, какой он любил раньше. А он пил, не замечая, что пьет.
Протянул Михаил Николаевич неполный год. Хоронить прилетел Саша. Один, без семьи. Появилась на белом надгробье новая надпись: «Гаврилов Михаил Николаевич. 1904—1983 г.»
Только теперь Поля обнаружила, что Варвара Сергеевна была старше мужа. Это удивило и обрадовало. Поля отметила про себя: значит, и так бывает, кто старше, кто моложе – любовь не считается.
Осталась Поля одна-одинешенька в своей чистой ухоженной квартирке. Работала, как и прежде, уборщицей. Такую работу не трудно найти. На двери почти каждого магазина и учреждения наклеена бумажка: «Требуется уборщица». Выходные дни Поля проводила на кладбище, весной высаживала цветы на могиле Гавриловых, летом ухаживала за ними, красила ограду зеленой краской. Никого более близких у Поли не было. Пошла однажды в центр города навестить старых знакомых в фотосалоне. Салон работал, только обветшала деревянная отделка витрины, да выставлены новые, незнакомые фотографии.
Борис Робертович стал очень похож на отца, такая же бородка клинышком, лохматая шевелюра с проседью. Он воспринял приход Поли как-то настороженно. Наверное, подумал, что она будет денег просить. Говорил с ней мимоходом, вроде бы очень занят своим делом, ходил по салону, что-то искал, перекладывал с места на место, даже ушел в темную комнату, где негативы обрабатывались. Наверх, в квартиру, к жене и детям не пригласил. Поля попрощалась:
– Ну, будьте здоровы, передавайте мой привет вашим…
Было у Поли два заветных дня – Пасха и день рождения. Отмечала она их по-своему, в одиночестве. На Пасху в церковь ходила, куличи, яички крашеные освящала. Дома одна тоже молилась, да чай пила со сладостями. Соседей она не знала. В больших домах иногда живут на одной лестничной площадке много лет рядом и не знают, кто есть кто. Не принято. Тем более что Поля иногда месяцами не появлялась в своем жилье. Второй праздник – день рождения. У Поли был целый свой ритуал. Она доставала из комода и раскладывала на столе многочисленные грамоты, которыми награждали ее в праздничные дни на базе. Особое место в центре стола занимали фотографии Варвары Сергеевны, Михаила Николаевича и Саши. Центрее всех Саша в военной форме. Сбоку лежала фотокарточка Эльзы Карловны. На обороте снимка было написано: «Дорогой Поле с благодарностью. Э.К.З.»
Соседка умерла и была похоронена без участия Поли и Гавриловых. Оказалось, в городе существует землячество немцев, непохожих на тех, которые нападали на нашу землю. Это землячество и похоронило Эльзу Карловну на своем немецком кладбище, которое тоже существовало где-то в городе.
В день рождения, разложив все свои памятные документы, Поля вспоминала обстоятельства, при которых вручали ей грамоты, работников базы, Михаила Николаевича, как все они относились к ней очень по-доброму. Особенно тепло ласкала взглядом фотографии семейства Гавриловых. Вспоминала, как ночами молилась за Сашу вместе с Варварой Сергеевной в дни войны и слова ее: «Видно, Бог услышал мои молитвы, уберег тебя, Сашенька.
Очень глубоко в душе, даже пряча от самой себя эту тайную мысль, Поля сладко надеялась: «Еще неизвестно, чьи мольбы за Сашеньку услышал Господь».
Саша, теперь полковник Александр Михайлович, приезжал иногда осенью, один, без семьи, навестить могилу родителей. Он заезжал за Полей на такси и вез ее на кладбище. Саша покупал у входа цветы, клал их к белой мраморной плите с именами родителей. Потом они долго сидели молча на скамеечке в ограде, которую сделали рабочие кладбища по заказу Саши.
Эти минуты для Поли были счастливейшими в ее жизни. Она находилась в полной сладостной прострации. Близость Саши не только опьяняла ее, но кружила, возносила куда-то ввысь, где она парила, не ощущая ни себя, ничего вообще окружающего. Только состояние невесомости от близости Саши. Она знала, что это за состояние. Но не смела даже в глубине души своей признать, что «это» называется любовью. Понимала, не имеет права об этом даже мечтать. Однако от Поли, видимо, исходили такие пылкие флюиды, что Александр Михайлович ощущал их. Но и он понимал несоизмеримость и несовместимость их положения, делал вид, что ничего не подозревает о чувстве Поли. Он благодарил ее за внимание к праху родителей, давал ей денег, гораздо больше, чем стоили цветы и уход за могилой. А она, не поднимая на него взор, боясь, что глаза выдадут ее окончательно, брала эти деньги механически, не понимая, о чем он говорит и что желает на будущее.
* * *
В очередной приезд, через два года, Александр Михайлович был уже в звании генерала. В красивой форме с красными лампасами, в фуражке нового образца, очень большой, на высоком верхнем выступе которой блестели крылья золотой птицы, он выглядел еще выше ростом и величественнее.
Когда он подъехал к дому, чтобы забрать Полю и отправиться с ней на кладбище, соседи даже с этажей выше и ниже вышли полюбоваться на красивого генерала. Они сообщили ему печальную весть:
– Поля умерла.
– Как умерла? Когда?
– В прошлом году. Как все старые, больные люди.
– Почему мне не сообщили?
– А куда?
– Разве она не сказала адрес?
– Мы не знаем. Она умерла в больнице.
Гаврилов поехал в больницу, там объяснили:
– Ввиду большого количества умирающих и очень ограниченной территории кладбищ, старых и новых, в подобных случаях умерших кремируют, а урны сдают в колумбарий.
По дате смерти и фамилии «Голубева» в колумбарии, среди одинаковых серых, гипсовых сосудов нашли Полин прах и выдали под расписку:
– Кому? – спросил регистратор.
– Дальнему родственнику, – сказал Александр Михайлович.
Саша похоронил урну с прахом Поли в ограде рядом с памятником Варвары Сергеевны и Михаила Николаевича.
Рабочие кладбища по указанию генерала сделали маленькую могилку и обложили ее зеленым дерном. Поставили вертикально небольшую мраморную плиту, тоже заказанную генералом, на которой было высечено и позолочено: «Полина Алексеевна Голубева. 1914—1988 г.»
Так счастливо сложилась и счастливо завершилась Полина жизнь.
Александр Михайлович увез на память Полину записку, которую она написала в больнице перед смертью:
«Дорогой Сашенька.
Я нашла свое счастье в вашей семье. Похорони меня рядом с Варварой Сергеевной и Михаилом Николаевичем. Придет время, и ты ляжешь с нами рядом. Будем и на том свете вместе.
Живи долго и счастливо.
…Поля».
В зачеркнутом перед ее именем Александр Михайлович, по вдавленным буквам, разобрал слово «твоя».Жили-были Маруся и Коля
Письмо пришло странное, внешне и по содержанию: листок из тетради в клеточку, сложен треугольником. Такие уголки во время войны, как бабочки, порхали по всей огромной стране. А теперь, в двадцать первом веке, угольничек этот выглядел не бабочкой, а молью, выпорхнувшей из архивного прошлого. Может быть, у отправителя денег не было на конверт и марку, или очень скупой. Но почтари поняли так: посылал не очень грамотный человек, пожалели его, доставили треугольник по назначению.
Внутри на этом листе написана одна фраза без запятых и точек:
« Пишу по просьбе Николая он доходит скоро помрет хочет увидеть тебя перед смертью в последний раз найдешь нас по адресу»
Ни подписи, ни адреса не было. Маруся поняла: обратный адрес на первой стороне листка там же, где ее адрес. Внизу, под криво проведенной чертой было написано:
«Мурманская область, Кандалакша, п/я 461, санчасть».
Все почтовые загадки вмиг отлетели: Коля умирает! Надо скорей к нему!
Любой человек, получив такое известие, кинулся бы в аэропорт или на вокзал и помчался к умирающему. Был в Самаре и вокзал, и аэропорт. Только Маруся не была «любым человеком», у нее особая судьба.
Говорят, в судьбе вся жизнь вперед предписана. А кто пишет миллионы судеб для людей? У некоторых она такая ужасная, что «божий перст» в ней не может быть. Господь добрый, он посылает людям любовь и радость. А вот дьявол, наверное, пакостит людскую долю всякими бедами. Говорят же: «жребий начертан». Вот в слове «начертан» уже «черт» виден, а «жребий» – это игра, забава его, он будто в лото играет, вытягивает из смрадного мешка своего какую-то очередную мерзость и подсовывает ее в судьбу человека.
Сироты Маруся и Коля оказались в Самарском детском доме с шести лет. Колины родители погибли в автокатастрофе, Марусины сгорели при пожаре. К Марусе в детдом приходила бабушка Анастасия Викторовна. Она приносила ей пирожки, конфеты, яблочки. Маруся всегда делилась с Колей, они подружились с первой встречи. Коля оберегал Марусю от шалостей мальчишек, частенько дрался с ними, защищая подружку. Маруся была шустрая, бойкая. Она и сама не поддавалась и Колю выручала при его стычках с мальчишками, бесстрашно кидалась в схватку. Потом лечила его ушибы и синяки, прикладывая мокрые тряпочки и медные пятачки.
У Коли не было бабушки и других родственников. Он был «круглый сирота». Почему круглый? Может быть, оттого, что никого вокруг нет, не только отца и матери, а вообще никого.
Бабушка жалела обоих. Они всегда встречали ее вдвоем. Маруся очень любила бабушку, ждала ее с нетерпением. Бабушка обнимала, целовала Марусю, была она мягкая, теплая, словно большая тряпичная кукла, пахло от нее пирожками, которые она каждый раз приносила. Анастасия Викторовна обнимала и Колю, пирожками кормила и иногда приговаривала:
– Стебелек ты беленький, без солнышка и родительской ласки растешь, как цветочек в тени.
Коля действительно был худенький, белоголовый, не хватало в его хрупком тельце каких-то сил, чтобы позолотить волосы, были они бесцветные, как лен. Детдомовские ребята и воспитатели звали его Коля беленький. Голубые глаза глядели не по-детски мудро и немного печально.
Бабушкины пирожки очень нравились Марусе и Коле, была в них какая-то неведомая зеленая сладкая начинка. Коля однажды спросил:
– Бабушка, что это в пирожках?
– Витамин, деточка, очень полезный витамин. Вам бы надо апельсинчиков, персиков, сливочек, а у меня денег на них нет. Вот я и собираю в парке клевер. В нем, говорят, витаминов этих самых еще больше, чем в дорогих фруктах. Ешьте, детки, ешьте, клевер очень полезный. Я его и сахарком сдабриваю.
Когда Марусе и Коле исполнилось по десять лет, бабушка приходить перестала. Маруся не знала, почему она не ходит. Не знала она и адреса, где живет бабушка, а по телефону долго никто не отвечал. Но однажды строгий голос недовольно сказал:
– Слушаю.
– Можно бабушку Анастасию?
– Нельзя. Умерла она.
Так Манечка стала, как и Коля, круглой сиротой.
Они учились в школе в одном классе. Когда закончили седьмой, их определили в профтехучилище для приобретения профессии, чтобы после детского дома жили и кормились самостоятельно. Училище готовило разных специалистов. Марусю и Колю добрые люди зачислили на кулинарное отделение – поближе к еде. Судьба им не обещала больших успехов и достатка, так хоть сыты будут.
И верно, после учебы покинули Маруся и Коля детдом, устроили их по направлению в помощники повара в столовую авторемонтного завода и даже кровати в общежитии дали, врозь – она в женском, он в мужском.
Прижились, пришлись ко двору на пищеблоке молодые специалисты. Шеф-повар Федотыч, толстяк с красной потной физиономией, рачьими глазами навыкате, красным носом, который выдавал его хобби, грозно, коротко покрикивал на всех, в том числе и на Колю и Марусю, но без злобы, для порядка. Трудолюбивые сироты понравились старику. Он их поддерживал не только на работе, но и в быту. Сказал однажды:
– Пора вам жениться, нечего по общежитиям мотаться, свой угол надо иметь.
Федотыч куда-то ходил, кого-то просил. С ним считались, уважали и выделили молодым специалистам комнату, правда, в том же общежитии, но зато отдельную. В этой комнате и свадьбу справили. Федотыч был за посаженного отца, гости – поварихи, поварята, раздатчицы из столовой. В угощении недостатка не было – все продукты столовой в полном распоряжении шумливого и доброго Федотыча. Наготовили столько, что три дня доедали с соседями из общежития.
В общем, жизнь Коли и Маруси сложилась счастливо. Они друг в друге, как говорится, души не чаяли, были их чувства больше, чем любовь, но как это называется, они и сами объяснить не могли, считали крепкой дружбой.
Однако счастье молодых длилось не долго. Видно, сунул дьявол свой пакостный коготь в их судьбу. По явному доносу нагрянула на пищеблок комиссия и выявила недостачу – хищения не только продуктов, но и преступные деяния работников пищеблока. Оказывается, Федотыч не только ходатайствовал о выделении комнаты Николаю и Марии Ивановым, но и взятку за это дал. А Колю посчитали пособником Федотыча в хищениях, и подтверждалось это конкретным фактом: на свою свадьбу Николай Иванов похитил изрядное количество различных продуктов. Да и к тому же три казенных стула взял на свадьбу и не успел вернуть, определили – присвоил.
Было следствие. Состоялся суд над «преступной группой расхитителей». Если бы они украли миллион или миллиард, дело замяли бы, а похитителей отпустили. Но на хищении государственных продуктов и мебели решили прокуроры, следователи и судьи свою строгость и рачительность показать – Федотычу дали три года, Коле – два с отбыванием в лагере, правда, не строгого, а обычного режима. Взяточнику тоже два года, но условно.
И все, рухнула радостная, хорошо устроенная жизнь Коли и Маруси. Его отправили в лагерь, ее перевели из отдельной комнаты на койку в общежитие.
Коля присылал письма из лагеря. Находился он недалеко от Кандалакши. Писал, как он любит Марусю, скучает без нее, подбадривал – жизнь наладим, срок не большой, скоро будем вместе.
Срок небольшой, но, видно, в лагере ему пришлось горько. Не писал он об ухудшении здоровья, слабого с детства. Холодная зима, ледяные ветры подкосили, простудился, заболел, ослаб и вот «доходит».
Маруся первым делом пересчитала, хватит ли денег на дорогу. Денег хватало только в один конец – туда, до Кандалакши. Продать нечего. Взаймы никто не даст, все знали – возвратить долг она не сможет.
Маруся решила: главное, туда добраться, в обратный путь мне билет не понадобится, живой или мертвый Коля, я всегда с ним рядом буду, добраться скорее к Коленьке, в последний раз на меня посмотреть хочет. Видно, дело совсем плохо – сам не написал, не позвал, постороннего попросил сообщить.
Полетела в Мурманск, все до копейки собрала, только бы побыстрее к нему. Может быть, чем-то помогу, спасу его.
Из Мурманска до Кандалакши – на попутных машинах. А в Кандалакше растерялась – куда дальше, где этот п/я 461? Сообразила, должны знать на почте, они письма туда доставляют.
На почтамте неприветливая женщина в окошечке ответила:
– Не знаю. Для того и указан почтовый ящик, чтобы никто не знал.
Маруся отступила на шаг от окошечка, заплакала: так спешила! Может быть, Коля последние минуты доживает. Примчалась сюда, а что дальше делать, где искать?
Строгая женщина выглянула в окошечко:
– Ты чего ревешь?
– Муж у меня умирает в лагере. Вот, письмо получила.
– Знаю, что лагерь. Поэтому и зашифрован. Погоди, не плачь, я в отдел доставки схожу, узнаю, где твой п/я.
Закрыла окошечко дощечкой с надписью: «Технический перерыв». Сходила. Была недолго. Вернулась, убрала дощечку из оконца, тихо сказала:
– Запомни: село Горлово, по тракту от Кандалакши на Мурманск, километров пятьдесят, а там в сторону километров десять, дойдешь или на попутке доедешь в Горлово.
– Спасибо, добрая вы женщина, – шмыгая мокрым носом, поблагодарила Маруся.
– Ладно уж, чего там, добирайся.
О том, как Маруся добиралась по тракту, а затем по колдобистой сельской дороге, какие встречались ей на этом опасном и трудном пути добрые и злые люди, потребуется длинное и нелегкое описание, пропустим это и поспешим вместе с Маней к умирающему Коленьке.
Поселок Горлово разбросался по огромному взгорку – две перекрестные улицы с домами из кругляка, сараями и огородами. Лагерь Маруся увидела сразу, еще подъезжая в кузове: в стороне от поселка, в низине чернел большой квадрат территории, оцепленный колючей проволокой со сторожевыми будками по углам. Внутри квадрата в два ряда серели восемь длинных бараков. Рядом с квадратом колючей проволоки кучковались разные постройки, двухэтажные и маленькие с небольшими окнами. Весь лагерь хорошо просматривался с взгорка, на котором находилось село.
Разминая затекшие ноги – всю дорогу, стоя в кузове, она тряслась на промоинах и рытвинах, – двинулась к пристройкам, к колючему квадрату лагеря. Подойдя к крайнему дому, не успела даже спросить, сама прочитала надпись на двери: «Санчасть». То, что нужно!
Подошла ближе, разглядела: небольшой барак по ту сторону проволочного забора, только крыльцо с надписью выступало за ограду. Поднялась по ступеням, потянула за ручку, дверь подалась, раскрылась. Маруся вошла, сразу обдал запах мочи и хлорки, будто в общественном туалете. Туалет и оказался рядом, в него был вход из тамбура. Маруся пошла дальше по коридору, открыла еще одну дверь и увидела белую, светлую комнату с медицинскими шкафчиками, тумбочками, белыми легкими металлическими стульями. На середине комнаты, занимая четверть ее пространства, стояла огромная женщина в халате, когда-то белом, а теперь застиранном, в пятнах. Лицо у нее в соответствии с туловищем было большое, круглое, без единой морщинки и складки, как детский резиновый мяч, только с глазами и ртом. На голове – большой, как у повара, белый колпак.
– Тебе чего? – грубым мужицким голосом спросила медичка.
Марусю испугал и огромный рост, и рокочущий голос этой мужеподобной женщины. Сбивчиво стала объяснять:
– Я по письму приехала, – достала треугольник, показала. – Здесь написано: Коля, муж мой, умирает…
– А, это ты, – пробасила хозяйка. – Я писала. Он очень просил – я и написала. Ну-ка, дай на тебя посмотрю. Уж так он тебя нахваливал, лучше тебя никого на свете нет. Ну-ка, ну-ка…
Она обошла вокруг Маруси, откровенно ее оглядывая с ног до головы, и, замкнув круг, весело сказала:
– И чего в тебе любить – ни жопы, ни рожи! А уж он расписывал: принцесса или спящая красавица, не меньше.
– Где Коля? Как он себя чувствует? – лепетала Маня.
– Живой еще. Успела. Дышит. Пойдем, покажу.
Она открыла дверь в стене, противоположной той, откуда пришла Маруся. За дверью показалась решетка, за решеткой сидел охранник. Щелкнув замком, он отворил решетчатую дверь. Не сказав ему ничего, медичка зашагала между двух рядов железных кроватей, на которых лежали больные под серыми байковыми одеялами.
На крайней кровати, у самой стены, под одеялом, не прикрывавшим очертаний человеческой фигуры, будто под ним ничего нет, лежал Коля. Точнее, на подушке была его голова с закрытыми глазами, с лицом покойника, обросшим щетиной, бледным, без единой кровинки. Маруся склонилась к этой голове, отдаленно напоминающей мужа, тихо позвала:
– Коля, я приехала.
Он быстро открыл глаза. Они засияли, будто в голове его, внутри включилась лампочка. Весь он, как лежал пластом, подался ей навстречу, попытался вскинуть руки. Но все это движение только попыткой и ограничилось, руки опали, невесомое тело опустилось.
Маруся сама обняла его, стала целовать в худые, небритые щеки. Она ощущала в своих объятиях нечто похожее на скелет, обернутый одеялом. Маруся плакала и бессвязно повторяла:
– Коля, Коленька… милый мой. Я приехала, Коленька. Ты живой… Коленька, я застала, ты будешь жить, Коля. Я теперь рядом. Мы будем вместе. Я тебе помогу. Я тебя подниму.
Коля ничего не говорил, он только плакал. Чистые, крупные слезы прыгали по его щекам, цепляясь за щетину. Он пытался взять в ладони лицо Маруси, но руки его не слушались, в них не было сил. Наконец, он, хлюпнув, вымолвил:
– Марусенька…
Даже огромная мужеподобная медичка не смогла смотреть на эту сцену неописуемого счастья встречи двух влюбленных и такого же неописуемого горя, в котором они находились. Она буркнула:
– Ну, милуйтесь, приду после.
Что говорили, что шептали друг другу, как осторожно целовались и обливались слезами сироты, у которых никого и ничего на свете не было, кроме взаимной любви, передать и описать не берусь, это за пределом моих возможностей.
Они так, полуобнявшись, просидели бы всю ночь и даже всю жизнь. Нежность и чистота были настолько трогательны, что лежавшие на соседних койках больные зэки не мешали им, не бросали никаких шутливых и обидных реплик. Они даже между собой разговаривали вполголоса.
Часа через два пришла мужеподобная:
– Ну, хватит нюни распускать, скоро смена придет.
Маруся погладила Колю по голове:
– Я завтра приду.
В своей белой комнате хозяйка сказала:
– Тебя Маруся звать, я знаю. Меня Авдотьей, по-простому – Дуней. Дунька я деревенская, местная из Горлово. Мы здесь все местные – конвоиры наружные и в зоне, вольнонаемные в конторе и на складах – все горловские. Вокруг никаких предприятий нет. Кто не сеет, не пашет, охотой не промышляет, все в лагере работают. Всю жизнь. Я медтехникум кончила в Мурманске. Фельдшер. Сюда вернулась, в родные края, куда же еще ехать? Есть у нас врач, он несколько лагпунктов обслуживает, ко мне редко приезжает – у меня порядок! Ты где жить будешь, пока Коля твой концы отдаст?
– Пойду в Горлово, попрошусь к кому-нибудь на постой. Я могу отработать, по хозяйству помогать.
– Иди, попробуй. Но народ у нас суровый, лагерный, порядки приучили всех подозревать.
Дуня оказалась права: в нескольких домах, куда постучалась Маруся и предложила помогать по хозяйству, с ней говорить не захотели:
– Иди, не нуждаемся…
Только в одном небольшом домишке старуха, открыв дверь, как все, недоверчиво оглядела Марию и, выслушав ее просьбу, сказала:
– Зайди.
За порогом, не предлагая пройти дальше, коротко спросила:
– Ты кто, отколь здесь взялась?
– Я жена заключенного, он в санчасти, больной. Приехала помочь ему.
– Ну, что же, дело доброе. Жена должна помогать мужу. А мне от тебя какая корысть? Чем мне поможешь?
– Денег у меня нет, все, чтобы доехать сюда, истратила, за ночлег буду отрабатывать. Что скажете, буду делать – полы, посуду помыть, в хлеву за скотиной прибрать.
– А документы при тебе есть? У нас в селе, как в лагере, строго, каждый на учете.
– Все в порядке, вот мой паспорт, диплом об окончании профтехучилища…
– Ого, даже диплом! Ну, ладно, поживи. Пойдем, покажу тебе место. Меня Агафьей звать. Агафья Сидоровна. Можешь, как все зовут, тетя Ганя.
– Меня Маруся, Мария Иванова.
– Стало быть, ты Маня. Уж шибко мала и тщедушна, не баба, а девочка вовсе, не Мария, а Манюня. Ну, ладно, после разберемся, кого как звать. Теперь пора и к ночи готовиться. Напою тебя чаем, и кажный в свою постелю.
За чаем еще о себе рассказала:
– Местные мы, горловские. Муж у меня был Захар, тоже тутошный, в охране лагеря работал.
– Здесь и до войны был лагерь?
– Был, по всему Мурманскому краю, как оспа, были лагеря. Сами заключенные их строили. Наш тоже. В войну Захара призвали. «Похоронку» получила в сорок третьем – погиб храброй смертью.
– Наверное, смертью храбрых, – поправила Маруся.
– Во-во, так и написано – храбрый в смерти. С тех пор и вдовствую. У тебя муж хотя и в лагере, но все же он есть, а я вот уже больше полвека бобылка, одна одинешенька…
Рано утром, до прихода Дуни, Маруся уже сидела на крылечке санчасти, ждала ее.
– О, ты уже здесь! – пробасила Дуня. – Пойдем, посмотрим, жив еще твой или нет.
Они прошли за решетку в охраняемую часть больнички. Коля, как и вчера, лежал бледный, с закрытыми глазами, очень похожий на покойника. Маруся метнулась к нему:
– Коля, Колечка…
Он открыл глаза, улыбнулся:
– Ты уже пришла.
Маруся подала ему два кусочка сахара, утаила их от бабки, когда та поила ее чаем вчера вечером. Положила кусочек мужу в рот:
– Соси, сахар тебе силу даст.
Коля покатал кусочек во рту, вынул его и подал Марусе:
– Возьми, не растворяется. Слюны во мне нет.
Дуня подсказала:
– Ему надо маслица сливочного, куриный бульон, витамины. У нас этого нет. Не бывает.
– На что купить? У меня денег ни гроша, все в дорогу истратила.
– Деньги у него должны быть.
– У тебя есть, Коля?
– Не у него, а в кассе лагпункта. Им заработанные, когда здоровым был. Ты сходи в бухгалтерию, покажи паспорт с регистрацией брака. Как жене, выдадут для помощи больному.
– Я схожу, Коля?
Он глазами показал – иди, мол.
Дуня вышла на крыльцо, показала, где финансовая часть лагпункта. Она была не в зоне, в двухэтажном доме управления.
Встретили Марусю подозрительно. Проверили документы, выслушали ее печальный рассказ о болезни мужа. Поискали в толстых книгах записи и объявили:
– Есть, восемьсот два рубля сорок пять копеек наработал твой муж.
И к великой радости Маруси отсчитали и выдали эту сумму. За что она расписалась в той же толстой книге и в ордере на получение этих денег.
Маруся, не заходя в санчасть, поспешила в дом, где остановилась на постой. Быстро рассказала бабке Гане, откуда у нее деньги, тут же купила у нее курицу и принялась готовить бульон для Коли. Уж готовить-то она умела! Не один год проработала на пищеблоке. Бульон получился золотистый, с солнечным отливом, ароматный от приправленных специй, которые нашлись у бабки. Вся изба заполнилась приятным запахом куриного навара.
Маруся завернула чугунок с тряпицу, прихватила деревянную ложку (железная будет обжигать) и рысью, чтоб не расплескать, поспешила в санчасть. Дуня удивилась:
– Спроворила? Ну, ты даешь!
Коля схлебнул с деревянной ложки, но тут же поперхнулся, закашлялся, да так, что от охватившего все тело колотуна потерял сознание, закатил глаза и перестал дышать. Дуня могучими руками стала давить на его грудную клетку – туда-сюда. Заставила дышать. Марусе она недовольно бросила:
– Уж больно ты сразу хочешь поднять его. Не жилец он, не видишь, что ли? Нет в нем жизни. Пищу душа его не принимает. Неси свой бульон, сама съешь, того и гляди, с ног свалишься. Оставим его в покое, пущай отойдет маненько.
В белой своей приемной Дуня продолжала наставлять:
– Ты не о нем, о себе подумай. Он не жилец. Я точно знаю, глаз у меня опытный. Никакие твои бульоны и сахара его не поднимут. Я таких, как он, сотни перехоронила. У доходяги один путь – на кладбище. Кстати, сегодня очередных жмуриков повезу. Поедем со мной. Может быть, место для Коли присмотришь. Я разрешу тебе его отдельно от других захоронить.
Маруся плохо понимала, о чем говорит медсестра. Коля живой, а она его уже хоронит и ей предлагает заняться тем же. Но пренебречь временной добротой этой грубой женщины было опасно, можно испортить с ней отношения.
Маруся попросила:
– Может быть, я еще раз попробую покормить его бульоном?
– Добить хочешь?
– Не надо…
Медсестра готовила к отправке трех очередных покойников, их без гробов заворачивали в те же одеяла, под которыми они лежали в санчасти еще больными и грузили в кузов машины.
Маруся выпила остывший бульон – не пропадать же добру. И ждала, что делать дальше. Дуня скомандовала:
– Садись в кабину, втроем поместимся.
Шофер хохотнул:
– Ты одна всю кабину заполнишь, не поместится она.
– Она маленькая, на коленях у меня посидит, – и, обращаясь к троим рабочим, вольнохожденцам из зэков, пробасила: – А вы чего стоите? Грузитесь в кузов. Поехали!
Кладбище было не далеко, за селом. Старые, покосившиеся кресты, чахлые деревца – видно, не очень-то посещали усопших родственников сельчане. За кривыми рядами крестов, где кончалось кладбище, чернела длинная яма, ее вырыли небольшим экскаватором заранее, летом, когда земля мягкая – зимой ее не возьмешь ни киркой, ни ломом. А при похоронах зэков присыпали вручную по мере заполнения. Бугор прежних захоронений был довольно длинный.
Машина остановилась у открытой, незаполненной части рва. Покойников положили рядком на землю. То, что увидела Маруся дальше, едва не опрокинуло ее в обморок.
– Начнем? – спросил один из рабочих.
– Начнем, – ответила Дуня и раскрыла толстую книгу.
– Номер двести пятый, – доложил рабочий, прочитав бирку на завернутом покойнике.
– Пилипенко Захар Кузьмич, – прочитала медсестра в журнале и кивнула рабочему: – Давай.
Он взял лом и ударил им по закрытому в одеяло трупу на том уровне, где проступала грудь.
– Зафиксировано, – спокойно отозвалась Дуня. Двое других рабочих скинули покойника в яму.
Маруся онемела, не верила своим глазам. Дуня командовала:
– Давай следующего.
– Номер двести шестой.
– Горшков Иван Иванович. Давай, отметила.
И опять рабочий ударил ломом по трупу на уровне груди. То же проделали и с третьим покойником
Не понимая смысл происходящего, Маруся спросила:
– Зачем так?
Медсестра объяснила:
– Я фиксирую окончательно факт смерти.
– Но ломом зачем?
– По медицинскому заключению смерть его зарегистрировали. А может, там липа? Купили доктора. Дали ему на лапу воры в законе или богатые коммерсанты. Он и отправил его на волю через похороны. На кладбище встретят, дадут по пачке денег рабочим и шоферу, конвоя здесь нет, покойникам не положен. И свои увезут воскресшего хоть за границу. Вот мне и приказано фиксировать, что он мертвый и похоронен. Надо пульс проверить или стетоскопом сердце прослушать. Сама понимаешь, неприятное это занятие. Вот я и придумала – ломом ставить окончательную точку. После этого не убежит, факт смерти железный.
Маруся плохо воспринимала слова Дуни, у нее метались мысли: значит, и Колю также ломом! Господи, что же происходит… Как бы понимая ее, Дуня пообещала:
– Колю твоего ломом проверять не буду. Я тебе его целенького отдам. Сама закажешь гроб, могилку на общем кладбище и похоронишь по-своему. Чтобы об этом знали только ты и я, привезу его без рабочих.
На следующий день Маруся опять пришла в санчасть с бульоном. Нашла бутылочку с соской, когда-то ими бабушка внуков выкармливала.
– Настырная ты, – удивилась Дуня.
Коля соску пососал, не закашлялся. Дело пошло! Через неделю он попросил:
– Мне бы пирожка бабушкиного. Помнишь, приносила нам в детдом, с клевером сладким.
– Сделаю, Коленька, испеку! Как славно, что у тебя желание появилось. И как я сама не вспомнила о клевере!
Не откладывая, тут же пошла клевер искать. Низенькие зеленые пучочки с округлыми листиками, мягкие, с травяным запахом, обнаружила всюду – прямо вдоль тележной дороги от лагеря к поселку. В поле выбирала чистую полянку недалеко от своего дома, подложила под колени дощечку и стала собирать клевер в тазик. Набрала полную посудину с горкой. На кухне помыла. Пробовала измельчить. На терке не получилось, только пальцы пожгла. Ножом мельчить долго, и кусочки твердые получаются, не проглотит их Коля. Лучше всего помогла мясорубка, легко и скоро выдала она из своей круглодырчатой решеточки зеленую, жиденькую пасту. То, что надо!
– В нее хорошо бы меду добавить. Мед очень целебный, да и вкус будет приятный. А так – трава и трава, не понравится Коле, – подсказала баба Ганя.
– Где же взять мед-то? – спросила Маруся. – Края ваши холодные, пасеки здесь не держат.
– А ты к Клавке сходи, у нее все есть, а нет – попроси, привезет тебе из города.
Клава была местная бизнесменша. Молодая еще бобылка, муж помер от распитой с друзьями паленой водки-отравы. Борясь за выживание и учитывая особенности нынешней жизни, Клава открыла в своем доме ларек. Дом – обычный, бревенчатый пятистенник – сени да горница. Вот она и приспособила сени под магазинчик. Договорилась с шофером Гришей из лагерного гаража делать один раз в неделю в воскресенье левый рейс за товаром. Ему хорошо – заработок, и ей сподручно – свой транспорт. Сколотила в сенях полки, накрыла их цветной бумагой, под небольшой прилавок стол из кухни приспособила, транзистор с хрипатой музыкой включила – вот и получился магазинчик. Первые месяцы привозила самое необходимое: спички, соль, крупы разные, масло растительное, конфеты недорогие. Ну, и главный ходовой товар – водку. Торговля шла хорошо, односельчане были довольны, даже заказы Клаве делали на нужные товары – одной кастрюля, другой лекарство.
К тому времени, когда Маруся пришла в магазин, Клава уже оперилась – пристроила сарай под торговое помещение, сделала в нем ремонт – обклеила светлыми обоями, повесила трехрожковую люстру. Полки и прилавок сбил плотник – настоящие, крепкие. К магазину сзади – пристройка-подсобка, к входу проложена плиточная дорожка. И транспорт свой завела, купила недорого подержанный «жигуль», бегал он за товаром добросовестно.
Клава встретила Марусю приветливо. В магазине поселковые новости стекаются скорее, чем в сельской управе. Покупателей немного, Клава рада поболтать с новой знакомой. Маруся, не таясь, рассказала о своем горе, о больном муже, зачем пришла в магазин:
– Меду мне надо, но вижу, нет у тебя на полках.
– Привезу, в первый же заезд привезу. Тебе какого – липового, гречишного? Я любой подберу.
– Наверное, липового, у Коли болезнь от простуды.
– Правильно, липовый надо.
И привезла, как обещала, в первый заезд, дня через два после знакомства, и домой Марусе сама принесла.
– Вот, получай, чистый липовый, настоящий, без подделки, я пробовала.
Пирожки с клевером на меду получились, как настоящее кондитерское печево. Коля ел с наслаждением, жевал и глотал уже совсем свободно. Маруся с утра несколько часов проводила с Колей – он еще не мог сидеть, лежал пластом, скелет, обтянутый кожей. Маруся умывала его, протирая лицо мокрым полотенцем, поила чаем с медом, кормила пирожками с клевером и просто зеленой пастой, замешанной на меду. Она приспособилась, побрила его «безопаской», совсем посвежел, похорошел Коленька.
Вторую половину дня Маруся проводила в поле. Не разгибаясь, часами собирала листики клевера, а потом дома готовила из них разные вкусности. Повариха она была отменная. Бабушка Ганя удивлялась:
– Золотые руки!
Кстати, бабушка тоже благодаря Марусе к жизни вернулась. Прежде одна куковала, редко кто-нибудь из соседей навещал. А теперь своя молодка в доме, да какая расторопная, находчивая, разговорчивая. С такой не соскучишься.
Дуня только видом да голосом грубая, а душа у нее оказалась добрая, русская, деревенская, широкая и бесхитростная. Говорила она обо всем напрямую, без обиняков, поэтому получалось грубовато, а в поступках была покладистая, охотно помогала и больным зэкам в санчасти, и сослуживцам по лагерю, и односельчанам советом или лекарствами.
Марусю она сначала зауважала, а потом и полюбила за упорное и неотступное спасание мужа. Удивлялась и восхищалась открыто:
– Выходила! С того света вернула. Надо же, сама – в чем душа держится, ветерок дунет – с ног свалит. А какая крепкая – кремень девка!
Время шло, Коля садился на кровати. А потом, с поддержкой Маруси, выходил наружу, на скамеечке под солнышком погреться. Охранники разрешали, хотя крыльцо и скамейка были уже за территорией зоны, но куда такой доходяга убежит, ему бы назад до койки доковылять.
Сидели Коля и Маруся на скамеечке, притулившись плечиком к плечику, держали руку в руке. Молча наслаждались близостью. Не было у них сюсюканья, ласковых слов всуе не говорили. Любили, обожали друг друга без лишних эффектов и каких-либо проявлений показной нежности.
Дуня, глядя на них со стороны, про себя отмечала:
– Голуби, настоящие голуби. Только не воркуют. Господи, пошли им утешение в жизни. Никогда прежде не встречала таких чистых людей.
Ходила Дуня с ходатайством к начальству, да и сами лагерные стражи видели подвиг Маруси и трогательную любовь сирот несчастных, поставили вопрос и оформили Николаю Иванову досрочное освобождение за прилежный труд и примерное поведение. К тому же и срок приговора был на исходе – полгода оставалось досиживать под охраной.
Колино освобождение было всем приятно – и начальникам, и зэкам. Провожали его добрыми пожеланиями поправиться, быть счастливым и никогда больше не попадать в зону.
Дуня помогла Марусе довести Колю до дома своим ходом. Клава предлагала подвезти на «жигуле», но Коля отказался:
– Хочу на своих ногах в жизнь вернуться.
Повели его Дуня и Маруся, справа и слева под руки поддерживали. Шел он невесомым шагом, черная грубая зэковская роба будто сама передвигалась, а внутри ее никого не было. Шли они медленно. Колю покачивало. Попалась навстречу женщина, приостановилась, с удивлением спросила:
– Поймали? Так не туда ведете, лагерь тама. Или набрался с утра пораньше?
Дуня пробасила:
– Иди, милая, своей дорогой, пока я тебя не послала очень далеко.
Бабушка Агафья встретила, всплеснув руками:
– Слава Богу! Ослобонился! – и, как недавно встречная женщина, обратила внимание на черную робу: – Переодеть надо. Негоже в этой одеже в доме ходить. Сейчас я подберу. От Захара одежа осталась.
Поспешила к сундуку, с трудом подняла тяжелую заскрипевшую крышку, стала перебирать разную мягкую поклажу. Достала, подала Марусе брюки, рубаху-косовортку и еще одну с обычным воротом.
– Примеряй, а я еще пинжак пошукаю.
Коля взял одежду, оглядел:
– Велика…
Маруся запорхала вокруг него:
– Ничего, штаны подвернем, подошьем, рукава закатаем. Раздевайся.
Коля попросил:
– Отвернитесь.
Дуня оглушительно захохотала, от ее голосища посуда задребезжала в шкафу.
– Застеснялся! Да я тебя не то что голого, а всего насквозь в санчасти видела. Давай, скидай, сейчас из тебя стрыптиз сделаем!
Коля покорно сделал бедрами какое-то движение, и черные брюки сами опустились на пол. Надели на него Захаровы брюки и рубашку, подкрутили, закатали лишнее. Висело все на нем, как на вешалке, но зато свежее, домашнее. Коля и женщины довольно улыбались. Ганя пообещала:
– Исподнее тоже подберу, опосля баньки наденешь.
Была потом и банька, и застолье семейное, только Клава прибавилась. Она принесла настойку «рябина на коньяке». Дуня, Муся, Клава и бабушка выпили с удовольствием, понравилась сладкая наливочка. Коля засомневался:
– Можно ли мне?
Дуня неопровержимым басом, как медик, определила:
– Можно. Даже полезно. Это как раз для тебя – не водка, на которой Клавкин муж сгорел, и не вино-бормотуха. Это настойка на рябине, целебная, как и пирожки с клевером. Пей!
Коля выпил рюмочку, зарумянился, повеселел. Да и все за столом были в прекрасном настроении. Клава шутила, глядя на Колю хмельными очами:
– Смотри, Марусенька, как бы я у тебя не отбила Коленьку!
Маруся не обижалась:
– Отбивай, лишь бы он был здоров. А потом я тебе глаза выцарапаю и магазин твой расшибу вдребезги, – и засмеялась звонко, заразительно, весело.
Коля урезонил их:
– Чего болтаете напраслину?
Жизнь в доме Агафьи Сидоровны не только наладилась, а как бы расцвела новым цветом. Открыли окна в горнице – Коле нужен был свежий воздух. С этим воздухом прибавилось солнечного света и тепла. А человеческое тепло, доброта, заботливость согревали лучше солнышка.
Маруся на кухне просто творила чудеса, хотела в Коле аппетит пробудить, чтоб лучше ел, быстрее силы набрал. Бабушке Гане от этих забот тоже перепадало немало удовольствия. Она только ахала:
– Ну, мастерица! Ну, искусница! Я борщи всю жизнь варю, но такого, как твой, не едала!
А Маруся в радостном задоре готовила другие неведомые старушке блюда – солянку, суп харчо, шурпу какую-то. Иногда Коля, чтобы вспомнить свое умение, приходил на кухню. Однажды поразил бабушку Ганю, соорудил из вареной моркови, картошки и свеклы настоящую кремлевскую башню с красной звездой из морковки на макушке.
Коля отдыхал после лагерной отсидки и душой, и телом. Но надо было подумать о будущем, как-то устраиваться в жизни. Думали. Прикидывали с Марусей разные варианты, и все они начинались и кончались тем, что нет у них ни родных, ни близких на этом свете. Возвращаться в Самару? А кто там ждет? Те, кто донос настрочили и засадили за решетку? Да и на билеты денег нет, надо их заработать. В Горлове работы не найдешь, в Кандалакшу или в Мурманск поехать? Там, наверное, таких бездомных и безработных немало. Вот и получалось – надо еще пожить в Горлове, здесь крыша над головой, бабушка не гонит и денег за постой не просит, говорит:
– Я вам должна платить – кормите меня сладко, жизнь мою украсили.
Очень кстати пришла Клава – не навестить, а с официальным предложением:
– Замоталась я: и хозяйка, и продавец, и экспедитор, и шофер, и даже сторож. Сплю одним глазом, другим магазин караулю. Пойдем, Маруся, ко мне в помощники – за прилавком будешь стоять, а я за товаром ездить, другими делами заниматься. Соглашайся, я тебе хорошую зарплату положу. Да к ней еще в торговле, сама знаешь, усушка, утруска, недовес, перевес, тоже пару копеек набежит.
Маруся ни размышлять, ни с Колей советоваться не стала, тут же выпалила:
– Согласна! Хоть сейчас начну, – но тут же посмотрела на Колю: – Как, мол?
А он кивал, радостно улыбался.
Так разрешились главные – материальные – трудности семьи Ивановых. Зажили они славно, сытно и весело. Коля прочно на ноги встал. Мог тоже работать. И работал по хозяйству, заменил Марусю на кухне, дрова колол, за курами присматривал.
Маня в магазине царствовала: приветливая, улыбчивая, всем покупателям угождала. Скоро сельчане, собираясь в магазин, говорили не как раньше: «пойду к Клавке», а «пойду к Марусеньке». Клавдия не нарадовалась на такую помощницу, отошла от замота, товары лучше и чаще стала привозить, торговля пошла в гору.
Так прошли осень и зима. Совсем прижились Ивановы в Горлове, их односельчане за своих считали. Уже и мыслей не было, чтобы уехать. Зачем? Куда?
Но нечистый вспомнил о них и, может быть, для забавы мимоходом кинул злое горе в дружный дом Агафьи Сидоровны. Не убереглась старушка на весенних перепадах: то дождь, то снег – простудилась и очень основательно.
Дуня, которая лечила в селе старых и малых, осмотрев и послушав деревянной трубочкой дыхание Гани, определила:
– Воспаление легких. Капитальное. Готовься, бабушка, к тяжелой борьбе, не одолеешь – помрешь.
У Дуни всегда так – грубо, напрямую. Бабка тоже за словом в карман не лезла, да они все местные горловские такие: север – край суровый, огрубил людей:
– И чего это ты меня сразу хоронишь? Я еще тебе переживу!
– Ну, давай, я не против. Плохо будет, зови, приду.
С тем и ушла без обиды.
Бабушка Ганя слегла всерьез и надолго. Ухаживал за ней Коля. Маруся весь день, а то и вечер в магазине. Прибежит в обеденный перерыв, Колю в щеку чмокнет, больную спросит:
– Как ты, баба Ганя?
А та лишь рукой махнет, уж и говорить ей трудно.
Однажды в воскресенье, когда Маруся была дома, Агафья Сидоровна позвала слабым голосом:
– Манюня, подойди, – и, прерывчато дыша, сказала: – Иди, зови председателя правления Кокшенова, и чтоб с печатью пришел.
– Зачем тебе, баба Ганя?
– Иди, поспеши. Умирать буду. Завещание мое пусть печатью заверит – дом я тебе и Коле отписываю.
– Да что вы, бабушка, милая, разве так по своей прихоти умирают? Вы еще поживете, весна на дворе, скоро клевер зацветет. Я вас выхожу, как Колю выходила.
– Иди, говорю, – строго, по-горловски, приказала старуха: – Можешь опоздать, не дождусь, кончусь. Иди.
Кокшенов пришел с Марусей немедленно. И печать принес, догадывался о горьком исходе, но все же шутливо спросил:
– Ты куда собралась, Агафья? Зачем тебе печать – проездной какой документ заверить?
Больная достала из-под подушки листок, строго молвила:
– Проездной на тот свет мне не нужен, туда без печати примут. Ты мое последнее желание заверь печатью, как положено. Дом свой вот этим двум голубям завещаю, – показала на Колю и Марусю, которые стояли у постели. – Нет у меня людей ближе их, – помолчала, трудно говорить. – Старость мою они своим теплом согрели…
Агафья задышала часто-часто, заторопила:
– Ставь печать, скорее.
Председатель положил листок на тумбочку у кровати, подышал на печать, разогревая для четкого оттиска, и шлепнул по листку.
Бабушка тихо, одним дыханием прошептала:
– А теперь отойдите… Не мешайте… Помирать буду.
Повернулась к стене и затихла.
Коля побежал за Дуней. Она, как всегда, пришла по первому зову, вместе с Колей. Подошла к бабушке, пощупала у нее на шее какую-то жилку и тихо, что было для нее большой редкостью, молвила:
– Все, скончалась баба Ганя.
И тут же, словно вспомнив о своем басе и о том, что она горловская, громко и бесцеремонно добавила:
– Я же говорила: не осилит она болезнь. А она сомневалась. Вот и не осилила.
Агафью Сидоровну хоронили всем селом. Уважали ее односельчане, всю жизнь с ними прожила. Маруся и Коля, как самые близкие люди, шли за гробом первыми и по горсти земли в могилу бросили первыми. К ним горловцы относились доброжелательно. Подходили, сочувствие в скорби высказывали.
После похорон, когда люди потянулись назад в село, Маруся посмотрела на длинный холм земли за границей кладбища. Он подрос, наверное, немало прибавилось в нем покойных зэков, и Дуня сделала новые отметки в своем гроссбухе, подтверждая их смерть.
Маруся вдруг с суеверным испугом подумала: и Коля мог лежать там, в этой длинной могиле, если бы я не приехала. Господи, хорошо, что я успела приехать! Она прижалась к мужу плотно-плотно, а он удивленно спросил:
– Ты чего, Мусенька? Тебе холодно?
Маруся посмотрела на Колю глазами, полными слез, но это были не похоронные горестные слезы, а блестящие прозрачные, в них отражалось весеннее солнышко.
– Как хорошо, что ты у меня есть, – сказала негромко Маруся и, может быть, не к месту – на кладбище – и не ко времени – на похоронах – пролепетала:
– Я очень счастлива, Коля…
Жоркин батя
1
Полковник Миронов разбирал служебные бумаги, прибывшие с последней почтой. Но шум на полковом дворе оторвал его от дела. Он подошел к окну – два сержанта вели солдата. А тот упирался и, оборачиваясь назад, кричал что-то бессвязное. Наконец группа дошла до караульного помещения и скрылась за тяжелыми воротами.
Двор опустел. В эти часы люди стараются не выходить под яростно палящее солнце. Земля выжжена добела – ни дерева, ни кустика, ни травинки. Казармы, умывальники, каптерки – все будто на ватманском листе, на который архитектор не успел нанести озеленение. Дальше, за глинобитной оградой, шли барханы – Каракумы вплотную подступали к полковому двору.
Полковник позвонил дежурному, приказал выяснить и доложить, что произошло, и склонился над бумагами. Седина алюминиево отливала в его темных волосах.
Миронову на вид за сорок. Фигура уже несколько оплыла, округлилась. Глаза спокойные, мудрые, строгие. Три ряда орденских ленточек на груди объясняли появление этой ранней седины. Если же учесть и пятнадцать лет службы в послевоенные годы, то можно сказать, что полковник Миронов еще хорошо сохранился. В кабинет вошел дежурный офицер. Доложил:
– Товарищ полковник, ваше приказание выполнил! В седьмой роте рядовой Паханов пытался не выполнить приказание командира взвода лейтенанта Лободы.
Миронов удивленно вскинул глаза на дежурного: случай чрезвычайный. Он мысленно проследил вереницу событий, которые последуют за происшествием, – расследование, неприятный доклад командиру дивизии, упреки за плохо поставленную воспитательную работу. Вероятно, солдата отдадут под суд военного трибунала.
– Паханов, говорите?
– Так точно!
– Странная фамилия…
Дежурный промолчал.
– Вызовите ко мне лейтенанта Лободу.
2
Командир взвода Лобода пришел скоро. Он был бледен, возмущен и растерян. Широко раскрыв голубые глаза, лейтенант сбивчиво докладывал:
– …Не солдат, а ходячее ЧП! Угрюмый… Наглый… Ничего не боится… Я все время жду от него какой-то большой неприятности.
– Кем он был до армии?
– Разве от него добьешься, товарищ полковник! Молчит, будто рот у него зашитый! А глаза наглые. Вижу по ним – все прекрасно сознает и понимает. Иногда так взглянет – мороз по коже дерет.
– Ну, а кто же он все-таки?
– Служит первый год. Призывался в Ташкенте. К нам прибыл недавно – его из другой части перевели. Ясное дело, хорошего не отдадут!
– Что он делал до службы? – спросил Миронов.
Уловив раздражение в голосе командира, лейтенант поутих, виновато ответил:
– Этого я не знаю. Не говорит. Загадочный человек. Но я твердо уверен, что он один из тех, для кого мер, определенных Дисциплинарным уставом, явно недостаточно. Таких нужно в тюрьму отправлять или… – Лобода запнулся: в глазах полковника он увидел иронию.
– Вы, товарищ Лобода, – усмехнулся полковник, – не сумели умно применить ни одной меры, предусмотренной уставом, а уже все крушите.
– Все перепробовал, товарищ полковник: от выговора до гауптвахты. Не помогает! Индивидуальный подход применял – не действует!
Полковник сам собирался сказать о необходимости в данном случае индивидуального подхода, но поскольку Лобода опередил его, стал расспрашивать дальше:
– В чем же индивидуальные особенности этого человека?
– Я уже говорил – замкнутый. Глаза как у затравленного волка. Дисциплины терпеть не может ни в каких формах. Сугубый единоличник, ни с кем не общается. На разговор по душам не идет.
– Так. Какие же меры вы предпринимали, исходя из этих его особенностей?
– Я поставил себе задачу, – горячился Лобода, – сломить упорство, заставить подчиняться. Не давал ему поблажек. Повседневной требовательностью хотел приучить к воинской дисциплине. Но чем строже я с него спрашиваю, тем злее он становится. И вот сегодня прорвалось. Идет из столовой без строя да еще курит. Я к нему: «Почему одиночкой идете?» «Я, – говорит, – в столовую вместе со всеми шел». – «И назад должен в строю идти. А ну, в строй бегом марш!» И тут он вспыхнул, побелел, затрясся весь.
Полковник помолчал, потом спросил:
– Что еще вы применяли, в порядке индивидуального подхода?
– Больше ничего.
– Ну, а комсомольская организация? Солдатский коллектив? Собрания, спорт, самодеятельность?
– Это же общественные формы, – возразил Лобода. – Да он и не комсомолец!
– Но направлены они на индивидуальное воспитание. А вы считаете: индивидуальный подход – значит один на один, кто кого?
Лобода кивнул:
– Да, индивидуальный – значит, мой подход к определенному, конкретному человеку, исходя из особенностей его характера.
– Нет, дорогой товарищ Лобода, ошибаетесь! Подход должен быть индивидуальный, к каждому человеку равный, а воздействие коллективное, по всем каналам и направлениям. Как в блюминге, видели? Кладут заготовку и начинают ее формовать: мнут, и бьют, и гладят, и катают. И выходит в конце концов сверкающая сталь – чистая, прочная, кованая!
– Посоветуйте, как же быть в данном случае? – почему-то обидевшись, спросил лейтенант.
– Не знаю, – ответил Миронов.
Лобода победоносно взглянул на командира: если ты не знаешь, так что же с меня спрашиваешь?
3
В этот день у Миронова было много обычных будничных дел. Полковник несколько часов ездил на машине между огнедышащих барханов, разыскивал притаившиеся в душной тени саксаула взводы. Потом он был в столовой, ездил на стрельбище.
Поздно вечером, когда штаб опустел и наступила тишина, полковник позвонил в караульное помещение и приказал привести провинившегося.
Миронов отпустил выводного, внимательно, спокойно посмотрел на Паханова.
Был он худощавый, лицо смуглое. Но смуглость, видимо, не от загара, как у других солдат, а какая-то болезненная. Военная форма Паханову не шла. Может, потому, что Миронов привык видеть эту форму в сочетании с другими лицами – веселыми, доброжелательными, даже озорными.
«Видно, не из робких, – сделал Миронов первое заключение. – Жизнь понюхал».
– Проходи, садись, – просто сказал Миронов.
– Ничего, постою, – едва разжав губы, ответил тот.
– Ну, стой, – согласился Миронов. – Надоест – сядешь. Будем знакомиться? Рассказывай – кто ты, откуда прибыл…
Паханов скривился. Ему, кажется, до тошноты надоели мои вопросы. Всю жизнь, сколько он себя помнил, его допрашивали.
И желая только одного, чтобы все это поскорее кончилось, устало, как человек, много раз повторявший одно и то же, бесстрастно и торопливо ответил:
– Я – вор, Жорка Паханов. И отправляйте меня по-быстрому, пока я вам тут еще чего не натворил.
Полковник продолжал спокойно его рассматривать.
– Дальше, – попросил Миронов, когда пауза затянулась.
– Все. Дальше ничего нет.
– Как в армию попал?
– Случайно. – Паханов вдруг горько улыбнулся. – Прописался после освобождения… В паспорте оставил год рождения призывной.
– А разве дата пишется по желанию?
– Поставил бы год, который отслужил, ходить бы мне теперь на воле…
Наверное, Паханов ждал разговора о том, что нужно исправиться, что воровать позорно, что нужно стать честным человеком. Он переступил с ноги на ногу – приготовился слушать.
Но полковник вдруг сказал тем же спокойным голосом:
– Ты знаешь, давай без рисовки. Я очень устал. Хочешь говорить – будем говорить. Нет – иди на гауптвахту, а я пойду домой. Что ты передо мной ломаешься? Строишь из себя отпетого уркагана, а сам, наверное, всего-то и украл рваную рублевку да носовой платок с чужими соплями.
Глаза Паханова по-волчьи сверкнули, кожа на скулах натянулась, тонкие ноздри затрепетали. Он готов был ответить, но сдержался.
«Ну что ж, на первый раз и это неплохо, – подумал командир полка. – Теперь хоть ясно, с кем дело имеем, – уголовник, рецидивист. Да, подсунули нам экземплярчик!» На прощание, чтобы дать пищу для размышления, сказал:
– Был такой вор – Сенька Штымп. Может быть, слышал?
– Нет.
– Служил он в моем полку лет пять назад. Тоже в армию случайно попал. Вот это был вор1 По квартирным кражам специалист, на вашем языке «скокорь» называется. – Паханов снова не без любопытства посмотрел на полковника. А Миронов, будто не видя этого взгляда, продолжал: – Так вот, этот Сенька любые замки за несколько секунд отпирал. И делал это очень остроумно. В общем, была у парня тяга к технике, к приборам. Определил я его в связисты. Стали учить на радиста. И так он полюбил свою новую специальность, что об уголовном мире навсегда забыл. А знаешь, где Сенька сейчас? Служит в гражданском флоте радистом. Моряк дальнего плавания! Дали ему при увольнении хорошую характеристику, и парня приняли на корабль. Плавает сейчас в Алжир, Сингапур, недавно письмо из Бразилии прислал.
Миронов пытался угадать, какое впечатление производит на Паханова рассказ о Сеньке. И угадал – не верит.
4
Дома полковника поджидала жена. Лидия Владимировна – немолодая полная женщина – встретила его на пороге. В жене все было просто и притягательно, чем когда-то она и поразила воображение молодого Миронова. Полковник наклонился и поцеловал жену в седеющие волосы.
В квартире все окна открыты, но желанной прохлады не было – от барханов тянуло ровным теплом. Прохлада наступит лишь перед утром. Миронов переоделся, умылся. Чувствовал – жена наблюдает за ним, видит, что он устал. Она может по звуку шагов со двора определить: утомлен он или бодр, весел или сердит. Лидия Владимировна молча подала на стол ужин. Сейчас ни о чем не нужно спрашивать. Опять, наверное, ищет выход из какого-нибудь тысяча первого безвыходного положения.
– Ты не помнишь, где лежат письма Семена? – неожиданно спросил Миронов.
– В книжном шкафу, на средней полке.
– Ах, да.
Миронов встал, вынул пачку писем, перебрал конверты, прочел обратные адреса.
– А где последнее, из Бразилии?
– Наверное, у тебя в столе.
Миронов опять надолго умолк. Лидия Владимировна подошла к нему, погладила его по седеющей голове, ласково попросила:
– Хватит, Алеша. Отвлекись. Пора отдыхать.
Миронов виновато улыбнулся, благодарно посмотрел на жену и тихо сказал:
– Извини, дружочек, у меня сегодня не совсем обычное дело…
– Я вижу.
– Понимаешь, прислали к нам солдата, а он… – И Алексей Николаевич рассказал жене о Паханове. – Парень очень сложный, – задумчиво заключил он. – Но раскусить его можно. У каждого человека есть какое-нибудь увлечение или тяга к чему-то – рисование, охота, коллекционирование. И у Паханова тоже должна быть страсть. Ведь он юноша.
Жена покачала головой:
– Тебе это очень нужно? Ты обязательно возьмешься его перевоспитывать?
– Возможно, – думая о своем, ответил Миронов.
– А почему бы тебе не поступить с ним так же: тебе подсунули – и ты отдай.
– Чему вы меня учите, леди! – шутливо воскликнул Алексей Николаевич.
– Я желаю тебе только добра, Алеша.
– А давай, дружочек, мы пожелаем добра еще одному человеку! Неужели тебе не хочется, чтобы еще одним хорошим юношей стало на свете больше?
– Так дело скоро дойдет до того, что станет одним полковником меньше.
– Дружочек мой, зачем такие крайности? Я здоров, как лев. Хочешь, тебя подниму?
Миронов подступил к жене, шутливо выпятив грудь и полусогнув руки, как маршируют по арене цирковые борцы.
Лидия Владимировна засмеялась:
– Нет, Алексей, я говорю серьезно.
– Я тоже. Воспитывать людей – дело наисерьезнейшее!
Миронов взял жену под руку:
– Пойдем, старушка, перед сном погуляем? И я тебе выскажу кое-какие соображения об этом человеке.
5
ЧП есть ЧП, и о нем полагается докладывать. Миронов на следующее утро посоветовался с заместителем по политической части подполковником Ветлугиным.
Белобрысый, голубоглазый, похожий на финна, замполит ночью приехал с совещания в округе. О происшествии он еще не знал. Выслушав рассказ Миронова о Паханове и его соображения насчет того, как быть дальше с нарушителем, Ветлугин сказал:
– Плохо, что мы не выявили Паханова до того, как он совершил проступок. Я прошляпил…
Миронов предложил:
– Я постараюсь разобраться с ним до конца, а потом посоветуемся, с чего начинать. Прошу вас, Иван Григорьевич, провести беседу с молодыми офицерами об индивидуальном подходе. Лобода вот не все правильно понимает, и, видимо, не он один.
6
Днем поговорить не дадут. От подъема и до отбоя ждут люди с неотложными делами. Звонят телефоны, приходят срочные бумаги. Полковник дождался, когда полк затихнет, и велел привести Паханова.
Прошло двое суток после их первой встречи. Одну ночь полковник провел на стрельбах, другую – на ротном тактическом учении. Сегодня он свободен. Работа и личные дела, служебное время и отдых у Миронова слились в единое понятие – жизнь. Он работал дома и отдыхал в кругу солдат. Служебные дела, по каким-то особым признакам, им разделялись на официальные и личные. Дело Паханова, например, относилось к личному, и поэтому Миронов считал, что будет заниматься им в свободное время.
– Ну как? Сидишь? – спросил Миронов Паханова, отпустив конвоира.
– Сижу.
Сегодня полковник был подготовлен. Не то чтобы план какой написал, а просто обдумал предстоящий разговор, наметил определенные повороты, расставил подводные камни, о которые Паханов должен был стукнуться. И так, чтобы запомнилось.
– Я тебе прошлый раз о Сеньке говорил, помнишь?
– Помню.
– Вот письма его принес. – Миронов достал из стола пачку писем с яркими иностранными марками. – На, почитай, времени у тебя сейчас много.
Паханов взял письма. Скосил глаза на усатого короля на марке в углу конверта. Прочитал обратный адрес – Калькутта. «Скажи, пожалуйста!» – прочитал Миронов на его лице.
– Ты на меня обиделся в прошлый раз за то, что я тебя мелким воришкой посчитал, а ведь я прав!
Паханов положил письма на край стола. Что еще скажет полковник? Миронов втягивал Паханова в разговор.
– А знаешь почему?
– Почему?
– Фамилия у тебя странная, Паханов. Блатная фамилия. Сразу настораживает. Крупные жулики под такими фамилиями не живут.
– Был я и Кузнецовым… Разиным… Аванесовым… – медленно выдавливал из себя Паханов. – А Паханов – это моя настоящая фамилия. По метрикам.
– А ты, Жора, любил кого-нибудь? – неожиданно по имени назвал Миронов Паханова.
Паханов сжался от этой ласки, словно черепаха в панцире, когда она чувствует опасность, сказал насмешливо:
– Нет, я баб презираю. Не люди они – шестерки.
Жорка Паханов врал, но Миронова ему было не провести. Есть у парня что-то затаенное, в глубине сердца. И уж, конечно, не собирается посвящать в свою тайну его, полковника Миронова.
– Ну ничего, еще полюбишь. – Миронов сделал вид, что поверил. – Удивительное это чувство – схватит тебя, закружит. И ходишь ты пьяный от счастья. Хочешь, расскажу, как я первый раз влюбился? – вдруг спросил полковник.
В Жоркиных глазах за настороженностью проглядывала ирония. Миронов все-таки стал рассказывать:
– Был я до войны лейтенантом. Спортсмен, грудь колесом, не то что сейчас. Девушки на меня посматривали, и я на них тоже. И вот однажды еду в очередной отпуск. Сел ночью в проходящий поезд, завалился спать. А утром вышел из купе, смотрю, около соседнего окна девушка. И вот будто солнце мне на голову упало – оглушило, жаром обдало. Залило все вокруг сияющим золотом. Целыми днями стоял я в коридоре – только бы увидеть ее, только бы услышать ее голос. А ночью, веришь ли, на полке лежу, и кажется мне, что ее тепло ко мне через стенку проходит. У нас полки смежные были. Прижмусь щекой к перегородке и так лежу всю ночь напролет…
Полковник прервал рассказ, задумался, может, вспоминал молодость.
После его откровенности Жорке Паханову стало неловко молчать. И он скупо, стараясь не вдаваться в подробности, рассказал о своей жизни «на воле», или, как в армии говорят, на гражданке. Но мало-помалу разговорился и рассказал о своем детстве, об отце с матерью, о том, как начал воровать.
Когда разговор подошел к концу, Жорка вдруг спросил Миронова:
– Ну, а чем оно у вас кончилось, с той барышней?
Миронов весело сказал:
– А оно и не кончилось!.. Оно продолжается, Жора. Эта девушка – моя жена. Как-нибудь познакомлю тебя с ней. Она хороший человек и верный товарищ, все трудности делит со мной. Бывали мы с ней и на Памире, и в Забайкалье, и сюда вот, в Каракумы, безропотно приехала. В общем мне повезло в жизни, Жора… А твое будущее, скажу, представляется мне темным и мрачным. Покуролесишь ты лет до тридцати – тюрьмы, пьянки, неустроенность. Они свое дело сделают, к тридцати годам старость тебе обеспечена. К этому времени одумаешься. Непременно. Покоя захочется. К близкому человеку потянет. А кому ты будешь нужен? Станешь ты, между нами говоря, как тряпка, то есть не мужчина, а так… И уйдет от тебя девушка к другому – если она у тебя будет. А время такое, когда ты начнешь задумываться, настанет. Это неизбежно.
Полковник дружелюбно улыбнулся Паханову и доверительно сказал:
– Давай, Жора, на сегодня кончим. Поздно. Пойду я к своей Лидии Владимировне. Ругает она, если засиживаюсь, беспокоится о здоровье. И, скажу тебе по секрету, правильно делает: сердчишко порой начинает о себе напоминать. Ну, пойдем. Письма, пожалуйста, не растеряй, они мне очень дороги. Когда Семен приедет в гости – почитаем с ним вместе.
Полковник снял с вешалки фуражку, кивнул Паханову:
– Идем.
Они вышли из штаба.
Полк спал. Луна еще не взошла, и на земле лежала густая чернота. Местами тьму пробивал желтый свет – это горели лампочки над входом в казармы и на постах.
– Ну, будь здоров.
– До свидания, товарищ полковник. – Жора огляделся и спросил: – Кто меня отведет?
– Сам дойдешь. Дорогу знаешь?
– Конечно.
– Вот и шагай.
Полковник подал Паханову руку, крепко пожал и направился к воротам.
Жорка Паханов стоял и смотрел ему вслед. «Оглянется или нет?» Полковник подошел к проходной. Отдал честь вытянувшемуся дневальному и, не оглядываясь, вышел на улицу.
7
Жорка медленно шел на гауптвахту. Полковник своим рассказом о любви разбередил самое больное. Гуляет, наверное, Нинка. Разве она будет ждать? Красивая, отрывная – такая одна не останется. Жорка шел, и в черноте ночи вставало счастливое прошлое. Любили они друг друга горячо, сумасбродно. Обоим вдруг захочется необыкновенного. Пойдут с Нинкой кружить по городу, среди домов и людей ходят, как по лесу, никого не замечают. Только в глаза один другому глядят. А то найдет – и пошли лихачить.
Жорке страшно захотелось выпить и закурить. Он прошел мимо ворот караульного помещения. Посмотрел на длинный дувал, огораживающий полковой двор. Махнуть через него? Сесть на первый поезд, пока хватятся, – далеко можно уехать. До Ташкента добраться бы, а там – полный порядок.
Жорка остановился. Вокруг никого не было. По-прежнему тускло светили запыленные лампочки. У проходной даже дневального не видно. Ушел, наверное, на ту сторону – на улицу. И вспомнил он командира полка. Не оглянулся! Пришел домой – жена его чаем поит. А он ей про него, Жорку Паханова, рассказывает.
Жорка достал из кармана письма. В темноте яркость марок не различалась. «Интересно, что Сенька пишет? А может быть, письма липовые? Ну, меня не проведешь! Я сразу пойму, если не вор писал. Жаль, товарищ полковник, что ты не оглянулся! Но раз доверяешь Паханову, он не подведет. Не бойся. Пей чай спокойно со своей Лидией Владимировной».
Жорка пришел в камеру, расстелил шинель на топчане и стал читать письма.
« Здравствуй, батя! Привет из Индонезии! На этот раз плыли долго, аж за экватор. На корабле хорошо, но постоять на твердой земле иногда, оказывается, тоже приятно. Порт, в котором я пишу это письмо, находится на Суматре и называется Палембанг – вроде нашего Баку, здесь добывают нефть. Нефть добывают индонезийцы, а хозяева почему-то американцы. Компания «Шелл». Индонезийцев – тысячи, американцев – единицы. Не могу понять, почему они их не повыгоняют ».
Дальше Семен писал о политике, и Паханову читать стало неинтересно. Зато другое письмо его развеселило.
« Батя, здравствуй! Ну, батя, чуть было я не угодил в ЧП. Отпустили на берег. Гуляю. Как всегда, много такого, чего я прежде не видел. Зазевался. На часы посмотрел – время кончается. А до порта далеко. У нас, моряков, порядки такие же строгие, как в армии, – опаздывать нельзя. Что делать? Такси поблизости не было. Только рикши. Коляска – вроде велосипеда, ты сидишь впереди, а рикша сзади педали крутит. Быстро гоняют. Но нам на них садиться нехорошо – это эксплуатация человека. Нас даже предупреждали, и неприлично советскому человеку на угнетенном ездить. Вот я и оказался в таком непонятном положении: эксплуатировать нельзя и опаздывать нельзя. Принимаю такое решение – плачу рикше деньги, сажаю его на место пассажира, а сам как завертел педалями, аж ветер в ушах засвистел. Не опоздал на корабль. И за то, что не эксплуатировал угнетенного, меня похвалили. Только смеялись.
Ну, будь здоров, батя. В следующий раз напишу из Сиднея ».
Отсмеявшись, Паханов еще раз прочитал письмо и решил: «Не липа – настоящие. И Семен тоже настоящий. Только дурак он – если сам вез того негра, зачем еще деньги платил?»
В письмах много было интересного, а порой и непонятного для Жорки. Пока он их читал – было весело. А когда закончил – стало грустно. Почему грустно – Жорка не знал, да и не стал разбираться в своих чувствах. Пусть Сенька плавает. Жорка быть моряком не собирается – сиди на корабле, будто в бараке. Погуляешь в порту денек – и опять недели взаперти. Нет, это для Жорки не подходит.
8
Придя домой, полковник Миронов позвонил в караульное помещение:
– Паханов вернулся?
– Нет. А где он? – с тревогой спросил начальник караула. – Я взводного не посылал. Миронов подумал, сказал:
– Наверное, гуляет. Думает. Вы за ним незаметно посматривайте. Сейчас в его мыслях могут случиться самые неожиданные повороты. Если будет просто гулять – не мешайте. Ждите, пока сам придет. Когда вернется, доложите мне.
Лидия Владимировна удивленно спросила:
– Это тот, уголовник?
– Да.
– А куда ты его отпустил?
– Тактика, мой друг, тактика! Да, между прочим, я ему сегодня о тебе рассказал.
Жена вскинула брови:
– Обо мне? Что обо мне можно рассказать?
– Не прибедняйся, Лидуша. Ты произвела на него отличное впечатление. Он даже немного разговорился. Он рассказывал о своем детстве. Мать оставила его в родильном доме. Жорку отдали в детский дом. Он рос там до десяти лет. Ты знаешь, я, кажется, нащупал, какая в нем заложена страсть – машины!
– А не кажется ли тебе, Алеша, что ты просто увлекся и сочинил эту Жоркину страсть? – спросила Лидия Владимировна.
– Нет, не кажется. Я давно замечаю, что людьми типа Жорки руководят влечения, страсти. Буду работать с ним прицельно.
9
У Жорки кончился срок наказания. Но освобождение не радовало. Опять пойдет немилая служба, опять будет кричать Лобода. Жорка готов был сидеть на гауптвахте – только бы все это не повторилось. Четкая, размеренная жизнь полка, обязательные занятия, ощущение красоты и силы строя – для Жорки чужды. Подтянутость, исполнительность, дисциплина воспринимались им как насилие.
В день освобождения Паханова опять вызвал командир полка.
– Ну, что надумал? – спросил полковник.
Жорка пожал плечами:
– Ничего. Жду, когда судить будете.
– А может быть, с этим повременим? Я тоже думал, как с тобой поступить. И мне кажется, есть хороший выход.
Жорка насторожился: опять перевоспитывать будут.
Полковник увлеченно спросил:
– Знаешь, Жора, кем бы я стал, если бы меня уволили из армии?
– Не знаю, – буркнул Паханов.
Но полковник не хотел замечать его настроения.
– Стал бы я шофером!.. Но шофером не обыкновенным, а на большом туристском автобусе. Видел, какие красавцы летают – красные, голубые, белые? Летит, и на лбу у него написано: «Москва – Сочи» или «Симферополь – Ялта». Это не автобус. Это реактивный самолет. Он и внутри оборудован как Ту-104. Мягкие откидные кресла, сеточки для багажа, красивая стюардесса. А ты сидишь за рулем в форменной фуражке, сдвинутой на лоб. А за окном мелькают города. Люди с завистью смотрят на твой стремительный экспресс и вспоминают веселые дни отпуска. Они мечтают о следующем годе. Они мечтают, а ты в нем каждый день. Для них – это отдых, развлечение. А для тебя – постоянная красивая работа. Приезжаешь ты из рейса домой, а там ждет жена. Соскучилась, не наглядится на своего Жору. Разлука, говорят, любовь только укрепляет. Ты подаешь жене подарочек: «Вот, дружочек, привез тебе лимоны, мандарины, виноград. С юга! Прямо из Сухуми!»
Как тусклый лед постепенно тает на солнце и превращается в светлую воду, на которой начинают играть блики солнца, так и Жоркино лицо из сердитого, скучающего постепенно становилось светлым, улыбчивым.
– Побыл дома, – продолжал мечтательно полковник, – отдохнул несколько дней – и опять в рейс! Бежишь-спешишь в гараж. Соскучился о своем красавце. Входишь в парк, вот он! Стоит в общем ряду и смотрит на тебя сияющими окнами, будто глаза расширил от радости. Стоит он рядом со своими братьями – все они сделаны на одном заводе, и все же твой лучше других. Потому что он твой друг! Ты знаешь все его железные мысли, все детали ощупал собственными руками. Ты клал руку на его горячее сердце, когда в нем появлялся посторонний шумок. Ты знаешь все его секреты и тайны. Когда нужно – подлечишь, где нужно – смажешь.
За это он тебя любит. И как только ты сядешь за баранку – он издаст радостный, словно живое существо, крик, и вы помчитесь с ним снова на юг – к пальмам, к морю, к кораблям! Красивые люди будут сидеть в удобных креслах и любоваться красивой работой своего шофера, они будут шепотом спрашивать красивую стюардессу: «Скажите, это не опасно – так быстро мчаться? Колеса чуть не отрываются от земли!» А красавица стюардесса блеснет белыми, как сахар, зубками и ответит: «Что вы, граждане! Наш экспресс ведет шофер-миллионер, специалист первого класса – Георгий Паханов!»
Жорка повел головой, что означало: «Придумаете же вы, товарищ полковник!» Но Миронов был уверен – Жорке понравилась перспектива, и поэтому продолжал:
– Вот решай. Если тебе такая жизнь по душе – могу устроить. Будешь служить в автороте. Будешь учиться. Сдашь экзамены, получишь права водителя.
Если бы это могло произойти сразу – Жорка ни секунды не колебался бы. Он немедленно сел бы в красавец автобус. Но услышал: служить, учиться – и радость померкла. Это означало – ждать, оставаться в армии. Снова выполнять команды, распорядок дня. Хотя… перевод в автороту значил освобождение от лейтенанта Лободы. В автороте служба проще: сел в машину и поехал. Жорка слегка сощурил глаза, пристально посмотрел на Миронова.
– Вот и отлично. Если что не будет ладиться, заходи.
– Спасибо!
Командир и солдат понимающе переглянулись.
10
Полковник Миронов вызвал к себе командира автомобильной роты капитана Петухова. Миронов с досадой думал: в таком исключительном случае нужен рассудительный, спокойный офицер, который направлял бы влияние коллектива на солдата. Петухов меньше всего подходит для работы с Пахановым. Но ничего не поделаешь: авторота одна.
Капитан Петухов был человек своеобразный – горячий, опрометчивый. Он все выполнит правильно, как нужно. Но сначала наделает шуму. Не зря солдаты прозвали его «Петушком», и не столько из-за фамилии, сколько из-за внешнего сходства. Он действительно, как петух, налетит, кажется, крыльями захлопает, а потом отойдет – и ходит по парку бочком, сердито посматривает, выискивает беспорядки. Происходило это потому, что Петухов самозабвенно любил машины и в службе руководствовался теорией, которую высказывал так: «Автомобиль – существо неживое. Он тебе не может сказать – карбюратор болит или крепление где-нибудь расшаталось. Лошадь – и та копытом ударит, если что не так. А машина беззащитная. Что с ней ни случилось – виноват шофер».
Капитан мог промолчать или не заметить, когда солдат не особенно старательно отдал честь. Он мог не обратить внимания, если у подчиненного не туго затянут ремень. Но, обнаружив нерадивое отношение к технике, он выходил из себя, или, как шоферы говорили, заводился с пол-оборота. Виновник подвергался страшнейшему разносу. В эти минуты Петухов не скупился на выражения. Старшие начальники не раз одергивали и ругали капитана за невыдержанность, но он строптиво ни с кем не соглашался и заявлял только одно: «Я не за свои машины болею. За государственные. Пусть содержит технику как положено, так я его не только не стану ругать – целовать буду!»
Капитану все прощали – автомобили у него действительно содержались в образцовом порядке.
Зная характер Петухова, полковник готовился к неприятному разговору. Он, конечно, мог просто отдать приказ о переводе Паханова. Но это дела не решало. Миронову нужен был союзник. Петухов будет общаться с Пахановым постоянно – если его не направить должным образом, он может все испортить.
Чтобы легче было уломать Петухова, командир попросил зайти и подполковника Ветлугина. У Миронова с Ветлугиным за три года совместной работы установились отличные отношения. Они прекрасно понимали друг друга. Командир и замполит, как добрые соавторы, творили одно дело, не считаясь, где твое, где мое. Делили поровну удачи и огорчения. Кроме общих мероприятий, которые проводились по плану работы полка, командир и замполит имели подшефные подразделения. Полковник выкраивал больше времени для батальонов, а подполковник старался лишний раз побывать в спецподразделениях. И Миронов, и Ветлугин держали на особом учете по нескольку наиболее трудных и недисциплинированных солдат.
Капитан Петухов четко доложил о прибытии. Полковник пригласил его сесть. Петухов присел на край стула.
– Мы намереваемся поручить вам, товарищ капитан, одно очень важное, я бы даже сказал, государственное дело, – начал полковник.
Петухов насторожился – если так деликатно начинают, значит, собираются гонять машины или, что хуже, выселить роту из автопарка.
– Есть в полку один солдат, – продолжал Миронов. – У него плохо сложилась жизнь. Искалечился духовно. Мы должны ему помочь – дать специальность, чтобы, возвратясь из армии, он мог честно трудиться. Перевоспитывать его будет нелегко. В нем двадцать лет откладывались убеждения преступного мира. – Полковник решил сыграть на самолюбии капитана: – Мы посоветовались с замполитом и считаем, такая задача по плечу только вам, товарищ Петухов.
Однако Петухов пропустил мимо ушей лестные слова, напрямую спросил:
– Это вы про того, который у Лободы?
– Да, я говорю о рядовом Паханове. Лейтенант Лобода – офицер молодой, неопытный.
– И не думайте, товарищ полковник! – вдруг заершился Петухов. – Чтоб такого человека ко мне в роту? Да вы лучше меня с должности снимайте! Вы разве шоферов не знаете? Я с этими едва справляюсь – только уголовника мне еще не хватало.
– Напрасно вы так говорите, у вас хорошая рота, отличные, работящие солдаты.
Ветлугин сказал:
– Командир вам говорил о государственном подходе к делу, а вы с ротных позиций…
– Я все понимаю, товарищ подполковник, – ершился Петухов. – Но когда этот жулик натворит чего-нибудь, по шее мне надают, и государство будет ни при чем.
– Правильно! – согласился замполит. – Накажут вас, потому что это дело поручается вам персонально.
– Мне кажется, такие дела нужно прокурору поручать.
– Ну, хорошо, давайте рассуждать по-вашему, – невозмутимо согласился замполит. – Отдаем Паханова под суд. Сидит он. Выходит на волю, и в стране становится одним преступником больше. Озлобленный и выброшенный из общества, он всю жизнь будет ходить по задворкам и приносить вред честным людям. А если мы его перевоспитаем, то на одного строителя коммунизма станет больше. Что же, по-вашему, лучше, товарищ капитан: дать стране преступника или хорошего человека?
– Конечно, лучше хорошего человека, – согласился Петухов. – Только в мою роту его не надо. Я тоже за государственное дело болею.
– Неужели у вас такая слабая рота, что один человек может свести на нет ее боеспособность? – спросил Ветлугин.
Капитан молчал.
– В общем, я понял так, – вмешался полковник, – вы просто не хотите повозиться с человеком. Избегаете лишних хлопот.
– Что я должен сделать? – помолчав, спросил Петухов с видом человека, оставшегося при своем мнении, но вынужденного согласиться.
– Вот это деловой разговор! – похвалил замполит, будто не замечая настроения капитана.
– Прежде всего, – сказал Миронов, – вы должны понять Паханова. Он парень невыдержанный, болезненно воспринимает любые ограничения. Всю жизнь он никому не доверял и ему никто не верил. А вы поверьте. Надо, чтобы он убедился в вашей доброжелательности. Помогите ему изучить автомобиль и стать шофером – это вам ближайшая задача. Постарайтесь обращаться с ним ровно. Если захотите ему что-нибудь поручить – прикажите просто: «Паханов, сделай то-то». И он сделает. В общем, подход к Паханову кое в чем требуется особый, индивидуальный. Но это вполне допустимо, потому что сам Паханов – несомненное отклонение от нормального советского молодого человека, на которого рассчитан устав.
– Мы будем помогать вам, – добавил замполит, – и командир, и я. Комсомольцев нацелим. Коммунистам задание дадим. Не бойтесь, навалимся всем коллективом.
Когда Петухов ушел, Миронов сказал:
– За таким воспитателем нужен глаз, как и за воспитуемым.
– Ничего, Алексей Николаевич, я за ним тоже буду присматривать.
Командир и заместитель разошлись не прощаясь – им в течение дня предстояло встретиться еще много раз.
11
Автомобили стояли рядами. Над каждым висела табличка с фамилией шофера. Это не были, конечно, полированные экспрессы, но все равно, когда Паханов проходил мимо их железного строя, сердце его начинало биться чаще. Ему нравились машины. Он ждал, когда сядет за руль и сам поведет автомобиль. Начал он с занятий в техническом классе. Здесь повсюду – на стеллажах, на стенах, на железных подставках – выставлены детали. Посредине комнаты – рама с кабиной. Если все собрать, получился бы полный грузовик ГАЗ-63. Только ехать он не смог бы, многие детали распилены вдоль и поперек, чтобы видеть их внутренности.
Жорка больше занимался самостоятельно. Читал учебник и разбирал схемы. К нему подходили солдаты и сержанты из его взвода, пытались помочь, но Жорка встречал их хмуро, и они уходили.
Полковник Миронов и подполковник Ветлугин, бывая в автороте, спрашивали о Паханове, постоянно заботились, чтобы солдаты, коллектив на него влияли.
– К нему не подступишься, – жаловался секретарь комсомольской организации сержант Клименко, плечистый чернобровый украинец. – Как бирюк, говорить даже не хочет.
Полковник Миронов советовал:
– Дело нелегкое, но подход к рядовому Паханову найти нужно. Дайте поручение толковому, вдумчивому комсомольцу добиться расположения у этого тяжелого человека, постараться завести с ним дружбу. Ничего зазорного в этом нет. Цель очень благородная. Доктор, чтобы помочь человеку, иногда копается в отвратительных язвах. Паханов тоже по-своему больной, и нужно покопаться в его психологии. Он сам потом скажет спасибо.
Следуя советам старших, Клименко однажды зазвал в канцелярию рядового Гнатюка и таинственно, понизив голос, дал ему особое поручение по сближению с Пахановым.
Гнатюк – здоровенный, но флегматичный парень – спросил:
– Що ж ты мэнэ у стукачи пидставляешь? Или как?
– Вот чудак, ни в какие стукачи я тебя не ставлю. Ты должен с ним подружиться.
– А на що мени таке добро? У мене друг е – Микола Крахмалев.
– Да пойми ты – это комсомольское поручение!
– Щос я таких поручений не чув!
– Новый метод работы. Особый случай.
– Ну добре – спытаю.
В ближайший же вечер Гнатюк нашел Паханова в ленинской комнате, где Жорка, сидя в углу, читал учебник для шоферов. Подошел к нему с одной, потом с другой стороны, Паханов не обращал внимания.
– И чего ты сидишь усё один да один. Як коршун на столбу у поле. Давай гуртуйся до коллективу.
Жорка от неожиданности вздрогнул. Потом, поняв смысл слов, повернулся к Гнатюку спиной и уткнулся в книгу. Обиженный Гнатюк засопел и, подступив к Жорке еще ближе, спросил:
– Чего ж ты крутысси? Я к тоби с помощью, а ты вид мене мурло в сторону.
Жорка встал и послал Гнатюка вместе с его помощью так далеко, что тот только оторопело поморгал белесыми ресницами. Паханов ушел в спальную комнату.
При следующем посещении командира сержант Клименко рассказал ему о неудавшейся попытке. Миронов расхохотался, но, отсмеявшись, вернулся к разговору.
– Надо это делать тоньше, естественнее. Нужно подобрать такого человека, которому Паханов симпатизирует.
– Да он ни с кем не разговаривает, товарищ полковник! А станешь понастойчивее – обругает. У него только и услышишь: «Мотай по холодку».
– Уж в такой среде он жил. А где сейчас Паханов?
– Где-то здесь, в роте.
Полковник и Клименко пошли по расположению роты. В помещении Паханова не было. Они вышли во двор. Вечер был теплый и темный. В эту пору, до восхода луны, всегда темно.
Из курилки, обсаженной молодыми деревцами, доносилась песня. Под аккомпанемент гитары голос, похожий на голос Марка Бернеса, выводил:
Был я ранен, и капля за каплей
Кровь горячая стыла в снегу,
Медсестра, дорогая Анюта,
Прошептала: «Сейчас помогу».
Миронов подошел ближе. Сквозь ветки был виден тесный кружок солдат. Вспыхивали яркие угольки папирос. Паханова здесь не было. Но вдруг он увидел темный силуэт человека по ту сторону курилки. Это был Жорка. Он стоял за деревьями и тоже слушал песню.
– Видишь? – спросил полковник секретаря, кивнув в сторону Паханова.
– Вижу.
– Нравится, – задумчиво сказал Миронов. – Кто поет?
– Старшина Озеров.
– А, из ремонтной мастерской? Заведующий складом запчастей?
– Так точно.
– Скажи, пожалуйста, никогда бы не подумал, что он петь умеет. И хорошо поет.
В этот вечер Миронов вызвал Озерова в штаб и долго с ним беседовал о Паханове. Не только рассказывал о нем, но и советовался. Озеров – коммунист, опытный и добросовестный человек.
Старшина Озеров был ветераном. Он прошел с полком всю войну и потом переезжал с места на место, куда бы часть ни передислоцировали. Даже в Каракумы поехал без колебания. Коренастый крепыш. Лицо коричневое от загара, волосы темные, с белесой опалиной от солнца. Серьезный, степенный человек.
Он пользовался благосклонностью у местных невест, но почему-то не женился. Квартиры в городе не имел. Жил в пристройке рядом с ротными кладовыми. Была у него там чисто выбеленная, скромно обставленная собственная комната. На стене висела гитара. Озеров потерял во время войны родных и поэтому всем существом своим привязался к солдатам. Они приходили и уходили, а Озеров оставался в полку.
За двадцать лет службы у него накопилось много друзей, он с ними регулярно переписывался, ездил к ним в отпуск. Некоторые из солдат стали председателями колхозов, директорами фабрик, звали к себе трудолюбивого и честного старшину. Озеров неизменно отказывался. Вечерами, после работы, он частенько брал гитару и приходил в зеленую курилку автороты – ближайшую к его жилью. Да и по работе, как ремонтник и заведующий складом, он больше связан с шоферами. Здесь в курилке негромким приятным голосом с одесским акцентом пел ребятам фронтовые и современные лирические песни.
12
В кабинет Миронова влетел Петухов. Он едва сдерживал возбуждение. Выпалил:
– Я же говорил, ничего из этого не получится!
– Вы о чем?
– О Паханове! Аварию сделал. ЧП роте принес.
– Расскажите по порядку.
– Какой уж тут порядок?! Сел самовольно в машину! Завел ее и – прямо в забор. Свалил забор и въехал в соседний парк, к артиллеристам.
– Где он сейчас?
– На гауптвахте! Влепил ему трое суток за это. Заберите его от меня, товарищ полковник! Нельзя его около техники держать.
– Ну-ну. Остыньте. Первая трудность – и уже растерялись. Паханов останется у вас. Другой автороты нет. А его обязательно нужно сделать шофером. Задача остается прежней.
Полковник в этот день собирался проверить караул. Он не стал вызывать Паханова. Зашел к нему в камеру во время проверки.
К немалому удивлению Миронова, Жорка встретил его радостной улыбкой. Первый раз командир видел такое веселое лицо у Жорки.
– Получилось, товарищ полковник! – весело сообщил Паханов. – Сам поехал. И завел, и скорость включил, всё – сам. Только править не сумел. Пока соображал, что делать, она, проклятая, прямо на забор наехала.
Полковник невольно рассмеялся. Наивность Жорки была так чиста и непосредственна, что у Миронова отпало желание ругать или упрекать его.
– Значит, получилось? – переспросил он.
– Ага!
– Если ты будешь так тренироваться и дальше, в автороте ни заборов, ни машин не останется.
– Я дувал сам сделаю, товарищ полковник. Пусть он не шумит, – сказал Жорка, имея в виду Петухова.
– Капитан просил убрать тебя из роты.
Паханов помрачнел:
– Я все исполнял, что он приказывал. Трое суток отсижу. Чего еще надо?
– Капитан хочет, чтобы в роте был порядок. Если каждый солдат будет по своему желанию гонять и бить машины, полк станет небоеспособным. Вот ты машину из строя вывел, а на ней должны снаряды везти в случае тревоги.
– Машина исправная. Только помыть, – вздохнув, сказал Жорка. – Не переводите меня из автороты, товарищ полковник. Больше такого не будет – слово даю.
Помня о том, что повседневно работать с Пахановым приходится Петухову, и желая поддержать его авторитет, полковник сказал:
– Я попрошу капитана, чтобы он не настаивал на переводе. Но учти, это в последний раз. Если Петухов мне на тебя пожалуется, больше заступаться не буду. И тогда прощай туристские экспрессы. Шофером не станешь.
После того как Паханов отсидел трое суток, командир роты приказал ему восстановить забор. Жорка неделю месил глину, делал кирпич-сырец и выкладывал стену. Шоферы подшучивали над ним:
– В другой раз на аккумуляторную правь, ее давно перестраивать нужно.
И самым удивительным было то, что Жорка на шутки не обижался. Он смеялся вместе с солдатами и даже отвечал им в таком же веселом тоне:
– Другой раз на склад запчастей наеду. Готовьтесь хватать кому что нужно.
Вечером старшина Озеров пел под гитару свои задушевные песенки. Увидев Паханова в сторонке, сверхсрочник позвал:
– Жора, иди садись.
Если бы позвал кто-нибудь другой, Паханов не пошел бы. А Озеров ему нравился. Старшина потеснил соседей, усадил Жорку рядом с собой и, не обращая больше на него внимания, продолжал песню:
Помню косы, помню майку,
Помню смуглый цвет лица,
Помню, как мы расставались,
От начала до конца.
Жорка сидел в тесном солдатском кругу. Курил. Каждый думал о любимой девушке. И Жорка тоже вспомнил свою любовь – бедовую Нинку Чемоданову.
Однажды, когда Паханов проходил мимо склада, его окликнул старшина Озеров:
– Жора, зайди на минуту.
Паханов зашел. В складе было прохладно, пахло машинным маслом, вдоль стен на стеллажах аккуратными штабельками лежали запчасти.
– Помоги мне задние мосты в тот угол переставить. Тяжелые, черти…
Паханов помог. Потом вместе мыли руки. Сели покурить. Старшина был ненавязчив. Он ни о чем не спрашивал, не поучал. Жорка сам задавал вопросы приглянувшемуся сверхсрочнику, причем, как всегда, говорил «ты». Уж так сложилась Жоркина жизнь, не приучила его говорить «вы».
– Воевал? – спросил Паханов, имея в виду две полоски лент на груди старшины.
– Было дело.
– Интересно. Убьешь человека на фронте – орден дадут. Убьешь в мирное время – высшую меру получишь.
– Если человека убьешь и на фронте – расстреляют. Награды дают за истребление врагов.
– А какие они, враги?
Старшина нахмурил брови, глубже затянулся папироской. Лицо его сделалось суровым.
– Враги, говоришь? Жил я до войны под Киевом, в колхозе. Женился. Дом построил. Была у меня дочка Галя. Шустрая лопотушка. Утром заберется ко мне в постель, сядет верхом и давай погонять: «Но, лошадка!» Жена Маруся – добрая дивчина. Все было хорошо… А потом – Гитлер напал, – хриплым шепотом продолжал старшина. – Сроду столько горя люди не видели. До нашей деревни дошел… Сколько там крови неповинной пролилось… Молодых стали угонять в Германию… Пришли и за моей Марусей… Дочка Галочка кинулась к матери. Обхватила ее ноги… Криком кричала… Не пускала… Маленькая, а поняла, что… беда матери грозит… А он… зверь этот… схватил… доченьку за ноги – да головой об угол. – Лицо старшины побелело. Его била мелкая дрожь, папироса жгла пальцы, но он не замечал этого. —Узнал я от матери. Она все видела своими глазами… А скажи, – дрогнул его голос, – такое можно видеть? Клятву я дал тогда – ни одного фашиста в живых не оставить! Не мне, так кому-то другому каждый из них принес несчастье.
Старшина замолчал, дрожащими пальцами разминая новую папиросу. Молчал и Паханов, пораженный услышанным.
– Вот так, брат, – тяжело вздохнул Озеров и направился в дальний угол перебирать запчасти.
Жорка пошел в роту. Рассказ старшины просто обжег его сердце. Если бы случилось такое с ним, он их зубами рвал бы…
А вечером Паханов сам подошел к Озерову в курилке, когда тот пришел с гитарой, и сел рядом. Слушал песни старшины и думал – только он один знает, почему у Озерова все песни получаются грустные.
Паханов в автомобильной роте прижился.
Капитан Петухов, спокойно поразмыслив, понял, что от него хочет командование полка. К тому же он знал, что Ветлугин и Миронов тоже не выпускают его подопечного из виду. Если же полковнику случалось встретиться где-либо со строем автороты, на разводе или по пути в столовую, Миронов непременно отыскивал глазами в строю Паханова и, встретив его взгляд, будто напоминал ему: «Держись, Жора!»
Сближение Паханова со старшиной Озеровым полковник очень одобрил. Секретарь комсомольской организации Клименко, следуя указаниям замполита, строго следил за тем, чтобы Паханов регулярно посещал политические занятия, беседы и информации. Сначала Жорка зевал на этих занятиях. Все ему было непонятным и ненужным. Но постепенно втянулся. Его стали интересовать победы наших спортсменов. Увидев в учебных кинофильмах действие атомных бомб, Жорка заволновался: что же делают люди для того, чтобы эти бомбы вдруг не начали падать им на голову?
Так Паханов дослужил год, в конце которого ему предстояло сдать экзамен на права водителя.
В день, когда был назначен экзамен в Госавтоинспекции, Паханов очень волновался. Он надел парадный мундир, начистил сапоги. Старался выглядеть независимым. Но суетливость, ненужные движения выдавали его.
– Не волнуйся. Ты же все знаешь! – подбадривал сержант Клименко.
Паханов доверчиво смотрел на него, но успокоиться не мог. Наконец он не выдержал, пошел на склад к Озерову. Старшина, как всегда, что-то перекладывал, протирал, записывал. Паханов нерешительно остановился на пороге.
– Чего ты, Жора?
– Слушай, сходи со мной в это ГАИ.
Старшина знал, что Паханов должен сдавать экзамены, об этом был разговор накануне.
– Как живая шпаргалка? – пошутил Озеров.
– Не в этом дело, – сказал Жорка. – Непривычно мне как-то с ними одному. Не по себе.
– Ты про кого?
– Ну, про милицию…
Поняв, в чем дело, старшина вымыл руки, переоделся и, весело взглянув на Жорку, сказал:
– Идем.
В помещении автоинспекции на скамейке около большой двери, ожидая очереди, сидели экзаменуемые.
Когда вызвали Паханова, с ним зашел и Озеров. Старшина был знаком в городке с очень многими. Знал, конечно, и милицию. Он подошел к лейтенанту, сидевшему за столом, отдал честь и заговорил с ним о чем-то легко и свободно.
Жорка озирался, постепенно успокаиваясь. Здесь был такой же класс, как в автороте, только деталей поменьше – самое необходимое. В центре комнаты стоял макет города со всеми хитросплетениями улиц и перекрестков, которые должен преодолевать шофер.
– Бери билет, солдат! – громко сказал лейтенант.
Жора выбрал белый квадратик и быстро прочитал вопросы.
– Можешь подойти к стендам и деталям!
У Паханова все внутри дрожало. С трудом собрал мысли. А найдя нужные узлы, вдруг почувствовал себя спокойнее. И вопросы оказались знакомыми. Пока готовился к ответу, слышал, как Озеров что-то быстро-быстро говорит лейтенанту, а тот однословно рокочет:
– Понятно!.. Понятно!..
Жорка отвечал хорошо. Только голос был незнакомо глухим.
Лейтенант дружелюбно хлопнул его по плечу. А у Жорки перехватило дыхание от испуга.
– Чего же ты, хлопчик, тушуешься?! Все знаешь хорошо! Ставлю тебе «четыре». Ну-ка, давай теперь по правилам уличного движения.
На обратном пути Жорка, расстегнув крючки на вороте, коротко спросил Озерова:
– Зайдем выпьем?
– Газировочки?
– Да нет. В честь сдачи. Обмыть надо.
Старшина покачал головой, и Жорка насупился. Надолго замолчал. Обиделся.
Но Озеров сказал:
– Приходи вечерком ко мне на квартиру. Посидим за чаем. Культурно.
И Жорка просиял.
Паханов украдкой любовался красной книжечкой, которая состояла из двух обложек, недаром водители ее называют «корочки». Жорка смотрел на свою фотографию, на узорчатую бумагу – и чувство гордости распирало его. Как-никак, а это был первый в его жизни не липовый – заработанный документ. И не просто документ – профессия!
При очередном разговоре с полковником Мироновым командир автороты сказал:
– Все же я боюсь доверить Паханову машину. Мутный он для меня. Не вижу его мыслей.
– А вы закрепите за ним строевую, – посоветовал Миронов.
– Что вы, товарищ полковник, сразу новую машину давать! – возразил капитан.
– Да-да, нужно посадить именно на строевую, – подтвердил командир полка и посмотрел на капитана: неужели не понимает?
Лицо Петухова вдруг посветлело, он заулыбался.
– Я вас понял, – весело сказал капитан. – Все понял. Строевая машина стоит себе под навесом. Выходит только по тревоге, вместе с остальными. Всегда или в колонне, или в парке, одиночкой строевые машины не ходят.
…Жорка обошел грузовик и остановился зачарованный. Машина новая. Краска зеркально блестела. Покрышки неезженые – весь узор на них четкий, еще даже не запачканный. Передние и боковые стекла закрыты плотной бумагой, чтобы не выгорала внутренняя обшивка кабины от сильного южного солнца.
Капитан Петухов разъяснял:
– По тревоге вы подгоняете машину к складу боеприпасов. Двигаться будете вот за этой – двадцать пятой. Сегодня пройдете по дороге, которая ведет к складу. Посмотрите ее, изучите подъезды.
Капитан ушел. Паханов залез в кабину. В кабине было прохладно и сумеречно, пахло новым дерматином. Он был счастлив.
13
Однажды ночью в казармах задребезжали звонки, загорелись красные лампочки. Тревога. Сотня парней одновременно вскакивает с постелей, торопливо одевается. Разбирает оружие и бежит по своим местам. И все это в полном молчании. Лишь изредка звучат короткие команды сержантов. И в Жорке шевельнулось чувство, похожее на гордость, – как же, и он участник этого продуманного порядка!
В парке гудели моторы. Автомобили осторожно, чтобы не зацепить друг друга, выбирались за ворота. Паханов зорко следил за соседом. Когда из-под навеса выехал 25-й, Жорка включил скорость и потихоньку дал газ. Машина послушно двинулась с места. Паханов вел ее с гулко бьющимся сердцем. Новый мотор мурлыкал ровно и мягко.
Около склада было шумно. Ящики со снарядами выплывали по громыхающей ленте из утробы подвала и, подхваченные солдатами погрузочной команды, съезжали в кузова машин.
Жоркин грузовик скрипел новыми рессорами и заметно проседал под тяжестью. Жорке стало жаль машину, он утешал ее: «Ничего не поделаешь, брат, – тревога».
На марше думать было некогда. Машину обволакивала густая завеса пыли. Впереди идущая 25-я то исчезала в пылевом облаке, то борт ее неожиданно обнаруживался перед самым радиатором, и тогда Жорку обдавало холодным потом. Он, проклиная пыль, всматривался в ее густые космы так, что кололо веки.
К рассвету полк вышел в назначенный район. Нужно было маскироваться. Шоферы взялись за лопаты. Ох, нелегко выкопать котлован для такой махины! Спешили. Жорка, не привыкший к такой тяжелой работе, через час набил на руках кровавые мозоли. Но все рыли – и он рыл, скрипя от боли зубами.
К нему подошел Озеров:
– Перекури, Жора.
Паханов размазал по лицу пыль и пот, сел на подножку рядом со старшиной. Когда Жорка трясущимися пальцами брал папиросу, Озеров увидел, во что превратились его руки.
– Ты покури, а я покидаю.
– Не надо, – возразил Жорка.
– Размяться хочу. Затек весь, пока ехали.
Старшина взял лопату и неторопливо, размеренно стал кидать землю из котлована.
«Бои» шли где-то впереди. Там, в вихре атак, ударов «атомных бомб», в смертоносных дождях радиации, командир полка руководил «боем». За все учения полковник Миронов побывал в тылах один раз и заехал в автороту на несколько минут. Поговорив о делах, Миронов спросил капитана Петухова:
– Как Паханов?
– Держится. Укрытие вырыл. Из сил выбился, но вырыл. Озеров ему помогал.
– Хорошо. Вы Паханова обязательно поощрите. Нужно постепенно закреплять то, чего он добился. Поощрения, товарищ Петухов, очень сильный фактор: они не только отмечают сделанное, но и стимулируют на будущее. На хорошее подталкивают, от плохого удерживают.
Миронов, увидев Паханова, подозвал его к себе:
– Как, Жора?
– Ничего.
– Командир роты тобой доволен.
Жорка нахмурился. Не было такого в жизни – никогда его не хвалили!
– Ну, воюй, – тепло сказал Миронов. – Желаю тебе успеха. – И уехал.
А после учений, делая разбор действий роты, Петухов отметил многих. Неожиданно для Жорки он назвал и его фамилию, приказал выйти из строя.
– За умелые действия на учениях объявляю вам, товарищ Паханов, благодарность!
Жорка негромко, стесняясь своего голоса, ответил:
– Служу Советскому Союзу. – И встал в строй.
Похвала командира была приятна. Но в нем тут же зародилось сомнение: «А за что мне благодарность? Я ничего особенного не сделал».
Вечером Озеров ему весело сказал:
– Поздравляю, ты, говорят, отличился.
Жорка хмуро ответил:
– Другие не меньше работали.
– Э, браток! Значит, ты не понял, – пожурил Озеров. – Как же – не за что? Ты водитель молодой. За баранкой на такие учения выехал первый раз и вместе со «стариками» прошел без аварии, без остановки, без замечания. Как же тебя не поощрить? Нет, не сомневайся, тут полный порядок. По справедливости.
Паханов не отходил от своей машины – чистил, мыл, протирал, смазывал. Капитан и старшина роты не раз отмечали его старание и даже приводили в пример другим. Но настал день, когда Жорке надоело гладить свой грузовик. Петухов увидел: ходит Паханов скучный, охладел к машине. Командир роты, как ему было приказано, сообщил об этом Миронову. Полковник подробно расспросил обо всех мелочах в поведении Жорки и пришел к заключению:
– Нужно переводить Паханова на транспортную машину.
Петухов не выдержал, запротестовал:
– Ну что вы, товарищ полковник! Разве можно его в одиночку пускать в рейс? Я за него отвечать не хочу. Сколько волка ни корми – он все в лес смотрит. Паханов только затаился, а в голове у него свое.
– То, что сейчас происходит с Пахановым, вполне естественно. Машина наскучила. Что делать? Если мы не найдем применения его энергии и не направим его стремления в нужную сторону, он их сам направит туда, куда ему заблагорассудится. – Полковник задумчиво постучал карандашом по столу и решительно добавил: – Нужно наращивать его занятость. Наращивать доверие. Обязательно посадите его на транспортную машину. Поручайте ответственные рейсы, сначала в паре со старослужащими, а потом и самостоятельные. – Заметив движение Петухова, который пытался что-то возразить, полковник повторил: – Да, и самостоятельные. Непременно научите его поступать честно наедине с собой. Настанет день, товарищ Петухов, мы уволим его из армии. Он должен уметь жить правильно сам, без нашей опеки.
Петухов выполнил приказ с большой неохотой. Но все было обставлено, как советовал Миронов. О новом назначении объявил на вечерней поверке, перед строем:
– Рядовой Паханов с завтрашнего дня переводится на самостоятельную работу!
Паханов принял старенький «ЗИЛ». Кабина его, по сравнению с прежней машиной, выглядела неказистой, здесь пахло устойчивым бензиновым перегаром. Сиденья и потолок были в масляных пятнах. Краска на крыльях и капоте от ежедневного мытья местами протерлась до рыжей грунтовки. Кузов расшатан и громыхал на выбоинах. Да, это не строевой недотрога, избавленный от лишних движений. Это был транспортный трудяга, которому день и ночь полагалось возить грузы: картошку и капусту в хранилища, одежду и ткани на склады, известку и кирпич на полковые стройки, свиней на бойню. В общем, все, что необходимо для повседневной жизни полка.
С этого дня Паханов всюду был желанным человеком – его ждали, его упрашивали сделать лишний рейс, его угощали хорошими папиросами, усаживали за стол, если приезжал к обеду. А кое-кто стремился перехватить и на пути, уговаривая продать шифер или доски, а то и предлагал пятерку или пол-литра за левый рейс.
Жорка работал честно, весь отдался своей новой работе. Она ему нравилась.
Однажды в парк пришел командир полка. К нему вызвали Паханова и еще двух шоферов. Рядом с полковником стоял Петухов. По его недовольному виду, по тому, что он молчал, Жорка понял – капитану очень не нравится поручение, которое дает шоферам полковник.
– Вы поедете в Ашхабад, – сказал Миронов. – Оттуда нужно привезти кабель, тележки для движущихся мишеней, рельсы, уголковое железо для оборудования стрельбища. Все это будет доставать и закупать майор Федоров. Ему придется иногда подолгу находиться в учреждениях, но без его разрешения чтобы никто из вас не отлучался. Смотрите, в городе большое движение – будьте осторожны. – Полковник, прищурив глаза, весело посмотрел на солдат, которые стояли рядом с Жоркой, и добавил: – И вообще там соблазнов много.
Но Жорка отлично понял, к кому относятся эти слова. Утром колонна ушла в рейс. Путь предстоял далекий – километров триста. Из Ашхабада Федоров должен был позвонить вечером о прибытии и о том, как он начал выполнять порученное ему дело. Но телефонный звонок майора последовал гораздо раньше – в середине дня. Взволнованным голосом Федоров доложил:
– Паханов пропал.
– Как пропал? – спросил изумленный полковник.
– Я ехал на головной малине, он вел замыкающую. Я видел только одно: за ним гналась милиция, а он мчался куда-то в сторону от шоссе по полевой дороге.
– Что же он натворил?
– Не знаю.
– Справьтесь у милиционеров.
– Так они умчались за ним.
– Поезжайте в ГАИ, узнайте там.
– Я уже был. Ничего определенного не знают. Нашей машины среди задержанных нет.
– Обратитесь еще раз в ГАИ и доложите мне.
Миронов был расстроен и озадачен. «Неужели окажется, что прав капитан Петухов с его чрезмерной осторожностью?»
Вечером майор Федоров доложил: Паханова обнаружить не удалось, милиция о машине с его номером ничего не знает.
«Что-нибудь не так. Почему его ловила милиция? Если он собирался удрать, то сделал бы это потихоньку, без погони. И почему, собственно, за ним погнались? Кто знал, что он решил уехать? Нет, просто так он уехать не мог. Нужно проверить, может быть, записку оставил в тумбочке».
В полку о случившемся ничего не знали. Миронов позвонил в автороту.
– Слушаю, – ответил Петухов.
– Я насчет Паханова…
– Извините меня, товарищ полковник, – заторопился капитан. – Я напрасно противился. Паханову действительно можно доверять.
Полковник не понимал – иронизирует, что ли, Петухов?
– Вы о чем? – сердито спросил он.
– Я говорю, доверять можно, раз приехал самостоятельно из такого дальнего рейса.
– Не понимаю вас.
Капитан, видимо, тоже чего-то не понимал и поэтому умолк.
– О каком рейсе вы говорите? – спросил Миронов.
– В который вы его утром отправили. Сейчас моет машину.
– Кто моет?
– Паханов.
– Где?
– На мойке.
– Ничего не понимаю…
Трубка опять недоуменно помолчала, а потом нерешительно добавила:
– Вы хотели что-то спросить, товарищ полковник?
– Где Паханов?
– Я же говорю, моет машину.
– Вы сами его видели?
– Сам.
– Пошлите его ко мне. Немедленно.
– Есть.
Жорка вошел в кабинет командира полка с опущенной головой. Встал у двери.
– Что случилось? – сурово спросил полковник. Жорка пожал плечами. – Что ты натворил, я спрашиваю?
Жорка поднял голову, посмотрел полковнику прямо в глаза.
– Ничего, батя, я не сделал. Виноват… товарищ полковник… Они сами свист подняли. – Жорка помолчал и опять, виновато опустив голову, добавил: – Как они свистнули, во мне этот… Как вы его называли? Рефлекс… и сработал. Стал я уходить. А зачем, сам не знаю. Так уже я привык: милиция свистит, – значит, мне уходить надо. Когда увидел, что гонятся, тут меня совсем азарт взял. Не дамся – и все! Одним словом, ушел я от них. И домой вернулся. В Ашхабад не поехал – по номеру задержат.
– Почему же они тебе свистели? Может быть, правила нарушил?
– Нет. Ехал нормально.
– А когда удирал, никого не сбил?
– Нет, ушел чисто, – с улыбкой сказал Паханов.
– Нечего сказать – чисто! Ты же мог людей подавить.
– Мог бы.
– Опять на волосок от тюрьмы был.
Жорка вздохнул:
– Такой уж, видно, я непутевый.
– Ну, ладно. Иди отдыхай. Будем ждать, что о тебе официально сообщат. По номеру найдут, где машина прописана.
– Я правду сказал, другого ничего не было.
Полковник верил Жорке. Его даже развеселил этот случай с рефлексом. К тому же сегодня впервые Паханов назвал его батей. Он сделал это неумышленно, в сильном волнении. Значит, в сознании Жорки, в мыслях наедине, полковник существует для него уже как батя. И Миронов чувствовал – слово это Паханов не позаимствовал из Сенькиных писем, оно родилось самостоятельно в теплоте и доброжелательности их отношений.
Вернувшись из Ашхабада, майор Федоров доложил: он разыскал милиционера, который свистел. Постовой сообщил, что Жоркина машина никакого нарушения не сделала – просто у него хотели проверить путевку. Вскоре пришла и официальная бумага. В ней говорилось то же самое, но за побег предлагалось наказать водителя. Так у Жорки на талончике, вложенном в права, появился первый прокол.
Старшина Озеров шутил:
– Теперь ты, Жорка, с дыркой.
Вечером, когда, как обычно, сидели с гитарой в курилке, Озеров, которому Жорка однажды поведал о своей мечте стать водителем туристского экспресса, сказал:
– Учти, Жора, дырка маленькая, а беда большая. Не возьмут тебя с такой дыркой пассажиров возить. Да и вообще на автобусы берут только с первым или вторым классом. Надо бы тебе подготовиться и повысить классность. Получишь новые права, а старые, пробитые, сдашь. Будет полный порядок.
Приятели разошлись. Жорка, прежде чем уснуть, долго думал о словах Озерова. Чтобы получить второй класс, придется попотеть над учебниками. Но совет дельный – старшина ведь зря не скажет… На другой день он взял в библиотеке учебники и вечерами, после возвращения из рейса, начал готовиться.
Команда шоферов во главе с командиром автороты Петуховым должна была получить автомобили в Ташкенте, погрузить их на платформы, закрепить и сопровождать в пути. Когда Петухову по телефону сообщили о решении командира полка включить Паханова в команду, он взъерепенился. Кричал, что никуда не поедет, он не собирается подставлять шею из-за этого уголовника. Однако, поутихнув, даже не позвонил Миронову. Знал – бесполезно. Считая себя обреченным на взыскание, с тоской думал: «Везу волка в лес!»
Команда уехала.
Миронов, занятый множеством дел, все-таки часто вспоминал об уехавшем Жорке и с тревогой ждал, чем это кончится. Через неделю пришла телеграмма от Петухова: «Машины получили. Едем. Все в порядке». Теперь уже не беспокойство, а любопытство точило полковника. Что же там произошло? Как Жорка встретился с дружками, с Ниной?
Эшелон прибыл ночью. Ночью же его разгрузили и машины перегнали в парк. Миронову доложили только утром, и он поспешил в автороту – посмотреть на автомобили. Это был, конечно, предлог. Машины новые, с завода, что их смотреть? Полковнику не терпелось поговорить с Пахановым.
Первым, как и полагалось, Миронова встретил командир автороты Петухов. Отдал рапорт. Доложил о результатах командировки и повел полковника вдоль ряда новеньких грузовиков.
– Как вел себя Паханов? – спросил Миронов.
– Безукоризненно. Пил газированную воду.
– Отлучался?
– Один раз. С моего разрешения. Правда, я отпустил его на всю ночь.
– Ну?
– Вернулся утром. Трезвый. Серьезный. Не злой, не веселый, а именно серьезный.
– Ничего не рассказывал?
Петухов метнул в полковника косой взгляд:
– Он рассказывает только вам.
Миронов не остался в долгу:
– Между прочим, когда я был командиром роты, мои подчиненные на сторону свои душевные дела не носили.
Петухов молча проглотил упрек.
14
Второй год службы прошел у рядового Паханова ровнее. Он получил второй класс и повесил на гимнастерку синий значок с золотой каемкой.
Жорку приглашали на все открытые комсомольские собрания. Особенно ему нравились прения. Острая критика его просто поражала. Раздраконит кто-нибудь товарища, а в перерыве, глядишь, курят вместе и продолжают спорить.
– Я бы его после этого избил или навек врагом посчитал, – ухмылялся Жорка, —а они, смотри, папиросами друг друга угощают.
Однажды секретарь Клименко попросил Паханова остаться в ленинской комнате после собрания. Когда все разошлись, сержант сказал:
– Не пора ли тебе, Жора, подавать заявление?
Жорка поразился:
– Мне? В комсомол?
– Да, тебе.
– Кто же мне поверит?
– Мы поверим – товарищи по службе.
– А рекомендации?
– Я дам, Гнатюк даст, старшина Озеров.
– Разве Озеров комсомолец? Он же немолодой.
– Он коммунист, Жора.
Это было настоящим открытием: старшина Озеров – коммунист! Сейчас Жорка знал коммунисты самые честные и порядочные люди. А если бы он узнал, что Озеров коммунист, в первый год службы, когда в голове его был полнейший сумбур, дружба между ними наверняка не склеилась бы.
– Ну как, будешь подавать заявление? Я помогу подготовиться.
Жорка молчал. Прошлое и настоящее вдруг встало в его памяти, закружилось, перепуталось, да так, что он не мог разглядеть в этом сумбуре свое будущее.
– Пока подожду.
– Почему?
– Рано.
– He скромничай!
– Верно говорю. Подождать надо. Ты, Клименко, не торопись. Вдруг я комсомольский билет куда-нибудь в неподходящее место занесу? – задумчиво сказал Паханов.
– Да брось ты свое прошлое ворошить! – горячился секретарь. – С этим все кончено. Второй год в армии служишь. Посуди сам – может ли человек после хорошей бани, чистый, раскрасневшийся, в хрустящем новом белье вдруг полезть в грязь, болото смердящее?
– Может.
– Ну, знаешь, тогда это не человек, а падаль! – вскипел Клименко.
– Остынь, остынь. Ты сам бы полез, если нужно, – успокаивал его Паханов. – А если в этой грязи твой друг? Ты что, по бережку будешь бегать и чистое бельишко свое беречь?
– Я подам ему руку.
– А если руки не хватит?
– Ну тогда…
– Вот то-то. В общем, подожду.
Клименко еще не встречал в своей практике такого, чтобы человек отказывался идти в комсомол. Он проинформировал об этом подполковника Ветлугина. Замполит понимал, что серьезное отношение Паханова к вступлению в комсомол – уже само по себе положительно. Нужно за оставшееся время службы приложить максимум сил и расширить его политический кругозор, чтобы он непременно вышел победителем в той борьбе, на которую намекал, которая ждет его после демобилизации и возвращения на гражданку.
Жизнь летит стремительно… Однажды осенью полк выстроился на строевом плацу. Ввиду торжественного случая не пожалели даже драгоценной воды – плац был полит. Асфальт блестел, как глянцевая фотокарточка, от него веяло приятной свежестью. Жора стоит в шеренге увольняющихся «старичков». В руках у него новенький чемодан. На груди значки: второй класс шофера, ГТО, третий разряд по бегу.
Идет церемония прощания. На правом фланге алеет Боевое знамя, и, сверкая трубками, то и дело играет оркестр туш: вручит командир грамоту – и тут же туш, а по строю полка плещут аплодисменты. Отблагодарив особо отличившихся, командир полка и замполит пошли вдоль шеренги отбывающих – пожимали руки, давали советы, дружески похлопывали по плечу. Около Паханова полковник Миронов остановился, долго держал его ладонь в своей. Смотрел на солдата с удовольствием – одним честным человеком стало больше. И военная форма ему идет! Грудь колесом, веселое лицо, доброжелательные глаза. Солдат как солдат!
– Зайдите, товарищ Паханов, ко мне после построения, – сказал командир и пошел дальше.
После торжественной церемонии солдаты группами потянулись к вокзалу. А Паханов зашел к Миронову в кабинет. Командир еще раз с удовольствием оглядел подтянутого солдата:
– Писать будешь?
– Чтобы вы мои письма еще кому читать дали? – засмеявшись, спросил Жорка. – Буду, обязательно. И если еще какой-нибудь вроде меня попадет, вы мне сообщите. Я ему от себя особо напишу.
– Я как раз думал, что бы тебе подарить на память? – Миронов достал из кармана авторучку. – Вот возьми. Она тебе будет напоминать о письмах.
Потом он проводил Жорку до самых ворот. Держа под руку, вел его и говорил:
– Если тебе будет трудно, не забывай – у тебя здесь много друзей. Пиши иди приезжай – мы всегда поможем.
– А если бы я на сверхсрочную попросился? – вдруг спросил Паханов.
– Возьмем с удовольствием, хоть сейчас.
– Я бы хотел быть вашим шофером. У меня ведь нет никого. Отец – так он и не отец, а так, сам по себе. Вы всю жизнь по разным местам кочуете, и я бы с вами ездил. Ну, а если война и в случае бомба или снаряд – собой заслонил бы. Одним словом, вы для меня, как и для Сеньки того, – батя. Уж вы не обижайтесь, а я в письмах вас так называть буду.
– Спасибо тебе, Жора, за добрые слова. В письмах зови, как считаешь нужным. А Семену ты напиши. Вы теперь вроде как побратимы.
Паханов даже остановился:
– Верно! Как это я раньше не дотумкал? Брат он мне. Настоящий брат по отцу. – И нежно добавил: – По тебе, батя.
Желая скрыть охватившее его волнение и боясь, как бы прощание не вылилось в слезливую сцену, Миронов заторопился:
– Ну ладно, Жора. Пойду. Дела. Нине привет передай. Будь здоров и пиши обязательно.
Полковник пошел к штабу, а Жорка смотрел и смотрел на родного и близкого человека, стараясь навсегда запечатлеть его в памяти.
У входа в штаб Миронову отдал честь Лобода. Командир взглянул на него и, видя, что взводный хочет о чем-то спросить, остановился.
– Я смотрел, как вы прощались с Пахановым, – сказал виновато Лобода. – Мне стыдно, что я не сумел найти подход к этому человеку. Я и сейчас не смог бы с ним справиться. Скажите, пожалуйста, как вам это удалось? Что вы с ним сделали?
– Я один тоже ничего не сделал бы. Работали все. Между прочим, и вы сыграли некоторую роль. Жорка отчасти назло вам стал человеком. Люди руководствуются в делах и поступках нормами поведения, которые считают правильными или выгодными. Раньше у Паханова были одни взгляды, и он воровал. Теперь ему помогли избавиться от пороков, и он стал жить честно. – Полковник добро посмотрел на виноватое лицо лейтенанта и добавил: – А вы не отчаивайтесь. Человек всю жизнь подвергается процессу воспитания. Вы тоже. Этот случай для вас – наука. У вас еще все впереди. Вглядывайтесь в людей повнимательнее. Находите, какими идеями они руководствуются, а потом действуйте. Воспитывать – профессиональная обязанность офицера.
Полковник вошел в кабинет и, прежде чем переключиться на текущие дела, подумал: «Да, процесс воспитания происходит всюду и длится на протяжении всей жизни человека. Мы воспитываем. Нас воспитывают. И тех, кто воспитывает нас, тоже воспитывают. Все находится в сфере этого непрекращающегося процесса. И имя мудрому воспитателю, который держит всех в поле зрения, который бескорыстно открывает перед людьми законы жизни, имя этому воспитателю – партия».
…Уехали домой старослужащие. На смену им пришли молодые. На том же плацу, где недавно происходили проводы, в один из дней построили новобранцев.
Миронов и Ветлугин знакомились с пополнением. Они проходили вдоль строя, вглядывались в лица. Парни были хорошие – веселые, образованные, редко у кого меньше восьми классов. Многие с производства. Эти – народ надежный, трудностей не испугаются. И специальности хорошие подобрались, нужные для полка: есть слесари, электрики, инженеры. Миронов уже прикидывал: кого в ремонтники, кого в связисты, кого в автороту.
Добро и весело поглядывал Миронов на своих подчиненных. Знал – есть у некоторых и такие черты, которые в анкете не пишутся и в беседах не высказываются: лентяй, не чист на руку, подхалим, зазнайка, жадина, врун, пьяница и даже верующий в бога. Все это предстояло выявить: человек далеко прячет свои пороки. За два года эту шелуху нужно с них счистить.
Ох, нелегко это обходится офицерам! У многих прибавится седины. Но зато уйдет на гражданку – на стройки, в колхозы, в институты – новый отряд крепких, здоровых людей, таких, какие нужны для строительства коммунизма.
15
История Жорки Паханова не кончилась.
В ноябре Миронова вызвали на сборы в Ташкент. Он приехал утром. Город уже проснулся – люди спешили на работу. Полковник не стал брать такси, не сел на троллейбус – пошел пешком. Для тех, кто живет в большом городе, окружающая красота и благоустроенность примелькались. А Миронову после пустыни, песчаных бурь и лысого пыльного городка было приятно пройтись по красивым улицам.
Стояла осень. Деревья пожелтели. Золотистые листья усыпали тротуар. Листья были чистые, целенькие и выглядели не мусором, а украшением, в которое нарядилась на прощание осень. Весь город будто в дорогой золоченой раме. Большие, красиво отделанные дома. Прозрачные витрины. Огромные клумбы с алыми, словно из красного бархата, каннами. Бесшумно скользят по гладкому асфальту автомобили.
Полковник смотрел на прохожих и думал: «А все ли они знают, как эту красоту и покой оберегают солдаты? В жарких Каракумах, на Памире, где не хватает воздуха, на Севере, где на ледяном ветру матроса окатывает холодная как смерть волна? Вспоминают ли о нас, солдатах, эти счастливые люди? Солдату немного нужно – чтоб помнили…»
Мысли полковника прервал резкий визг тормозов. Огромный автобус остановился с ходу, спрессовав пассажиров. А в следующий миг открылась дверца водителя, из нее выпрыгнул парень в клетчатой ковбойке, заорал на всю улицу:
– Батя!
Парень стиснул в сильных ручищах Миронова.
Полковник не верил своим глазам – Жорка!
Миронов знал, что он живет в Ташкенте, но никак не ожидал с ним так встретиться. В автобусе еще кудахтали, как испуганные куры, пассажиры. А Жорка, отступив на шаг, любовался полковником и повторял:
– Батя!.. Дорогой…
Наконец он пришел в себя и стал спрашивать:
– Насовсем? Перевели? В Ташкенте служить будешь?
– Нет. Я в командировке.
– Ты обязательно должен побывать у меня в гостях!
В автобусе волновались. Вокруг собрались зеваки. А Жорка не обращал внимания. Миронов сказал:
– Езжай, Жора, потом встретимся и договоримся.
– Нет, батя, обещай, что придешь. Или я тебя никуда не отпущу. Этих всех вытряхну и повезу к себе. Я должен тебя с Ниной познакомить.
– Чего ты меня упрашиваешь? Я и сам приду.
– Сегодня в семь вечера, можешь?
– Могу.
– Считаю, договорились. Адрес у тебя есть?
– Есть.
– Доедешь до Асакинской, а там рядом. Найдешь?
– Да, найду. Езжай.
Жорка побежал. Впрыгнул в кабину.
Набирая скорость, машина покатила дальше.
16
Сборы начинались завтра. Полковник отвез чемодан в общежитие. Доложил о приезде и пошел гулять по городу. По пути он выполнил поручения жены – купил ей босоножки и лимоны. Ровно в семь часов пришел на квартиру Паханова. Его ждали. Жорка метался по комнате, наводил порядок. Увидев полковника, он поспешил к нему, обнял, встал с ним рядом и сказал Нине:
– Вот это наш командир! – И добавил, очевидно, имея в виду свои рассказы: – Тот самый.
Миронов смотрел на Нину. Она была худенькая, чернявая, с очень живыми бойкими глазами. Бывают в школах такие девчонки – боевые, отчаянные, дружат только с мальчишками, за внешностью своей не очень следят, но зато имеют массу преимуществ перед своими тихими подругами. Они умеют лазить по деревьям, играют в футбол, участвуют в набегах на сады, спокойно смотрят, как мальчишки курят или дерутся, и вообще, им доверяются самые сокровенные мальчишечьи тайны. Нина была именно такой. Миронов ожидал встретить видавшую виды, тертую жизнью женщину. А перед ним стояла обыкновенная девчонка, даже не барышня.
– А это моя Нинка, – сказал Паханов, представляя подругу.
Полковник пожал маленькую твердую руку.
Миронова повели к столу прямо с порога. Наблюдательный полковник отметил: хозяйка-то росла не в семье. Коньяк, шампанское, полный ассортимент консервов, какие только имелись в гастрономе, от сардин до частика в томате. Конфеты-подушечки и тяжелые плитки шоколада «Юбилейный». Чайная колбаса, будто нарубленная топором, и ненарезанная селедка.
Жорка разлил коньяк в граненые стаканы и вдохновенно сказал:
– Давайте выпьем!
Когда прошло первое возбуждение от радостной встречи, Жорка стал рассказывать по просьбе полковника, как сложилась его жизнь после армии.
– Приехал в Ташкент, гложет меня тоска – опять в полк хочу. Тебя вспоминаю, Озерова. Петуха нашего – так бы и побежал назад пешком. Начну дома рассказывать про свою службу, про людей – на меня косятся. Не верят. Мне даже кличку дали – Командир.
– Он о чем заговорит, все одними словами начинает: «мой командир», «наш командир» – вот его так и прозвали, – весело пояснила Нина.
– Хожу я так неделю. Деньги кончаются. Надо что-то думать. Как говорили нам на политзанятиях, экономика – главное. От нее все идет. Странные дела со мной творились. Надену хороший костюм бостоновый, был у меня еще до армии, хожу по городу, и будто мне опилок или волос за шиворот насыпали. Ну, просто не по себе! Ни думать, ни отдыхать не могу. Приду, переоденусь в свое выгоревшее «хб», сапоги, правда, хромовые надену – и сразу будто на свет родился. Так все и приложится к телу. И запах от меня приятный – солнцем, бензином, авторотой нашей пахнет. – Жорка опять шутливо заворчал на Нину: – А эта еще носом крутит: «Мне с тобой неловко». Я ей разъясняю: «Глупая, форма Советской армии – самая почетная, наша армия всю Европу освободила». Да разве она поймет! С ней политзанятия с самого начала, с первого съезда, одним словом, проводить нужно.
Нина сидела за столом, положив подбородок на руки, и не сводила глаз с Жорки – любовалась. Но в то же время полковник видел в ее глазах и иронию. Веселый характер, казалось, так и подмывал ее воскликнуть с подковыркой: «Ух, какой ты у меня образованный! Ужас!»
– Поступил я работать в автобусный парк. Работаю.
– Ты б хоть письма писал, Жора, – сказал Миронов укоризненно. – Может, и я что-нибудь подскажу в вашей новой жизни. Посоветую. Может, еще уедете отсюда? Или забыл голубые экспрессы? Южные города, пальмы и море?
– Нельзя с ней на море, батя, – стараясь быть серьезным, сказал Жорка. – Еще в полное доверие не вошла у меня.
В полночь они проводили полковника до такси. Было тепло. Лампочки светили мягким светом. Всю дорогу Жорка шутил над Ниной, а она смеялась – весело и озорно.
17
Через девять дней Миронов вернулся в полк. Множество дел скопилось у него. Самые разнообразные вопросы ждали решения – учебные, продовольственные, воспитательные, квартирные, технические, денежные, строительные, торговые и многие, многие другие.
А вечером в кабинет командира вошел молодой лейтенант… Он бессильно развел руками:
– Не могу больше. Все перепробовал – не поддается воспитанию. Все нервы из меня вымотал. Невозмутимый. Непробиваемый. Истукан какой-то.
– Что он собой представляет?
– Понять не могу. Дремучей религиозности человек. Фанатик.
– Приходите завтра с вашим фанатиком. Побеседуем. – Посмотрел на лейтенанта, подумал: – Вместе будем разбираться. – Полковник достал блокнот из кармана. – Как его фамилия?
– Ипполитов.
Миронов записал. В ту самую книжечку с потертой обложкой, где среди служебных записей и пометок, понятных только самому полковнику, на одной из страничек поблекшими теперь чернилами была когда-то вписана фамилия – Паханов.
Стать солдатом нелегко
1
Лёха Жогин вернулся из армии. Ходил по улице в выгоревшей хлопчатобумажной форме, без погон. Будто свои владения оглядывал после долгого отсутствия, как, мол, вы здесь, не заскучали без меня?
Ох, уж и попортил до службы нервы этот Лёха папам, мамам, девчонкам да и парням, кто не мог за себя постоять! Как от песчинки в глазу, не было от него покоя никому в районе.
И вот он отслужил. С любопытством поглядывают на него жители улицы, на которой Лёха прежде «царствовал». Закадычные дружки его тоже встретили с большим любопытством. Хотели сесть на травку под забором в излюбленном месте, где раньше в карты играли, но Лёха осмотрелся, показал на свою одежду. Сели на лавочку.
– Ну как? – посыпались нетерпеливые вопросы.
– Чего как?
– Ну, в армии…
Дружки все были моложе Лёхи, им только предстояло призываться.
Лёнька долго молчал, глядя куда-то вдаль, потом вздохнул и молвил:
– Армия, она ничего, но не дай бог такому в лапы угодить, к какому я попал.
– Генерал, что ли? Сердитый?
– Генералы, они ничего. С ними жить можно. Оп подойдет, спросит: как живешь? Письма из дому получаешь? И пошагал дальше. А мне сержант попался. Крокодил настоящий!
– Зверь?.. – поддакнул Шурка.
– Хуже.
– Кто ж он такой, службист какой-нибудь? Ать-два, не вертухайся?
– Да Юрка наш.
– Кто? Кто? Какой Юрка?
– Да Юрка, в седьмом «б» когда учился, его мать в милицию бегала. Помните? Ну, за портфель. Помнишь? Ты же, Блин, и забрал тот портфель, а меня таскали. – Лёнька криво улыбнулся. – Меня за всех вас брали. Кто бы чего ни сделал, все Лёха Жогин виноват!
Друзья потупились. Это была правда.
– Так почему же Юрка в командиры тебе попал?
– У него десятилетка. В учебном подразделении побыл, поучился, и будь здоров, две лычки на погоны и отделение в зубы. Звание у него – младший сержант. Но для меня старше его не было! Ох и мотал же он мне кишки, ох и делал же харакири. Век его не забуду! Все он мне вспомнил, за всех отыгрался!
– А чего же ты ему в глаз не дал? – удивился Федька Блин, прозванный так за плоское веснушчатое лицо и белобрысые волосы.
– Там дашь! Там так дадут, что всю жизнь помнить будешь! Ох, и попал я! Вьет из меня веревки Юрка, да все с улыбочкой, все на «вы». «Рядовой Жогин, помойте, пожалуйста, лестницу, после дождя грязи натащили, не пройдешь».
– Неужто мыл? – ахнул Шурка.
– Мыл. И нужник чистил первые недели я один. Потом сориентировался. Чего это я, как лопух, за всех работаю? Зажал самолюбие, сделал вид, будто подчиняюсь. Думал, потом уж за все отплачу. Иначе он меня до точки довел бы. Стал я вроде бы слушаться, а он похваливает: «А вы молодец, Жогин. Я думал, с вами труднее будет». А я себя еле держу, вот-вот на глотку ему зубами кинусь. Но держу тормоза и так это вежливенько отвечаю:
– В истории и потруднее случаи известны: обезьяну вон в человека перековали. Смеется: «А вы к тому же еще и остряк, – говорит, – не подозревал!» А я про себя: «Смейся, смейся, уж я с тобой так поострю, когда время придет, острее быть не может». Уж какие я ему пакости не придумывал. И на глазах у невесты в день свадьбы фонарей наставить, и в помойку спустить, чтоб год потом отмывался. Ну, в общем, полное собрание сочинений составил!
– Ну и давай. Юрка вчера приехал.
– Знаю. В одном эшелоне прибыли. Вы его никто пальцем чтоб не трогали. Я все сам сделаю. Он мой. Я за все два года должен удовольствие получить. Уловили?
– Заметано.
– Ну вот, а теперь по домам.
Пошли. Лёха немного впереди: походка у него ладная, грудь вперед, шаги один в один: восемьдесят сантиметров, хоть линейкой меряй. Дружки с боков. Руки в карманы. Плечи вздернуты. Глядят на Лёху и глазам не верят – он и не он!
И надо же такому случиться: только вошли в сквер, где прежде чаще всего проводили время, вдруг нa тебе, прет навстречу Юрка. Тот самый, о котором только что говорили!
Шел он уже не в военной форме – костюмчик, галстучек, весь наглаженный, начищенный, будто и в армии не служил, был маменькин сынок, так им и остался.
Дружки на Лёху уставились. Как борзые – стойку сделали. Аж кончиками носов задвигали. А Лёха побледнел, глаза у него, как два пистолетных дула, на Юрку нацелились…
2
Алексей Жогин и Юрий Садовский учились вместе до восьмого класса. Вернее, Юрий учился и до и после восьмого, а с Жогиным мучились, тянули, чтобы восьмилетку закончил. Вся школа, особенно педагоги, вздохнула с облегчением, когда Жогина в школе не стало. Пошел он работать. Сначала взяли учеником в автомобильную мастерскую. Потом выгнали – запчасти таскал. Устроился в трамвайный парк, тоже долго не продержали. И все это время Жогин «по совместительству» хулиганил в своем районе. Досаждал ребятам из бывшей своей школы. Особенно не любил Юрика Садовского. Румяный и застенчивый, Юрик до шестого класса ходил в коротеньких штанишках. Даже девочки звали его «Пончик». Встретит Жогин Юрика в сквере и начнет выламываться: «Интеллигенция! Мы вкалываем, а они чистенькие ходят!» И наподдаст под зад пыльным ботинком, а огрызнется Юрик – так и по уху смажет.
Мать Алексея Жогина, болезненная женщина, плакала каждый день, молила Бога:
– Господи, когда же его, ирода, в армию заберут? Уж скорее бы, господи! Хоть там из него человека сделают.
Однажды бедная женщина вернулась с базара сияющая, за многие годы впервые так радостно было у нее на душе.
– Услыхал бог мои молитвы! Не обошел меня, одинокую, своей милостью.
Милость свою всевышний послал Лёшкиной матери в виде приказа Министра обороны об очередном призыве в армию.
И поехал Лёшка вместе со своими сверстниками выполнять священный долг перед Родиной, о котором он имел довольно смутное представление. Поехал с надеждой как-нибудь перебиться положенные два года и вернуться домой, к старым друзьям и прежней свободной, веселой жизни.
Ехали с ним в одном эшелоне и ребята, недавно окончившие десятилетку. Юрка Садовский был среди них. Поглядывая на бывших одноклассников, Лёха думал: «Ну, эти у меня не пикнут, всё за меня будут делать». Однако вскоре их рассортировали, и многие ребята уехали в другой город. Жогин попал в полк, который стоял в небольшом поселке. Служба у Алексея пошла ни шатко ни валко: скажут раз – не сделает, пригрозят – ну, тогда как-нибудь через пень-колоду выполнит. Сержант ему попался дослуживающий, не хотел нервы трепать перед демобилизацией, махнул рукой – как хочет, лишь бы другим не мешал.
Жогина это устраивало. Думал: лишь бы время быстрее летело. День прошел – и ладно, на двадцать четыре часа ближе к «дембелю».
Он совсем уже успокоился, надеясь, что служба так пройдет, как вдруг уволился покладистый командир отделения и появился в роте Юрка Садовский. Две лычки на погонах – младший сержант. Значит, эти месяцы Юрка где-то учился. Назначили Садовского командиром того самого отделения, где числился Жогин. Встретились они как старые знакомые:
– Привет!
– Привет!
Лёха обрадовался. «Ну, при этом совсем лафа будет! Этого я быстро к рукам приберу. Вот все и устроилось. Эх, дурак я, боялся армии!»
Садовский, напротив, не очень-то был рад встрече. Не имея опыта, он с опаской подумывал о своей предстоящей командирской деятельности. Побаивался встречи даже с обыкновенными, хорошими солдатами, и вдруг Лёха Жогин ему попал. Как им командовать? Как приказывать? Он ведь способен на все – и обругает, и ударит…
Юрий не был трусом, просто встреча с Жогиным спутала все его планы. Он закончил учебное подразделение отличником. Намеревался сделать свое отделение лучшим в батальоне, теперь все летело к черту: Жогин не даст работать, как бы Юрию хотелось.
С большой осторожностью приступил Садовский к исполнению своих обязанностей. Успокаивал себя: «Жогин прослужил уже немало, чему-то его научили. Рано паниковать, надо посмотреть, может быть, все пойдет нормально».
На занятиях по строевой подготовке Жогин команды выполнял если не от души, то довольно четко. Нельзя же стоять на месте, если все повернулись направо или налево. В спортивном городке тоже выходил к снарядам и пытался делать положенные упражнения. Но после окончания занятий произошла первая стычка. Садовский решил испытать, как будет выполнять Жогин не команды, а простые поручения. Лёха же, будто предвидя такой ход младшего сержанта, решил при первом же удобном случае дать ему урок, чтоб он понял на будущее, с кем имеет дело.
Готовились чистить оружие, надо было получить ветошь.
– Жогин, сходите за тряпками к старшине, – сказал младший сержант будто мельком, а сам насторожился – пойдет или нет?
– Чего-чего? – хищно напружинился Жогин.
– Сходите за ветошью, – повторил командир отделения, стараясь быть спокойным.
Лёха нехотя пошел, принес ветошь, а потом подошел к младшему сержанту вплотную и тихо, чтобы не услышал никто поблизости, прошипел:
– Я тебе вечерком покажу, навек запомнишь.
Садовский смутился, не знал, как поступить. Крикнуть, одернуть, влепить наряд за пререкание? Но что Лёхе наряд? Он и милиции не очень-то боялся.
Юрий смалодушничал, проворчал невнятно насчет того, что здесь, мол, армия, а не гражданка. Однако как следует не одернул распоясавшегося солдата. Так коса впервые нашла на камень…
3
Остаток дня Юрий был в отвратительном настроении. Презирал себя за малодушие. Проклинал день и час, который свел его с этим Жогиным.
Будь он покрепче, позубастее, может быть, и нашелся, как ответить этому горлохвату. Но Юра был типичный «маменькин сынок». До самого призыва в армию ему не разрешалось гулять позже одиннадцати, и мама давала деньги на билет в кино и на пирожное.
Обдумав создавшееся положение, Юрий решил рассказать обо всем командиру взвода лейтенанту Трофимову. Стыдно было, конечно, с первого дня признаваться в своей беспомощности, но другого выхода Юрий не видел.
Трофимов был плечистый, загорелый человек. Лицо у него немного грубоватое, голос громкий, взгляд прямой. Он не будет церемониться с Жогиным, быстро его поставит на место.
Улучив момент, когда в канцелярии роты находился один Трофимов (чтобы никто больше не был свидетелем позорного малодушия), Юрий зашел в комнату и сбивчиво рассказал командиру взвода обо всем.
Лейтенант выслушал его и явно неодобрительно спросил:
– Что же вы предлагаете?
– Наверное, или меня или его надо перевести в другое отделение, – тихо сказал Юрий.
– Это самое легкое решение, – отрезал Трофимов. Он с беспокойством ждал сержанта из учебного подразделения, надеясь, что молодой, с новыми силами паренек бойко возьмется за дело. Прежний, не очень требовательный и флегматичный, не нравился Трофимову. И вдруг этот долгожданный помощник с первого дня раскис.
– Разводить вас в разные подразделения – это линия наименьшего сопротивления, – рубил Трофимов четкие фразы. – Разве можно подбирать по собственному вкусу начальников и подчиненных?
– Я думал, это не совсем обычный случай…
– Значит, Жогина от вас убрать, пусть с ним кто-то другой мучается?
Юрий покраснел. Он об этом не думал. А лейтенант, не щадя его и будто не замечая краски на лице Садовского, резко продолжал:
– Может, вы его боитесь?
«А что, разве не боюсь? – спрашивал себя Юрий. – Конечно, боюсь. Но почему об этом стыдно сказать прямо? Ведь это же правда! Нет, начну сейчас выкручиваться и лгать: что вы, товарищ лейтенант! Никак нет, товарищ лейтенант!»
Поскольку Садовский молчал, командир взвода и без его ответа понял: боится. Офицер ругнулся про себя: «Не было печали! И так работы по горло, теперь еще с этим «птенчиком» придется нянчиться, да и тот – Жогин, о котором он говорит, тоже, видно, гусь хороший!»
Конечно, проще всего было бы поступить, как предлагает Садовский: развести эту пару. И командира роты не трудно убедить. При таком стечении обстоятельств, возможно, самым благоразумным было убрать Жогина из отделения Садовского. Но… Вот это «но» в характере Трофимова и делало самого офицера настоящим командиром. Он не позволял себе жить легко. Готовился к службе долгой и трудной.
Размышляя о том, как лучше поступить, лейтенант пришел к заключению: «На этом случае можно научить младшего сержанта, ведь с ним еще больше года работать вместе. Ну, а если грянет ЧП? Тогда буду полностью виноват я: почему не доложил? Почему не принял меры по предупреждению ЧП? Что же я отвечу? Все знал. Все понимал. Но считал неприличным спихивать трудного солдата кому-то другому. Считал своим долгом растить молодого неопытного командира. И, наконец, мне самому интересно поработать, посмотреть, проверить свои силы в такой сложной психологической ситуации. Говорим мы сейчас о необходимости глубже вникать в психологию человека? Говорим. Вот и я решил вникнуть…»
Трофимов нахмурился, услышав внутренний предостерегающий голос: «Брось ты этот эксперимент. Набьет Жогин младшему сержанту морду, отдадут его под суд. Будут тебя склонять на всех собраниях и совещаниях. Зачем тебе все это нужно?»
Но тут же против этого решительно выступило упрямое «но» в характере молодого командира: «Кто же ты? Командир или трусишка вроде этого “птенчика”, который хулигана испугался? Нет, не бывать этому! Сам себя презирать буду».
И лейтенант решил действовать по-своему.
– Если вы такой боязливый, как же вы с врагами в бою биться будете? – спросил он.
– В бой я хоть сейчас… – живо ответил Юрий.
«Ишь какой храбрый, – усмехнулся лейтенант, глядя на румяное девичье лицо младшего сержанта, – “хоть сейчас!”. Но, окинув стройную, ладную фигуру Садовского, смягчился: «А что? Не спасует! Ну день, два “покланяется” пулям и снарядам, а потом привыкнет, парень он, видно, неплохой, робкий, но не трус. Это – разные вещи».
Почувствовав симпатию к младшему сержанту, Трофимов перешел на более сдержанный и доброжелательный тон:
– Давай обсудим все спокойно и подумаем, как тебе быть с этим Жогиным. То, что он остается в твоем отделении, это решено. То, что именно ты будешь делать из него человека, это тоже решено. Армия, товарищ Садовский, это такой мудрый и тонкий механизм, где все продумано и обусловлено многолетним опытом. Ученые вот вечный двигатель изобрести не могут, а военные его уже изобрели. Посмотри, кто в армии учит и воспитывает? Да вы сами себя и учите, и воспитываете. Ты – срочной службы?
– Срочной, – кивнул Юрий; он с интересом слушал рассуждения лейтенанта: они были необычными.
– А учишь ты солдат тоже срочной службы? Так?
– Так.
– Вот и получается вечный двигатель – сами себя вы и учите, и воспитываете. А мы, офицеры и разные начальники, вам лишь первичный толчок даем. Я вот, например, к каждой теме только затравку даю да вас, сержантов, учу, а дальше все вы сами отрабатываете. Так или нет?
– Я еще не знаю, не работал.
– Узнаешь. Вообще-то, конечно, я несколько упрощаю, – весело улыбнулся лейтенант, – командирам тоже есть что делать. Всесторонняя подготовка солдат, вопросы тактики, организация боя, обеспечение боя, обобщение опыта, разработка программ, методика обучения и… Да разве можно все перечислить? Я хочу, чтобы ты понял: черновую работу с солдатами ведете вы, сержанты. – Лейтенант поглядел Садовскому в глаза, как он реагирует? Взгляд у младшего сержанта был внимательный и пытливый. «Улавливает, – отметил Трофимов. – Ну, что ж, пойдем дальше».
– Солдаты – люди разные, у каждого свой характер, к каждому особый подход нужен. Вот и давай выработаем твою линию подхода к Жогину. Кто он? По твоему рассказу, парень невыдержанный, хулиганистый, от которого можно ожидать не только грубости, но и рукоприкладства. Может он это сделать?
– Может. Но уступать ему, потакать тоже нельзя, это же неправильно, – возразил Юрий.
– Молодец! Верно подметил. А я разве сказал: нужно идти у него на поводу? Нет, я этого не говорил.
– Тогда как же с ним обращаться?
– Очень просто! В первую очередь вежливо. На «вы» и строго по уставу. Попытается не выполнить приказание – на первый раз предупреди, но заставь выполнить, второй раз накажи. Приучи его к мысли, что ты не отступишься от своего слова. Если сказал – должно быть сделано!
Лейтенант помолчал, подумал: «Конечно, давать советы легко, а парню действительно трудно будет».
– Главное, ты его не бойся, на твоей стороне вся сила законов Советской армии, уставы, все старшие начальники. Я тебе помогу, не хватит моих прав, ротного попросим вмешаться. Свернем мы рога этому типу, не сомневайся!
У Садовского стало легко и даже весело на душе. «С таким лейтенантом не пропадешь!»
– Извините, товарищ лейтенант, вы устали, а я вас задерживаю.
– Ничего, товарищ Садовский, время мы не зря потратили, линию поведения, мне кажется, выработали, если не совсем, то почти правильную, – засмеялся лейтенант. – Помните всегда: больше выдержки, все по уставу. Да, еще вот такая деталь. Он, наверное, ждет от вас несправедливости, притеснения за те обиды, которые вам до армии причинял. А вы, наоборот, поразите его благородством. Ни на один волосок больше, чем с других, не требуйте. Относитесь к нему ровно, как ко всем. Ну, шагайте!
Лейтенант пожал младшему сержанту руку, подморгнул сразу обоими глазами.
4
Настроение у Жогина было отличное: после того как он отказался немедленно идти за тряпками, ничего не случилось. Младший сержант сам не наказал и взводному не «настучал». «Порядок, – отметил про себя Лёха, – дело пойдет! Будешь ты у меня ручной, товарищ младший сержант Юрочка!»
Садовский тоже делал вид, будто ничего не случилось. На строевых занятиях учил солдат и по одному, и все отделение разом. На занятиях по тактике Жогин делал, что и все. Понимал: открыто на рожон лезть нельзя. Но при каждой команде неторопливым ее выполнением, скользящей кривой улыбочкой давал понять Юре: вот, мол, смотри и понимай, не тебе как младшему командиру подчиняюсь, а обстановка этого требует!
Садовский очень хорошо понимал его. Следуя совету лейтенанта, не придирался к мелочам, но, сохраняя внешнее спокойствие и беспристрастность, в душе негодовал. Как ему хотелось заставить Лёху повторить все приемы раз по десять, чтобы слетела с его губ кривая улыбочка, чтобы покатился по его наглой роже пот в три ручья, чтобы бегал Жогин по-настоящему, а не вихлялся ни шатко ни валко!
Преодолевая «штурмовую» полосу, Лёха бежал трусцой, а двухметровую стенку обошел, не захотел себя утруждать.
– Плохо, товарищ Жогин, – сказал ему Садовский, – почти минута выше нормы.
– А мне спешить некуда, впереди службы еще больше года.
– На проверке ваш «неуд» все отделение подведет, каждый человек у нас более десяти процентов составляет.
Младший сержант говорил это не только, чтоб подхлестнуть Жогина, хотел и «общественность» – отделение привлечь для нажима на Лёху.
Жогин ничего не ответил, встал в строй и беззвучно зашевелил губами, наверное, прокатывался по адресу командира отделения.
Когда шли занятия по противоатомной защите, все солдаты, борясь за десятые доли секунды, старались побыстрее надеть защитные средства. Жогин и здесь не очень торопился, натягивал хрустящие чулки и накидку не торопясь.
– Рядовой Жогин, вы уже мертвый, – шутил Садовский, показывая на часы. – В условиях применения атомного оружия каждая секунда – это жизнь или смерть.
– А мы против применения атомного оружия, – спокойно отвечал Жогин. – Замполит вон говорил, запрещения добиваемся. Или вы не верите, товарищ сержант, что Советский Союз добьется запрещения?
«Ох и демагог», – негодовал Садовский, но, помня о «линии поведения», только и сказал:
– Вам, товарищ Жогин, в дипломаты надо идти с такой дальновидностью.
– А что же? И пойду! У нас все пути открыты!
– Ну ладно, поговорили, и довольно. Уложите защитные средства. Так. Внимание. Газы!
Лёха захрустел накидкой, чулками, потянул из сумки противогаз, однако движения его не стали быстрее. Садовский видел: может, но не хочет.
И опять подмывало Юрия прикрикнуть на лодыря да погонять как следует: «Отбой! Газы! Отбой! Газы!» Но нельзя. Надо проявлять выдержку.
На занятиях хоть и было трудно младшему сержанту, однако можно терпеть, тут все подразделение, тут и лейтенант часто подходит, тут и командир роты, и замполит неподалеку. А вот когда занятия кончались, когда строй распущен и каждый стал сам по себе, здесь начинается самая трудная пора для командира отделения. Теперь, что бы ни сказал Лёхе, все против шерсти. Он службу понимал так: то, что в расписании, – закон, это как рабочий день. Семь часов отдай и не крутись. Но после этого я сам себе хозяин, меня не трожь. Я свое отбыл.
Ну, а служба солдатская, как известно, продолжается двадцать четыре часа в сутки, и плюс еще то, что могут добавить старшина, замкомвзвода и командир отделения.
Однажды младший сержант подозвал Жогина после обеда:
– Товарищ Жогин, приведите в порядок спортивный городок.
– Чего? – угрюмо буркнул Лёха. «После горячей пищи полежать бы, покурить, помечтать, а этот с уборкой лезет».
Садовский мог его и «кругом» повернуть без долгих разговоров, но, опять-таки помня об особой «линии» для Жогина, пояснил ему:
– Сегодня мы дежурное подразделение. Каждому дана своя работа. Вам поручаю подготовить к завтрашнему дню спортивный городок. Взрыхлите опилки под снарядами, подметите площадки…
Младший сержант не успел закончить, Лёха вытаращил на него глаза и прошипел:
– А больше ничего не хочешь?
Случайно поблизости оказался лейтенант Трофимов, он видел всю эту сцену. Гнев жаркой волной кинулся ему в голову. «Ах ты ничтожество! Сержанту такие слова!»
– Рядовой Жогин! – крикнул лейтенант. В казарме все притихли.
Лёха вздрогнул. С него мгновенно сдуло наглость.
– Вы с кем разговариваете, рядовой Жогин? С командиром отделения? Вы где находитесь, рядовой Жогин, в армии или на хулиганской «малине»? Вы что, свои порядки тут собираетесь вводить, рядовой Жогин?
Гнев клокотал в голосе командира взвода. Лёха перед ним сник, съежился, сделался маленьким и жалким.
– Я давно к вам присматриваюсь, рядовой Жогин! Запомните: здесь армия, и вся жизнь строится по воинским законам! Вам ясно?
Лёха молчал.
– Я спрашиваю, вам ясно, рядовой Жогин?
– Ясно, – буркнул через силу Лёха.
– А чтобы стало совсем ясно, посидите двое суток на гауптвахте за пререкание с командиром отделения! Идите!
Лёха быстро пошел к выходу. Потом побежал, лишь бы скорее избавиться от глядевших на него со всех сторон глаз. «Ну, Юрка, погоди. Я тебе все припомню!»
Когда Жогин ушел, Трофимов позвал Садовского в канцелярию. Офицер сел, закурил, предложил папиросу.
– Не курю я, – тихо произнес Садовский.
«Птенчик», – с неприязнью подумал лейтенант. – «Не курю»! Конфетки, наверно, кушаешь. Разве такой свернет рога этому горлохвату? Тут нужен сержант зубастый!»
В несколько глубоких затяжек выкурив папиросу, Трофимов успокоился.
– Садись, чего стоишь, – бросил младшему сержанту. – Вот так выработали мы с тобой «линию», – иронически сказал офицер. – Я же первый сорвался… Как ты с этим типом работаешь, удивляюсь!
– С ним каждый день и не раз такие стычки могут быть.
– Взять бы да оформить его куда следует, чтоб не мешал с нормальными людьми служить. Как думаешь?
Садовский замялся, потом ответил:
– Вы же сами говорили о пути наименьшего сопротивления…
Лейтенант закурил новую папиросу.
– Говорить-то я говорил. Но как это трудно осуществлять! Убедился?
– Да.
– Ну, ладно. Похныкали, и хватит. Я это все от злости тут высказываю. Теперь давай серьезно подумаем, как быть дальше.
– Мне кажется, нельзя все время уступками заниматься. Надо как-то его в общее русло вводить. Сейчас он не служит, а номер отбывает. А я, когда нужно подкрутить ему гайку, останавливаюсь. А то и задний ход даю. Пора брать Жогина в руки.
Лейтенант весело, с неподдельным интересом посмотрел на Садовского.
– А ты молодчина! Сразу видно, возмужал. Правильно говоришь, надо брать его за жабры. Прежде нельзя было. Он еще после гражданки не обтерся, колючий был. Да и ты, не обижайся, конечно, после учебного подразделения не очень-то был опытный. Теперь вижу, в тебе командирская хватка появилась. Не хочешь терпеть в своем отделении недисциплинированного солдата. Силу в себе почувствовал. Это хорошо. Это для меня очень приятно.
Взгляд Трофимова потеплел.
– Ну что ж, давай подкорректируем нашу линию индивидуального подхода к Жогину. Именно подкорректируем. Я считаю, и раньше она в своей основе была правильной. В дальнейшем справедливость, вежливость, выдержка должны у тебя оставаться без изменения. Прибавь только требовательности. Как ты говоришь, в напряженную минуту не останавливайся и не отступай, а на полоборота гаечку подкрути. Период изучения и разведки кончился, переходим мы с тобой, товарищ Садовский, в наступление.
Лейтенант поговорил с младшим сержантом о других солдатах, прикинул, на какую оценку вытягивает отделение по отдельным дисциплинам. Дела шли неплохо.
– Если бы не висел у меня на шее Жогин, все было бы гораздо лучше, – вздохнул Садовский.
Лейтенант многозначительно посмотрел на него:
– Хотел я тебе высказать одну мыслишку, но воздержусь. Как-нибудь позже скажу. Поближе к увольнению. Если забуду, напомни.
– Есть!
5
С гауптвахты Лёха вернулся злой. Не глядел в глаза младшему сержанту. На гражданке ему приходилось бывать в милиции не раз. Но там было другое дело. Там знал, за что. В драку полез в парке. Или пьяный в автобусе к девчонке приставал. А тут что сделал? Два слова поперек сказал этому суслику Юрке?
На лейтенанта Жогин не обижался. Он офицер, его работа такая. А этот, мамин сынок, Юрка, сам пришел срочную служить и так выпендривается.
И всюду этот младший сержант Садовский присутствует неотлучно. Утром не хочется из-под теплого одеяла вылезать, а Юрка командует: «Отделение, подъем! Жогин, вы вчера опоздали на построение, подъем!»
На зарядке холодный ветер с дождичком: «Жогин, расправьте плечи, глубже вдох». Утренний осмотр: «Почему сапоги только спереди почистили, а кто будет задники чистить?» Прошел завтрак: «Рядовой Жогин, становитесь в строй, курить будете в ротной курилке». А на занятиях? «Товарищ Жогин, повторите! Рядовой Жогин, быстрее! Жогин, еще раз! Жогин, подтянитесь! Не отставайте! Заправьтесь! Расскажите! Покажите!»
И так без конца. Будто, кроме Жогина, у него перед глазами больше никого нет.
Только после занятий вздохнуть можно посвободней. Да и то при каждой встрече чего-нибудь найдет: «Выньте руки из карманов», «Поправьте шапку – звездочка на боку», «Подтяните ремень», «Почистите сапоги, завтра на утреннем осмотре задники опять будут грязные».
Уж в постель ляжешь, тут какие команды или замечания могут быть? Нет, пойдет командир отделения вдоль кроватей: тот портянки не повесил сушить, другой шапку не на вешалку, а на тумбочку положил. «А вы, рядовой Жогин, опять обмундирование сложили неправильно. Брюки должны лежать сверху, потом гимнастерка, под ней ремень. Все в таком порядке, в каком вы надеваете. Поправьте. Вдруг «тревога» будет. Вам полчаса на сборы никто не даст».
Не легко было и Юрию Садовскому. Теперь трудность была не в страхе перед Лёхой. Давно уж он его не боялся. Теперь надо было самому быть образцом во всех отношениях, прежде чем с других спрашивать. Вот с тем же Лёхой. Если на турнике сам не можешь выполнить «подъем силой», как же сказать: «Жогин, вот так нужно». Или на кроссе. Чтобы крикнуть: «Рядовой Жогин, не отставайте!» – надо самому впереди всех быть. Это же элементарно!
А Юра Садовский до армии действительно не очень-то был физически развитый. Две нашивки на погонах, они ведь сами по себе силы не прибавляют. И знаний тоже… Если требуешь с Лёхи: «Расскажите о поражающих свойствах радиации», так и сам их должен знать назубок. Во многих мелочах совсем недавно, год назад, сам был вроде Лёхи: и ремень поясной не затягивал, и ворот рубахи любил носить нараспашку, и руки в карманах держать было удобнее. Но, как говорит лейтенант Трофимов, идти в наступление надо во всеоружии. Чтобы получить право спрашивать с других, сам должен все выполнять образцово. Ох, не легко было Юре заслужить это право.
С Алексеем Жогиным беседовали много раз и лейтенант Трофимов, и замполит роты старший лейтенант Крыленков, и командир роты капитан Зуев. Даже замкомандира батальона по политической части вызывал. Жогин неохотно отвечал на вопросы, не шел на откровенный разговор. Он считал: все эти беседы происходят в результате того, что на него «стучит» начальникам Юрка Садовский. Ну откуда они знают, что он, Жогин, служить не хочет, пререкается, плохо стреляет? Юрка «настучал»!
Однажды Лёха попробовал еще раз дать Юрке отпор, вывернуться из его цепкой хватки.
Младший сержант приказал ему заново вычистить автомат: в стволе нагар остался.
– Вот посмотрите, – говорил командир отделения, заглядывая в ствол и направляя его к свету.
Жогин не смотрел на оружие, а быстро зыркнул по сторонам: в комнате никого, кроме него и Юрки, не осталось. Солдаты закончили чистку и ушли.
– Патронник тоже грязный… В общем, надо лучше чистить, товарищ Жогин. – Младший сержант опустил автомат и увидел перед собой Лёху в позе, не оставляющей сомнения в его намерениях. Он стоял, уперев руки в бока, слегка расставив ноги, и кривил губы в издевательской улыбке. Юрию очень хорошо были знакомы и эта поза, и улыбка – так Лёха встречал свои жертвы в сквере недалеко от школы.
– В чем дело, товарищ Жогин? – спокойно спросил Садовский, а у самого гулко застучало сердце.
– А в том дело, товарищ Юрочка… Ты когда от меня отцепишься?
Садовский хмуро глядел на Лёху. Жогин с его наглым остановившимся взглядом, с хищно напружинившимся, будто для прыжка, телом был очень похож на того «гражданского» Лёху, которого все боялись. Но вдруг Юра ощутил, как напряглись у него бугристые мышцы, нажитые в армии. Ощутив в себе эти новые силы, Юрий радостно подумал: «Ты, Лёха, все тот же, но я уже не тот!»
Лёха, заметив реакцию Юрки, даже рот приоткрыл. И злость сама пропала. Вот так Юрка! У Жогина хватило рассудительности на то, чтобы трезво сравнить себя и плечистого Юрку. А сделав это сравнение, Лёха спасовал. Он сделал вид, будто ничего не произошло, и только сказал:
– Запомни наш разговор… Здесь не место счеты сводить. Но после армии я с тобой расквитаюсь.
Лёха взял свой автомат у младшего сержанта, покачал его на руке и с насмешкой проговорил:
– Ладно, так и быть, вычищу, но и это тебе так не пройдет, не сомневайся.
Жогин повернулся и вышел из комнаты первым. Садовский задумался: «Что значит эта угроза? Уж не думает ли он, что я пойду у него на поводу? Неужели Жогин действительно меня ненавидит? Считает своим недругом? Что я ему особенного сделал? Не оскорблял. Не издевался, спрашивал, как со всех. Требовал то, что полагается по уставу… Решил попугать меня? Думает, что спасую, а он прокантуется остаток службы. Доложить об этом лейтенанту или нет? Опять подумает, что я испугался. Он же уверен, что Лёха стал лучше относиться к службе… Зачем же тогда докладывать? Повременю…»
6
Подготовку к несению караульной службы, как и полагалось, начали за сутки. Лейтенант принес табель постои, распределил, кто и что будет охранять.
Солдаты стали изучать свои объекты: сколько окон, дверей, печатей, какое освещение, где сигнализация, откуда удобнее подкрадываться врагу.
Занятия проводил лейтенант Трофимов, он заступал начальником караула. Садовский, как обычно, должен был исполнять обязанности одного из разводящих. Проверив, как солдаты изучили охраняемые объекты, младший сержант задал несколько вопросов по уставу: «Что имеется в виду под неприкосновенностью часового?», «Как действовать в случае пожара?». Лёху спросил о боеприпасах.
– Сколько патронов дается караульному?
Жогин прищурил глаз и, глядя прямо в лицо Садовского, ответил:
– Много дается. Хватит.
– Ну, а точнее?
– Два магазина, по тридцать патронов каждый.
– Правильно. Когда караульный заряжает оружие?
– А когда захочет…
Солдаты засмеялись.
– Чего смеетесь? – вспыхнул Лёха.
– По команде разводящего заряжают оружие, – пояснил сосед.
– Значит, на меня нападение, а я буду ждать, когда разводящий прибежит и мне команду даст?
– На посту ты уже будешь не караульный, а часовой, там ты не только заряжать, но и стрелять имеешь право, когда потребует обстановка. Сержант про караульного спрашивает.
Садовский похвалил солдата:
– Правильно объяснили. Так вот, рядовой Жогин, до заступления на пост вы караульный. Когда я построю очередную смену и скажу: «Смена, справа по одному заряжай!», тогда вы присоедините магазин к автомату.
Жогин в душе ликовал: «Струхнул, сержантик! Ишь как все уточняет: «Когда я скажу», «Когда я прикажу».
В класс вошел командир роты капитан Зуев, невысокий, худенький, весь из жил и мускулов. Солдаты вскочили, командир взвода доложил, чем занимаются солдаты.
– Здравствуйте, товарищи!
– Здра… жела… това… капитан!
– Садитесь. Ну как, все готовы к выполнению боевой задачи?
– Так точно, – ответил Трофимов.
– Больных нет?
– Никак нет.
– Все понимают, почему караул – это выполнение боевой задачи? – Капитан поискал глазами, кого бы спросить… – Вот вы скажите, – он указал на Жогина.
– Потому что в карауле стрелять можно.
Солдаты зашептались: «Опять подвел Жогин взвод. Надо же ляпнуть такое! Ротный подумает, что все так понимают».
Однако капитан знал, с кем имеет дело: Жогин в роте был известной личностью.
– Прежде всего, когда встали для ответа, нужно назвать свою фамилию: рядовой Жогин. Во-вторых, вы неправильно понимаете, в чем заключается боевая задача караула. Садитесь. Кто правильно ответит?
Сосед Жогина поднял руку и доложил точно по уставу, почему несение караульной службы является выполнением боевой задачи.
– Вам понятно, рядовой Жогин? – спросил капитан и добавил: – В карауле, как в бою, часовой защищает свой объект с оружием в руках. Как на фронте, часовой не имеет права оставлять объект без приказа, обороняет его до последнего патрона, до последнего вздоха и капли крови. – Обратясь к лейтенанту Трофимову, ротный вдруг спросил: – Не оставить ли вам Жогина в роте? Пусть подучит устав. А то скажет поверяющему такое, что опозорит роту на весь гарнизон.
У Лёхи заскребло в груди: «Опять успел доложить. “Настучал”, суслик трусливый». Садовский, взглянув на Жогина, понял, о чем тот подумал, и невольно покраснел.
Лейтенант Трофимов решил переадресовать Садовскому вопрос командира роты.
– Что скажет на это командир отделения?
Юрий встал. Некоторое время колебался, что ответить? Проще всего сказать: «Я с вами согласен, товарищ капитан, пусть подучит». Это сразу разрешит все опасения. Жогин в караул не пойдет, боевые патроны не получит, роту подвести не сможет. Но ведь секунду назад Юрий прочитал в глазах Жогина уверенность, что все происходит по «доносу» командира отделения. Не взять Жогина в караул – расписаться в собственной слабости. Пойдет насмарку вся предыдущая длительная борьба с Лёхой. Прикинув все это, Садовский ответил:
– Товарищ капитан, рядовой Жогин просто не смог объяснить на словах, а нести службу он может. Не первый раз идет в караул. Раньше выполнял свои обязанности правильно.
– Что же, вам виднее. Вы его командир, – согласился ротный и, пожелав удачи всему составу караула, ушел.
Лёха поглядел на Садовского. «Что это получается? Значит, он не фискалил начальству?»
Смена караулов прошла по всем правилам. Приняли охраняемые объекты, поставили новых часовых. Пересчитали в караульном помещении столы, табуретки, пирамиды для оружия, керосиновые лампы (их держали на случай, если погаснет электричество), посуду, плащи для дождливой погоды, свистки, даже щетки для чистки обуви.
Лейтенант сидел в своей комнате, перед ним на столе поблескивал пульт сигнализации с постов; на стене, в застекленном ящике, задернутая занавеской – схема постов; в другой витрине – ключи от складов в опечатанных мастичными печатями мешочках. В углу комнаты – железный ящик с боеприпасами на случай боя.
«Все рассчитано, все предусмотрено, —думал Садовский, —все расписано: когда, где и что применять. И людям определено каждому, как поступать. Четкий воинский порядок… А вот Жогин до сих пор не понимает важности этого порядка, необходимости строгой воинской дисциплины».
За год Садовский изучил своего подчиненного уж куда лучше. И в караул ходил с ним много раз. Казалось, Жогин постепенно сдает свои позиции. И вдруг – неожиданный срыв. «Где я допустил ошибку? Превысил требовательность? Вроде выполнял намеченную с лейтенантом “наступательную тактику” осторожно, без нажима». И тут Садовского осенило: «Так эта выходка Жогина не что иное, как реакция на мою активность. Я пошел вперед, а он усилил сопротивление. Это же ясно. Мы в школе изучали: каждое действие вызывает противодействие. Правда, это закон механики, но, видно, и в отношениях людей такое тоже бывает. Ну ладно, пусть у Жогина ответная реакция, а до каких пределов она может дойти? Очевидно, будет зависеть от силы моего напора и от моего умения проводить нажим, не задевая его обостренное самолюбие. То есть прежняя справедливая требовательность, все наравне с другими, чтобы он видел – ничего лишнего ему не предъявляю. А попытка испугать меня – это самозащита. Лёха – уже не тот уличный хулиган, каким он был на гражданке. Прошел год службы, так много давший каждому из нас! И тебе, Лёха, больше, чем кому другому».
Ночью на пост к Жогину младший сержант шел смело. Он знал, Лёха следит за каждым его шагом, будет пугать его, играть на нервах, пытаясь хоть этим насолить командиру отделения и приятно пощекотать свое самолюбие.
– Стой, кто идет?! – грозно крикнул Жогин, хотя он прекрасно видел Садовского.
– Разводящий со сменой! – громко и спокойно ответил Садовский на окрик часового.
– Разводящий, ко мне, остальные на месте! – приказал Жогин.
Все остановились, а Юрий пошел в темноту, откуда доносился голос Жогина. Он уже видел впереди черный силуэт Жогина и твердым шагом направился к нему.
– Стой, – глухо сказал Лёха.
Садовский остановился.
– Освети лицо фонарем.
«Все по уставу, и я должен выполнить…» Юрий достал фонарик. Включил его. Направил свет на свое лицо. А сам думал: «На нервах играет! Ну, поиграй, поиграй, Жогин, все равно ты у меня не вывернешься!»
– Подходи, – разрешил часовой.
Младший сержант погасил фонарик. Подождал, пока глаза привыкли к мраку. Увидев силуэт Жогина, направился к нему.
– Не признал тебя, – буркнул Лёха, оправдывая свой поступок.
– Действовали правильно, товарищ Жогин, точно по уставу, – похвалил Садовский. – Обязательно доложу командиру роты, что вы устав знаете.
– Давай докладывай, ты на это мастер.
Садовского задели эти слова.
– Слушай, Алексей, ну сколько ты будешь упираться? Год уже служишь. Пора бы понять…
Жогин перебил его:
– Устав плохо знаете, товарищ младший сержант, часового упрекать на посту и наказывать его не разрешается. Только после смены караула, когда в казарму придем.
Садовский невольно улыбнулся.
– А ты не лишен юмора, Алеша, да и устав, смотри, как тонко знаешь. Что ж перед командиром роты спасовал?
– Ладно, веди, сам ты юморист хороший. У меня от твоего юмора все жилки уже болят.
– А ты расслабься. Отдохни. Легче будет.
– Ничего, ничего, Юрик, вернемся домой, каждый день наизнанку буду выворачивать.
Разговор принимал нежелательный оборот. Садовский прервал его:
– Ну ладно, поживем, увидим. Рядовой Чернышев, на пост шагом марш!
Жогин и Чернышев обошли склад, проверили печати на дверях, целы ли окна, и доложили о приеме и сдаче.
– Рядовой Жогин, за мной шагом марш, – приказал Садовский и, когда отошли от нового часового, тихо добавил: – Не забудь, что ты находишься в карауле.
– Не забуду…
7
Время шло. На исходе был второй год службы. Чем ближе к дню увольнения, тем веселее становился Лёха Жогин. «Скоро конец службе. Через месяц встречу Юрку на улице, наговорю ему все что душа пожелает, а захочу – и в глаз дам. Вот жизнь! Эх, скорей бы!» У Жогина сердце дрожало от нетерпения, когда он думал о предстоящей свободной жизни. «Никаких тебе командиров, подъемов, зарядок, тревог. Спать ложись, когда захочешь, вставай – хоть в полдень. Никто ни слова не скажет… Правда, работать придется. Мать старая, надо ей подсобить». Впервые здесь, в армии, появилось у Лёхи непонятное теплое чувство, когда вспоминал о матери. Прежде такого не было.
Лёха смотрел на себя в зеркало. Загорелый. Брови над зелеными глазами выгоревшие. Плечи раздались, округлились, грудь вперед.
«А я насчет здоровья подлатался тут неплохо, – довольно отмечал он. – Рожа красная, да и шея, как столб, стала. Ахнут ребята, не узнают Лёху! Мать больше всех рада будет… Обижал я ее перед армией… Нехорошо. Надо будет кончать с этим. Мать есть мать… Да, отъелся ты, Лёха, на полковых харчах! Придется все новое заводить: костюм, рубашку, штаны. Старое теперь не полезет… Ну и здоров стал, поросят глушить об твой лоб можно!»
Лёха, очень довольный, отошел от зеркала.
У Юрия Садовского предстоящее увольнение вызывало смешанные чувства радости, неудовлетворенности и даже вины перед кем-то.
Вернуться домой к маме, папе, в родной город, встретить ребят, девчат, ходить в кинотеатр «Комсомолец», готовиться в институт – это все хорошо и приятно. А вот расставание с лейтенантом Трофимовым, с ротой, с полком навевало грусть. Как-никак два года здесь прошло. Да какие годы! Если бы можно было положить на весы предыдущие восемнадцать лет и эти два, пожалуй, армейские два года перетянут!
Растирая полотенцем загорелое тело, Юрий тоже поглядывал в зеркало, играл тугими мышцами. «Мама онемеет, когда увидит все это. Теперь ей не придется просить: «Юрочка, умоляю тебя, съешь яичко, намажь хлеб маслом!» Теперь только за ушами пищать будет, как за стол сяду!»
Неудовлетворенность и даже свою вину младший сержант ощущал из-за Лёхи. Раньше Юрий был убежден: в армии перевоспитывают всех. Какой бы трудный человек ни попал, очистят его от дурных привычек, отшлифуют и выдадут на гражданку новеньким, что называется, без недостатков.
А вот Лёха, пожалуй, немного переменился. И то, что он, Юрий, являлся его командиром и мало что смог сделать за полтора года, как раз и угнетало. Попади Жогин к другому, более требовательному сержанту, может быть, он сделал бы из Лёхи человека. А теперь вот уйдет из армии лоботряс с тем же, с чем пришел сюда, и вся вина за это ложится на командира отделения Садовского. Не смог, не сумел перевоспитать!
Лейтенант Трофимов заметил грусть в глазах младшего сержанта.
– О чем сокрушаетесь? Какие мировые проблемы вас озаботили? – шутливо спросил он.
Садовский откровенно поделился своими мыслями.
– Не печальтесь. Все нормально. Явления, а тем более психологические, не лежат на поверхности. Я убежден, наша с вами работа не пройдет бесследно. Жогин теперь уже не тот. Он и сам, наверное, это еще не сознает. Но внутри, – лейтенант поднес палец к груди и к голове, – внутри он совсем другой. Это обязательно проявится.
Садовский не соглашался.
– Я знаю закон диалектики о переходе количества в качество: постепенное накопление и скачкообразный переход. Но если у Жогина шло это накопление, где же переход в новое качество? Я его не вижу. Жогин каким был, таким и остался. Значит, я не справился со своей задачей. Не выполнил, как говорится, возложенные на меня обязанности. Это будет меня долго мучить.
– Брось ты демагогию разводить, – лейтенант перешел на «ты». Он делал это всегда, когда начинался простой дружеский разговор. – Трудился ты хорошо. И с Жогиным справился отлично. Другой мог бы с этим типом таких дров наломать, щепки до штаба летели бы. А у тебя все нормально прошло. Вдумчиво ты работал. А скачок у него произойдет. Не у нас на глазах, а где-то там, в гражданской жизни, но произойдет обязательно. Ты же сам говоришь о законе диалектики. А раз закон – значит, он на всех распространяется. Что твой Лёха – исключение?
Садовский думал, что Жогин, конечно, не исключение, но все же пока никаких авансов на коренной перелом в его характере Лёхой не выдано.
– К тому же у нас здесь не институт благородных девиц, – продолжал Трофимов. – Мы ведь не можем за два года из человека ангела сделать. Наша задача – воспитать советского солдата, преданного, мужественного, умело владеющего оружием. Ты уверен в преданности Жогина?
– В этом отношении вполне уверен в Жогине. Родину защищать будет, – твердо ответил Садовский.
– Ну, а насчет мужества? – спросил командир взвода.
– В бою он держался бы не хуже других, – отвечал младший сержант. – В самой напряженной обстановке не растеряется. Парень он не робкий.
– Ну, вот видишь, – поддержал Трофимов. – Оружием ты его владеть научил, тактику он знает, физически подготовлен. Вот и получается, данную им присягу он может соблюсти в полной мере и до последнего дыхания быть преданным Родине, защищать ее умело.
«Добрый человек лейтенант, хочет, чтобы меня не мучили угрызения совести, помогает обрести душевное равновесие», – подумал Садовский и спросил:
– А как быть с другими положениями присяги? В ней ведь еще сказано: клянусь быть дисциплинированным… беспрекословно выполнять все воинские уставы и приказы командиров и начальников.
– Ладно уж, не придирайся, – весело возразил лейтенант. – Ну, было дело, кочевряжился он первое время, а под конец служба у него ровнее пошла.
– А мне кажется, затаился он, приспособился…
Вдруг лейтенант что-то вспомнил. Хитро прищурив глаза, он пристально посмотрел на Садовского:
– Знаешь, ты не очень-то ругай Жогина! Ты ему еще спасибо должен сказать.
– Я? – удивился Юрий.
– Да, ты. Однажды я тебе сказал, чтобы ты перед увольнением напомнил об одном нашем разговоре по поводу тебя и Жогина. Что ж не напоминаешь?
– Забыл, – честно признался Садовский.
– Так вот, слушай. Если бы не Жогин, был бы ты обыкновенным командиром отделения. А в психологической борьбе с трудным солдатом ты такую хорошую школу прошел, что стал не просто младшим сержантом, а опытным, тертым командиром.
– Что же получается? – быстро спросил Юрий, он был поражен неожиданным поворотом в рассуждениях командира взвода, против которых нечего возразить. – Значит, хорошо, когда есть в подразделении недисциплинированные солдаты?
Лейтенант задумался.
– Хорошо, когда люди разные, естественные, когда мозгами шевелить нужно.
– Но как же тогда быть со стремлением к идеалу? Ведь в каждом деле и профессии люди стремятся к идеалу.
– Вот именно, стремимся, – подчеркнул Трофимов. – В этом стремлении, в этой борьбе вся красота и смысл жизни. Если бы взвод стал идеальным благодаря моему труду, моим бессонным ночам, выдержке, характеру, умению работать с людьми, тогда бы я почувствовал удовлетворение. А готовый идеал мне не нужен. Я должен создать его сам! Так что люди, убегающие от трудностей, те, кто ищет тихой заводи, лишают себя главного удовольствия в жизни – борьбы и горения! Помни это, Юрий Николаевич.
Лейтенант впервые за всю службу назвал Садовского по имени и отчеству, и это сильно повысило значимость его слов в глазах Юрия. В эти минуты Юрий понял еще одну причину своей грусти перед расставанием с армией: он очень привык к лейтенанту, полюбил его, как старшего брата. Его твердость и в то же время большая человечность во всех делах были для Юрия опорой.
Младший сержант знал, лейтенант не оставит человека в трудную минуту – ни в мирные дни, ни в бою. Никогда прежде не было у Юрия рядом такого близкого и надежного человека. И вот он есть, он рядом, но надо с ним расставаться.
Настал момент, когда лейтенант Трофимов и младший сержант Садовский подошли к развилке, где их дороги расходились.
В один из солнечных осенних дней на станцию подали эшелон для увольняемых в запас. Как и полагается мужчинам, лейтенант Трофимов и Садовский без лишней сентиментальности пожали на прощание друг другу руки. И руки у обоих были крепкие и жесткие (как будто Юрик Садовский никогда и не был маменькиным сынком).
– Спасибо вам за все, товарищ лейтенант, – сказал Юра, и голос у него дрогнул. – Буду помнить вас всю жизнь.
– Спасибо и тебе, Юра, ты был хорошим помощником. Попрощался лейтенант и с Алексеем Жогиным.
– Помни, товарищ Жогин, армейскую школу, она тебе в жизни пригодится.
– Ох и запомню! – весело воскликнул Жогин. Он, как обычно, шутил. – До гробовой доски запомню!
Стоявшие рядом солдаты засмеялись.
Эшелон тронулся, и военная жизнь с ее нерушимым распорядком дня, приказами и рапортами, занятиями и поверками, построениями и тревогами, поощрениями и взысканиями, похвалами и нарядами вне очереди осталась позади.
8
И вот стоят в сквере окруженные дружками Лёхи два сослуживца: Юрий Садовский в чистом новом костюме и Жогин – в выгоревшей военной форме, без погон. Стоят они и глядят друг другу в глаза. И у обоих взгляд жесткий и решительный. Только Лёха почему-то побледнел больше Юрки.
– Ну, как дома, Лёша? – спросил Садовский только для того, чтобы прервать тягостное молчание.
– Полный порядок, товарищ младший сержант, – ответил Жогин, и рука у него дрогнула, чуть не взлетела к козырьку. Вовремя спохватился, удержал.
Друзья Лёхи медленным шажком вперевалочку обступили Садовского со всех сторон.
Юрий покосился на них, усмехнулся: «Вот и ответ на мой спор с лейтенантом. Значит, не всех в армии исправляют. Есть исключения».
– Чего ухмыляешься? – спросил глухим голосом Лёха.
– Да вот смотрю… драться собираетесь, и чувствую, есть в этом и моя вина.
– Это как же понимать?
– Мало я тебя драил, Лёша.
– Драил ты меня хорошо, аж до костей шкуру спускал.
– Если на такое после службы способен, – Юрий кивнул на дружков, – значит, плохой был я командир.
– Да чего с ним рассусоливать! – вдруг взвизгнул Блин и кинулся на Юрку.
Лёха несколько секунд стоял в растерянности. Потом вдруг заорал во все горло, да так, что голос у него сорвался от перенапряжения:
– Отставить!!!
Но дружки не были приучены к военным командам, они коршунами налетали на Юрку.
– Стой! Отставить! – еще раз прохрипел Лёха, и в следующее мгновение его опытные кулаки обрушились на своих.
Первым кувыркнулся и отлетел в сторону Блин. Вторым брякнулся на землю Шурка. Остальные отбежали в стороны. Они переглядывались, не понимая, что произошло.
– Чокнулся, да? – обиженно спросил Блин, отряхивая брюки.
– Чего же трепался? «Полное собрание сочинений»… – передразнил Шурка.
– Заткнись, – огрызнулся Жогин.
Он чувствовал себя отвратительно: виноват был перед всеми – и перед младшим сержантом, и перед бывшими корешами. Ведь правда же думал черт знает что сделать с Юркой. А вот увидел – произошло совсем непонятное. Лёха мучительно искал выход из этого унизительного положения. Но так ничего и не придумал. Он махнул рукой и пошел прочь. Отойдя несколько шагов, он подумал: «Как бы они этот взмах мой по-своему не поняли». Он оглянулся и сказал:
– Не трожьте его. – Лёха кивнул на Садовского.
– Заметано, чего уж там, – промямлил Блин.
Лёха двинулся дальше. Юрий поправил пиджак и медленно пошел по аллее. «Вот тебе и скачок! – радостно думал он. – Вот так Лёха! Молодец! Высокую оценку дал ты моей командирской работе. Надо обязательно написать лейтенанту Трофимову».
Лешкины друзья остались в сквере. Они не знали, о чем говорить. Уж если Лёхе свернули рога в армии, что же о них говорить? Может быть, пока не поздно, самим браться за ум-разум?
ЭХО ВОЙНЫ
Друг
Эту быль очень давно рассказал мне в поезде фронтовик. В дороге люди быстро сближаются. Не помню точно, с чего начался разговор. Определенно могу сказать, что мы в купе были одни. Выложили припасы на дорогу, – мне жена курицу сварила, котлеты домашние поджарила. У попутчика пяток яиц вкрутую, батон хлеба – видно одинокий, холостяк. Как водится, открыли пол-литра, выпили, познакомились. Звали его Петром. Был он немолодой, худощавый, с болезненно бледным лицом, глаза усталые, грустные, видно, помотала его жизнь. Говорил он тихим голосом. Рассказывал со многими подробностями и деталями, не глядя на меня, будто сам для себя воспоминаниями занимался.
– Воевал я под Ленинградом. Был рядовым. В одной из наших контратак на Пулковских высотах меня буквально изрешетило пулеметной очередью. В грудь. Потом лежал я в подвальном помещении, которое было приспособлено под полевой госпиталь. Руки-ноги плохо действовали. Врачи удивлялись, что живу: легкие как дуршлаг в дырках, а сердце, хоть не задело, но все крепления около него повредило. В общем, лежу, как в нейтральной зоне между жизнью и смертью.
Наверху в городе канонада гудит, как на передовой: после того как не удалось взять Ленинград штурмом, Гитлер приказал сравнять его с землей бомбежками и тяжелой артиллерией и дамбы разрушить, чтоб затопило и ни одной живой души тут не осталось. Бомбили и обстреливали днем и ночью.
Однажды бомба угодила в дом над нашим подвалом. Верхние этажи загорелись. Стены стали разрушаться и обваливаться. Выходы из подвала завалило обломками. Раненые, кто мог передвигаться, выбирались наружу через окна. В подвале черный мрак, гарью, известковой пылью, карболкой и мочой воняет. Ну, я лежачий, без посторонней помощи не только передвигаться – еду не принимал, не говоря уже о ее возвращении после переработки (он еще шутит!).
Постепенно, в полной тьме стоны, ругань, возня раненых, уползающих из подвала, прекратились. Только с улицы слышались крики, команды, там пытались тушить пожар. Но и эти крики как бы отдалялись, только иногда грохотали падающие тяжелые глыбы.
Я понял: рушатся стены и обломки заваливают подвальные окна, нас, лежачих, если кто-то здесь остался, закупоривает.
Стал я прикидывать: поползу сначала к стене, потом вдоль стены, думаю, увижу какой-нибудь просвет в окне. А там, хоть и не поднимусь до самого окошка, буду звать на помощь, может кто-то услышит, не могут же нас тут бросить, понимают, что лежачие остались.
Решить-то я решил, но как только свалил свое тело с койки в проход, тут меня еще и свой внутренний мрак от боли так ударил, что я сознание потерял.
Очнулся от ощущения кого-то живого около меня. Не вижу, кто, но чую – дышит. Слава богу, думаю, пришли за нами. Но что-то мой избавитель рядом суетится, дышит, а мне никак не помогает подняться и молчит. И вдруг рука моя коснулась шерсти. Да и запах почуял – собака. Щупаю дальше – большая собака, крутится около меня, за одежду мою дергает. А потом лаять начала. Видно, сигнал подает, кого-то на помощь зовет.
Я все же пополз к стене, как и намеревался, а собака возле меня топчется, урчит одобрительно, за одежду берет зубами, вроде бы помогать хочет.
Добрались мы до стены. А пес все лает периодически. Но никто его не слышит. Все же я дополз до бледного света, который из окошка на пол падал. Вижу, кровать с тумбочкой стоит возле этого окна, но я на кровать, а тем более на тумбочку конечно же не взберусь, от боли отдам концы при этой затее.
Собака около светлого пятна стала гавкать почти непрерывно. Но никто не шел на помощь. Может быть, не слышали. А может быть, считали, что всех повытаскивали, кого обнаружили в темноте, время прошло уже немало.
Вижу, пес нервничает, туда-сюда около меня бегает. А потом вдруг – надо же такое придумать! – разбежался по кровати и прыг на тумбочку и с нее одним махом в окно. И там, слышу, такой поднял лай, что не обратить на него внимание невозможно.
И правда, гляжу, кто-то лезет в окно и собаке говорит:
– Ну, уймись, Рекс, уймись, сейчас посмотрю, кого ты там обнаружил.
Тут и я голос подал:
– Здесь я, – вроде бы кричу, а на самом деле какой-то хрип из меня исходит.
Ну, слава богу, нашли. Вытащили. На носилки положили. А пес оказался овчаркой черной масти с коричневыми подпалинами по брюху. Глаза у него веселые, прямо танцует возле моих носилок, лизнуть меня в лицо норовит. Я его погладил:
– Спасибо тебе, дружок, без тебя остался бы я в этом подвале навеки. Откуда ты взялся на мое счастье.
А солдат, который у носилок стоял, других поджидая, говорит:
– Он у нас дрессированный. Из команды собак-санитаров. Они и на поле боя раненым приучены помощь оказывать – бинты, лекарства у них в сумках заложены. Ну и голос подают, зовут на помощь к обнаруженным раненым. Его и в подвал спустили, чтоб узнал, не остался ли кто. Вот тебя и нашел.
В другое помещение уцелевших раненых не переносили, решили сразу грузить на баржу и вывозить из блокады на большую землю. Возили нас солдаты на ручных каталках. Лошадей-то уже съели. Машины без бензина. Смотрю, пес не отстает от моих носилок, бежит рядом. И на баржу по трапу проскочил. Пропустили, он же из команды, которая нас эвакуировала.
Но на этом мои беды и радости в тот день не кончились. Потянул буксир нашу баржу. А мы все лежим на палубе, как курортники загорающие. И правда, как курортники – время летнее, солнышко греет, на душе легко, живы останемся, из развалин выбрались, блокаду покидаем.
Но не тут-то было! Где-то на середине озера слышим: загудели в небе немецкие бомбардировщики. И вижу прямо на нас делают заход и пикируют, бомбы сбрасывают. Видят гады – мы, раненные, лежим, как на выставке, по всей палубе. Кресты красные выложены медперсоналом, никаких других кораблей нет рядом, ни военных, ни транспортных, только наша санитарная посудина беззащитная.
Поупражнялись немецкие летчики, как на учениях засадили несколько прямых попаданий в нашу баржу, разнесли ее в щепки. Нас, кто уцелел, вышвырнуло взрывами в воду. Понятное дело – захлебываемся, тонем. Ну, я сгоряча руками ногами задвигал, но не надолго меня хватило: боли уже не чувствую, а сознание теряю. Еще на плаву, на поверхности, а уже как неживой, паморки потускнели. И вдруг чую, рядом кто-то по воде стукает. Гляжу, а это пес мой знакомый, Рекс, ко мне плывет – тоже его взрывной волной вышвырнуло. Плывет ко мне, прямо улыбается, языком красным так и машет. Видно, устал уже. Но гребет явно ко мне, узнал меня. Вижу по глазам его радостным – узнал. Тут и я немного оклемался – родное существо рядом объявилось. Осмотрелся я, доску – обломок от баржи – неподалеку увидел. Подплыл к ней, грудью навалился, отдыхаю. И пес рядом, тоже лапы забросил на эту доску, языком машет, отдыхивается.
– Ну что, брат, живем! – сказал я ему, а он глазами так и отвечает, только сказать не может:
– Живем! Опять выбрались!
Вскоре катера военные появились, матросы стали собирать тех, кто уцелел. И к нашей доске подплыли. На катере, как в трамвае, людей набито, не лежат, а стоят раненые плотно один к одному.
Матрос мне руку протягивает:
– Давай, браток, помогу.
Я руку не подал, прошу его:
– Сначала собаку возьми.
– Нельзя собаку, перегруз у нас, не видишь. Давай руку быстрей. Скоро немцы опять налетят.
– Я без собаки не полезу.
– Чумной какой-то. Далась тебе эта собака!
– Прошу тебя, морячок, она мне жизнь спасла.
– Ну, давай, подсаживай ее снизу…
Я подтолкнул Рекса, превозмогая боль в груди. Моряк едва успел ухватить и меня за шиворот.
– Чуть не утонул из-за своей собаки, – запыхавшись, говорил он, когда выволок нас обоих на борт.
Катера взяли курс не назад в Ленинград, а к большой земле. Немцы еще раз догнали нас на пути, но юркие катера так ловко маневрировали, что белые фонтаны взрывов взлетали в стороне или позади катеров.
Я и собака, прижавшись друг к другу, молча глядели то на черные самолеты в небе, то на белые фонтаны воды, взлетающие вверх. Все это происходило как в кинохронике, которую я не раз видел на экране. Мы с Рексом прижимались все крепче и грели друг друга после вынужденного купания, даже когда улетели немецкие самолеты. И странное дело, от его тепла, от прикосновения собачей шерсти к моему телу, даже через рубаху, я ощущал прилив сил, прочность во мне какая-то появлялась. Я гладил Рекса, а он явно одобрительно глядел на меня, иногда лизал мне щеку, не навязчиво, а так вроде подбадривает – лизнет разок – держись, мол, все в порядке.
С военных катеров перенесли нас на грузовые машины, уложили плотными рядами. Ко мне в кузов и Рекс запрыгнул. Знакомый солдат, который меня из подвала через окно вытащил, его Сергеем звать, тоже уцелел при водной процедуре, говорит:
– Смотри, как к тебе привязался, не отходит. Его инструктора, Колю Еременко, на прошлой неделе убило. Рекс, бедный, очень скулил, когда Колю хоронили. Прямо как человек плакал. Рекс, помнишь Колю Еременко?
Пес завилял хвостом, тихонько заскулил.
Полевой госпиталь размещался в бывшей школе. Тяжелораненых разместили на первом этаже, на полу, без коек, положили матрасы рядами. Покормили нас кашей гречневой с мясным подливом, хлеба дали уже не блокадную, а полкилограммовую пайку. Я не всю съел. Желудок усохся в блокаде. И не только поэтому хлеба оставил, хотел Рекса покормить. Поднялся, хотя и с трудом, добрался до ближнего окна. Гляжу, а Рекс тут как тут. Чует, где я. Увидел меня, заскулил, приветливо завилял не хвостом, а всем задом. Я ему стал бросать куски хлеба. Он ловил их на лету, быстро жевал и заглатывал. Проголодался псина, как и мы, за этот долгий страшный день.
Ночь переспали, отдохнули. Опять кашей и чайком подзаправились. Слышу, меня в окно мой знакомый Сергей кличет:
– Петро. Попрощаться хочу.
Я проковылял к окну. Мне тут уже и костыли дали.
– Ну, будь здоров. Спасибо, спас ты меня. И Рексу спасибо.
А он тут же рядом с Сергеем хвостом виляет.
– Может, оставишь его мне? Я уже почти ходячий. Вот подпорки дали. Буду его подкармливать. А выпишут из госпиталя, с собой заберу. Меня, наверное, по чистой уволят. Я теперь не солдат, не работник. Весь дырявый. Утильсырье человеческое.
– Нет, Петро, оставить Рекса нельзя. Он в штате нашем числится. На него формуляр есть. Мы эваковзвод Ленинградского полевого госпиталя, вас перевезли, передали, теперь в свой госпиталь вернемся. И Рекс с нами. Он на службе. Правильно я говорю, Рекс?
Пес не завилял хвостом, отвел глаза. Он внимательно прислушивался к нашему разговору и явно понимал, о чем идет речь.
– Ну, бывай! Получим документы, подхарчимся здесь неблокадным обедом и в путь.
Они пошли от окна, а Рекс все время оглядывался, глаза его были печальны, языком алым не помахивал.
Жалко мне было с ним расставаться, но что поделать, обстоятельства не позволяют оставить его здесь, тем более что и служба его обязывает вернуться.
После обеда я сладко задремал, но не надолго. Опять Сергей позвал к окну.
– Слышь, Петро, Рекс куда-то задевался. Нам отъезжать пора. Шмотки уже погрузили, а его нигде нет. Все вокруг обежал, зову, не появляется. Нам ждать нельзя, старшой уже как утюг перекаленный. Ну, я побежал. Если Рекс объявится, не бросай его.
– Не беспокойся! Будет порядок. Лишь бы нашелся.
Я тут же заковылял на своих костылях к выходу. Надо было попросить кого-нибудь, чтоб поискали собаку. Что с ним могло случиться? Не попал ли в беду, может быть местные жители захватили. В те дни собачатину ели как баранину.
Но искать Рекса мне не пришлось. Как только я вышел во двор и сел на лавочку недалеко от двери, Рекс сам появился. Он подошел ко мне и лег у моих ног. В глаза мне не смотрел. Просто лег и положил морду на лапы. Я спросил его:
– Значит, ты понял наш разговор с Сергеем и спрятался?
Уши Рекса встали торчком и повернулись в мою сторону. А сам он продолжал лежать, не поднимая головы.
– Нехорошо, брат. Все же ты на службе. Дисциплина есть дисциплина.
Рекс закрыл глаза, и только уши стояли вертикально.
– Но признаюсь тебе честно, я очень рад, что ты остался со мной. Будем жить вместе. Я тебя никому теперь не отдам.
Как он взвился! Вскочил, все его тело заходило в радостном вихлянии. Глаза так и лучились от восторга. Он все понял! Положил мне голову на колени, любяще глядел на меня и крутил хвостом как пропеллером.
Так началась наша совместная жизнь с Рексом.
Через месяц меня выписали из госпиталя. Медкомиссия определила в инвалиды первой группы – полная нетрудоспособность. Врач сказал на прощание:
– У тебя легкие в нескольких местах побиты. Но это не главная твоя беда, главная – артерия прямо около сердца была повреждена. Залатали мы тебя. Но жить ты должен без малейшего напряжения. Пленочки могут лопнуть, и, сам понимаешь, дело кончится печально. Бегать тебе нельзя. Тяжелое поднимать нельзя, резкие движения делать нельзя… Поселись где-нибудь в сельской местности и дыши чистым воздухом. Город тебе противопоказан. Поезжай на восток от Ленинграда, там и деревни сохранились, западнее все сожжено и разрушено, сам знаешь.
Так я и поступил, как доктор советовал: взял сидор с сухим пайком, шинелку в скатку скатал, через плечо накинул. Попрощался с соседями по палате, с медсестрами, докторами. Я уже без костылей передвигался. Вышел во двор. Рекс меня ожидал у крыльца. Я сказал ему:
– Ну, где тут у нас восток?
И двинулись мы по большаку в указанном доктором направлении. Военкомат, в котором я призывался, на оккупированной территории. Место жительства должен определять сам.
Раза два подвезли нас с Рексом на попутной машине. Потом на телеге с дедом примостились. Лето стояло теплое, продвигались, присматривались, не спеша. Приглянулось мне село Захарьино. Я его на подходе, с бугра увидел. Большое село, вдоль речки растянуто – церковь, несколько двухэтажных домов в центре – наверное, сельсовет, школа, еще какие-то учреждения.
Зашли мы с Рексом в столовую. Перекусили – я за столом, Рекс под столом. Официантка поначалу запротестовала:
– С собаками нельзя. Не полагается.
Я ей объяснил:
– Это не простая, а служебная собака. Она, как и я, военнослужащая.
Рекс действительно большой, черный, представительный, явно не обычная собака. Официантка смирилась:
– Только тарелку с котлетами я ему не подам под стол. Посуду собаке нельзя.
Хотел я возразить, что Рекс почище ее самой, но спорить не стал. Говорю:
– Несите все мне, разберемся.
Постелил газету и подал Рексу его котлеты и хлеб. Он съел все, не торопясь, аккуратно, на газете ни крошки не осталось. Я официантке показал:
– Видите, какой чистюля.
Расспросил я ее, что за село Захарьино, кто в нем живет. Оказалось, все в нем есть, что я на подходе предполагал, – и сельсовет, и школа, и даже райвоенком.
– А главный хозяин у нас – председатель колхоза Иван Никитич Ципко. Он, как и вы, бывший фронтовик, только еще с гражданской войны. Колхоз всех здесь кормит, Ципко – царь, бог и воинский начальник.
Пошел я к этому всесильному хозяину. Принял он меня. Пожилой, седой, но могучий мужик оказался. Голос у него басовитый, он его явно сдерживает, в полтона говорит. Рассказал я ему про себя, про Рекса. Попросил помощи с жильем, может и работу посильную.
– Да, фронтовичок, дела твои невеселые. Практически ты ни к чему не пригоден. Можешь только сидеть да лежать. Ну, что же, пойдешь сторожем на топливный склад – дрова и уголь охранять. Вот и будешь там сидеть и лежать по потребности. А насчет жилья, война к нам хоть и не дошла, но беды немалые причинила. Мужики все на фронте. А бабы – кто к родне уехали, подальше от войны, кто здесь поумирали. Немало изб с забитыми окнами. Выбирай и живи, покуда с хозяевами дело прояснится. Или вот – Прасковья Трофимовна померла. Троих сыновей в армию отправила. И три похоронки в один год ей почта принесла. Все трое – смертью храбрых головы сложили. Не вынесла горя Прасковья, сама недавно преставилась. Да… И нас, как видишь, война достает. В общем, иди в дом Трофимовны, он рядом со школой, спросишь там. И поселяйся со своей овчаркой. Пес, видно, умный, смотри, как наш разговор слушает. Вот и будете вдвоем надежно наше топливо охранять. А то у нас тут немало, особенно зимой, желающих задарма поживиться. Оклад у тебя будет небольшой. Пенсию оформишь. На харчи хватит. Ну, а если пить будешь, сразу предупреждаю…
Председатель дал небольшую свободу своему голосу, даже не сказал, что будет, если запью, без того было понятно по грозному «сразу предупреждаю».
Нашел я дом Прасковьи. Небольшой пятистенник бревенчатый. Окна и двери не заколочены, видно, хозяйку вынесли, и некому и незачем было распорядиться. В доме и мебелишка кой-какая на месте, только пылью да паутиной подернута. В переднем углу икона темная. На стене, над комодом фотографии: Прасковья – молодая, в белой фате, с мужем, кудрявым парнем, наверное, в день свадьбы сфотографировались. Три сына – один в костюме при галстуке, двое младших в белых рубашечках. Их фотографий в военной форме нет – не успели сфотографироваться, не до того было, когда призвали. Во дворе сарайчик, огород, отхожее место в одно очко.
Привел я все в порядок, и стали мы с Рексом очень хорошо жить-поживать и прошлое вспоминать. Я на кровати спал, а Рексу в углу, около двери подстилку устроил, так чтобы мы друг друга видели и могли переговариваться. Я часто с ним разговаривал. В доме никого нет, кроме него, вот я лежу на койке и рассказываю ему о чем-нибудь из своей жизни – как в школе учился, кто были мать и отец, как они погибли в оккупации, как я воевал, как ранило меня, как он меня спасал. Рекс лежит и слушает, только ушами прядает. А когда я его кличку называю, приподнимет голову и особенно напряженно понять хочет, о чем я говорю.
Фактически у нас и второе жилье появилось. На топливном складе сторожка была, чистая, просторная, с печкой для зимнего обогрева. Там же был шланг с водой, для противопожарной безопасности. Раз в неделю я открывал слабую струю и купал Рекса с мылом. Он охотно принимал эту процедуру. Сам я в общую баню ходил. Только не парился там, легкие не позволяли. Может быть, так и прожили бы мы с Рексом до конца своих дней, но природа, как говорится, брала свое. Я хоть и побитый внутри и снаружи, но все, что делает мужика мужиком, у меня уцелело. И, как только оклемался я к осени, стал замечать, что продавщица Шура в сельмаге, куда я за хлебом и спичками ходил, не просто продавщица, а довольно приятная, румяная женщина и по годам мне подходит. Стал я после покупок задерживаться. Слово за слово. Вижу, и она не против сближения. Мужиков-то нет. А я, хоть и побитый, но все же.
Одним словом, пошли у нас с Шурой шуры-муры. Стала она ко мне вечерами в гости приходить. Да и к тому же бутылочку и закуску с собой приносила. Совсем веселая у меня жизнь пошла. Только Рекс явно не одобрял все это, уходил из комнаты, как только Шура через порог переступала. Шура оказалась баба хваткая, насчет водочки впереди меня на много – поллитра усидит, и только щеки полыхают. Видно, она к этому в своем магазинчике давно пристрастилась. Без бутылки мы уже ни в обед, ни в ужин за стол не садились. Особенно вечером, после ее работы. Ей-то можно, а мне не очень, моя работа на складе именно ночью начинается. А она еще шутит, говорит, прежде чем на государственный пост заступать, свой мужской долг исполняй. И с хохотом меня из-за стола на кровать завалит. Я ей так же весело говорю, ты меня так не кантуй, у меня внутри крепление оборваться может. А она в ответ – внутри не видать, лишь бы снаружи у тебя все на месте стояло. Вот такая была отчаянная Шура-мура.
Ну, зимой сам Бог велел выпить для сугреву больше, чем в теплые дни. Короче говоря, увлекся я этим делом, в настоящего алкаша превратился. Уже не могу дожидаться, когда Шурка вечером пузырек принесет, меня с утра озноб колотит. Иду к ней в магазин похмелье выпрашивать. Она уже меня последними словами кроет. Но стакан нальет. А мне уже много не надо, я и со стакана иногда свалюсь, где попало.
И вот в этой гибельной ситуации опять спас меня Рекс. С появлением Шурки он уходил из комнаты, старался с ней не встречаться. А она его тоже невзлюбила:
– Не место собаке в комнате, гони его на двор, пусть дом сторожит, как положено.
Я ее предупреждал:
– Ты Рекса не трогай, он мой друг, он дважды мне жизнь спас.
– Ну, спас и ладно, а теперь пусть в доме псиной не воняет.
Надо признаться, нехорошо я себя повел, не защищал Рекса решительно. Шурка, хоть и не жена официальная, но фактически была хозяйкой в доме. И на меня уже покрикивала, а на Рекса, если он не успеет сам выйти из комнаты, кричит:
– Давай, пошел отселева! Нечего в хате вонять. Пошел, пошел!
Однажды я не дошел до своего двора, свалился у чужого забора и уснул. Слышу, меня кто-то тормошит. Открываю глаза и не верю тому, что вижу: передо мной оскаленная пасть Рекса, и глядит он на меня с такой злобой – вот-вот в горло клыками вцепится.
– Ты чего, очумел? – шепчу ему испуганно.
А он рычит и медленно задом отодвигается. Я поднялся, побрел домой. Рекс впереди меня трусцой бежит, оглядывается и все порыкивает. Никогда такого он не позволял себе. Видно, кончилось его собачье терпенье, понял он, что дохожу я, как говорится, до ручки.
Привел он меня домой. Сам на крыльце лег. Как только Шурка пришла с работы, Рекс встал на ее пути, клыки ощерил, шерсть на нем дыбом встала. Он так грозно рычал, что Шурка к воротам попятилась, а мне кричит:
– Эй ты, собачий прислужник, убери кобеля, он, видно, сбесился! На своих кидается! Пристрелить его надо!
От этого крика Шурки сразу и хмель и похмель из меня вылетел. Особенно шибанули ее слова – «собачий прислужник» и «пристрелить». Кого пристрелить? Рекса? Который мне не только жизнь спас, а до появления этой Шурки самым близким другом был.
Выскочил я на крыльцо, наверное, такой же взъерошенный, как и Рекс. А он стоит между мной и Шуркой и не уходит. Рычит потише, то на нее, то на меня, но стоит между нами неподвижно.
Шурка кричит:
– Вот что, Петро, или я, или он. Или ты его пристрелишь, или я в твой дом ни ногой!
И тут меня просто осенило – действительно пора выбор сделать, так продолжаться не может. Ведь погибаю я. Спиваюсь. И все из-за этой Шурки. Даже Рекс понял – спасает меня от нее.
– Не кричи. Не шуми. Не позорься перед людьми. Выбор я сделал: остаюсь с Рексом. А ты живи как жила. Давай расстанемся без скандала, по-хорошему, как говорится, как в море трактора. Ты мне не жена, я тебе не муж. Кончились наши шуры-муры.
Вскоре после этой размолвки встретил я на улице председателя колхоза Ципко. Хмуро он на меня поглядел, сказал своим сдержанным трубным басом:
– Я тебя предупреждал. И совсем уже решил было выгнать за пьянство. Но вижу, вроде бы остепенился. Не якшайся с Шуркой, она до добра не доведет. Не мой кадр, я бы ее давно уволил.
– Спасибо, – говорю, – за доверие. Больше такое не повторится.
Хотел добавить, Рекса надо благодарить, опять он меня спас. Собака, а повела себя благоразумней человека. Шурка, вон, вроде бы добрые дела для меня делала и едва не погубила. Но не стал я об этом говорить председателю, подумал – не поймет.
И стали мы с Рексом опять вместе жить-поживать и старое воспоминать. Я ему иногда вечерами эпизоды из своей жизни рассказывал. А он лежал на своей подстилке, положив голову на лапы, и внимательно слушал. Только уши стояли торчком и поворачивались как маленькие локаторы. Теперь в моих воспоминаниях прибавилась и скандальная размолвка с Шуркой. При упоминании ее имени Рекс приподнимался и тихо рычал.
Так и дожили мы с ним до старости. Собачий век короче человеческого. Одряхлел Рекс, шерсть облазить стала. Он, чистюля, в комнату теперь не заходил, под крыльцом ложился. Я ему туда подстилку перенес. Порой глядел он на меня очень жалостливыми глазами, будто хотел сказать: не за себя печалюсь, мой собачий век кончился, за тебя боюсь – как ты тут без меня жить будешь, кто тебя защитит в случае беды или какой-то опасности.
Умер Рекс в огороде. Не хотел, видно, обременять меня своей кончиной. Ушел от дома вечером. Я звал его перед сном с крыльца, не появился. Утром нашел его под кустом. Лежал, будто уснул, положив свою умную голову на лапы.
Похоронил я его на том же месте, которое он сам выбрал. Обернул в свою шинелку фронтовую, сена постелил на донышко. Небольшой холмик дерном обложил. Прихожу иногда со скамеечкой, посижу возле холмика, порассказываю ему, как это делал прежде, случаи из нашей жизни.
Соседи, наблюдая эти мои странности, наверное, думали – выжил старик из ума. Да я и не отговаривал их – правда и старик, и ума не осталось, только одни воспоминания вот эти.
Попросил я однажды соседа Дмитрия:
– Когда помру, схороните меня здесь, рядом с Рексом.
Дмитрий сказал:
– Тебя здесь хоронить нельзя. Ты человек, тебе на кладбище лежать положено.
– А хотелось бы, – настаивал я.
– Мало ли чего нам в жизни хотелось. Порядок есть порядок.
Мой дорожный собеседник помолчал и спросил:
– Неужели в том и есть порядок, что все мы оказываемся, в конце концов, на кладбище?
А я не знал, что ему ответить. Уж очень круто он повернул от рассказа о Рексе к смыслу жизни вообще.
– Про Рекса вы душевно рассказывали. А порядки в жизни не мы устанавливаем. Да и сложилась судьба ваша не плохо – остались живы на войне. Победитель. Ветеран.
Он смотрел на меня усохшимися глазами с красными веками, и светилась в них не хитринка, а какое-то свое грустное понимание того, на что я не смог ответить.
Долго он молчал. Я думал, вообще на этом разговор окончен. Мы начали готовить постели на ночь. И вдруг он молвил, не глядя в мою сторону, а как-то для себя:
– Так-то оно так: и победитель, и ветеран. Сосед Дмитрий, наверное, за гробом мои ордена и медали понесет на подушечке. А старость вот впроголодь доживаю. До гробовой доски, видно, во фронтовой шинелке мерзнуть буду, на пальтишко так и не накопил. Порядок! Какой же это порядок? Порядок нужен до кладбища, при жизни. А я в этой жизни, оказывается, никому, кроме собаки, не нужен. Порядок… (помолчал). А Рексу, конечно, спасибо, он был настоящий друг.
Нелетная погода
Вскоре после окончания боевых действий меня вызвал начальник штаба дивизии, полковник Радкевич, пожилой, отлетавший свое летчик.
– Поедешь, Глазков, учиться в воздушную академию, – он смотрел на меня и перечислял то, что видел: – молодой, капитан, Герой Советского Союза, кому же еще учиться! – мне показалось, полковник сожалеет, – он вот старый, и академия для него недоступна. – Поезжай! Учись! – говорил он, будто я отказываюсь.
А я и не думал отказываться. У меня сердце прыгало от счастья. Когда я был еще лейтенантом, к нам в полк приезжал проверяющий – майор, среднего роста, крепкий, с очень властным и самоуверенным взглядом. Мы узнали, что этот майор окончил военную академию, и ходили на него поглядеть тайком из-за угла. У нас в полку ни одного «академика» не было. И вот меня самого посылают в это святилище!
Вообще первые послевоенные месяцы были какие-то хмельные от радости. Разгромили фашистов. Я остался жив. Направлен в академию. Мне казалось, все вокруг улыбаются одной общей улыбкой счастья, и улыбка эта отражается в ярком солнце, которое не заходит даже по ночам, радость сияла даже во сне.
Вот в таком настроении летел я в Москву. Тогда не было теперешних модерновых, похожих на аквариумы аэропортов. Летали на уцелевших, не сбитых «мессерами» «Ли-2». Их в шутку называли «Ли-три: взлетишь ли, долетишь ли, сядешь ли?» А иногда над старенькими машинами шутили еще и так: «Летишь, как в кабаке, накурено и с аплодисментами». Имелись в виду чад и стук старенького мотора. И все же летали. Повезет с погодой – в десять раз быстрее, чем поездом.
В тот раз мне не повезло: в Смоленске застряли. Небо заволокло тяжеленными тучами. Как только приземлились и отдраили дверь, снаружи заглянул промерзший дядька в черном бушлате, синева от ветра и краснота от водки, которую он пил, спасаясь от сырости, так перемешались на его лице, что стало оно фиолетовым.
– Выходите с вещами, – крикнул дядька, – ночевать будете!
Мы выбрались под мокрое небо. Сеялся дождь. На распахнутом просторе аэродрома кружил сырой ветер, он раскачивал тонкую кисею дождя. Накинув шинель на плечи, я побежал трусцой к бараку, на котором темнела вывеска с мокрыми потеками. На фанере зелеными буквами было написано «Аэропорт Смоленск». Из двери дохнуло грязным теплом, старыми окурками, и накатил приглушенный говор множества людей. Я остановился в дверях. Идти было некуда, все пространство между стенами заполнено человеческими телами. Они лежали на полу, сидели на чемоданах, куда-то передвигались, шагая через тех, кто лежал.
Я стоял в нерешительности. Вдруг мне замахали из дальнего угла, где была загородка с надписью «Касса». В уютном уголке около этого сооружения, покрашенного в темно-коричневый цвет, разместились трое офицеров. Они призывно махали мне, приглашая в их компанию. Я зашагал к ним, обнаружив, что пассажиры лежат не навалом, не в беспорядке, а между ними оставлено что-то вроде тропинок, куда можно ставить ноги.
– К нашему шалашу, товарищ капитан, – радушно сказал очень красивый майор-связист, с серыми ясными глазами и тонким лицом интеллигента.
Первое, что я подумал, глядя на этого красавца, было: «Ох, наверное, не одна подчиненная ему связисточка заикалась при виде такого начальника».
Другой офицер был артиллерист, с крепкими мускулистыми скулами, строгими глазами, в которых так и не затеплилась улыбка, хотя капитан и старался изобразить приветливость на своем лице.
Третьим оказался не офицер, а молоденький курсант из летнего училища. Чистое, румяное лицо его было свежим и жизнерадостным даже в тяжкой духотище. Голубые петлицы и голубые глаза курсанта сияли, как кусочки неба в солнечный день. Паренек просто обомлел от близости моей Золотой Звезды, забыв обо всем, он глядел на нее, не отводя восхищенных васильковых глаз.
Офицеры потеснились.
– Сюда шагайте, – сказал артиллерист глухим голосом.
– Можно вот здесь, – пролепетал курсант, вскочив со своего чемоданчика, готовый стоять хоть всю ночь, уступив место герою.
Познакомились. Коротко сообщили, кто куда летит. Связист майор Горский летел в Москву, он служит в управлении связи. Артиллерист, капитан Соломатин, – в Псков за женой. Он получил новое назначение. Курсант перешел на второй курс, спешит к маме и папе в Ленинград, каникулы.
Потом один чемодан мы положили в центре, сделали из него стол и начали выкладывать еду, у кого что было. Сало, картошка, крутые яйца, лук, колбаса и хлеб – вот закуска тех лет. Но и это было тогда такой роскошью, что мне стало неловко, когда я заметил, как некоторые штатские соседи отводили глаза от нашего офицерского богатства. Капитан отстегнул с ремня немецкую флягу, обтянутую суконным чехлом. Свинтил крышку-стаканчик и, не торопясь, налил в нее водку. Мне подал первому.
– Прошу вас.
Я показал глазами на майора, он был среди нас старший по званию.
– Нет, прошу вас, вы наш гость, – настаивал артиллерист, а майор, поняв, в чем дело, вытянул вперед белую холеную руку, будто хотел помочь мне поднести рюмку к губам:
– Пейте, капитан, я не службист, пусть вас мои два просвета не смущают, к тому же вы Герой.
Я смотрел на его красивую руку и думал: «Вот что значит работник центрального аппарата: рука будто у князя или графа, он, наверное, и на пианино играет. Не то что мы, фронтовые черти, в грязи, в дыму, по неделям неумытые». Мне вдруг стало легко и весело: скоро и я буду такой нафабренный, элегантный, офицер с высшим академическим образованием!
Я с удовольствием опрокинул стаканчик в рот, сопроводив его тайным пожеланием: «Дай бог, чтоб это сбылось!» Соседям же я коротко кивнул и сказал:
– Со знакомством…
За выпивкой, как водится, пошел разговор, кто где служил, какие с кем необыкновенные дела приключались. Сначала артиллерист поведал о страшной атаке «тигров» под Прохоровкой на Курской дуге. Оказался он человеком разговорчивым, просто говорил, медленно. Ну, а когда «поддал» из фляги, то жесты и слова стали попроворнее.
– Ползут, понимаешь, как глыбы броневые. Наши снаряды от них рикошетят. Очень плохо действует на людей, когда снаряды рикошетят. Страх берет. А он сам, «тигр», как плюнет, так не только пушку, а еще и землю под ней на метр сметает! Сильна дура, ничего не скажешь! Это только в газетах, да в кино с ними ловко расправляются. А я вот как встал с ним лицом к кресту, так у меня в жилах вместо крови лед образовался. Оцепенел весь. Еле превозмог себя. Он в меня хрясь! Перелет. Я в него хрясь, только искры от брони, да осколки взвыли. Он еще одним в меня хрясь! Опять перелет. Ну, тут уж я понял! Подвел я прицел под самую кромочку, да как врезал ему под башню, так и отлетела она, будто шапку ветром сдуло. Но опустись у него пушка на миллиметр ниже – привет, загорал бы я сейчас под Прохоровкой!
После артиллериста заговорил майор. Но курсанту было интереснее послушать меня, поэтому Юра несмело вставил:
– Может быть, вы, товарищ капитан, расскажете про свои воздушные бои? – он показал глазами на мою Золотую Звезду.
– Потом. Давайте послушаем майора, – возразил я, втайне надеясь, что до меня очередь не дойдет, уже изрядно недоело рассказывать одно и то же о себе. Где бы я ни появлялся, обязательно просят: «Расскажите, за что вам звание Героя присвоено».
Майор Горский, видно, собирался рассказать что-то очень интересное, после слов курсанта он с явным нетерпением смотрел на нас ясными серыми глазами, которые стали еще ярче от выпитой водки, ждал – говорить ему или мне?
– Давай, майор, трави ты, коли начал, – сказал артиллерист, он был старше нас по годам. И это старшинство, естественно, передалось и на наши отношения.
Майор заговорил приглушенным голосом, чтоб не слышали соседи. Мы склонились к середине. Он повел рассказ о женщинах. Тема обычная для мужчин, тем более когда выпьют. Правда, говорят в этих случаях с юморком, все истории со смешными казусами, похожи на анекдоты. Много я слышал трепа о таких похождениях, сам мог рассказать для поддержки разговора немало забавных историй, но мне стало не по себе от того, что говорил майор. Он говорил правду. Пропадала прелесть полувранья, которая позволяет без стеснения рассказывать и слушать такие истории. То, что говорил майор, было очень грязно. Ушам стало жарко от подробностей, которые он преподносил.
Капитан-артиллерист побагровел, опустил глаза, лицо его стало каменным. Я взглянул на курсанта Юрочку. Он ловил каждое слово Горского. Щеки Юры пылали, в глазах был восторг. Я понял состояние капитана Соломатина и сам чувствовал жгучее желание прервать майора. Да, мы огрубели за годы войны. Мы видели много крови, убивали, кормили вшей. У нас были случайные встречи с женщинами. Но мы никогда не были подлецами. Наша любовь порою была скоротечной, потому что на жизнь было отпущено мало времени. Даже мимолетные встречи были искренними, взаимно необходимыми для того, чтобы хоть ненадолго вырваться из круга смерти, почувствовать себя человеком. Ведь любовь – это одно из тех чувств, которое делает людей людьми. Она дана природой только людям, и без нее, как без труда, человек теряет свой облик. На войне мы не созидали, а разрушали. То немногое, что оставалось в нас от человека, была любовь, и поэтому нас тянуло к ней. Пусть встречали мы своих подруг в землянках, в траншеях, в земле, пусть наша близость была недолгой, все же я не могу назвать эти отношения иначе как любовь. Мы были честны и верны в этом чувстве, и разлучали нас ранения, долг службы или смерть. А то, о чем говорил связист, скотство. Присутствие Юрика было невыносимым. Он мог подумать, что это и есть одна из доблестей фронтовиков, которой, как и другим, он захочет подражать.
Горский между тем не замечал нашей отчужденности, с увлечением продолжал рассказ:
– После Нюрочки была у меня одна блондинка… как ее… как ее звали? – майор улыбнулся, ему явно была приятна эта забывчивость (уж так их было много, что всех и не упомнишь!) – Как же ее звали? – повторял он, не очень-то напрягая при этом память. – Сейчас посмотрим, – сказал и полез в боковой карман. Достал блокнотик и зашуршал маленькими страничками. Блокнотик был старый, затасканный. На листке с закрутившимися уголками выстроился столбик имен. Они были написаны в разное время, разными чернилами. Майор вел по ним пальцем и мурлыкал: – Как же ее? Как ее звали… Ага, вот она – Соломея! Имя-то какое, а?..
Дальнейшее произошло очень быстро. То ли хмель ударил мне в голову, то ли артиллериста мне хотелось опередить, я видел, он вот-вот ударит майора, то ли за честь фронтовиков хотел я заступиться, скорее всего, все это вместе взятое, а главное, наивное восхищение румяного Юрика подняло меня с места. Я шагнул через чемодан, служивший нам столом, взял майора за гимнастерку на груди и грубо тряхнул его, чтоб он замолчал. Майор выронил блокнотик, побледнел. Находившиеся рядом пассажиры подались в стороны. Артиллерист немедленно встал рядом со мной. Юрик с изумлением глядел то на нас, то на майора.
– Вы что, с ума сошли? – забормотал майор. – В чем дело? Если вы контуженый, то идите в госпиталь… Наглость какая, капитан майора… Думаете, Герой, так вам все позволено?
Капитан Соломатин тихо, но грозно сказал:
– Заткнись, я не герой, но и я тебе от души дал бы по морде. А ну, мотай отсюда.
В зале шумели. Многие поднялись на ноги, глядели в нашу сторону.
– Что там случилось?
– Офицеры подрались.
– Это у них бывает.
Майор взял свой чемодан и пошел в дальний угол.
– Ты, Юра, забудь, что говорила эта шлюха, – попросил артиллерист, не глядя в глаза курсанту. Мне тоже почему-то было стыдно смотреть на юношу.
Вдруг открылась часть стойки, которая огораживала кассу. Из кассы вышла молодая женщина. Я с ужасом подумал: «Она слышала наши разговоры!» Женщина подошла ко мне и негромко, но в то же время не таясь от тех, кто находился поблизости, сказала:
– Пойдемте, товарищ капитан, я устрою вас на ночлег.
Это было очень кстати. После случившегося неприятно оставаться с Горским в одном помещении. Без долгих размышлений я взял свой чемодан и, буркнув: «Спасибо», приготовился шагать через лежащих. Но вовремя спохватился. Нехорошо так бросить друзей.
– А в комнате отдыха еще два места не найдется? – спросил я.
– Нет, могу устроить только одного.
Я смотрел на артиллериста и курсанта: как быть?
– Иди, – сказал капитан, – зачем здесь маяться, если есть возможность отдохнуть по-человечески.
Я кивнул и зашагал к двери, стараясь не глядеть в сторону майора.
Мы вышли в мокрую тьму. Ветер словно влажными тряпками зашлепал по лицу. Я шел за женщиной и думал: «Как неосторожно мы болтали…» Поравнялся с ней, спросил:
– Вы все слышали?
– И даже видела… Вы правильно сделали, товарищ капитан. Спасибо вам.
– За что спасибо?
– Заступились за женщин.
Я предполагал, что кассирша ведет меня в гостиницу или комнату отдыха для летнего состава, где хочет устроить в порядке исключения, как Героя. Но мы вошли в подъезд с запахами домашней кухни. Не похоже было, что здесь размещалась гостиница.
Вынув из сумочки ключ, женщина отперла дверь на втором этаже. В светлом коридоре было три двери. За двумя из них слышались голоса. Одна из дверей распахнулась. Выглянула полная молодая блондинка в байковом бордовом халатике.
– Верочка пришла, – приветливо не то спросила, не то сообщила она тем, кто был за дверью, – да еще с гостем! – Глаза соседки засветились любопытством.
Тут же отворилась другая дверь, из нее шагнула пожилая, с отекшими ногами, по-домашнему не причесанная женщина:
– Гость у Веры? – изумилась она и бесцеремонно стала меня рассматривать. – Капитан. Красивый, – говорила она по мере осмотра. Глаза у нее были доброжелательные, тон шутливый, поэтому осмотр ее хоть и смущал, но и не был неприятным.
– Раздевайтесь, – сказала Вера и сняла пальто у вешалки.
Я стянул шинель. Пожилая соседка тут же воскликнула:
– Он еще и Герой! Однополчанин, что ли, Верочка?
– Да, вместе воевали.
– Вот как хорошо, очень рада за вас. – Блондинка, не стесняясь моего присутствия, спросила: – Есть чем угощать гостя-то? Если нет, возьмите у меня с белой головкой, не разливная. Петя вчера привез.
Вера посмотрела на меня, глазами спросила: «Взять?» Я смущенно ответил:
– Не надо. Вы же знаете, я уже… Даже больше нормы.
– Ну, проходите, не стесняйтесь, – пригласила пожилая, будто звала в свою комнату. Соседки явно уважали Верочку. И гости, видно, у нее бывали не часто. Поняв, наконец, что кассирша привела меня не в гостиницу, а к себе, я почувствовал себя очень стесненно и рад был поскорей войти в комнату с глаз долой от соседок, хотя они и были любезны.
Комнатка Веры оказалась крошечной. Меньше, чем прихожая. Здесь стояла одна солдатская железная кровать. В узком проходе между кроватью и стеной тумбочка, на тумбочке зеркальце, пудра, флакончик духов. На стене, на плечиках висели накрытые марлей платья. У самой двери стоял одинокий старинный стул. Его добротное, темное от времени дерево, желтая сеточка на спинке и тисненая ткань на сиденье совсем не гармонировали с белеными известью стенами и вообще всем этим больнично-казарменным убранством комнатки.
– Садитесь, – указала Вера на единственное свое богатство, стул, и я увидел по глазам: ей приятно, что у нее есть такой хороший стул и что гостю будет на нем удобно. Я посмотрел, куда бы поставить чемодан.
– Вот сюда, – показала Вера к спинке кровати. Я поставил чемодан. Сел и любопытством стал рассматривать Веру. Она стояла напротив меня, улыбалась и терпеливо ждала, когда я закончу осмотр.
Было ей лет двадцать, не больше, но выглядела она на двадцать пять. Лицо усталое, и усталость эта не от работы, а какая-то душевная утомленность. Карие глаза ее хоть и улыбались, но за улыбкой стояла грусть. Неподкрашенные губы словно говорили, что их обладательнице сейчас не до косметики. И, видно, не дождливая погода была причиной, грусть в глазах Веры какая-то не временная, а отстоявшаяся. Что-то не ладно в жизни этой девушки.
– Зачем вы привели меня к себе, вам одной тесно.
– Устроимся, товарищ капитан.
Я взглянул на кровать. Спать больше негде. Значит, мы ляжем вместе? Будут ли соседки с ней также приветливы после моей ночевки? Мне очень не хотелось, чтобы у этой доброй и, видно, не очень-то счастливой женщины прибавились неприятности.
– А что скажут ваши соседки?
Вера не переставала улыбаться:
– Пусть говорят, что хотят… Да вы не думайте об этом, они хорошие.
– Я, собственно, не о себе, а о вас…
– Ладно, товарищ капитан, не сомневайтесь. Умываться будете? – она открыла тумбочку, подала мне чистое хрустящее полотенце. – Идите в кухню, правая полочка моя, там мыло.
Я медлил, не хотелось встречаться с женщинами, хоть они ничего плохого, даже никаких колкостей мне не сказали, все же при них я чувствовал себя неловко.
Вера подошла ко мне, расстегнула пуговички на моей гимнастерке.
– Поднимите руки.
Я поднял. Вера потянула гимнастерку вверх, и я вынужден был раздеться.
– Идите.
Вышел в коридор. Несмело шагнул в кухню. В ней никого не было. Зеленый рукомойник с висячим железным стерженьком – один на всех жильцов. Я взял мыло с правой полочки. Осторожно поднимал и опускал стерженек, старался не греметь, чтоб не вышли из своих комнат любопытные соседки. Рукомойник все же громыхал. Но соседки не вышли.
В комнатке у Веры были готовы две постели. На кровати ярко белые простыни с крупными квадратами, как слежались они в сложенном виде. Другая постель была на полу, между кроватью и стеной. Я решил, что нижняя для меня, и стал стягивать сапоги.
– Теперь пойду умываться я, – сказала Вера. – Ваше место на кровати. Пока я вернусь, укладывайтесь.
«Только этого не хватало, хозяйка, женщина, будет спать на полу, а я, проезжий молодец, на ее кровати», – подумал я, но возражать не стал, зная, что она будет настаивать, и это затянется надолго.
Как только хозяйка вышла, я тут же забрался под одеяло на полу. Приятная свежесть охватила меня в чистой постели. Я вспомнил душный, прокуренный барак аэропорта. Вот предстояла ночка, не дай бог! Конечно, после фронтовых блиндажей, в тепле, в сухом помещении проспал бы я безбедно вместе со всеми, но все же в чистой постели куда приятней. Повезло мне. Только как быть с Верой? Пригласила она из уважения к моей Золотой Звезде, как фронтовика, зная цену этой награде, или же привела как мужчину? Может быть, скучно жить одной, видит, мужик не из болтливых, вот и привела. А соседки? Почему их не стесняется? Разговоры ведь пойдут. Пойдут ли? Еще не известно, каковы сами соседки. Кто у них за дверями, мужья или такие же, как я, страннички? Привела меня Вера ночью, когда совсем стемнело. Если хотела приютить просто, без иных соображений, почему весь день торчала в своей кассе? Разве нельзя было до скандала меня увести? Значит, опасалась – светло. Не хотела на виду жителей аэропорта вести меня на квартиру…
– О! Я же велела вам, товарищ капитан, на кровать ложиться, – сказала Вера, глядя сверху вниз.
– Меня зовут Сергей, фамилия Глазков, хватит товарищем капитаном звать. – Мне снизу хорошо были видны ее стройные, полные ноги, я отвел глаза, чтоб она не заметила. Но она поняла это и быстро отошла к стулу.
– Я потушу свет, а вы перейдите на кровать. – Щелкнул выключатель, и на некоторое время сделалось очень темно. Потом стали вырисовываться слабые контуры окна. Моей ноги коснулась нога Веры. – Что же вы не переходите?
Сердце мое застучало быстро-быстро. Я сел. Нашел в темноте руку девушки. Осторожно потянул к себе. Сопротивление было, но не такое, чтоб сразу пресечь мою попытку. Я осмелел и более настойчиво влек ее к себе.
– Не надо, товарищ капитан.
– Я же вам сказал, меня зовут Сергеем.
Но она продолжала по-своему:
– Прошу вас, товарищ капитан…
Она не вырвала решительно руку и строгим голосом не пресекла мою вольность. Села рядом со мной и тихо прошептала:
– Не надо…
Я обнял ее за плечи и тут же почувствовал, как тело ее напряглось и руки, вдруг обретя силу, решительно уперлись в мою грудь. Я понял, это пока все, что мне будет позволено. Во всяком случае, сейчас… Я разомкнул руки. Но Вера не вскочила, не бросила мне зло: «За кого вы меня принимаете?» Нет, она опустила голову на подушку, вздохнула, и когда я лег рядом, погладила меня теплой ладонью по щеке. Я не понимал ее. Еще раз попытался обнять, но опять встретили ее решительные крепкие руки. Потом она тихо заговорила:
– Я служила в авиационном полку радисткой. Мне все летчики родня. Увидела вас сегодня днем и не могла выйти из кассы. Смотрела на вас в щелку. Такой вы хороший, как наши ребята истребители. Вы истребитель?
– Да.
– Ну вот, значит, я не ошиблась… И хорошее время было, и страшное. Хорошее потому, что жили мы дружно, одной семьей. Чудили. Любили друг друга. А страшное потому, что иногда кто-то не возвращался после боевого вылета. Погиб Игорь Череда, красивый, ясноглазый старший лейтенант. Два дня печаль в полку стояла. И Клава, подруга моя, лежала, как мертвая, глядела в потолок и не мигала. Потом сбили Ваню Глебова. Белобрысый, веснушчатый, его звали за это «подсолнухом»…
– Я понял причину грусти в глазах Веры – сбили, значит, и ее любимого. Мне сделалось неловко за свою легкомысленность. У девушки горе, она увидела во мне близкого человека, ее душа потянулась ко мне, искала утешения, понимания и помощи, а я полез к ней с дурацкими объятиями. Я повернулся лицом к Вере и тоже погладил ее по щеке. Она умолкла. Погладила мне руку, будто поблагодарила, что я наконец-то понял ее.
– Я тоже любила летчика. Он был отчаянный. Рыжий, здоровенный, даже немного страшный. Он был ас. Четыре ордена Красного Знамени носил на груди. Другие ордена и медали не надевал. А было много других наград, мы знали. Истребители любили его, он был хороший, бесхитростный товарищ! Девчонкам он очень нравился! Как взглянет Егор своими зелеными глазищами, так душа делается маленькой, как у синички. Глаза у него были какие-то сумасшедшие, огонь в них горел, будто в голове зеленая лампа зажигалась… Млели девоньки. Я знала… А за мной он никогда не ухаживал. Проходил мимо. Но когда проходил, мне жарко делалось. А глаза его были в эти мгновения не грозные, а какие-то теплые, с поволокой. Все знали, Егор меня бережет на жизнь после войны, не хочет он со мной так вот по-походному отухаживаться. И я знала. И девчонки знали. Завидовали мне. Кое-кто пытался даже заполучить его сердце. – Вера усмехнулась. – Но он на них ноль внимания. Я в душе смеялась над неудачливыми соперницами. Гордилась своим рыжим великаном. Было мне как-то и страшно, и сладко от того, что он меня не трогал. Мне он ничего не обещал на будущее. Щадил, наверное. Вдруг собьют, стану всю жизнь мучиться. Лучше, если не обещать: ничего не имела, значит, ничего не потеряла… – Вера помолчала, вздохнула и опять заговорила полушепотом. – Однажды за мной хотел поухаживать новенький летчик. Молоденький, вроде того курсанта, что с вами сегодня сидел, румяный, чистенький. Подошел он ко мне вечером на танцах. Потанцевали. Пригласил погулять по улице. Я пошла. Что тут особенного? В дверях нас остановил Дима Зорин, тоже летчик из нашего полка. Позвал моего ухажера на минуточку в сторону. Вернулся он с удивленными глазами. Таращил их на меня, будто я знаменитость какая. Отвел назад к танцующим. Ушел курить и больше не подходил. Только издали смотрел всегда то на меня, то на Егора. Мы с Егором всегда были врозь. И на танцах, и в столовой, и на улице. – Вера замолчала. Я понимал, она подошла к самому трудному месту и в рассказе, и в жизни. Что же случилось с ее возлюбленным? Сбили его? Или завлекла в сети какая-нибудь красавица? Вера молчала. Я хотел подбодрить ее, поддержать в трудный момент лаской, протянул руку к щеке и сразу почувствовал влагу. Значит, сбили… Я подтянул кончик простыни и вытер Вере глаза. – Пойду, вы, наверное, спать хотите, – сказала Вера влажными губами.
– Лежи, – почему-то на «ты» остановил я. Она осталась. Я обнял ее осторожно, как ребенка. Привлек к себе и поцеловал в щеку. Вера не отстранялась. Лежала горячая и обмякшая. Она все еще плакала.
– Ну не надо… перестань, – попросил я, – не вернешь ведь…
– Спасибо вам, товарищ капитан, – поблагодарила вдруг девушка.
– Опять ты с этим капитаном, – я попытался изобразить в голосе обиду.
– Привычка, мы же «рядовой и сержантский состав», с летчиками только по званиям.
– А за что же спасибо?
– Поняли меня. Вы будто из нашего полка. Ни один наш летчик меня не тронул бы, даже если б мы вот так в постели очутились. Очень любили и уважали все Егора… Ну, спите. Хватит. Завтра рано вставать. Колдуны хорошую погоду обещали, – она отодвинулась от меня, но не ушла на кровать.
Я думал о ней. Вспоминал свою фронтовую жизнь, боевых друзей, девчат радисток. Были и у меня увлечения, но тогда я считал: какие к чертям на войне свадьбы и мечты о будущем, когда каждый день не раз поднимаешься в воздух и не знаешь, что с тобой будет – сгоришь, разобьешься или убьют тебя там в небе. Но вот теперь, лежа рядом с Верой, я вдруг почувствовал тоску и тягу к фронтовым девчатам, с которыми дружил в те трудные дни. Разъехались, разлетелись в разные стороны. А как бы хорошо всегда быть с той, которая рядом была под бомбежкой, ждала тебя с задания, знала всех друзей живых и мертвых. Однако не было у меня такой женщины. Не состоялась на фронте большая, сильная любовь, как вот у Веры. Может быть, я был слишком молод и легкомыслен, а внешность моя и поступки не привлекли к себе внимания стоящей девушки?.. У меня даже мелькнула мысль, а не жениться ли мне на Верочке? Вот она рядом – наша фронтовая, все знает, понимает, чистая и скромная женщина. Я улыбнулся. Интересно, как мы будем вспоминать наше знакомство? Я бы шутил: «Пригласила хлопчика на ночку, а он обманул – на всю жизнь остался!» Смешно – час назад не были знакомы и вот уже в постели, и я даже жениться собираюсь!
Я не заметил, когда мысли мои прервались. Вернее даже не прервались, а перешли от яви в сон. Заснул я тихо, даже не лег поудобнее, как лежал на спине, так и уснул. Снилась мне красивая девушка, но втайне я сознавал, что раньше ее не знал и вижу впервые. Я не говорил ей об этом, боялся – уйдет. Мы гуляли в роще. Девушка, склоняясь ко мне, что-то шептала, и я ощущал ее теплое дыхание на своей щеке.
Проснулся я так же тихо и мягко, как и уснул. Сначала мне показалось, что я вовсе и не проснулся, приятный сон продолжается, теплое дыхание действительно овевало мое лицо. Я чуть-чуть приоткрыл веки. Все в комнате, как во сне, было подернуто бледно-синим маревом, только на стуле поблескивали лимонного цвета блики луны. Тучи, видно, рассеялись. Надо мной склонилась Вера. Она приподнялась на локоть, а другой рукой водила над моими волосами, почти не касаясь их. Она гладила мою голову. Это едва ощутимое прикосновение делало все происходящее совсем похожим на сон. Глаза Веры были затуманены. Она сейчас очень далеко, наверное, в своем полку, и ласкала, конечно, не меня, а своего рыжего, зеленоглазого красавца.
Я прикрыл веки и старался не выдать, что не сплю. Вера несколько раз склонялась ко мне, целовала меня в щеки, почти не касаясь, одним горячим дыханием. Потом она опустилась на подушку и затихла. Вскоре я опять уснул. А когда пробудился, было уже бледно-голубое утро. Вера все еще лежала рядом. Она глядела на меня и улыбалась. Нежный румянец красил ее отдохнувшее лицо. Я вспоминал ночные видения. Может быть, все это был сон? И мне только показалось, что я просыпался?
Вера приблизилась ко мне и, ничего не сказав, нежно поцеловала в губы. На этот раз она целовала не того любимого летчика, а меня. Поцелуй был благодарностью за мое кроткое поведение, за то, что я позволил ей излить накопившуюся тоску. Может быть, я даже не спал, она допускает и это. Но за то, что молчал, понял ее, не воспользовался ее слабостью, она теперь вот так благодарно поцеловала.
– Ну что ж, пора, товарищ капитан, – сказала она, поднимаясь с постели, – скоро объявят посадку. – Она накинула халатик и пошла умываться.
Я поднялся и некоторое время стоял, глядя на нетронутую кровать, на ровные крупные квадраты простыни. На душе у меня было светло и радостно, как бывает в небе, когда паришь с выключенным мотором – шелестит в ушах от тишины, и голубизна окружает со всех сторон.
На аэродром мы пришли к посадке. Пассажиры с бледными, помятыми лицами прогуливались около мокрого деревянного здания аэропорта. Только артиллерист Соломатин был краснолицый, он, видно, уже приложился к своей фляге.
Капитан еще издали приветливо замахал рукой, улыбался, он был в отличном настроении, не здороваясь, сказал:
– А я всю ночь не спал. Зашел в их контору, – он только теперь кивком поздоровался с Верой, – там никого нет. Я и давай крутить телефон. Все же дозвонился до Пскова. Всю ночь крутил, но дозвонился! Поговорил с жинкой – во! – он провел рукой выше бровей. – Наверное, час говорил! Сегодня увидимся.
Состояние артиллериста мне было понятно, наскучался человек о семье во время войны, теперь эта тоска еще долго будет приносить ему ощущение счастья.
А вот курсант Юра поразил. Он встретил меня и Веру совершенно не подходящим его юношеской внешности взором бывалого пошляка. Неужели я вчера не разглядел его? Он мне казался скромным мальчиком, только из-за него я едва не побил Горского. Сегодня предо мной стоял совсем другой человек.
Когда он поглядел на меня и на Веру, нижняя губа его слегка, но весьма красноречиво покривилась, глаза просто переполнились сексуальной осведомленностью. В его иронически-снисходительном взгляде на мою спутницу было не осуждение, а сочувствие: «Я вас понимаю, перед таким Героем устоять нельзя!»
Я чувствовал себя отвратительно. Было очень неприятно, что этот юноша плохо думает о Вере, а я никак не могу изменить его мнение. Я-то ладно – черт со мной! Но она – такая чистая и несчастная – выглядит в его глазах мелкой потаскушкой. Что делать? Как ему объяснить? Поговорить бы надо…
Но дежурный по аэропорту уже звал пассажиров моего рейса на посадку. Я успел только сказать курсанту:
– Юра, пойми, пожалуйста, между мной и этой женщиной ничего не было. Верь мне, это важно не для меня, а для тебя.
Я видел – он не поверил, пытался на словах показать некоторое смущение, а сам был убежден, что помогает мне как мужчина мужчине сгладить неловкость:
– Что вы, товарищ капитан, я ничего не подумал.
На меня глядели наглые голубые глаза, он даже немного обижался, что от него как от маленького пытаются что-то скрыть, а он и не такое знает!
Да, многое, видно, постиг этот молодой кобелишка в тылу, пока мы воевали. Я не выдержал его взгляда, опустил глаза.
Подошел к Вере, взял ее за руку, ее тепло сразу передалось мне. Опять подумал: «Может быть, не надо улетать? Остаться на несколько дней? Может быть, здесь судьба свела меня с человеком, который на всю жизнь будет рядом? Да и этот мальчик пусть убедится – не так все пошло, как ему кажется». Я смотрел Вере в глаза и ждал. Глаза ее были светлы и радостны, только где-то в глубине таилась грусть. Грусть не потому, что я улетаю, а та прежняя грусть, которую я увидел при первой встрече. Если бы Вера хоть раз назвала меня Сережей, я бы, наверное, остался, не боясь этой грусти в ее глазах, но Вера настойчиво повторяла свое отчужденное «товарищ капитан».
– Что же, до свидания, товарищ капитан, – сказала она с тихим вздохом. – Будете пролетать, не забывайте.
– Не забуду, – ответил я ей тоже тихо. – Так ты и не назвала меня ни разу по имени.
– Не получилось, товарищ капитан, – она виновато опустила глаза.
Она пошла к бараку с вывеской «Аэропорт Смоленск». Я поспешил к самолету. Юрик стоял в стороне и нехорошо кривил губы.
В небе я мысленно послал этого румяного оболтуса к черту и вспоминал минувшую ночь, теплое дыхание Веры, синий полумрак, золотистые блики луны на стуле, нетронутые простыни с крупными квадратами складок, чистые, не помятые, ярко-белые. Я хотел вернуть праздничное настроение, которое сияло в моей душе после окончания войны. Но не смог. Набегало беспокойство, озабоченность, ощущение вины перед кем-то, а перед кем – я так и не смог понять. В это утро я обнаружил: не будет того безоблачного розового счастья, в котором мы, фронтовики, надеялись жить после войны. Навстречу жизнь катила какие-то новые, непонятные и, видно, нелегкие проблемы.
Генеральша
Жены офицеров сидели в скверике перед домом, в котором они жили. Тут же их дети играли в песочнице, качались на качелях. Это был военный городок, где все хорошо знали друг друга. Женщины разговаривали о своих домашних и служебных делах. Время было вечернее, многие из них недавно вернулись с работы. Вдруг голоса их притихли, а глаза с любопытством постреливали в сторону женщины, которая шла мимо по тротуару. Немолодая, статная, с ухоженным белым лицом, короткие рукава летнего голубого платья открывали мягкие полные руки.
Одна из женщин тихо прошептала:
– Генеральша…
Слово это прошелестело как предупреждение, чтоб не слышала проходившая мимо. Она недавно приехала с мужем генералом в этот городок. Генерал получил сюда назначение на самую высокую должность – командующего армией.
Настроение у женщин в сквере несколько испортилось. Больше других переживала жена майора, которая бросила этот шепоток:
– Как-то нехорошо получилось, зачем я это сказала! Совсем не хотела ее обидеть.
– А почему это обидно? – пыталась снять неловкость молоденькая соседка, жена лейтенанта, – она и есть генеральша.
– Нет, шепоток какой-то неприличный получился. Наверное, она слышала.
Жена генерала этот шепоток уловила. Из окон ее квартиры был виден скверик, где сидели женщины. Сквозь шторы она некоторое время смотрела на них и думала: «Чем я вас обидела?» Надежда Андреевна была женщина не робкая, поэтому решила: «Надо с ними поговорить. Не сейчас, конечно, но поговорить надо».
И вот в другой такой же теплый летний вечер, увидев женщин в скверике, она свернула к ним и приветливо сказала:
– Принимайте в компанию, у вас тут такая оживленная беседа.
Женщины с некоторой повышенной суетливостью раздвинулись и усадили ее на скамейку.
– Мы тут про жизнь. Как мужчины говорят: как кто первый раз женился.
– Ну что ж, было такое и в моей жизни. Правда, первый и единственный раз!
– Как интересно! – искренно, по-девчачьи воскликнула жена лейтенанта, у которой еще и детей не было, первый год замужем. Другим женщинам тоже было любопытно услышать подробности жизни от самой генеральши. Им казалось, в семье генерала, да еще в такой высокой должности, все события должны быть какие-то особенные, возвышенные.
– Что ж, расскажу, раз просите, – согласилась Надежда Андреевна и неторопливо стала вспоминать:
– Начну с войны, с самых первых ее часов. Жила я на берегу Ладожского озера в небольшом городке Путилово. В воскресенье у нас в доме культуры была лекция о международном положении. Читал ее ленинградский лектор, не помню фамилии. Он не раз приезжал к нам на завод, мы его любили, очень доходчиво все излагал, во всех тонкостях международной жизни так разбирался, что, мне казалось, не лектором надо ему быть, а где-то в дипломатии работать. И вот рассказывает он нам о делах международных, и вдруг вышел из-за кулис директор дома культуры, подошел на цыпочках к лектору и что-то шепнул. Лектор долго молчал. Тишина стояла, будто в зале ни души. Ждал директор, и мы все ждали. Наконец, лектор сказал: «Свершилось, что следовало ожидать – гитлеровцы напали на нашу родину. Ну, раз началось, будем бить врага до полной победы!»
Вот так с трибуны я услышала объявление войны.
А тогда все вскочили со своих мест, заговорили, заторопились.
С этой минуты, как листья, сорванные бурей, люди закружились в вихре событий.
Я работала секретарем комитета комсомола завода. К войне мы готовились. Были организованы курсы медицинских сестер, многие наши девушки активно там занимались, и я с ними. Учили нас врачи из поликлиники. Через месяц после начала войны первый раз бомбили ближнюю к нам станцию Жихарево. По-видимому, к Ленинграду рвались, долететь не смогли, и весь свой груз выбросили на нашу станцию. Было четыре часа утра, на путях стоял эшелон, который вез эвакуированных из Ленинграда. Рядом состав с каким-то горючим. В него угодили бомбы, все горело. Вот тут пригодились наши медицинские знания. Моментально по тревоге схватили мы носилки, санитарные сумки и примчались на станцию. Выносили раненых, сколько хватило сил. Стали мы очевидцами страшных трагедий: семья – шесть человек, трое уцелело, а троих нет. Или муж несет на руках погибшую жену. В другом месте живые дети плачут над мертвой матерью. Несколько минут назад все они были живы. И вдруг налет, разрывы бомб, и нет в живых родных близких людей. Так в первый раз я увидела смерть, много смертей.
Потом мы дежурили в больнице, помогали раненым. Ну, а дальше события развивались очень быстро. Партийное бюро завода решило создать истребительный батальон. Пока записывались добровольцы, потому что непосредственной угрозы заводу не было.
Я в этом батальоне стала медсестрой. Командовал им бывший преподаватель военного дела в нашей школе. Потом батальон ушел куда-то к передовой, а женщин с собой не взяли.
Вскоре мы узнаем – гитлеровцы уже прошли стороной, по дорогам мимо нашего поселка. В тот же день я увидела, как несколько человек подошли к продовольственному магазину, сбили замок и стали набирать продукты. Я подбежала к двери и крикнула:
– Что вы делаете?
– А что? Пропадет же, немцы разграбят. А нам жить.
– Но нельзя же так, самовольно.
– А как?
– Не знаю…
Побежала я на завод, собрала комсомолок, тех, кого по пути встретила, сказала:
– Будем наводить какой-то порядок. Объявим по радио. – А я работала еще по совместительству диктором заводского радиовещания, последние дни регулярно известия передавала. У нас был хороший радиоузел на предприятии. И вот я взяла на себя смелость, объявила: «Все, кто слышит! Все, кто слышит! Сбор в поселковом совете. Приходите получать талоны на продукты. Талоны будут выдаваться по списку. Все, кто не успел эвакуироваться, должны получать продовольствие организованно, за самовольные действия будут наказаны».
Побежали мы с девчатами в поселковый совет, нашли какую-то печать, бумагу, вспомнили, сколько у нас продмагов. Народ был довольно дисциплинированный, люди потянулись к нам в поселковый совет, и мы давали талоны, а потом открыли магазины, встали за прилавки и стали распределять продукты. Сначала все шло хорошо. Потом одной женщине показалось, что выдача идет медленно. Она стала кричать: «Сейчас немцы придут, а мы здесь цацкаемся!» И некоторые полезли за прилавок. Я выбежала из магазина. Какой-то сторож оказался у входа, я попросила: «Пальни раза два в воздух, если стреляет твое ружье». Он стрельнул, женщины вмиг разбежались, стоят в сторонке, а я им говорю: «Подходите, не задерживайте, только в порядке очереди и по списку» Настала первая тревожная ночь оккупации. Предполагали, придут фашисты, начнут брать активистов. Но вскоре пришли связные из штаба за нами. Оказывается, райком партии ушел в лес, на базу, которая была подготовлена заранее. Им стало известно, как мы наводили в поселке порядок, и вот за нами прислали. Мы поспешили в лес.
Секретарь райкома сказал: «Девочки, дам документы – эвакуируйтесь». Я говорю: «Нет, наше место здесь». Но все же нас не оставили в отряде, отвели в медсанбат, который оказался недалеко в лесу. Этот медсанбат был танковой дивизии, которая, оборонялась на этом участке. Секретарь райкома попросил: «Возьмите наших девчат, они настоящие, хорошие медсестры».
Вот таким образом попали мы в танковую дивизию. Она отходила из-под Новгорода, измотанная, ни одного танка уже не было.
В районе нашего поселка ее части на некоторое время задержались. На помощь тогда подоспели еще какие-то моряки. Их списали с кораблей, составили в роты, а тылов, хозяйства у них нет. И вот спросили у нас, местных девчат, в медсанбате: «Кто умеет готовить пищу?» Я и еще несколько девочек отозвались. Нам поручили кормить этих моряков. Хорошо еще мы знали, в каких магазинах что из продуктов осталось. Стали мы кормить моряков и раненых перевязывать и в медсанбат отправлять.
И вот в такой круговерти подходит ко мне однажды предзавкома нашего завода Левашев и говорит:
– Ну что, замуж скоро выйдешь?
Я удивилась:
– За кого?
– Тут один военный очень тобой интересовался, расспрашивал.
Я даже обиделась:
– Какое замужество, идет война.
– Война войной, а жизнь продолжается. Имей в виду, мы его предупредили: если серьезно – женись, если только побаловаться хочешь, то мы ее в обиду не дадим!
Вот так дела. Меня уже просватали, а я ничего не знаю!
Вскоре дивизию вывели на переформирование. Когда мы поехали в тыл, попала я в эшелон, где был «жених», о котором меня предупреждали: капитан из оперативного отделения дивизии. Я его, конечно, и раньше примечала, не раз крутился около меня, разговоры заводил – русоволосый, улыбчивый, плечистый, видно, спортом увлекался. Звали его Владимиром. Вот и в пути зачастил он в наш вагон, то на ходу заскочит, когда эшелон отходит от станции, то на стоянке зайдет, девчонки переглядываются: к кому это он ходит? Я была к нему равнодушна.
Честно говоря, сначала он мне даже не очень-то понравился. К тому же мысли были совсем о другом – война все заслонила.
Потом он пригласил меня погулять на стоянке. А однажды, видно, специально так сделал: поезд стал трогаться, а мне уже до своего вагона не добежать, пришлось сесть в штабной вагон. Обычный товарный вагон, только нары поаккуратней, да стол из досок сколочен. Командиры здесь, красноармейцы-ординарцы. Очень я неловко себя чувствовала. Села к печке, стала дрова подкладывать. Как на грех длинный перегон попался, поезд идет и идет без остановки. Стыдно мне и перед этими, и перед моими товарищами, которые едут там, в нашем вагоне, что подумают? Очень обиделась я на своего ухажера. А он, будто чувствует, говорит: «Что страшного, если ты здесь едешь, а не там. Не отставать же от эшелона?» Мне все кажется, что он специально так подстроил. И вот сижу я как бука, в шинели и шлеме танковом. Были на мне – черная шинель от моряков досталась, да шлем от танкистов кожаный, хороший, на коричневой мерлушке. Со стороны о себе думаю: я в такой одежде и на женщину-то не похожа, и чего он во мне рассмотрел.
Приехали в Вологду. А нас там не очень ждали. Льнозавод, где мы должны были разместиться, занят. Расположились в деревне, в избах колхозников. По распределению штаба в нашей избе оказалось несколько командиров, и в том числе конечно же Володя. Мне опять не совсем приятно такое размещение, понимаю, он руку приложил – в штабе же работает. И не только я одна это понимала. Спали на полу, на соломе, одетые. Мужчины в одном углу, мы, несколько девушек, в другом.
Оказалось, не одна я эти ухаживания видела и не одобряла. Однажды комиссар бригады Лагутин мне намекнул в том смысле, что нехорошо, мол, так себя вести. Я как ошпаренная выскочила из дома. А тут начальник штаба дивизии Иван Семенович идет навстречу. Увидел слезы у меня, узнал в чем дело, и стал успокаивать: «Владимиру не рассказывай, что произошло. Он взбеленится, может натрубить комиссару. Все мы знаем о Володином серьезном к тебе отношении. Пожалуйста, забудь, что было сказано, и близко к сердцу это не принимай. А с комиссаром я поговорю».
Но все же Владимир узнал об этом случае. Подошел ко мне мрачный, злой:
– Надо нам здесь советскую власть найти и зарегистрироваться.
– Да ты что! Разве так женятся? Ты меня-то спросил: люблю ли тебя? И не объяснился, как полагается.
– А чего тут объяснять, я тебя люблю, ты знаешь. Теперь не о себе – о тебе забочусь. Раз пошли разговоры, надо зарегистрироваться, и сразу все прекратится. А если я тебе не по душе, меня, может, скоро убьют, и ты будешь свободна.
Как сказал он это, у меня дыхание остановилось. Правда, ведь могут человека в первом же бою убить, а я к нему как-то не совсем хорошо отношусь. А он и вправду, видно, любит меня.
Пошли мы с ним искать ЗАГС. Нашли. Но ЗАГС не работал, не было таких чудаков, которые в сорок первом решились регистрироваться. И все же мы отыскали работницу, упросили прийти и оформить. В тот же день приказ по дивизии отдали о нашем бракосочетании. Подобрали мы избу. Хозяйка нам приготовила хороший обед. Начальник военторга кое-какие продукты дал, и мы таким вот торжественным обедом отпраздновали нашу свадьбу. Мне хозяйка по этому случаю дала свою кофточку и юбку, до этого я ходила в брюках – невеста в галифе! Представляете? Так вот стали мы супругами.
В дивизии были три танковые бригады. Получили на формировании танки. Володе моему очередное звание дали, стал он майором, и назначили его начальником штаба бригады.
Прибыли на Калининский фронт. Первое крещение получили при разгрузке. Юнкерсы налетели. Выли и пикировали так, что сердце холодело. А наши танкисты заводили танки и прямо с платформ на землю прыгали, несколько машин опрокинулось. Потери, к счастью, были небольшие. Однако пришлось несколько человек, тяжело раненных, отправить в госпиталь. А те, кто полегче, остались в бригаде, говорили – в бою подлечимся.
И вот начался марш по ужасным дорогам – осень, дождь, распутица. Просто не знаю, как танкисты вывели машины в район сосредоточения к какому-то озеру. Марш кончился, пришла другая мэка – нас съедали комары, их было так много – словно комариное облако нас окутало. Получает танкист пищу в котелок, и моментально налетают комары. Танкисты народ веселый, шутили – жирнее будет!
Ну, а потом, как часто бывает на фронте, нас перебросили на другое место. И вот дожди, дороги раскисли, мосты ходуном ходят. И снова нас бомбят. Отбежать некуда: по бокам болото, сплошная жижа и вода, заберешься туда, не вылезти. Прятались под боевые машины.
На новом месте предупредили – бригада должна вот-вот пойти на прорыв, где-то окружено большое количество наших войск. Но у нас отстали тылы, не хватало горючего. Первый бой был неудачный. Потеряли много машин. Погибли сразу два комбата и командир бригады. Стал командовать бригадой мой Владимир. Однажды он примчался в тыл, где и мы, медики, были, весь черный, закопченный. На меня даже не взглянул, а я рядом стояла. Взял за руки комиссара, того самого, который замечание мне сделал, и кричал ему, будто он глухой: «Я вернусь туда, а ты – за горючим! Не привезешь горючее – вся бригада погибнет! Прошу тебя. Как можно быстрее!» И опять в машину и умчался на передовую.
Сел наш комиссар Лагутин в кабину грузовика рядом с шофером и погнал в тыл.
Мы раненых обрабатываем и все ждем – привезет ли горючее, судьба всей бригады и моего Володи от этого зависит! И вот слышим, самолеты фашистов заходят на дорогу и бомбят, значит, кто-то едет по ней, наверное, Лагутин горючее везет!
Смотрим на дорогу, ждем, и вдруг несется машина – та самая, грузовая. Мы к ней. Остановилась. Дверцу кабины комиссар открыл, улыбается: «Привез!», а выйти не может, весь в крови. Мы сразу за бинты. Вынули комиссара из кабины, положили на носилки, и тут я впервые своими глазами увидела, как обнаженное сердце бьется. Огромная рваная рана, и в ней сердце алое живое. А Лагутин сам этого не видит и все улыбается и повторяет: «Привез… Сообщите комбригу. Да я, пожалуй, сам довезу на передовую…»
Горючее отправили к танкам. Мы перевязываем комиссара и слезы сдерживаем, чтоб не видел. Он все время в сознании был, сильный и мужественный человек. Так с улыбкой на лице и умер. Сами мы его и похоронили.
А впереди, слышим, зарычали моторы танков, забили танковые пушки. Я уже различала, когда обычная артиллерия бьет, когда танки стреляют. И хорошо вроде для бригады – опять она в бой пошла, и жутко мне – а что там с Володей, жив ли еще? Раненые все прибывают, обрабатываю и спрашиваю попутно, как там дела, жив ли комбриг? «Жив», – говорят.
Вскоре приезжает в наше расположение несколько легковых газиков, и выходит из одного командующий фронтом. Тут же сюда приехал мой Владимир, его, видно, по радио вызвали. Подошел он к командующему, доложил, где и как идет бой. Генерал мрачнее тучи. Слышу такой их разговор:
– Вот здесь, – генерал показал на карте, – в окружении не только войска остались, но и несколько установок секретного, нового оружия. – Тогда появились первые «катюши», я их еще не видела. – Нужно во что бы то ни стало пробить окружение и вывести эти установки. Приказываю это сделать вашей бригаде. Вам лично!
И вдруг так грозно посмотрел на Володю, будто он во всех неудачах на фронте виноват. А дальше, перейдя на «ты», говорит:
– Не выполнишь приказ, расстреляю! – И потом тихо добавил: – Нет у меня других сил на этом участке. А время не ждет. На твою бригаду единственная надежда.
Володя только спросил: «Разрешите идти?» Генерал махнул рукой. И Владимир уехал. Уехали и генералы.
А я будто одеревенела, стою и не могу пошевелиться, девочки увели меня в палатку.
Вскоре там, на передовой, началось. Часто-часто забили танковые пушки – одна за другой. Я отчетливо представила, как танки лавиной пошли вперед, как бьют им навстречу орудия фашистов, как горят наши машины, и где-то там Владимир, и надо ему идти все дальше и дальше в пекло, чтобы выручить «катюши». Потом бой вроде бы утих или отдалился. Сижу, жду ни живая, ни мертвая.
Сколько прошло времени, не знаю, только вижу, несут носилки. Несут шесть человек. Обычных раненых двое носят, а тут шестеро, я сразу поняла, кого несут…
В трудные минуты жизни у меня всегда появлялось самообладание, говорят, для этого нужна сила воли, видно в коем характере она заложена.
Владимира положили на стол, стали осторожно раздевать. Смотрим: ранение тяжелое, в правый бок, осколочное. Рана большая, куда осколок ушел, неизвестно. В каком положении он находится, тоже не знаем. Рентгена у нас нет.
Надо немедленно везти в госпиталь. Подготовили машину. Но было светло. Помним, как за машиной комиссара самолеты гонялись. Пришлось ждать, когда стемнеет. Сделали Владимиру уколы, бинты поменяли. Он без сознания был. Я знаю, при таком слепом ранении в легких и плевральной полости накапливается кровь. Это затрудняет дыхание, работу сердца. Было бы сквозное ранение, он легче переносил.
Наконец сумерки. Немцы уже не летают. Поставили носилки в машину, и я поехала с ним.
Представляете, как везти раненого по разбитой дороге? Когда-то гать была, а теперь одно бревно туда, другое сюда, а по бокам болото. Не езда – пытка и для него, и для меня. Он хоть без памяти…
Привезла в деревню. Там полевой госпиталь. Подъезжаем, прямо к перевязочной. Не успела сказать, кого привезла, мне говорят, мы знаем, есть распоряжение командующего фронтом немедленно оказать помощь командиру бригады, который выполнил невероятно трудную задачу и был при этом ранен. Только здесь я узнала, что Володя пробился к окруженным и вывел «катюши».
Его положили на стол. Меня попросили выйти. Откачали все, что внутри накопилось. Ему стало легче. Перенесли в избушку, поставили носилки на табуретки. Наутро он открыл глаза и вдруг говорит: «Поесть бы». Желудок у него не поврежден, а в боях он уже два дня ничего не ел, вот и просит. Чем же покормить, у меня ничего нет, в спешке уехала. Попросила солдата, он мне дал пачку каши-концентрата. Я на лучинках, на шестке печки стала варить в котелке. Пока варила, он тихо лежал. Подхожу – опять без сознания. Серый. Губы синие. Я скорее к врачам. Они прибежали, опять откачали кровь. Я говорю: надо что-то делать. Отвечают: мы вслепую оперировать не можем, не знаем, где осколок, надо везти его дальше. Самолет будет к вечеру.
Стали мы ждать. Я не отходила от него, поднимала на подушке, чтоб легче дышал. Вечером вывезли нас в поле. Прилетает «кукурузник» самый обыкновенный, не санитарный. У санитарного есть специальные приспособления, куда кладут раненых. А в этот надо на заднее сиденье сажать нас обоих, а Владимир сидеть не может, он задохнется. В общем, ничего не получается.
Летчик переживает, говорит: «Товарищ майор, потерпите, я настоящий санитарный пригоню, обязательно перевезем вас».
Самолет улетел, медики ушли – их работа ждет. Мы остались в поле двое. Неподалеку глухой лес. Темно. Страшно мне – в лесу могут быть диверсанты или лазутчики немецкие. У меня был пистолет «ТТ», держу наготове! А потом начался дождь, несильный, но все же льет. Встала я на колени над Володей, плащ-палатку накинула на себя и как навес над ним держу. Пульс иногда проверяю, разговариваю с ним, чтобы отвлечь.
– Ты, – говорю, – дыши спокойно, ничего, таких ранений много бывало, у всех обошлось. Главное, нам с тобой сейчас дождаться самолета, доберемся до госпиталя, вынут осколок, поправишься.
Он говорит:
– А ты знаешь, «катюши» мы вывели. Я ведь не расстрела боялся, а что новое оружие к фашистам попадет.
– Знаю, и все знают, поэтому командующий тебе самолет приказал выделить.
– И еще я там тебя вспоминал – имя твое хорошее – Надежда! Я надеялся и верил – все будет хорошо.
Так вот ночь прошла. Спать невозможно, дождь льет, я должна и охранять Володю, и укрывать от дождя, и утешать его. К утру, только-только начал брезжить рассвет, вдруг слышу: гудит самолет. Погода нелетная, а он летит. Я схватила плащ-палатку. Машу, чтобы нас тут не придавил. Тот же летчик прилетел, только на санитарном самолете. Носилки поставили в фюзеляже, а меня посадили за перегородкой, позади летчика. Я говорю Владимиру:
– Буду стучать в перегородку, а ты мне отвечай, чтоб я знала, как ты.
Ну, летим, невысоко, на бреющем, чтоб нас мессера не заметили. Постучала я в перегородку, а Володя не отвечает. Стучу еще сильнее. Или не слышит или опять впал в забытье, я летчику кричу, везите куда ближе, опять сознание потерял. Он кивает. Стал заходить на посадку. Сели. Пилот говорит: «Здесь в деревне госпиталь. Не то, что надо, но все же госпиталь. Сейчас машину организую». Он снял сапоги и бегом по лужам, по грязи побежал. Не помню ни имени его, ни фамилии. Но, видно, у него было большое желание спасти раненого майора. Спустя какое-то время, смотрю, мчится полуторка, а летчик на подножке стоит.
Поставили носилки в машину. Летчика поблагодарила. Водителю говорю:
– Везите прямо к хирургическому отделению.
Подъехали. Простая изба. И на наше счастье, в деревне оказался профессор Зайцев, который ездил по фронту и консультировал или инспектировал госпитали. Он был хороший хирург. Но самое ужасное, что мы в этот госпиталь попали во время его переезда, уже все свернули и куда-то передислоцируют. Что делать? И тут приезжает еще один летчик, оказывается, нас ищут:
– Командующий ищет, спрашивал в каком состоянии майор. Никто не знает. Вылетели, но неизвестно где. Ищем вас везде, а вы тут! Полетели!
Я говорю:
– А как мы полетим, кругом такая вода, лужи. Как вы взлетите?
– Попробую взлететь, – отвечает.
– Вы здоровый, вам можно пробовать, а его крепко тряхнешь, и везти не надо.
– Ничего, – говорит, – я аккуратно!
Опять носилки в руки, идем к самолету. Догрузились. Самолет затарахтел, двинулся по раскисшей земле, прыгал, прыгал по полю, а взлететь не смог. Летчик говорит:
– Перенесите его вон туда, за лес, там грунт более плотный, я там однажды садился. А я туда перелечу, и оттуда с ним и с вами поднимемся.
Как перебираться за лес? Нести на руках далеко, грязно. Опять нам дают грузовик. И опять я около Володи, разговариваю, успокаиваю. Дорога его растрясла, приехали поближе к полю. А Володя опять без сознания. Ну что делать? Я ему уколы. Потихоньку-потихоньку пришел в себя. Вот-вот рассвет, а летчика-то нет. А днем летать опасно. Уже солнышко из-за горизонта подсвечивает. И тут летчик прилетел. Мы в самолет. Летели недолго, потому что все это было для самолета рядом. Опять садимся. И где мы оказываемся? В Торжке. И опять летчик молодец, прямо к самому зданию госпиталя подрулил. Наверное, школа здесь раньше была, стадиончик небольшой, на него мы и сели. Володю посмотрел хирург. Ему ничего не сказал, а мне говорит: «Мы ничего не можем сделать. У нас нет рентгена, не можем вслепую оперировать. И надо спешить. Осколок затащил с собой в рану остатки одежды. Поэтому нужно быть готовым ко всему».
Я прихожу в палату и говорю:
– Вот, мы немножко отдохнули и полетим дальше. А Володя спрашивает:
– Как так? Я никуда отсюда не полечу. Мне нянечка сказала, что у них такой хороший доктор, он сложнейшие операции делает, и все выздоравливают, смертных случаев нет.
Я говорю:
– Володя, ты взрослый человек, ты же понимаешь, раз нет рентгена, как можно оперировать? Куда, в какую сторону резать, где искать осколок? Вслепую? Поэтому надо лететь в Москву. И это мнение не мое, а мнение главного хирурга госпиталя.
Володя помрачнел, тихо молвил:
– Нет больше сил, не могу дальше лететь…
У меня сердце разрывается – спешить надо, но и он-то зря такие слова не скажет. Я говорю:
– Ты сегодня немножко отдохнешь, а завтра полетим. А сейчас надо что-то поесть. Ты ослаб.
Попросила нянечку за ним присмотреть. А сама в город. Надо чем-то хорошим его покормить. Нашла военторг. Говорю, так и так: «Я с фронта, мой муж майор, командир бригады, в госпитале находится в очень тяжелом состоянии. Нам завтра лететь, он уже вторые сутки ничего не ел. Может быть, у вас что-то есть, может быть, вино какое-нибудь, для аппетита».
Мне дали бутылку портвейна. А продукты, говорят, в госпитале лучше, чем у нас. Я прихожу счастливая, говорю: «Сейчас будем обедать». Дала ему рюмочку винца. Он немножко поел. Но когда дотронулась до него, чувствую, у него поднимается температура. Только этого не хватало! Дала сульфидин. С врачами поговорила, прошу ускорить отправку.
Опять полетели. Владимир перенес этот перелет неплохо, в дорогу его накачали лекарствами.
Машина нас уже ждала, штаб по поручению командующего, по-видимому, следил за нашим продвижением. Привезли нас в Тимирязевскую академию. Там был эвакогоспиталь. Владимира взяли сразу в приемное отделение, а меня не пускают, говорят: «Возвращайтесь». Я возражаю: «Как? У меня вот направление». Начальник приемного, такой сухарь, отвечает: «Ну, мы вам расписались. Вы привезли раненого, мы приняли». Я говорю: «Он не просто раненый, он мой муж». «Ничего не знаем. Без разрешения начальника госпиталя мы вас принять не можем». Я к начальнику госпиталя. А он был чем-то взвинчен, уставший. Не очень любезно меня принял. Сказал: «Ваше место на фронте, нечего в тылу околачиваться. Возвращайтесь немедленно в часть».
Я говорю: «Вы меня извините, но кроме воинской дисциплины есть еще просто человеческие отношения. Раненый, которого я привезла, мой муж. И я могу помочь вам сохранить его жизнь лучше, чем кто-либо другой. Я буду работать, дежурить в госпитале. Тем более что я даже невоенная, у меня вот паспорт в кармане». Я так и воевала, числилась как доброволец. Меня не оформили, как положено, не до того было в боях. Я ему показываю паспорт.
В это время пришел заместитель начальника госпиталя по политчасти. И слышу, он докладывает, что поступил майор такой-то – тяжелораненый, надо его немедленно оперировать, о нем спрашивали по поручению командующего Калининским фронтом. Я говорю начальнику госпиталя: «Вот это и есть мой муж». И я, конечно, сгоряча, поскольку меня не очень любезно приняли, вышла и хлопнула дверью. Замполит догнал меня в коридоре, стал успокаивать.
Я пошла разыскивать хирургию, где мой Володя? Нахожу его в палате для выздоравливающих! По-видимому, другого места не было или по недоразумению. Выздоравливающие курят, а Володя кашляет. Я к начальнику хирургии: «Как же вы могли его так поместить?» «Ну, запретить курить я не могу! Их все-таки шесть человек, а он один некурящий». Ну, все же добилась, перевели его в другую палату. Вот и уехала бы! Пришел главный хирург, осмотрел, сказал: «Будем оперировать», – и ушел. Но когда? Я же понимаю – каждый час в его положении дорог. Сижу, думаю, что делать дальше? И вдруг Владимир вспомнил телефон товарища по академии. Они учились в бронетанковой академии, оба были сталинские стипендиаты. И вот, на счастье, вспомнил телефон. Этот Василий Григорьевич работал офицером для поручений в бронетанковом управлении. Записала я номер и пошла звонить. С трудом нашла телефон. (Тогда автоматов мало было.) Позвонила, и прямо он, Василий Григорьевич, поднял трубку. Говорю, что мы находимся там-то, случилось то-то. Дала ему все наши координаты. Он тут же приехал в госпиталь, узнал, что нам требуется. Уехал и в тот же день привез бумагу от Министерства обороны, из бронетанкового управления. В ней сказано, что Управление берет на себя все виды довольствия добровольца-красноармейца Гурину. У меня фамилия своя осталась, замужество-то наспех оформляли, документы не сменили мне, только штамп о регистрации брака поставили. И эту бумагу, значит, дают начальнику госпиталя. С этого момента мое положение узаконилось.
На следующий день Володю оперировали. В хирургическую меня не пустили. Он был очень слаб, наркоз ему давать нельзя было, рассекали, видимо, под местной анестезией. Подробностей не знаю. Но когда его оперировали, стоны я слышала в коридоре. Сама готова была кричать от страдания. Ну, наконец-то привезли его в палату – бледный, просто прозрачный.
Переложили на кровать, из раны течет на постель, и под кровать накапало целую лужу. Рану оставили открытой, чтобы очистилась, боялись, видно, заражения. Вот так началась наша борьба за жизнь. До этого были только подступы к этой борьбе, а сил уже у него совсем не осталось. Но у меня еще были!
Володя очень исхудал. Не мог есть, что давали в госпитале. Нужны были творог, сметана, молоко, в магазинах этого не было. На рынке тоже. В Москве коров не держали.
Поехала я трамваем на окраину, увидела из окна корову. Решила, есть корова, значит, где-то поблизости должна быть и хозяйка, наверное, можно купить молоко. В госпитале, правда, давали порошковое молоко, даже не порошковое – соевое. Володя не мог его пить. Я нашла хозяйку коровы. Оказалось, поблизости был железнодорожный переезд. Женщина здесь работала, она согласилась менять молоко на хлеб, деньги ей не нужны. Тот хлеб, который давали мне, я стала отдавать за молоко, из литра молока я делала творог, простоквашу. Молоком поила Володю. Ел он очень мало – ложечку-две – и «больше не могу». Он настолько исхудал, что у него коленные суставы – одни кости, только обтянуты кожей. Обстановка ужасная, гитлеровцы осенью сорок первого были под Москвой.
Учреждения эвакуируются. Госпиталь тоже готовится в путь. Куда же я с таким больным, беспомощным в дорогу? Но наступление немцев отбили…
Стал Володя на молоке набираться силенок. Врачи сказали: «Надо его сажать, как бы воспаления легких от долгого лежания не было». А Володя сидеть не мог, обессиленный совершенно, падал. Я его подушками, как ребенка, обкладывала. У него даже голова не держалась. К тому же в палате было холодно. Топить начали где-то в декабре. Вот и сажать-то опасно – простудить можно. Я его укутывала перед этим. Потом я приносила огромный чайник с горячей водой из подвала, там титан стоял, брала запасное белье, накрывала одеялом на чайнике, согревала белье перед «гуляньем» – так мы сидение называли. Ночами он сильно потел, надо было постоянно переодевать в сухое. Вот я и сушила рубашки все на том же чайнике. У меня всегда была надежда на запас его прочности, раньше он занимался спортом, на брусьях параллельных, на турнике, командир он строевой, сам занятия проводил с красноармейцами. И сердце было хорошее. Ну и возраст – ему было тогда двадцать шесть лет. Постепенно окреп. Стала ему ноги опускать с койки. Потом заставляла стоять. Потом учила ходить, шаг за шагом. Когда он первый раз пошел, все няньки сбежались и плакали, глядя на него. Говорили: «Боже, воскрес из мертвых!» Пришел начальник госпиталя, Владимир сказал ему «спасибо». А начальник ответил: «Вы ей скажите спасибо. Мы только прооперировали вас, а выходила она». Я понимала, борьба наша не закончена, в библиотеке набрала книг, подчитала медицинской литературы, стала основательней разбираться в уходе за тяжелоранеными, медсестра я была фронтового образца, для первой помощи на поле боя. А мне нужно было знать больше, чтобы лучше ему помочь. В общем, радовалась я – теперь мы на ногах!
Однажды ночью сидела я около его койки и думала: оказывается, и трудные радости бывают. Вот вышла замуж, у других любовь, замужество – самое счастливое, лучезарное время в жизни. А у меня тоже вроде бы и радость, но и нелегкая она. Вот Володю выходила – радость, но как тяжко она и ему, и мне досталась! Теперь вот еще одно счастье надвигается, но и оно будет, видимо, очень и очень трудным. Какая женщина не трепещет от предстоящего счастья стать матерью? У меня это тоже приближалось. Округлилась я очень, уже ребенок стучится иногда. Надо было искать пристанище – дом, маму. Где Володины родные – неизвестно, война всех разметала неведомо куда. Моя мама жила под Тихвином, на станции Пикалово. Туда я и решила ехать, а это в сторону фронта.
Володю отправила на юг, долечиваться, ему путевку дали в санаторий. А сама стала пробиваться к маме.
Через коменданта станции добилась – мне разрешили ехать в сторону Тихвина в воинском эшелоне. Я попала к сибирякам. Приняли хорошо, с пониманием, всю дорогу опекали, берегли. Шинель постелили, чтобы я легла у печки, рюкзак под голову положили. Когда были остановки, некоторые бойцы выбегали купить что-нибудь, но у местного населения продать нечего, одна клюква. Мне красноармейцы клюкву приносили, говорят: «Тебе витамины сейчас нужны». Это было очень приятно. И вот я пила чай из кружки алюминиевой, и клюкву эту, хоть кислая, но раз витамины нужны – ела.
Однажды на остановке проверяли документы. Я спрашиваю у проверяющего: «Скоро ли станция Пикалово?» По времени, я прикидываю, должны вот-вот подъехать. Патрульный говорит, будет еще одна остановка, а уже следующая Пикалово. Ребята меня поближе к двери. Через одну остановку на руках вынесли из вагона, поставили на ноги. Попрощались. Заплакала – знала ведь, в какое пекло эти хорошие парни едут. Сына пожелали. Поезд тут же и тронулся. Я помахала на прощание.
Был вечер, сумерки, смотрю, мальчишки бегают. Я спрашиваю: «Это Пикалово?» Нет, говорят, до Пикалова еще тридцать километров надо ехать. Оказывается, поезд здесь случайно остановился, а бойцы от патрульного слышали, что вторая остановка – Пикалово, вот и высадили меня.
Что делать? Такое чувство растерянности меня охватило! Была бы здорова, ладно, а в моем положении… Я к коменданту. Он говорит: «Редко поезда сейчас ходят, я вам советую: дело к ночи, идите, пока светло, в ту сторону, там где-то завод есть, может быть, попутные машины подберут». Не пошла я к заводу, в первую же избу постучала, попросилась ночевать. Меня хозяйка, как увидела – ахнула, отвела теплое место на печке. Ночью я проснулась, что-то шуршит, присмотрелась – тараканы. Я с печки сползла. Хозяйка спрашивает: «Куда так рано?» Я говорю: «Вы знаете, там тараканы». Она смеется: «Эка невидаль!»
Пошла я голосовать. Машин нет и час, и другой. Уже замерзаю. Потом меня осенило. Думаю, раз тут деревня, значит, есть сельский совет, колхоз, может быть, МТС. Машина или какая-нибудь лошадь там должна быть. Очень я устала, вторые сутки в дороге.
Пришла в МТС. Какой-то дежурный в конторе. Я ему документы предъявила, объяснила, в чем дело. Он говорит, лошадь есть, но нет саней.
Владимир не курил, а в госпитале давали папиросы «Северную Пальмиру», коробки красивые, у меня их накопилось изрядно. Эти папиросы у меня вроде пропуска были, потому что кто курит, для него такие папиросы – блаженство! Я и здесь папиросы на стол: «Пожалуйста, закуривайте». Он берет одну, я говорю: «Нет-нет, можете себе всю пачку оставить». И тут же он вспомнил, что рядом есть где-то саночки какие-то, пойдем попросим.
Нашлись сани, хозяйка, как женщина, сразу вошла в мое положение – сена постелила в сани, тулупом меня укрыла. Поехали. Старичок с бородой повез меня. «Не робей, – говорит, – молодуха, подвезу прямо к постели».
И правда, нашел нужный дом, к крыльцу подъехали. Смотрю, выбегает мама. В этом доме с мамой жили жена моего старшего брата, хозяйка-старушка, владелица этого дома, и старик ее. Ну, обнялись, поплакали. Весь день рассказывали друг другу, кому что пережить пришлось. Хозяйка-старушка разговор наш слушала, сочувствовала, вроде бы и сокрушалась, но поняла, если я останусь у них, значит, будут пеленки, горшок, плач детский. И вот она утром, не дав нам опомниться, говорит: «Вы себе ищите другую квартиру». Я говорю: «Хорошо, найдем». Мне подсказала соседка – недалеко от этой станции, километрах в двадцати, находится Бокситогорск. Туда нужно добираться рабочим поездом. А от Бокситогорска еще в четырех километрах торфоразработки, куда эвакуированы многие земляки с нашего завода. Мы с невесткой пустились в это путешествие. Заодно я решила ее пристроить на работу, а то ей и маме без карточек трудно. Доехали благополучно. Когда вошли в поселок, первый, кого встретили, – бывший наш сосед, инженер Константин Михайлович. Он меня сразу сориентировал, где и кого искать. Многие здесь из наших оказались. Даже тетка Василиса – родная сестра моего отца. Она меня очень хорошо приняла. Потом я отправилась в контору. Вхожу в директорский кабинет, а там сидит бывший наш предзавкома Левашов. Думала, удивится, обрадуется. А он мне говорит: «О, в каком виде ты явилась!» Я спрашиваю: «А в каком?» – «Ждешь ребенка!» – «А это разве преступление? Я верю, что жизнь продолжается, мы победим, все пойдет своим чередом. К тому же у меня есть муж, это не просто так».
Какое-то сразу между нами отчуждение возникло. Он ведь знал меня как активистку, порядочную девушку. Именно его выспрашивал Володя обо мне, когда намерился жениться. Левашов его предупреждал, что односельчане меня в обиду не дадут. И вдруг такой холодный прием! Не стала я его ни о чем просить, ушла.
Обратилась к военному коменданту. Рассказала ему, кто я, кто мой муж, попросила с жильем устроить. Он повел меня сам в пустой двухэтажный дом. Комендант, пожилой майор, видно очень больной человек, шел, задыхаясь, останавливался. В доме было холодно, неуютно.
«Может быть, вам это не нравится?» Я говорю: «Все нравится. Но тут ремонт требуется. Ничего – сама сделаю, друзья помогут». – «Что-то не радостно земляки вас встретили». – «Они сами же здесь в гостях, а не дома. Их, наверное, шокировало теперешнее мое состояние». – «Ну, что вы, это же большая радость». – «Это радость в другое время. Каждый понимает по-своему».
В общем, квартиру дали. Привезли дрова. Стала я приводить в порядок жилье и однажды подняла тяжелое. Почувствовала, надо немедленно в больницу. В коридор вышла, мальчишке говорю: «Ищи скорее бабушку». Бабушка пришла, засуетилась.
Нашли какую-то лошадь, запрягли в сани, а лошадь или из цирка, или еще откуда-то – она шла только за человеком, и всю дорогу бедная невестка моя бежала бегом впереди лошади. Приехали в Бокситогорск, нашли больницу, а нас не принимают, чужие мы, не здешние, и родами не занимаются. Я говорю, позовите врача, врачу объясняю: мне ехать некуда!
Ну, приняли. Нашли акушерку. Я одна-единственная роженица, никто в это время не рожал. Родила девочку. Сверточек мне показали. Глаза из пеленок глянули – точно, как у Владимира, даже его взгляд. Удивительно просто!
Время тяжелое, продуктов нет, давали капусту, сваренную в воде, кипяток. Больше ничего. Были у меня деньги. Гимнастерка лежала под подушкой, выяснила я, что у акушерки, которая принимала роды, корова есть. Она мне приносила литр молока в свое дежурство, а я ей давала сто рублей за литр. Таким образом я сумела подняться. Молоко есть молоко, и у меня появилось молоко. Навещали меня невестка и тетка Василиса. Передали мне передачу – одну конфетку. Это все, что было в доме, – больше передать нечего.
Написала я письмо директору предприятия – маму еще не перевезли, я просила помочь ей с переездом. Помогли.
Морозы были до 30 градусов. В больнице тоже холодно, я дочку в подушки прятала, чтобы не простудить. Пришел день выписываться. Мама за мной приехала. Она выменяла на что-то детское одеяло. Купить невозможно. У кого-то нашелся пододеяльник, из посудных полотенчиков наделали пеленок.
И вот я дома. Как раз под Новый год. Мы картошки наварили, и еще радость праздничная у нас в том, что из санатория Володя письмо прислал.
«Я уверен, что у нас родилась дочь, когда рождается первая девочка – это хорошо. По приметам народным, девочка – к миру, не к войне». Он еще не знал, а только предполагал, что родилась девочка. И вот совпало.
Вскоре он приехал к нам. Его прежнее коверкотовое обмундирование, пропитанное кровью, выбросили. В госпитале выдали сапоги, хлопчатобумажные гимнастерку, брюки-галифе. И он в таком виде приехал, худющий, на себя не похож. Ходил еще с палочкой. Кое-какие продукты нам привез. Ну, мы с мамой здесь обжились, у нас была картошка. Потом мне дали детскую карточку. Мы даже белый хлеб иногда могли получать. Молоко выменивали – за деньги никто не давал. Приходит женщина, видит на столе клеенку или, допустим, скатерть. Она ей нравится. Мама спрашивает: «Сколько вы дадите?» – «Два литра молока». – «Хорошо, берите». Вот так. Потом ей самовар понравился. Пожалуйста, берите. Девочка наша стала расти. Вскоре я подумала уже о работе. Посоветовалась с земляками. Пригласил директор: «Ты бы опять приняла комсомол?» Я говорю: «А вы помните, как вы меня приняли?» – «Ну, знаешь, теперь все ясно».
Володя был у нас недолго, уехал за новым назначением, а я стала работать.
Приближалось 8 марта, нужно было праздник организовать, доклад подготовить. Раньше, когда училась в школе, делала доклады на различные темы. Но здесь надо доклад для взрослых и обязательно, чтобы делала его женщина или девушка. Поэтому пришли ко мне с предложением, чтобы я подготовила доклад.
А у меня нет никакой литературы, ни одной печатной строчки. Я решила: главное – надо говорить искренно, от души, время сейчас такое. Доклад я делала в клубе. Народу было много. Меня все знали, знали моего отца, знали мать. Многие женщины собрались посмотреть на меня, как я выгляжу. Я же с фронта все-таки, из пекла. Да и историю мою с замужеством, с ребенком знали. Слушали очень внимательно.
Лето прожили. К осени собрались в Москву. Владимир получил назначение в бронетанковую академию преподавателем. Он чувствовал себя не очень хорошо, вот и считали, что на этой работе он долечится. Но я, когда приехала, поняла, что не для него эта работа. С утра до ночи в помещении, на лекциях, без воздуха, да при таком скудном питании. А гулять после работы уже сил не хватало. И настроение его поняла: ему хотелось вернуться на фронт.
Однажды друг его с фронта приехал, то ли в управление кадров, то ли в Генштаб, зашел к нам, навестить. Рассказал о боевых друзьях, о боях, о том, что на фронте дела пошли лучше. Да и у самого на груди два ордена, а у Владимира, кроме нашивки за тяжелое ранение, ничего нет. Его несколько раз представляли к наградам, но раньше награждал Верховный Совет, а документы с фронта не доходили: то в окружении остались, то самолет разбился и документы сгорели, война.
Я поняла после встречи Володи с другом: мой муж готовится в поход! Взвесила все и решила, не имею права держать его около себя. У меня дочь, я в тылу, все в порядке, я уже окрепла, могу пойти на работу. Володя написал рапорт с просьбой отправить в действующую армию, а в академии работать он не может. Как там решался вопрос, не знаю. Может быть, друзей попросил помочь. Пришел приказ: Владимир назначен командиром полка.
Потом я только писем ждала. И иногда получала. Дочь подросла, стала ходить. Я в райкоме партии попросила, чтобы меня направили на работу в госпиталь. Но мне сказали, подберем работу у нас в райисполкоме. Они ознакомились с моей биографией: я бывший комсомольский работник, а заместителю председателя первомайского райисполкома нужен был помощник, не секретарь, а помощник – оформлять и составлять всякие бумаги. Поработала месяц, вижу, не для меня это. И говорю: «Вы на меня не обижайтесь, но я не могу». – «Не по характеру?» – «Не по характеру. Я привыкла к более живой работе, с людьми». Тогда мне предложили идти в отдел общественного питания инспектором. Я должна была проверять точки общественного питания, чтобы не было нарушений, чтобы была полная закладка продуктов. Я сказала: «Не знаю этой работы, не сумею». А мне возразили: «Не боги горшки обжигают, проинструктируем, как к этому нужно подходить. Вы нас устраиваете. Мы верим в вашу честность». Вот так уговорили.
Сначала для храбрости брала с собой санитарного врача. Женщина была очень милая, она снимала пробы, а я делала вид, что тоже разбираюсь в раскладке продуктов. Потом научилась. Быстро научилась. Работа была на нервах, и не только потому, что приходилось бороться с хищениями, антисанитарией. Иногда сталкивалась с такими человеческими судьбами, что сердце кровью обливалось. Вот, в одной столовой женщина-повариха остатки пищи собирала и уносила домой. Не полагается это. А она не скрывает, я, говорит, ради этих остатков сюда работать пошла. И рассказала такую вот историю. У нее пятеро детей, а свой только один, четверо приемных. Муж на фронте. А она была в какой-то комиссии. И вот пришли однажды с обследованием в детский дом, и вдруг мальчик бросается ей на шею: «Мамочка!» Как после этого его оставишь? Взяла к себе. И таким образом четверо набралось… И всех надо кормить. Вот и пошла работать поближе к еде. А потом еще беда: муж потерял ногу. И когда домой приехал, дети его не признали. Один из них пришел к ней и говорит: «Мамочка, а ведь это не наш папа». Его, наверное, немцы подменили». Она говорит: «Что ты, деточка. Это ваш папа. Ты смотри, как он обрадовался, как он любит вас всех!» Ну, это уладилось, другая печаль навалилась: вдруг найдутся родители этих детей. Это и радость – пусть бы нашлись. И жалко отдавать, потому что полюбила их, сердце отдала им.
Генеральша помолчала, улыбнулась, лицо ее просветлело. Она посмотрела на женщин ясными веселыми глазами.
День Победы мы в Москве встретили, как в кино. Да, только в кино так бывает! А Володя до последнего дня воевал.
И вот бои кончились. Приехал в Москву на совещание командир соединения, в котором Володя был начальником штаба. Пришел ко мне расстроенный, не снимая шинели, сел у окна. Вижу, не знает, как начать разговор. Наконец, решился, вымолвил: «Ваш муж ранен… в голову. Когда я уезжал, он был без сознания…» Оказывается, были стычки и после капитуляции немцев.
С этой минуты опять все закружилось и понеслось. Я стала искать возможность улететь к Володе, чтобы его в Москву перевезти.
Страна празднует Победу. Музыка весь день гремит. А у меня слезы не просыхают. Взяла дочку, поехала на вокзал, встретить фронтовиков. Брат мой воевал с первого дня, и других близких немало на фронте. На людях, когда счастье и ликование вокруг, мне то легче, то вдруг до смерти тяжко делалось. Весь день встречали эшелоны. Своих не нашли. Да тогда все были как родные!
К вечеру вернулись домой. Подъезжаем с вокзала трамваем, вижу в нашем окне свет горит. Вроде бы я днем уходила – свет не зажигала. Не могла забыть, с электричеством тогда очень экономно обращались. Поднимаемся на третий этаж. И вдруг Владимир выходит из двери с огромным букетом сирени!
Уже весна, сирень цвела. А я не цветы, бинты только на его голове вижу. А он смеется, обнимает, целует нас с дочкой, с Победой поздравляет!
– Весь день, – говорит, – к вам добирался, через столицы трех государств пролетел, а вас дома нет!
В общем, как в кино: «В 6 часов вечера после войны», причем и время было примерно такое же, к вечеру.
Вот так, наконец-то, начиналась моя нормальная семейная жизнь. Потом были частые переезды, как это у многих военных случается, жили и в палатках, и в хороших квартирах. Но это уже другой разговор.
Сейчас Владимир здоров, бодр, полон сил, назначен на очень ответственный пост. Когда в праздничные дни друзья провозглашают в честь него тосты, он всегда смотрит на меня, и я вижу в его глазах: «Это все и ты, милая, сделала!» Когда он получал повышения или награды, всегда спешил домой и говорил: «Мамочка, нас с тобой опять отметили!» Вот так мы и служим уже больше сорока лет.
Женщины сидели некоторое время молча. Может быть, сочувствовали и по-хорошему завидовали трудному, но большому счастью этой женщины. Те, кто помоложе, думали: как сложится их жизнь? И хотелось, и в то же время страшновато было пережить что-нибудь похожее.
А вечер между тем уже переходил в сумерки, дети, угомонившись, подошли, прильнули к матерям и тоже слушали рассказ. Зажглись на столбах лампочки, и одна девочка радостно сказала:
– И у нас, как в шесть часов вечера, после войны.
Все засмеялись. Вспомнили, что дома ждут дела. Поблагодарив Надежду Андреевну за откровенный рассказ, стали расходиться по квартирам.
Дома на столе Надежда Андреевна нашла записку: «Я поужинал. Приду поздно, буду проводить совещание. Видел тебя в окно. Ты разговаривала с женщинами. Не было слышно, о чем ты говорила. Но ты была прекрасна, как всегда. Целую тебя, Володя».
Надежда Андреевна несколько раз прочла записку. С нежностью подумала: «Милый мой, спасибо тебе…» Она легко вздохнула и включила свет, хрустальная люстра всплеснулась веселым ярким светопадом, будто маленькое северное сияние вспыхнуло под потолком.
…Володя придет поздно, надо готовить ужин.
Иван
Знакомы и дружим более тридцати лет. И только в преддверии 60-летия Победы осенила меня счастливая мысль! (Тугодум!) Немедленно позвонил по телефону:
– Здравствуй, я по тебе соскучился, можно навестить?
– Всегда рад видеть.
И вот мы сидим в его квартире за столом. Как полагается гостеприимной хозяйке, Алевтина Петровна предлагает:
– Чай, кофе, коньяк?
А я весь во власти счастливой мысли:
– Ничего не надо. Сразу к делу! Помнишь, на фронте мы называли немцев «Фрицами», а они нас «Иванами»? Не важно, белорус, украинец, татарин или грузин – любой для них был «русь Иван».
– Помню, разумеется. Всю войну так называли.
– Значит, Иван – это обобщенное, символичное имя русского воина. Он тот самый русский медведь, которого не тронь. А если разозлишь, встанет на дыбы и таких дров наломает, всем чертям тошно станет! По сути дела, Иван, как и медведь, – символ всей России.
– Ну, предположим.
– Чего же предполагать? Ты и есть этот самый русский Иван, да к тому же и отец твой тоже Иван. Не будешь возражать, если я напишу о тебе очерк и назову «Иван»?
– Почему именно я? Мало тебе других Иванов?
– Но ты тот самый, который встал на дыбы и крушил врагов беспощадно! Восемь орденов Красного Знамени, не считая Золотой Звезды!
Иван Иванович что-то говорил невнятное. Отнекивался. Скромность к тому побуждает. А я настаивал на своем:
– К 60-летию со дня Победы самое время вспомнить дела боевые. Знаю, жизнь у тебя большая, трудная, многогранная. Но прошу тебя, расскажи хотя бы о своих восьми орденах Красного Знамени. Всем известны кавалеры четыреждыкраснознаменцы: Блюхер, Буденный, Ворошилов, Фабрициус и другие. Но восемь – я ни у кого не встречал. Прошу тебя. Начнем по порядку. Во-первых, как ты стал летчиком?
– Дорога в небо у меня в юности не намечалась. Я даже стал учителем. В тридцатые годы шла борьба за ликвидацию неграмотности. Я, окончивший семилетку, считался образованным. Меня назначили учителем. Было мне всего шестнадцать лет. Некоторые ученики старше меня по возрасту. Но все ученики и даже их родители звали меня Иваном Ивановичем.
Учительствовал я не долго. В те годы была еще одна кампания: молодежь – на самолеты! Райком комсомола направил меня с другими парнями в Энгельсское авиационное училище. Мать сокрушалась: «Чего тебе не хватает на земле? Чего тебе надо в небе?»
Учился я летать четыре года с 1936 по 1940. Правильно говорят: «Кто побывал в воздухе, тот навсегда останется его пленником». Так определилась моя судьба.
Но в училище могла оборваться моя летная карьера. Причина – не авария при полетах, а беда, постигшая семью. Пришло сообщение – отца арестовали и осудили. Теперь я сын «врага народа», со всеми вытекающими драматическими последствиями.
Но в училище меня уважали, считали перспективным летчиком. Командир эскадрильи капитан Погодин оказался смелым человеком, сказал: «Сын за отца не ответчик». И даже посоветовал: «У тебя своя жизнь, у отца своя. Подавай заявление о вступлении в партию!» – «Кто же мне даст рекомендации?» – «Я дам». Вторую, тоже не побоялся, дал комиссар Ипполитов. Третью – комсомольская организация.
На партсобрании, когда решался вопрос о приеме, один «чистенький» стал высказывать сомнения, об арестованном отце напомнил. Опять комэска Погодин за меня заступился: «Мы не отца в партию принимаем, а курсанта-отличника, комсомольца Постыго!» В общем, приняли в кандидаты.
После выпуска из училища, я – лейтенант. Получил назначение в Одесский военный округ, в город Котовск, недалеко от границы с Румынией, в 211-й бомбардировочный полк.
22 июня первая боевая тревога, но без вылета. Командир полка объявил: «Германия напала на нашу страну, бомбит советские города!» Рассредоточили, замаскировали самолеты, вырыли окопчики для экипажа. На следующий день приказ на бомбежку переправы через Прут. Вылетели две группы по девять самолетов. Я – ведомый. Внизу поля и дороги, знакомые по учебным полетам. Спокойная, мирная жизнь. Но вот река Прут, и за ней иная обстановка – колонны машин, пехоты, кавалерии движутся по дорогам к переправе. Заходим на боевой курс. Четко вижу мост. Прицелился, сбросил бомбы. Мне не видно результата. Штурман Саша, его место в хвосте, кричит: «Цель накрыта! Понтоны плывут по реке!» Без потерь вернулись на аэродром. Радовались в душе, как дети, которые учатся ходить и сделали первые шаги. Но сдерживали свои порывы – все же мы теперь боевые летчики. Командир полка поздравил нас с боевым крещением.
Однако это была первая и последняя такая безнаказанная бомбежка. При других вылетах «мессеры» нас преследовали и сбивали беспощадно. Теряли мы друзей по два-три и больше при каждом вылете.
Через месяц гитлеровцы и румыны вышли к Днестру и наводили переправы. 21 июля, на всю жизнь запомнил эту черную дату. Обстановка на земле была критическая. Нам дали приказ – срочно разрушить переправу. Мы поэтому вылетели без прикрытия истребителей. Вылетели восемнадцать машин и не вернулись шестнадцать!
Иван Иванович умолк. Отвел глаза. В душе его конечно же происходило тяжкое волнение. И немудрено. Через минуту он продолжал:
– Расскажу по порядку. Мы бомбили при ураганном зенитном огне. От разрывов все небо было в «чернильных кляксах». Сколько самолетов сбили над целью – не знаю. Может быть, половину.
Когда же мы стали недосягаемы для зенитной артиллерии, появились «мессершмиты», которые яростно набросились на наши более тихоходные тяжелые машины. Вижу – один, второй наши горят. После многих потерь группа, естественно, распалась. Нырнул в попавшиеся на пути редкие облака. Выскочил из них. Яркое солнце сияет. Меня никто не преследует.
– Командир! Справа только один «пегий»! – несколько растерянно сообщил мой штурман-стрелок Саша.
«Пегими» в полку называли наши Су-2 за то, что они были разрисованы, закамуфлированы.
А где остальные? Неужели… всех? Подхожу ближе к «пегому». По номеру определяю, это машина Алексея Мальцева. Странно только, чего он прется не туда, куда надо. Пилот опытный, без причин с курса сбиться не мог. Я обогнал его, покачал крыльями: мол, пристраивайся и следуй за мной.
«Пегий» потянулся за нами. Время от времени он отставал, и я сбавлял скорость.
Прилетели на свой аэродром. Я завел Мальцева на посадку, а сам ушел на второй круг. Мальцев приземлился. Недорулив до стоянки, выключил мотор. Когда я произвел посадку и зарулил, санитары уже осторожно вытаскивали из машины безжизненное тело его штурмана. Так вот почему бомбардировщик сбился с курса, а пилот после бомбометания и ранения не сумел быстро сориентироваться.
Мальцев, посадив машину, потерял сознание. А я, видно, в сорочке родился: у меня со штурманом и на машине ни единой царапины. Через много лет, когда появилась песня, где есть слова «нас осталось только трое из восемнадцати ребят», я говорил, что это про нас. Правда, нас вернулось только трое из тридцати шести ребят.
Сдав машину технику и мотористу, мы направились в столовую. В столовой у каждого экипажа и у людей эскадрильи было свое определенное место. Пустующие стулья напоминают о невернувшихся с боевого задания. Нынче много стульев пустует…
Переживания трудноописуемы. Но тот трагический день на этом для нас не кончился. Лишь пришли в свою палатку, явился посыльный: вызывает командир полка.
У командира разговор со мной короткий:
– На переправу ходил?
– Ходил.
– Ну, вот еще пойдешь. Приказано вылететь всем составом полка. У нас шесть исправных самолетов. Тебе – вести. Собирай экипажи. Поставим задачу…
Перед полетом свернули по «козьей ножке» – махорку курили. Мне один из пилотов говорит:
– Давай, Иван, засмолим напоследок папиросу потолще.
– Ты чего? – спрашиваю.
– Ты ведь был уже там…
– Ну, был.
– Ты же понимаешь, что мы не вернемся.
– Брось, мне и людям душу не трави!.. Накуримся мы еще, парень, с тобой этого поганого зелья.
И по самолетам. Тяжелые машины, разбегаясь, как бы нехотя отрываются от земли. Набирали высоту. Первое звено веду я, второе – Широков. Второе от первого чуть в стороне.
Выходим на цель. Конечно, переправу уже восстановили. Понтоны разбитые заменили. И по мосту снова движутся войска и военная техника.
Мы бомбили и переправу, и все, что возле переправы: скопления танков, автомашин, мотоциклистов.
Я чувствую, что во время бомбометания зенитный снаряд попал в мой самолет. Еще не вижу огня. Но моя машина в воздухе – это как бы продолжение моего тела, и поэтому чувствую – горим. Пусть не полыхаем пока факелом – самолет «затемпературил». А на выходе от переправы нас встречают немецкие истребители. Сашке лучше видно, что происходит, он кричит:
– Сбит.
– Кто?
– Не знаю. Наш, «пегий»… И второй тоже. Иван, пара «мессеров» атакует нас.
Мы отбивались огнем и уклонялись от них, но после одной из атак чую: попал, вражина. Вижу язык пламени на правом крыле. Сашка пожара не видит. Он ведет перестрелку с «мессершмитами». Слышна пулеметная дробь.
– Падает! Падает! – кричит Сашка. – Я «мессера» срубил! Ура!
Только он это прокричал, и по нам ударил пулемет… Я четко почувствовал удары пуль о бронеспинку. Бронеспинка – это лист специально закаленной и обработанной стали, смонтированный заодно со всем сиденьем в кабине летчика. Она прикрывает голову и спину пилота. Я физически ощущал, как и где пули спотыкались о броню, столь горячей была у меня спина…
Раз меня в спину колотят, каково штурману?
– Сашка!
Ответа нет. Либо ранен, либо повреждено переговорное устройство.
А в атаку заходит новая пара «мессеров». Им очень соблазнительно добить одинокий горящий бомбардировщик. Настырные, гады!
«Мессершмиты» стремительно несутся на меня. Я резко ныряю вниз. Пушечно-пулеметные очереди не задевают машины, проходят выше.
Пламя передвигается по крылу. Пожар все ближе. Дым заползает в кабину. Дышать тяжело. Крупные капли пота застят глаза, утираться некогда. Решаюсь лететь до тех пор, пока тянет мотор. «Вези, родной, тяни, железная твоя душа!» Но все ниже и ниже…
Вражеские истребители развернулись и преследуют меня. Стреляли, стреляли. Попали в винт – срезали одну лопасть: винт на Су-2 трехлопастный. От дисбаланса началась дикая тряска. Самолет стал почти неуправляемым. Высота тридцать метров. У мотора уже тяги нет. И я пошел к земле. Руки, лицо обгорели.
Иван Иванович показывает следы обгоревшего тела на руках и на шее.
– Казалось, конец.
– О чем ты думал в эти тяжкие минуты и секунды?
– С тех пор прошло более полвека, а я хорошо помню – сознание работало четко. Молниеносно пролетали мысли: как бы оторваться от истребителей, чтобы они перестали добивать меня? Как быстро будет гореть самолет? Как скоро он взорвется, что за это время я успею и сумею сделать? Что с моим штурманом, что с Сашкой? Где и как на этой пересеченной местности можно произвести посадку? Все это описать трудно.
Ведь это могли быть мои последние секунды. Такие переживания может понять только тот, кто побывал в подобной ситуации. А ситуация труднейшая, по сути, безвыходная. К счастью, смерть меня и на сей раз пощадила…
Чудом сел, если это можно назвать посадкой, посреди овсяного поля. Лето было жаркое, и когда машина брюхом пошла по земле, пылища поднялась… Впечатление такое, что самолет взорвался. И «мессершмиты», видимо, считая, что со мной покончили… улетели.
В общей сложности от цели и до посадки я пролетел километров сто на горящем самолете.
Сашка был ранен. Смертельно. Я его вытащил из кабины, взвалил на себя. И умудрился добежать с ним до подсолнечника. Затем бережно опустил на землю, разорвал на нем гимнастерку. Восемь пулевых ранений в грудь, четыре – в пах. Он был еще жив. Я просил его: «Не умирай, Сашка…» Я думал: ему бы воды сейчас испить, сразу бы и полегчало. Вероятно, потому так подумал, что самого жажда мучила. Принялся искать воду, но ни речушки, ни ключа окрест не оказалось.
Знаю, что поблизости деревня: когда падал самолет, видел. Иду в сторону деревни. В общем, добыл я воды и молока. Радуюсь, что молоко Сашке несу.
А Сашка мертв. И уже остыл.
На рассвете я похоронил Сашку. Обмыл лицо водой из бутылки. Поцеловал в холодный лоб. Закутал его голову в гимнастерку, чтобы не насыпать землю прямо на лицо…
«Прощай, боевой друг. Мало мы с тобой повоевали… Все, ухожу. Пробиваюсь к своим». Я спрятал документы, свои и Александра Дамешкина, зарядил пистолеты, свой и его. Подался к дороге.
В общем, со многими приключениями добирался я к своим. Даже у партизан побывал. Но в конце концов нашел свой аэродром. Здесь было пусто. Ни единого самолета. Пятнадцать – двадцать человек из техсостава под командованием нестроевого капитана поспешно уничтожали все, что не мог забрать наш на днях улетевший полк. На войне жизнь кочевая, перемещения постоянны. Бывало, авиационный полк садится на какой-то аэродром, совершает с него один-два боевых вылета и перебирается на следующий.
Короче, мы не ведали, где теперь 211-й бомбардировочный. Его предстояло найти. Полагали: полк, вероятнее всего, ушел на киевское направление. Наутро мы увязали мешки и – пешком на восток.
– Погоди, Иван Иванович. Мы с тобой начали разговор об орденах Красного Знамени. Про то, что ты рассказал, тебе какой – первый или второй орден вручили?
– Дались тебе эти ордена! За что орден? За то, что полк потерял все свои самолеты? Летчики видели, как я горел и на землю грохнулся. Посчитали убитым. За упокой выпили. Домой похоронку и пожитки мои отправили. Пришлось писать – ошибка, мол, вышла. Так вот я умер и воскрес. А то, что я тебе рассказал, – это лирика, воспоминания личные.
– Нет, Иван Иванович, пожалуйста, как-то связывай свой рассказ с этими наградами.
– Ну, хорошо. Расскажу, как летчики нашего полка звание Героя Советского Союза получали.
Была у нас традиция спасения экипажей, попавших в беду. 31 января 1944 года во время штурмовки вражеских позиций был подбит самолет заместителя командира эскадрильи гвардии лейтенанта Протчева, который приземлился в расположении противника. Видя это, младший лейтенант Надточеев произвел посадку рядом с подбитым самолетом командира. Забрал к себе на борт Протчева и его воздушного стрелка и благополучно взлетел. За мужество и отвагу ему присвоено звание Героя Советского Союза.
При других обстоятельствах, но подобным же образом летчик младший лейтенант Павлов спас дважды Героя Советского Союза Степанищева, а летчик старший лейтенант Берестнев – дважды Героя Советского Союза Беду. Как видим, только в одной 1-й гвардейской штурмовой авиадивизии этот подвиг был совершен трижды.
И не только своих спасали. Однажды на обратном пути от цели штурмовики заметили, что сел на вынужденную посадку один из летчиков-истребителей, сопровождавших штурмовиков. Позднее узнали – младший лейтенант Иван Стопа. К месту посадки истребителя Як-1 спешили гитлеровцы. Боевому товарищу грозила беда. Штурмовики приняли решение спасти летчика, встали в круг и огнем охраняли его.
Младший лейтенант Милонов выпустил шасси и пошел на посадку. Внизу – перепаханное поле. Самолет немного пробежал и, резко развернувшись влево, остановился. Оказалось, спустило простреленное фашистами колесо. Взлет на таком самолете невозможен.
Группа, которая кружилась в воздухе, увидела, что в беде оказались уже два экипажа. Тогда ведущий группы штурмовиков лейтенант Демехин передал по радио:
– Иду на посадку. Прикройте.
Он приземлился вблизи двух самолетов. Но и его машина застряла в размокшей пашне. Неимоверными усилиями летчику и стрелку удалось выкатить тяжелую машину на проходящую рядом дорогу. Можно взлетать. Но их догоняют совсем близко фашисты. Воздушный стрелок быстро в самолет и открыл по ним огонь из пулемета. Тем временем все – и летчик-истребитель, и экипаж Милонова сели, кто куда мог, в самолет, а воздушные стрелки Разгоняев и Хирный приспособились на стойки шасси. Для такого случая и это комфорт. Демехин под носом у фашистов с большим трудом, но все же взлетел! Демехину присвоили звание Героя, и правильно!
– А тебя сбивали?
– Еще как! Даже похоронку домой отправили. Ты в своих книгах не раз писал о том, как гитлеровское командование, почувствовав, что под Сталинградом дела у них идут туго, отделило от кавказской группы 4-ю танковую армию. Она спешила теперь на усиление 6-й армии Паулюса. Командование нашего фронта, естественно, было обеспокоено появлением новой танковой армии противника. Но где находится она в настоящий момент – неизвестно. По всей вероятности, уже на подходе к фронту. Но в каком месте? То ли в районе Тащинской, то ли у Цимлянской, то ли у Котельниково? Неизвестность, отсутствие сведений могли обернуться серьезными неприятностями: сосредоточив большие силы на определенном участке фронта, гитлеровцы могли нанести внезапный и сильный удар.
Меня отправили в разведку на поиск головных частей противника. Со мной пошли четыре штурмовика. Нам дали солидное прикрытие – одиннадцать истребителей Як-1.
И мы ушли на задание…
В районе Котельниково напала группа Ме-109 и связала боем наших истребителей. Таким образом, Илы лишились прикрытия. Пятерка штурмовиков продолжала следовать дальше.
Танки на месте, если они хитро замаскировались, разглядеть с воздуха довольно сложно. Они могут спрятаться где-нибудь в овраге. Или в садах станиц. Или прямо в хатах – пробьют стену и стоят себе под крышей. На ходу их выдавала сильная пыль от движения. Лето было жаркое, сухое и пыльное. Ничего подобного не видим. Но вдруг на пути штурмовиков стали то и дело разрываться черно-белые шары. Чаще и чаще. И вскоре уже казалось – летим среди сплошных разрывов.
– Ага! – понял я. – Район прикрывается неспроста!
И повел группу прямо навстречу заградительному огню… Танки не маскировались. Они колоннами двигались в направлении на Аксай, Абганерово, Плодовитое. Кроме танков мы обнаружили большое скопление автомашин и пехоты. Вот они, передовые части 4-й танковой. Я сделал пометки на карте.
– Ну, вот и все! Задание выполнено! Теперь пора и штурмануть.
Выбрали самую крупную колонну. Сбросили бомбы, израсходовали реактивные снаряды, «проутюжили» дорогу огнем из пушек и пулеметов. На земле появились чадящие костры, густой черный дым пополз по степи.
Конечно, долго «без присмотра» мы оставаться не могли. Через некоторое время, когда группа уже повернула домой, на нас навалилось до двадцати истребителей противника.
Командую: «Стать в круг!»
«Круг» – наш тактический прием. Штурмовикам частенько доводилось действовать без прикрытия истребителями. Суть «круга» состоит в том, что каждый задний защищает хвост переднего самолета, круг замыкается запросто.
Но нас пятеро. «Круг», конечно, держать тяжело. Крен велик. Правда, Ил есть Ил, тем и знаменит, что крен восемьдесят градусов переносит. Крутанулись уже дважды. Я так делаю круги, чтобы постепенно оттягиваться на свою территорию, эллипсом. Сложность пилотирования предельная.
И молодой летчик Семенов на каком-то этапе не выдержал строй. Стоило ему уменьшить крен на два-три градуса и вывалиться из круга, как «мессершмиты» тут же, у нас на глазах, расстреляли его самолет.
Продолжаем четверо ходить в круге. Понятно, надежность не та. Еще чью-то машину искалечили. Остаемся втроем. Не успели поменять тактику, перейти к другой форме защиты, еще один пилот доложил: «Ухожу на вынужденную…» А потом я оказался один, аки перст. Один против двух десятков «мессеров». Как ни маневрировал, как ни хитрил, одна очередь по моей машине, другая… Истребители на меня скопом насели и по очереди атакуют, изрешетили. Машина плохо слушалась рулей управления. В кабине ничего не видно.
Я прилагал все усилия, чтобы удержать машину в горизонтальном положении. Самолет неудержимо тянуло вниз, он с каждой секундой терял высоту. Какой-то «мессер» решил меня добить и направил свой истребитель вслед за моим штурмовиком.
Перед тем как приземлиться, а точнее, удариться о землю, мой Ил зацепил и оборвал телеграфные провода. А «мессершмит» так увлекся погоней, что правым крылом треснул по столбу и отбил консоли своего крыла. С поврежденным крылом он сел на нашей стороне.
При посадке, если это можно назвать посадкой, я ударился головой в приборную доску, рассек лоб и потерял сознание…
Вскоре после моего приземления (этого, естественно, я не помню, мне рассказывали) достали меня из кабины, усадили в легковушку. Завезли меня в какую-то медсанчасть. Там мне промыли раны, перевязали голову. Дали спирту. Я хлебнул и пришел в себя.
В медсанчасть примчался офицер, подполковник. За разведданными. Стал меня обо всем увиденном расспрашивать, знаки с моей карты на свою перерисовывать. Нашли мы эту чертову 4-ю танковую армию! Задание выполнили.
Сразу в свой полк не попал. А там в боевом донесении штабу армии от 4 августа гласило: «…пятерка летчиков-штурмовиков в неравном бою пала смертью храбрых».
Так я был похоронен второй раз.
– За эту разведку орден дали? – спросил я.
– Какой орден? Говорю же: «погиб смертью храбрых вместе с четырьмя другими экипажами».
– Иван Иванович, прошу тебя конкретно рассказать вот про этот орден. – Я показал на его цветном портрете в книге на второй орден среди восьми других.
Иван Иванович улыбается:
– Ну, раз ты настаиваешь именно на этом, расскажу. Было задание действительно сложное и оригинальное. Позднее его назвали «Уличный бой штурмовиков».
В сентябре 1942 года в Сталинграде были упорные кровопролитные уличные бои. Бойцы и командиры двух наших общевойсковых 62-й и 64-й армий стояли насмерть. Мы штурмовали противника, тесно взаимодействуя с пехотой, артиллерией и танками, вели боевые действия вблизи линии фронта. Работы хватало всем, не хватало самолетов. Летчики, восполняя это количеством вылетов, действовали выше своих сил и возможностей.
Однажды, в середине сентября, летчиков эскадрильи, которой я командовал, вызвал майор Болдырихин. Когда мы предстали перед ним, он сказал:
– Вражеские танки прорвались на улицы Саратовскую и Коммунистическую и разрезали группировку наших войск, вышли к Волге. Нам приказано эти танки уничтожить… Задачу выполнять вам, товарищ Постыго.
К этому времени я имел солидный опыт боевых действий. Но как в огромном, дымящем, горящем в сплошных взрывах городе найти такую малую и подвижную цель – с подобным я столкнулся впервые. Как найти эту цель? Как ее уничтожить среди развалин Сталинграда? Но боевой приказ надо выполнять. Первое, что я прикидывал в уме, начать поиск от железнодорожного вокзала. В Сталинграде он был большой и хорошо виден с воздуха. Мы его не раз видели. Но где улицы Коммунистическая и Саратовская?.. Этого никто из нас не знал. На наши расспросы, хотя бы какие по счету эти улицы от вокзала, – ответа не последовало. Идем по самолетам. Вырулили для взлета. Надо начинать взлет. Вдруг вижу, впереди по взлетной полосе, прямо в лоб самолетам с работающими моторами мчится «эмка». Автомашина остановилась возле моего самолета. Из машины выскакивает начальник штаба дивизии подполковник Питерских, складывает руки впереди на уровне головы крестом, это означает – «выключить моторы». Выключаем. Питерских быстро поднимается ко мне на самолет и передает план Сталинграда. Какая радость! Питерских показывает и говорит: «Вот, я нашел и, пока ехал, обвел красным карандашом кружок, где твоя цель – Саратовскую и Коммунистическую улицы. Действуй!» Опять запустили моторы и пошли на взлет. Сосредоточенно изучаю план Сталинграда и кружок, обведенный красным карандашом. А что в кружке, остались ли там танки? Посмотрим. Спокойствие и уверенность постепенно пришли ко мне. Подтянул группу, приободрил летчиков и пошел на заданную цель. Как хороши, как мудры русские пословицы и поговорки: «Начинай плясать от печки». Такой «печкой» для нас был вокзал Сталинграда. Мы выходили на цель от железнодорожной станции. Нашли улицы и Саратовскую, и Коммунистическую. А где танки? Снова забота и тревога, но это уже не та тревога. Мы разгадали хитрость противника – танки стояли в тени домов, скорее, в тени того, что осталось от домов. Насчитали их более десятка, но точно считать некогда. Пришло время их бить, жечь. К нашему счастью, истребителей в этом районе не было. Зенитная артиллерия противника, видимо, не успела за прорвавшимися танками – отстала, открыла огонь издалека и неэффективно.
Мы последовательно – по одному, из боевого порядка «круг» – пикировали и штурмовали танки, сбрасывали бомбы, стреляли РБСами с пикирования. Отходящих фашистов расстреливали из пушек и пулеметов с малой высоты, что называется, в упор.
Выводили машины из пикирования практически на высоте домов, точнее, на высоте развалин, оставшихся от домов. Смотрю, разошлись, раззадорились мои летчики. Важно, чтобы кто-то не запоздал на десятую долю секунды с выводом из пикирования. Такое опоздание оканчивается плохо. Я об этом напомнил летчикам по радио. На деле получился действительно уличный бой. Бой в городе, бой с танками на улицах. Так и пошло наименование «уличный бой штурмовиков».
Наблюдаем: танки горят! Нас подбодрили по радио с земли: «Атакуете хорошо, еще заход… еще заход». Считать, сколько мы уничтожили танков, некогда. Надо работать. Кто-то крикнул по радио: «Отходят, отходят!» Действительно, уцелевшие танки, прикрываясь дымом, начали отходить. Среди танков копошились люди. Это либо пехота из танкового десанта, либо экипажи из горящих танков, какая разница – это враг, и мы били его беспощадно. Мы продолжали атаковать отходящие танки. Израсходовали все бомбы, все РБСы и большую часть пушечных снарядов. Задачу решили без потерь своих самолетов. Дальше события развивались так: оказывается, за нашей работой наблюдали командующий фронтом Еременко, командующий 8-й воздушной армией Хрюкин, командование 62-й армии во главе с Чуйковым. Передали благодарность летчикам всей группы за отличные боевые действия.
Произвели посадку. Идем докладывать командиру полка Болдырихину.
Только я произнес слова: «Товарищ майор, старший лейтенант…», – он говорит довольно резко: «Отставить!»
Я осмотрел себя, поправил обмундирование и снова: «Товарищ майор, старший лейтенант…»
Болдырихин тепло улыбается и говорит: «Иван Иванович, вы – капитан». Позже мне стало известно, командующий 8-й воздушной армией генерал Хрюкин вызвал на телеграф командира нашей дивизии, спрашивает: «Кто водил группу?» Горлаченко отвечает: «Пстыго». – «Кто он у вас по должности?» – «Командир эскадрильи». – «А по званию?» «Старший лейтенант». Хрюкин: «Ему присваиваю звание «капитан»!
Опять я за свое:
– Иван Иванович, а орден?
– Он смеется:
– Дали мне орден. Вот этот, второй. И всем летчикам, которые участвовали в этом уличном бою, тоже по Красному Знамени.
– Иван Иванович лукаво улыбается:
– Было любопытное продолжение у этой истории. Прошло много-много лет. Идут юбилейные торжества 8-й гвардейской, бывшей 62-й армии. Я оказался рядом с Чуйковым. Вспоминая Сталинградскую битву, Чуйков рассказал, как в очень тяжелый момент уличных боев в Сталинграде его войскам оказала помощь группа штурмовиков. Я внимательно прислушался. Чуйков рассказывал подробности именно нашего полета. И как-то грустно маршал говорит: «Где эти молодцы сейчас? Остался ли кто из них в живых»? Я не удержался и говорю: «Есть живые». Чуйков спрашивает: «А ты откуда знаешь?» Отвечаю: «Твердо знаю, потому что ведущим командиром этой группы был я».
Присутствовавшие при этом разговоре были удивлены. А Чуйков подошел ко мне и говорит: «Братец ты мой, неужто это ты?» И обнял меня. Было это для меня большой наградой, а ты говоришь – орден!
– Во время боевой работы испытываешь чувство страха?
– Конечно, погибать не хочется. Но в воздухе у меня чувства страха не было. Там поглощен непременным выполнением задания. Ненавистью к врагам. Признаюсь, настоящий страх я испытывал только на земле, при бомбардировке противником нашего аэродрома. Случалось это нередко. Логика тут простая. В воздухе летчик играет активную роль, маневрирует и сам себе обеспечивает выживание. На земле же роль пассивная, от него мало что зависит. Кажется, каждая бомба со свистом летит именно в тебя.
Тут смешение многих эмоций: простая боязнь, страх за собственную жизнь, чувство самосохранения. Они так «прижимают» к земле, что, кажется, лежа на ровном месте, ты сделал углубление.
– В воздухе я хозяин. Иногда в воздухе случались даже смешные дела. Вот однажды летом. Было жарко. За время полета температура в кабине бронированного Ил-2 поднималась до 45—50 градусов. Мы полетели на «свободную охоту», когда самостоятельно разыскивали скопление войск противника и уничтожали. Ведем «свободный поиск». Правда, пока безрезультатно. Ищем колонны противника. Мне, как ведущему, свойственно больше смотреть влево. А заместитель мой, лейтенант Батраков, глядит вправо. Время от времени переговариваемся. Вдруг Батраков присвистнул:
– Командир!
– Что?
– Да посмотрите направо!
Я взглянул направо. Батюшки! Большое озеро – километра полтора в длину и метров двести – триста в ширину. Скорее всего, не озеро, а пруд. И вокруг него сотни автомобилей, бензозаправщиков, мотоциклов. А все озеро, как в голых телах – купаются. Тысячи!
Вражеская колонна, встретив на пути водоем, устроила привал. Ишь, млеют! Перышки чистят! От кровушки отмываются!
Погодите, будет вам курорт! Будет вам и русская баня!
Подаю команду:
– Разворот вправо. Все вдруг!.. Пикируем на озеро.
От первых же сброшенных бомб озеро закипело. Думаю, враг многих не досчитался.
А мы отбомбились, ведем огонь эрэсами, палим из пушек, поливаем из пулеметов свинцом. Переносим удар по технике на берегу. Пылают грузовые автомашины, взрываются бензовозы. Гитлеровцы, успевшие выскочить на берег, нагишом несутся по балкам, по ручьям, питающим озеро. И не добегают…
Я предоставил ведомым полную свободу действий. Каждый атакует сообразно с обстановкой в свое удовольствие. Разгром врагу мы учинили полный. Полк ли мы вывели из строя или дивизию – не знаю. Врага не считали, били нещадно!
Чувствую, что горючее в баках истощается. Собрал группу. С трудом собрал. Увлеклись летуны мои. Не хотят уходить. По нам не было сделано ни одного выстрела. При докладе командиру полка не удерживались от смеха. К нам присоединились командир, комиссар и начальник штаба полка.
При такой «веселой» операции я уж не спрашиваю Ивана Ивановича об ордене. Наверное, посмеялись, и тем дело кончилось. А про себя подвел итог нашей беседы. Так и не узнал я, за какие боевые дела получены эти восемь орденов. Правда, про один – второй, за «уличный бой» на самолетах – поведал. А все остальное время говорил про будни да про боевых друзей. О своих подвигах умолчал. Не захотел рассказывать. Объяснил: «Это неприлично». Скромный человек Иван Иванович. Про Золотую Звезду Героя я уж и не заикался.
В общем, оказался герой моего очерка – традиционный русский Иван, не речистый на словах, богатырский на деле. Такие Иваны в былинах и сказках наших. В конце сказок бывает: Ивану засватают царскую дочку, а то и сам на царский трон сядет Ванюша. Как это ни покажется странным и удивительным, но мой рассказ завершится таким же традиционным, почти сказочным финалом. Разумеется, не женитьбой на царевне и не царским троном, но в своем летном деле наш Иван достиг самой вершины – выше некуда! Об этом он рассказывал опять-таки без пафоса, как о деле будничном:
– С 1967 года был я уже заместителем Главнокомандующего Военно-воздушных сил. Однажды проводил какое-то очередное совещание в зале. Заходит дежурный по Главному штабу, прерывает меня: «Вам приказано срочно позвонить Министру обороны СССР». Именно так полностью отчеканил он его должность.
Шел я к прямому телефону, именуемому «кремлевка», и перебирал в уме события последнего времени, которые могли послужить причиной вызова меня «на ковер». «В чем же я мог провиниться, если вызывает сам министр?» Я хорошо знал, что в определенных ситуациях министр Гречко бывает довольно крут…
– Здравствуйте, Иван Иванович, – не дослушав до конца мой рапорт, поздоровался Гречко и тут же продолжал: – Сообщаю, что Указом Президиума Верховного Совета СССР вам присвоено воинское звание маршала авиации. Сердечно поздравляю вас, желаю дальнейших успехов в службе!
– Служу Советскому Союзу! – несмотря на волнение, ответил я.
А волнение было большое, это знакомо каждому военному человеку.
Не вдруг и не сразу свалилось Ивану Ивановичу это высокое звание. Кроме боевых заслуг прошел очень трудную, извилистую и крутую служебную лестницу после окончания войны.
– В 1946 году полк расформировали. Трогательное прощание с Боевым знаменем. Я, как командир полка, первым подошел, опустился на колено, поцеловал край знамени… И заплакал. Не стеснялся, не прятал слезы.
Получил назначение на такую же должность в город Винернойштадт в Австрии. Осенью того же года направили в Липецк на курсы усовершенствования командиров частей ВВС. Неожиданности – норма в военной службе. После окончания курсов – на Сахалин, заместителем командира дивизии.
Через три года пришлось ехать еще дальше – на Чукотку, командиром первой в тех краях авиационной дивизии, которую надо еще сформировать, поселить, обеспечить всем необходимым. Строили. Обживали. А главная задача – ответственность за огромное воздушное пространство – гигантская дуга Чукотский полуостров, небо над Беринговым проливом, Чукотским и Баренцевым морями. К счастью, здесь были хорошие аэродромы, их построили для перегона самолетов по лендлизу. Но хороших топографических карт не было. Край в летном отношении не освоен.
5 ноября 1949 года пришел приказ Министра обороны СССР на должность командира дивизии и наконец-то присвоено звание полковник.
Появление дивизии на Чукотке интересовало американцев, их самолеты-разведчики стали «заглядывать» на нашу территорию. Надо было отучить. Однажды поступил сигнал с поста воздушного наблюдения: в бухте Провидения летят самолеты в вашем направлении. Поднялась пара наших истребителей Ла-11. Встретили. Завязался воздушный бой. «Мустанги» струсили, с большим резким снижением удрали в сторону моря.
Вот так строили, учились, вели бои.
В марте 1952 года новое назначение – заместителем командира смешанного авиационного корпуса на Камчатке! Летом 1953 года стал командиром этого же корпуса и генералом. В марте 1955-го – опять на Сахалин, с повышением, заместитель командующего воздушной армией. К прежним заботам и ответственности прибавились Курильские острова.
И вот, наконец, светлые и счастливые два года учебы в Академии Генерального штаба в Москве. И после ее окончания высокое назначение – заместителем командующего ВВС Ленинградского военного округа. А через год – уже первый заместитель командующего ВВС Группы войск в Германии. В 1960 году – генерал-лейтенант и командующий ВВС в Группе войск. Прибавились к летным еще и дипломатические заботы. Особенно много мороки после разбора с западными соседями инцидентов со сбитыми их самолетами. Но хулиганить над нашей территорией не позволяли – сбивали. В 1967 году почетное повышение – заместитель Главнокомандующего ВВС Советской армии, генерал-полковник, да еще прибавились депутатские заботы – избран в Верховный Совет РСФСР.
И все эти годы летал. Соблюдал свой девиз: «Служить в авиации – это прежде всего летать!» Летал даже с маршальскими погонами.
Рассказал он мне только об одном ордене Красного Знамени, который получил за уличный бой на своем штурмовике. А за что был удостоен еще семи и Звезды Героя так и не поведал.
Неразговорчивы наши русские Иваны, когда их спрашивают о личных заслугах.
Портрет лейтенанта
Загадочная история
Фотокарточка величиной с обыкновенную открытку, или, как называют фотографы, снимок девять на двенадцать, висела над кроватью лейтенанта Григория Колоскова. Жили молодые офицеры в полковом общежитии-гостинице. Видели эту фотографию все, кому случалось заходить в комнату, где обосновались Колосков и Семушкин. Видели, но как-то не обращали особого внимания.
На снимке был изображен какой-то лейтенант с очень строгим лицом. Одет в полевую форму: темная гимнастерка, темные погоны. Только глаза, в жизни, наверное, серые или голубые, да по две звездочки на каждом погоне выделялись светлыми пятнышками на довольно мрачном фоне фотографии.
Соседи по общежитию думали, что это портрет одного из друзей Колоскова, с которым он кончал военное училище. И лейтенант на снимке и Гриша были примерно одних лет: двадцать, двадцать два – не больше.
Когда Колосков только прибыл в полк и распаковывал свои вещи, сосед, лейтенант Семушкин, спросил, кивнув на портрет, который Гриша пристраивал над кроватью:
– Однокашник?
Колосков как-то неопределенно ответил:
– Он намного старше меня…
– Родственник, что ли? А может быть, отец в фронтовые годы?
– Нет, не отец.
На этом разговор оборвался. Лейтенант Семушкин расспрашивать не стал, почувствовал: тема для Колоскова неприятна.
Так до некоторых пор в полку никто не знал и даже не подозревал, какая удивительная история связана с этим снимком, а вернее, с лейтенантом, что изображен на нем.
Раскрылась она неожиданно. Все началось с посещения офицерской гостиницы командиром полка полковником Теремовым. Он бывал в общежитии и прежде. Взял себе за правило – раз в месяц заглядывать к молодым, узнавать, как живут, в чем нуждаются. Обходил комнату за комнатой, журил за беспорядок, если это требовалось, хвалил, когда примечал чистоту и опрятность, советовал, как лучше расставить нехитрую казенную мебель, чтобы в комнате было уютнее. Иногда останавливался у книжной полки, просил разрешения посмотреть, что читает, чем интересуется хозяин. Вообще Теремов был очень тактичный командир. Он никогда не кричал, не ругался, не выговаривал повышенным тоном. Наоборот, отчитывая кого-нибудь за провинность, понижал голос, отчего тон его становился таким холодным и колючим, что продирал виновника, будто рашпилем.
Несмотря на справедливость и заботливость полковника, никто из офицеров не называл его, как принято в обиходе, «батей». Видно, не дотягивал он в чем-то до этого. Теремов был строг и неразговорчив, не терпел беспорядка. Когда дело касалось службы, воспринимал каждый проступок как личную обиду и спуску не давал. Служба для полковника была делом и личным и общественным, и домом и работой. Жил он одиноко, без семьи, в полку дневал и ночевал. Подчиненные побаивались его. Офицерские жены перебирали разные варианты, которыми можно было бы объяснить одиночество полковника: неудачная любовь в молодости; гибель жены во время войны; наконец, измена. Однако это только предположения. Сам Теремов был молчалив, а если и говорил, то личной жизни вообще не касался.
Однако какое-то трагическое событие в жизни командира полка все же произошло. Достаточно было взглянуть на этого человека, чтобы появилась подобная мысль, – голова его была увенчана густой волнистой шевелюрой белого цвета. Это была не старческая седина, которая, зарождаясь отдельными серебристыми нитями, постепенно отодвигает темноту от висков, а потом растекается по всей голове. Теремов был облит серебром. Такая седина приходит не с годами, а вспыхивает неожиданно, под ударом тяжкого горя или большого потрясения. Носил Теремов свою седую голову гордо. Беда, видно, не сломила его. Был он высокого роста, худощав, всегда наглажен и подтянут. Серые глаза встречали каждого внимательно и пытливо.
Мало кто в полку знал об одной слабости полковника: снисходительнее и мягче относился он к молодым офицерам. Был строг с ними, однако, разбирая их провинности – недалеко ведь ушли от юности, – полковник не проявлял свойственной ему суровости, где-то в глубине глаз, на краешках губ светился отблеск улыбки, тайной любви и нежности к молодым людям. Было в этом что-то отечески трогательное и теплое, и, если бы полковник очень старательно не прятал свое чувство, он наверняка стал бы всеобщим любимцем.
Но, видно, он боялся, как бы молодые офицеры не уловили эту любовь и не пользовались бы ею себе во вред, поэтому и говорил с ними строго, с напускной холодностью.
В тот день, как обычно, командир приехал к молодым офицерам после обеда – время, когда все находились дома и не успели еще разбрестись по своим делам.
Теремов переходит из комнаты в комнату. Обнаружив на одном из подоконников сапожную щетку и баночку с кремом, заметил:
– Раньше было принято украшать окна цветами. Теперь это почему-то считается мещанством. Может быть, подобным натюрмортом вы хотели подчеркнуть, что здесь живут строевые офицеры?
Лейтенанты сдержанно улыбнулись. А владелец щетки бросил ее за одежный шкаф.
– Там – тоже не место, – сказал полковник.
Он достал блокнотик и что-то записал. Офицерам пояснил:
– Надо, чтобы у входа поставили тумбочку – одну на всех, держите, пожалуйста, сапожные принадлежности в ней. Нехорошо, когда в комнате пахнет гуталином.
В том, что тумбочка будет поставлена завтра, можно было не сомневаться. Слова Теремова расценивались как приказ, и не выполнить его никто не посмел бы.
Зайдя в комнату Колоскова и Семушкина, полковник постоял минуту и хотел выйти: у них было прибрано и чисто. Как вдруг взгляд его упал на портрет, прикрепленный над кроватью Колоскова. Теремов присмотрелся. Медленно, словно притягиваемый изображением, подходил ближе. Остановился, продолжая смотреть. Вдруг побледнел: лицо его стало таким же белым, как и волосы.
– Кто это? Чей портрет, товарищи?
Колосков приблизился, стараясь ступать осторожно, он был озадачен взволнованным тоном полковника.
– Портрет мой, – сказал Колосков и тут же сбивчиво пояснил, – собственно, портрет, конечно, не мой. Он только принадлежит мне. Я его привез из дома…
– А кто на нем изображен? – спросил нетерпеливо Теремов.
– Это командир моего отца. Он погиб на фронте…
Полковник еще некоторое время смотрел на карточку. Волнение его заметно ослабевало, лицо обретало обычный цвет. Потом тихо сказал:
– Все правильно… он погиб.
Командир медленно повернулся и вышел из комнаты. Пораженные случившимся, лейтенанты расселись: кто на кровати, кто на стульях, а кому не хватало места, – на стол и подоконник. Один из офицеров спросил:
– Что за загадочная история? Давай рассказывай.
Колосков начал медленно, как бы вспоминая по ходу рассказа:
– Фотографию эту я помню с детства, она висела у нас в доме на стене, там, где были карточки родственников и близких. Отец мой работает шофером. На фронте был механиком-водителем. Тридцатьчетверку водил. Вот он и привез с фронта портрет лейтенанта. Фамилии его не помнил, потому что был в подчинении всего один день. Но снимок берег и считал себя виноватым перед этим человеком.
Отец, когда выпьет, очень терзается своей виной. В другие дни фотографии не замечает, будто ее и нет. А как «заложит», в праздник или с друзьями, так непременно вспомнит лейтенанта и начнет подробно рассказывать о нем. Много раз я слышал эту историю.
…Танковую роту, в которой служил мой отец, однажды придали роте автоматчиков. Автоматчиками командовал этот самый лейтенант. Было это где-то под Смоленском в 1943 году. Роты получили задачу: перерезать большак и не дать возможности противнику отойти. Тогда постепенно с тяжелыми боями вытесняли фашистов на запад.
Сели автоматчики на танки, и ударил подвижной отряд в указанном направлении. Пробились через передовые части. Выскочили на шоссе. Разогнали гитлеровцев с дороги, прервали на ней движение. Командир танковой роты радовался: «Дали фрицам прикурить!» А этот лейтенант не радовался. Он вообще был строгий и неразговорчивый, вроде нашего Теремова. «Рано, говорит, победу праздновать, надо еще продержаться до подхода главных сил». Будто предвидел надвигающуюся беду.
Гитлеровцы на том участке, как выяснилось, не только отходили, но были намерены контратаковать, и наши роты оказались между двух огней. Начался бой. Часть фашистов стала прорываться по шоссе к переднему краю, остальные ударили с тыла. Враг превосходил нас по силе во много раз, да и потери были велики. Погибло много и танкистов, и автоматчиков. Пал командир танковой роты. Команду принял этот лейтенант, но и он был ранен.
– Надо бы отходить, товарищ лейтенант, – сказал ему отец.
– Не приучен к этому, – резко ответил тот. – Куда отходить? Да и зачем? Вон сколько здесь врагов, молоти их. Где ты еще так густо цели видел? К тому же у нас приказ – не допустить движения по большаку.
– Так побьют же, – упорствовал мой батя.
– Побьют не сразу. Еще повоюем. А может быть, и не побьют – успеют наши. Повернем сейчас спиной вон к тому болоту, чтоб нас и в хвост и в гриву не долбили, и пусть они попробуют сунуться на дорогу.
Недалеко от шоссе, в какой-то сотне метров, раскинулось огромное болото. Танки попятились к нему, автоматчики, прячась за машины, перебежали к болоту и оттащили туда раненых. Первые же машины немцев, ринувшиеся было по дороге, были разбиты вдребезги, наши ударили по ним сбоку из пушек. Тогда гитлеровцы сосредоточили огонь на небольшом пятачке, занятом остатками отряда.
Некоторое время наши все же держались. Но людей оставалось все меньше и меньше. Положение было безвыходное.
– Загоняйте танки в трясину, – приказал лейтенант. – Не станут они для фашистов трофеями.
Уцелевшие четыре машины двинулись задом в болото. Когда над водой остались одни башни с орудиями, а немцы были уже совсем близко, лейтенант спросил отца:
– Тебя как зовут?
– Сержант Колосков.
– Я имя спрашиваю.
– Дмитрий.
– Так вот, Митя, ты как механик-водитель свою задачу выполнил. Забирай других танкистов, всех, кроме наводчиков орудий, и уводи через болото. Вы еще пригодитесь. А мы здесь повоюем. Возьми вот!
Он подал отцу этот самый снимок и попросил:
– Если когда-нибудь встретишь майора, – он назвал очень простую русскую фамилию, – скажи ему, что я погиб честной смертью. Не встретишь этого майора на войне, останешься жив, найди его в городе… —Лейтенант назвал всем известный город средней полосы России: или Орел, или Воронеж, или Брянск, или Пензу, отец не запомнил. – И, как я погиб, расскажи.
Отцу жутко стало: молодой, здоровый, живой человек говорит о себе как о мертвом.
– Может быть, отойдем вместе, товарищ лейтенант? Вы сделали, что можно!
– Нет, дорогой сержант, меня отходить отучили раз и навсегда. А теперь собирай танкистов – и марш в лес!
С большим трудом пробирались по болоту уцелевшие танкисты. Они попали к своим, когда наши войска уже прошли участок, где сражался подвижной отряд. Бойцы узнали, что остатки роты автоматчиков погибли.
Колосков помолчал. Молчали и офицеры, ожидая конца рассказа.
– Мой отец был на фронте до последнего дня войны. Освобождал Прагу. Со многими людьми сталкивала его и разлучала война, но майора, о котором говорил лейтенант, так нигде и не встретил. Да к тому же фамилию его забыл. Сам не думал остаться живым. Столько пережить довелось. Дважды был ранен, четыре раза горел в танке. Прошел тысячи километров. Сотни фамилий спутались в его голове. Не только фамилию – город по сей день припомнить не может, знает одно: всем известный город в средней полосе России, с очень простым названием – не то Воронеж, не то Пенза, не то Орел, не то Брянск. Поэтому и считает себя виновным перед погибшим лейтенантом. Что-то очень важное для него было в тех словах, которые он должен был передать майору. Когда я поехал в военное училище, отец сказал: «Возьми эту фотографию и прикрепи на видном месте, ты будешь за свою жизнь со многими офицерами встречаться, может быть, кто-нибудь признает его». Четыре года вожу я с собой эту карточку, привык к нему, – Колосков кивнул на портрет лейтенанта, – он вроде члена нашей семьи стал. И вдруг сегодня вот эта история с полковником.
Когда Колосков закончил, офицеры, перебивая друг друга, стали высказывать различные предположения.
– Может быть, Теремов тот самый майор и есть? Не всю же жизнь он полковник, в сорок третьем вполне мог быть майором.
– Нет, наверное, майор этот, он же наш Теремов, чем-нибудь сильно обидел или даже оскорбил лейтенанта, раз он так настойчиво о своей честной смерти хотел сообщить.
– Наш командир крут неимоверно. Тем более во время войны, вполне мог обидеть.
– Нет, братцы, – сказал Колосков, – полковник хоть и строг, но поступить несправедливо не может. Все, что угодно, только не это. Теремов службист, но не самодур. Кого из нас он оскорбил или обидел?
Офицеры молчали.
– Тогда почему он был так взволнован? Я никогда его таким не видел, – заметил кто-то.
– А может быть, он сам и есть вот этот лейтенант? – вдруг воскликнул Семушкин. – Смотрите, они похожи.
Лейтенанты склонились к фотографии, снятой со стены.
– Верно, похожи.
– Особенно глаза. Такие же строгие.
– Да и рот, подбородок, смотрите.
Однако все опроверг опять же Колосков, рассудительно заметив:
– Не может он оказаться нашим Теремовым. В сорок третьем, судя по фотографии, лейтенанту было лет двадцать – двадцать два. Значит, сейчас должно быть лет сорок. А Теремову уже далеко за пятьдесят.
– Наверное, они служили вместе до войны или на фронте…
– Ну и что? Надо бледнеть по этому поводу? – скептически заметил Семушкин. – Вот ты увидишь мою фотографию лет через двадцать, будешь в обморок падать от счастья?
Офицеры засмеялись. Не успели они успокоиться и высказать новые догадки по поводу очень любопытного происшествия, как вдруг распахнулась дверь, и, к всеобщему удивлению, вошел полковник Теремов.
Вошел стремительно. Опять бледный и взволнованный. Волнение отражалось во всем – и в беспокойных, быстро бегающих глазах, и в порывистых жестах, и даже в неровном торопливом дыхании.
Теремов сразу же направился к кровати Колоскова, но, не обнаружив портрета, окинул присутствующих тревожным взглядом. Увидев портрет на столе, он шагнул к столу, взял в руки фотографию и буквально впился в нее глазами.
– Не может быть, – прошептал полковник и тут же почти крикнул: – Не может быть!
Офицеры, не понимая, что он имеет в виду, молчали. Теремов нашел глазами Колоскова:
– В сорок первом не было погон. Значит, он жив?
– Отец всегда говорил о нем как о погибшем, – как-то виновато ответил Колосков.
– Но откуда погоны? Их ввели в сорок третьем, – сказал Теремов.
– Он погиб в сорок третьем, – стал объяснять Колосков. – Бой, о котором говорил отец, произошел под Смоленском, когда фашистов гнали на запад.
Полковник нетерпеливо перебил:
– Невероятно! Как он мог погибнуть в сорок третьем, если в сорок первом… – Теремов не договорил и вновь воскликнул: – Невероятно! Он жив, воюет, а мне ничего не известно…
– Простите, товарищ полковник, может быть, он просто похож на того, о ком вы думаете? – спросил Колосков.
– Похож? – переспросил Теремов. – Да я его из тысячи одинаковых узнаю. Это он. И взгляд. И родинка вот маленькая на щеке. Сомнений быть не может – это Саша!
– А кто он? – осторожно спросил Семушкин.
– Кто? Разве я вам не сказал? Это мой сын Александр… Лейтенант Александр Теремов.
Полковник, уже несколько овладевший собой, обратился к Колоскову:
– Прошу вас, пойдемте ко мне и расскажите, пожалуйста, все, что вы знаете о Саше.
Колосков последовал за командиром.
Полковник слушал очень внимательно. Когда Колосков умолк, Теремов долго сидел, ни о чем не спрашивая, не произнося ни слова. Мыслями он был очень далеко. Лейтенант понимал это, старался не мешать. А в памяти полковника всплывали самые дорогие дни, связанные с сыном, неторопливо проплывали картины его собственной молодости.
Счастье
Николай Петрович Теремов начинал службу в двадцатых годах. Отец погиб на германском фронте. Мать ходила по деревням, работала и просила милостыню – надо было кормить детей. На дороге ее и свалил тиф. Остались двое. Брат Сергей беспризорничал, а потом работал в Вязьме стрелочником. Николай коротал детство в сиротском приюте. Вырос в худого, жилистого, не по годам серьезного парня. После детдома поступил учиться на рабфак – там давали койку в общежитии и питание. В 1922 году пришло время служить в Красной Армии. Вот здесь только и началась у него настоящая жизнь: чистая, сытая, интересная, радостная.
Стала ему армия и отцом, и матерью, и семьей. Прирос Николай сердцем к колючей, ласковой, теплой шинели навсегда. Решил стать командиром. Ничего не видел выше и прекраснее этого звания. Его наставниками были отчаянные рубаки гражданской войны. Их имена связаны с легендарной Каховкой и Волочаевском. Они гнали Юденича, Деникина, Колчака, Врангеля… Совсем еще молодые, но уже вошедшие в историю. Ну взять хотя бы командиров полков и дивизий, с которыми приходилось встречаться в те годы Николаю: Константину Константиновичу Рокоссовскому было двадцать шесть, Ивану Степановичу Коневу – двадцать пять, Родиону Яковлевичу Малиновскому – двадцать четыре.
Службу Николай любил до самозабвения. Казалось, этой любви достаточно, чтобы сделать его счастливым на всю жизнь. Но судьба, суровая к нему в детстве, будто решила вознаградить за былые страдания, послав ему еще одну любовь.
Звали ее Лида. Она училась вместе с Николаем на рабфаке. Стройная и ладная, Лида первой в рабфаковском общежитии надела спортивную форму и вышла играть в волейбол. В те годы такое было в диковинку.
– Ишь, оголилась! – язвили жилички общежития, выглядывая из окон. А через неделю одна за другой сами запрыгали по двору в трусах и полосатых майках.
«Смелая и передовая», – заключил комсорг группы Теремов. То, что у Лиды красивая фигура и удивительные серые глаза, Николай тоже заметил.
Окончив рабфак, Лида поступила в медицинский техникум. Николай в это время уже учился в пехотной школе. Жили в одном городе, а письма писали почти ежедневно. Не хватало коротких часов, получаемых Николаем по увольнительной, не успевали высказать все друг другу.
Лида тоже полюбила Николая еще на рабфаке, и, когда он приходил к ней в техникум начищенный, надушенный, блестящий, ну просто неотразимый в своей военной красе, она загоралась от счастья.
Окончив училище, Николай увез Лиду на край света – в Забайкалье. Жили на железнодорожном разъезде, к тому же еще в землянке. Вокруг каменистая щебенка да ветер. А в молодой семье как поселились с первого дня любовь, радость и душевная теплота, так светили и грели постоянно. В первую весну появился у молодой четы на свет Саша. Лейтенант украсил землянку багульником – другие цветы здесь не росли. Сынишку заворачивали в новые отцовские портянки: с мануфактурой в те годы трудновато было. Счастливый отец, тетешкая мальчика, шутил: «Строевой парень будет, с первых дней портянки надел!» Когда пеленки сушились, мальчика заворачивали в газету. Самая доступная на разъезде газета, которую регулярно привозили железнодорожники, была «Гудок». Однажды это слово отпечаталось на тельце малыша, и Лида и Николай покатывались от смеха, целовали сына в розовые ягодицы и приговаривали: «Гудочек ты наш миленький, давай гуди на все Забайкалье на здоровье».
Служба у Николая Петровича шла хорошо, его поощряли и повышали. После Забайкалья перевели в Среднюю Азию. Тоже места тяжелые: жара, песчаные бури, безводье. Задует, бывало, «афганец» так, что в комнате дышать нечем, накинет Лида байковое одеяло себе и сыну на голову и сидит, часами сказки ему рассказывает. Придет муж с работы, а она вокруг него так и запорхает, так и защебечет – веселая, красивая, родная. А Шурик напяливает отцовскую фуражку, ремни по полу волочит.
– Что, сынок, примеряешь? – спрашивает отец. – Давай, давай, затягивай потуже – привыкай, это твое будущее.
Несмотря на трудности военной жизни, Лида не возражала мужу, тоже хотела, чтобы сын стал военным, потому что была убеждена: командирская профессия самая нужная, самая интересная и благородная. Вон ее Коля – какой орел! А с каким уважением его и ее, как жену командира, всюду встречают. Все знают: военный – самый честный, бескорыстный, справедливый и мужественный человек, он никогда в беде не оставит, в трудную минуту жизни не пожалеет для спасения человека.
Могла ли молодая мать желать сыну лучшего?
И вот настал день, когда Сашу отправили в военное училище. Волновались, ждали вестей. А он, как нарочно, в письмах заладил одно: «Жив, здоров» – и точка. Лидия Максимовна даже всплакнула: «Неужели не понимает, каких вестей мы ждем?» А Николай Петрович, который к тому времени был уже капитаном, успокаивал: «Не тревожься, мать, – сын командирский характер проявляет».
Действительно, порадовал их сын. Без письма и телеграммы вдруг приехал в новенькой курсантской форме. Темно-зеленая гимнастерка плотно облегала его юношеский стан. Малиновые петлицы, скрипучий ремень, начищенные сапоги. Саша был очень похож на молодого Николая Петровича. Лидия Максимовна, увидев его, только ахнула. Отец обошел сына вокруг, одобрительно сказал: «Заправка хорошая, будто в форме родился!»
Пока Саша был в училище, а учился он в Ташкентском имени Ленина, капитан Теремов получил назначение на запад, в Ровно. Тяжело, конечно, матери уезжать так далеко от сына, но Лидия Максимовна приняла и это испытание судьбы покорно. Она считала и себя военной. Даже в разговорах с подругами или в компании друзей говорила: «Когда мы служили с Колей в Забайкалье» или «Когда мы получили назначение в Среднюю Азию…»
Два года, пока учился Саша, были бесконечно длинными, а когда прошли, вдруг оказалось, что они промелькнули почти незаметно.
Александр Теремов окончил училище в мае сорок первого, на несколько месяцев раньше обычного срока. Видно, знали уже в наркомате обороны о надвигающейся грозе. Не случайно всех выпускников Ташкентского училища отправили в западные приграничные округа.
Лейтенант Теремов попал при распределении в дивизию, где служил отец. Узнав об этом, Лидия Максимовна, истосковавшаяся по сыну, бросилась к мужу:
– Попроси Сашу в свой полк.
– Едва ли это целесообразно, – сухо ответил Николай Петрович.
Там, где касалось службы, он был строг. Повышение на должность командира части еще больше обострило в нем чувство ответственности. Причем он не напускал на себя показную суровость, а действительно был человеком рассудительным и требовательным.
Говоря с женой о сыне, майор был убежден: для них обоих, для него, как командира, и для Саши, как молодого лейтенанта, лучше, если они будут работать врозь, не связанные на службе родственными узами. Майор знал, что не допустит никаких поблажек по отношению к сыну, и все же их родство, как песчинка в глазу, будет кое-кому мешать видеть их отношения в правильном свете.
А жена настаивала:
– Почему нецелесообразно? Пусть он у тебя учится, пусть станет таким же, как ты, – настоящим командиром.
– Его и в другом полку воспитают как следует, – пояснил Теремов. – Да он, собственно, и не нуждается в каком-то особом воздействии – парень на правильном пути.
– Я в нем уверена. Мальчик он хороший. Но знаешь, Коля, мать есть мать, и мне, конечно, хочется, чтобы он был поближе. Ведь Саша у нас один. Хочется видеть его почаще. Помочь, пока на ноги встанет. Да и ты, будучи рядом, поддержал бы, подсказал в трудную минуту. И время сейчас беспокойное, ты же лучше меня об этом знаешь.
– Стареешь, мать, – упорствовал Николай Петрович шутливо. Потом серьезно добавил: – Нет, Лида, обращаться к старшим по поводу устройства сына я не буду. Неприлично это, понимаешь?
Лидия Максимовна не обладала прямолинейным командирским характером и, как женщина, рассудила более практично. Она рассмеялась:
– Вот чудак! Кто же тебя просит обращаться к старшим? Это совсем ни к чему. Позвони в штаб дивизии в отделение кадров, они все сами сделают.
Майор с веселым изумлением взглянул на жену: «Ты смотри, какая хитрая! Правильно говорит, если позвонить капитану Клименко, он не откажет». Но жене сказал:
– Это же совсем не в моих правилах, звонки, просьбы, быть кому-то обязанным, нет, уволь, Лидочка, это не по мне. К тому же, если в политотделе узнают или до комдива дойдет, я же от стыда сгорю…
Пока Теремовы спорили насчет устройства сына, в отделении кадров дивизии прибывших выпускников уже распределяли. Капитан Клименко без просьб и звонков решил, что Николаю Петровичу будет приятно назначение сына в его полк, поэтому включил лейтенанта Теремова в список предназначенных для этой части.
Командир дивизии при утверждении расчета обратил внимание на знакомую фамилию:
– Теремов – сын Теремова?
– Так точно, – ответил Клименко.
Генерал минуту подумал:
– Он сам просил к нему направить?
– Нет, он об этом не знает, – поспешил отвести подозрения от уважаемого им командира начальник отделения кадров, – просто мне кажется, так будет лучше для молодого Теремова.
Генерал согласился:
– Вы правы, майор Теремов не из тех, кто будет гладить сына по головке. Пусть идет лейтенант служить к своему батьке, у него есть чему поучиться.
Полк Теремова в те дни находился в летних лагерях. Отец провел сына по передней и тыльной линейке, рассказал, где какие службы и подразделения размещаются. Познакомил с командирами, которые встретились им при обходе лагеря. Показал стрельбище. Сводил на ближние учебные поля.
Стояла прохладная, влажная после весенних дождей пора. Ласковый июнь только набирал тепло. Трава, полевые цветы, молодые листья, ветви на деревьях – все было яркое, налитое упругими соками.
Александр Теремов шел рядом с отцом легкий, гибкий, и чувствовались в нем, как во всей окружающей природе, молодые весенние силы.
Николай Петрович думал, что совместная служба пойдет у них легко и просто. Главное, не выделять его среди других командиров, относиться ровно и требовательно. Но осуществить это оказалось не так просто.
С первого же дня майора неудержимо потянуло на занятия к сыну. «Как он учит красноармейцев? Владеет ли методикой? Может ли правильно показать приемы? Как он вообще выглядит в роли командира?» Мальчик, совсем недавно волочивший по полу ремни отца и до плеч накрывавшийся фуражкой, теперь вдруг лейтенант, два рубиновых «кубаря» в петлицах, а ремни и фуражка сидят, будто в них родился.
Николай Петрович стал чаще, чем делал это прежде, обходить полковой городок. Обнаружив взвод Александра то на строевом плацу, то в спортивном городке, то на штурмовой полосе, останавливался в сторонке, наблюдал.
Саша, не подозревая, что за ним смотрит отец, проводил занятия свободно, уверенно, с удовольствием. Ему все было знакомо и привычно. Правила поведения, обращение с оружием, стрельба, сигналы полкового трубача, спортивные игры, вообще весь уклад воинской жизни был его родной стихией, миром его детства.
Однажды майор Теремов остановился в тополевой аллее. За деревьями на ровной площадке сын проводил строевые занятия. Лейтенант был одет, как и все его красноармейцы, в хлопчатобумажное обмундирование, но все же даже на расстоянии он выделялся какой-то особенной строевой подтянутостью и красотой осанки.
Бойцы, разбившись попарно, отрабатывали повороты в движении и на месте. Александр ходил между парами и помогал им. Вот он задержался около одного низкорослого крепыша и стал заниматься с ним отдельно. Он шагал рядом, зычно подсчитывал:
«Раз-два! Раз-два! Напра-во!» Ноги красноармейца заплетались затейливым кренделем. Он терял равновесие, едва не падал.
Это не злило молодого Теремова. Он смеялся и подбадривал неловкого паренька:
– Так, уже лучше. Только четче! Ну-ка, еще разок!
Красноармеец шагал, старательно стуча ногами. Но на повороте опять потерял равновесие.
– Стой! – скомандовал взводный. – Посмотрите, я покажу, как надо делать. Дайте мне винтовку.
Красноармеец протянул руку с винтовкой. Но лейтенант покачал головой:
– Так не возьму. Как я учил?
Красноармеец смутился, потом быстро отчеканил:
– Боевая, незаряженная, номер двадцать пять шестнадцать, – и тут же бросил винтовку лейтенанту.
Теремов ловко поймал ее и похвалил:
– Молодец. Правильно.
Майор Теремов был приятно удивлен. Откуда известен Саше такой способ передачи оружия из рук в руки? Ни уставом, ни наставлением это перекидывание не предусмотрено. Так учили, когда Теремов-старший сам был красноармейцем. Считалось, что подобное обращение с винтовкой прививает ловкость и свободное владение оружием. Да и номер винтовки помогает запомнить, об осторожности предупреждает: «боевая, незаряженная!» (бывает и заряженная). «Живет традиция, – думал майор, – неписаная, а передается из поколения в поколение. И хорошая традиция. Вот я до сих пор номер своей винтовки помню: сорок четыре одиннадцать».
А лейтенант между тем, взяв оружие, стал показывать повороты. Выполнял он их артистически. Все подчиненные прекратили тренировку и с явным удовольствием смотрели на своего командира. Ну, кажется, чего мудреного – повернуться направо или налево? Майор и сам мог сделать эти повороты образцово. Но, глядя на Сашу, невольно залюбовался.
Александр проделывал приемы как-то особенно легко. «Сын, поэтому все кажется красивым», – пытался оправдаться сам перед собой майор. Но тут же убеждался, что не только ему нравится Александр. Солдаты соседней роты, отдыхавшие в тени деревьев и не видевшие стоявшего неподалеку командира полка, выражали свой восторг одобрительными возгласами:
– Вот это да!
– Ну и дает!
– Мирово!
– Действительно, сын ваш настоящий мастер! – сказал незаметно подошедший батальонный комиссар Гопанюк.
Теремов смутился. Покраснел, будто мальчишка, которого уличили в недостойном поступке. А замполит, желая сгладить неловкость, грустно сказал:
– Завидую вам, товарищ майор, мне судьба не послала такой радости, нет детей. Ваш Александр будет отличным командиром. Побывал я у него на политзанятиях: светлая голова у парня, объясняет доходчиво, умело. Красноармейцы полюбили его.
Сказал бы это кто-нибудь другой, можно было подумать – хочет угодить командиру полка. Но Гопанюк был не из таких. Теремов чаще расходился во мнениях со своим замполитом, чем соглашался с ним.
Домой Александр приходил усталый и возбужденный, подолгу с удовольствием плескался под краном.
«Взрослый, совсем взрослый мужчина», – с грустной радостью думала, глядя на него, Лидия Максимовна и шутливо спрашивала:
– Ну, как дела, полководец?
Александр ел с аппетитом. По-военному быстро. За столом не засиживался. О своих делах подробно рассказывал только матери.
– Знаешь, мама, все ребята у меня хорошие. Только один лентяй – Антон Косогоров. На мельнице до армии работал. Мешки таскал. Около муки сытно жилось. Холку наел, здоровый, как бык, а мыслить не научился. Трудиться не хочет. У него даже мозги ленивые. «Когда надо, говорит, мы себя покажем!» – «Что же ты покажешь, – спрашиваю его, – если сейчас не научишься?» – «А я, говорит, любому врагу шею сверну без науки». И свернет! Такой здоровенный. Вот и получается у меня загвоздка. Мы учим людей для боя. А ему для боя уже сейчас ничего не нужно. Он готов… Не люблю этого человека. Мешает работать. Но подожди, я ему докажу, что он лодырь и хвастун. Не знаю еще как, но докажу.
– Ты только не горячись, – советовала мать, – с людьми надо очень осторожно обращаться. Тут каждая ошибка – боль, обида, плохое настроение.
– Я понимаю. Поэтому и говорю, не сегодня, не сразу, но уличу этого лентяя. Работать я его все равно заставлю, даже сейчас. Но мне хочется разоружить его морально, понимаешь? Лишить его этой напускной самоуверенности, доказать, что она вредна. Сила в нем действительно есть, но она не разработана. Она спит, понимаешь? Надо раскачать его. Когда это произойдет, он мировой парень будет.
– Ну-ну, докажи… Да ты не торопись, глотаешь не прожевывая. Забудь о работе, пока дома.
Александр смеялся:
– Не могу, мама, старшина так приучил. Ух, гроза был! «Я, говорит, товарищи курсанты, на всю жизнь вам темп, инерцию вырабатываю. Радость службы не в котлетах, а в пунктуальности и точности. Поэтому, не управился с едой в положенное время, сам виноват! Встать! И шагом – марш!» Так что, мама, у меня темп жизни такой…
Тревога
На рассвете в квартире Теремовых длинно и тревожно зазвонил телефон. Раньше домой командиру полка так никогда не звонили. Проснулись все сразу – и Николай Петрович, и Лидия Максимовна, и Саша.
Майор поднял трубку, хриплым со сна голосом сказал:
– Слушаю.
Александр прибежал из своей комнаты на необычный звонок. Он остановился у распахнутой двери. В комнате стоял предутренний сумрак, но Александр увидел, как изменилось лицо отца.
– Вы ничего не напутали? – строго спросил Николай Петрович и тут же добавил: – Немедленно дайте сигнал тревоги.
Сыну коротко бросил:
– Одевайся!
Лидия Максимовна бегала по квартире, помогая мужчинам собраться. В помощи этой не было необходимости – два «тревожных» чемодана в «боевой готовности» постоянно стояли в передней.
Последние недели были беспокойными. С границы приходили настораживающие сообщения: то группы немецких офицеров появлялись у пограничной реки, то слышался рокот множества танков по ночам, то фашистские самолеты залетали на нашу сторону. Об этом все знали. Военные, да и не только они, понимали, что это значит.
В семье Теремовых хорошо знали, о чем можно говорить и о чем нельзя. Поэтому Лидия Максимовна не спрашивала мужа о тревожных слухах. Ждала, пока он скажет сам, если сочтет нужным. Но как только ударил этот необычный ночной звонок, Лидия Максимовна сразу все поняла. В голове закружилась, затрепетала, больно забилась, словно птица, угодившая в сеть, одна-единственная мысль: «Неужели началось? Неужели война?»
Она не решилась задать мужу страшный вопрос. А он молчал. Только у двери, когда Николай Петрович уже вышел на крыльцо, спросила:
– Коля, а мне что делать?
– Оставайся здесь. Поговори с женами командиров, успокой детей. Я думаю, это ненадолго.
По лагерю, в густом еще между деревьев сумраке, мелькали темные фигуры бегущих красноармейцев. За высокими кустами недалеко от жилых домов, там, где размещались склады, стучали деревянные повозки, тукали копыта лошадей, кто-то сдавленно кричал:
– Но-о, прими назад! Прими, говорю, не проснулся, черт лохмоногий!
Не сказав друг другу ни слова, отец и сын побежали каждый на свое место: майор – к штабу, Александр – в роту.
Через час полк выступил в сторону границы. До нее было недалеко – километров сорок. Утро выдалось солнечное, яркое, радостное. Просто не верилось, что началась война. Лишь вдали был слышен гул артиллерийской стрельбы. На большой высоте пролетели черные самолеты с незнакомыми силуэтами. Кто-то весело крикнул «Воздух!», но колонны даже не рассыпались, всем было ясно, самолеты идут куда-то дальше. Полк продолжал шагать длинной тысяченогой гусеницей, поднимая не очень густую пыль с плотно укатанного проселка. Лица у бойцов веселые, задорные:
– Сейчас мы им покажем!
Приказ был короткий и ясный: выбить врага, вторгшегося на советскую землю, дойти до пограничной реки и остановиться.
Всем хотелось поскорее выполнить этот приказ.
У выхода из полкового городка стояли женщины и дети. Женщины успели надеть нарядные платья, наспех причесались – соблюдали традицию. Когда полк уходил на учения или возвращался с высокой оценкой, было принято семьями выходить к воротам, в лучших платьях, с цветами. Хоть и мало было времени, хоть и тревожно было на душе, все же решили и сегодня провожать полк, как всегда.
Александр крикнул матери:
– Не волнуйся, к вечеру будем дома!
Ему энергично замахали мальчишки и девчонки, а некоторые женщины почему-то заплакали. «Молодой ты мой петушок, – с трудом сдерживая слезы, подумала Лидия Максимовна. – Где уж там к вечеру. Хорошо, если через неделю вернетесь. А ты, со своей горячностью, как бы там навсегда не остался…»
Александр шагал торопливо, на душе у него было тревожно-торжественно. Он был уверен, что сегодня обязательно отличится в бою, все узнают о его храбрости. Ему хотелось только одного – чтобы это произошло побыстрее.
Однако на первых километрах марша случилось непонятное. На полк вдруг один за другим стали пикировать самолеты. Бомбы завыли так, словно небо рушилось на землю. Вой этот был настолько незнакомый и страшный, что сердце замирало и останавливалось. Земля дрожала от мощных взрывов. Черные всплески вскидывались выше деревьев.
Закричали раненые. Выворачивая дышла, давя людей, помчались обезумевшие от страха лошади.
А над всем этим в выси сияло яркое праздничное солнце. Александр увидел это солнце потому, что лег на спину. Так полагалось при налете авиации: удобнее стрелять вверх. Он взял винтовку у одного из своих красноармейцев и стал искать глазами цель. Но самолеты валились на полк прямо из солнца. Стрелять было невозможно. Солнце слепило, и слезы застилали глаза. А пикировщики все падали и падали из огненного диска. Казалось, что их сотни.
Когда бомбежка прекратилась и Александр немного пришел в себя, только тогда он почувствовал страх. Ни взрывы, ни свист бомб, ни окровавленные люди, ни тела убитых его не испугали. Страшно стало оттого, что понял: враг совсем не такой, каким он его представлял! Это умные и умелые вояки. Как они ловко использовали солнце! Летая по кругу, немецкие летчики девяткой создавали видимость многочисленности. Пикируя со стороны солнца, они лишали возможности стрелять прицельно. Да, нелегко, очень нелегко будет воевать.
Словно подтверждая эти невеселые мысли лейтенанта, сразу после бомбежки, когда еще не успели собрать рассеявшиеся по полю и кустам колонны, начался артиллерийский обстрел. Немецкие орудия били точно по дороге, значит, артиллеристы уже видели их колонну. А где находятся они сами, Александр определить не мог. С тыла, оттуда, где считается самое спокойное место на войне, – из обоза, вдруг донесся рокот моторов, и пролетело из уст в уста короткое и грозное слово: «Танки!»
Александр растерялся. Он не видел еще ни одного живого фашиста, а полка, как ему казалось, уже не существовало. Было обидно до слез, что со всех сторон лупят, но не на ком показать, что и они тоже умеют драться.
Наверное поэтому, когда на дороге показались мотоциклисты в касках и зеленых мундирах, Александр очень обрадовался. Он вскочил, выхватил из кобуры пистолет и радостно закричал:
– Вот они! Бейте их, товарищи! За Родину! Ура!
Лейтенант кинулся вперед, и со всех сторон поднялись с земли и побежали за ним красноармейцы. Мотоциклисты остановились и начали из пулеметов бить по атакующим.
Александр не слышал рокота пулеметов, он только видел зеленых, приникших к оружию врагов, которых надо было бить. И он бежал изо всех сил, даже забыв, что нужно стрелять из пистолета. Просто чудо, что его не убили. Он добежал до крайнего мотоцикла и что есть мочи ударил фашиста между вытаращенных от ужаса глаз. Немец упал. Александр, не выстрелив в него, побежал дальше. Он был уверен – фашист мертвый. Раз он его ударил с такой силой, значит, убил. Но вдруг сзади хлестнула автоматная очередь. Пули щелкнули по стоящему рядом мотоциклу. Красноармеец, бежавший слева, опрокинулся на спину. Оглянувшись, Александр с изумлением увидел: стрелял немец, которого он только что ударил! Стрелял! Тут только лейтенант опомнился: два года учился, получал отличные оценки на стрельбищах и в тирах, а в первом бою забыл, что надо стрелять! Теремов вскинул пистолет, поймал на мушку ненавистное лицо со знакомыми уже голубыми глазами и выстрелил. Гитлеровец выронил автомат и повалился набок.
После этого лейтенант стал действовать более осмысленно. Он быстро огляделся и обнаружил вокруг множество мечущихся в общей свалке зеленых мундиров. В ушах его вдруг отчетливо прозвучал голос училищного командира взвода: «Не дергай курок, спускай плавно!» И Александр давил на курок плавно. После каждого нажима зеленая фигура гитлеровца вздрагивала и падала. Все происходило как во сне, лейтенант даже не слышал звука своих выстрелов, только отдача била в руку. Вокруг стоял неимоверный гвалт рукопашной, трещали короткие очереди, хлопали одиночные выстрелы винтовок, рвались гранаты, истошно вскрикивали напоровшиеся на штык, рычали и матерились еще живые…
После первого боя роты собрались у дороги. Вынесли на обочину убитых и раненых. Двинулись, как было приказано, к пограничной реке. Но через несколько минут снова началась бомбежка. В тылу действительно оказались танки. А по шоссе навстречу неслась механизированная колонна немцев. Полк сошел с дороги. Залег. Стал окапываться. А к вечеру, так и не дойдя до пограничной реки, откатился в лес, где еще вчера стоял лагерем.
Семьи командиров отправляли в тыл под пулеметным обстрелом. Женщины, у которых не было маленьких детей, оставались в полку медсестрами и санитарками.
Надела военную форму и Лидия Максимовна. Ей некуда было уезжать. Все самое дорогое для нее было здесь, в полку: и муж, и единственный сын.
Когда стали отходить под нажимом врага, Александр испугался за отца. Может быть, только его полк так позорно отступает? Может быть, другие уже давно выбили врага с советской территории и только на этом участке произошла такая неприятность? Не хотелось в это верить. Александр и сам, и по отзывам других знал, что отца очень высоко ценят как командира. Но тогда почему не выполнили приказ? Почему отошли?
Позже, когда узнал общую обстановку, беспокойство насчет своего полка улеглось. Началась большая война, отступает на восток весь фронт. Только одного не мог понять лейтенант – почему отступает?
Он был приучен к мысли, что Красная Армия не отступает. Из газет и сообщений по радио о боях на озере Хасан, на Халхин-Голе, в войне с белофиннами он знал одно: победа всюду бывает за нами. И вдруг такой неожиданный отход!
Лейтенант утешал себя: неудачи временные, скоро все изменится, и мы фашистов разобьем вдребезги.
Однако отступление продолжалось неделю, месяц и другой. Измотавшись в непрерывных боях, усталый, а иногда и голодный, Саша недоумевал: «Как это могло произойти? Говорили: ни одного вершка своей земли не отдадим, будем бить врага на его территории, воевать малой кровью… и вдруг все наоборот: и крови много, и враг нас бьет, и отступаем по своей земле…»
Трудно было Александру понять происходящее. В те дни мало кому было известно, какие огромные силы врага обрушились на страну. По молодости и горячности лейтенант ожидал быстрого и решительного отпора фашистам, ему никак не хотелось мириться с затянувшимся отступлением. Несмотря на усталость, он готов был повернуться лицом к врагу и броситься на него, бить, крушить, гнать до границы и дальше. Лейтенанту казалось – нужна только общая команда, чтобы все сразу, одновременно повернулись и ринулись на врага. Но такой команды почему-то не подавали. В том, что она вот-вот последует, Александр ни на минуту не сомневался.
А пока он ненавидел себя и всех окружающих за то, что они пятились. Говорил со всеми зло, раздраженно. Особенно невзлюбил он Антона Косогорова. Этот здоровенный детина вроде бы олицетворял происходящее. Хвастался: «Когда надо, себя покажем!» А теперь вот ни силы, ни удали нет.
Однажды под жарким обстрелом Косогоров, уткнувшись лицом в землю, царапал ногтями траву, пытаясь сделать хоть небольшую лунку, чтобы спрятать в нее голову.
Александру было противно смотреть на животный страх большого и сильного человека. Забыв об опасности, он подошел к Косогорову, пнул его в широкий зад и свирепо сказал:
– Лопатка для чего дана? Чего скребешься, как жук в г…? Окапывайся!
Косогоров поднял лицо. Глаза у него от ужаса были белые. Увидев стоящего перед собой командира. Косогоров опомнился. Вытащил из чехла лопатку и торопливо, не приподнимаясь над землей, заковырял перед носом.
– Когда надо, себя покажем! – презрительно передразнил Александр и вернулся на свое место.
Лидия Максимовна, чтобы находиться поближе к сыну, попросилась в батальонный медицинский пункт. Когда позволяла обстановка, приходила в Сашину роту. От раненых, а иногда по телефону узнавала о сыне: жив ли?
Бывала она и в штабе у Николая Петровича. Рассказывала ему все, что было известно о Саше.
Александр виделся с отцом редко. А поговорить довелось всего несколько раз. Первое, о чем он спросил, было:
– Почему отступаем?
Теремов коротко объяснил:
– Мы первый эшелон. Пока идет мобилизация и развертывание сил в глубине, мы должны принять удар на себя.
– Это мне ясно, – нетерпеливо сказал Александр, – не понимаю, почему отходим?
– Лучше гнуться и распрямляться, как стальной клинок, оставаясь все же целым, чем уподобиться неподвижной стене, которую пробьют или раздолбают на месте. Гибкая оборона, Саша, хоть и неприятна, хоть и похожа со стороны на бегство, все же – самый целесообразный вид боя в создавшейся обстановке. Крепись, лейтенант, – улыбнувшись, сказал отец, – будем и дальше отходить, до поры до времени.
И они отходили. Не раз попадали в окружение и вырывались из него. Отбивали атаки и контратаковали сами. И все это время ждали, когда же, наконец, прекратится отход. Когда прозвучит команда «Стой!» и, опрокинув врага, все двинутся в обратном направлении, к своей границе.
Ни шагу назад!
Этот день настал. Из Москвы пришел приказ. В памяти военных он сохранился не по номеру и перечню пунктов, а по смыслу: «Ни шагу назад!» Приказ подводил итоги первых боев, объяснял причины неудач. И главное, утверждал: отступление кончилось. Теперь каждый шаг назад подобен гибели. И чтобы осуществить задачу, командирам давались в высшей степени неограниченные права – трусов, паникеров и не подчиняющихся приказу расстреливать на месте, без суда и следствия.
Получив этот приказ, майор Теремов выбрал подходящее время и собрал всех командиров и политработников на совещание. Всех – от взводных до своих заместителей.
Собрались на лесной поляне, исхудавшие и почерневшие до неузнаваемости. Не так давно, в мирные дни, все они были щеголеватые, начищенные, в отутюженной форме. Встречаясь с командирами в бою поодиночке, Теремов как-то не обращал внимания на их внешность, а когда сошлись вместе, суровый, усталый вид сразу бросился в глаза.
«Ну ничего, беды позади, приказ пришел, теперь все изменится», – подумал майор и с легким сердцем стал громко и торжественно читать приказ. А когда закончил, добавил от себя:
– Ну вот, товарищи, все вы думали, когда прекратится отход. Этот день настал. Я не буду вам долго разъяснять требования приказа, вы сами все слышали и поняли. Предупреждаю: приказ Родины будет выполнен. Тот, кто смалодушничает, – пусть пеняет на себя.
Командиры оживленно заговорили, лица их повеселели, тени усталости под глазами стали мягче.
После командира полка говорил его замполит, батальонный комиссар Гопанюк. Небольшого роста, всегда чистый и аккуратный, он и перед этим совещанием успел побриться и смахнуть пыль с порыжевшего обмундирования. Гопанюк призвал всех и особенно коммунистов проникнуться смыслом приказа и довести его до сердца каждого красноармейца.
Собрания были проведены во всех подразделениях. Клич Родины «Ни шагу назад!» услышал каждый боец.
Лейтенант Теремов тоже рассказал бойцам своего взвода о приказе. Он говорил горячо. Глаза его блестели возбужденно. Оглядывая красноармейцев, Александр видел: они оживились и готовы выполнить строгий приказ Отечества.
Только один человек вызывал сомнение. Он сидел среди других в такой же, как и остальные, выгоревшей шинели. В руках держал такую же, как у других, винтовку. Но Теремов знал: этот боец не такой, как все. В минуту опасности Косогоров теряет самообладание, может подвести весь взвод. Надо бы обратить его внимание на смысл приказа «Ни шагу назад!», но командир пощадил самолюбие бойца. Только пристально посмотрел ему в глаза. Тот, видимо, понял, виновато потупился.
В эти дни полк, отведенный во второй эшелон, готовил к обороне новую позицию. Вели инженерные работы, которые рассчитывали закончить дня через три. Но уже на следующее утро после отхода на новый рубеж полк опять оказался лицом к лицу с врагом.
Этот бой был упорным, как никогда. Пьяные гитлеровцы с засученными рукавами, с вытаращенными от ужаса и хмеля глазами много раз бросались в атаку. Но подразделения стояли твердо на своих местах.
К вечеру немецкие атаки прекратились. Так бывало всегда – ночью враг отдыхал, перегруппировывался, а утром снова бросался в бой.
Наши подразделения тоже пользовались ночной передышкой: подвозили горячую пищу, эвакуировали раненых, пополняли боеприпасы, готовились к новой схватке.
– Ну, сегодня вложили им так, что дня два не полезут, – сказал командир роты, длинный худой капитан Шилов, придя на участок обороны лейтенанта Теремова. – Ваш взвод оставляю на этой высоте для прикрытия фланга…
Капитан был уверен в лейтенанте, знал, что он смелый и стойкий командир, поэтому и ставил его взвод на ответственное место. На всякий случай напомнил:
– Это и фланг полка. До соседа справа – полкилометра. Следите внимательно, чтобы не обошли или не просочились на стыке.
– Не пропустим, – коротко ответил Теремов.
Командир роты вернулся на свой командный пункт. Над полем, где недавно еще гремел бой, стояла непривычная тишина. Даже птиц не было, все улетели подальше от этого страшного места.
Командиры и бойцы знали: так будет до рассвета. Красноармейцы готовили для сна норы в траншеях, ждали горячую кашу. После еды можно будет свободным от дежурства поспать.
Теремов поставил задачу командирам отделений, определил очередность: кто кого сменяет для постоянного наблюдения за противником. Устав за день, он присел отдохнуть на выкопанную в стене траншеи ступеньку.
И в этот момент произошло то, чего никто не ожидал.
Фашисты, нарушив свое правило, атаковали вечером. Они свалились в траншею, будто все время лежали где-то рядом. Никто не заметил, как они подползли. Солнце, опустившееся к горизонту на западе, светило нашим наблюдателям в глаза. Да и внимание бойцов было притуплено: в установившейся тишине, без артиллерийской подготовки никто не ждал гитлеровцев.
Александр успел выстрелить два раза. Пьяные, разъяренные дневной неудачей фашисты спрыгнули в траншею и сцепились в рукопашной с красноармейцами. Теперь нельзя было стрелять без опасения поразить своего. Дрались ножами, прикладами, душили руками. Ударив ближнего немца пистолетом по каске, Александр вдруг увидел: из траншей выпрыгнул Косогоров и бросился бежать.
– Стой! Стой, подлец! – закричал ему вслед Теремов. Но Косогоров мчался не останавливаясь.
Лейтенант рванулся за ним, хотел быстро догнать и вернуть в траншею.
– Стой, стрелять буду! – Лейтенант вскинул пистолет и навел его на бегущего. Косогоров был недалеко. Сразить его не представляло никакой трудности.
Но в своем стремительном беге Антон был такой сильный и красивый, что убить его у лейтенанта просто не хватило решимости. К тому же это был свой. Теремову еще никогда не приходилось стрелять в своего. Он даже ни разу не думал об этом.
В эти короткие секунды Александр нашел оправдание своей слабости: «Я всегда его недолюбливал. И, может, был несправедлив». Но стрелять все-таки надо было, и он пустил пулю выше головы убегающего.
Услыхав свист пули, боец испуганно плюхнулся на землю. Тут его и настиг лейтенант. Он схватил труса за шиворот и, не почувствовав тяжести, одним рывком поставил на ноги. Несколько мгновений Теремов запаленно дышал, с ненавистью глядя на опущенное лицо красноармейца.
– Трус несчастный, – только и сказал Александр. – Быстро назад! – скомандовал он.
Там, откуда они только что прибежали, слышались одиночные выстрелы, крики и взрывы гранат.
– Живее! – крикнул лейтенант и подтолкнул Косогорова пистолетом в спину.
Внезапно впереди все стихло. Шум боя покатился в сторону командного пункта командира роты. Александр не успел сообразить, что это значит, как к нему из кустов выбежали три раненых красноармейца. Один из них сжимал ладонями живот, через пальцы его рук текла густая черная кровь. Другой помогал бежать товарищу, который волочил ногу.
Увидев командира, боец, помогавший раненому, крикнул:
– Немцы заняли нашу траншею…
– Где остальные? – крикнул Теремов.
– Все полегли, – тяжело переводя дыхание, ответил боец.
Оставив Косогорова и раненых, лейтенант побежал вперед. Добежав до кромки кустарника, он увидел темно-зеленые каски, торчащие над его траншеей.
Бой шел на всей позиции роты. Лейтенант решил собрать в кустах остатки взвода и вести их на помощь Шилову. Там, где был командный пункт, слышались стрельба и крики.
Много ли может сделать лейтенант с одним раненым бойцом (двое не могли двигаться) и с одним трусом, который в любую минуту готов снова кинуться наутек? Теремов попытался приблизиться к наблюдательному пункту командира роты, но встретил гитлеровцев. Бегая по кустарнику, Александр вскоре наткнулся на цепь третьего батальона, который раньше стоял во втором эшелоне. Впереди атакующих шел майор Теремов.
«Уж если командир полка пошел в атаку, дела плохи», – подумал Александр и побежал, чтобы быть поближе к отцу.
С большими потерями удалось все же восстановить положение. Правый фланг, откатившийся назад, из-за чего едва-едва удержался весь полк, был выровнен.
После боя стали разбираться, что же, собственно, произошло. Несколько часов назад изучили новый приказ, решили стоять насмерть и вдруг в первом же бою еле удержали позиции.
Майор Теремов был мрачен. Он оглядел тяжелым взглядом присутствующих. Мысленно отметил, кого нет в живых. Подумал: «За такой разгром, даже если бы не было приказа «Ни шагу назад?», виновника нужно привлечь к судебной ответственности. И он ответит! Накажу его своей властью по всей строгости!» И майор задал первый вопрос:
– Что произошло на правом фланге? Командир правофланговой роты?
– Капитан Шилов погиб, – ответил кто-то из командиров.
То, что среди присутствующих не было командира правофлангового батальона, майор Теремов уже заметил: комбаты обычно садились на совещаниях в первом ряду.
– Лейтенант Теремов, – строго сказал командир, – что произошло на правом фланге?
Александр встал. Не чувствуя за собой вины, зная, что бился честно, вместе со всеми, он доложил:
– Немцы атаковали нашу траншею неожиданно. Началась рукопашная… – Он хотел рассказать о трусости Косогорова, но промолчал, решив, что того, чего доброго, могут расстрелять по новому приказу за бегство. Поэтому без долгих объяснений закончил: – Почти весь взвод погиб, нас осталось пятеро.
– Была ли атакована вся рота или только ваш взвод? – спросил майор.
– Сначала только мой взвод. Они зашли с фланга. Потом двинулись дальше.
Чувствуя, как холодеет кровь в жилах, Николай Петрович подумал: «Ты виноват, сын мой!»
Присутствующие командиры отлично понимали все последствия, вытекающие из доклада лейтенанта. Им не нужно было долго и детально расследовать обстоятельства. Люди обстрелянные, они хорошо разбирались в боевых делах с полуслова. И поскольку лейтенант был несомненно виноват в разгроме фланга больше других, он и обязан ответить за случившееся. Все пытливо посматривали на командира полка: провинившийся-то – его сын. Как поступит майор?
Майор Теремов понял и вину сына, и что выражали взгляды командиров. Он сознавал: колебаться нельзя. Оттого, как он сейчас решит, зависит и его честь, и его доброе имя. И все же не ради всего этого, не ради сохранения своей чести и авторитета принимал он роковое решение. «Если не поступить решительно сейчас, то отступление будет продолжаться. Нужно будет прощать кого-то и завтра и послезавтра. Прощу я – простят другие. Все пойдет по-старому, и покатимся мы до Москвы и за Москву. Нет, нет, этого нельзя допустить! Нельзя щадить ни себя, ни тебя, Саша. Приказ «Ни шагу назад!» должен быть выполнен…»
Тяжелая борьба длилась в душе майора всего несколько секунд. Приняв решение, он тем же официальным тоном, что и прежде, задал сыну новый вопрос:
– Как могло случиться, что немцы свалились в вашу траншею неожиданно? У вас было организовано наблюдение?
– Да, наблюдатели были выставлены, но солнце на закате слепило им глаза. И потом немцы раньше не наступали вечером…
– Доложили вы командиру роты о нападении, предупредили его об опасности? – жестко спросил Теремов.
Лейтенант опустил голову, он только теперь все понял. Понял не только то, что ему грозит, но главное, что действительно виновен в случившемся.
– Нет, я не оповестил командира роты, – тихо ответил Александр, – я не успел… У меня не было времени… Пришлось сразу стрелять… – Он вспомнил о Косогорове, но сказать о нем теперь было просто невозможно. Сочтут за трусость, за попытку выставить красноармейца виновником всего.
Лейтенант молчал.
– Значит, именно вы, лейтенант Теремов, подставили под неожиданный удар роту, а за ней батальон и весь полк, – сделал заключение командир.
Лицо его побледнело, на глазах у всех он осунулся. Чувствуя, куда все клонится, батальонный комиссар Гопанюк попытался несколько облегчить вину лейтенанта:
– Наблюдение и у нас, на полковом КП, и у других командиров тоже оказалось не на должном уровне.
– За это с меня и с вас, Андрей Митрофанович, тоже спросят, – сухо бросил Теремов. Понимая, что отступления для него нет и каждая минута оттяжки только усугубит страдания его и сына на глазах у всех, Николай Петрович глотнул нехватившего вдруг воздуха и тихо, но слова ему казались оглушительными, проговорил:
– Командир комендантского взвода, арестуйте лейтенанта Теремова… Он будет расстрелян перед строем полка.
Пошатываясь, майор пошел в сторону. Командиры подразделений поспешили за ним. Они стали уговаривать, чтобы он изменил свой приказ. Минуту назад настороженно ждавшие, вынесет ли майор такой приговор и, если не вынесет, готовые бросить ему в лицо свое презрение, они теперь забегали вперед и просили:
– Товарищ майор, нельзя же так…
– Товарищ майор, отмените!
Майор смотрел на них невидящими сухими глазами и тихо говорил:
– Как же быть с отступлением?
Командир первого батальона, пожилой капитан, недавно, уже во время боев, призванный из запаса, вдруг сорвал фуражку с головы, скомкал ее и крикнул в лицо Теремову:
– Да черт с ним, с отступлением. Все же восстановлено!
Теремов остановился, пристально и благодарно посмотрел в глаза капитана, положил ему руку на плечо, все так же тихо сказал:
– Иначе я поступить не могу. Не имею права. Нельзя иначе. Понимаете?
Майор Теремов ушел в палатку, желая скрыться от всех и наедине с самим собой разобраться в случившемся.
Но в этот день беды для него еще не кончились. Вскоре налетели немецкие пикировщики. Они шли волнами и долго бомбили участок, где так упорно отбивали все атаки гитлеровских наземных войск.
Во время этого налета была убита Лидия Максимовна.
Произошло это так. Командир роты, назначенный командиром батальона взамен погибшего, сразу же, как вернулся из штаба, разыскал Лидию Максимовну и без обиняков, понимая, что каждая секунда дорога, рассказал ей о приговоре, вынесенном ее сыну. Новый командир советовал ей поспешить к мужу и повлиять на него.
Оглушенная невероятным известием, Лидия Максимовна тут же побежала в штаб. Она не слышала ни воя пикировщиков, ни свиста бомб, ни взрывов. Она бежала спасать сына. Здесь и настиг ее осколок. Она упала и осталась лежать на земле, даже после смерти устремленная вперед, туда, где попал в беду ее Саша.
Узнав о гибели жены, Николай Петрович в первое мгновение как-то бесстрастно, будто посторонний, подумал: «Так для нее даже лучше. Не будет терзаться о Саше». И только осознав, о чем говорит ему связной, вдруг понял, кого он потерял. Нет человека, с которым он шел рядом всю жизнь, которого любил и без которого себя на этом свете вообще не представлял, – нет Лиды!.. Нет той, которая подарила ему Сашу! Того самого Сашу, которого он бережно нес в пикейном одеяле из родильного дома, боясь раздавить в своих сильных руках. Того самого Сашку, для которого украсил землянку багульником. Того самого Сашку, который радовал пятерками и типично мальчишечьими проказами в школе. Того самого Сашку, который приехал домой в курсантской форме и буквально ослепил их своей красотой. Того самого Сашку, который шел с ним в боях от границы до этого проклятого леса. Того самого…
Мысли майора прервались. Он опустился на пол, не увидев стула.
Теремов поднял голову, будто сознание у него и не прерывалось. Перед ним стоял батальонный комиссар Гопанюк. Командир смотрел на Гопанюка и не мог понять, почему тот молчит. Теремов спросил:
– Ну, в чем дело? Я слушаю.
– Николай Петрович, – тихо сказал Гопанюк, прежде он никогда не называл командира полка по имени-отчеству, их отношения были сугубо официальными, – Николай Петрович, вы же весь белый…
– Как белый? – не понял Теремов.
Он оглядел свою одежду, думая, что где-то испачкался.
– Не о том я, – все так же тихо продолжал пораженный Гопанюк, – голова у вас побелела.
Батальонный комиссар Гопанюк вместе с командиром привел в порядок подразделение полка после авиационного налета и, как только выкроил свободный час, отправился в комендантский взвод. Комиссар боялся, чтобы в горячке не поторопились привести в исполнение приказ командира полка. Он хотел своей властью сначала задержать, а потом с помощью старших начальников вообще отменить расстрел сына Теремова. Вначале он подумывал о том, что защита сына командира полка может показаться кому-нибудь делом приятельским, семейственным. Но оценив еще раз все происшедшее, твердо убедился: лейтенант не заслужил такой крайней меры, и, окажись на его месте кто-то другой, он, Гопанюк, так же заступился бы и принял все меры, чтобы отменить расстрел.
В тылах полка ни приговоренного, ни конвоира не оказалось. Гопанюк стал их искать. В санитарной части полка комиссар обнаружил раненого солдата, который видел старшину – командира комендантского взвода и лейтенанта Теремова. Солдат, жестикулируя одной рукой – другая представляла собой забинтованную подвешенную на шее культю, – рассказал:
– Я сам видел, товарищ батальонный комиссар, убило их обоих. Начисто убило. Рядом бомба ахнула. Мне тоже от нее осколок по руке врезал. Вот, видите. А они лежали на другой стороне воронки. Я подходил к ним. Думал: помощь нужна. Подошел, а они лежат все порванные на части. Кровища все залила…
Комиссар не очень-то доверял в таких случаях: уж если «кровища залила», да к тому же сам ранен, мог от испуга и напутать.
Придя на место взрыва, комиссар и солдат обнаружили там лишь свежую братскую могилу. На ней не было еще ни надписей, ни списка погребенных.
– Вот здесь и была та самая воронка, в ней и похоронили, видно, – сказал солдат, показывая на холм сырой земли.
Возвратясь в штаб, Гопанюк рассказал обо всем Теремову, тот даже немного оживился, на секунду вроде легче стало. «Все же не по моему приказу и не позорной смертью», – подумал он.
А с лейтенантом в тот день произошло следующее.
Командир комендантского взвода, пожилой украинец старшина-сверхсрочник, взяв под охрану Теремова, вел его лесом. Старшина шел в полной растерянности. Выполнить приказ командира полка он был обязан. Но в то же время он любил своего командира и знал, что смерть сына для него будет непоправимой бедой на всю жизнь. Старшине очень нравился и молодой Теремов: деловитый, напористый, да и просто по-юношески чистый и бесхитростный. Нет, он не мог расстрелять такого человека! Старшина решил побыстрее увести лейтенанта в тылы полка и подержать его там, может, улягутся страсти, и простят. Он боялся только одного, чтобы не возвратили и не заставили расстреливать молодого Теремова перед строем. Поэтому старшина спешил. По правилам он должен был конвоировать арестованного, идя за ним сзади. Но старшина об этом и не думал, он шел впереди Теремова и поторапливал:
– Товарищ лейтенант, ходимте швыдче!
А Теремов, оглушенный случившимся, не торопился. Пытался разобраться, в чем он действительно виноват. Но с какой стороны ни подходил к событию, ничем не мог оправдать себя. «И приказ не выполнил – отступил. И полк подвел. И люди погибли. И отец, рискуя жизнью, сам ходил в атаку со вторым эшелоном, спасая положение. Отец! Как ему трудно было принимать сейчас решение о расстреле. Он будет всю жизнь мучиться, а ведь я действительно заслужил такое наказание. А мать? Перенесет ли она удар?»
Думать обо всем этом было так тяжело, что Александр остановился и спросил старшину:
– Куда мы идем?
– Та куда надо, туды и идемо. Ходимте швыдче!
– Ну, зачем далеко идти? Зачем меня мучить?! Товарищ старшина, расстреляйте меня здесь, пожалуйста. Не могу я больше ждать. Сил нет. Прошу вас.
Добрейший по натуре, старый служака едва не прослезился от таких слов.
– О чем вы просите, товарищ лейтенант?! Та рази ж можно таке просити? Ходимте. Мабудь, ще усе образуется.
Старшина и лейтенант почти добрались до тылов. Они шли просекой, по которой в сторону передовой и в обратном направлении двигались машины, повозки, упряжки с пушками и просто пешие.
В этот момент и началась бомбежка, в которой погибла мать Саши.
Пикировщики еще долго носились над лесом, обнаружив оживленное передвижение наших подразделений. Одной из бомб были тяжело ранены и старшина, и лейтенант. После налета их подобрали санитары чужой, проходившей по дороге части и отправили в госпиталь. В госпитале старшина умер. А Теремова отправили дальше в тыл, на лечение. Пролежал он в постели больше месяца. Выписавшись из госпиталя, Александр просил направить его в свой полк, но в боях части перемещались почти ежедневно на десятки километров вперед, назад, куда-нибудь на фланги, в резерв. За месяц произошло так много перемен, что в тылу никто не мог определенно сказать, где находится полк Теремова, да и существует ли он вообще, мог ведь попасть в окружение или обескровел в боях и переформирован.
Невозможность вернуться в полк ставила Александра в очень затруднительное положение. Сказать здесь, в тылу, что есть приказ его расстрелять и просить исполнения этой кары, было просто глупо! Кругом незнакомые люди, никто не знает, в чем его вина, и вдруг лейтенант просит: расстреляйте меня! Чепуха какая-то! От своих однополчан Александр не скрывался – совесть его была чиста. Думал: разыщу полк по номеру полевой почты, а пока повоюю в другой части, постараюсь отличиться в бою, может быть, орден заслужу. Тогда и свои пощадят, и отец смягчится.
С твердым решением оправдаться в боях Александр лез в самое пекло и вскоре опять был ранен и вновь надолго попал в госпиталь. Отсюда он писал письма на полевую почту отца, но ответа не получил: видно, дивизия была переформирована. Не знал Саша ни о гибели матери, ни о судьбе отца.
На фронт он вернулся только в начале сорок третьего.
В тот день прикрепил он к гимнастерке недавно введенные погоны и, отправляясь на передовую, сфотографировался в Туле. Так и не успев заслужить ни одного ордена, лейтенант Теремов дал эту самую тульскую фотографию танкисту и просил рассказать о своей честной смерти майору с очень простой русской фамилией, которую никак не мог вспомнить Колосков-старший. А искать родных Теремов просил в Вязьме, где жил брат отца.
Войной опаленные
И вот через двадцать лет молоденький лейтенант Колосков, такой же юный, свежий и стройный, каким был когда-то Александр Теремов, рассказал полковнику о последнем бое и гибели его сына.
Они сидели в домашнем кабинете командира. В комнате было много книг. Стопки газет и журналов лежали на столе. Полковник и дома оставался верным себе, поддерживал строгий порядок. Не только в кабинете, но и во всех комнатах, через которые прошел Колосков, было очень чисто. И все же, несмотря на эту прибранность, в квартире чего-то не хватало, семейного уюта, что ли.
Так они и сидели некоторое время молча – полковник Теремов, весь ушедший в свое прошлое, и лейтенант Колосков, смущенный, что мало знал.
Теремов стал задавать вопросы, просил уточнить детали событий. Колосков охотно пересказывал, добавлял подробности, которые были ему известны.
– Повторите, пожалуйста, что он говорил вашему отцу, отдавая портрет? – возвращался полковник к главному.
– Он сказал: передай майору Теремову эту фотографию и скажи, что я погиб честно, за Родину.
Полковник думал. Хмурил брови. Лейтенанту казалось, что он недоволен. Конечно, Теремову хотелось знать все до мелочей, касающихся жизни и гибели сына, однако Колосков располагал только тем, что сам когда-то слышал от отца.
После разговора с Колосковым полковник несколько дней не мог работать. Все валилось из рук. Он был рассеян, чувствовал себя больным. Зная, что будет мучиться до тех пор, пока не выяснит все досконально. Теремов взял полагающийся ему за этот год отпуск и попросил лейтенанта Колоскова поехать с ним в Орел к его отцу.
В поезде полковник почти не разговаривал. В Орел приехали днем. У вокзала взяли такси. Гриша озабоченно думал: «Как бы отец не оказался в дальнем рейсе». Лейтенанту не хотелось проводить еще несколько дней в обществе мрачного, необщительного командира.
Встретила офицеров мать Гриши, полная пожилая женщина. На ее круглом лице так и засияла радость. Голубые глаза наполнились влагой. Быстро вытерев руки о фартук, мать обняла сына и прижала его к груди. Полковник стоял в сторонке, стараясь не мешать встрече.
Потом Гриша представил:
– Познакомься, мама, это мой командир, полковник Теремов Николай Петрович.
Мать неумело подала руку, не привыкла она к официальным знакомствам. Слегка и тоже не очень свободно поклонилась:
– Колоскова Катерина Сергеевна.
Полковник подержал ее пухлую шершавую руку, улыбнулся:
– Очень приятно.
– Папа в отъезде? – спросил Гриша.
– Нет, только вчера вернулся. Дня три отдыхать будет. Да вы заходите, пожалуйста, в дом, чего мы на крыльце стоим. В ногах правды нет.
В комнате было прохладно, пахло недавно вымытыми полами. Несколько старомодная мебель свидетельствовала о том, что родители Гриши люди простые, не располагающие большим достатком, но в то же время весьма аккуратные, любящие порядок. В доме не было ничего лишнего, светло, просторно, все пустые углы сияли желтой половой краской. В первой комнате стоял посередине стол, накрытый полотняной скатертью с бледно-синими цветами, у стены – диван с двумя валиками, у другой стены – комод, на нем телевизор «Рекорд». Над комодом висели многочисленные фотографии родственников… «Вот здесь был и Сашин портрет до ухода Гриши Колоскова в армию», – подумал Теремов, вспоминая рассказ лейтенанта.
Через открытую дверь в следующей комнате виднелись две никелированные кровати и зеркальный шкаф для одежды. По многим мелочам было видно, что живет в доме мастеровой человек, умелец. Пол, несомненно, покрывал сам хозяин: хорошо растер краску, тщательно прошпаклевал щели, поэтому и сияет он, и цвет у него свежего яичного желтка. И столик на кухне, и табуретки, и сундучок – все было свежевыкрашено. Вешалка для одежды в прихожей, новые пороги, хорошо обитые для утепления на зиму двери – все это, видно, сработано своими руками, добротно, как не делают наемные мастера. И с металлом хозяин тоже, наверное, дружен. Проходя двором, полковник приметил верстак с тисками, множество каких-то железных мелочей, аккуратно разложенных на самодельных полках над верстаком.
Узнав, что отец не в поездке, а просто вышел прогуляться, Гриша забеспокоился: как бы он не выпил с дружками. Говорить о столь серьезном и печальном деле с нетрезвым человеком просто оскорбительно.
Мать Гриши уловила беспокойство сына и тоже разволновалась, только ее переживания были совсем по другому поводу. Она думала: «Произошло что-то нехорошее, неспроста к нам пожаловал сам командир». Седой неразговорчивый полковник показался Екатерине Сергеевне сердитым.
Заметив настороженность матери, Гриша достал из бокового кармана знакомую ей фотографию и объяснил:
– Мама, Николай Петрович – отец этого лейтенанта. Он тот самый майор, которого не мог найти папа.
Екатерина Сергеевна всплеснула руками, жалостливо воскликнула:
– Ой!
Ей мгновенно стали понятны и строгость, и седина, и неразговорчивость полковника. Доброе сердце женщины переполнилось состраданием и жалостью.
Как и опасался Гриша, отец пришел навеселе. Увидев в доме сына и гостя, он без долгих церемоний принялся их обнимать. Старый танкист вообще был неравнодушен к военным, не без его внушений и влияния Гриша выбрал профессию офицера.
Щадя сдержанность своего командира, не привыкшего к такому вольному обращению, Гриша поспешил полковнику на выручку:
– Папа, мы приехали по делу.
Отец стал серьезным.
– По делу так по делу. Садитесь. Будем говорить, – сказал он, приглашая к столу, а жене на кухню крикнул: – Катя, давай-ка собери нам закусить!
Полковник с любопытством разглядывал человека, который последним видел его сына. Был Колосков коренастый и уже несколько оплывший. Щеки, подбородок, нос, загорелый и немного облупившийся, полукруги бровей, выгоревших и густо разросшихся, – все было в каких-то круглых очертаниях.
Немолодой уже, видно, наживший немало болезней человек. От такого ждешь степенности, неторопливых движений, немногословного веского разговора. Но Колосков, несколько притихший после делового предупреждения сына, скоро опять стал говорливым и веселым. И не потому, что выпил, – он всегда был таким.
Познакомившись с ним поближе, Теремов понял: старший Колосков на всю жизнь остался отчаянным танкистом, каким был четыре года на войне. Он и сейчас, несмотря на годы и тучность, дай ему танк, перемахнет вброд речку, врежется в колонну противника и разнесет ее в пух и прах, промчится по горящему мосту, а надо – и на таран пойдет, не дрогнув. Оттого, что этот располневший человек был в душе по-прежнему сержантом, полковник проникся к нему уважением и почувствовал себя в родной и близкой военной среде.
– Мне бы хотелось поговорить с вами, товарищ Колосков, на трезвую голову, – сказал спокойно полковник. – Дело такое, что требует светлой памяти, так что не беспокойте Екатерину Сергеевну. Вот если у вас крепкий чай найдется…
Полковник не успел договорить. Екатерина Сергеевна поспешила на кухню, воскликнув на ходу:
– Найдется, конечно, найдется.
Колосков нахмурился из-за того, что военные не хотят с ним выпить и что в его гостеприимной семье все происходит не так, как бы ему хотелось: с ним вроде бы даже не считаются! Сержант уже намеревался было грохнуть ладонью по столу и настоять на своем, как вдруг сын сказал ему такое, что хмель разом вылетел из головы:
– Отец, полковник Теремов – тот самый майор, фамилию которого ты не мог вспомнить…
Колосков от неожиданности даже рот приоткрыл. Он секунду сидел ошеломленный, потом закрыл глаза и, крепко постучав большим коричневым кулаком себе в лоб, несколько раз произнес:
– Теремов! Теремов! Вот она простая русская и такая заковыристая фамилия…
Открыв глаза, Дмитрий Васильевич абсолютно трезво посмотрел на полковника, подтянулся, даже складки на клетчатой ковбойке расправил привычным движением, как это делают все военные.
– Извините меня, товарищ полковник, после рейса, сами понимаете, бывает… Но теперь я в полном порядке. Сейчас еще умоюсь и все вам обскажу и про бой, и про слова, которые меня просил передать вам товарищ лейтенант.
До позднего вечера рассказывал Дмитрий Васильевич. В заключение снова вернулся к непонятной просьбе лейтенанта искать Теремова в городе среднерусской полосы:
– Назвал он мне этот город, а он такой простой, что спутался в голове с другими простыми названиями – Рязань, Воронеж, Брянск или вот наш Орел, – убейте не помню. Да и как искать, если фамилия начисто вылетела из головы.
– Он говорил, наверное, о Вязьме, – подсказал Теремов. – Там брат мой живет. Работает на железной дороге. Я хоть и редко, но все же с ним переписываюсь. Он знает обо всех моих переездах, связанных со службой. Наверное, Саша хотел, чтобы вы нашли меня через него.
– Точно! Теперь припоминаю, он действительно говорил что-то о железной дороге. Ах, да! Адрес, говорит, не запомнишь, да и сам я его не помню, ищи, говорит, по этой же фамилии на железной дороге. А я, сундук, фамилию забыл! Кого искать? Да и в каком городе, тоже точно не знаю.
– Ну, ничего, – успокоил полковник, – теперь я сам нашелся. Может быть, вы вспомните поточнее, какие слова он просил мне передать? Вот еще одна деталь сейчас выяснилась, я имею в виду железную дорогу. Может быть, он как-то иначе сказал или вы что-то забыли?
– Уж тут полный порядок, товарищ полковник, – уверял Колосков, – как сейчас его голос слышу. Передай, говорит, майору Теремову, что я погиб честно, сражаясь за Родину.
– А он не сказал, кто я ему?
– Не сказал. Я только теперь узнал, что вы отец.
Колосков видел, полковнику неприятно, что сын не назвал его отцом, однако кривить душой Дмитрий Васильевич не хотел, говорил так, как было. Да и лейтенант, видно, в свои слова какой-то смысл вкладывал.
Спать легли рано. После того как Гришин отец все рассказал и вопросы у Теремова иссякли, полковник опять стал неразговорчив. Поэтому и легли пораньше, чтобы дать человеку возможность все обдумать как следует наедине.
Теремову постелили в столовой, на диване. Гриша лег на свою кровать. Хоть и далеко теперь он служил и едва ли вернется домой, кровать его не выносили, она стояла на прежнем месте, всегда прибранная. Екатерина Сергеевна, оставаясь дома одна, часто подходила к этой постели, поправляла подушки, вздыхала: когда-то по утрам, убирая ее, она чувствовала в одеялах и подушках сохранившееся после ночи тепло сына. Бранила ласково Гришу:
– Как ты спишь? Кувыркаешься, что ли, ночью? Гляди-ка, все перемесил.
Теперь кровать всегда была чистая, нетронутая и холодная. Утром за завтраком полковник попросил Дмитрия Васильевича:
– Не смогли бы вы уделить мне два дня и съездить к месту боя. До Смоленска недалеко. Мне бы очень хотелось побывать там. Может быть, могилу найдем.
Колосков оживился:
– Как же это я раньше не дотумкал! Давно надо было там побывать. Обязательно поедем, товарищ полковник.
– Вот и отлично. Я готов ехать хоть сейчас. Найдем такси…
– Зачем такси? – перебил Колосков. – Я мигом на автобазу смотаюсь и достану машину. У нас на базе фронтовиков много. Сам директор – бывший подполковник.
Дмитрий Васильевич надел на голову кепку и поспешил к двери:
– Вы ждите, я сейчас.
Вскоре он подъехал на небольшом автобусе, голубой корпус которого был смонтирован на раме полуторки, на боку и над передним стеклом автобуса написано: «Техпомощь».
– Вот «кабриолет», товарищ полковник, – весело сказал Колосков. – Вы, наверное, не привыкли на таких ездить, но ничего, машина надежная. Я как сказал завгару, по какой надобности, так он без звука выделил машину. Он тоже из наших – танкист, у маршала Рыбалко воевал.
Колосков выглядел помолодевшим, видно, чувствовал себя в эти минуты прежним лихим механиком-водителем, которому все под силу и все нипочем.
Доехали до Смоленска. От города двинулись по большаку Смоленск – Духовщина.
Места со времени войны очень изменились. Дмитрий Васильевич едва узнавал их. В те годы рощи стояли иссеченные осколками, стволы многих деревьев были обломлены. Теперь все весело шелестело зеленой листвой, будто никогда и не проносилась здесь война. Земля, изрытая траншеями и воронками, обновилась, поля были покрыты огромными квадратами посевов пшеницы, ржи, картофеля. Траншеи исчезли, только у самой дороги местами оставались их края, да и те обвалились, их затянуло землей почти до верха. Лишь одинокие братские могилы на холмах да на опушках леса свидетельствовали о том, что здесь шли тяжелые бои.
– Надо было нам по маршруту нашего полка ехать, – сказал озабоченно Колосков-старший, – с большака я могу и не узнать то место. Мы тогда ведь не по дороге наступали, а сбоку на нее выскочили и перерезали. С северо-востока двигались. На той стороне насыпи должно быть болото, в которое мы потом отошли.
Они несколько раз останавливались. Колосков спрашивал местных жителей:
– Где тут болото к самому большаку подходит?
– У нас болот много, которое вам надобно? – односложно отвечали жители.
Наконец один старичок понял, что ищут приезжие, сам обрадовался не меньше их, стал торопливо пояснять:
– Точно, есть такое болото! И танки побитые есть. Только это не туточки. Вы по новому большаку едете. А то болото возле старого большака. Дуга была прежде. Верст на десять. А теперича ее распрямили. Так вот, вам по старой дуге надобно ехать. Там и встретите и болото, и танки.
– Неужели и танки еще стоят? – поразился Колосков.
– Не все стоят, – пояснил дед, – утиль их забирал. Огнем резали. Как полоснет струей, будто масло, железо поддавалось.
– Так, значит, нет теперь танков? – допытывался сержант.
– Два или три есть ишо. Дюже глубоко загрязли. Не могли их вытянуть. Так, поди, и стоят. Я уж года два в тех краях не был. Кум прежде там жил недалеко. Ну, а как кум-то помер, стало быть, я туда и не хожу.
Двинулись дальше. Не очень-то поверили старому деду. Мало ли тут танков было подбито. Лет десять их после войны собирали.
Однако опасения Дмитрия Васильевича оказались напрасными. За одним из поворотов, как только машина выскочила на пригорок, не только сержант, а все трое сразу увидели то самое место, которое они ищут. Слева от большака раскинулось болото, и два танка Т-34 стояли в нем недалеко от кромки.
– Танки… наши танки… – изумленно воскликнул Колосков. – Вон тот мой. Правый. Даже цифру одну видно. Семерка, различаете? Наш триста седьмой был. Я эти цифры сам наносил.
Около края болота ходили люди. Колосков направил автобус к ним. Машина запрыгала по кочкам. Затормозив около двух парней, одежда и волосы которых выгорели на солнце, Дмитрий Васильевич выпрыгнул из машины. Поздоровался и спросил:
– Чего вы здесь робите, хлопцы?
– Да вот, болото осушаем. Второй год чикаемся, – неторопливо ответил один из парней.
– А я здесь воевал, – сказал задумчиво Колосков. – Вот мой танк – триста седьмой, видите?
Парни оживились.
– Неужто в нем сидели? – спросил один.
– В этом самом? – подхватил другой.
– Да, я водил эту боевую машину, – подтвердил сержант и спросил: – А почему вы их не вытащите? На металлолом или для памятника. Слыхали, в Праге памятник из нашей тридцатьчетверки сделали.
– Читали.
– Так почему пример не берете?
– В прошлом году только показались, а то целиком в трясине были. Мы и не знали, что в этом болоте танки есть. А как дренажи проложили, вода убывать стала, вот эти и обозначились. Сперва башни высунулись, а потом все целиком вылезли.
Танки стояли затянутые высохшей тиной и водорослями, машины превратились в огромные земляные кочки, только по башням и орудиям можно было узнать, что это танки.
– А вы не проверяли, людей в них нет? Может быть, похоронить надо? – спросил Гриша.
– Проверяли. Те, которые увезли, пустые были. Внутри вода и тина. Один из этих тоже смотрели. А в тот, про который вы говорите, с цифрой семь, забраться не могли – люки изнутри заперты.
Полковник Теремов, молчавший до этого, не сказав ни слова, пошел к танку.
– Не ходите, товарищ, – крикнул ему вслед один парень, – там еще топко.
Однако полковник шагал не останавливаясь. Он вошел в зеленовато-черную жижу почти по колено и, чавкая сапогами, стал пробираться к танку. Дмитрий Васильевич и Гриша разулись, сняли брюки и последовали за ним.
Когда они добрались до танка, Теремов, не обращая внимания на грязь, в которой он был выпачкан, бережно стирал с башни насохший ил и мох.
Втроем они попробовали поднять люк. Не удалось. Дмитрий Васильевич вернулся к автобусу за инструментом. Они долго стучали зубилом и монтировкой, стараясь подцепить и открыть люк башни, надеясь, что задвижки проржавели и сломаются, но ничего не добились.
Вместе с парнями поехали в деревню, разыскали кузницу. Уговорили кузнецов помочь вскрыть машину.
– Мы вам заплатим, – сказал Гриша Колосков, видя, что кузнецы не очень охотно откликаются на просьбу.
Седой здоровяк, похожий на цыгана, поднял одну густую бровь, сердито глянул из-под нее на молодого офицера черным глазом.
– Денег нам не надо, – сказал он сиплым басом, – за такую работу грех деньги брать… Ну, пошли, что ли, – позвал он своих помощников.
Полдня сбивали кузнецы крышку с башни танка, громыхая на всю округу тяжелыми кувалдами. На дороге останавливались машины, подходили любопытствующие.
Когда люк наконец открылся, Колосков заглянул в башню. Шепотом сказал Теремову:
– Здесь он… Так возле пушки и остался.
У Теремова от волнения вздрагивали губы. Все смотрели на него и ждали, что он скажет. Собравшись с силами, полковник сказал негромко, но требовательно:
– Прошу всех отойти, я осмотрю сам.
Николай Петрович осторожно стал опускаться в башню. Он выискивал, куда наступить, удерживаясь на руках, поворачивался вправо, влево. Наконец его белая голова исчезла внутри машины.
Колосковы, кузнецы и два парня, которых первыми встретили у этого места, молча стояли на моторной части танка. Все ждали. Через несколько минут белая голова полковника показалась в отверстии башни. Николай Петрович был бледен, губы его словно мелом обсыпало. Колосковы поспешили к нему. Помогли выбраться. И вовремя: полковник от сильного волнения ослаб. Он некоторое время стоял, пошатываясь. Его поддерживали. Гриша подумал: «Если бы он не был белым, поседел бы в эти минуты».
– Это он, – сказал тихо полковник, протягивая маленький металлический пенал, в котором у фронтовиков хранился личный номер. – Документы совсем истлели, а номер его, – все тем же тихим голосом добавил отец.
– До последнего отстреливался, – сказал сержант.
– Погиб как герой, – подтвердил Дмитрий Васильевич.
– Вынуть его просто так невозможно, – сказал полковник.
– Нужен гроб… и не простой, а цинковый.
– Где же туг взять цинковый? – сказал один из кузнецов. – В Смоленск надо ехать заказывать.
– Поезжайте, Дмитрий Васильевич, – попросил Теремов, – а я останусь. Буду ждать вас здесь. Вот деньги, возьмите. Если будут затруднения, обратитесь к коменданту гарнизона.
– Постой, – остановил старый кузнец Колоскова, уже приготовившегося прыгнуть с танка, – может, мы сами сработаем?
Он посмотрел на своих помощников.
– Цинку нет, – сказал виновато один, – а то, чего же хитрого, сработали б.
– Цинк найдем, – сказал старик. – Послушай, товарищ полковник, ему, наверное, – кузнец кивнул в сторону открытой башни, – ему, наверное, не нужен большой гроб-то. Истлел небось. Возьмем в сельмаге два цинковых корыта. В одно положим, другим закроем. Запаяем. А когда на место привезешь, там все, как полагается, справишь. Как думаешь?
Предложение кузнеца устраняло многие хлопоты и оттяжки во времени. Теремов, благодарный старику за находчивость, согласился.
Старший Колосков с парнями съездил в магазин и привез два сверкающих новых корыта. Отец сам уложил в них останки сына.
Все это время у Гриши и Дмитрия Васильевича тяжелый ком так и подкатывал к горлу. Старший Колосков думал о лейтенанте, которого видел в бою живым и храбрым, а Грише было невыносимо жаль пожилого полковника, которому жизнь принесла такие тяжкие испытания.
Гроб с телом лейтенанта по просьбе Теремова отвезли на этом же автобусе техпомощи в Вязьму. Николай Петрович хотел похоронить сына в городе, где жили родственники, чтобы могила находилась под присмотром.
Однако осуществить это простое и естественное желание оказалось не так-то просто.
На кладбище их встретила молодая, крепконогая, румяная женщина.
– Давайте документы, – не по-кладбищенски громко сказала она.
– Какие документы? – спросил Теремов.
– Справку о смерти. Разрешение на похороны.
– Мы его с поля боя привезли. Кто нам даст справку о смерти, Бог, что ли? – загорячился Дмитрий Васильевич.
– Этого я не знаю, – ответила женщина. – Все где-то берут, и вы представьте.
– Но где берут все? – стараясь быть спокойным, спросил полковник.
– В ЗАГСе, где же еще.
Только к вечеру все уладили через военного коменданта.
Жизнь продолжается
После похорон Гриша доехал с отцом до Орла. Побыл денек дома. Грустный это был день. Будто своего близкого схоронили Колосковы. Утром отец и мать проводили Гришу: ему надо было возвращаться в полк.
Теремов остаток отпуска прожил у брата в Вязьме. Ходил на кладбище. Заказал и установил на Сашиной могиле скромный памятник с надписью: «Лейтенант Теремов А.Н., погиб в 1943 году, защищая Родину».
В день отъезда полковник дольше обычного сидел у могилы.
Прощался.
Николай Петрович не чувствовал раскаяния или вины перед сыном за свое роковое решение. Ему не давало покоя только одно обстоятельство: Саша, передавая портрет Колоскову, называл его майором, а не отцом. Значит, осталась в душе его обида. Мысленно обращаясь к сыну, отец говорил: «Ты тоже командир, и должен меня понять. Я не мог поступить иначе. Не имел права. Мы офицеры, сынок…»
Всю дорогу в поезде Теремов думал о прошлом. Но как только вышел из вагона и увидел вдали полковой городок, сердце забилось нетерпеливо и радостно. Николай Петрович с приятным волнением думал о том, как через несколько часов снова вольется в мощный боевой организм, состоящий из сильных и смелых людей. Снова закружится в напряженном круговороте дел, от которых к вечеру еле держишься на ногах.
В полку все шло обычным, строго установленным порядком. Начальник штаба ждал Теремова с докладом о делах и приказах, поступивших за время его отсутствия. Но полковник слушать его не стал.
– Позже, Виктор Иванович, сейчас пойду посмотрю все сам. – И, чтобы начальник штаба не обиделся, мягко добавил: – Соскучился.
Полковник любил ходить один, как он говорил, без свиты. Поэтому никто не сопровождал его в день приезда.
В классе ракетно-ядерного оружия занималась группа офицеров. Они встали, когда вошел командир. Теремов обвел взглядом стены, увешанные яркими схемами, графиками, формулами.
– Садитесь, пожалуйста, – разрешил Теремов.
Он подошел к двум офицерам, сидевшим за крайним столом. Проверил их расчеты уровней радиации, посмотрел на зоны безопасности, которые те вычерчивали на картах. Расчеты были правильные.
– Продолжайте занятие, – сказал Теремов руководителю и пошел дальше.
В парке боевых машин под навесом стояли приземистые танки. Они, словно бегуны на старте, были выровнены на одной линии; казалось, дай сигнал – тут же ринутся вперед.
Подошел заместитель по технической части подполковник Шаповаленко. Молодой, крепкий, низкорослый зампотех был очень похож на свои танки. Только очки в золоченой оправе не шли к его скуластому лицу. Подполковник доложил:
– Проверяю состояние аккумуляторов.
А Теремов подумал, глядя на его очки: «В академии за книгами испортил зрение».
– Ну и как? – спросил Теремов, имея в виду аккумуляторы.
– Все в норме, товарищ полковник, подзарядка ведется круглосуточно.
За танковым парком раскинулось огромное пространство, занятое множеством колесных машин. Они тоже стояли ровными рядами. Здесь были длиннотелые бронетранспортеры, автомобили различных систем и грузоподъемностей, штабные автобусы, ремонтные летучки и кухни на колесах.
Все это поблескивало чистой зеленой краской, отражая солнце. За оградой Теремову были видны зачехленные ракетные установки. «Что-то у соседей сегодня тихо», – подумал Теремов, глядя на ракеты.
Только после обеда Николай Петрович выслушал доклад начальника штаба. Молодой по годам, но уже седеющий подполковник Вяльцев после хороших дел, о которых ему было приятно докладывать, упомянул и о непристойном поведении лейтенанта Семушкина.
– Звонили из автобусного парка, обижаются: ваши офицеры увели с работы кондукторшу.
Николай Петрович после осмотра техники находился еще под впечатлением всей этой грозной мощи. Узнав, что натворил лейтенант, полковник подумал: «Техника все усложняется, а человек остается прежним. Времени, чтобы научить этого человека владеть новой техникой, тоже не прибавляется. Наверное, поэтому и нет у нас нормального рабочего дня и не хватает суток для учебы».
– Вызовите, пожалуйста, ко мне лейтенанта Семушкина, – сказал командир Вяльцеву.
– Когда?
– Сейчас.
– Может быть, отдохнете с дороги?.. Уже вечер.
– После отдыха отдыхать? – спросил Теремов.
Когда Семушкин вошел в кабинет, Николай Петрович опять почему-то вспомнил строгие ряды танков, зенитных установок и орудий, которые обошел днем. «Вот этот молодой красивый лейтенант знает всю технику, может заставить ее истреблять противника. Но этот же паренек способен поступить легкомысленно. И уже «отличился». Хоть и сетует иногда молодежь на стариков, что бы без нас делали? Говорят, техника без знаний мертва. А я бы добавил: и старики ветераны нужны не менее, чем техника».
– Рассказывайте, – коротко приказал командир.
Лейтенант помялся, затем смущенно заговорил:
– Ничего особенного, товарищ полковник. Раздули все. Познакомился я с девушкой. Пригласил в кино. Она пошла. Сама пошла, никто ее не принуждал.
Теремову были известны все детали этого происшествия. Выслушав рассказ Семушкина, он понял: лейтенанту не очень стыдно за свой поступок, он не понимает последствий, которые вытекают из его действий, поэтому и преподносит все так упрощенно. В общем, как все юноши, не смотрит далеко вперед. Придется проучить. И, чтобы лучше запомнилось, даже «снять стружку».
– Из ваших слов, товарищ Семушкин, я могу сделать нелестный для вас вывод. Поэтому доложите еще раз. Учтите: меня уже информировали об этом деле.
– Мы ехали в автобусе: я и еще двое лейтенантов из нашего полка. В машине встретили девушку. Ну, я пригласил ее в кино. Она пошла… – Семушкин опять замялся.
– Не хватает мужества? – спросил командир. – Ладно, я помогу вам разобраться. Вы отлично понимаете – нет ничего предосудительного в том, что молодой человек пригласил девушку в кино. Однако девушка была кондуктором автобуса. Находилась на работе. А вы, как павлин, распустив хвост, красовались перед ней. Как же, победил! Показал свою неотразимость!
Николай Петрович сделал паузу, предоставляя возможность Семушкину сказать что-либо в свое оправдание. Но лейтенант молчал. Он стоял, высокий, красивый, опустив глаза в пол.
– Может быть, вам очень повезло: встретилась женщина, которая по-настоящему вас полюбила. Она забыла, что находится на работе, бросила свой пост. А вы разыграли водевильчик…
– Этого не было, – буркнул Семушкин. – Мы ее не обижали.
– Не обижали! А увести с работы, это как, по-вашему, называется? – строго спросил Теремов. – Я не знаком еще с этой девушкой, но обязательно повидаюсь с ней. Извинюсь за офицеров нашего полка. Я уверен, она хороший человек. Не знаю ее других качеств, но в искренности ей не откажешь.
– Не нужно, товарищ полковник, извиняться. Я сам это сделаю, – тихо сказал лейтенант. – Я не хотел ее обижать, правду вам говорю. Не подумал в тот момент. Теперь сам вижу, поступил… – лейтенант подыскивал слово и наконец вымолвил, – поступил низко, недостойно.
«Ну, кажется, дошло, – подумал Теремов. – Надо все же и поддержать его, повернуть, как говорится, носом в сторону перспективы».
– Ну, ладно. Я верю вам. Всегда считал вас порядочным человеком и хорошим офицером. Надеюсь сохранить о вас такое мнение и в будущем. Можете идти.
В гостинице лейтенант Семушкин вытирал взмокшие лоб и шею.
– Пробежку перед сном делал? – спросил его сосед Гриша Колосков, отрываясь от книги.
– Пропарку, – невесело поправил его Семушкин.
– В парную ходил? Говорят, периодически полезно париться. Весь шлак с тела счищает, – сказал Гриша, не подозревая, что имеет в виду сосед.
– Уж это точно, – сказал, вздохнув, Семушкин, – шлак сдирает хорошо.
Лейтенант Колосков даже не подозревал, что этот разговор имеет какое-то отношение к Теремову. А если бы узнал, то обязательно расспросил подробно. Теперь все, что касалось полковника, было Грише интересно и важно. За неделю, которую Колосков провел вместе с Теремовым, после всего пережитого с ним, Николай Петрович стал близким ему человеком. Лейтенант Колосков и прежде относился к полковнику с большим уважением. Но тогда он видел в нем только мудрого, волевого начальника. Теперь же полковник раскрылся еще и как мужественный человек, не сломившийся под тяжестью испытаний, которые послала ему судьба. Понятными стали и замкнутость, и суровость командира. Грише очень хотелось чем-нибудь помочь Теремову. Но чем может помочь лейтенант командиру полка, с которым даже встречается редко? И все же Колосков всей душой хотел этого. Не раз в мечтах Гриша спасал жизнь полковнику в бою, выручал его в сложной фронтовой обстановке. Но все это, к сожалению, были только мечты. Размышляя, что бы сделать приятное полковнику сейчас, в мирные дни, Гриша только теперь понял, почему Теремов так ревностно относится к службе. Служба – единственное, что у него осталось из когда-то любимого и дорогого. Она стала для него утешением. Все окружающее, каждая мелочь были связаны с его молодостью, женой и сыном. Занятия, стрельбы, тревоги, команды, выстрелы, сигналы, игры, шутки солдат – все это воскрешало далекие счастливые дни. И Гриша сделал вывод для себя. Значит, здесь, в службе, если он будет впереди других, покажет себя умелым и знающим, он станет и самым близким Теремову. Заслужит его уважение. Грише было приятно сознавать, что он уже и сейчас близок Теремову своей любовью к службе. Но об этом пока знает только он – Гриша, а лейтенанту хотелось, чтобы узнал и полковник.
Однажды Николай Петрович наблюдал издали, как лейтенант Колосков проводил занятия по противоатомной защите. С секундомером в руках, стройный и подтянутый, он стоял в центре круга и подавал команды. Солдаты в течение нескольких секунд надевали противогазы, блестящие прорезиненные костюмы и превращались в существа, похожие на пришельцев с других планет.
Один солдат каждый раз отставал, путался в плохо гнущемся костюме, не успевал затягивать тесемки.
– Смотрите, покажу еще раз, – сказал Колосков. Он передал секундомер солдату, который одевался неумело, чтобы тот мог сам убедиться, как быстро это делает он, лейтенант.
– Раз! – скомандовал боец.
Одежда будто живая кинулась на лейтенанта. Вмиг все было на нем. Все лямки завязаны. Огромные стеклянные глаза противогаза устремлены туда, где может появиться враг. Оружие готово к бою.
У Теремова по ассоциации с происходящим мелькнула мысль: «Сейчас должен подойти Гопанюк и высказать свое восхищение…» Но Гопанюк не подошел. Он погиб при форсировании Одера. И здесь, неподалеку, занимался не Саша, а лейтенант Колосков. Просто все это было очень похоже на тот день, когда Николай Петрович вот так же стоял под деревьями и любовался своим Сашей.
Странное чувство испытывал Теремов. Ловкость и красота действий Колоскова и огорчали, и радовали полковника. Обидно, что там в сторонке занимается не Саша, а другой человек, ничуть не уступающий ему ни во внешней подтянутости, ни в сноровке. Приятным было то, что офицер из его – теремовского – полка, что таких у него много и в каждого вложены его силы. Все, что когда-то он хотел передать Саше: знания, опыт, любовь к службе, – все это Николай Петрович щедро отдавал молодым ровесникам сына. Александру было бы сейчас за сорок. Но он навсегда остался юным. И Теремов видел в каждом молоденьком командире друга своего сына, а иногда его самого, как это случилось на занятиях по противоатомной защите у лейтенанта Колоскова. Поэтому полковник и любил всех их. И учил, и наказывал строго, по-отцовски, как поступал прежде с сыном.
…Портрет Александра Теремова, как и раньше, висел над кроватью Гриши Колоскова. Только теперь это была копия. Гриша попросил у полковника ту старую фотографию и переснял ее. Одну послал домой. И Александр, и Николай Петрович теперь навсегда стали близкими Колосковым. В каждом письме отец и мать Гриши передавали приветы полковнику, приглашали в гости.
Во время Гришиного отпуска мать сварила для Теремова две банки варенья из малины и крыжовника.
– Неудобно, мама, он командир полка. Как я пойду к нему с вареньем? – застеснялся Гриша, собираясь в обратный путь.
– Ничего! Удобно. Скажешь, мама прислала. Не чужой он нам.
На вокзале отец солидно и немного смущаясь сказал:
– Обстановка нынче не особо спокойная. Сорок первый год напоминает. Так что вы смотрите там. В случае чего я, конечно, подмогну. Но, сам видишь, старый стал. Да и Николай Петрович хоть и крепок, но в годах. Танк из брони отлит и то изнашивается. Так что вся тяжесть на твои плечи ляжет. Понял?
Гриша кивнул.
Старый танкист обнял сына. По-русски троекратно поцеловал крест-накрест. Похлопал по крепкому плечу. Окинул гордым, любящим взглядом. И, пряча счастливую влагу, заблестевшую в глазах, добро сказал:
– Ну, давай – служи…
Пропавший без вести
Никто не знает его имени. О нем известно только одно – он был танкист. И еще – он совершил подвиг.
Я побывал в Германии, долго искал, кто бы мог рассказать о нашем соотечественнике, и все же нашел.
Полигон Ордруф находился на юге Германии. Обычная сельская местность: ярко-зеленые поля, темные рощи и перелески, желтые проселочные дороги, все это постепенно поднимается и переходит в горы Тюрингенвальд, поросшие лесом.
Мы стоим на шоссе около автомобиля, на котором приехали. Свежий ветерок холодит нам лицо. Мы – это я и старый немец Шульц Шлемпфер. Он так стар, что дряблые сморщенные щеки его вибрируют, как мембраны, даже когда он молчит. Я разыскал его и попросил приехать сюда, чтобы услышать на месте, как это происходило.
В 1943 году все здесь выглядело иначе, деревенская эта местность представляла собой таинственный полигон, на котором опробовались новые виды вооружения для гитлеровской армии.
В те годы Шульц Шлемпфер был не таким сморщенным и бессильным. Он служил в полигонной команде, был, наверное, исполнительным и бравым, носил военный зеленый мундир с когтистым орлом на груди и с бляхой из белого металла на ремне – на бляхе было написано «Гот мит унс!» – «С нами бог!». Шлемпфер был очевидцем того необыкновенного дела, ради которого мы сюда приехали. Старик плохо говорил по-русски, да к тому же еще шепелявил, мокро плюхал дряблыми губами:
– Мы имели тот ден испытаний новый кароший пушка для борьба против танк, – начал Шлемпфер.
…В те дни фашисты задумали взять реванш после потрясающей Сталинградской катастрофы. Они готовили сюрприз для нашей армии – «тигров», «пантер», «фердинандов». Но фашисты хорошо помнили и о великолепном советском танке «Т-34». Наша стремительная тридцатьчетверка так много причиняла им неприятностей, что гитлеровское командование решило создать для борьбы с ней скорострельную противотанковую пушку. Всеми работами по созданию такой пушки по личному приказу Гитлера руководил генерал-инспектор бронетанковых войск Гудериан. Именно у него родилась идея – проверить опытные образцы пушки на реальном советском танке. Гудериан позвонил в концентрационный лагерь и приказал подобрать русского танкиста, умеющего водить тридцатьчетверку.
– Генераль Гудериан стояль здэс, – Шлемпфер показал на лужайку недалеко от нас. – Русский танкист стояль ему напротиф. – При этих словах старик Шлемпфер попытался изобразить величественного генерала, он спесиво вскинул голову и посмотрел сверху вниз.
Я слушал Шлемпфера и представлял себе события тех далеких дней. Русский пленный – худой, изможденный, в полосатой лагерной робе, стоял на ветру. У танкиста усталое лицо: бескровная, сухая от недоедания кожа обтянула кости. Жесткая щетина топорщилась на скулах. Взор угрюмый, в глубине настороженный.
Эсэсовцы и члены испытательной комиссии стояли неподалеку и надменно поглядывали в сторону пленника. На их лицах не было даже тени любопытства. Разве можно показать этому русскому, что он им интересен! Нет, любопытство спрятано под личину превосходства и презрения. Они стояли рослые, упитанные, в отутюженных мундирах, с орденами и ленточками на груди. Одинокий русский против них был жалок, у него был вид голодающего бродяги.
Танкист еще не знал, зачем его сюда привезли. Он думал об этом и потихоньку осматривался, прикидывал: что все это значит? Когда он увидел в стороне тридцатьчетверку, лицо его прояснилось, в глазах заблестела радость. Знакомый темно-зеленый танк с белыми номерами на башне выглядел здесь, в центре Германии, как старый близкий друг, как кусочек Родины. Танкист любовно обвел машину взглядом. Смутные предположения и надежды мелькнули в его голове.
Подкатил сверкающий на солнце «опель-адмирал», эсэсовцы вытянулись перед начальством. Из автомобиля вышел Гудериан. На нем была военная форма из какой-то особенно дорогой ткани кофейного цвета, сапоги сияли, как лакированные.
Гудериан не торопясь приблизился к пленнику. Голова его надменно приподнята. Суровое лицо непроницаемо холодно. Власть, данная этому человеку, огромна. Русский пленный для него даже не пылинка. Но тщеславие, как известно, ненасытно. Ни один властитель его еще не утолил, упиваясь преклонением тысяч, власть имущие не упускают случая усладить себя и трепетом одиночки.
Величественный и элегантный, пахнущий хорошим одеколоном, отменно начищенный генерал-инспектор был немногословен – он сказал, что должен сделать танкист, и пообещал… Шлемпфер так воспроизвел его обещание:
– Если ты остался после испытаний шиф, я буду приказайт – отправить тебя на фронт – нах Остен и отпускайт к русским!
Генерал говорил, куда и как будет ездить русский танкист.
За шамканьем Шлемпфера мне слышатся резкие, короткие, как команды, слова Гудериана. Я вижу лицо пленника; услыхав обещание генерала, он, наверное, на секунду представил себе эту несбыточную сказку: поезд летит на восток, линия фронта, родные лица товарищей, а потом полные счастливых слез глаза матери.
– Русски танкист пошель к танк. Танк стояль там. – Шлемпфер направляется в поле, в сторону от дороги. Я пошел за ним. Пройдя с километр, старик останавливается, осматривается и наконец пристукивает подошвой по траве: – Здес.
Я гляжу на землю, надеясь увидеть следы гусениц, но всюду только сочная зеленая трава. Трава стоит прямая, земля под ней нетронутая, ровная. Неужели не осталось ни одной полоски от зубов траков? Вполне возможно – ведь прошло много лет! Старый Шлемпфер едва ли точно помнит место, танк мог стоять правее или левее. Я долго хожу по лугу, вглядываюсь под ноги. Но тщетно, ничего, хотя бы отдаленно напоминающего след гусениц, я не нашел. И вот, когда я уже отказался от надежды что-нибудь найти и поднял утомленные глаза от земли, перед моим взором промелькнули две параллельные ленты на поверхности луга. Я тут же их потерял, но затем снова уловил, едва различимые, будто легкие тени на траве. Я отходил, приближался, приседал и поднимался на носки. Тщательно рассматривал, щупал землю. Однако пальцы мои не чувствовали никаких неровностей. И все же некоторые травинки несомненно росли с иным наклоном по отношению ко всей траве на лугу и поэтому отличались не цветом, а разницей в освещении. Как я был благодарен этим тоненьким зеленым стебелькам, которые показывали последний путь нашего замечательного земляка. Это несомненно был его след.
Уверенность, что я действительно нашел остатки следа, подкреплялась тем, что Шлемпфер, продолжая рассказ, все время указывал в этом направлении.
– Генераль Гудериан показайт русский танкист маршрут, – Шлемпфер махнул рукой вдоль следа и ткнул согнутым пальцем в рощу, которая находилась от нас километрах в пяти.
– Туда и цурюк – назад. Потом нох айн маль – туда унд цурюк – назад. Пушка – айн, цвай, драй, – три пушка стояль там. Один должен стреляйт прямо – ин фронт: испытаний лобовой брон. Один имеет стрельба в бок: испытаний бортовой брон. Один стреляйт в спина: испытаний задний брон. Русски танкист все понимайт. Он пошель к танк и карашо имел его посмотреть.
При этих словах Шлемпфер погладил ладонью рукав пиджака на правой руке. Он, видимо, непроизвольно повторил жест пленника, с которым тот подошел к танку.
С этого жеста в моем воображении зародилась целая картина. Танкист подошел к машине и ласково погладил ее. Бронь, нагретая солнцем, была теплой. Потом он обошел танк со всех сторон, проверяя его состояние. При каждом прикосновении он поглаживал его, как живого, испытывая при этом величайшее наслаждение. Потом он поднялся на борт и влез в башню. Каждая рукоятка, каждый болтик были для него здесь понятны и близки. За любой деталью вставала прошлая жизнь. Посмотрел на рычаги управления, вспомнились солнечные дни учебы на танкодроме, когда этими рычагами направлял тяжелую машину на эскарп, заставлял вертеться в ограниченном проходе, приказывал прыгать через противотанковый ров. Он вдыхал знакомый запах солярки, и она казалась ему ароматнее любых духов. Солярка напоминала часы обслуживания техники, веселые испачканные лица товарищей. Задраивая над головой люк, он обязательно вспомнил бой, когда в ревущем полумраке машины были видны только белые полоски света на глазах друзей, приникших к приборам наблюдения. Нет, пленник не чувствовал себя одиноким в те минуты, хотя и находился в глубине Германии, окруженный врагами. У него был здесь верный друг – боевой танк, отлитый из добротной стали где-нибудь на Урале. Оказавшись в машине, танкист снова почувствовал себя в общем строю. Он знал, что живым ему отсюда не уйти, и решил показать фашистам высокий класс советской танковой школы. Руки его уверенно легли на рычаги. Жаль только, сил маловато – ослаб в концлагере, ну да ничего, родная тридцатьчетверка не подведет, она поймет хозяина, она умная, она будет слушаться, как положено!
– Генераль уехал в бункер, в наблюдательный пункт. Это есть там. – Шлемпфер показал в ту сторону, где из земли выглядывал серый лоб бетонного сооружения. – Сольдатен унд офицерен пошоль на огневой позиций. Это есть здес, здес и здес. – Старик махал в сторону кустов и рощиц, которые тянулись вдоль границы полигона. За этими зарослями проходило шоссе, а за шоссе начинались поля, сады, стояли домики ближних фольварков.
– Русски танкист заводил машину, а мы были готоф стреляйт.
Представляю, какие напряженные и в то же время радостные были эти секунды для того мужественного человека.
Он сидел на месте механика-водителя, припав к смотровой щели, и старался угадать, где пушки. Когда взревел мотор, сердце танкиста тоже гулко забилось. Как ему приятно было слушать этот мощный знакомый рокот, чувствовать, как ожила и затрепетала родная тридцатьчетверка. У него не было времени на приятные переживания. Пушки могли открыть огонь в любую минуту. Где они? Сколько их? Это мне сейчас Шлемпфер показал, где были замаскированы огневые позиции. А пленный танкист этого не знал. Он впервые был на полигоне. Ему только указали, в какую сторону нужно двигаться. К этому времени он, наверное, все обдумал и решил, как действовать. Он, конечно, не поверил обещаниям гитлеровского генерала, знал цену их словам!
– Русски танкист не выполняйт приказ генераль Гудериан. Он быстро бросал свой танк уф этот лес. Все пушка стреляйт уф русски танк, но танк прятался уф лес! – взволнованно сказал Шлемпфер.
Не зная, где огневые позиции, пленник решил укрыться в ближайшей роще. Он помчался к деревьям на высокой скорости и кратчайшим путем. Пушки хлестали с трех сторон. Земля вскидывалась черными сыпучими веерами у самой машины. Заскочив в лес, пленник воспользовался замешательством врагов и, маскируя танк зарослями и пылью, поднятой взрывами, повел его к границе полигона. Теперь он знал, где находятся пушки! Танк вздрагивал, сталкиваясь с деревьями, валил их, с хрустом подминая под себя, продирался дальше. Артиллеристы потеряли его из вида. Они стреляли наугад, по треску сломанных деревьев.
Ох, нелегко было истощенному на лагерной баланде пленнику управлять тяжелой машиной! Он весь дрожал от перенапряжения, пот заливал глаза. Тугие рычаги и педали требовали силы, а ее не было. Но он был мастер своего дела, знал все тонкости громоздкой машины. И к тому же это был последний бой в его жизни! Он решил его непременно выиграть. Танкист понимал – его ждет смерть, но умереть еще не значит быть побежденным!
Он продирался по зарослям, подбираясь поближе к врагам. Жарко и гулко колотилось его сердце. Тяжелый танк тоже рокотал и наполнился жаром. Танкисту минутами казалось, что жар этот и рокот перешел в него от машины, но когда танк послушно выполнял малейшее движение его рук и будто понимал мысли своего хозяина, танкисту чудилось, что он сам превратился в сердце стальной машины, и дрожь ее, и рокот ее, и стремительный бег – все это передается танку от него, от его сердца.
– О! Русски танкист быль отшень умный человек! А мы быль глюпи. Мы стреляйт уф то место, где прятался танк. Мы стреляйт прямо. Но, мой бог! Вдруг танк пришел к наша пушка совсем с другой стороны!
Маскируясь лесом, узник подвел машину к огневым позициям с фланга почти вплотную. Занятые частой стрельбой, взволнованные происходящим, оглушенные грохотом поднятой канонады, артиллеристы не услышали приближения танка по зарослям. А он выскочил из ближайшей опушки и стремительно понесся на них. Онемевшая прислуга не успела даже повернуть орудие в его сторону. Танк с лету ударил в пушку. Развернулся на месте. Подмял под гусеницы металл и фашистов. И через мгновение снова умчался в лес. Все это было проделано молниеносно.
Прислуга других орудий не стреляла по танку во время его вылазки. Им не было видно это место.
Пленник, вернувшись к зарослям, повел машину, маскируясь кустарником, который тянулся вдоль границы полигона. Он правильно рассчитал: двигаясь вдоль самой границы полигона, его танк будет находиться между пушками и домами, которые стояли по ту сторону шоссе. Артиллеристы развернули орудия, но стрелять не решались: танка в кустах не видно и каждый не попавший в него снаряд может угодить в дом с местными жителями. Весь персонал Ордруфа и те, кто прибыл на испытания, в полной растерянности ждали, что будет дальше. А русский танк между тем, продолжая сердито урчать, продвигался вдоль ограды. Было похоже на то, что он намеревается совершить побег. Это тоже грозило громким скандалом и неприятностями, но все же присутствующие на полигоне вздохнули свободнее, для них такой исход был более безопасным.
Но у русского танкиста был совсем другой план. Как только, по его расчетам, танк вышел на уровень второго орудия и между ним и пушкой оставалось минимальное расстояние, тридцатьчетверка вдруг резко повернула вправо, пересекла тонкую цепочку кустов и деревьев и на полном ходу понеслась на пушку. Пушка успела выстрелить дважды. Оба снаряда вспороли землю, не долетев до танка. В следующий миг лязг металла и вопли задавленных донеслись с того места, откуда стреляла пушка. Танк снова умчался к деревьям. Расчет третьей пушки на этот раз видел, что произошло с их соседями. Третья пушка начала остервенело бить по кустам, прикрываясь которыми подбирался к ней танк. Артиллеристы теперь не заботились о безопасности местных жителей, они думали о собственной шкуре и садили снаряд за снарядом по кустарнику, надеясь угодить в танк.
Танк подбирался к орудию осторожно, он менял скорость, приостанавливался, то делал рывки, то шел вперед на малом газу, чтобы меньше шумел двигатель.
И вот настал момент, когда гул мотора совсем прекратился. Перестало стрелять орудие. Наступила полная тишина. Танк и пушка готовились к последней схватке. С третьей огневой позиции предусмотрительно удирали слабонервные штабники и инженеры. У орудия остался только расчет.
Весь полигон, вся его многочисленная охрана и обслуживающие подразделения выглядывали из бункеров и щелей. Всем было ясно – настали последние минуты жизни мятежного танкиста, у него нет снарядов, нет свободы маневра, противотанковая пушка изготовилась к стрельбе, она хорошо прицелилась, расчет ее пришел в себя, паника улеглась. Русский танкист не мог долго выжидать, время было не за него. Что он думал в эти минуты? Вспомнил отца и мать? Мысленно обнял любимую? Попрощался с товарищами? Может быть, запел: «Это есть наш последний…»
Все может быть. Несомненно одно: когда человек идет на подвиг, все, о чем он думает, все, что он делает, – это он вершит ради своей Родины. Ибо Родина для каждого из нас – это отец, мать, любимая, дети и то, о чем поется в Интернационале.
Эти мысли, эта любовь придают человеку в решающую минуту силы, мудрость, отвагу, делают его непобедимым. Так было и с нашим танкистом. Мотор взревел. Опушку леса затянуло густым черным дымом. Танк, скрытый кустами, стоял на месте, а двигатель гудел, готовый разорваться от перегрузки. Черное облако все разрасталось и разрасталось, его начинало растягивать ветром в сторону открытого поля, которое отделяло танк от огневых позиций. Артиллеристы поняли замысел танкиста – он создавал дымовую завесу, их нервы не выдержали, пушка выплюнула огненный трассер в центр дымовой завесы. Этого и ждал отчаянный танкист. Танк вынесся из дыма, словно его выбросил оттуда разорвавшийся снаряд. Пока артиллеристы дрожащими руками заряжали орудие и меняли установку прицела, танк летел по прямой. Но в тот момент, когда наводчик нажал спуск, танк вдруг на полном ходу уперся гусеницами в землю, взрыл ее на полметра и вильнул в сторону. Снаряд впился огненным жалом туда, где должен был оказаться танк, не сделай он этот внезапный вираж. И снова мчалась гудящая машина вперед. И тыкал заряжающий у орудия очередной снаряд, не попадая им от волнения в канал ствола. И снова выстрел, и снова увертка.
Все это длилось несколько секунд. Поединок кончился, как и два предыдущих, – танк налетел на пушку и расплющил ее вместе с расчетом. Испытание новых противотанковых систем по реальной советской тридцатьчетверке закончилось!
Конец этой истории таков. Русский танк, победно урча, будто хохотал над врагами, направился к шоссе. Он выбрался на дорогу. Клацая и скрежеща траками по асфальту, устремился на восток. Гудериан вышел из бетонного наблюдательного пункта, он был еще холоднее и непроницаемее, чем прежде, коротко бросил:
– Горючее скоро кончится. Взять живым.
В одном из фольварков из-за угла под танк подбросили мину. Машина вздрогнула от взрыва, как умирающий солдат, настигнутый пулей, и остановилась. Контуженого пленника выволокли из танка, привели в чувство и доставили на полигон.
Гудериан подошел к русскому узнику. Он был все в том же мундире кофейного цвета, сшитом из особо дорогой ткани, сапоги блестели, как лакированные, многочисленные орденские ленты пестрели на его груди, но его теперь не распирало сознание превосходства и величия. Он смотрел на небритого истощенного пленника, как смотрят на какое-то удивительное открытие. И может быть, именно в тот день гитлеровский броневой бог особенно отчетливо понял, что фашисты проиграли войну.
Пленный стоял свободно. Без страха смотрел на врагов. В глазах его была усмешка.
Стараясь быть объективным и как-то поддержать свой престиж перед окружающими, Гудериан сказал:
– Ты лучший из всех русских танкистов, которых мне приходилось видеть!
Узник ему ответил:
– Лучший в плен не угодил бы. Я обыкновенный. Лучшие остались там. Но вы скоро их увидите – они сюда придут!
Генерал понял: этот разговор ни к чему хорошему не приведет, покатав желваки на впалых бесцветных щеках, он коротко бросил:
– Расстрелять.
И ушел.
Танкиста расстреляли в тот же день, там же – на полигоне Ордруф…
И вот мы ходим по полигону со старым Шульцем Шлемпфером. Я останавливаюсь около осыпавшихся траншей и спрашиваю:
– Может быть, здесь?
– Не знаю. Этого я не видел, – виновато отвечает старик.
Я смотрю на рытвины и холмики, обросшие травой. Где-то здесь лежит наш удивительный герой, простой советский парень. Никто не знает его фамилии, имени, возраста, о нем известно только одно: он был русский танкист. Впрочем, и это не точно. Он мог быть украинцем, белорусом, грузином, узбеком, враги всех нас называли одним именем – русский. И еще о нем известно то, что он – пропал без вести.
Тысячи отцов, матерей, жен, юношей и девушек хранят пожелтевшие от времени извещения, на которых написаны три коротких слова: «Пропал без вести».
Может быть, человек, о котором я рассказал, ваш близкий, может быть, этот рассказ – первая весть о нем? Будем верить – герои без вести не пропадают. Вести о них лишь задерживаются. Рано или поздно Родина все равно узнает о подвигах своих верных сыновей.
…Полигон Ордруф, обычная сельская местность: ярко-зеленые поля. темные рощи и перелески, желтые проселочные дороги, вдали горы Тюрингенвальд, поросшие лесом. Все это сотни лет выглядело обычным. Но пришел сюда русский воин, совершил подвиг, и Ордруф стал легендарным. Все, кто услышит название – Ордруф, вспомнят не надменных, увешанных крестами гитлеровцев, не новейшие их пушки и танки, а бесстрашного русского человека, хотя и был он в тот день худ, тощ, небрит и одет в поношенную лагерную робу.
Се ля ви…
Война войной, а природа вершила свои вечные добрые дела: апрель 1945 года был такой же, как до войны, как десять и сто лет назад, – теплый, влажный ветерок разносил йодистый запах прибрежных водорослей. Балтийское море после зимних бурь успокоилось и с легким шуршанием выплескивало на песчаные пляжи кружевные языки изумрудной воды прибоя. На востоке по утрам разгорались яркие алые зори, оттуда вместе с нашими войсками шла на запад Победа.
Войска, наши и немецкие, стягивались к Берлину для последней схватки за гитлеровскую столицу. Советских войск было так много, что некоторые соединения вывели во второй эшелон – зачищать отдельные очаги сопротивления, оставшиеся после быстрого продвижения, и одновременно с этим нетрудным делом – отдыхать.
Генерал-полковник Федин Петр Петрович, командующий армией, получил участок побережья шириной больше сотни километров, здесь уже воевать-то не с кем, только на большой косе с несколькими дачными городками отбивались тысяч десять – пятнадцать немцев – остатки разбитых частей, которых загнали на эту косу наши прибрежные дивизии.
На косе старший по званию, да и по возрасту, худой, костлявый генерал-лейтенант Минц взял командование на себя. Он организовал оборону в самой узкой горловине косы и приказал:
– Прочно удерживать эти позиции, пока я не вывезу всех с этой проклятой песчаной опухоли! Стоять до последнего вздоха! За вашей спиной боевые друзья, которым еще предстоит биться за Берлин!
Минц велел мобилизовать, реквизировать, просто отобрать все плавсредства, которые были на полуострове, – рыбацкие сейнеры, шхуны, прогулочные катера, частные яхты, и на них стал вывозить подразделения на побережье, которое немцы удерживали западнее Берлина.
* * *
Генерал Федин – опытный воин, виски у него засеребрились еще в войне с Финляндией, а после битвы за Ленинград голова вся побелела, и даже в небольших усах проступила алюминиевого цвета седина.
Командарм был недоволен полученной задачей: ему, да и воинам его армии, хотелось участвовать во взятии Берлина. Но приказ есть приказ! Сопровождаемый штабными офицерами и охраной, Федин на «виллисе» выехал на рекогносцировку.
Поехал с командующим и член Военного совета генерал-майор Матвеев Григорий Ильич, полный, рыхлый – штатский на вид, да и по профессии – был он до войны секретарем горкома партии в небольшом сибирском городе.
Здесь, в тылу, война не ощущалась, курортные и дачные городки пустовали, хозяева отелей и дач ушли с немцами, простые жители прятались в подвалах и погребах, на глаза не показывались. Коттеджи, парки, скверы, освещенные ярким весенним солнышком, блестели свежей, еще маслянистой листвой, будто улыбались, встречая победителей. Птицы весело щебетали, наполняя жизнью кудрявую растительность.
– Хорошо! – сказал с легким вздохом Федин, глядя на эту прелесть.
– Будто и войны здесь не было, – согласился Матвеев, сидевший за спиной генерала на заднем сиденье.
– Я думаю, Григорий Ильич, надо дать участки для дивизий, пусть они разместят подразделения в этой благодати, охраняют побережье и отдыхают. Отоспятся, отмоются, почистятся, поживут, как на курорте.
– Заслужили, – согласился Матвеев. – А как быть с немцами, которые на косе засели?
– Я приказал поставить там мощный заслон – дивизию и танковый полк. Не прорвутся. Активными действиями добивать их не буду. Не хочу губить солдат. Немцы никуда не денутся. Сдадутся. Жрать нечего будет – сами в плен запросятся.
– Но разведчики докладывают: мелкими группками фрицы уплывают к своим.
– Много не уплывут. Да и те, которые выскочат отсюда, все равно в плен попадут после взятия Берлина.
Генерал обратил внимание на очень живописное отдельное имение на берегу моря, в котором в окружении парка виднелась небольшая вилла.
– Заглянем сюда, может быть, и нам для жилья подойдет. Смотри, Григорий Ильич, какая роскошь!
Машины покатили по чистой, ухоженной асфальтовой дороге к видневшейся металлической ограде и кружевным воротам, которые были распахнуты, словно приглашая въехать. У крыльца, украшенного вьющимися цветами, стоял седой, высокий, с прямой спиной, стройный старик. Он снял шляпу и в полупоклоне приветствовал прибывших военных.
– Добро пожаловать! – сказал он по-русски. – Позвольте представиться: я владелец этого пансиона Серафим Николаевич Гриватов.
– Вы русский? – спросил Матвеев.
– Да. Я еще из первой эмиграции. Уехал сюда от революции. Имею небольшую текстильную фабрику в Каунасе. Шью различную одежду. В основном для отдыхающих – купальники, сарафаны, шорты. Имею неплохой доход. Основал здесь и содержу этот пансион. Здесь со мной тридцать две дамы.
– Дамы?
– Да. В возрасте от четырех до семидесяти лет. Пожилые – тоже эмигрантки. Девушки и дети – слепые. Жертвы войны, они потеряли зрение при бомбежках. Каунас бомбили ваши и наши… – старик запнулся, поправился: – простите, ваши и немцы. Мужчин у нас нет, только женщины. Я вас с ними познакомлю. Прошу в дом, ваше превосходительство.
Генералы и офицеры вошли в вестибюль, отделанный полированным деревом. Дальше распахнулась овальная зала с огромными окнами, завешанными белым, как туман, тюлем. От белых стен, белых штор, белой мебели в зале казалось светлее, чем во дворе. Вдоль стен в креслах, а некоторые на колясках, сидели старые, седые женщины, очень похожие друг на друга и на музейные экспонаты. Дальше небольшими группками стояли девушки и дети. Все они, старые и молодые, пристально смотрели на вошедших военных. Генерал Федин, прежде чем разглядеть пансион, увидел их глаза – удивленные, любопытные, испуганные. Понимая их состояние, генерал спокойно и приветливо сказал:
– Здравствуйте! – и, сообразив, что не все его понимают, добавил: – Гутен морген.
Они закивали и ответили каким-то мурлыканьем:
– Морген… морген.
Хозяин медленно пошел вдоль сидящих старушек, стал их представлять:
– Графиня Боборыкина, – старушка с лицом, как печеное яблоко, кивнула, – баронесса Зоронсен, – такой же кивок краснолицей толстухи. Опрятная, с лицом, сохранившим былую красоту, оказалась супругой генерала Башкирцева.
– Он погиб еще в Первой мировой, – пояснил Гриватов.
Старорежимных оказалось восемь. Все русские. Девушки и девочки были местные, русского языка не понимали. У некоторых на глазах белые повязки. Все одеты в одинаковую, вроде гимназической, форму – коричневое платье и белые фартуки. Бледненькие, с милыми личиками, в одинаковой одежде, они, как и старушки, очень похожи друг на друга. От того, что не видели собеседников и не понимали их, они казались потусторонними существами, вроде ангелочков.
Генерал Матвеев спросил:
– Как же вы, господин Гриватов, содержите столько душ? В военное время с продуктами, наверное, трудновато.
– Да, нелегко. Но у нас свой огород, небольшая парниковая теплица. Выращиваем овощи. Пищу готовим тоже сами. Есть несколько коров. Для ухода за ними нанимаю доярок из местных жительниц. В общем, не бедствуем. Да и запросы у нас не велики, живем скромно.
Генерал Федин повернулся вполоборота к штабным офицерам, не обращаясь к кому-то конкретно, сказал:
– Дайте указание тыловикам отпустить со склада и привезти сюда крупы разные, муки, сахару, масла сливочного, чай для заварки. Молока сгущенного побольше – пожилым дамам понравится.
Для фабриканта Гриватова и именитых старушек это прозвучало весьма неожиданно. Баронесса Зоронсен воскликнула:
– Ваше превосходительство, это так благородно с вашей стороны. Мы думали, вы нас будете убивать.
– Почему вы так думали?
– Ну, вы же большевики. Вы буржуев к стенке ставите.
– Когда это было! В дни Гражданской войны. Тогда и ваши мужья нашего брата, большевиков, на фонарях вешали. Не будем вспоминать. Все это быльем поросло. Русские люди добрые, отходчивые. Теперь у нас один враг – гитлеровские захватчики. Вас я не обижать, а охранять буду. Ну, извините, у нас дела. Всего вам доброго.
В саду командующий подошел к «газику», в котором за ним постоянно возили полевую радиостанцию.
– Передайте генералу Торопову, пусть выделит разведроту и разместит ее – укажите по карте, где находится этот пансион. Задача роты – вести наблюдение за побережьем, не допустить высадку развед– и диверсионных групп противника. И еще – охранять пансион от «зеленых братьев», власовцев, полицаев. Да и от наших, никого сюда не пускать. Проинструктировать командира разведроты о вежливом, бережном отношении к больным пансиона.
Матвееву пояснил:
– Я приказал именно разведчиков прислать, они народ сообразительный, найдут общий язык с этими несчастным существами.
К генералу Федину подошел майор Гапонов из политотдела и, приложив руку к головному убору, обратился:
– Разрешите доложить, товарищ командующий?
– Слушаю.
– В Каунасе арестовали сержанта, он изнасиловал местную жительницу.
Федин нахмурился, пробормотал:
– Не мог по согласию, дурак…
Майор подтвердил:
– Не мог. Даже руки ей связал.
У командующего глаза сверкнули гневом:
– Мерзавец! Расстрелять!
Майор замялся, пытался смягчить ситуацию:
– Парень всю войну прошел. Имеет награды…
– Тем более, – резко оборвал Федин. – Должен понимать обстоятельства. Есть на сей счет строжайший приказ командующего фронтом. На вечерних поверках во всех ротах зачитывали не раз.
Член Военного совета хмыкнул, то ли хотел поддержать политотдельца, то ли одобрить строгость командующего, но генерал остановил его легким движением руки:
– Это зло надо пресечь сразу. Если разгорится – будет международный скандал и позор. – Майору: – Расстрелять! Не будем терять время, Григорий Ильич, поехали. – И скомандовал: – По машинам!
Вереница «газиков» двинулась дальше вдоль побережья, сияющего весенним цветеньем и благоухающего садовым и морским ароматом.
* * *
Разведрота капитана Доронина расположилась в фольварке недалеко от штаба дивизии, как ей и полагалось. Разведчики начали мыться, стричься, бриться. Но командир дивизии генерал Торопов, согласно порученному от командующего указанию, поставил Доронину боевую задачу и указал новое место размещения разведроты в пансионе.
Капитан с тайным неудовольствием выслушал приказ комдива, ответил:
– Есть! – четко повернулся кругом, но генерал остановил его.
– Доронин, ты объясни ребятам: повежливее обращаться со старушками – они какие-то бывшие, породистые. В общем, покажите свою культурность. Разведчики – наша военная интеллигенция, поэтому вам и поручаю сие тонкое дело.
Доронину не хотелось огорчать своих боевых друзей, столько с ними за годы войны опасных заданий выполнено, сроднились навсегда. Любил их Степан всех вместе и каждого в отдельности. Да и разведчики отвечали ему искренней преданностью, берегли в боях, не позволяли «поперед себя в пекло лезть».
Степан был офицер военного образца: его двадцать четвертый год рождения призывался в сорок втором, когда Доронин закончил десятый класс. Жил он в Самаре, отец воевал с первых дней. Провожала сына на фронт мать. Учитывая среднее образование, направили Степана в пехотное училище. Прошел он сокращенный курс и с одним кубарем в петлице, в звании младшего лейтенанта, принял боевое крещение под Сталинградом. Битва большая, а Степан – командир самый маленький. «Ванька-взводный» на передовой больше нескольких недель не держится: или в госпиталь, или в братскую могилу. Побывал и Доронин на передовой и в госпитале дважды. Прибавился боевой опыт и еще один кубарь на петлице, медаль «За отвагу» и орден «Красной Звезды» на грудь.
В третьем заходе, как опытному и отличившемуся в боях, предложили командовать взводом в разведроте дивизии. Очень понравилось Степану служба, на которую идут по желанию, а не по приказу. Здесь ему все пришлось по душе: и бойцы отчаянные – строгие на задании, веселые в своем расположении, и командиры – умные, находчивые, заботливые и без службистского выпендрежа. У них учился и сам стал таким. На заданиях по захвату «языков» Степан смерти не боялся, его охватывал боевой азарт, старался изловчиться, обмануть фрицев и защучить тепленького, живого, как огромная рыбина трепыхающегося в сильных руках разведчиков. Не один десяток «языков» приволок Степан со своими боевыми друзьями. Успехи его были отмечены двумя орденами «Красного Знамени» и еще одним кубарем, а когда ввели погоны – третьей звездочкой на погон, стал он «старлеем». В начале сорок четвертого погиб командир роты майор Руденко, и Доронину, как самому опытному и уважаемому, предложили принять роту. И вот больше года, почти каждую ночь, – в гости к фрицам, на передовую или в тыл за очередным «языком». И через полгода – еще один орден и капитанская звездочка.
Но не только радости и удачи сопутствовали в боевых делах – похоронил Доронин не один десяток своих разведчиков. Какие это были прекрасные воины! Смерть каждого – очередной шрам на сердце. Да и сам Доронин не раз бывал на волосок от гибели. Летом тяжело ранило в плечо, правая рука пару недель не действовала. Но в госпиталь не пошел – опасался попасть после лечения в резерв и потерять роту. Остался со своими орлами, приспособился стрелять левой рукой, а потом и правая наладилась.
И вот шел он в роту, получив новое задание, и знал, что хлопцам оно тоже не в жилу, хорошо устроились в чистом, ухоженном фольварке из красного кирпича. Надо будет их сначала как-то развеселить.
Войдя в большую общую комнату, Степан крикнул с порога:
– Внимание! – разведчики притихли, отложили кто бритву, кто щетку. – Я говорил и говорить буду, что сырое молоко лучше кипяченой воды!
Разведчики отреагировали дружным смехом.
– А поэтому предлагаю полакомиться молочком! Подробности потом. Кончай чистить перышки! Собирайте манатки, через полчаса выступаем всей ротой на выполнение особой задачи! – посмотрел на часы, добавил: – Время пошло!
В комнате сразу все приступили к сборам – быстро одевались, складывали пожитки в вещмешки. Доронин стоял во дворе – плечистый, в ремнях и орденах на груди, он сиял веселыми серыми глазами, наблюдая за своими ребятами. Они выходили из дверей, обвешанные оружием: автомат, финка, трофейный «парабеллум» или «вальтер», сидор, скатки шинели и плащ-палатки.
Старшина, здоровяк Ефим Павлов, заглядывал в раскрытую дверь, поторапливал:
– Кто там задремал! Подсуетись!
Собрались кучкой двадцать пять здоровых, веселых, готовых на выполнение любой задачи ребят. Двадцать пять – столько осталось их от роты в сто человек, не раз пополнявшейся взамен погибших и раненых.
– За мной! – сказал капитан и пошел первым со двора фольварка. Разведчики двинулись за ним без построения – колонной по одному, след в след, как привыкли ходить на заданиях, чтобы не нарываться на мины.
В пансионе разведчиков встретил седой, прямой, величественный Гриватов. Капитан Доронин сообщил ему о полученной задаче. Решили, что разведчики разместятся во флигеле, там достаточно комнат, а женщины и дети останутся в привычном для них основном особняке.
– Пойдемте, я вас познакомлю с моими подопечными, – предложил хозяин.
Доронин, командиры взводов и старшина Павлов пошли за ним, остальные разведчики двинулись обживать новое место. Как и командующему с его группой офицеров, Гриватов представил пожилых женщин, а потом некоторых девочек:
– Вот эта самая маленькая Эльза, ей четыре годика. Родители погибли во время бомбежки, ей повредило глазки. Я подобрал ее в Каунасе на улице. Марта самая старшая, ей двадцать. Она тоже ослепла при бомбежке. У меня в пансионе вообще все потерявшие зрение, кроме пожилых обитательниц, которые поселились в пансионе еще до начала войны.
Степан смотрел на несчастных, тихих, безмолвных детей, и сердце у него сжималось от сострадания. Эльза – настоящий прелестный херувим. Марта – писаная красавица, как на иконе, со строгим, чистым лицом. Под легким платьем вырисовывалась классическая античная фигура. Степан подумал: такая прелестная девушка и без глаз, что ее ждет в будущем?
Старшина Павлов, отчаянной смелости разведчик, с тремя орденами Славы и двумя «Красной Звезды» на груди, глядя на несчастных детишек, вдруг глубоко задышал и, сдерживая ком, подкативший в горле, отошел за спины лейтенантов. Взводные командиры, не раз смотревшие смерти в глаза, были тоже потрясены.
Во флигеле между тем разведчики продолжили прерванную «чистку перышек», достали бритвы, кисточки, одеколон, нагрели воды, занялись приготовлением баньки – обнаружили ее около хозяйственных построек, в которых теплым духом встретили коровы. Не зря ротный обещал молочком попотчевать! В общем, расположились удобно. Пришла пора перекусить. Достали из сидоров положенное продовольствие: хлеб, консервы американские – фарш «второй фронт» и трофейные деликатесы – сыры, копчености, бутылки вина с красивыми французскими этикетками (это водится только у разведчиков). Выпили, закусили, стали мечтать, как скоро домой вернутся.
Старшина Павлов просто живописал эту картину. Он был вятский, речь у него со своеобразным акцентом:
– Значить, прийду я в свой дом, и вся родня кинется ко мне на встренку. А я их охолону, скажу: погодитя маленько. Целоваться, миловаться будем посля. А сейчас беритя лопаты и пойдем в огород. Они, конешно, удивятся: ты что, Ефим, надумал, зачем лопаты?! А я свое: беритя, беритя, сейчас пойметя. Выведу я их в огород, отмеряю каждому по три метра и прикажу: копайтя! Да ты что, с ума сдвинулся?! – заверещат, особенно теща. А я на своем настою: копайтя и все! Ну, выкопают они, как положено, в полный профиль. Набьют на руках мозоли. Уж не рады моему возвращению! А я еще пару ведер воды притащу и оболью их сверху в траншее. Ну, совсем они меня за безумного сочтуть! А я им скажу: вот так я четыре года окапывался на разных рубежах, да еще в дождь али в снег и стужу. Вы моей службы на фронте немного отведали и будете меня уважать и привечать, как положено и еще больше того. А теперь здравствуйте, давайте целоваться и пойдем за праздничный стол.
Разведчики укатывались от рассказа старшины. Одни одобряли: молодчик! Другие упрекали: нехорошо так с родней обходиться! Старшина был доволен, закручивал усы, похохатывал вместе со всеми.
Доронин расположился в небольшой комнатке на втором этаже, здесь было все необходимое для отдыха: кровать, столик, туалетная коморка и балкон с распахнутым видом на роскошный парк. Не успел Степан разложить свои пожитки, как во дворе послышался шум мотора – кто-то приехал. Выглянув с балкона, капитан увидел зеленый «газик» и вылезающего из него майора, который сидел рядом с водителем.
На крыльцо пансиона вышли осмелевшие девушки и Гриватов. Добрынин быстро, гремя сапогами, сбежал по лестнице и подошел к майору.
– Здравия желаю, чем могу быть полезен?
Майор был сильно пьян. Нетвердо стоял на ногах. Глаза его, мутные от хмеля, ничего доброго не предвещали.
– Ты мне ничем… не можешь быть полезен, а вот барышни… – он двинулся на крыльцо, где стояла ничего не видящая стайка слепых. Он шел, качаясь, и повторял:
– А вот барышни могут быть полезны. Особенно вот эта, – он направился к Марте.
Доронин остановил его, дернув за рукав:
– Товарищ майор, они слепые. Мне приказано их охранять.
– Для себя бережешь, капитан? Их много, тебе хватит.
– Вы пьяны, товарищ майор, вам лучше уехать отсюда.
– Не для того я приехал, чтобы уезжать. Отойди, капитан, по-хорошему, а то я тебе рыло начищу.
Из флигеля вышел старшина Павлов и несколько разведчиков. Услыхав оскорбление своему командиру, старшина поспешил к майору и, взяв его за руки повыше локтей, стал разворачивать и сводить с крыльца, приговаривая при этом:
– Товарищ майор, товарищ майор, держите себя в приличии.
Майор вырвался из его рук и с маху ударил старшину по лицу, отчего тот упал и покатился по ступенькам вниз. Майор от своего взмаха тоже не удержался и, заплетая ноги, сбежал вниз. Здесь его встретил Ефим увесистым хуком в челюсть, отчего майор икнул, откинул голову и рухнул к ногам старшины. Подняв его за грудки, Ефим еще раз влепил майору добротный прямой в глаз, отчего глаз тут же заплыл, а под ним засветил большой фиолетовый «фонарь». Бросив майора наземь, старшина обалдело глянул на Доронина и залепетал:
– Так он сам начал, товарищ капитан.
Майор поднялся, мычал, пытался кинуться на старшину, к нему подошли два разведчика и крепко взяли под руки.
– Посадите его в машину, – сказал Доронин. – А вы, товарищ майор, езжайте к себе, проспитесь.
Загрузившись в машину, майор выкатывал один видящий глаз на Доронина, рычал:
– Ну, погоди, падло, я тебе все это напомню. И вам, сволочи, – погрозил разведчикам кулаком.
Шофер, не покидавший все время своего сиденья, с места рванул, и «газик» умчался, надсадно ревя мотором, будто обиделся, как и его хозяин.
* * *
В расположение танкового батальона, которым командовал побитый майор, «газик» влетел на такой же бешеной скорости, с какой стартовал из пансиона. Танкисты, увидев отделанную физиономию командира, наперебой спрашивали:
– Кто это вас так?
– Кто посмел?
– Где они? Мы им покажем…
Майор обвел боевых друзей единственным мутным глазом, тихо сказал:
– Еле живой ушел. Вот там недалеко поселочек, в нем власовцы и полицаи, с женами и детьми. Мужики переодеты в нашу форму. Я к ним, как к своим, напоролся. Они к немцам пробиваются, ждут ночи, по ночам идут. Понятно?
– Понятно! Так надо их арестовать.
Майор взревел:
– Арестовать?! Они вашего командира так разделали, а вы с ними цацкаться собираетесь! Добить гадов! По машинам! Заводи, и за мной!
Экипажи запрыгнули в танки, рявкнули моторы, взлетел сизый дымок, и, клацая траками, шесть машин, одна рота, в которую приехал комбат, двинулись за командиром батальона, который высунулся из башенного люка головной машины и подавал руками команды.
* * *
Не успели разведчики обсудить и осознать происшествие с майором, как увидели и услышали шум танков, которые разворачивались из колонны в боевую линию и двигались на пансионат.
– Что это значит? – крикнул с крыльца старик Гриватов, обращаясь к капитану Доронину, который наблюдал все это с балкона.
Ответом Гриватову был залп из танковых пушек. Снаряды разнесли вдребезги второй этаж и крыльцо пансионата вместе с Гриватовым. Внутри коттеджа раздался крик женщин.
– Рота, к бою! – крикнул капитан и сам, схватив автомат, побежал к железной ограде, которая стояла на фундаменте высотой около метра, выложенном из камня.
Разведчики залегли вдоль этой ограды, с недоумением глядели на танки, на своего командира, друг на друга. Различая на танках белые номера и красные звезды, Доронин сказал старшине:
– Это же наши. Они что, сдурели?
Старшина глухо ответил:
– Я думаю, товарищ капитан, сдурел один – тот майор, которому морду набили. Решил он нас проучить!
– Такие крайности? Разве так можно?
– Пьяным дуракам все можно. Наверное, пожаловался танкистам, увидели они его «фонари» и решили заступиться.
Второй залп, уже с более близкого расстояния, завалил весь второй этаж. Несколько снарядов угодили во флигель – жилье разведчиков.
– Надо как-то их остановить, – сказал капитан. – Образумить.
– Я пойду парламентером, – сказал Ефим. – Он вырвал черенок из метлы, валявшейся у крыльца, скинул быстро гимнастерку, снял нижнюю белую рубаху, привязал ее рукавами к древку и, надев гимнастерку, сказал двум разведчикам, которые лежали рядом:
– Пошли.
Они перелезли за ограду. Старшина, держа в руках древко, высоко поднимал свой белый флаг. Разведчики с напряжением следили за парламентерами, шагающими навстречу танкам. Ордена, особенно три ордена Славы, как кольчуга блестели на груди старшины Павлова.
Танки не стреляли. Но когда парламентеры подошли к ним совсем близко, злая пулеметная очередь свалила всех троих, и еще долго бил по ним пулемет, взбивая землю, на которой они лежали. Доронин с досадой вскрикнул:
– Не надо было старшине ходить, узнал его пьяный майор!
Следующий залп обрушил и первый этаж пансиона. Услыхав крик женщин, Доронин побежал к развалинам. В зале с большими окнами лежали несколько убитых девочек. В одной из них Степан узнал Марту, лицо у нее не изменилось, было, как у живой, иконописное. Около нее ползала маленькая Эльза, не видя и не понимая, что происходит. Девочка кричала:
– Марта! Марта! Почему ты молчишь?
Сама Эльза была вся в крови. Степан быстро осмотрел ее – ранения не было, она испачкалась в крови Марты, когда тормошила ее и просила подняться.
С разведчиками, которые побежали за командиром, капитан вывел уцелевших детей и старух, усадил за высоким фундаментом дома. Генеральша Башкирцева причитала:
– Господи, что творится! У этих большевиков всегда смерти и трупы.
Доронин поспешил назад к своим, к ограде и вдруг обнаружил, что справа и слева от него, прикрываясь деревьями, бегут какие-то люди. Пригляделся – немцы! В своей форме, с автоматами в руках. В этот миг танки шарахнули еще один залп по пансиону. Разведчики, Доронин и немцы залегли, спасаясь от свистящих осколков.
Доронин разглядел в лежавшем неподалеку офицера и первое, что пришло в голову, крикнул ему:
– Откуда вы взялись?
Немец ответил вопросом:
– С кем вы воюете?
* * *
Здесь необходимо сделать небольшое отступление, чтобы стало понятным происходящее.
С косы генерал Минц отправлял последние суденышки. Те, которые уплыли с окруженцами раньше, назад не возвращались. Генерал мобилизовал частные рыбачьи шхуны вместе с их владельцами. На одну из них, принадлежавшую финну Эйхе Рисонену, грузилась рота капитана Клауса Хофмана. Рота понесла большие потери, осталось сорок солдат, но это были хорошие, обстрелянные вояки, дисциплинированные и уважающие своего гауптмана.
Рота разместилась на шхуне. Движимый желанием поскорее вырваться из окружения, гауптман Хофман дал команду «Вперед», и шхуна отчалила. Они благополучно проплыли четверть пути, несмотря на то, что было еще светло. У одного из зеленых оазисов на берегу с красивой дачной постройкой вдруг послышалась стрельба.
Опытный Хофман сразу определил: бьют прямой наводкой танки – выстрел и тут же взрыв без звука полета снаряда, так бывает только при стрельбе прямой наводкой на недалекое расстояние до цели. Солдаты насторожились, тоже прислушивались. Ротный сказал:
– Какая-то небольшая, локальная схватка. Может быть, там горстка наших храбрых бойцов отбивается?
Солдаты молчали. Им не хотелось воевать, рады – вырвались из пекла на косе. Командир пытался глядеть им в глаза и продолжал:
– Наши боевые друзья, может быть, из последних сил отбиваются. А мы проплывем мимо? Берег рядом. Несколько минут, и мы выскочим на берег, поможем, заберем с собой живых и раненых.
Солдаты молчали. Гауптман был офицер военного образца. Его призвали в армию в 1942 году, он окончил краткий курс военного училища и попал на восточный фронт под Воронеж, на должность командира взвода. В немецкой армии взводные тоже держались на передовой несколько недель, а потом в госпиталь или в могилу под маленький крест из березовых бревнышек.
Клаусу везло – он дважды был ранен и оба раза выжил. Заслужил Железный крест, два знака отличия за две зимы на русском фронте. После третьего ранения, уже капитаном, попал из резерва в дивизию, которая обороняла побережье Ла-Манша во Франции. Но когда русские в 1944 году стремительно пошли вперед, дивизию, в которой служил Хофман, перебросили на Восточный фронт и, как он считал, напрасно – англичане и американцы воспользовались этим и высадились на французский берег.
В общем, гауптман был уже опытный вояка, считал себя кадровым офицером и стремился соблюдать все писаные и неписаные традиции офицерского клана, одна из них была – боевое товарищество и взаимовыручка в бою. Он приказал шкиперу Эйхе:
– Поворачивай к берегу, туда, где стреляют.
Финн заупрямился:
– Меня нанимали перевозить солдат, я не могу участвовать в боевых действиях.
Хофман жестко ответил:
– Тебя не нанимали, а мобилизовали. Ты обязан выполнять мои приказы или я тебе по законам военного времени влеплю пулю в лоб и выброшу за борт. Понял?
Финн хорошо понимал немецкий язык, быстро закрутил рулевое колесо, поворачивая шхуну к берегу.
Немцы с детства приучены делать все хорошо, прочно, основательно. В 1941 году они ходили в атаки, засучив рукава. Вот и направляясь к берегу, ефрейтор Гольдберг и несколько старослужащих солдат, готовясь к бою, стали закатывать рукава. Гауптман порадовался: есть еще боевой дух у некоторых!
Рота высадилась, быстро развернулась в боевой порядок, и командир сам, впереди, повел ее через парк к видневшейся светлой постройке. Вот в это время ударил третий залп танков, снаряды разорвались в доме и в прилегающей к нему части парка. Осколки просвистели над головой, и гауптман решил, что роту его обнаружили и бьют прицельно по ним. Залег. Но когда открыл глаза, увидел лежащего неподалеку советского офицера, который тоже, спасаясь от осколков, прижимался к земле.
В гитлеровской армии всех русских звали «иванами», Хофман решил, не прибегая к оружию, сначала выяснить, что происходит:
– Иван, с кем ты воюешь?
За три года пребывания в России Хофман уже неплохо говорил по-русски. Доронин, в свою очередь называя офицера «фрицем», потому что в нашей армии всех немцев так звали, спросил:
– Фриц, откуда вы взялись?
– Мы пришли с моря помогать своим. Где наши?
– Ваших здесь нет.
– А кто стреляет сюда?
– Это наши пьяные дураки.
– Не понимаю…
– Мне поручено охранять этот пансион слепых. Вон, смотри – женщины и дети за обломками дома прячутся. Все они слепые. А те дураки, особенно один, их командир, решили девушек насиловать. Вот мы их и защищаем.
Хофман разглядел на танках красные звезды, хотя они были на приличном расстоянии. Значит, не врет Иван, со своими воюет. Наших тут нет, и нечего нам здесь делать. Надо убираться. Но позволят ли теперь уйти русские?
– Иван, кто у кого в плену: мы у вас или вы у нас?
– Я считаю, вы у нас – мы здесь хозяева, а вы пришлые. И вообще, по общей обстановке вам пора складывать оружие.
Так разговаривали лежа два капитана, опасаясь, что сейчас немецкие и русские бойцы пустят в ход автоматы и перестреляют друг друга. Гауптман сел, крикнул команду:
– Нихт шиссен (не стрелять)! – а соседу сказал: – Мы с женщинами не воюем. Давай разойдемся по-хорошему.
Доронин тоже сел, крикнул своим, тем, кто уже обнаружил немцев:
– Не стреляйте. Я веду переговоры. Сейчас решим, как быть.
В этот миг раздались несколько выстрелов из танковых пушек, снаряды тут же разорвались в развалине дома. Осколки и обломки от строения ранили девочек. Послышались стоны, плач, крики о помощи.
– Фриц, я пойду посмотрю, чем помочь.
– Иван, я с тобой.
Гауптман поднялся, решительно откинул автомат за спину и подошел к Доронину. Они с любопытством осматривали друг друга. Хофман был в бледно-зеленой форме, хорошо знакомой за годы войны. Китель и брюки изрядно помятые и поношенные. Это был фронтовой офицер, а не тот лощеный, какими их показывают в кино.
– Ты капитан и я капитан, – сказал «фриц» и, показав пальцем на ордена на груди Степана, добавил: – Ого-го!
Степан улыбнулся и, кивнув на Железный крест немца, поддержал:
– И ты тоже ого-го! Ну, пойдем.
Они поспешили к слепым, которые все еще причитали. Быстро помогли двум девочкам перевязать небольшие раны. Подошли разведчики и два немецких солдата. И те, и другие недоверчиво косились, не подходили близко к чужакам. Доронин сказал им:
– Отнесите убитую туда, где лежат другие.
Солдаты, наши и немцы, осторожно подняли хрупкое тельце и понесли к накрытым байковыми одеялами трупам Гриватова, баронессы Зоронсен, Марты и нескольких девочек. Рядом с ними, накрытые плащ-палатками, лежали шестеро убитых разведчиков. У Степана сердце обливалось кровью: шестеро отличных парней, они прошли огни и воды. И вот, на пороге мира, нелепая смерть все же подстерегла их.
– Танки всех вас убьют! – сказал гауптман.
– Мы надеемся, кто-нибудь вмешается, образумит тех дураков. У меня нет связи с командованием, не могу сообщить. Как назло, аккумулятор сел на рации.
– Убьют вас, убьют, – повторил Хофман. – Я бы хотел вам помочь. Но как?
– У тебя есть «фаусты»?
– Есть.
– Может, попугаешь, и танки сюда не полезут, а пеших мы своим огнем отобьем.
Хофман воскликнул:
– Хорошая мысль! Айн момент!
Он позвал ефрейтора Гольдберга, рядового Форса, рядового Зольмера. Вызванные тут же подбежали и встали перед командиром роты.
– По кустам, вдоль ручья, подберитесь к танкам и пустите в них три «фауста»!
Солдаты дружно ответили:
– Яволь! – и побежали к пролому в ограде.
Разведчики и немцы сидели и лежали там, где их прижал к земле последний залп танков. Сначала они поглядывали друг на друга настороженно, потом заулыбались, а когда поняли, что драки не будет, взаимно стали угощаться куревом.
Капитаны, пригнувшись, подошли к фундаменту ограды, вдоль которого лежали разведчики.
– Почему они не идут сюда, – спросил Хофман, кивнув на танки.
– Какая-то заминка у них. Наверное, экипажи увидели наших парламентеров в советской форме. Награды у них на груди наши. Засомневались.
В это время из кустов неподалеку от танков сверкнули быстрые, как змеиные жала, три полоски огня. И тут же, бухнув на всю округу, рванули три «фауста», впившись в танки. Дым и огонь окутал три крайние машины. Из уцелевших танков бешено застрочили пулеметы, ведя огонь по кустам, откуда вылетели «фаусты».
– Теперь не полезут! – определил Доронин. – Спасибо тебе, Фриц!
– Я тебе помог, Иван! Но нам надо уходить.
Вернулись два немца. Ефрейтор доложил капитану о выполнении приказа.
– Где третий?
– Там остался. Убит насмерть, – ответил, еще не отдышавшись, ефрейтор.
Хофман подал руку Доронину, и тот пожал ее. Разведчики и немецкие солдаты смотрели на это рукопожатие с приятным недоумением.
Хофман сказал на прощание:
– Я думаю, Иван, у тебя будут большие неприятности. Тебя будут пук-пук, – он показал пальцами, будто спускает курок. – Ты убивал своих. Сгорело три танка. А войне конец. Зачем тебе умирать? Ты храбро и честно воевал, – он показал на награды Доронина. – Уходи с нами. Поплывем в нейтральную Норвегию. Я тоже к своим не вернусь. Хватит воевать! Все безнадежно.
Степан от этих слов Хофмана просто онемел. Как у немца все просто – уплыл в нейтральную страну. А присяга? А боевые друзья, которых он любит всей душой. Родина. Мама.
Сначала даже думать об этом было страшно. Он защищал родину, не жалел жизни, отдал все, что мог, победа одержана, а его, немец прав, расстреляют. Только за сотрудничество с немцами и сожженные танки грозит неминуемый расстрел. Как обидно, из-за пьяного дурака вся жизнь под откос. А может быть, пожить еще? Война кончится, разберутся со мной, ну, накажут. В мирное время не расстреляют. Главное сейчас, под горячую руку, под трибунал не попасть. Но как все это объяснить разведчикам? Поймут ли? Отпустят? А может быть, даже арестуют? Степан решил не откладывать, времени на размышление не было. Тут же обратился к разведчикам, которые были поблизости:
– Слышали, о чем немец сказал?
Разведчики молчали.
– Вы мои боевые друзья, что посоветуете?
Опять молчание. Наконец, сивый, с белыми ресницами сержант Чирков сказал:
– Тебе надо уходить, капитан, иначе – вышка, прав немец.
Степан помолчал и негромко завершил разговор:
– Быть по сему. Может быть, кто-то со мной пойдет?
Сержант Чирков отвел взгляд:
– Мы рядовые, с нас спрос невелик. Иди, капитан, спасайся.
Хофман тут же подхватил:
– Давай, давай, Иван! Времени совсем не осталось.
– Ну, раз мы теперь вместе – зови меня Степаном, а не Иваном.
– А я есть Клаус Хофман.
– Ну, вот и обнюхались, – пошутил Доронин.
– Что есть обнюхались? – спросил Хофман.
– Потом объясню, – Доронин жестом поманил разведчиков подойти поближе: – Ну, ребята, не осуждайте меня. Я не виноват, вы знаете. Но разбираться во всех тонкостях трибунал не станет. Когда будут вас расспрашивать, скажите всю правду. – Степан помолчал. – Старшину Павлова и других ребят похороните с почестями. От меня бросьте эту горсть земли в их могилу.
Капитан нагнулся, черпнул рукой мягкой земли из клумбы и подал Чиркову.
– А меня не поминайте лихом. Война кончилась. Не хочу умирать из-за глупости. Семи смертям не бывать, одной не миновать. Где она меня подкараулит, не знаю, но рискну! Прощайте!
* * *
На шхуне немцы приняли Доронина как своего, они побывали вместе в бою, и это всегда людей очень сближает. Солдаты сели в кубрике вдоль длинного артельного стола, доски которого почернели от времени и морской воды. Из походных ранцев появились немецкие продукты: консервы, «долгоиграющий» хлеб выпечки годовой давности и на вкус будто из опилок испеченный. В крошечные горелки положили квадратики сухого спирта, развели огонек и сварили напиток из кофейного порошка. Кофейный дух заполнил кубрик, оттеснив застоявшийся запах рыбы.
Солдаты и гауптман предлагали Доронину перекусить. Но ему не до еды. Мысли о происходящем и что ждет в будущем, кружили в голове неотступно. Немцы тоже размышляли – как и чем помочь русскому капитану.
– Прежде всего, надо тебя переодеть в нашу форму. Для полиции даже нейтральной страны ты сразу станешь объектом задержания, – сказал Хофман. – Сейчас мы тебе подберем наше обмундирование. Он оглядел своих подчиненных, выбирая по комплекции похожего на Доронина, и позвал: – Рихард, достань свой праздничный комплект.
Рихард вынул из полевого ранца тужурку и брюки, предназначенные для смотров и торжественных построений, подал Доронину. Степан некоторое время колебался, сидел в нерешительности.
– Давай, давай, будешь вместе с нами, как наш, иначе первый же полицейский тебя с этими орденами арестует.
Степан надел немецкую форму, она пришлась впору:
– Как на меня сшита.
Хофман посоветовал:
– Награды свои сними, положи в коробочку или в платочек завяжи. Если возникнет о них вопрос, скажи – твои трофеи, собирал их с убитых в боях русских.
Когда Доронин свинчивал ордена Красного Знамени, ком подступил к горлу. Сколько радости они принесли ему, как он ими гордился! И вот теперь они – компрометирующая улика.
Немцы брали ордена, рассматривали, передавали друг другу, одобрительно цокали языками:
– Гут, гут! Тяжелые, серебряные, не то что наши алюминиевые кресты и медали.
Вдруг ефрейтор Гольдберг воскликнул:
– Внешний вид хорошо. Надо ему документы сделать. У меня есть идея!
– Говори, – сказал гауптман.
– Мы забрали аусвайс Форса, убитого танкистами. Форса больше нет, пусть капитан станет Форсом.
Он достал из кармана удостоверение погибшего и подал Хофману.
– Отличная мысль! – похвалил его командир роты.
Он раскрыл удостоверение и прочитал:
– Рядовой Форс Иоганн. Тебе легко будет запомнить. Иоганн это то же, что по-русски Иван. Но как быть с фотографией?
– Заменим! – тут же обнадежил ефрейтор Гольдберг и спросил Доронина: – У вас есть какие-то документы с фотокарточкой?
Степан достал удостоверение офицера и партбилет. Ефрейтор внимательно осмотрел документы и осторожно, бритвой стал срезать карточку с партбилета, потому что на ней Доронин был без погон. Так же умело, будто занимался этим не впервой, снял фотографию Форса. Приложив на ее место карточку Степана, ефрейтор подогнал уголок печати на фотографии к печати на удостоверении, да так ловко, что была незаметна фальшь, буквы на вклеенном уголке были нечеткие, окончание какого-то слова. В общем, аусвайс получился как настоящий. То, что Доронин на снимке был не в немецкой форме, а в простой гражданской сорочке, сразу не замечалось, главное, лицо было его на фоне немецкой фамилии, разных подлинных граф и особенно размашистого орла со свастикой в когтях.
– Ну вот, теперь ты настоящий Иоганн Форс! Ничего, что рядовой, зато в безопасности, – весело подвел итог этому преображению Клаус.
А Степан был не в себе, так все быстро, просто мгновенно перевернулось – несколько часов назад был капитан, командир разведроты и вот – немец, да еще документально оформленный! В дурном сне такое не приснится!
До побережья Норвегии финн Рисонен доставил шхуну охотно. Он и свою судьбу решил таким образом.
На берегу, в небольшом рыбацком поселке два капитана провели вместе последний вечер. Зашли в портовую таверну. Выпили. Рассказали друг другу свои очень похожие биографии. Доронин подробно изложил Хофману, из-за чего произошла стычка танкистов с разведчиками.
– Если бы не эта глупая история, закончил бы я войну победителем, уважаемым человеком. Женился бы. Спокойной, счастливой жизнью дожил до старости, – Степан посетовал: – Вот, Клаус, оказывается, из-за глупости одного пьяного может перевернуться судьба многих людей. Даже ты, по ту сторону линии фронта, проплыл бы на своей шхуне мимо, защищал бы Берлин и, может быть, еще один Железный крест заслужил. А теперь из-за нашего дурака ты кто? Дезертир.
Клаус попытался возразить, зажестикулировал, но тут же унял свои эмоции и согласился:
– Да, Степан, ты прав, я – дезертир и ты тоже. Но не из-за того пьяного дурака, а из-за тебя, хорошего человека, я хотел тебе помочь, поэтому поплыл сюда, в Норвегию.
Степан покачал головой:
– Не криви душой, не виляй, Клаус. Не только из-за меня ты здесь. Ты давно созрел для этого, понял – война проиграна. Скоро всем вам, немцам, придется отвечать за огромные беды, которые вы принесли Европе и особенно нашей стране.
Хофман кивнул в знак согласия. А Степан продолжал:
– Так что же получается – мы жертвы случайности? Если бы я не воспрепятствовал пьяному майору, и он овладел Мартой, все осталось бы на своих местах? Значит, я со своим благородством – виновник всего?
Клаус, уже прилично охмелевший, замахал руками:
– Нет, нет. Если бы ты не защитил Марту, ты стал бы подлецом! И она, и старушки, и девочки, и хозяин пансиона – все тебя всю жизнь вспоминали бы, как подлеца! Ты поступил благородно. И я тебя за это очень уважаю.
Он протянул свою рюмку, предлагая выпить.
Утром, расставаясь, два капитана пожали руки. Они убили бы друг друга, если бы встретились позавчера, а теперь пожали руки.
Хофман дал Степану денег:
– Немецкие марки везде принимают, тебе пригодятся.
Он долго не выпускал большую, сильную длань русского офицера. Наконец, пристально и печально глядя ему в глаза, молвил:
– Се ля ви, капитан.
Что по-французски означает: такова жизнь, капитан.
* * *
Майора-танкиста, виновного в этом чрезвычайном происшествии, генерал-полковник Федин отдал под суд. В военное время расследование и приговор выносятся быстро. В этом преступлении мотивы его и факт ужасного злодеяния были очевидны. Трибунал приговорил майора к расстрелу (умышленно не называю его фамилию, дабы не обременить позором его живых родственников и потомков).
Расстреливали преступника перед строем танкового полка и остатков разведроты. Два «газика» подъехали к строю. В переднем сидели прокурор, судьи и врач. Из второго конвоиры-автоматчики высадили майора. Он был в распущенной гимнастерке, без погон и без наград. На лице еще светились «фонари», поставленные старшиной Павловым.
Судья огласил приговор. Командир полка подал команду: «Полк, кру-гом!» Строй отвернулся от преступника. В это время треснули очереди автоматчиков-конвоиров. Выстрелы заглушили вскрик майора:
– Да здравствует товарищ Сталин!
Полк повернули еще раз кругом, когда расстрелянный лежал на земле. Врач зафиксировал факт смерти. Шофер «газика» ловко накинул петлю троса на ноги убитого. Конвоиры прыгнули в кузов «газика», и машина поволокла казненного в поле.
Где-то там автоматчики вырыли неглубокую яму, столкнули в нее расстрелянного, забросали землей и разровняли ее, чтобы не было могильного холма, и никто не знал, где погребен преступник.
* * *
Генерал-полковник Федин и член Военного совета генерал-майор Матвеев переживали очень неприятный разговор с командующим фронтом. На командование такого высокого уровня, как Федин и Матвеев, накладывать взыскания не принято. Их или сразу снимают с должности, или ограничиваются холодной беседой лично или по телефону. В любом варианте это не меньше взыскания.
Командиру дивизии генералу Денисову за ЧП объявлен выговор. Командира танкового полка, где служил провинившийся майор, сняли с должности и назначили с понижением.
Федин и Матвеев очень огорчались от полученного внушения от маршала. За всю войну у них не было такого неприятного «надира» от старшего начальства. Но таков закон военной иерархии: где бы что бы ни случилось в низовых инстанциях, вся вертикаль командиров виновата – недосмотрели, распустили, не смогли навести должный порядок.
Вечером, за рюмкой чая «с горя», командующий армией и член Военного совета еще и еще сокрушались, перебирая подробности этого ужасного ЧП. Им были известны все детали, следователи и прокурор докладывали регулярно еще в ходе расследования. Теперь, когда суд состоялся и виновник ЧП наказан, надо было позаботиться о похоронах погибших разведчиков и танкистов. На войне эта печальная процедура не редкость, необходимые распоряжения отданы. Поговорили генералы и о капитане Доронине.
– Хороший, боевой разведчик, – сказал Федин. – Недавно я ему третий орден Красного Знамени вручал.
Матвеев согласился:
– Замечательный офицер. И в разведроте у него был порядок. Я у них не раз бывал. Жалко, что с ним такая беда стряслась.
– Да, жалко, – поддержал Федин. – И беда очень непростая. По сути дела, это измена Родине – перешел на сторону противника. Теперь по закону пострадают все его родственники – будут репрессированы.
– Я познакомился с его личным делом, – сказал Матвеев. – Нет у него родственников, одна мать. Он до войны школьник был, не успел жениться. Отец погиб в сорок третьем, его не коснется позор за сына.
Федин посочувствовал:
– А мать? Теперь она мать изменника, ее выселят куда-нибудь, где Макар телят не пас.
– Да, формально так полагается.
Федин доверительно:
– Знаешь, Григорий Ильич, я поступок Доронина не одобряю, но понимаю. Если бы он не ушел с немцами, его рядом с майором расстреляли бы. Хотя он и не виноват в этом ЧП. Но с немцами сотрудничал? Немцы под его руководством три танка сожгли фаустпатронами, четыре танкиста погибли.
Генералы не сомневались в том, что Доронин сбежал от кары. Понимали они и то, что кара была бы несправедливой. Наряду с этим тяжело было сознавать – именно они, Федин и Матвеев, обязаны отдать Доронина под суд.
Широко известна лукавая фраза, в которой в зависимости от перестановки запятой смысл обретает полную противоположность: «Казнить, нельзя помиловать», «Казнить нельзя, помиловать». Федин и Матвеев, размышляя о Доронине, в глубине души тайно искали такую вот запятую в деле капитана, им хотелось как-нибудь помочь боевому разведчику, которого они оба высоко ценили за его смелость, дерзкую находчивость при выполнении заданий, три ордена Красного Знамени кого угодно заставят уважать их обладателя.
В русской армии с давних времен среди офицеров поддерживалось традиционное чувство боевого товарищества и взаимной выручки, и была эта традиция иногда не в унисон с официальными инструкциями и даже законами.
– Да, вина Доронина очевидна. Но все же, защищая слепых женщин, он поступил благородно, – сказал Матвеев.
Федин помолчал и с некоторой хитринкой молвил:
– А может быть, и мы по отношению к нему поступим благородно?
– Что вы имеете в виду?
– Не будем зачислять его в изменники. Фактически он пропавший без вести. Ни один разведчик во время следствия не сказал, что Доронин ушел с немцами. Все они говорили: не знают, куда делся капитан. Может быть, его один из снарядов разорвал на мелкие части. Как хозяина пансиона Гриватова. После прямого попадания снаряда остались от него окровавленные обрывки одежды. Могло такое произойти с Дорониным?
Матвеев согласился:
– Могло. Хотя какие-то останки должны быть. И мы их при погребении обязаны положить в братскую могилу и на памятник занести его фамилию.
Федин возразил:
– Останков нет. Не нашли. Не обнаружили. И вообще, может быть, он живой, куда-то отлучился, например, по большой нужде. Дом был разрушен, туалета нет. Вот он и пошел в дальний угол парка, а там его «зеленые братья» захватили, пришли узнать, что за пальба идет, не сопротивляются ли здесь их боевые соратники? Могло случиться такое? – и сам подтвердил: – Могло. Он живой, а мы его в перебежчики или покойники зачисляем.
Матвеев поддержал:
– Да, юридически можно его считать без вести пропавшим.
– Тогда и мать Доронина не пострадает. Без вести пропавший – это обычная категория потерь в военное время. И у нас есть все основания считать его таковым. Насчет того, что он ушел с немцами, нет улик. Это догадки тех, кто в том бою не был. В том числе и наши с тобой. А разведчики его роты ни один не высказал подозрения, что Доронин ушел с немцами. Давай, Григорий Ильич, не станем официально поддерживать и фиксировать версию об уходе с немцами. Нет у нас на то доказательств. Реально нам ничего неизвестно, значит – пропал без вести.
Генералы были довольны тем, что нашли хорошее разрешение возникшей проблемы, нашли «запятую», сумели избавить боевого офицера от позора.
Федин сказал:
– Я дам указание кадровикам, чтобы они сообщили в военкомат, где призывался Доронин, и его матери, что он пропал без вести. А вы, Григорий Ильич, в политдонесении укажите такую же формулировку.
Матвеев согласно кивнул. Они чокнулись рюмочками с коньяком, выпили, посмаковали, закусывая сырком, и, пожелав друг другу спокойной ночи, отправились каждый в свой особняк. Теперь они жили не в блиндажах, а поселились в прибрежных коттеджах, благо выбор здесь, на курортном побережье Балтийского моря, был обширный.
Заснули они здоровым, спокойным сном, как спят люди с чистой совестью и со знанием выполненного долга.
* * *
Генерал Матвеев (это входило в его служебные обязанности) приказал всех погибших при этом происшествии разведчиков, танкистов, девочек, Гриватова, баронессу Зоронсен, Марту и безымянного немца похоронить в одной братской могиле.
В роскошном парке, на месте круглой клумбы с цветами, вырос большой курган, на который перенесли дерн и цветы с прежней клумбы. Хоронили с почестями: говорили речи, оркестр играл траурные мелодии, прозвучал прощальный салют из автоматов.
Сержант Чирков вместе с другими во время погребения бросил в могилу горсть земли, которую оставил для этого любимый командир – капитан Доронин.
Не самой вершине холма водрузили массивный деревянный крест, сделанный местными литовскими мастерами по заказу графини Боборыкиной. Ниже креста, на склоне холма, командование установило деревянную пирамиду с красной звездой. Ее тоже сделали местные мастера. На боках пирамиды написали имена погибших разведчиков, танкистов, Гриватова, баронессы, Марты. У немца документов не обнаружили, их забрали его соратники. В самом низу могилы белел березовый крестик, его поставили разведчики после официальных похорон. Они вспоминали добром «фрица», он помог им в трудную минуту.
Графиня Боборыкина, с бледным иконописным лицом, долго молилась у братской могилы, в завершение осенила ее широким крестом и, ни к кому не обращаясь, со вздохом промолвила:
– Упокой их души, Господи… – помолчала и добавила: – Се ля ви…
Графиня изучила французский язык и говорила на нем еще до революции.
* * *
Но, видно, не суждено было расстаться двум капитанам по-хорошему. Когда они, прощаясь, пожимали руки, к ним подошли остатки роты. Впереди – ефрейтор Гольдберг, который стрелял «фаустами» по нашим танкам. Он явно был за вожака, сказал сухо:
– Надо поговорить, господа капитаны. Здесь неудобно. Могут помешать. Выйдем из поселка.
Солдаты окружили офицеров. Автоматы у них были на груди. Возражать, а тем более сопротивляться нет смысла да и возможности. Общей гурьбой вышли из поселка. Местные жители, увидев группу вооруженных немцев, спешили уйти с дороги, скрыться во двор или в подъезд ближнего дома.
Пришли к причалу, где стояла шхуна, на которой сюда приплыли. Финн-шкипер был среди солдат – они его с вечера держали при себе, чтобы не убежал.
Ефрейтор сказал по-немецки, но Степан все понимал:
– Герр гауптман, вы всех нас сделали дезертирами. У нас в Германии семьи. Что с ними будет? Есть возможность поправить дело. Мы поплывем в Германию, как и намеревались, выйдем из окружения. Вы приводите роту куда положено. Никакого боя вместе с русскими не было. Шкипер поплывет с нами.
Финн запротестовал:
– Я не поплыву. Вы не имеете права! Мы на территории нейтральной страны. Здесь я не мобилизованный…
Он не успел докричать – короткая очередь из автомата свалила его на землю.
«Ситуация складывается однозначно, бесповоротно, стремительно. Они уже все решили», – отметил про себя Доронин. Перед ним теперь стояли те немцы, с какими он бился на фронте, – одинаковые жестокие лица, холодные волчьи глаза.
Ефрейтор тем же спокойным тоном, каким говорил до этих выстрелов, продолжал:
– Отнесите его на шхуну, выбросим в море. Он мог наболтать лишнего.
Сделав паузу, ефрейтор, глядя в лицо гауптмана, жестко сказал:
– Есть второй вариант. Мы вас арестуем и сдадим в руки старшего командования. Это нас оправдает. Или… – он показал глазами на убитого финна. – Это тоже нас оправдает…
Гауптман, бледный, с бегающими желваками на скулах, наконец заговорил:
– Я ваш командир. Мы вместе были в тяжелых боях. Я плыву с вами. Ничего не было, мы к берегу не приставали, просто немного заблудились в море. Мы приплывем к своим на одну ночь позже.
Доронин видел, как у солдат сошло с лиц напряжение. Они были довольны решением командира. Все возвращается в законное служебное положение. Но взоры их невольно обходили русского офицера, хотя каждый думал, как с ним поступить. Проще и надежнее, как с финном. И выбросить в море. Тогда, как сказано в пословице, «концы в воду». Море умеет хранить тайны. И получится то, что надо – уплыли из окружения и приплыли к своим западнее Берлина.
Доронин во время этого разговора немцев молчал. Что он мог сказать? Просить, чтобы оставили живым, отпустили? Унижаться бессмысленно. Он обречен. Положение безвыходное – он единственный свидетель их отступления от присяги. Их судьба в его руках. Но только пока он жив. Молчат лишь мертвые.
Пауза длилась несколько секунд, но показалась она всем бесконечной. Хофман во время этой паузы вполне овладел собой и как командир решительно сказал:
– Взять русского с собой мы не можем. Поступить как с финном мы тоже не можем. Мы не в бою. Я прошу вас, солдаты, – отпустим его. Пусть Господь решит его дальнейшую судьбу. Он боевой офицер, болтать не будет. – И, обращаясь к Степану: – Ты нас не видел и не знаешь. И мы тебя не видели и не знаем.
Солдаты негромко забормотали – то ли соглашались, то ли возражали. Гауптман воспользовался этим непонятным гулом и коротко бросил:
– Иди, капитан!
Степан стоял не двигаясь. Он спиной ощущал наведенные на него сзади автоматы. Живым отсюда не выпустят. Слова гауптмана для них пока еще пустой звук. Они осуществляют свой план реабилитации. Сейчас ему выстрелят в спину.
Мышление разведчика оказалось быстрее движения немцев – того, кто должен был нажать на курок. Степан остановил это нажатие на курок быстрой хриплой фразой:
– Я же Иоганн Форс. Я поплыву с вами. И по списку я не буду лишним…
Степан почувствовал: обмякли пальцы на спусковом крючке автомата за его спиной. Он стал наращивать паузу, отделявшую его от смерти.
– Зачем мне болтать? Я больше всех заинтересован в молчании о том, что с вами случилось.
Для большей убедительности бросил еще один аргумент в свою пользу:
– И по списку вся рота полностью. А если не будет Иоганна Форса – начнутся расспросы: куда и почему он исчез?..
Кто-то из солдат сказал:
– А он, пожалуй, прав…
Ефрейтор Гольдберг согласился:
– И я так думаю. А как вы, гауптман?
– Я согласен. Оставлять его здесь нельзя. Первый же полицейский его арестует.
Степан немного расслабился, спина его уже не чувствовала холодок от направленных на него автоматов. Слава Богу, смерть отступила, один миг у нее выиграл. Дальше тоже будет все на волоске от нее, но главное – пока остался жив.
Солдаты быстро стали забегать по трапу на шхуну. Заволокли туда и финна Эйхе. Недолго повозились с мотором и завели его: немцы насчет техники – люди знающие.
Лица солдат повеселели. Судьба их стала более определенной. На Степана теперь смотрели более снисходительно.
Доронин понимал: опасность для него не миновала не только там, на немецкой земле, но и здесь, на шхуне. Вдруг кому-то покажется, что мертвый Иоганн Форс будет более надежно молчать. С этим русским могут возникнуть очень неприятные неожиданности. По списку все будут налицо, а раненый Форс мог в пути скончаться.
На шхуне Доронин сидел на скамейке рядом с ротным. Когда совсем стемнело, выбрасили за борт финна. Гауптман назначил три парные смены рулевых. Поручил ефрейтору Гольдбергу пунктуально менять смены и следить, чтоб не сбились с курса на запад, для чего от берега далеко не уходить.
К ночи похолодало, солдаты искали место для ночлега в кубрике. Гауптман предложил Доронину:
– Пойдем, там есть койка шкипера и одеяло, вдвоем поместимся.
Доронин спокойно ответил:
– Не засну я. Сам понимаешь, разные мысли в голове. Посижу здесь, подышу.
– Ну дыши, – и ушел в кубрик.
А у Степана уже созревал следующий шаг спасения от смерти. Глядя на темный берег во мраке справа по борту, прикидывал: что там – Дания? Надо еще раз рискнуть: когда все угомонятся, а рулевым в будке его, сидящего на корме, не видно, тихонько скользнуть за борт и доплыть до берега. А там, как говорится, куда кривая судьбы вынесет. Главное сейчас – уйти от немцев.
Ждал долго, поглядывал – не следят ли за ним тайком откуда-нибудь. Не торопясь уложил документы, чтоб не промокли, в рыбачью панаму, которая валялась под скамейкой, сунул ее за пазуху, поближе к горлу. И еще раз мысленно сказав: «Помоги, Господи» – тихо перевалился за борт.
Холодная вода обожгла не сразу, сначала она впиталась в одежду и только потом стала сковывать все тело. Недолго постоял в воде без движения, подождал, чтобы черная корма шхуны отдалилась. И быстро поплыл к берегу, стараясь этим хоть немного разогреться.
…До берега он доплыл.
* * *
Как сложилась судьба капитана Доронина Степана Михайловича после этой постигшей его в конце войны трагедии, мне неизвестно. Наверное, в ней было немало разных зигзагов. Если я о нем когда-нибудь узнаю какие-то подробности, продолжу рассказ, но будет это повествование уже совсем о другом «се ля ви».
Батюшка
Рассказал мне эту удивительную эпопею русского священника мой однополчанин по 39-й армии на Западном фронте Виктор Маньков. Мы с ним после войны учились в Высшей разведшколе Главного разведывательного управления в 1945—1947 годах. Виктор прошел с 39-й армией весь ее славный путь в Маньчжурской операции. Дошел до Порт-Артура, где и произошла встреча, о которой он мне поведал. Вот его рассказ в моем изложении.
В Порт-Артурской операции запомнилась встреча с удивительным человеком. Произошла она так. Однажды ко мне подошел китаец, кланяясь и улыбаясь, называл меня капитаном, они всех офицеров называли «гаспадина капитана», стал говорить о каком-то русском человеке.
Мы поняли из его торопливого рассказа, что он просит нас поехать с ним для знакомства с каким-то хорошим русским человеком. Ну, я сел на трофейный аэродромный пикап, взял с собой ординарца и двух автоматчиков, посадили между ними китайца и поехали.
Китаец показывал дорогу. В город не заехали. Миновали улочки пригорода и выехали в поле, к сопкам. Я уже начал беспокоиться, не ловушка ли? Да и автоматчики, смотрю, на всякий случай оружие держат наготове. Но китаец был абсолютно спокоен, все такой же улыбающийся, доброжелательный. Чистенький в своей много раз стиранной одежде, он внушал доверие. Наконец мы подъехали к пологой сопке. На середине этого возвышения виднелся небольшой домик. А на склоне ее открылось нам ухоженное кладбище. Ровными рядами стояли кресты и могилы, такие свежие, как будто только вчера или сегодня проходило здесь захоронение. Я подумал – откуда же так много могил, у нас вроде и потерь таких не было при захвате города. Если здесь похоронены наши, русские, и недавно, то почему же стоят кресты? Мы подошли к небольшому строению, выложенному из крупных камней, это была часовня с крестом наверху, и к ней пристроено небольшое жилье с двумя окошечками. Навстречу вышел священник. Он был в длинной рясе из грубой шинельной ткани, на груди его большой тусклый крест на длинной цепи, на голове круглая шапочка из такой же ткани, как ряса.
Священник подошел к нам. Он явно был очень взволнован. Глаза его просто лучились светлой радостью. Он смотрел на нас, как на ангелов, спустившихся с неба на это безвестное кладбище. Сначала он протянул к нам руки, видимо желая нас обнять. Потом остановился, перекрестил нас всех большим размашистым крестом. Поднял очи на такое же голубое, как его глаза, небо и сказал:
– Слава тебе, Господи, – посетил нас грешных!
Затем он подошел ко мне первому, как офицеру, и все же не удержался и обнял, прижался ко мне, и я почувствовал, что тело его стало вздрагивать – он плакал. Я, толком еще не понимая, что происходит и что все это значит, держал его вздрагивающее тело и чувствовал, что, несмотря на его седую бороду, силен и могуч этот старец. Позднее я узнал причину этой его прочности. Все, что мы видели, – и маленькая часовенка, и домик, прильнувший к ней, и все эти могилы и кресты, и вся эта ухоженность кладбища, – все сработано его руками. Священника звали отец Феофан. Он рассказал нам, что живет здесь с 1905 года – 40 лет! Был он полковой священник, встречал новобранцев, когда они приходили в полк, помогал им укрепиться духом для несения нелегкой солдатской повинности, служил молебны по праздникам, произносил проповеди, внушая, что каждый солдат может оказаться или спасителем родины, или виновником многих ее бед и несчастий. Ибо самоотверженный поступок может увлечь многих и даже привести к победе целый полк, а дурной пример может навредить, как укол грязной булавки, заражающей одну каплю крови, а от этой капли может погибнуть все тело. А началась война – благословлял солдат, уходящих в бой, говорил им напутственные слова, вдохновляя на подвиги, на защиту царя и отечества. В течение многодневной обороны Порт-Артура полег в боях весь полк. Делом священника в те дни было не только упрочить солдатский дух перед боем, но и позаботиться о раненых и о погребении погибших.
– Все дни боев я был со своими чадами, – рассказывал отец Феофан, – раненых перевязывал, причащал, исповедовал тех, чья душа отлетала к Богу. Подобрал, обиходил сие место, где отпевал и совершал погребение усопших. Так день за днем весь полк полег в боях. Ни один солдат, ни один офицер не дрогнул и не смалодушничал, все выполнили мое напутствие, которое я давал им, осеняя их крестным знамением перед боями. И вот теперь все они здесь, в этой земле.
Отец Феофан помолчал, обвел медленным взором могилы, словно погладил их своим взглядом.
– Я знал многих из них в лицо, знал, кого ждет жена, дети, невесты. Многим писал письма в их родные деревни. Я и сейчас вижу каждого из них, слышу их голоса. Помню улыбки и слезы. Звучат в моих ушах слова, которые они говорили при последнем своем дыхании. Мог ли я оставить их здесь одних? Я не покинул их. Японцы, когда взяли Порт-Артур и появились на этом кладбище, оценили мое усердие, не тронули меня, разрешили мне остаться, и вот я неспешно, камень за камнем укладывал и возводил эту небольшую часовенку, в которой молился все эти годы, денно и нощно за упокой души сих славных воинов. А рядом прилепил себе сторожку, где и коротал все эти долгие и скорбные дни.
Мы вошли в небольшую, чистую комнатку. Гладкий земляной пол, две самодельные скамейки, небольшой, тоже самодельный стол у окна. Одну стену комнаты занимали полки. На полках ровными рядами стояли какие-то одинаковые, тоненькие книжечки. Перехватив мой взгляд на эти полки, священник объяснил:
– А это солдатские книжки служивых. Я все их собрал и берег эти годы, а теперь хотел бы передать вам, чтобы грустная весть о добром деле, совершенном каждым из них, дошла до тех близких, которые живы и по сей день на Родине, может быть, жены, брата, сестры, дети у кого были.
Я подошел к полке, взял одну из книжек, раскрыл ее и прочитал: «Буренин Иван Афанасьевич. Чин – рядовой. Родился в 1885 году». Значит, было ему двадцать лет, когда сложил голову. Вот и вся короткая жизнь солдата.
Священник, вспоминая, негромко говорил:
– Добрый был паренек, русые кудри выбивались из-под фуражки. Стеснительный, краснел, когда при нем срамное слово кто-нибудь высказывал. А в бою не оплошал, в рукопашной трех японцев заколол штыком и одного офицера уложил прикладом. Два раза был сам пробит пулями, а товарищей не оставлял. Убило его осколком снаряда. Сразу отдал Богу душу, без мучений. Здесь он, в третьем ряду похоронен. Да пойдемте к ним, я вам о них многое расскажу.
Мы вышли из сторожки и пошли вдоль могил. На большинстве крестов, на чисто оструганной древесине были черным углем написаны фамилия и имя погребенного в этой могиле, а также обозначен день смерти, и тем же черным угольком нарисован небольшой крестик. Надпись, видно, постоянно подновлялась. Под солнцем и дождями она выцветала, но батюшка аккуратно все эти годы обводил все ранее написанное. Он объяснил: деньжонок на краски или карандаши не было, вот и выжигал тонкие угольки, они хороши еще и тем, что под дождями буквы и цифры не расплываются.
– Как вам, наверное, ведомо, начальником укрепленного района и всей обороны Порт-Артура был генерал-адъютант Анатолий Михайлович Стессель. А сухопутной обороной руководил храбрый и твердый генерал Роман Исидорович Кондратенко, он тоже сложил свою голову здесь в день 2 декабря 1904 года.
Внезапным нападением на Порт-Артур с моря японцы овладеть крепостью не смогли. После неудачных для них, да и для нас морских сражений, японцы решили брать крепость с суши. Они высадились на подступах к крепости и стали накапливать войска, а потом двинулись в сторону Порт-Артура. Много было схваток еще на подступах к крепости. Вот, к примеру, тяжелые бои были за городок Цзинь-Чжоу, с первых же стычек наши воины вели себя мужественно и отважно вступали в бой с во много раз превосходящими по силе японцами. Часто дело доходило до рукопашной. Ну, в рукопашной еще ни одна армия против русского штыка устоять не могла, и Цзинь-Чжоу в рукопашной схватке отбили. Но потом все же японцы обошли городок со всех сторон, и кто из наших остался жив, отошли. И тут уже, когда ушли, вдруг обнаружилось, что не успели взорвать пороховые погреба в Цзинь-Чжоу. И было это поручено поправить подпоручику Орлу 14-го Bocточно-Cибирского стрелкового полка, который со своими товарищами пробрался назад, в Цзинь-Чжоу, и взорвал-таки эти погреба. От взрыва немало еще полегло японцев.
Присутствие духа генерала Кондратенко, личная его храбрость и доверие к нему солдат были опорой во всех боях еще на подступах, а потом и в отражении всех штурмов крепости.
К июлю японцы подошли вплотную к укреплениям крепости и стали основательно готовиться к ее генеральному штурму. 22 июля был первый штурм. После сильной бомбардировки артиллерии японские цепи пошли в атаку. Все атаки были отбиты. 25—26 июля штурм повторился, но после тяжелых боев и эти атаки были отбиты.
И вот, несмотря на неудачу своих действий, японцы прислали парламентеров с предложением сдать крепость. Генерал Стессель от имени всех нас с презрением отверг это предложение, и мы все были полны решимости продолжать оборону крепости. Японских парламентеров, которых возглавлял Майор Ямаока, с миром отпустили назад.
Получив отказ, командующий здешней группировкой японской армии генерал Ноги приказал начать новый общий штурм. В центре ударили две дивизии, и по одной дивизии наступали на правом и левом флангах. Японцы устроили настоящий обвал из артиллерийских снарядов. Все наши позиции были покрыты разрывами, а в небе образовались целые облака от взрывов шрапнели. До 9 августа три дня шел общий штурм, но он был отбит с огромными потерями для японцев.
Мы остановились возле креста, на котором было начертано: «Капитан Квинихидзе». Священник тихо сказал:
– Сей красивый человек погиб от гордости. Он столь презирал врагов, что никак не хотел опускаться в траншею, когда привел свою роту на позиции. Пули свистели. Снаряды рвались неподалеку, солдаты умоляли своего командира спуститься в окоп, но он гордо отвечал: «Вражья пуля меня не тронет». И так командовал своей ротой, вышагивая вдоль окопа. Может быть, он читал о подобных поступках офицеров в боях на Кавказе, но там была другая война, не тот огонь. Неподалеку разорвался снаряд, и осколок угодил капитану Квинихидзе в голову.
Сделав несколько шагов, отец Феофан остановился у креста, на котором было написано: «Штабс-капитан Яковлев». Отец Феофан помолчал некоторое время, потом сказал:
– Вижу его и сейчас перед собой, молодого, высокого, стройного. Я 9 августа благословил всю его третью роту 14-гo стрелкового полка. Они шли на помощь истекавшим кровью защитникам горы Высокой. В роте Яковлева было 217 человек. Они бросились на выручку товарищам быстро и энергично. Через час от роты осталось всего двадцать семь человек, погиб и штабс-капитан Яковлев.
У следующей могилы отец Феофан заговорил еще более взволнованно:
Кровь, горячую кровь унтер-офицера Старцева я и сейчас ощущаю на своих руках. Я перевязывал его, пуля угодила в вену на руке, и кровь била фонтанчиком. Я пришел с этой ротой, тоже благословив ее на подвиг ратный, когда очень поредели ряды защитников сей высоты. После первого же обстрела артиллерией от роты осталась почти половина. Когда я перевязывал Старцеву рану, японцы сделали еще один залп артиллерии, осколок угодил Старцеву в грудь, просвистев над моей головой. Старцев тут же скончался, я не успел его даже осенить крестом.
У двух могилок, насыпанных близко друг к другу, отец Феофан сказал:
– Побратимы, охотники. Игнатий Черепанов и Петр Чабан.
– Так разведчиков тогда называли? – спросил я.
– Не знаю, как теперь они называются, а в те поры назывались охотниками. Отправились они темной ночью к неприятельским позициям за «языком». Непростая это была работа. Надо было прорезать проволоку, обойти всякие хитрые приспособления японцев против охотников, которые они навешивали между кольями проволоки. Hо не удалось в ту ночь добыть «языка». Что-то где-то они зацепили, залязгало железо, и японцы обнаружили охотников, открыли бешеный огонь из пулемета. Петр был ранен сразу. Игнатий находился поблизости, не бросил его, стал тащить волоком. Но несколько пуль догнали и Черепанова. И тут Игнатий не бросил Петра. Сам истекая кровью, он волочил своего товарища. Они немного не доползли до своих позиций, скончались оба от потери крови. Предал я их земле на другой день. Оба они не успели исповедаться, да и безгрешны были, аки ангелы.
Особенно тяжелые бои шли за гору Высокую. Она возвышалась над всей панорамой порта, и ее никак нельзя было отдать противнику. Это понимали все: и офицеры, и нижние чины. Наверное, здесь были самые жестокие бои из тех, которые проходили вокруг Порт-Артура. Мы держались до последнего. А последними были одиннадцать солдат под командой прапорщика Бокарева, он тоже был ранен и потерял сознание. И когда не осталось ни одного снаряда, и не было командира, я велел одиннадцати героям снять фуражки, осенил каждого Божьим крестом и сказал:
– Братья, мы выполнили свой долг до конца.
Положив раненого командира на носилки и вынув замки от орудий, израненные и контуженые солдаты отошли с редута. Все они здесь лежат. Кто от ран скончался, кто позднее в боях сложил голову.
На форту, который мы оставили, японцы водрузили свой флаг. Но флаг этот не только вдохновлял японских солдат, но и нашим воинам злости прибавил. Не мог, не хотел видеть этот флаг над фортом капитан Лебедев, подоспевший к нам на помощь. Он сказал горячую речь своим воинам и бросился впереди их к форту. Он рубил японцев палашом, стрелял в них из револьвера, а когда кончились патроны, бил врагов этим револьвером, как палицей. Солдаты не отставали от командира, и неприятель дрогнул, побежал, а Лебедев дошел до японского флага и сбросил его с бруствера. Устав от жаркой стычки, он снял фуражку и платком вытирал обильный пот, и в это время близко разорвавшийся снаряд сразил храброго офицера. Вот здесь в этой могиле навсегда упокоен прах его. Могила капитана Лебедева была, как и другие, покрыта дерном, на кресте начертано его имя и дата смерти.
Мы двинулись дальше. Священник остановился у следующего креста.
– Общих штурмов было четыре, а между ними постоянно шли тяжелые бои. Я все дни находился на фортах и редутах, перевязывал раненых, исповедовал, помогал предстать перед Богом умирающим. Они были чисты и безгрешны, хотя и каялись перед смертью в совершенных грехах. Мне легко было отпускать им грехи, потому что грехи их были невелики, а заслуги перед отечеством огромны.
После падения фортов на горе Высокой события стали развиваться довольно быстро. Японцы установили на этой горе тяжелые орудия и получили возможность обстреливать не только город, но и бухту, и наши корабли, стоявшие в этой бухте на якоре.
Второго дня декабря на форту номер два, который находился на Драконовом хребте, погиб герой обороны и руководитель ее генерал Кондратенко. Мне рассказывал прапорщик, который видел его гибель своими глазами.
Форт номер два наполовину уже был в руках японцев. И ту часть сооружения, которая была еще в наших руках, кто остался жив, отделили от японцев мешками, наполненными землею, создав своеобразный бруствер. Прикрываясь этим бруствером, отбивались от наседающих врагов. Японцы, неся большие потери, стали применять какие-то дымы с ядовитыми веществами, чтобы вытеснить защитников форта. Подполковник Рашевский донес об этом в штаб обороны. Вот генерал Кондратенко и прибыл, чтобы разобраться с этими дымами. И еще он принес награды тем, кого отметил государь своей царской милостью и пожалованием этих знаков.
Осмотрев остатки позиции, генерал Кондратенко вошел в небольшой каземат, где и вручил высокие награды зауряд-прапорщику Смолянинову и фельдфебелю Макурину. Поблагодарив за службу и поздравив награжденных, генерал Кoндратенкo поднял в их честь бокал красного вина. И в это время раздался страшный взрыв. Снаряд угодил в каземат. От этого разрыва погибли девять человек, в том числе оба награжденных и генерал Кондратенко.
По единогласному отзыву всех портартурцев, Кондратенко был душой обороны, он вдохновлял всех, прибавлял силы на подвиги и труд.
Имя его было обаятельно, слова, советы, просьбы, указания безусловно принимались к руководству. В Порт-Артуре все признавали, что крепость держалась его умом, его талантом, героизмом и светом его личности. С ним, с его смертью исчезла объединявшая всех сила обороны и настойчивое желание держаться до последней крайности. Кондратенко и все, кто погиб в тот день, похоронены в Порт-Артуре на холме, и холм этот в честь его имени, а звали его Романом, назван Романовским холмом, и название сие справедливо и удачно сочетается с именем императорской царствующей фамилии Романовых.
Так обошли мы почти все кладбище, оно было невелико, чуть меньше футбольного поля. Обнесено каменной кладкой вышиной с метр.
Об этих камнях священник сказал:
– Каждый из них я принес своими руками за эти годы и выложил всю стену.
Кладбище было покрыто свежей зеленой травкой. При здешней летней жаре поддерживать траву в таком состоянии, да еще на горке, тоже, видно, было непросто, и я спросил отца Феoфана, как это ему удается.
– Да, эта горка каменистая, и копать могилы здесь было непросто. А потом я дерн носил со всех мест, где мог его обнаружить, и обложил тем дерном могилы и все поле. А вот там, – он показал на следующую за этой высотой сопку, – там я обнаружил хороший родник и подвел его струю сюда, к этой высоте. На самом взгорье у меня накопитель, в котором собирается вода, а потом из этого накопителя по ложбинкам спускаю вдоль могил. Вдоль каждого ряда есть такие канавки. А в тех канавках у меня небольшие ямки, из которых я уже ведром беру и разбрызгиваю, куда вода не доходит самотеком.
Мы слушали и удивлялись подвигу этого благородного и прекрасного человека. Теперь мне было понятно, почему его тело такое прочное и могучее. Сколько же труда вложил этот духовный пастырь ради сохранения памяти своих боевых однополчан! Я спросил его:
– Чем вам помочь? Вот теперь мы пришли, мы что-то же должны сделать?
– Прошение одно: заберите у меня служебные книжки солдат и документы офицеров, чтобы стало известно об их богоугодных делах во славу отечества семьям, может быть, детям или внукам, которые живут и поныне на родной земле.
– А вы сами, отец Феофан, не хотели бы разве вернуться и поискать своих родных?
– Я мыслю так: едва ли кто жив остался, да и были у меня только матушка да батюшка, ни братьев, ни сестер не послал Господь. А уж мне самому скоро семьдесят. Где уж им в живых быть? Останусь я здесь, со своими служивыми, и лягу с ними рядом, в эту землю, когда призовет Всевышний. Такова уж судьба моя, да так Господь ее определил…
Я поехал в штаб, разыскал генерала Иванова.
И он с несколькими офицерами штаба приехал на это небольшое кладбище и тоже выслушал печальный рассказ отца Феофана. Возвратясь в штаб, генерал Иванов приказал упаковать служебные книжки солдат и офицеров, отправить в Москву.
И еще доложил об отце Феoфане Главнокомандующему маршалу Василевскому. Маршал Василевский, как известно, происходил из семьи священника, ему был понятен подвиг отца Феофана. Он наградил его от имени правительства орденом Красной Звезды. Я был при вручении этого ордена священнику-герою. Я видел, как текли слезы из его голубых глаз и падали на белую бороду…
Вот и весь рассказ моего однополчанина.
Я думаю, читатели оценят редкую возможность услышать не только эхо, но и рассказ участников и очевидцев двух войн с Японией, разделенных почти половиной века.
НОСТАЛЬГИЯ
Память народная
В слове «памятник» корень, основа и смысл его – память. Памятник может быть скульптурный – мраморный или бронзовый, памятником целой эпохи может стать дворец или творение художника на полотне, рукопись писателя или изданная книга.
Эти хранители памяти, на первый взгляд, очень надежны. Что может быть прочнее бронзы, мрамора? Скульптурная группа Мухиной у входа на ВДНХ отлита из нержавеющей стали! Такие памятники действительно веками сохраняют вложенный в них исторический смысл, но и он износился.
Но есть еще один вид памяти, который вроде бы очень нестоек – его нельзя потрогать, увидеть, ощутить, и где уж ему равняться с металлом или мрамором! Ан нет! Памятник сей, хоть и не вещественный, но, пожалуй, прочнее многих других. Это память народная! Она передается из поколения в поколение. И когда рушатся дворцы и замки, блекнут и осыпаются полотна художников, превращаются в тлен книги – память народная бережно сохраняет и несет дальше и дальше в века все, что заслуживало ее одобрения и уважения. Вспомним мифических – Геракла, Прометея, Зевса, Афину, вспомним наших былинных – Илью Муромца, Микулу Селяниновича, Василия Буслаева, Добрыню Никитича. Десятки исторических эпох канули в Лету, стерлись с лица земли города и целые государства, а память народная все хранит и несет дальше сказочных и мифических героев, полюбившихся народу навсегда.
Высоко ценя именно эту память, Пушкин сказал: «Я памятник себе воздвиг нерукотворный!» Огромный смысл заключен в этом слове – нерукотворный. Именно этим словом можно лучше всего объяснить и показать безграничную емкость той памяти, о которой я хочу напомнить.
В наши дни ведется настоящая битва за память.
Недостатки в социалистической системе были, но было и много хорошего, что теперь лживо опорочивается. А люди помнят хорошее. Народная память, о которой я сказал выше, хранит, бережет и сожалеет об утраченных благах при советской жизни, которую сменил бандитский, коррупционный, геноцидный капитализм.
Есть такая болезнь – ностальгия – тоска по Родине, болезнь души о чем-то хорошем, утраченном. От этой болезни многие даже умирали, утратив Родину или близкого, любимого человека. Сегодня ностальгией больна Россия, многие народы, раньше входившие в Советский Союз. Особенно старшее поколение, к которому и я отношусь.
В рассказах, которые вы прочитаете ниже, я, движимый общей нашей ностальгией, хочу показать читателям и особенно молодым картины нашей прошлой жизни. Причем все это не написано сегодня как дискуссия, как опровержение нынешних лжецов и лицемеров, очерки созданы и опубликованы в советские времена и объективно показывают трудолюбивых людей, которые жили счастливо и чистосердечно любили и создавали новое государство.
Для того чтобы охватить все общество, все социальные слои его, применю прежнюю, отвергнутую ныне градацию, как бы ни пыжились, как бы ни ухищрялись новоявленные философы – общество было и осталось разделенным на рабочих, крестьян и интеллигенцию. Так было прежде и осталось сегодня. Но какие разные, непохожие, совсем иные тогда и теперь эти рабочие, крестьяне, интеллигенты! Я пишу о тех, которые были раньше, а кто бедствует, голодает и умирает сегодня – встанет перед вами в нынешней жизни.
Первые
Есть имена и есть такие даты, —
Они нетленной сущности полны…
Не заглушить их памяти святой.
И в наших будут жить они потомках.
Александр Твардовский
Если говорят о легендарном человеке, мы обычно воспринимаем его жившим где-то в прошлом, как личность историческую.
Наверное поэтому меня охватывали чувства не только радости, восхищения, но и какого-то неверия своим глазам, когда я встречал сразу живых легендарных героев в небольшой студии. В те дни я вел на телевидении передачу «Подвиг».
В апреле 1979 года исполнялось сорок пять лет со дня установления высшей степени отличия – звания Героя Советского Союза и присвоения этого почетного звания первым нашим семи соотечественникам: Анатолию Ляпидевскому, Сигизмунду Леваневскому, Маврикию Слепневу, Николаю Каманину, Василию Молокову, Михаилу Водопьянову, Ивану Доронину.
К сожалению, не было в живых Доронина, Леваневского и Слепнева. С другими я созвонился по телефону, договорился о встрече. И вот они пришли.
Всегда доброжелательный и радушный, коренастый, увенчанный пышной белой шевелюрой – кавалер Золотой Звезды № 1 – Ляпидевский.
Как всегда, в военной форме, собранный, строгий и в то же время очень располагающий к себе, генерал-полковник Каманин.
Элегантный, стройный, даже в свои немалые годы, ему уже далеко за восемьдесят, – Молоков.
Не смог прийти Михаил Водопьянов, приболел, а жаль: веселый, любящий шутку, он очень оживил бы нашу беседу.
Мы сели в удобные кресла, мягко вспыхнул экран, и перед нами возникла и пошла жизнь далеких теперь тридцатых годов.
Эго были героические дни первой пятилетки. Вся страна в лесах новостроек: Магнитка, Днепрогэс, Сталинградский тракторный… Открыты огромные богатства на Севере, в Сибири, на Дальнем Востоке. Нужен кратчайший к ним путь. Таким кратчайшим, но и труднейшим, мог стать только Северный морской путь. Много раз исследователи пытались пробиться этой ледово-морской дорогой, но за одну навигацию это удалось сделать только ледоколу «Сибиряков» под руководством О.Ю. Шмидта и капитана корабля В.И. Воронина. Много трудностей преодолела эта экспедиция; к концу пути ледокол лишился ходовых винтов, полярники сшили и поставили паруса, тянули корабль лебедками, установленными на льду. И все же вышли в чистые воды Берингова пролива – «ворота Тихого океана»! Так, 1 октября 1932 года совершилось то, к чему стремились люди четыреста лет!
И вот уже снаряжается новая экспедиция на корабле «Челюскин». Она должна подтвердить возможность прохождения Северным морским путем за одну навигацию на обычном транспортном судне.
Челюскинцы выполнили эту трудную задачу, но в самом конце пути, когда уж был совсем близко Берингов пролив, корабль затерли тяжелые льды и течение понесло его в глубь Арктики. Началась многодневная героическая челюскинская ледовая эпопея.
– То, что заснято на пленку, известно многим зрителям и останется нашим потомкам. Расскажите, пожалуйста, о том, что осталось за кадром, – попросил я героев. – Вот вы, Анатолий Васильевич, первым нашли лагерь челюскинцев. А где вы работали, чем занимались до этого? Какой и кто дал вам приказ о помощи полярникам?
– В те дни я выполнял такое задание: три корабля второй год зимовали, затертые льдами. Мне было приказано вывезти с них людей. Два самолета «АНТ-4» доставили из Владивостока на пароходе в бухту Провидения. Здесь я их должен был с механиками собрать и перебазировать дальше на север. Вот тут я и получил распоряжение специальной правительственной комиссии, которую возглавил В.В. Куйбышев, найти и спасать челюскинцев. Стал я летать до Уэллена, а оттуда на поиски лагеря Шмидта и наконец нашел их 5 марта.
Слушая Ляпидевского и наблюдая за кадрами кинохроники, где его двухмоторный самолет садится на льдину, я подумал: «Как точны слова: скромность украшает героев! Ведь послушать Ляпидевского, все произошло очень просто – полетел, нашел, помог. А ведь за этими короткими словами длительная, опасная и труднейшая борьба с суровой арктической стихией. Много раз пытался Ляпидевский пробиться к лагерю Шмидта, но возвращался с половины пути – подводили моторы, сам замерзал и обмораживался в необогреваемой кабине. После нескольких полетов кончился запас сжатого воздуха, нечем заводить моторы. Когда подвезут воздух из бухты Провидения? С забинтованными, почерневшими от обморожения лицом и руками Ляпидевский отправился на собаках, или, как он сказал, «на лающем транспорте», к другому самолету в бухту Провидения. Неделю пробивался летчик на собаках сквозь снега, пургу, в морозы до пятидесяти градусов. Усталый и больной – но до себя ли, когда ждут помощи другие люди! – он сразу же готовится в полет. Двадцать восемь раз пытался пробиться Ляпидевский к челюскинцам и на двадцать девятый все же пробился!
– Наверное, и сесть было непросто?
– Конечно, – отвечает он. – Ледяные торосы вокруг, расчищена лишь небольшая площадка. Я думал больше о том, как буду взлетать, ведь назад полечу загруженный до предела! Встреча была радостной, но короткой: надо было спешить, оставалось мало светлого времени. Среди челюскинцев было десять женщин и двое детей. Я их вывез первым же рейсом. Когда они садились в самолет, я заволновался, прикидывая нагрузку, и сказал: «Какие вы толстые!» А они смеются: «Это на нас мех, шкуры, а сами мы худенькие!» В тот же день я доставил их в Уэллен.
У каждого из семи героев летчиков своя спасательная одиссея. Я их спросил:
– Было ли ощущение, что вы совершаете что-то необыкновенное, героическое?
Молоков сказал:
– Я считал своим долгом как можно скорее помочь людям, попавшим в беду.
Ляпидевский: – Это была моя работа. И до получения задачи спасать челюскинцев я готовился вывозить полярников с кораблей, затертых льдами. Не думал я о подвигах, выполнял трудную работу.
Каманин: – Я человек военный – получил приказ и должен был во что бы то ни стало его выполнить. Необычность ситуации, опасность, в которую попали челюскинцы, прибавляла мне силы.
Слушая рассказ героев, я думал о том, что соприкасаюсь с самыми первыми истоками, дающими объяснение подвигу – одному из величественных проявлений человеческой личности. Долг, тяжелая работа, оказать помощь во что бы то ни стало, выполнение приказа Родины, веление своего сердца, необходимость помочь другому прибавляет тебе силы…
Все это конечно же было не только учтено, но и послужило поводом для утверждения статуса о звании Героя Советского Союза. Я подумал и о том, что это звание символично для нашей героической эпохи еще и тем, что эти подвиги были совершены не в бою, не на войне, а при спасении людей, терпящих бедствие. Огромный гуманный смысл в этой мирной направленности высшей степени отличия! Новое пролетарское государство рождалось в огне революционных боев, под постоянной угрозой нападения агрессоров, время требовало воспитывать советских людей не только как строителей нового общества, но и как воинов, способных его защищать. И вот, формируя в людях и качества воинов, ведя бои с многими врагами, партия наша никогда не скатывалась на военизированную, милитаристическую воспитательную платформу. Мир, созидание, гуманное, добросердечное отношение между людьми и народами – вот чему учила советских людей Коммунистическая партия.
Хочется еще раз подчеркнуть – советский героизм всегда имел мирную, гуманную направленность, подвиги, которые совершали еще до введения звания Героя Советского Союза большевики-революционеры, участники Гражданской войны, труженики первых пятилеток в каких-либо критических ситуациях, все эти благородные дела имели в конечном счете одни общие цели – не жалея сил и даже своей жизни, сделать доброе дело для своего народа и Родины.
На подвигах первых героев воспитывалось и новое поколение, совершившее много блестящих ратных подвигов в годы Великой Отечественной войны. Расширялся, прогрессировал и сам диапазон понятия героического. Он вырос в массовый героизм, набрал силу интернациональной, международной значимости, вышел за границы земли, обрел космическую масштабность!
Очень любопытной мне кажется возможность проиллюстрировать эту поступательную эволюцию подвига из жизни первых наших героев. Потому что они не только как хрестоматийные примеры или как образцы для подражания шли по жизни, они участвовали во всех больших и малых испытаниях и победах вместе со всем советским народом.
О челюскинской эпопее все хорошо наслышаны. Меньше известно о том, как позднее сложилась судьба героев и особенно их военные биографии. Рассказы об этом, мне показалось, лучше всего расположить в порядке номеров золотых звезд, поэтому я спросил первым Ляпидевского:
– Анатолий Васильевич, как сложилась ваша судьба после спасения челюскинцев, и особенно хотелось бы узнать, где вы были в годы Великой Отечественной войны?
Вот что рассказал Ляпидевский:
– Спасение челюскинцев заставило меня думать об очень многом. В том числе и о необходимости создания надежных моторов, навигационных приборов для того, чтобы летать в любую погоду. На каких машинах мы летали? С водяным охлаждением, пока разогреваешь воду на сорокаградусном морозе, чтобы запустить мотор, больше половины дня проходило. День-то в Арктике короткий. А в темноте летать мы не могли. Не было приборов. Кабина герметически не изолировалась, в ней холод такой же, как и за бортом. Однажды я вылетел без меховой маски, ветер слепил мне веки, обдирал и сковывал лицо. Я прислонил меховую перчатку к щеке, а ветер вырвал перчатку и унес за борт. Голой рукой вести самолет невозможно. Пришлось садиться. Желание оснастить самолеты надежными приборами для полетов в любую погоду, в любое время суток можно было осуществить, только получив фундаментальное образование. Поступил я учиться в Военно-воздушную академию им. Жуковского и в 1939 году окончил инженерный факультет. Работал затем с Туполевым. В годы войны вылетал в действующую армию для проверки в боевых условиях новых бомбардировщиков «Ту-2». Позднее, как имеющий опыт работы в Заполярье, был направлен на Карельский фронт. В годы войны мне было присвоено звание генерал-майора авиации. После окончания боев вернулся опять к Туполеву и работал до последних дней жизни Андрея Николаевича. Сейчас я и в отставке, и продолжаю работать над созданием новых приборов авиационной техники.
Судьба Сигизмунда Леваневского, к сожалению, была короткой и трагичной. Именно поэтому мне кажется необходимым рассказать о нем подробнее. В те годы наша авиация одерживала победы в Арктике одну за другой. 1 мая 1937 года Михаил Водопьянов впервые в истории посадил самолет в районе Северного полюса, доставив туда четверых зимовщиков первой советской научной станции на дрейфующей льдине. Кстати, они были тоже будущие герои: И. Папанин, Э. Кренкель, Е. Федоров, П. Ширшов.
20 июня того же года, за шестьдесят три часа полета из одного полушария в другое, из СССР в США, совершили трансарктический перелет В. Чкалов, А. Беляков, Г. Байдуков.
Вспомните, пожалуйста, как вы устаете за 2—3 часа полета на комфортабельном лайнере. И вам легко будет представить почти трехсуточный полет в самолете с небольшой скоростью, в холодной кабине, да всего с одним мотором, при поломке которого гибель неотвратима. Вскоре, опять же через Северный полюс, в Америку полетели М. Громов, С. Данилин и А. Юмашев.
С. Леваневский со своим экипажем должен был совершить третий перелет Москва – Северный полюс – США, на этот раз на огромном четырехмоторном самолете. Когда говорят об этом полете, обычно называют только Леваневского. Мне кажется, следует помянуть добрым словом и его спутников, они были замечательные, опытные авиаторы: второй пилот Николай Костанаев, штурман Виктор Левченко, бортмеханик Григорий Побежимов, бортмеханик Николай Годовкин, радист Николай Голковский.
Самолет «Н-209» взлетел со Щелковского аэродрома 12 августа 1937 года. Первые герои, звездные братья Леваневского, проводили его, пожали на прощание руку. Потом они разъехались по домам, прошел день, проспали они ночь, а Леваневский со своим экипажем все это время был в полете. И вот в 13 часов 40 минут пришла радиограмма: «Пролетаем Северный полюс». Достался он нам трудно. Начиная с середины Баренцева моря, все время мощная облачность. Высота 6000 м. Температура – минус 35 градусов. Стекла покрыты изморозью. Встречный ветер местами 100 километров в час». Затем Леваневский сообщил, что летит в сплошной облачности на трех моторах, один не работает. В 17 часов 53 минуты из эфира пришли слова: «Как меня слышите? Ждите…» Это были последние слова с самолета «Н-209». Что произошло после этого, неизвестно.
Первым на поиски самолета Леваневского вылетел из Фербенкса американский летчик Маттерн. У него были на то свои особые причины. Вот что рассказал об этом Михаил Водопьянов:
…В конце лета 1933 года на самолете, носящем звонкое название «Век прогресса», американский пилот Джемс Маттерн совершал кругосветный перелет. Его широко разрекламированный полет над населенными обжитыми местами со сравнительно мягким климатом проходил успешно.
Маршрут Маттерна лежал через Советский Союз. Я помню встречу американского пилота на московском аэродроме. Высокий, широкоплечий, он стоял, улыбаясь, у своей машины и отвечал на вопросы корреспондентов. И только глубоко запавшие глаза свидетельствовали о том, как нелегко давался ему этот перелет. Впрочем, от аэродромного люда ничего не скроешь. Все уже знали, что Маттерн из-за своей мнительности и подозрительности довел себя до крайней степени усталости. Ему все время казалось, что кто-то ему готовит подвох. Он ни на минуту не отходил от самолета и все стремился делать сам: и заливать бензин, и проверять аппаратуру, и устранять мелкие неисправности. Напрасно на каждом советском аэродроме специалисты предлагали бескорыстное техническое обслуживание машины. Помощь он категорически отвергал. Сын страны, в которой конкуренты не гнушаются никакими средствами, рекордсмен Маттерн не доверял никому. И взвалив на свои, правда широкие, плечи все бремя перелета, очень устал.
И вот этот Маттерн пропал, не закончив свой перелет. Некоторое время от него не было никаких известий.
Иностранные газеты, теряясь в догадках о том, куда он девался, договорились даже до того, что будто бы Маттерна… съели в Советском Союзе. Когда же он нашелся и выяснилось, что он потерпел аварию в районе Анадыря, газеты стали кричать о том, что американскому летчику дали неправильный непроходимый маршрут.
Сигизмунд Леваневский, находившийся тогда в Хабаровске, получил правительственное задание: возможно скорее оказать помощь Маттерну, а заодно доказать, что по маршруту, предложенному американскому рекордсмену, летать вполне возможно.
И Леваневский блестяще это доказал. Сквозь туман, сгущавшийся по мере того, как самолет уходил дальше, в море, он прилетел к бухту Нагаево и сел на воду. Отсюда до Анадыря, чтобы сократить расстояние, Леваневский повел свой гидросамолет над тундрой.
В Анадыре советского пилота встретил обрадованный Маттерн. Он и здесь оставался верен себе – не ел ничего, кроме шоколада.
Той же ночью летающая лодка стартовала на Аляску. Часа через полтора попали в туман. Леваневский блестяще вел машину в темноте «вслепую», по компасу. Любопытно он пишет об этом в своих воспоминаниях:
«…Чувствую, кто-то стоит сзади меня. Оборачиваюсь: Маттерн разглядывает мои приборы и, видать, напуган тем, что они не освещены. В панике он бежит в кормовое отделение, показывает бортмеханику на мои приборы, закрывает глаза – вслепую, мол, – как же будем садиться? Механик над ним подшучивает, объясняет пальцами и печальной миной – дело плохо, придется загибаться. Маттерн привязывается ремнем и предлагает бортмеханику сделать то же самое. Механик объясняет, что ему, как ответственному человеку, неудобно привязываться».
…Перескочив на последних каплях бензина через Берингов пролив, сели в Номе, на Аляске.
Перелет Леваневского Анадырь – Ном доказал всему миру, что в аварии Маттерна не виноват никто, кроме самого пилота.
Мировому рекордсмену преподал урок пилотского мастерства рядовой, никому тогда еще не известный летчик Сигизмунд Леваневский. Так вынуждены были писать даже американские газеты, настроенные отнюдь не дружелюбно к Советскому Союзу.
И вот этот Маттерн предложил свои услуги в поисках экипажа самолета «Н-209», с которым исчез Леваневский.
Получив от Советского правительства новый самолет «Локхид-Электро», приобретенный по его просьбе, Маттерн не спеша вылетел из Фербенкса на Север. Идя вдоль его сорок восьмого меридиана, он достиг всего лишь семьдесят пятой параллели и… вернулся в Фербенкс.
От дальнейших поисков американский летчик отказался. Благородный порыв Маттерна, пожелавшего отблагодарить Леваневского за свое спасение, оказался неосуществленным.
В Советском Союзе, сразу же после прекращения связи с самолетом Леваневского, было созвано экстренное совещание в Кремле. В тот же день был утвержден широкий план поиска. Три самолета, пилотируемые друзьями Леваневского – Молоковым, Водопьяновым и Алексеевым, – отправились в район Северного полюса. Привлечены для выполнения этой задачи ледокол «Красин», пароход «Микоян», многие другие летчики, оказавшиеся поблизости от района предполагаемой катастрофы. Позднее включились в поиск прославленные летчики-полярники М. Бабушкин, Я. Мошковский, Б. Чухновский, Ф. Фарих. Поиски велись до весны 1938 года, но, к сожалению, оказались безрезультатными. Друзья Леваневского предполагают, что из-за отказа моторов самолет стал снижаться, обледенел и затем или разбился о торосы, или попал в полынью и затонул.
Маврикий Трофимович Слепнев с детства мечтал быть военным, самой любимой книгой его была «Учебник унтер-офицера». Но куда мужику в офицеры! И все же, работая на заводе, Маврикий одолел военные науки и сдал экстерном экзамен за полный курс кадетского корпуса! Затем школа прапорщиков и вот какие его впечатления от боев Первой империалистической войны:
«Первое же знакомство с войной опрокинуло все мои представления о войне, почерпнутые из учебников. Я представлял себе великолепно оборудованные окопы, стройные атаки под барабанный бой и гром оркестров. Мне рисовались красочные боевые столкновения, когда сражающиеся идут друг на друга со штыками наперевес. Ничего этого не было. Были дрянные канавы, полные воды и грязи, именуемые окопами, был лес, наполненный свистом пуль и ревом снарядов, были кровь и смерть. Никакого противника с развевающимися знаменами не было видно. Война оказалась кровавым и тягостным ремеслом».
После Октябрьской революции Слепнев некоторое время учился в Военно-инженерной академии и был назначен инженером в дивизию Чапаева. Затем стал летчиком, бил басмачей в Средней Азии. В общем, военный опыт у него был еще до Великой Отечественной. За две недели до нападения гитлеровской Германии комбриг Слепнев окончил курсы усовершенствования высшего начсостава Академии Генерального штаба. Почти всю войну Слепнев служил в морской авиации – замкомбригады. Он защищал Одессу и Севастополь, топил вражеские корабли в Черном море. В последний год войны Маврикий Трофимович служил в Главном морском штабе. Умер Слепнев в 1965 году.
О боевых делах Каманина свидетельствовали не менее пятнадцати рядов орденских ленточек на его груди, но он очень скромно говорил о своем участии в боях:
– Командовал дивизией штурмовиков на Калининском фронте. Затем штурмовым корпусом, с которым участвовал в боях на Курской дуге. Освобождал Киев, Львов, Польшу, Румынию, Болгарию, Венгрию, Чехословакию, Австрию. В корпусе выросли 76 Героев Советского Союза. Кстати, первую Золотую Звезду космонавт Береговой заслужил в рядах нашего корпуса. А другой наш Герой подполковник Григорий Кириллович Денисенко после войны работал в Саратовском аэроклубе и учил летать космонавта № 1 Юрия Гагарина.
– Вы и сами, Николай Петрович, с началом штурма космоса были наставником космонавтов, – подсказал я, надеясь услышать много интересного о начале новой героической эры.
– Было дело, – Каманин улыбнулся и замолчал. Видно, формула о скромности, которая украшает героев, действует во все времена и при любых масштабах подвигов!
Придется мне рассказать от себя. Каманин был не только наставником, но и старым другом Юрия Гагарина. Он был рядом с первым космонавтом 12 апреля 1961 года, когда Гагарин докладывал о готовности к полету Председателю Государственной комиссии. Каманин был последний, кто отошел от лифта, поднявшего Гагарина к космическому кораблю. Николай Петрович почти во всех зарубежных поездках находился рядом с Гагариным. Но мне кажется более важным подчеркнуть то, что Каманин был постоянно рядом с Гагариным, Титовым, Николаевым, Поповичем, Быковским, Терешковой и многими другими космонавтами – не просто был, в смысле присутствовал, нет – он их учил мужеству и на своем личном опыте, на подвигах своих друзей, спасавших полярников, и на боевых делах фронтовиков в годы войны, на всем, что свершила и накопила славная плеяда советских героев, удостоенных высшей степени отличия за личные и коллективные заслуги перед государством, связанные с совершением героического подвига.
Настала очередь Молокова рассказать о своих военных делах.
– Боевое крещение я получил еще в Первую империалистическую. В пехоте. Попал в штрафную роту за то, что отказался чистить сапоги «его благородию» офицеру. Штрафники строили ангары для аэропланов. Здесь я и полюбил авиацию. Вдруг узнаю: нужны помощники механикам. Ну, я был до армии слесарем на фабрике. Грамотешка у меня была невысокая, но все же рискнул идти на экзамен. И прошел! Потом стал авиамехаником, затем направили в школу высшего пилотажа – Советской республике нужны были свои летчики. Сам собирал, сам ремонтировал, сам бомбил на этих самолетах войска Юденича. После Гражданской закончил Севастопольскую школу морских летчиков, стал инструктором. Как работал? Судите сами: из семи первых Героев Советского Союза трое – мои ученики: Леваневский, Ляпидевский, Доронин. В 1927 году окончил курсы усовершенствования при Военно-воздушной академии им. Жуковского. После полетов на Северный полюс и после прекращения поисков Леваневского меня назначили начальником Главного управления гражданского воздушного флота СССР, где я работал до 1942 года. Трудно было сидеть в тылу, когда все друзья в боях. Наконец и я добился отправки на фронт. С января 1943 года командовал авиационной дивизией. С боями дошел до Восточной Пруссии, получил звание генерал-майора авиации. После войны был заместителем начальника Гидрометеослужбы при Совете Министров СССР. В 1947 году ушел в запас. Но считаю, что по сей день служу в авиации, потому что авиация – это моя жизнь.
Самым популярным среди первых героев из-за своего обаяния, веселого нрава, дружеской распахнутости, наверное, был Михаил Водопьянов. Прекрасный летчик, он первым 21 мая 1937 года посадил самолет «СССР-H-170» на Северном полосе. Это был огромный четырехмоторный флагманский воздушный корабль. Как это произошло, мне говорил сам Водопьянов. Хоть он и не смог из-за болезни прийти на встречу, я с ним виделся не раз прежде, перескажу его слова:
– Под нами полюс!
Я повел корабль на снижение. Выбрана льдина, похожая на средневековую крепость. Ровную, чистую, достаточно большую площадку на ней окружили неприступной стеной нагромождения торосов.
Развернувшись, я прошел над площадкой. Спирин по моему сигналу бросил дымовую шашку. Горит она всего полторы минуты. За это время нужно определить направление ветра, чтобы пойти на посадку.
Я снова быстро развернул машину, зашел против ветра. Под нами с огромной скоростью замелькали торосы, вот-вот заденем их лыжами.
…Самолет мягко касается нетронутой целины снега. На всякий случай выключаю моторы – вдруг не выдержит льдина и мы провалимся. Кабина благополучно катится вперед. Снова включаю моторы: раз уж садиться, так по всем правилам, с работающими моторами.
В 11 часов 35 минут советские люди впервые в истории человечества ступили на полюс.
Надо было сообщить эту радостную весть Москве, всему миру. Но не тут-то было. Самолетная рация испортилась в самый неподходящий момент – на пороге Северного полюса. Последняя весточка гласила: «Мы идем на посадку». Давно пора получить сообщение о победе.
Проходят два, три, десять часов, а эфир молчит.
– Что-то случилось!
И вот на исходе двадцатого часа радист Стромилов, державший с нами связь, насторожился и замер: в наушниках послышались знакомые звуки. Затаив дыхание, он чуть-чуть повернул ручку конденсатора… и закричал так громко, что его услышали по всей зимовке:
– Сели! Сели!
– Что такое? Кто сел?
– Аккумуляторы сели! Связался! Они на полюсе!
Первая радиограмма с полюса была лаконична:
«Все живы. Самолет цел. У Симы сгорел умформер. Отто Юльевич пишет радиограмму. Лед – мировой».
Вслед за этим весь мир узнал о новой блестящей победе советской авиации, о покорении неприступного полюса.
А боевое солдатское крещение Водопьянов тоже получил в годы Гражданской войны, он начал службу в Красной Армии в 1919 году, был мотористом, бортмехаником. В 1929 году окончил Военно-авиационную школу. В мирные дни совершил много выдающихся перелетов, а в годы войны командовал дальнебомбардировочной авиадивизией. Он лично летал со своей дивизией и бомбил Берлин в 1941 году, в самые трудные для нас дни господства фашистской авиации в воздухе. Генерал-майор авиации Михаил Васильевич Водопьянов, пожалуй, один из немногих среди военных, имеющих, как говорили в старину, два «полных банта» самых высоких наград: четыре ордена Ленина и четыре ордена Красного Знамени. Водопьянов написал несколько хороших книг. В одной из них он рассказал:
«Незабываемый День Победы мне довелось встретить в маленьком немецком городке, где стоял полк авиации дальнего действия.
Во дворе штаба рядом со мной, на скамейке, сидел молодой капитан. В темноте я не разглядел его лица, но голос у него был юношеский, звонкий. На гимнастерке чуть повыше орденов сверкала Золотая Звезда Героя. Я приехал в полк только накануне и не успел как следует познакомиться с офицерами.
– Вот и осталась позади война, – говорил капитан, медленно, словно с трудом подыскивая нужные слова. – Но вот эта звездочка на твоей груди будет всегда напоминать о ней, напоминать и звать на новые дела – какие, еще не знаю… Мы ведь будем жить при коммунизме, и тогда, мне думается, будут давать звание Героя тому, кто, к примеру, вырастит розу без шипов, построит какой-нибудь чудо-завод, найдет средство борьбы с раком… Может быть, за полет человека к звездам… За мирные дела, которые сделают людей еще более счастливыми, украсят жизнь… А нас наградили за сражения, за пролитую кровь, за то, что мы разили врага… Впрочем, это не совсем так – нас вела на подвиг не месть, не жажда истребления, а любовь к человеку. Как первых наших Героев, летавших в туманы и льды, чтобы спасти людей…»
Иван Васильевич Доронин к дню челюскинской катастрофы имел десятилетний стаж летной работы. В 1925 году он окончил Севастопольскую летную школу. В 1939 году был уже полковником и выпускником Военно-воздушной инженерной академии имени А.Е. Жуковского. Всю войну он был начальником летно-испытательных станций, на которых испытывались самолеты, прежде чем отдать их в руки военных летчиков для боя.
В феврале 1951 года Доронин умер.
В заключение хочется сказать: именно в те дни, когда первые герои летчики спасали челюскинцев 9 марта 1934 года, родился и дрыгал ножками в пеленках будущий Колумб космоса Юрий Гагарин. Как стремительно летит время! Как оно насыщено историческими событиями и свершениями! В одном строю Золотозвездных братьев стоят сегодня герои, открывающие этот славный список, и те, кто выходит из межпланетных кораблей, еще охваченных дыханием космоса. Много прекрасных подвигов еще совершат и встанут в этот строй наши замечательные соотечественники. Мы не можем предсказать, представить картины этих подвигов. Но мы абсолютно уверены и знаем точно: это будут подвиги на благо прогресса, мира, счастья народов нашей Родины и всех, кто желает добра и процветания человечеству!Наследники – знатные фронтовики
Много подвигов было совершено в годы Великой Отечественной войны. Конечно, обо всех рассказать невозможно. Однако были и в годы войны герои, которые среди воинов своей специальности считались передовиками, или, говоря языком трудовых побед, ударниками своего дела. Лучшие среди летчиков, снайперов, связистов и так далее. Причем это не придумка автора. На завершающем этапе войны своеобразный итог достижений фронтовиков по профессиям был подведен официально.
Итак, октябрь 1944 года. Война еще, как говорится, в самом разгаре: завершено изгнание фашистов с советской земли, наша славная армия начала свой великий освободительный поход народов Европы. Мы гнали гитлеровскую нечисть из Румынии, Польши, Чехословакии, Болгарии. Недавно освобождены София, Белград. Советские части вступили на землю Восточной Пруссии. Об этих событиях, о героях боев рассказывал октябрьский номер журнала «Фронтовая иллюстрация» за 1944 год. Как обычно, много было фотографий с мест событий, а последняя страница этого журнала выглядела вроде плаката, на котором были изображены знатные фронтовики всех родов войск – своеобразные чемпионы или рекордсмены в своей военной профессии. Летчиков представлял трижды Герой Советского Союза Александр Покрышкин, сбивший 59 вражеских самолетов. Снайперов – Илья Григорьев, истребивший 328 гитлеровцев. Артиллеристов – наводчик Вениамин Пермяков, подбивший из своего орудия 16 танков, из них 12 «тигров». Танкистов представлял гвардии старший сержант Иван Калинин, который вместе со своим экипажем уничтожил в боях 11 вражеских танков, 15 пушек и более 280 фашистов. Связист Ярославцев одним из первых переправился через Днепр и обеспечил бесперебойную связь. Матушку-пехоту олицетворял Роман Смищук – он в первом же своем бою гранатами и бутылками с зажигательной смесью подбил 6 вражеских танков. Ну а от войсковых разведчиков был представлен я – как участник захвата 79 «языков».
Все мы были Героями Советского Союза, а Покрышкин, как я уже сказал, – трижды Герой. На каждого из нас художник И. Семенов нарисовал дружеский шарж, а поэт В. Гранов под каждым рисунком написал шуточные стихи. Эта полоса журнала получилась веселая, броская, она многим запомнилась. Ну и конечно же очень понравилась нам – тем, кто на ней изображен, и нашим друзьям и близким. Я до сих пор храню этот номер журнала. Не раз у меня мелькала мысль – хорошо бы разыскать людей, изображенных на этой странице, и рассказать о них подробнее – ведь люди-то замечательные, не просто герои, а рекордсмены войны!
И вот в дни юбилея «Советского воина», отмечавшего в 1979 году свое шестидесятилетие, мне захотелось сделать подарок нашему дорогому журналу, давнему другу всех воинов, в том числе и фронтовиков. Я разыскал всех Героев Советского Союза, изображенных на последней полосе № 22(94) за октябрь 1944 года, и сейчас расскажу о том, как сложилась их судьба до и после того, как были опубликованы о них материалы в журнале.
Ну, судьба трижды Героя Советского Союза маршала авиации Александра Ивановича Покрышкина всем хорошо известна. Его не надо было искать. Прославленный ас, депутат Верховного Совета СССР, у всех на виду – не только вся страна, весь мир его знает. А в годы войны, когда он поднимался в небо, сами фашисты оповещали всех и вся: «Ахтунг, ахтунг – Покрышкин в воздухе!» Сейчас он руководит ДОСААФ СССР, передает боевые традиции новому поколению молодежи. Лучшего наставника будущим воинам трудно отыскать: Александр Покрышкии в боях за Родину проявил все самые прекрасные качества советского воина-патриота, беспредельно любящего свое Отечество. Ну а мне лично искать его тоже не надо было. Мы сразу после войны вместе учились в академии имени М.В. Фрунзе и в течение нескольких лет встречались почти ежедневно. Нет, я не причисляю себя к близким друзьям Покрышкина, я был только его однокашником по академии, но и тогда и сейчас преклоняюсь перед ним – замечательным, легендарным нашим Героем, которому не было равных в небе. Разве только трижды Герой Советского Союза И. Кожедуб. Я с ним тоже знаком, мы не раз выступали на различных встречах с москвичами. Но на плакате, о котором идет речь, нет изображения И. Кожедуба, потому что в 1944 году он еще набирал свой боевой счет и, как говорится, в рекордсмены еще не вышел.
Работая над этим очерком, я навестил Александра Ивановича, прочитал стихи под нарисованным на него шаржем:
Растет его трофеев счет,
Герой и днем и ночью косит:
На землю «юнкерсы» кладет,
А фрицев на небо «возносит»!
Маршал улыбнулся и сказал:
– Трудное было время, но все же это наша молодость. А в молодости всегда и ощущение радости.
– Может быть, это ощущение шло от радости побед? Кроме большой общей победы вы одержали еще около шестидесяти своих личных побед в воздухе.
– Возможно.
– Александр Иванович, вам, наверное, уже надоел традиционный вопрос всех журналистов о самом трудном или самом интересном бое. Я тоже не могу обойтись без такого вопроса. Хочется хотя бы на одном эпизоде показать и трудность, и ответственность, и высокое мастерство летчика-истребителя, и тем более такого, как вы, которому не было равных.
– Поскольку ваша книга и мой рассказ адресованы главным образом молодежи, мне кажется, нужно учесть один важный психологический момент. Если рассказать о самом сложном бое, то будет мало поучительно, молодой читатель посчитает для себя недостижимым то, что доступно асу. Поэтому я расскажу о самом первом моем воздушном бое. Это будет понятней. В таком же положении оказался бы каждый из читающих, не имеющий опыта, если он летчик, конечно. Ну а состояние человека, впервые ведущего бой, будет поучительно не только для летчиков.
В первые дни войны я получил задачу в паре с младшим лейтенантом Семеновым разведать: построены ли переправы противника через реку Прут. Подлетели к реке, и я обнаружил пять «мессершмитов». Три на одной высоте с нами и два – в стороне и выше. Что делать? Их пять! Я ведущий, мне принимать решение. А три «мессера» уже нас догоняют! Я разворачиваюсь. Семенов за мной. Иду в лобовую атаку. Что-то лютое пробуждается во мне при виде вражеских самолетов. Даю полный газ. Резко нарастает скорость. Открываем огонь почти одновременно – они и мы. Огненные трассы перехлестнулись и пронеслись выше машин. Круто, почти вертикально, бросаю свой «Миг» вверх. Надо сохранить высоту – это преимущество для следующей атаки. Горка вверх оказалась настолько крутой, что потемнело в глазах от перегрузки. Своего достиг. Враги ниже. Но где Семенов? И вдруг вижу: его машина летит вверх животом и дымит, а за ней «мессер». Все ясно: его подбили и сейчас добьют! Не теряя ни секунды, бросаюсь в пике на преследующего «мессера», чтобы выручить Семенова. Даю одну очередь, вторую и вижу, как «мессер» вспыхивает и валится под меня. Не могу оторвать от него взгляд. Это же первый сбитый враг! Чтобы лучше увидеть, где упадет и взорвется гитлеровский самолет, немного опускаю нос своей машины, совершенно забыв об опасности. И тут мне врезали! Треск, грохот. Моя машина переворачивается вокруг оси. Это мне влепил один «мессер», а второй заходит для атаки. Моя машина повреждена: в правом крыле дыра, плохо слушается, норовит перевернуться, нет подъемной силы. Но у меня есть еще горючее, боеприпасы. И главное – где Семенов? Неужели упал? Пробую вести бой. Но машина не слушается. Да и Семенова нигде нет. Придется уходить. Снижаюсь до бреющего полета. Дотянул до аэродрома. Вот говорят, хорошее чувство – радость победы. Хорошее. Но я его не сразу ощутил. После приземления охватила такая усталость – не было сил выбраться из кабины. И потом – потерял товарища, самолет поврежден, задачу на разведку не выполнил! Какие уж тут радости! И вдруг вижу: бежит ко мне Семенов! Он, оказывается, дотянул! И сразу все переменилось: товарищ жив, самолет врага сбит! Ну, а переправы я разведал, тут же пересев на исправный самолет! Ну вот, а выводы делайте сами. Подскажу только один – надо быть готовым к тому, чтобы даже самый первый бой вести по-настоящему. Опыт, конечно, приобретается, но необходимо умение для того, чтобы это накапливать, нужен фундамент, на котором он выстроится. А фундамент этот закладывается в мирные дни, в напряженной учебе, тренировках, в укреплении моральной стойкости и готовности к трудным испытаниям.
Бывшего прославленного снайпера Илью Леоновича Григорьева я разыскал года три назад. Он работал в Министерстве транспортного строительства. С первой встречи мы подружились и потом встречались много раз. С Ильей Леоновичем легко дружить – он простой, открытый, как говорят, душа нараспашку, идет на сближение с человеком без всякой дипломатии.
В отделе материально-технического обеспечения, где трудится Илья Леонович, напротив его стола всю стену занимает карта СССР с шоссейными и железными дорогами. Красными флажками на ней отмечены участки трассы БАМа, от Усть-Кута в Забайкалье до Комсомольска-на-Амуре.
Постоянно раздаются телефонные звонки: чаще междугородные. Звонят представители Главснаба СССР, заводов, предприятий и научно-исследовательских институтов, поставщики инженерного оборудования для пусковых объектов. Илья Леонович обстоятельно перечисляет виды промышленного оборудования, помнит все сроки и очередность поставок заказчикам. И почти всегда лаконичным бывает разговор с представителями стройки: «Вас понял. Обеспечим выполнение вашего заказа. Желаю успехов. Нет, нет, не беспокойтесь, не подведем!» И после такого разговора строители могут не беспокоиться: все необходимые стройматериалы будут доставлены своевременно. Наряд-заказ принял Григорьев, он не подведет. Его слова не расходятся с делом.
Конечно же я с ним беседовал не о стройматериалах, а о наших фронтовых делах. Меня интересовало, в чем особенность героизма снайпера, где и как проявляется особое мужество этих «охотников» на мушку.
О фронтовых делах Илья Леонович всегда рассказывает с азартом, о друзьях – с теплой улыбкой, о врагах – с хитрым прищуром, будто и сейчас смотрит на них через оптический прицел. Для начала я попросил:
– Расскажи, Илья Леонович, о простом, будничном дне снайпера.
– Самом обыкновенном? Пожалуйста. Наблюдением я установил: в 16.00 у одного блиндажа появляется офицер. Это я видел издали. Надо подобраться туда поближе. Вот я ночью и занял удобную позицию. За день мне в прицел попадались многие гитлеровцы, но я не стрелял, ждал офицера. И вот настало 16 часов, а офицера нет. Или опоздал, или вовсе не придет? Я лежал в снегу, промерз за день… Темнеть начало. Хотел уж ползти к своим. Вдруг вижу – пришел мной избранный офицер. Взял я его в прицел. Выстрелил. Офицер упал. Я жду – сейчас к нему кинутся. Все же офицер упал! И правда, подбегают солдаты – их трое. Я им дал возможность поднять убитого, чтоб они заняты были ношей, и потом делаю еще три выстрела – и еще трое лежат. У меня на каждого фашиста один патрон. Вот вам простой, будничный день снайпера.
– Ну, а теперь какой-нибудь особенный случай, – попросил я.
– Бывают у снайпера и не будничные дела, а особенные. Вот однажды против нас стояла гитлеровская дивизия СС «Мертвая голова». Мы, снайперы, делали все, чтобы она соответствовала своему названию – чтобы было в ней больше «мертвых голов». И добились больших успехов. Для борьбы с нами фашисты привезли на этот участок своих лучших снайперов. Надо сказать честно – неплохие у них были мастера. В общем, и они и мы довели жизнь на этом участке до того, что никто не смел носа высунуть ни на их, ни на нашей стороне. Как высунулся – так покойник! Однажды по радиоусилителю фашисты сказали, и я слышал: «Рус! Вы уберите Илью, тогда мы уберем наш суперснайпер Ганс».
Мое имя гитлеровцам, наверное, стало известно вот по этим самым фронтовым иллюстрациям, где мы нарисованы и где написаны стихи. Газеты и листовки сбрасывали в тыл врага наши самолеты. Конечно, меня не убрали. Так начался мой поединок с немецким «сверхснайпером» Гансом. Мы постоянно подкарауливали друг друга. Каждому достаточно было хотя бы на секунду увидеть соперника. Однажды я выстрелил по фашисту, не по Гансу, по другому, и тут же в край моей каски щелкнула пуля. Это ударил Ганс. Но, к счастью, неточно. Что выявить его позицию, я пошел на хитрость. Повесил карманное зеркальце на колышек, воткнул колышек в землю, привязал шпагат к колышку. Сам отполз в сторону и стал подергивать за шпагат. Зеркальце поблескивает, дает «зайчик». Ганс принял его за мой оптический прицел и выстрелил. Я не обнаружил его при этом выстреле. Переполз в другое место, опять приладил колышек. Опять Ганс принял зеркальце за оптику и выстрелил. Ну, тут я его засек… В общем, не пришлось фашистам отзывать Ганса с нашего участка, он остался лежать там навсегда.
– Илья Леонович, в чем секрет твоего большого мастерства?
– Родился я в семье лесника под Смоленском. Когда подрос, мечтал стать хорошим охотником, стрелком, но у меня не было ружья. Иногда отец мне доверял свое ружье, и я научился стрелять. Скоро в Осоавиахиме меня уже считали хорошим стрелком. Когда началась Отечественная война, мы, пять братьев, ушли в первый же день на фронт. Никита был у нас артиллерист, Иван – связист, Роман – разведчик, Петр – танкист, а мне повезло, я стал снайпером. И вот я со своим 3-м Белорусским фронтом дошел до Кенигсберга, где был второй раз тяжело ранен.
Я уничтожил 328 фашистов, из них 67 офицеров и 18 снайперов. И еще я считаю: зоркость моего глаза – от большой любви к лесам и полям, к родной земле. Не хотел, чтобы враги топтали эту нашу красу.
В журнале под шаржем на Григорьева такие стихи:Твердят о снайпере бывалом:
На мушку взял – и фрица нет!
Ловец на мушку, основал он
«Стрелковый университет».
Не ошибся поэт. Илья Григорьев действительно создал своеобразный «снайперский университет»: в годы войны он, не уходя с передовой, «без отрыва от производства», подготовил 180 отличных стрелков-снайперов. Причем учил их больше на практике стрельбой не по мишеням, а по гитлеровцам. А в наши дни знатный снайпер передает свой опыт членам ДОСААФ, где проводятся стрелковые соревнования на «кубок Григорьева». Часто этот почетный приз вручает победителям сам Григорьев. Так что «стрелковый университет» состоялся!
Про артиллериста Вениамина Пермякова в журнале сказано, что он подбил 16 танков, из них 12 «тигров». Это не совсем точно. Вернее, было точно на октябрь 1944 года, когда вышел этот номер журнала. Но война продолжалась, и увеличивал свой боевой счет герой-наводчик. Он дошел до Берлина, участвовал в боях за Прагу. Окончательный итог его схваток с врагом таков: 24 подбитых танка, из них 18 «тигров». На фронте сержанта Пермякова звали «витязь в тигровой шкуре», и поэт в журнале отмечает его «тигровую» специализацию:
Артиллерист неутомим,
В прямой наводке подвизаясь:
И «тигр» фашистский перед ним
Уже не тигр, а робкий заяц!
Пермяков – участник Парада Победы, он нес знамя своей артбригады. После войны он живет в Москве. Кроме танков ему, как артиллеристу, приходилось на войне много разрушать укреплений и сооружений. Может быть, поэтому захотелось после боев строить, создавать новое. Он стал строителем и вот уже тридцать лет строит новую Москву. Многие москвичи, пользуясь всеми удобствами в своей квартире и многими благоустройствами нашей столицы, даже не подозревают, что в это вложен труд и прославленного героя-артиллериста, «мастера по тигровой охоте» Вениамина Михайловича Пермякова.
Плечистый и прочный, лобастый и неторопливый, с громким, «артиллерийским», голосом – таким мне представлялся настоящий наводчик, именно таким и оказался Пермяков.
Как это обычно бывает у фронтовиков, разговор пошел у нас непринужденный и доверительный. Вот что я запомнил из его рассказов о поединках с вражескими танками.
– На Курскую дугу мы пришли из-под Сталинграда. Во время подготовки к боям нам сообщили, что здесь будут самые сильные фашистские танки типа «Тигр». Когда пошли в атаку фашистские танки после артподготовки и бомбежки, то каждый из нас переживал – сумеем ли мы что-то сделать против них? Подпустив танки на четыреста метров, я с большим волнением наводил орудие и думал: «Подобью ли его? Пробьет ли подкалиберный снаряд броню, которую так восхваляли фашисты?» Раздался выстрел. Снаряд попал под башню, и внутри «Тигра» все загорелось. Танк остановился и взорвался. Меня обуяла такая радость, что чувство опасности, невольно охватывающее в бою, отступило. Забыл про него!
Фашисты в течение дня предпринимали шесть яростных атак. Перед каждой атакой они бомбили, обстреливали из орудий, но ничего у них не получилось. Наши войска отстаивали свои позиции, не дали продвинуться противнику в течение дня. На поле боя осталось много фашистских «тигров», на которые враги очень рассчитывали! Не прошли! Не удалось им смять нас! В этот день наш орудийный расчет подбил 8 фашистских «тигров». Многие товарищи были награждены орденами, а я, как наводчик, был представлен к ордену Ленина.
После форсирования Днепра я участвовал в боях по уничтожению фашистской группировки под Корсунь-Шевченковским. Когда группировка была окружена, фашисты решили бросить ей на выручку около ста танков. i5 января мне исполнилось двадцать лет. 24 января я был принят в Коммунистическую партию.
Утром был сильный туман. Танки подошли к нашим огневым позициям примерно на 400 м. Как только рассеялся туман, появились «юнкерсы», которые начали обрабатывать наши огневые позиции. Вслед за ними «мессершмиты» обстреляли нас из пушек и пулеметов, и только после этого пошли танки. Но мы уже знали, что это за хваленые «тигры»! И в первой же атаке на нашем участке было уничтожено их более тридцати. Атака захлебнулась. Наше орудие подбило десять танков. Фашисты пошли еще в одну атаку. Опять бомбили нас самолеты. Одна бомба разорвалась примерно в десяти метрах от нашей огневой позиции. Меня засыпало землей. Заряжающий Асмадяров остался невредим. Выскочив из своего окопа после бомбежки, он взглянул, где же я? И увидел кусок моей шинели, торчащий из засыпанного окопа. Окопчики были мелкие. Он сразу же открыл меня и вытащил. Если бы не он, я бы остался лежать в этом окопе. А жители села Рахняны, где это произошло, и у которых я бываю в гостях, считают меня с той поры своим земляком в полном смысле этого слова – с их землей я породнился.О танкисте старшем сержанте Иване Калинине в журнале были опубликованы такие стихи:
Из вражьих танков – винегрет.
При этом разговор не длинен:
– Товарищи, раскрыт секрет.
Все ясно: здесь прошел Калинин.
После этой публикации жизнь героя сложилась так. Его направили учиться в Ташкентское танковое училище на курсы младших лейтенантов. Окончив эти курсы, Калинин попадает на Дальний Восток, где участвует в боях с японскими войсками. 14 августа 1945 года погиб под Муданьцзяном. Такие краткие данные остались в официальных бумагах. Но мне хотелось найти о Калинине более подробные сведения. И я нашел их! Мне очень повезло. Дело в том, что до войны я учился в Ташкенте, в школе. И узнал, что одна из моих соучениц – Рая Сафиулина в годы войны работала в госпитале, который находился рядом с танковым училищем., Оказывается, она не только знала Ивана Калинина, а дружила с ним. Я попросил Раю рассказать о тех днях и приведу здесь, за неимением возможности пересказать все подробно, лишь несколько строк из ее писем. Она познакомилась с Иваном Калининым, возвращаясь из увольнения. Он был дежурным по КПП. Вышел старший сержант – высокий, со светло-русыми волосами, карими глазами, здоровый, плечистый, настоящий русский богатырь.
Время было позднее, темно. Иван дал девушке свой карманный фонарик, сказал: «Утром вернешь». – «А кого спросить?» – «Ивана Калинина». Так они познакомились. Иван приглашал Раю несколько раз в кино, в клуб части. Он всегда был в шинели, и она не знала, что он Герой Советского Союза. А однажды замполит госпиталя сказал: «Пригласил к нам Героев, они выступят, расскажут о боях». Одним из Героев оказался Иван Калинин. Он рассказал, что удостоен этой награды за бои при форсировании Днепра, где он на плацдарме отбил вместе с товарищами много контратак фашистов, подбил гитлеровский танк и уничтожил несколько пушек. До армии он работал в колхозе. А отец его тоже воевал и погиб на Курской дуге.
1 января 1945 года курсанты пригласили девушек отметить Новый год. Один из преподавателей дежурил и разрешил им побыть на своей квартире, которая находилась на территории училища. Рая так пишет об этом праздновании: «Ваня, Николай и Кузьма пришли к замполиту госпиталя и просили отпустить нас, их знакомых, пятерых девушек. Нам разрешили уйти после ужина и вернуться к отбою. Пошли Шура, Рахиля, Маруся – наш комсорг, Тося и я. На кухне нам дали борща, капусты, буханку хлеба. Мы взяли с собой каждая по табуретке. И вот собрались ребята, от мороза румяные, два Героя – Иван Калинин и Николай Козлов, у остальных тоже грудь в орденах, все ведь фронтовики. Пуговицы надраенные, подворотнички белые, гимнастерки от солнца полинявшие, но чисто стиранные, наглаженные… Ребята принесли конфеты, орехи, урюк сушеный. Был баян и аккордеон. Танцевали, плясали. А потом много пели, ребята и девушки наши голосистые, хорошо получалось. А потом смотрим, в дверях стоит и давно, видно, слушает хозяин квартиры, дежурный по училищу, говорит: “Ох, мои дети, как же хорошо вы поете!” Мы спели ему еще. А потом прибрали квартиру, помыли полы, и ребята проводили нас домой.
Это были чистые, честные парни, они много раз смотрели смерти в лицо. Но с нами они обращались бережно, без пошлости. Они были сами стеснительные, как барышни, особенно Ванечка Калинин. Сейчас этому кто-то не поверит, но я пишу правду».
После сдачи экзаменов Иван пришел к Рае. Она рада была каждой встрече и на этот раз видела только его. А он сказал: «Ну, посмотри на меня внимательно». И тут обнаружилось, что на плечах его погоны младшего лейтенанта! Через несколько дней Рая с подругой Рахилей проводила Ивана Калинина и других ребят на фронт. Часть из них уехала на Запад, часть – на Дальний Восток. «Единственный и последний раз поцеловал меня Ваня, когда стояли уже у поезда. И сейчас он перед глазами – высокий, здоровый, двадцать два года ему было… Жалко не сфотографировались вместе, времени не было, он ведь на фронт спешил… С дороги прислал два письма…» Рая разыскала мать и сестер Ивана Калинина, они переписываются. «Ванечка погиб. А я всю жизнь прожила одна… И всю жизнь я тех ребят вспоминаю и все думаю, не ошибка ли, может, живы они, не умерли? Во всяком случае, я их всегда только живыми представляю…»
Чтобы коротко рассказать о подвиге Калинина, я приведу один документ. Короче слов военного приказа, наверное, сказать невозможно.
«Приказ Министра обороны СССР 3 декабря 1971 г., г. Москва.
О зачислении Героя Советского Союза младшего лейтенанта Калинина Ивана Андреевича навечно в списки N-ской части.
Механик-водитель младший лейтенант Калинин в боях с немецко-фашистскими захватчиками проявил образец мужества, геройства и отваги. 2 октября 1943 г., действуя в составе танкового батальона, экипаж младшего сержанта Калинина ночью форсировал Днепр в районе Машурин Рог на участке, где противник пытался уничтожить наши пехотные части, находившиеся на плацдарме.
Удерживая этот плацдарм, батальон танков за три дня боев отбил 19 яростных контратак противника, нанося ему большие потери. Младший сержант Калинин И.А. тринадцать раз водил в атаку свой танк, беспощадно громя врагов. В этих боях огнем его танка был подбит один немецкий танк и уничтожено два орудия, минометная батарея и 70 гитлеровцев.
За мужество и героизм, проявленные в боях с немецко-фашистскими захватчиками, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 декабря 1943 года младшему сержанту Калинину Ивану Андреевичу присвоено звание Героя Советского Союза.
В последующем младший сержант Калинин успешно окончил военное училище, получил звание младшего лейтенанта и был направлен для прохождения дальнейшей службы на Дальневосточный фронт, где участвовал в разгроме японских захватчиков.
14 августа 1945 года в боях за город Муданьцзян Герой Советского Союза младший лейтенант Калинин пал смертью героя за нашу Советскую Отчизну.
Его беззаветная преданность социалистической Родине и верность военной присяге должны служить примером для всех военнослужащих Вооруженных сил СССР.
Приказываю: Героя Советского Союза Калинина Ивана Андреевича зачислить навечно в список 1-й танковой роты N-ской части.
Приказ объявить всему личному составу.
Заместитель Министра обороны генерал армии Куликов В.»Изображенного в журнале связиста Героя Советского Союза А. Ярославцева мне разыскать не удалось. Роман Смищук, как сообщили мне из его родных мест, несколько лет назад умер.
В том журнале на меня тоже был нарисован шарж и сделана подпись в стихах:
Он как спортсмен
известен нам,
К спортивным он привык
победам.
А нынче – спец по «языкам».
Слывет у нас «языковедом»!
И еще там было написано: «79 «языков» привел отважный разведчик – Герой Советского Союза капитан В. Карпов. До войны он был спортсменом-боксером».
Мне хочется сразу внести поправку в эту подпись под моим изображением. Не я один привел этих «языков», в разведку я ходил со своими замечательными друзьями-разведчиками, правильнее было бы написать, что я участвовал в захвате 79 «языков».
Я всегда испытываю затруднение, когда меня просят рассказать какой-нибудь случай или задание из работы в разведке. Как-то неудобно о себе говорить. Вот я и придумал литературную форму изложения своего фронтового опыта. Придумал разведчика Василия Ромашкина, писал о нем рассказы, а потом и роман «Взять живым», в котором конечно же отражена и моя биография. Вот и теперь, чтобы дать представление читателям, чем я занимался в годы войны, прибегну к помощи Ромашкина, приведу один эпизод из боевой жизни. Была поставлена задача добыть хорошо осведомленного, «грамотного языка» из штаба полка гитлеровцев. Разведчики знали, где расположен этот штаб. Однако проникнуть в тыл врага не так-то просто: начиналась весна, снег таял, появились в нейтральной зоне лужи, которые ночью подмораживало, они покрывались тонким, хрупким ледком, проползти по ним бесшумно невозможно. И вот мы решили использовать речку, покрытую льдом. Лед еще держал, но был ненадежен. Умышленно выбираю случай, где я допустил оплошность, чтобы меня не заподозрили в нескромности. Ну а теперь слово Ромашкину.
«Между высокими берегами было куда темнее, чем наверху. Ромашкин думал: “Это в нашу пользу. Надо только смотреть в оба – фашисты не дураки: могли где-то продолбить лед, где-то поставить мины, могли натянуть сигнальные шнуры или просто набросать консервных банок, чтобы звенели”.
Впереди на льду показалось какое-то темное сооружение. Конечно, это та огневая точка.
Василий остановился метрах в двадцати от дзота. Вслушался: не заговорит ли там кто, не стукнет ли что-нибудь внутри? Не слышно. Только наверху перекликались пулеметы, изредка прочесывали нейтральную зону.
Вынул гранату и стал подкрадываться к дзоту. Правее полз Рогатин. Заметили издали: дверь открыта. Это уже говорило о том, что дзот пуст: о тепле никто не заботится.
Подползли с двух сторон одновременно. Заглянули внутрь. На полу затоптанная солома, окурки, гильзы – словом, пусто. Можно двигаться дальше.
Когда вся группа отползла от брошенного немцами дзота метров на двести, Василий махнул рукой Рогатину, чтобы тот выбирался на берег в кусты. За ним повернули Пролеткин и остальные пятеро. Василий ждал, пока выйдет на берег последний. «Все-таки прошли! До деревни, где стоит немецкий штаб, осталось километра четыре, а там выбирай «языка». Хорошо бы взять офицера».
Ромашкин на миг забыл осторожность, оперся на лед локтем, и тут же хрустнуло. Холоднющая вода обожгла тело. Василий ухватился за край пролома. Лед опять треснул, и он окунулся с головой. Вынырнул, бросился на лед, и вновь лед сломался. Намокшая одежда тянула Василия на дно. Едва удалось ему схватиться за ремень, брошенный с берега Рогатиным. Кое-как выкарабкался.
Кто-то скинул с себя нательную рубаху, другой – гимнастерку, третий – портянки. Василий переоделся в сухое, но никак не мог согреться. Его колотил озноб.
– Спиртику бы вам, – сказал Рогатин.
– Где же его взять? – отозвался Пролеткин. – Давай, хлопцы, садись вокруг лейтенанта, погреем без спиртика.
Все подняли куртки масккостюмов, расстегнули телогрейки – раскрылились и облепили Ромашкина теплыми телами. Неунывающий Пролеткин поздравил:
– С легким паром, товарищ лейтенант!
Василию стыдно было перед разведчиками. «Так хорошо все началось! И вот на тебе – сам, как мокрая курица, автомат – на дне речки». Василия охватила злость.
– Пустите, ребята! – Он высвободился из их объятий. – Не греть же меня так всю ночь! Идти надо.
Надел два запасных маскировочных костюма. Подпоясался сигнальным шпагатом.
– Двигаем!..
Деревня Симаки чернела в низине, вытянувшись длинной улицей вдоль дороги. Разведчики зашли со стороны огородов. Подкрались к сарайчику, от него – к плетню. Василий посмотрел поверх плетня, стараясь разобраться в обстановке. Нет ли поблизости часовых? Спят ли в соседних домах? Если ребята набросятся здесь на проходящего немца, с какой стороны может подоспеть помощь?
В ближнем доме света в окнах не было. Но Василий на всякий случай приказал двум разведчикам подпереть дверь бревнышком, лежавшим у завалинки. На другой стороне улицы стояла хатенка под соломенной крышей. Едва ли там поселились немцы: хатенка уж больно убога.
Место для засады как будто подходящее. Только бы появился на улице «чин» покрупнее. Решили ждать. Брать фрица из дома опасно – такое дело без шума проходит редко. А шуметь ни в коем случае нельзя: по речке отход возможен только без преследования, спокойно.
– Если появится один немец, берем его я и Рогатин, – зашептал Ромашкин разведчикам. – Если группа, – пропустим.
И стал примеряться, как прыгнуть через ограду. Но едва он дотронулся до плетня, тот затрещал так, что все испуганно присели. Как же тут внезапно нападать? Затрещит чертов плетень.
Ромашкин встал на четвереньки.
– Ты, Рогатин, с моей спины перемахнешь через ограду, а я уж вслед за тобой.
– Может, мне первому, товарищ лейтенант? – предложил Саша Пролеткин. – Если этот громила залезет вам на спину, из вас блин получится. А я легкий.
– Ты делай, что прикажут, – рассердился Ромашкин. – Сейчас не до шуток, понимать надо!
Саша виновато замолчал.Ждали долго. Но вот послышались шаги. Мимо прошла смена караула: унтер и два солдата. Они протопали совсем рядом, их можно было достать рукой. С троими, однако, без шума не справиться.
Немцы дошли до конца улицы, сменили там часового и возвратились обратно. Протопали мимо в другой раз.
«Неужели вернемся с пустыми руками? – терзался Василий. – С таким трудом пробрались сюда и ничего не можем сделать! А скоро рассвет».
– Будем брать часового, – сказал он решительно, – иного выбора нет. Пойдем в конец улицы, разыщем пост и на месте все прикинем окончательно.
Осторожно, опасаясь собак, пошли огородом вдоль забора. Неожиданно чуть впереди в одном из домов, скрипнув, распахнулась дверь. Полоса желтого света упала на землю и сразу исчезла – дверь притворили. Одинокий силуэт отделился от дома: какой-то фриц двинулся по улице прямо на разведчиков. Василий огляделся – других прохожих не было. Встал на четвереньки, жестом приказал Рогатину прыгать.
Иван, почти не коснувшись его спины, перелетел через забор и свалился на проходившего. Они упали, покатились по земле. Ромашкин тоже перемахнул через ограду и подскочил к боровшимся.
Рогатин крепко держал немца за горло, не давая ему кричать. Василий быстро затолкал схваченному рукавицу в рот, подобрал два каких-то ящика и фуражку с серебристым шнурком. «Ого, офицер!»
Пленного перевалили через плетень. Связали руки брючным ремнем. Наблюдая за этими сноровистыми действиями разведчиков, Ромашкин думал: «Вот окаянные! Ни бог, ни дьявол им не страшен, но до чего ж суеверны! Ни один, уходя за «языком», не возьмет веревку или кляп. Вот и сейчас во рту у немецкого офицера моя рукавица, а связан он поясными ремнями. И когда я провалился под лед, мне тоже бросили брючный ремень. А как нужна была веревка! Ведь я приказывал взять ее.
Спросил Сашу Пролеткина:
– Где веревка?
Тот посмотрел на командира безгрешными глазами и, не моргнув, ответил:
– Забыл я ее, товарищ лейтенант. Да обойдемся, вы не беспокойтесь! Было бы кого вязать…»
Вот такие некоторые наследники.
* * *
В перестроечные годы развалили не только Великую Державу, но истребили прекрасную силу, объединявшую нас, – Дружбу Народов.
Сегодня ее заменили оскорбительными и обидными кличками: «лицо кавказской национальности», «чучмек», «черненький» и т.д.
На фронте мы ходили в атаки все вместе и не смотрели, кто справа или слева – узбек, грузин, украинец или татарин, мы все были боевые братья. И хоронили погибших в могилах, которые по сей день называются братскими.
Насколько сильно, благородно и нерушимо было это сознание братства, покажу на примере из фронтовой жизни.
Чуст – небольшой городок в Наманганской области Узбекистана, с давних времен славился он своими красавицами. Сюда приезжали за невестами из далеких краев. И еще тут вышивали удивительные по красоте тюбетейки особой формы, с невиданной прелести узорами.
В советские дни Чуст обстроился новыми домами, они стоят окруженные садами, в которых зреют и благоухают сказочные плоды: виноград – дамские пальчики, инжир, гранаты… А за городом раскинулось огромное пространство, поделенное на квадраты каналами и арыками, рядами тутовых деревьев, растущих вдоль этих каналов. Здесь царство хлопка. Здесь трудятся чустские жители. Хлопок – их гордость, забота и повседневная радость.
В годы войны и отсюда, с этой мирной красивой земли, ушли на фронт защищать Родину многие чустские жители. Они отстояли вместе с другими братьями советскую землю и вписали в историю Чуста новую страницу. Теперь Чует славится не только красавицами, тружениками на хлопковых полях, но и героями, совершившими замечательные подвиги. В память об этих ратных делах на гранитном монументе в центре города начертаны слова: «Сыны земли Чустской, ушли вы в бессмертие, память в граните и слава вам вечны».
В этом городе и в прилегающих колхозах тоже есть Дома славы с личными папками на каждого фронтовика, ведется та же, что и на всей наманганской земле, широкая патриотическая воспитательная работа.
Но я расскажу вам опять-таки на конкретном примере об одном удивительном деле. В этой книге вы уже познакомились со многими прекрасными героическими и патриотическими поступками. Но тот, о котором я узнал в Чусте, не только поражает своей необычностью, он вызывает чувство гордости, что живут в нашей стране такие замечательные соотечественники.
Живет и работает в Чусте Герой Советского Союза Михаил Гиясович Фаязов, седеющий человек, но еще крепкий, жизнерадостный.
Поведу я рассказ по порядку, чтобы все было понятно. А пока хочу обратить ваше внимание на русское имя Фаязова – Михаил. Бывает так, что люди со сложным, трудным для запоминания именем упрощают его, подбирают какое-нибудь похожее. Служил в нашей роте Нигматулла – он просил друзей называть его Николаем. Казах Серсенбай стал Сергеем. Азербайджанец Джурабек-оглы любил, чтобы его звали Жорой. Причем во всех этих случаях не кто-нибудь придумывал имя вроде клички какой-то, а сами их обладатели хотели, чтобы их так называли.
Фаязова родители назвали Момошарип. Но стал он Михаилом совсем по другому случаю. Он и по паспорту, и в партийном билете, и в Грамоте Героя – Михаил. То, о чем я хочу вам поведать, как раз и объясняет, каким образом и почему это произошло.
Родился Фаязов в 1925 году в городе Джамбуле. На фронт попал в 1942 году, когда ему исполнилось семнадцать лет. Причем приняли его сперва в Ташкентское военное училище. В дни напряженного сражения на Курской дуге из училища была сформирована курсантская бригада. Вот в ней в боях на Курской дуге Фаязов получил боевое крещение. Затем он форсировал Днепр. Во многих боях складывалась тяжелая обстановка, и всегда Фаязов чувствовал рядом с собой боевого друга украинца, которого звали Михаилом. Особенно тяжело им пришлось на плацдарме после форсирования Днепра. Отбивались от наседающих фашистов, которые во что бы то ни стало хотели сбросить с этого берега группку храбрецов. Когда в окопе осталось всего несколько человек, Миша сказал Фаязову:
– Ну, отсюда мы живыми не уйдем. Но если кто-нибудь из нас выберется целым, надо в память об этом бое, о нашей стойкости придумать что-то особенное.
– А что мы могли придумать, бойцы, в траншее, где ничего нет, кроме свистящих пуль, рвущихся снарядов, убитых товарищей, – сказал Фаязов. – А хотелось чего-то большого, что запомнится навсегда.
И вот что придумал друг Фаязова:
– Давай поклянемся, если я погибну – ты будешь носить до конца дней своих мое имя Михаил. Если ты – я стану навсегда Момошарипом.
Они поклялись. Оба дрались в том бою самоотверженно. И оба выжили. После такой клятвы дружба их превратилась в братство. Они всегда были вместе, много раз выручали друг друга в бою. Под Полтавой в холодный октябрьский день Момошарип был ранен. Проводил его друг в госпиталь, сказал на прощание:
– Ты обязательно выздоравливай, а я постараюсь здесь выжить. Дождусь тебя.
Трогательная дружба двух воинов была известна в полку. И командование, и бойцы, и конечно же сам Михаил писали Момошарипу письма, сообщали, где они воюют, чтобы не заскучал Фаязов в тыловой дали. Затем он выздоровел и догнал родной полк. Радостной была встреча с боевыми товарищами, и конечно же особенно приятно было увидеться с другом Михаилом.
И опять они вместе били фашистов и не раз спасали друг другу жизнь в критическую минуту.
Но в бою под Яссами пуля сразила Мишу. Не буду говорить, как тяжело переживал Момошарип потерю друга. Он обратился к командованию с рапортом, в котором просил в соответствии с данной им клятвой сменить его имя во всех документах и звать в дальнейшем Михаилом.
Командованию была известна и крепкая дружба, и клятва друзей, поэтому просьба Фаязова была удовлетворена. В начале 1945 года Фаязов вступил в партию, кандидатский билет ему был выдан на имя Михаила Фаязова. Он бил врагов теперь с удвоенной энергий – за себя и за погибшего друга.
Вот так говорит об этом сам Фаязов:
– Может быть, я и Героем стал потому, что воевал больше за Мишу. Мстил гитлеровцам за друга, хотел побольше отправить на тот свет убийц. Когда вышли к Одеру, я уже командовал стрелковой ротой. Получил приказ – форсировать Одер, захватить плацдарм и удержать его до выхода на плацдарм главных сил полка. Очень была похожа эта задача на ту, которую мы выполняли с Мишей на Днепре. Я постоянно думал о нем, и мне казалось, он здесь со мной рядом. Я даже мысленно с ним разговаривал: «Сейчас, Миша, мы им дадим жару. Они думают, мы станем поджидать переправочные средства – катера, лодки, паромы. А мы, Миша, с тобой, как на Днепре, махнем через этот арык Одер на подручных средствах. Когда нас там не ждут фашисты».
– В четыре часа ночи 22 января мы поплыли на самодельных плотах. Я умышленно напомнил месяц – январь. Представьте себе, какая была вода! Ну и еще признаюсь, я как узбек не из очень-то лихих пловцов. Нет у нас в Узбекистане больших рек, негде особенно было научиться плавать. Так что я и сейчас с дрожью говорю это – январь, ледяная вода… Но приказ есть приказ. За рекой засели те гады, которые убили Мишу. В общем, поплыли. Гребем тихо, осторожно. На подступах к тому берегу нас обнаружили. Ну вы представляете, что началось? А мы на своих плотиках беззащитные. Единственное, чем могли защищаться – открыли ответный огонь. Ну, сами понимаете, наш огонь не то что с берега. Кинулись мы в воду и стали выбираться на берег. Холодная вода сковала меня, как железными обручами. Слово произнести не могу, буквально душит холод!
Выбрались на берег, ярость в нас была огромная, поэтому, наверное, одолели мы превосходящие силы фашистов. И еще надо было нам разогреться, иначе замерзли бы. В общем, разогрелись мы здорово! Плацдарм захватили. Небольшой населенный пункт взяли. В нем штаб гитлеровский разгромили. Чуть генерала ихнего не поймали. Убежал! А шесть офицеров взяли, среди них один полковник! Поэтому я считаю, наша атака была для них полной неожиданностью. Гитлеровцы вообще собирались на Одере задержать нас на долгое время. И я опять сказал мысленно другу: «А мы с тобой, Миша, в первую же ночь без всякой капитальной подготовки перемахнули этот широченный и холодный Одер! По гитлеровским понятиям это, наверное, нахальство, а по нашим с тобой это называется искусство, помноженное на опыт. Мы с тобой и через Днепр так же перемахнули!»
Целую неделю держали мы плацдарм на Одере. Ох и трудные были дни! Одна контратака за другой! Гитлер, говорят, в ставке ногами топал на своих генералов от ярости, что такой заветный сильный рубеж допустили они красных преодолеть. Я говорю неделю, потому что я там был эту неделю. Потом меня тяжело ранило. А плацдарм тот мы удержали и с него дальше пошли. Очень ценный и нужный был тот одерский плацдарм. Ну, историю вы знаете. Скажу лишь о том, что командование высоко оценило дело, сделанное нашей первой переправившейся ротой, многие были награждены, а пятеро особенно отличившихся – меня, командира роты, тоже посчитали таким – удостоили высшей награды – звания Героя Советского Союза. Ну я-то ничего не знал: я в госпитале находился. Три дня совсем без сознания был. И потом еще долго лечился. В общем, победу в больничной кровати встречал. Ну, ничего, главное – мы победили. Так я и Мише сказал мысленно: «Ну вот, Миша, то, к чему ты стремился, – свершилось, мы победили. Прости, брат, до Берлина я твое имя не донес, так уж получилось. Но на пути к победе мы с тобой тоже немало хороших дел сделали».
После госпиталя я демобилизовался и приехал сюда, в Чуст. Избрали меня секретарем райкома комсомола. Это по делам нашим мы вроде бы уже ветеранами стали. А по годам-то мне в 1945 году всего двадцать лет было! Ну, в Чуст попал – долго холостым не проходишь! Уж если из других городов к нам за красавицами приезжали, мы, местные конечно же видели и знали этих невест лучше других. Женился я на Халиде, и с тех пор живем душа в душу. Восемь детей у нас теперь.
Однако история с именем Михаил на этом не кончилась, а, можно сказать, только начинается. Документы с этим именем выдавали Фаязову только после гибели друга, а в старых делах он назывался Момошарипом. Вот по личному делу, которое было заведено еще в училище, он был Момошарип, а на Героя из полка был представлен как Михаил Фаязов.
В 1946 году вдруг приходит в Чуст телеграмма из Джамбула. Там Фаязов родился, туда, на его родину, пришел розыск. Ищут Героя Михаила Фаязова. Пригласили его в Москву – все сошлось: и номера полка, дивизии, а главное, подтвердились героические дела, которые Фаязов совершил. Ну а романтическая история с клятвой и обменом именами в официальных бумагах не отражена. Но все же разобрались с этим делом и в канун 1947 года, 31 декабря, в Кремле Шверник вручил Михаилу Фаязову Золотую Звезду Героя.
Но и на этом история нового имени Фаязова тоже не кончилась, теперь она уже обращена в будущее.
Михаил Фаязов рассказал о боевом друге своим детям, они ведь все Михайловичи – Михайловны: учительница Гульчехра, врач Зухра, педагог Гульсара, инженер Агзам, инженер Гульнора, военнослужащий Адхам, ученицы Гульмира и Зульфия. Все они носят одно отчество и теперь в десятках новых семей, в памяти внуков будет жить украинец Михаил, отдавший жизнь за их счастье.
С огромным уважением относятся к нему не только земляки, но и в других республиках, где известна история замечательной боевой дружбы. Это прекрасный образец не только боевого, но и интернационального братства наших народов.
Вот такая бывает в жизни необычная эстафета – от фронтовика к фронтовику, от него к его детям, от детей – к внукам…
О значительности и весомости подвига очень метко сказал писатель Леонид Леонов:
«…Хорошо, если Родина обопрется о твое плечо, и оно не сломится от исполинской тяжести доверия.
…Народы надо изучать не на фестивалях пляски, а в часы военных испытаний, когда история вглядывается в лицо нации, вымеряя ее пригодность для своих высоких целей».
Наше поколение эти испытания выдержало. И дружба народов сыграла огромную роль.Первый день войны
Во дворе многоквартирного дома, под старой березой, столик, сбитый из досок, которые стали серыми под дождями и снегом и гладкими под руками доминошников, любителей пива и поллитровок.
Четверо завсегдатаев сидели за этим столиком, заколачивали «козла». Пенсионеры, ветераны-фронтовики, морщинистые, с кругами обвисшей кожи под глазами. Беззубые, когда смеялись, во рту видно было, у кого что осталось.
Как беспощадно время! Когда-то они были молодыми, полными сил воинами. Били фашистов. Победители! Теперь доживали. Ничего не поделаешь, старости никто не избежал.
Подошел еще один. Такой же пожилой, сутулый, с рыхлыми плечами. Старший (в компании лидер всегда бывает), Иван Захаров, сказал:
– Садись, болей! Мы два на два играем. Навылет. Жди, кто отвалит.
Он продолжал стучать костяшками, между прочим, спросил прибывшего:
– Ты какого года?
– Двадцать второго.
– И я двадцать второго. А какого месяца?
– Июля.
– А я – мая. Ты, пацан, должен мне за пивом сбегать.
Он вынул из кармана две мятые десятки.
– Мне «Клинского».
Партнеры выбросили на стол свои деньги. Каждый назвал любимое:
– Мне «Бочку».
– Мне «Балтику».
Посланец безропотно сходил в ближайший киоск. Прибавил к заказам свое «Арсенальное».
Доиграв партию и прокричав победное: «Слабаки!» – приятели принялись за пиво. Тихо крякали, нежно стонали, прикрывая глаза. И, наконец, опорожнив бутылки, выдохнув удовлетворенное: «Уф!» – некоторое время блаженно молчали.
Первым заговорил Иван:
– Шестидесятилетие приближается. Повезло нам, дожили.
Небольшого росточка, похожий на артиста Вицина, сказал негромко:
– Опять нас дерьмом будут обливать на телеке.
– Сволочи! – убежденно сказал Захаров. – А какие были люди! Железные! О таких по телеку не скажут. Будут верещать: «Отступали, отступали». А о том, что вышибли «фрицев», помянут через губу. Я пограничником был. Сержант. Мы первыми встретили «фрицев». И в первый день войны я погиб и воскрес.
– Круто начинаешь, – ухмыльнулся сосед. – Давай для разминки какую-нибудь хохму. А то сразу – и погиб, и воскрес.
– Точно говорю! Зачем мне загибать? Если такое телевизионщикам рассказать – скажут, пропаганда! У них сегодня слово коммунист ругательное. А у нас, как бы ни изгалялись дерьмократы над коммунистами, звание это было высокое. И не по принуждению шли в партию. Вот мой первый день войны как раз с этим связан.
– Не тяни резину, рассказывай.
– Был я, как уже сказал, пограничником. 21 июня должен был в наряд заступать, но перед этим пошли в город с дружком, Виктором его звали. Я сдал часы в ремонт – забарахлили. Выписали мне квитанцию, сказали, через два дня приходи. Нормально, как раз после наряда готовы будут.
Заступили мы с Виктором на охрану границы, парным патрулем. Не первый раз. Привыкли друг к другу. Маршрут своего патрулирования хорошо знали.
Ночь прошла спокойно. Начинало светать. Небо у нас за спиной, где спит еще страна, светлое-светлое. А на западе, за рекой, на их территории, темное, и чем дальше от границы, тем чернее.
Ходим мы с Витьком, каждый о своем думаем. Виктор горожанин, актюбинский, не видел до службы красот природы. У них там на сотни километров ровные, безводные степи. Он тихо сказал:
– До чего искусна природа. На каждую пору свои тона: утро рисует нежной акварелью, закат – плотными масляными красками!
В этот миг воздух дрогнул от орудийных выстрелов. Пограничная река покрылась испуганной рябью, над головой зашелестели снаряды, будто крались на нашу сторону. Около домиков заставы сначала вскинулись черные столбы земли и дыма, а потом прилетел и грохот разрывов.
– А это художество что означает? – спросил я Виктора. И мы побежали к бронированному колпаку, который должны были занимать по боевой тревоге. Еще снимая с дота маскировку – сухие, хрусткие кусты, я видел: на противоположном берегу к реке бежали солдаты, готовятся к переправе.
Мы помнили статьи в газетах про озеро Хасан, сопку Заозерную, другие пограничные инциденты и были уверены: начинается очередная провокация. На душе было тревожно-весело. «Ох, и дадим же мы им жару!» – думал я, заряжая пулемет. Не скрою, мне уже виделись страницы газет, рассказывающие о том, как пограничники Н-ской заставы геройски отбивали бандитский налет.
Я навел «Максим» в кромку берега и, выполняя инструкцию, ждал, когда вражеская нога ступит на нашу землю. В это время снаружи послышался голос:
– Ребята, пустите, это я – Аверин.
Виктор отдраил задвижку. Аверин спустился в люк. Он был тоже веселый, возбужденный, красный и потный от бега. В эту ночь он дежурил на вышке.
– Я доложил начальнику заставы по телефону о нападении. Он приказал Никитину бежать на заставу, а мне занять этот дот. Он не знает, что вы живы и находитесь здесь.
Мы попробовали сообщить о себе по телефону, но связь не действовала. Дот был похож на башню танка, имел круговой обстрел. Упираясь в приваренные для этой цели ручки, можно было вращать башню. Троим в ней было тесно и душно.
– Как от парового отопления от тебя пышет, – сказал Виктор Аверину.
– Бежал, разгорелся.
Я наблюдал за рекой, находясь у пулемета. Виктор и Аверин, разговаривая, тоже смотрели через мое плечо в амбразуру. В башне было темно, пахло пылью, на верхнем углу амбразуры светилась на солнце тонкая вязь паутины.
Когда первая лодка ткнулась в берег, я нажал на спуск. «Максим» оглушительно загрохотал. Звук стрельбы, не улетая за бронированную оболочку, больно бил по барабанным перепонкам. Я никогда прежде не стрелял из дота и не представлял, что будет так глушить.
Отпустил рычаг – в ушах звенело, тишины не слышал. У Виктора шевелились губы, но что он говорил, я не понимал. Он засмеялся, поднял вертикально большой палец – здорово, мол! Нам было весело. Мы не принимали всерьез нападение немцев, были уверены – это дело нескольких часов, подойдут войска и вышибут налетчиков, как это случалось на других границах.
Немцы падали под моими очередями. Живые расползались в стороны. Виктор потряс меня за плечо и потыкал пальцем себе в грудь. Он просил пострелять, парень боялся, что все кончится, и на его долю не останется врагов. Я уступил ему место. Он прицелился и затрясся вместе с бьющимся в его руках пулеметом. Лицо у него было восторженное. К оружию протискивался Аверин, кричал:
– Дайте я, братцы!
Виктор поменялся с ним местом. Мы стояли почти вплотную. В этот момент рядом с колпаком грохнул первый снаряд. Мы невольно присели. В амбразуру потянуло пылью и гарью. Оборванная паутина, продолжая светиться на солнышке, раскачивалась на уцелевших нитях. Обстановка осложнялась. Я, как сержант, был старший наряда, поэтому сам встал к оружию. Справа и слева, обходя наш дот, бежали группы немцев. Я положил сначала правых, потом левых. А когда развернул башню – опять вправо, чтобы не дать возможности подняться лежавшим, прямо в амбразуру ударила ответная очередь. Меня отбросило к задней стенке. Я сначала не понял, что произошло, будто ткнули в грудь оглоблей, и только когда закружилась голова и я стал валиться на бок, осознал, что ранен.
К пулемету встал Виктор. Аверин возился с бинтами. Пуля угодила мне в плечо. Следующим ранило Виктора, затем Аверина. В амбразуру было видно: машины с мотопехотой переправлялись через реку по наведенному мосту и уходили в глубь нашей территории. Мы слышали: бьют орудия и трещат пулеметы на широком фронте.
– А ведь это война, товарищи, – сказал тихо Виктор.
Мы не считали себя обреченными: нужно продержаться сутки, ну, максимум двое – положение будет восстановлено, и война перейдет на чужую территорию – так говорили нам на политзанятиях, так мы были воспитаны.
Продержались мы несколько часов. Каждый был ранен несколько раз. Некоторые пули пробили сразу двоих. Под ногами хлюпала глина, замешанная на нашей крови.
– Я читал, – пытаясь дышать ровно, проговорил Виктор, – когда люди хотели стать братьями, они в бокале смешивали свою кровь и выпивали ее поровну. А такого, чтобы пули сшивали людей, не слышал.
Мы с Авериным молчали, нам трудно было даже говорить. Я уже не чувствовал боли, у меня было такое ощущение, будто на меня навешали тяжелые корявые железные плиты, к тому же еще страшно горячие. Они перетягивали меня из стороны в сторону, пытаясь свалить.
– Осталась последняя лента, – доложил Виктор, он еще мог вести огонь и находился у пулемета.
– Бей гадов до последнего патрона, – с трудом проговорил Аверин.
Виктор продолжал отстреливаться. Он тоже обессилел от ран, не мог вращать башню и поэтому вел огонь в одном направлении. Мы понимали: осталось жить недолго. Гитлеровцы поднесут взрывчатку и подорвут наш бронеколпак. Шум боя удалялся в глубь нашей территории.
– Товарищи, я бы хотел умереть коммунистом, – вдруг проговорил Виктор. – Вы оба партийные, а я только комсомолец. Ты, Иван, дашь мне рекомендацию?
– Дам.
– А ты, Аверин?
– И я.
– Вы поверите, что комсомольская организация не отказала бы мне в третьей?
– Я верю.
– Я тоже верю.
– На чем написать заявление? У вас, братцы, нет никакой бумаги?
Виктор ощупал свои карманы.
– У меня нет, – сказал Аверин.
– Только вот эта квитанция на часы, – ответил я.
Виктор взял квитанцию и стал писать карандашом на обороте. Одновременно он поглядывал в амбразуру, один раз даже положил карандаш и дал в кого-то очередь.
– Вот, написал, послушайте: «Отдаю жизнь за любимую Родину. Прошу считать меня коммунистом!» Правильно?
– Душевно написал, – одобрил Аверин.
– Так принимаете?
Я думал о том, что формально мы не имеем права принимать Виктора, но боялся сказать об этом вслух – разве можно обижать человека отказом, когда ему осталось жить несколько минут. Ведь были случаи, когда человек, погибая в бою, шептал: «Считайте меня коммунистом». Или эти последние слова меньше весят, чем анкеты, бланки и прочая канцелярщина. Я поднял руку вместе с Авериным с твердым убеждением, что поступаю правильно.
– Спасибо вам, товарищи, за доверие, – растроганно проговорил Виктор. – Даже сил во мне прибавилось. Сейчас угощу кое-кого в честь этого события.
Он взялся за ручки «Максима» и стал стрелять. Я видел: парень держался на ногах с трудом – он просто висел на пулемете. Мы истекали кровью, перевязываться было нечем.
Немцы вели себя спокойно. Они даже не стреляли по амбразуре, видно, что-то готовили. Гул боя слышался далеко.
Когда кончилась последняя лента, Виктор стал расстреливать патроны, которые были в наших винтовках. Предварительно он отсчитал три патрона и протянул их мне:
– Ваня, держи, чтобы не затерялись.
Я держал три медные гильзы с запрессованными в них смертями – одна из них моя, другая – Аверина, третья – Виктора. Снаружи постучали по броне чем-то твердым, очевидно, прикладом. На ломанном русском языке немец крикнул:
– Рус, сдавайс!
Виктор не мог стрелять в говорившего, тот стоял у стенки, противоположной амбразуре.
– Коммунисты не сдаются! – прокричал Виктор в ответ и, спустившись к нам, тоже сел на пол. Мы взялись за руки. Шесть потных и мокрых от крови рук сплелись в последнем братском рукопожатии. В моей правой были зажаты три патрона.
Виктор клацнул затвором винтовки и вложил в нее три патрона… Я не слышал взрыва, которым немцы подорвали наш бронеколпак. Просто тьма ударила в глаза, уши, рот, и жизнь оборвалась…
Сознание вернулось ко мне на несколько мгновений. Нас, видно, вытащили из развалин дота. Надо мной стоял окровавленный Виктор. Он еще мог стоять. Я и Аверин лежали у его ног. Неподалеку валялась опрокинутая верхушка нашего бронеколпака. Рядом с моим лицом высилась горка свежей земли – она была влажная и душистая. За ней, наверное, находилась могила, кто ее рыл – Виктор или немцы, не знаю. Поодаль стояла небольшая группа пленных. На некоторых были зеленые фуражки пограничников. Все пленные были в изорванной одежде и белых бинтах. Против Виктора стоял стройный, белобровый немец в серо-зеленой форме. Я слышал, как немец спросил:
– Ты коммунист?
И Виктор ответил:
– Да, я коммунист!
Это был смертный приговор. А Виктор мог об этом умолчать. Не было ни улик, ни свидетелей. Формально он не был коммунистом. Но он произнес это слово. Произнес, гордо подняв голову. Немец спешил. Зычно скомандовал:
– Ахтунг! – и трое солдат, стоявшие рядом, вскинули автоматы.
Я собрал все силы, чтобы застонать или пошевелиться. Мне хотелось встать с Виктором рядом. Однако никто не заметил мои потуги. Треснул коротенький залп, и Виктор упал на меня. В нас не стреляли. Меня и Аверина считали трупами, сбросили в могилу и наскоро забросали землей…
Очнулся я от холода. Неглубокий слой земли лежал на моей спине. Я попытался подняться, но не смог. Тогда я повернулся на бок. Земля осыпалась справа и слева, и перед лицом оказалась пустота. Я жадно глотнул воздух. Немного отдохнув, собрал силы и высвободился от лежавшей на мне земли.
Стояла светлая летняя ночь. От реки тянуло прохладой. На небе весело перемигивались звезды. Было тихо и безлюдно. Не верилось, что идет война и совсем недавно здесь убивали людей. Не сон ли все это? Я пополз к реке. Умылся, попил, обмыл раны. Сразу прибавилось сил. Вернулся к могиле, стал разгребать землю. С большим трудом докопался до Виктора и Аверина. Разорвал на них остатки гимнастерок, припадая ухом к груди, слушал, не бьется ли сердце. Искал пульс. В обрывках гимнастерок нашел клапаны карманов, отстегнул пуговицы, достал их служебные удостоверения, а у Виктора еще и листок бумаги – когда-то бывшей квитанции часового мастера. Положил все в свой карман. Потом пополз к реке, мочил тряпки и, возвратясь, выжимал их над лицами товарищей, не верил, что они мертвые. Но все было напрасно. Я наломал верхних мягких веткок с кустов и прикрыл ими Виктора и Аверина. Затем, ползая как бульдозер, руками сгребал перед собой землю и сталкивал ее в могилу. Сил у меня оставалось немного. Делал я все это очень медленно, порой сам впадая в забытье. Наконец, навалил на могилу хрусткие, сухие кусты, которые еще вчера служили маскировкой нашему бронеколпаку. Надеялся – скоро вернутся наши пограничники и по этим кустам догадаются, что здесь погребены свои. После этого я лег на спину и стал думать, как поступить дальше. Себя я считал умирающим – раны в груди, в голове, в плече. Но умирать мне нельзя, надо, чтобы заявление Виктора попало в руки советских людей. Сколько я ни думал, никакого выхода не находил. Единственное, что можно было сделать – это добраться до ближайшей деревни и передать бумагу местным жителям.
И я пополз. Полз долго. Терял сознание и вновь приходил в себя. Ночь казалась бесконечной. Каждый раз, когда я открывал глаза, она встречала меня траурной чернотой да звездами, мигающими в небе, как погребальные свечи.
– Врешь, не похоронишь! – шептал я, сцепив от боли зубы. И полз дальше.
Так в первый день войны я успел умереть и воскреснуть. И воскресил меня небольшой клочок бумаги, исписанный рукой коммуниста.
Иван замолчал. Молчали и другие доминошники. Очнувшись от воспоминаний, Захаров спросил похожего на Вицина:
– А ты какого года рождения?
Тот виновато сказал:
– Двадцать третьего.
– А на каком фронте воевал?
– На Калининском и Первом Прибалтийском.
– Значит, дуй за пивом.
Скинулись бумажками и разной белой мелочью.
«Вицин» запрыгал легкой трусцой. А Иван, как бы продолжая разговор о приближающемся шестидесятилетии со Дня Победы, сказал:
– Льготы они нам подстригли, чего же еще придумают?
– Придумают, это точно. Им главное – нас извести. Я слышал, один руководящий демократ сказал: «Пока жив хоть один фронтовик-ветеран, покоя нам не будет».
Иван стукнул кулаком по столу, громко сказал:
– Это точно, покоя мы им не дадим!
Первый шаг к победе
Мало кто уцелел из пограничников, из воинов, которые находились 22 июня на границе. Огромные силы врага неожиданно обрушились на них в тот день. Но пограничники не дрогнули, стояли насмерть, бились до последнего. А потом была большая война, в которой пограничники тоже участвовали. Они служили в воинских частях, отходили вместе с этими частями и, освобождая советскую землю, с победой шли на запад, изгоняя врагов не только с родной земли, но и из многих стран Европы. Несмотря на огромные трудности, на множество опасностей, все же остались живы и по сей день участники тех далеких теперь боев 22 июня. Мне давно хотелось поговорить с одним из них, узнать, как тогда, в тот день, находили они в себе силы противостоять такой огромной фашистской армии, ринувшейся на территорию нашей страны. И вообще, в чем источник мужества, проявленного ими в самые трудные дни военного лихолетья. И вот я нашел одного из тех, кто был 22 июня в траншее, на границе, и первым встречал фашистов. Фамилия его Гоманков, зовут Иван Прокофьевич. Мне казалось, что будет интереснее и для меня, и для него поехать туда, на границу, на место боев, и там послушать рассказ Ивана Прокофьевича. Гоманков прихватил с собой планшетку, обещал показать интересные бумаги по ходу рассказа.
Мы сели в поезд и поехали в город Гродно.
Смотрим мы с Гоманковым на проплывающие за окном вагона поля и вспоминаем войну: именно здесь нам обоим довелось участвовать в боях. Но особенно ярко мне запомнились дни, когда мы возвращались с Победой.
Кончилась война, эшелоны мчали нас домой, на Родину! Мне казалось тогда – время остановилось, солнце не заходило, не было ночей – только яркий солнечный день. Наверное, так было от улыбок и приветного сияния глаз, которыми всюду встречали нас, фронтовиков, соотечественники. Женщины, старики, дети были худые, в недоношенной нами военной одежде, настрадались люди, но глаза их сияли настоящим счастьем.
Было в те дни и такое: когда поезд несся по открытому, искореженному войной полю, вдруг обдавал лицо полынно-горьковатый ветер. Я выглядывал из вагона с недоумением: откуда весной полынь? Оказывается, горький запах этот шел от черных пепелищ деревень и городов. Скорбно тянулись к небу печные трубы, похожие на могильные кресты над бывшими здесь когда-то домашними очагами, над жившими когда-то здесь людьми.
…На следующий день, утром, мы с Гоманковым приехали в Гродно. Обратились в пограничный отряд. Я рассказал пограничникам о нашем намерении. Нам разрешили выехать на границу и даже любезно отвезли на машине до заставы.
И вот мы на границе. Мы шли вдоль пограничной реки Неман и искали окоп, в котором находился Иван Прокофьевич 22 июня. Была ранняя весна. Снег сошел, обнажив прошлогоднюю бурую траву, ночные заморозки подбеливали ее седым инеем. Прошло много лет, местность изменилась. Состарились, отжили свой век одни деревья, выросли другие. Окопы осыпались, некоторые почти совсем затянуло землей. Иван Прокофьевич внимательно вглядывался в берег Немана и наконец-то остановился. Окоп был старый, уже потерявший форму, с осыпавшимися краями, заросшими травой. Иван Прокофьевич спустился в него и безмолвно смотрел на пограничную реку, на противоположный берег. Я стоял рядом и наблюдал за его лицом. Оно было не просто серьезное, а какое-то отрешенное. Он не видел сейчас ни меня, ни тех, кто был с нами рядом. Он мысленно ушел туда – далеко, в 41-й, – и слышал, наверное, выстрелы, крики, гром боя, бомбежку, видел лица своих боевых друзей. Не сразу он стал рассказывать о том дне, и я не торопил его, понимал, что с ним сейчас происходит.
Но вот он негромко заговорил:
– Гитлеровцы плыли на лодках с того берега. Их было много. Они были возбужденные. Крикливые. И даже веселые. Мы, как и полагается, допустили их на середину реки. Когда они пересекли середину реки и стали приближаться к нашей земле, открыли огонь. У меня вот здесь, с левой стороны, были два ручных пулемета, с правой стороны тоже стоял ручной пулемет. Я никого из бойцов не знал раньше, потому что прибыл на этот участок границы 19 июня. Только успел получить ордер на квартиру. Отнес туда чемодан, оставил его в пустой комнате, и в первую ночь уже была тревога. Тогда на границе было неспокойно, все ожидали, вот-вот что-то произойдет. И я как ушел на границу, так и не вернулся. Мне было поручено командовать взводом пограничников, которых прислали из погранотряда. Я, по сути дела, их узнавал и знакомился с ними уже в бою. Мы отбили первую попытку фашистов переправиться через реку.
– Иван Прокофьевич, – спросил я, – а большие силы вас тут атаковали?
– Примерно около батальона. Спустили на воду Немана надувные лодки и после сильного артиллерийского обстрела и обработки самолетами пытались высадиться на наш берег.
Отбили мы еще несколько попыток. Опять началась обработка и с воздуха, и артиллерией. Все было перемешано взрывами. Около четырех часов мы вели ожесточенный бой, не позволяя гитлеровцам высадиться на наш берег. Но силы, конечно, были неравные. Враги обошли нас с левой и с правой стороны. Высадились все-таки и стали окружать. В эти первые часы боя я был ранен в ногу. Но, пока были силы, пока я не потерял еще много крови, оставался в строю и продолжал командовать своим взводом. Ну, потом я стал терять сознание, и меня вместе с другими ранеными погрузили в машину, и машина эта была отправлена в тыл. Когда мы ехали через Гродно, город горел, его бомбили самолеты, повсюду пылали пожары, черный дым застилал улицы. Выехали мы из города, отъехали несколько километров, как вдруг на нашу машину стал пикировать фашистский самолет. Летчик видел, что это санитарная машина. Был на ней красный крест нарисован, и все-таки он пикировал и обстреливал эту машину. Машина остановилась. Раненые, кто ползком, кто как мог стали прятаться в кювет, а самолет сделал еще заход и все-таки поджег машину.
Видел я, как самолет снижался до бреющего полета и летчик расстреливал идущих и бегущих по дороге женщин и детей.
Я лежал в кустах, видел все это и не мог поверить, хоть и происходило все на моих глазах. И вот именно в эти минуты мне стало страшно. Мне не было страшно, когда много врагов переправлялось через пограничную реку и лезло на нашу землю. У нас в руках было оружие, мы верили в себя и били их. Я знал, что война – дело жестокое. Но когда я увидел, как фашист расстреливает женщин и детей, вот в эту минуту я понял, что эта война будет необыкновенной и фашисты не просто враги, а изуверы.
– Иван Прокофьевич, а что дальше?
– Потом мы, раненые, старались выйти к своим. Шли лесами, болотами. Питались, ну, что можно найти в лесу: ягодами, грибами. Я сделал самодельный костыль, пользуясь которым, шкандыбал, стараясь не отстать от товарищей. Они мне тоже помогали. И вот, помню, попалась нам на пути речушка – приток Немана, она извивалась по лесу. Моросил небольшой дождь, и вдруг мы почувствовали запах дыма. А потом увидели огонь костров. Я послал двоих товарищей в разведку: посмотреть, кто там находится у этих костров. И вот они вернулись с радостными лицами и сообщили, что у костров составлены винтовки в козлы и там в зеленых фуражках наши пограничники. Все мы очень обрадовались и поспешили туда, к своим. Но когда подошли поближе, уже вплотную к ним, я вдруг услышал немецкую речь. И понял, что это немцы. Понял еще и потому, что форма на них была новенькая, как говорят, с иголочки, явно было – эта форма недавно взята со склада.
Я только успел крикнуть: «Диверсанты!» и начал стрелять в фашистов. Завязалась короткая, почти рукопашная схватка. Я выстрелил в гитлеровского офицера, убил его, и в этот момент меня что-то ударило по голове и я потерял сознание. Не помню и не знаю, сколько пролежал без сознания. Очнулся уже у ямы: такая продолговатая длинная яма, старая. Стояли мои друзья-пограничники и меня поддерживали. Смотрю, на нас уже наведены винтовки и пулеметы. Нас расстреливали. Перед самым залпом пограничник, стоящий рядом со мной, толкнул меня, и я уже вместе со всеми в грохоте выстрелов упал в ров. Пули не угодили в меня. До сих пор не знаю имени своего спасителя, того, кто толкнул меня на секунду раньше залпа. Кто-то из пограничников, из той машины, что везла раненых, а кто – не знаю, мы были из разных подразделений. Сколько я там лежал, тоже не помню, потому что я периодически терял сознание. Когда пришел в себя – была уже ночь. На мне окровавленная гимнастерка и сверху лежит убитый товарищ. Стал я выбираться. И когда выбирался, услышал стон. Подполз к стонавшему. Шепнул ему на ухо: «Тише, немцы близко». Потом перевязал его. Осмотрел других, лежавших рядом пограничников. Но они были мертвы. Я взвалил себе на спину раненого. Это был Федя Вавилов. И стал ползти по дну рва, в сторону, подальше от этого места. Когда отполз подальше, остановился передохнуть. Кружилась голова, не было сил. Но к утру отдышался, пришел в себя.
И вот потянулись долгие мучительные дни, когда два раненых пограничника, помогая друг другу, пробирались к своим. Наши войска медленно отходили под напором превосходящих сил гитлеровцев. Войска отходили, но битва продолжалась и на территории, захваченной фашистами. Гитлеровцы надеялись захватить, поработить нашу землю, однако эта земля повсюду запылала народным гневом и ненавистью к оккупантам, всюду создавались партизанские отряды.
…Гоманков со своим товарищем Федей Вавиловым все же выбрался к своим. Он лечился в госпитале, а затем ему, как пограничнику и человеку, уже побывавшему в тылу врага, предложили направиться в партизанский отряд. Предупредили: дело абсолютно добровольное. Иван Гоманков дал согласие и был направлен в Деделовский лес, к командиру отряда Леониду. Его направили туда потому, что это были родные места Гоманкова, он знал там каждый овраг, каждую тропу, каждого жителя.
О своей жизни в партизанском отряде Гоманков рассказывал мне в лесу. Мы развели костер, сидели у этого костра, подбрасывая ветки в огонь, и, не торопясь, беседовали. Он вспоминал свою боевую жизнь в партизанах. Именно здесь, у костра, я очень хорошо представлял себе, как выглядел в те дни Гоманков. Небольшого роста, в драной телогрейке, так – мужичок и мужичок. Раненый, бывший в окружении, ни у кого и в мыслях, наверное, не было, что это один из наших разведчиков…
В своем селе Гоманков должен был связаться с Григорием Павловичем Куриленко. Знал его еще с довоенных лет. Куриленко часто бывал в доме Гоманковых. Он дружил с отцом Ивана Прокофьевича. Они обсуждали сельские дела, говорили о том, как лютуют кулаки, о том, как укреплять колхоз, как бороться с этими кулаками. Не думал тогда мальчишка Иван, что когда-то ему придется с этим Куриленко, солидным человеком, вместе работать и выполнять задания.
И вот, прибыв в условленное место, Гоманков встретился с Григорием Павловичем. Куриленко повел Гоманкова в партизанский отряд. Шли долго. Куриленко, поглядывая на хромавшего Ивана, спрашивал – не устал ли? Делали привал. В середине дня пришли в лагерь. Здесь Иван Прокофьевич познакомился с командиром отряда – Леонидом. Это была его кличка.
После знакомства и разговора о том, что нужно отряду, Леонид предложил:
– Вот мы хотим, чтобы вы вернулись в свое село Явкино, легализовались там и создали хорошую группу.
Такое предложение несколько обескуражило Ивана Гоманкова, потому что он собирался в тылу бить немцев, эшелоны пускать под откос. Он так представлял себе действия партизан. Однако Леонид ему разъяснил, что работа, которая предлагается ему, тоже очень необходима. Надо вести разведку, наблюдение за врагом, доставать продовольствие, одежду для партизан. В общем, надо обеспечивать их боевую жизнь, и это тоже опасная боевая работа. Гоманков боялся не близости немцев в такой работе, а презрительных взглядов своих односельчан. Они же не будут знать, что он работает по поручению, и вынести это презрение будет, конечно, нелегко.
Больно было смотреть на опустевшее родное село. Все сидят в хатах, лишний раз боятся выходить на улицу, потому что возможна встреча не только с немцами, а и с полицаями и с их прихвостнями. Только вошел Гоманков в родной двор, навстречу выбежала мать и с криками: «Жив, жив!» кинулась его обнимать. Не знал Гоманков, что мать уже получила похоронку с сообщением о том, что он погиб в боях на границе. Обняла его и сестренка Вера, с радостью смотрела на него, блестя задорными глазами.
Она радовалась не только его приходу, она понимала, что не мог он, пограничник, просто так вот, как окруженец, прийти домой. Она была уверена, что его прислали. И потом, когда улеглась первая радость, когда уже на него нагляделись и поняли, убедились окончательно, что жив их Иван, она его спросила: «Ну, скажи, скажи мне, я никому ни слова. Тебя прислали? Ты со специальным заданием?»
Но он не мог признаться даже сестре. Так и остался просто раненым окруженцем. Отца дома не было. Он, оказывается, ушел добровольно в армию, пошел бить врагов и мстить за сына.
Отдохнул немного с дороги, осмотрелся Гоманков и стал подбирать себе помощников. Одного из них, как советовал командир отряда Леонид, надо было послать работать полицаем, чтобы свой глаз был там, в стае предателей.
Как говорить с людьми? Все настороженно относились друг к другу. Риск очень большой! Одно слово доноса, и не только тюрьма или лагерь, а расстрел грозил человеку.
Первым решил поговорить с Володей Шашенко, ведь учился с ним в одном классе, были друзьями. Доверяли друг другу еще тогда, до войны. Володя сильно болел, когда началась война, и поэтому его не призвали в армию и он не мог эвакуироваться. Не сразу подошел даже к такому другу Гоманков. Он последил за его домом, посмотрел, как живет Володя, и только потом назначил ему встречу. И при встрече этой тоже заговорил не прямо, а так, что можно было его понять по-разному. И о главном спросил с двусмысленной ухмылочкой:
– Не пойдешь ли ты служить в полицию?
Шашенко презрительно посмотрел на Ивана и ответил:
– Эх ты, а еще другом считался. Правду о тебе говорят в селе, что ты дезертир.
– Вот и о тебе то же самое будут говорить, когда пойдешь работать в полицаи.
– Что же ты хочешь, чтобы не тебе одному было тяжело в таком положении, чтобы и обо мне так говорили?
Настало время говорить прямее. И Гоманков сказал:
– Для пользы дела тебе предлагаю идти в полицаи, для того, чтобы ты помогал партизанам.
Володя удивленно вскинул глаза, недоверчиво смотрел на Ивана. «Правда ли?» Боязно поверить тому, что слышал. Но, видно, парень истомился от безделья и хотелось ему бороться с врагами, поэтому после некоторого раздумья он сказал:
– Ладно, поверю я тебе, ты вроде никогда не был подлецом. Мы тут тоже хотели сами кое-что сделать. Собирались с ребятами, – хотел, видно, назвать с кем, но решил подождать. – В общем, собирались, так что есть люди и есть уже на кого опереться.
Очень приятно было услышать это Гоманкову не только потому, что теперь у него появятся помощники, но еще и потому, что его школьные друзья не сидели сложа руки и что они тоже думали, искали возможности бороться с фашистами.
Вот так постепенно начиналась работа в тылу врага. Потом Гоманков создал хорошую подпольную группу, выполнял все задания командира партизанского отряда. Но и фашисты не дремали. Видно, выследили они кого-то из них, и вот однажды, когда Гоманков пришел домой, мать бросилась к нему и плача сообщила:
– Григория Куриленко взяли, я видела, как вели его, связанного, вели по улице и били. Полицай кричал, что скоро всех партизанских пособников переловят. Григорий всех выдаст. И били и вели его дальше.
Этот провал, конечно, очень обеспокоил Гоманкова. Все настороженно ждали. Но крепко держался на допросе Григорий Куриленко. Никого больше не арестовали, и группа продолжала действовать. В сентябре 1943 года пришло от партизан радостное известие: «Наши войска взяли Смоленск». А через несколько дней бои уже продвигались с востока к селению, в котором жил Гоманков. Вскоре поступил приказ командира партизанского отряда перекрыть дороги и ударить по последним подразделениям отходящих немцев.
И вот тут их били вместе партизаны и те, кто до поры скрывался, – подпольщики во главе с Гоманковым.
– В общем, дали мы им жару напоследок как следует! – сияя радостно глазами, подвел Гоманков итог своей партизанской жизни.
С приходом Красной Армии Ивана Прокофьевича охватила не только радость победы, не только радость, что фашистов изгнали, а еще и то, что он мог теперь пройти по селу открыто, глядя людям в глаза, весело смеяться. Он ходил с партизанами по селу, и люди удивлялись его выдержке, тому, как он вел себя раньше. Гоманков видел, что им тоже радостно и приятно, что их односельчанин Гоманков, семью которого они знали только с хорошей стороны до войны, оказался и на войне достойным, преданным Родине. Вскоре после освобождения села Гоманков был включен в состав действующей Красной Армии и стал командовать ротой в одном из полков 1-го Белорусского фронта. Освобождал Белоруссию. На реке Проне был ранен, попал в госпиталь. После излечения сражался на 3-м Украинском фронте, командовал стрелковой ротой. Участвовал в форсировании Днестра. За это форсирование получил орден Красной Звезды. Участвовал в Ясско-Кишиневской операции, где была окружена большая группировка фашистов. Потом форсировал Вислу и дошел до Германии.
– Хочется мне сказать о том, что в 1941 году, удаляясь от своей родной границы и когда находился в тылу фашистов, я постоянно помнил своих погибших друзей-пограничников и вот тех людей, женщин и детей, которых расстреливал на моих глазах фашистский летчик. Я всегда думал о том дне, когда за все эти злодеяния придется фашистам ответить. Я твердо верил в то, что им придется-таки за это отвечать.
…Слушая Гоманкова, я вспоминал свои фронтовые дороги и сказал Ивану Прокофьевичу, что тоже прошел эту тяжелую школу. И у меня тоже постоянно сохранялась вера, что мы вернемся сюда, в края, которые оставляли. Мы обязательно вернемся, и победа будет на нашей стороне. А когда начались наступательные бои и мы стали освобождать свою землю, как радостно стало на душе, что наши надежды сбылись.
– Ну а что вы чувствовали, когда вышли на границу, на ту линию, где застала вас война?
– Когда вернулись и увидели, вот он, заветный рубеж, от которого мы отходили и к которому потом так стремились, на душе было настоящее праздничное настроение, очень большое внутреннее волнение. Но, к сожалению, в то время не до праздников было. Бои продолжались, все произошло просто, по-фронтовому. Вышел я, конечно, со своей ротой не на том участке, где вел бой 22 июня 1941 года. Вышел в совсем другом месте, но тут тоже когда-то стояла застава. И, видно, бой здесь был такой же тяжелый, как и у нас. Все вокруг изрыто воронками, застава разрушена, живого места не осталось. Все искорежено. Я думал о тех, кто защищал эту землю в июне сорок первого. Вспоминал, как сам с друзьями своими отбивал фашистов, переправлявшихся через Неман. И вот я задумался и не сразу заметил, что рядом со мной стоит местный житель. Он тоже был без головного убора, и лицо его было печальным. Не здороваясь и не говоря, кто он, сказал: «Вон на том холме мы их схоронили. Ни один в живых не остался. Все бились до последнего патрона. – А потом подал мне сверток и добавил: – Вот, сберег».
Я развернул сверток и увидел гербы, металлические гербы, которые были на пограничных столбах. Несколько этих гербов Советского Союза были в свертке. Многим, да что там многим, жизнью рисковал этот человек, когда свинчивал эти гербы со столбов! Если бы кто-то из фашистов увидел его за таким делом, расстреляли бы на месте. А он верил, что мы придем, что мы вернемся, и сохранил эти гербы.
Мы долго не задержались на границе, пошли вперед. Но я видел, как некоторые солдаты брали в руки землю, с волнением растирали ее, глядели радостно друг на друга. Они как бы говорили этой земле: вот, родная, мы пришли, мы тебя освободили! Этот рубеж дал нам прилив новых сил, как будто вдохнул в нас новую энергию, и пошли мы дальше, освобождать Польшу и Германию.
Запомнилось мне форсирование Одера. Ночь. Широкая река здесь, на чужбине, казалась особенно мрачной. Приказ был почти такой же, как приказ о форсировании других рек: «Любой ценой захватить плацдарм и удержать его до переправы главных сил батальона». Тихо спустили мы лодки и поплыли по черной воде. Я знал: достаточно малейшего шума, чтобы эта черная ровная поверхность реки превратилась в кипящий страшный котел. Но нам повезло. Мы достигли берега противника бесшумно. И сразу разорвали ночную тишину взрывами, а ночной мрак – красным огнем наших гранат. Мы действовали удачно и захватили первую траншею сравнительно легко. Но я знал – это только начало! Даже захват траншеи – это еще только начало боя. И не ошибся. Фашисты понимали, что такое захват даже небольшого плацдарма. У них тоже был опыт! Они знали, что если уж русские вцепились в берег, то их трудно будет выбить. Ну и мы готовились к встрече. Не успели оглядеться, тут же во мраке ночи последовала сильнейшая артиллерийская обработка, и цепи гитлеровцев пошли в атаку. Мы отбили несколько атак. Поле боя освещали немецкими ракетами, которые захватили в траншее. На некоторое время наступила тишина. А потом вдруг опять сильнейший артиллерийский обстрел. Но когда мы осветили впереди лежащую местность ракетами, я не увидел атакующих цепей. Я понимал: фашисты зря тратить снаряды не будут и, когда взмыли вверх новые осветительные ракеты, увидел – ползут!
Мы подпустили фашистов поближе и огнем почти в упор отбили и эту атаку. На рассвете на нас пошли уже танки. Это дело серьезное! С танками бороться всегда тяжело. У нас было несколько противотанковых ружей. Особенно отличился бронебойщик Опарин. Он стрелял метко, попадал в танки, но пули не пробивали броню. И все же он изловчился. Когда танк вылез на бугор, Опарин ударил в днище, где броня потоньше, и пробил это днище. Танк остановился.
По этому танку начали бить и другие бронебойщики, и общими силами они его доконали. Выскочил из танка экипаж, но мы не дали врагам уйти – побили. Танк остался на месте. Подбили и второй танк и его экипаж тоже уничтожили. Я подумал, что надо бы взять патроны и оружие из этого танка, и сказал командиру взвода лейтенанту Жданову, чтобы он послал туда людей. Он послал командира отделения Туртаева. Опытный был этот командир отделения. Через некоторое время Туртаев взял из этого танка три автомата и патроны. Он сказал своим бойцам: «Передайте это все командиру, а я останусь здесь, в танке». Я послал к нему на помощь Царева, знал, что он умеет обращаться с орудием. И вот при очередной контратаке фашистов мы все ждали, что Царев и Туртаев ударят из пушки по наступающим немцам. Цель была уже рядом – атакующие танки фашистов подошли совсем близко, а орудие огонь что-то не открывало. Я уже подумал: не случилось ли чего-нибудь? Может быть, пушка оказалась неисправной? И вдруг, когда поровнялись танки с этим подбитым немецким танком, башня развернулась, и орудие начало бить в упор по фашистам. А пулемет немецкого танка стал бить по атакующей пехоте. Наши солдаты «Ура!» закричали от радости, когда увидели эту сцену! Обнаружив, что в танке засели наши, фашисты двинули три самоходных орудия, и наши ребята затеяли с ними дуэль. Дав несколько выстрелов из пушки, ребята выскочили из танка и по воронкам и лощинам прибежали к нашей траншее.
«Ну и молодцы! – похвалил я их, – а теперь вставайте по местам. Контратака эта не последняя, сейчас еще полезут».
Во время очередной атаки фашистов меня ранило в ногу. Долго не могли остановить кровь. Тут жгут надо бы, а его под рукой не оказалось. Я говорю: «Перевязывайте бинтом, давайте перетягивайте потуже».
Перевязали, и я продолжал руководить боем. За левый фланг уже не беспокоился. Там, смотрю, рота соседнего батальона переправилась. А вот на правом фланге наш сосед все никак не мог зацепиться за берег. Здесь, как говорится, у фашистов руки были развязаны. И они бросили с этой стороны восемь танков. Я уже видел их на опушке и попросил по рации, чтобы артиллеристы дали огоньку. А огня все не давали, артиллерия что-то молчала. Вдруг слышу гул самолетов. Оказывается, нам на помощь прислали штурмовиков. Здорово они раздолбали эти танки.
Но танки не все сгорели, некоторые из них успели укрыться в лесу. Как только ушли самолеты, гитлеровцы все-таки двинулись в контратаку. Они знали, что надо сбивать нас, пока мы как следует не закрепились на берегу, пока сюда еще не переправились главные силы.
Слышу я, не совсем благополучно у меня на правом фланге: замолчал один, потом второй пулемет. Ну, я хоть и раненый, а побежал туда. Вижу еще на бегу: немцы уже близко к правому флангу подошли. Бежал я изо всех сил, чтобы успеть. И успел все-таки. Успел сюда и командир взвода Жданов. Мы сами легли за пулеметы вместо погибших пулеметчиков. И Царев тут со своим взводом подошел на выручку. Атака была отбита. Мы даже трофеи собрали – оружие тех немцев, которые упали неподалеку от наших окопов, их патроны и гранаты. И снова начался артобстрел. Сил в роте совсем уже осталось мало, когда комбат попросил по рации продержаться еще немного. Он сказал, что через пятнадцать минут батальон начнет переправу. И даже со дна окопов поднялись все раненые, в бинтах, в крови. Шестнадцать атак мы отбили за время пребывания на плацдарме, а вот эта, последняя, была, пожалуй, самой трудной. Немцы поняли, что это наши тоже последние силы, делали все, чтобы сблизиться и уничтожить нас в рукопашной.
Я видел: вот уже близко подплывают лодки с главными силами батальона, но если фашистам удастся нас смять и захватить эти траншеи, они отсюда, с хорошо подготовленных огневых позиций, конечно же не дадут главным силам батальона высадиться. Надо было как-то сдержать натиск врага, надо было во что бы то ни стало помочь высадке батальона. Огнем мы уже сдержать, чувствую, не сможем. И вот ради этих нескольких минут я понял, нужно атаковать. Не допустить немцев в траншею, остановить их, задержать рукопашным боем на подходе к окопам. И я крикнул: «Вперед, орлы-гвардейцы! За мной!» Сам выскочил из окопа и, стреляя из автомата, побежал навстречу фашистам. Солдаты кинулись за мной, и мы сшиблись в рукопашной схватке. Наши друзья из батальона видели это и, выпрыгивая из лодок, еще бредя по воде и карабкаясь на берег, кричали «Ура!», чтобы хоть этим криком придать нам силы и запугать гитлеровцев. И этот крик нам помог! Немцы дрогнули и повернули назад! Побежали! И здесь я упал. Получил еще одно ранение. Роту повел вперед лейтенант Царев.
Как мне потом рассказывали, около меня остался один только Куприн, ординарец мой. Он смотрел на меня, окровавленного, и думал, что я убит. Около гвардейского значка на груди, у клапана кармана, гимнастерка вся была мокрая от крови. Куприн никак не решался расстегнуть этот карман и вынуть документы. Вынуть документы – это значит все. Это значит – человек погиб. Он приник к моей груди и стал слушать. И показалось ему, вернее, даже сквозь грохот боя он все же расслышал, что сердце мое бьется. Оказалось, пуля ударила в гвардейский значок, и это меня спасло. Она пробила комсомольский билет и неглубоко вошла в мое тело. Но все же я был дважды ранен, много потерял крови и лежал без сознания. Обнаружив признаки жизни, ординарец Куприн положил меня в лодку, переправил на другой берег и доставил в медсанбат. И только убедившись, что я выживу, он с этой радостной вестью вернулся в роту.
В медсанбате я все время думал о том, как там мои ребята, удержатся ли они на плацдарме? Ну, мне сказали, что главные силы переправились, и теперь я был уверен, что если уж мы, несколько человек, удержали плацдарм, то конечно же главные силы батальона, да уж, наверное, и полка, теперь переправились и плацдарм удержат! И я не ошибся – плацдарм удержали. Через несколько дней в дивизионной газете «За победу» была напечатана короткая заметка. Она у меня сохранилась. Вот почитайте, что в ней написано… – Гоманков достал из планшетки пожелтевший квадратик газеты, и я прочитал:
«Офицер Гоманков с приходом в роту отдавал все свои силы сколачиванию боевого подразделения. Иван Прокофьевнч стремился превратить свою роту в несокрушимый бронированный кулак, о который разбились все контратаки врага. Он сделал ее острым кинжалом, способным пронзить любой оборонительный рубеж противника. Офицер Гоманков превратил свое подразделение в роту бесстрашных. И самым бесстрашным является он сам – командир роты».
Гоманков, следя за тем, как я читаю, смущенно сказал:
– Ну, вы понимаете, стиль, конечно, очень возвышенный, перестарался корреспондент. Наверное, тоже очень торопился.
А я читал дальше:
«На Одере немцы предпринимали атаку одну за другой, но все они разбивались о стойкость наших воинов. Сам Гоманков, дважды раненный, лег за пулемет и поливал свинцом обратившихся в бегство гитлеровцев».
Очень торопился вылечиться Гоманков в госпитале. Просил врача, чтобы выписал поскорее. А врач сердился: «Как с ума, говорит, все посходили. Выписывай и выписывай! Вам еще на костылях надо будет ходить. Не имею права я вас выписать!» И все же Гоманков добился. Пораньше его отпустили, и он догнал свою дивизию. Там ждали его добрые вести. Командир дивизии полковник Даниил Кузьмич Шишков вручил ему орден Отечественной войны I степени за форсирование Одера, поздравил его с присвоением звания капитана и сказал:
– Давай принимай батальон!
– Я отказался, потому что, говорю, не могу я командовать батальоном.
– Да ты боевой командир, пойдет у тебя дело!
– Нет, говорю, образование у меня недостаточное.
Он это понял по-своему и сказал:
– Ну, тогда в академию поедешь учиться!
Тут я уж совсем замахал руками и говорю:
– Ни в какую академию я не поеду, что вы! Я с ротой такой боевой путь прошел. Я Берлин брать хочу!
Командир дивизии засмеялся и оставил меня в покое. Назначили меня в мою прежнюю дорогую мне роту. Мне показали лес, в котором находилась моя рота, и стал я пробираться к ней. Рвались снаряды, этот участок фашисты сильно обстреливали. Я шел по лесу и как-то не чувствовал себя защищенным, как раньше, в нашем русском лесу. Лес тут был весь расчищенный, словно прозрачный. Не лес, а парк какой-то. Уже начало темнеть, когда я добрался до траншеи своей роты. Солдаты узнали меня и очень обрадовались. А кто-то сказал:
– Мы же говорили, капитан обязательно придет и будет брать Берлин с нами вместе!
Прошел я в блиндаж к Цареву. Он уже был старшим лейтенантом:
– Здравствуй, Саша, здравствуй, дружище!
Мы обнялись, расцеловались трижды по-русски. Прибежали в блиндаж другие командиры взводов. Ну, конечно, как и полагается при встрече друзей, посидели мы, поужинали. Все говорили о том, что скоро Берлин брать будем. И вдруг Царев мне говорит, что он как парторг роты думает, что пора мне, командиру роты, вступать в партию. А я ответил, что давно собираюсь подать заявление. Еще когда Одер форсировали, думал: выполним задачу и напишу. А вышло вот так – ранило меня. Ладно, уж буду брать Берлин комсомольцем. А возьмем Берлин – тогда и в партию буду вступать.
Новая задача, которую получила рота Гоманкова, была похожа на ту, которую недавно выполняли. Надо было форсировать Шпрее. Каждая река, каждая переправа имеет свои особенности. Здесь на берегах реки стояли дома, – это те же доты, из которых каждую секунду мог брызнуть губительный огонь. Надо было что-то придумать.
Я посоветовался с командирами взводов. Они сходились на том, что всей роте сразу переправляться, конечно, не следует. Можем не доплыть мы до того берега все, потому что срежут огнем из этих вот домов. Выход предложили такой: переправляться небольшими группами, пользуясь покровом ночи и дымом, который стлался по реке от горящих домов. Вот этим воспользоваться и мелкими группами туда переправиться. Накопить силы. А там уже ударить всей ротой. Так и было решено. Надо было кому-то переправиться первым. И я подумал, что хорошо бы, если бы первым пошел с группой Царев. Саша словно понял мои мысли, посмотрел на меня и сказал:
– Ну, что ж, бои завершающие особенно важные. Первую группу должен вести парторг, поведу я.
Он переправился с первой группой. А я-то знал, как важно скорей поддержать тех первых, которые на том берегу. Потому побыстрее с остатками роты переплыл Шпрее и присоединился к Цареву.
О том, как развивались дальше события, рассказала старая газетная вырезка, которую сохранил и достал из планшетки Гоманков. Это была заметка из той же дивизионной газеты «За победу»:
«Немеркнущей славой покрыла себя рота в недавних боях за Берлин. Гоманков со своими бойцами первыми переправились на западный берег Шпрее. Неподалеку находилось большое каменное здание. Немцы превратили его в сильный опорный пункт. Из него простреливалась вся река. Переправляться через Шпрее нашим подразделениям оказалось очень трудно. Иван Прокофьевич применил маневр. Рота обошла дом слева и с тыла. Устремилась на опорный пункт гитлеровцев. Вражеский гарнизон пал, рота капитана Гоманкова уничтожила двенадцать пушек, шесть станковых пулеметов и три миномета. Сто двадцать трупов – все, что осталось от вражеского гарнизона. Плацдарм был завоеван, наши подразделения переправились через водный рубеж и устремились к центру Берлина».
Слушая рассказ Гоманкова, я радовался не только боевым успехам роты, не только тому, что они так умело били врага, мне было приятно, что вот этот человек, тот самый, который первым 22 июня 1941 года встретил фашистов на пограничной реке, именно этот человек одним из первых вступал в Берлин! Это было очень символично!
Гоманков тоже волновался, припоминая эти последние часы войны:
– Впереди уже был виден рейхстаг. Очень радостно стучало у меня сердце. Я кинулся к рейхстагу и позвал за собой своих бойцов, кричал: «Вперед, гвардейцы, за мной!» И они дружно встали и побежали со мной через площадь, к рейхстагу. Но судьба была жестока. Не раз я был ранен в годы войны. Но здесь на последних шагах к рейхстагу, после того, как я прошел такие трудные фронтовые дороги, быть раненным на последних метрах – было, конечно, очень обидно! Пулеметная очередь по ногам свалила меня на землю. Подбежал мой друг Царев, подбежал ординарец Куприн. Если бы я куда-то в другое место был ранен, может быть, я нашел бы в себе силы подняться, но обе ноги были перебиты пулями. Я попросил Царева: «Саша, принимай роту, штурмуй рейхстаг, обязательно возьми этот рейхстаг! Ну, давай поцелуемся. А Колю-ординарца оставь со мной».
И вот Коля донес меня до берега реки, переправил через реку и потом доставил в медсанбат. Ранение было тяжелое. Я то и дело терял сознание. Все время мне слышались шум боя, крики, и я сам выкрикивал какие-то команды. Однажды я услышал рядом знакомый голос Саши Царева. Он кричал: «Вперед, вперед на рейхстаг!» Я думал, что это я в бреду слышу. И вдруг увидел, что рядом лежит Царев. Он, оказывается, тоже был ранен. Случайно его положили рядом со мной. Саша то стонал, то выкрикивал команды. Он был без сознания. Ему становилось все хуже и хуже. Сколько дорог прошли мы вместе с ним! Сколько раз он выполнял самые трудные задания! Да хотя бы вот в этом самом последнем бою он как парторг повел первую группу переправляться через Шпрее. И когда я упал на площади, перед рейхстагом, именно он принял командование ротой и повел ее дальше, на рейхстаг. Очень трудно было видеть его мучения. Я забыл даже о своих ранах и о боли. Я понимал – Саша Царев, раненный в живот, может не вынести этого ранения. И было очень тяжко так вот рядом, близко, видеть и терять друга и не быть в состоянии чем-то ему помочь.
Гоманков замолчал и как-то буднично, уже не так возбужденно, как говорил о бое и о своем друге, сказал:
– В Познани, в госпитале, куда меня привезли, я прочитал в газете «Правда», что за мужество и отвагу, проявленные в битве за Берлин, Указом Президиума Верховного Совета мне присвоено звание Героя Советского Союза. Сначала я даже не понял: – «За что?» Ничего вроде я особенно героического не совершил. Было много боев, много раз мне приходилось водить в атаку роту и первым переправляться через реки. Ну, потом я, конечно, понял, что идти первым на рейхстаг, вести бойцов в этот последний бой – дело не обычное. Через Шпрее удалось переправиться немногим, и за последние метры приходилось платить своей кровью не одному командиру роты. Я продвинулся по этой площади под сильнейшим огнем всего несколько сот метров. Потом эту эстафету подхватил Саша Царев и тоже провел роту несколько десятков метров. Конечно же это были труднейшие из трудных минуты боя. И чтоб решиться на это в конце войны, когда оставалось до победы несколько часов, нужны были большие душевные силы.
Гремели победные залпы. Берлин был взят. Война кончилась. Кончилась для всех. А для Гоманкова она продолжалась еще год, потому что он год лежал в госпитале, и война была в его теле. Она все еще пыталась убить его. Целый год боролся за свою жизнь, и наконец победил в этом бою капитан Гоманков. Только в апреле 1946 года выписался он из госпиталя. Правда, одна нога не гнулась, и ходил теперь Гоманков с палочкой. С радостью излечения в госпитале пришла и еще одна большая радость. Имя ее было Марийка. Она была медсестрой, которая с первого и до последнего дня не отходила от его койки. Она провожала его и в Кремль за получением Золотой Звезды и первой встретила после возвращения из Кремля и поздравила. С тех пор и по сей день всю жизнь Мария Яковлевна рядом с Иваном Прокофьевичем.
Костер, у которого мы сидели, догорал, дыма от него теперь не было, только теплый воздух дрожал, струясь над бледно-розовыми углями. Мы помолчали, подбросили веток, дым опять заклубился и потянулся голубоватой струей к небу.
А на другой день у нас была очень любопытная встреча. У Ивана Прокофьевича сохранился ордер на квартиру, который он получил тогда, в 1941 году, прибыв в город Гродно. Мы решили разыскать этот дом и посмотреть: кто сегодня живет в квартире? Искали мы не долго. Сели в такси, попросили шофера отвезти нас на улицу Первого Мая. Эта улица и сейчас так называется. Когда мы вышли из машины около нужного нам дома, Гоманков с волнением смотрел на него, на соседние дома, на улицу.
– Очень все изменилось? – спросил я.
– Нет, дом не изменился. Только постарел так же, как я, вот видите, на нем есть следы от пуль и осколков снарядов. А вот по соседству новые дома, современные, тогда их не было.
Мы вошли в подъезд и нажали кнопку звонка квартиры № 1. Открыла дверь женщина средних лет. Мы попросили разрешения войти, и она нас пригласила в комнаты. Звали ее Янина Иосифовна Макарчик. Я коротко объяснил ей, зачем мы сюда пришли, и спросил: кто она, где работает, кто ее муж? Она рассказала:
– Мужа моего зовут Иван Иванович. Он маляр. А я работаю в детском саду рядом с нашим домом. У нас трое детей.
Пока Янина Иосифовна рассказывала, Иван Прокофьевич, не торопясь, заглянул в соседнюю комнату. Я спросил его:
– Ну как, та самая?
– Все так же. Только обои другие. Вот этих цветочков не было.
– Вот видите, Янина Иосифовна, после стольких трудных дорог, после такой долгой войны Иван Прокофьевич остался жив и конечно же ему было интересно посмотреть на свою квартиру, поэтому мы вас и побеспокоили.
– Ну, какое же тут беспокойство. Я вас понимаю, такой человек, такую трудную жизнь прошел!
Хозяйка держала малыша на руках и почему-то заплакала. Она вытирала слезы фартуком и взволнованно говорила:
– Такому человеку мы, конечно, квартиру вернем. Не беспокойтесь. Никаких скандалов не будет. Такой человек! Герой войны… Мы с мужем подыщем частную квартиру и переселимся. Ваше право. Дело даже не в ордере. Так много вы пережили, инвалид. Конечно, вернем вам квартиру.
Мы с Гоманковым переглянулись. У нас даже и в мыслях не было о возврате квартиры. Янина Иосифовна нас не так поняла. Но меня вдруг охватило очень, я бы сказал, возвышенное волнение: женщина с тремя детьми готова уйти из дома неведомо куда ради того, чтобы здесь поселился фронтовик, герой войны.
Я невольно воскликнул мысленно: «Господи! Сколько склок, скандалов бывает из-за жилой площади!» (Теперь даже убивают стариков, чтобы завладеть квартирой!) А тут простая русская женщина из уважения к защитнику Родины готова уйти отсюда безропотно. Вот он, великий русский патриотизм и любовь к армии и многое другое, что скрывается под всем известным понятием – русская душа!
Смотрел я на эту женщину с дитем на руках, она была похожа на Богоматерь с Христом-младенцем, и величайшее уважение и даже спазмы от трогательности происходящего сдавили мне грудь.
Мы с Гоманковым наперебой стали объяснять хозяйке, что не за квартирой пришли, а просто посмотреть комнату, где, будучи молодым лейтенантом, Иван Прокофьевич переночевал всего одну ночь.
Женщина плакала теперь уже слезами радости.
Потом она поила нас чаем и рассказывала о своей нелегкой жизни в годы оккупации.
Янине Иосифовне надо было идти на работу. Мы пошли вместе с ней. Дойдя до детского садика, она сказала:
– Может быть, зайдете посмотреть наших детишек?
Мы зашли. Веселые шумливые карапузы играли в песочницах, качались на качелях, бегали по дорожкам. Гоманков смотрел на них почему-то строго. Я спросил:
– О чем вы сейчас думаете, Иван Прокофьевич?
– Глядя на детей, я подумал, что они прекрасны и чем-то похожи друг на друга. Вы знаете, вот в том, далеком теперь сорок первом году было такое же голубое чистое небо над городом. И вот так же играли дети: смеялись и бегали. Где они сейчас? Многие ли из них остались живы? Ведь я же видел, как тот фашистский летчик расстреливал на дороге вот таких маленьких детей и вот таких женщин-матерей, как Янина Иосифовна. На всю жизнь останется в моей памяти эта страшная, ужасная картина! Вот вы спрашивали меня: в чем источники мужества, где брали силы для подвигов воины на фронте? Конечно, для подвига необходимо много хороших качеств. Но, знаете, для меня лично та страшная сцена расстрела мирных жителей с фашистского самолета стала толчком к действию, я считал нужным вырвать оружие у этих зверей-фашистов, любое оружие – какое бы там ни было: автоматы, орудие, самолет у этого варвара-летчика! То есть я стремился к тому, чтобы обезоружить фашистов, лишить их возможности убивать людей. И решил я так в первый день войны, 22 июня 1941 года.
А мне запомнились еще и такие слова Гоманкова:
– Первый день войны был первым шагом к нашей Победе!
Рабочий
Странный выбор персонажа для очерка, не правда ли? Было уместно и понятно лет двадцать тому назад, когда рабочий класс считался «гегемоном революции» и главной движущей силой социалистических преобразований. А что представляет рабочий сегодня? Самую низшую ступень в общественной иерархии. Кто ниже? Ну, наверное, крестьянин. Не фермер, а простой крестьянин, деревенский житель – голодный, холодный, бесправный.
И вот встретил я человека, который еще до Октябрьской революции (как «гегемон» переворот осуществлял), все годы существования Советского государства оставался рабочим и в наши дни он все тот же рабочий.
Какую удивительную жизнь прошел этот чистокровный представитель класса-гегемона, можно сказать, своего рода труженик-аристократ – через целую эпоху в одном звании – рабочий.
За эти годы некоторые солдаты выросли в маршалов, кое-кто из беспризорников-детдомовцев стал академиком, бывшие пастушата и черномазые мальчишки из шахт – ныне прославленные артисты, профессора. А он был рабочим и им остался. Может быть, заурядная личность? Нет никаких талантов, способностей? Наоборот! В этом вы убедитесь сами.
Однако пойдем по порядку, не торопясь. Начнем с далеких дореволюционных дней. Причем большая правдивость, мне кажется, будет в прямом рассказе самого Петра Кондратьевича Колесникова, я буду лишь иногда помогать ему и читателям своими пояснениями там, где они понадобятся по ходу рассказа.
Итак, мы в Ростове, в квартире Петра Кондратьевича. Квартира большая, просторная – трехкомнатная, обставлена прочной мебелью отечественного производства, которая появилась после войны, тогда еще не было модерновых стенок, сервантов, шкафов-купе. Однако все современные необходимости в квартире есть: холодильник, телевизор и очень много книг.
Петр Кондратьевич, как вы понимаете, не молод, но выглядит он моложе своих лет: среднего роста, крепкий, быстрый, энергичный, глаза веселые, жизнерадостные. Чтобы наглядно он встал перед вами, представьте человека по внешности и говору похожего на известных всем вам артистов – Чиркова в образе Максима из фильма «Возвращение Максима» или Бабочкина в роли Чапаева в одноименной картине. Вот если их мысленно объединить, то и получится Петр Кондратьевич. Не будем вдаваться в детали: чей нос да чьи глаза, типаж, характер такой. Он приятный собеседник – говорит свободно, память у него поразительная, все даты, имена и отчества друзей молодости, не говоря уж о более близких годах, не припоминает, как это случается у пожилых, а произносит легко, без напряжения памяти.
Итак, ему слово:
– Родился я 11 июня 1905 года в слободе Шарпаевка, сейчас – Тарасовский район Ростовской области. Отец работал у помещика на мельнице, по-крестьянски назывался мирошником: и на камнях молол, на вальцах, и семенная рушка, и просо на пшено, и все такое… Водяная мельница стояла на реке Калитве, впадающей в Донец возле Белой Калитвы. Шарпаевка наша называлась так потому, что беднота жила – обшарпанные. Да и рядом поселки не богаче нас – Голодаевка, Головка – голытьба. Семья наша была большая. Отец всегда договаривался с помещиком о харчевых, это был основной прокорм семьи. Правда, был у нас огород, но хлеба своего не имели. Мы не казаки, иногородние, пришлые. Земля нам не полагалась. Отец, уроженец Усть-Медведицкой станицы, сейчас это Волгоградская область. Сюда пришел молодым, познакомился в Шарпаевке с моей будущей матерью, Еленой Федотьевной, и прожили вместе всю жизнь.
Едва я подрос, определили на работу к помещику. Гонял лошадей в конном приводе, это тогда был такой «мотор». Целый день лошади ходят по кругу, жернова вращают, ну и я с ними. Рабочий день – с рассвета до темна. Приду домой, а у меня мозги еще долго кружатся. Так я начал работать еще при отце. Он хотел дать мне если не образование, то хотя бы грамотность. Пристроили меня в одноклассное училище. Одноклассное – это название, а учиться там надо два-три года. Учился я с охотой, получил похвальную грамоту по окончании. Отец мои успехи оценил – определил в двухклассную церковно-приходскую школу. Грянула война, а потом – революция. В школе ученический совет создали, а меня избрали председателем. Ко мне обращались – «товарищ!» А ведь я еще мальчишка, мне странно уважительное отношение. Они мне в отцы-деды годились. Ну, какие у нас в школе были вопросы: первое – отмена телесных наказаний, убрать из программы уроки Закона Божьего. А в рабочем совете, помню, знамени настоящего не было – знамя было нарисовано на стенке и на нем написано Р.С.Д.Р.П.
Отец недолго пожил. Умер. Мне надо было работать – кормить семью – лет всего тринадцать, но я старший.
Друг отца, Ковалев Ефим Леонтьевич, пришел на второй день после похорон и говорит:
– Петро, мать больная, сестренке семь лет – чем будете жить? Подумай об этом. С крестьянством ты не связан, ты рабочий. Пойдем завтра к хозяину мельницы.
А ее хозяин – инженер Михаил Осипович Шанк, ему помещик сдавал мельницу в аренду. На Дону в восемнадцатом еще старорежимные порядки были.
Мать мне рубашонку постирала, брючишки. Наутро пошли.
Хозяин как раз кушал, на столе самогон, сало, пирог. Жена у него русская – Марфа Васильевна. Вошли мы, Ефим Леонтьевич говорит:
– Михаил Осипович, вы простите, что мы пришли во время обеда, но я вот привел хлопца Кондрата Кузьмича, которого мы похоронили, надо его пристроить. У него мать больная, сестренка малая, а жить нечем.
Шанк вытер усы, спрашивает:
– Грамотный?
– Да.
– Что окончил?
– Четыре класса.
– О, гут, гут!
В то время в деревне это было большое образование!
– Я тебя приму, сделаю из тебя весовщика. У нас десятичные весы, я научу тебя на них работать, и ты будешь брать отмер.
Отмер – это вот что: привозит крестьянин десять мешков – десятый мешок нужно брать за помол.
– Давай договоримся об оплате. Деньги сейчас и донские, и керенские, и николаевские, и ни за те, ни за другие ничего не купишь. Решим так: я буду в месяц давать тебе четыре пуда ржи. Если будешь хорошо работать, то к празднику – коробку белой муки и четверть подсолнечного масла, кроме того, я тебе буду давать четыре мешка.
Из мешков можно штаны и рубаху пошить, тогда мануфактуры не было.
Ефим Леонтьевич меня толкает, мол, кланяйся и соглашайся. Ну, чего же я не соглашусь? Я кланяюсь:
– Спасибо, Михаил Осипович.
– Приходи завтра утром.
Утром – это до рассвета.
– Кроме того, ты должен Марфе Васильевне наносить с речки бочку воды для стирки. А для чая и пищи четыре ведра должен принести с помещичьего двора, там колодец с хорошей водой. Еще ты должен дров наколоть. Дрова дубовые, я заставлю напилить, а ты уж наколоть должен. Я вышел, Ефим Леонтьевич говорит:
– Ты не дрейфь, ты уже взрослый, рабочий.
Пришел домой, рассказал все матери. Она расплакалась:
– Ну, что ж, кормилец ты мой, выбора у нас нет.
Слушал я Петра Кондратьевича, и как-то не верилось, что этот человек еще у помещика работал. Я тоже немолодой, но я о помещиках только в школе, на уроках истории слышал. В десять лет быть рабочим, гонять лошадиный «мотор» по кругу от зари до зари. От одной мысли о повседневном кружении лошадей стало муторно. А за длинный перечень обязанностей, возложенных на него в тринадцать лет, пожалуй, самый здоровенный шабашник в наше время не возьмется. А возьмется, так рухнет через неделю. А парнишка тянул эту лямку годами – потому, что кормилец – чувство ответственности…
И представлял я детей и друзей моих, и думал, кто из них способен перенести такое в десять – тринадцать лет? И понимал – никто! Ну, а все же, если жизнь заставила бы? Конечно, может, попытались бы поддержать родных, но едва ли такое вынесли бы.
…Петр Кондратьевич продолжал:
– Особенно трудно было зимней ночью. Выпьет хозяин самогону и посылает искать ему еще по деревне самогон этот. Боязно, а идти надо. А зима, холодно, одежонка из мешковины не греет. Палку возьму, от собак отбиваться. Где брать чертов самогон?.. Потом все узнал, и собаки меня уже не трогали – привыкли.
Однажды приехал на мельницу белый офицер и говорит Шанку:
– Ты мельницу разбери, чтоб красным не досталась…
Ну, мы разбирали с умом, где что закопано – примечали.
А через день мать лежит ночью, слышит цокот копыт, мороз сильный был. Она говорит:
– Сынок, глянь в окно, если у лошадей хвосты подрезаны – значит, это наши пришли.
Посмотрел, не видно из окна. Набросил зипунок, выхожу, смотрю, лошади с подрезанными хвостами: в Красной Армии подрезали у лошадей хвосты. И еще вижу: конники в странных шапках с бугорком. Я помчался домой:
– Мама! Хвосты подрезаны и островерхие шапки!
Мать за долгие годы впервые улыбнулась, перекрестилась:
– Ну, сынок, нам теперь легче будет.
Радости дождалась, а пожить не довелось – умерла мать в те же дни. Схоронил, и плакать некогда – дело не ждет.
Притащили спрятанные детали, ремни, мельница на третий день уже работала. Белые больше не вернулись. Мельница перешла сельскохозяйственному товариществу, подчинялась окружному комитету Донецкого округа. Меня избрали председателем рабочкома. А председателю – пятнадцать лет! Об этом никто не думал, с виду я совсем взрослый, и все меня уже много лет как рабочего знают. Я даже в Красную Армию попросился, а комиссар в наших местах самый главный, товарищ Щаденко, сказал:
– Хлеб сейчас для советской власти – главное. Ты, товарищ, здесь большую пользу принесешь и для Красной Армии. Старайся, чтоб мельница работала бесперебойно.
– Понял, товарищ Щаденко! – ответил я. И, действительно, все понял без долгих разъяснений. И скажу вам откровенно, особенно меня ободрило и мобилизовало слово «товарищ» – ведь и он меня, и я его так назвали.
День и ночь я работал после этого разговора, дядя Ефим даже придерживал: «Смотри, пуп не надорви». А я ему: «Не на Шанка работаем, дядя Ефим, на себя, на народ, на власть советскую!»
Вот так десять лет и пролетели день за днем, от зари до зари. А что такое в те годы был хлеб – всем понятно. И какие страсти полыхали вокруг хлеба – тоже хорошо известно. Тут как на фронте – и с оружием подступали, и смерть рядом была…
Не буду пересказывать многие, как в наши дни говорят, экстремальные ситуации, в какие попадал Петр Кондратьевич, хотя в чисто литературном плане они весьма выигрышные, могли бы пощекотать нервы. Однако не к тому стремлюсь, не в сюжетной занимательности дело. Мне кажутся более интересными и существенными внутренние, психологические, нравственные мотивы в характере Колесникова. Вот хотя бы то, что произошло с человеком только из-за нового слова «товарищ». Это слово оказалось для молодого парнишки целой программой действия, установкой в жизни, руководством в делах и направлении мыслей. Очень часто бездумно произносим мы сегодня это слово, просто так, походя, не вникая в его глубочайший смысл. А он был не только для Петра, а для всего поколения наших дедов – участников революции и Гражданской войны – этот особый смысл. Он постоянно объединял людей. А до революции, в подполье? Слово «товарищ», как своеобразный пароль, пропуск в семью революционеров. Слово это не произносилось всуе, и каждый, кого так назвали, знал и понимал, как много это слово для него открывает и на какие дела обязывает.
Жизнь Петра Колесникова, по его рассказу, продолжалась так:
– Началась коллективизация. Привоз на мельницу резко сократился. Заработков нет. Надо было сокращать работников. Кого? Решил комитет уволить Ефима Леонтьевича. Я, конечно, с этим не согласился, он столько для меня сделал, от смерти, можно сказать, спас. Поехал в Тарасовский район, рассказал все, как есть, и стал просить – нельзя старика сокращать, у него шестеро детей, лучше меня увольте, я молодой, мне не страшно, а его – нельзя. Три дня доказывал, уже гнали меня, но отстоял старика. Он до конца дней своих на той мельнице проработал.
Честно сказать, я не очень держался за мельницу. В стране об индустриализации заговорили. Где-то большие дела разгораются, хотелось и мне в них поучаствовать. Пришла весть – и в Ростове, недалеко от нас стройки закладывают. Вот в 1930 году я и подался в Ростов. Отправился налегке – собирать нечего, пиджак и рубаха на себе, в сундучок – сатиновую косоворотку синюю, с белыми пуговками, буханку хлеба, кусок сала. В карман комсомольский билет, профсоюзную книжку, характеристику производственную – вот и все сборы.
В Ростове первым делом в профсоюз «Всех рабочих земли и леса», да, был такой. Говорят: работы нет и не предвидится. Пошел на биржу труда, а считалась она биржей труда квалифицированных рабочих и служащих. Меня там спрашивают:
– У тебя денег много?
Я сказал, что хозяйке квартиры заплатил за месяц. Они смеются:
– Милый! Хорошо если через пять-шесть месяцев получишь работу. Раз у тебя такое положение, иди на биржу чернорабочих, там тебя временно куда-нибудь пошлют.
Послушал их: люди городские, лучше меня знают. Пошел. Меня взяли на учет, сказали: приходить утром отмечаться, и мне будут давать на три копейки хлеба или бутылку кефира. Это для безработных. И еще талоны на обед давали и талоны на проезд, учли, что я живу на окраине, мне надо трамваем ехать. Я походил некоторое время на эту биржу, а потом нас, человек сто или больше, послали учиться на каменщиков. Научили. Направили на строительство дома-гиганта. Около месяца, наверное, проработал. Однажды хозяйкин сын, где я проживал, Василий, который работал котельщиком на «Красном Знамени», спрашивает меня:
– Сколько ж ты заработал?
– Сорок два рубля.
– За две недели?
– Ну, какой – за две недели – за месяц!
– Пойдем к нам на завод.
– Как же… К вам на завод не принимают…
А он утром настоял: пойдем и все. Пришли. Мастер Кныш у них, солидный, как вообще старинные мастера, говорит:
– Ну, здоров, молодец. Ты где работал?
– На мельнице, в деревне.
– У-у! Да ты у нас мастером будешь. Я знаю, как в деревне: шпонка сломалась – сам сделает, печка задымила – сам поправит, ремень порвался – сам сшивает. Пойдешь к Ивану Помникову помощником.
Работенка подходящая! Котлы делали. На клепку меня поставили. Я внутрь залезаю, поддерживаю, а напарник снаружи пневматическим молотком лупит, как из пулемета. Выходишь глухой. Ну, ничего, главное – работа есть!
Проработал так до февраля 1931 года. Прихожу однажды на работу, смотрю, висит большой список – триста человек уволили в связи с отсутствием металла. Опять многие пошли на биржу труда, а я в числе 150 человек – на «Россельмаш». Там нас выстроили, выходит начальник отдела кадров: ты пойдешь туда-то, ты – туда, до меня дошел: ты пойдешь молотобойцем. Выбора не было, сказали тебе и все, не хочешь – иди гуляй.
Работа, конечно, тяжелая. Попал я в отдел грядилей и лемехов. Тогда начинали трехлемешные плуги делать для тракторов. Грядиль – часть плуга, делали ее из фасонного металла вроде рельса, из него нужно было сделать заготовку такую с загибом, размер от трех до двух с половиной метров.
Норма была два грядиля за смену. Металл нагревали на газу, газ из угля вырабатывали. Только на метр от земли воздух был, а выше вообще дышать невозможно, несмотря на то, что фрамуги на всю открыты. Тяжелейшая работа была, и дышать трудно, и грядиль килограммов семьдесят весом – поворочай да помахай молотом восемь часов – десять потов сойдет. Попал в бригаду Сидорова. Тут меня опять выбрали профоргом бригады. Думаю, бригаду надо знать. Взял большой лист и всех записал: фамилия, имя, отчество, какая семья, где живет, грамотный или нет, и так далее. А рабочие знаете, какие? Бывшие грабари, так называли возчиков. Из центральных губерний люди приехали со своей лошадкой, телега в три доски. Целый поселок был землянок. Вот они и стали рабочими. Почти все неграмотные.
Завод только оборудовался. Специалисты иностранные не спешили. Зачем спешить – за каждый день валютой платят. Немцы в основном, были. Тогда без своих специалистов оборудования нам не продавали.
В 1932 году, в феврале-марте месяце, Михаил Иванович Калинин приехал в Ростовскую область проводить слет ударников-колхозников. 2 марта он посетил наш завод. Пришел и в нашу бригаду. Время было позднее – вторая смена. Я вытирал станки, хоть мы на них и не работали, но ухаживали обязательно. Пресс 488-й с комнату размером, я наверх залез, вытирал там. Смотрю, начальник цеха, Шкуренко, машет мне – слезай. Рядом с ним человек с бородкой, в пальто, шапочка, тросточка. Ну, я мокрый весь, печка тут, детали красные, раскаленные, рубашка не просто мокрая, а течет с нее. Михаил Иванович руку протягивает. Я растерялся – руки в масле, вытираю их паклей, а он смеется:
– Да я же сам металлист. Чего вы испугались? Ну, как работается?
Я рассказал все, какая норма и так далее. А он говорит:
– Петр Кондратьич, а сколько у вас в бригаде?
– Шестьдесят пять человек.
– А неграмотных?
– Больше половины.
– А где учатся?
– В ликбезе. Идут даже с бородами… Еще у нас курсы повышения квалификации, это кто три-четыре класса закончил.
Короче говоря: где, кто, как живет, я ему все рассказал, ему понравилось. Потом говорит:
– Петр Кондратьич, вот смотрите, какое у нас оборудование стоит, и все оно мертвое, а мы заплатили за него золото. (А иностранные спецы покуривают трубочки и улыбаются: посмотри, мол, президент разговаривает с рабочим!) Я обращаюсь к вам, к молодежи, к комсомольцам – надо осваивать эту технику, чтобы она нам давала пользу, а деньги, которые мы платим этим специалистам, нужны нам для других дел, для нашего народа.
Уехал Калинин, мы начали осваивать: немцы на обед, а мы – за станки. Делали колеса для плуга, которые по борозде идут. Шестимиллиметровый металлический лист разметишь, установишь под пресс как надо. А это не просто, лист тяжелый, большой как стол, не очень-то поддается. Немец всего два колеса делал до обеда. А мы, молодежь, покуда немец пообедал, двадцать четыре колеса отштамповали! Он глянул, глаза у него на лоб! Замахал руками и побежал к начальнику цеха: я, мол, не отвечаю и фирма не отвечает, вы нарушили наш договор, и поэтому – увольняйте меня. А тот и рад стараться: давай заявление. И уволил. Так мы избавились от этих специалистов. Не от всех, конечно, некоторые остались.
Вот так нас вдохновил Калинин на новые дела, и мы освоили станки.
Норма для иностранцев была шесть грядилей в день! Мы поработали две недели и попросили установить норму – двести пятьдесят. Кузнецов так и осталось трое, молотобойцев – по два, и нагрузка вся на них. Короче говоря, производительность выросла, дошло до того, что 350 и больше делали. Бригада загремела на весь завод. Было и поощрение за такие показатели: два места в рабфак нашей бригаде дали. Михаил Иванович, когда беседовал с нами, говорил:
– Учиться надо, учиться и еще раз учиться. К этому призывал нас Ленин, и этот вопрос с повестки дня не снимается. Будем учиться, чтобы освоить эту технику, которая стоит, и использовать ее на полную мощность.
Вот я иногда сравниваю нас с теперешней молодежью, когда веду с ними беседы, говорю:
– Вы посмотрите, у нас на нашем заводе институт, два техникума своих, четыре ПТУ, две средние школы. А тогда два места на рабфаке – большое поощрение было! Сейчас только учись.
Да что говорить, у нас сегодня в ремонтно-механическом более тридцати человек окончили наш ВТУЗ и техникумы. Вот какая разница.
Тут надо сказать, как я женился. Все произошло быстро и неожиданно. Работа работой, но мы, парни молодые, вечерами выходили погулять.
Роща и парк Фрунзе, и даже Сельмашевская роща были платные, хотя там и плата была 15—20 копеек, но все равно считалось: это деньги. Поэтому многие гуляли по Нахичеванскому бульвару – бесплатно. Встретил я однажды на этом бульваре товарища по армии, Антонова Николая. Мы с ним в территориальной части проходили военную подготовку, была тогда такая система, без отрыва от семьи и работы. Ну вот, встретил; он идет с двумя девушками. Почему, думаю, он с двумя, а я один? Одна из барышень мне очень понравилась, вот я прямо к ней и подошел:
– Девушка, вы простите меня, пожалуйста, товарищ мой нас познакомить не догадается, давайте познакомимся сами.
Пошли рядом, где живет, работает расспросил. Звали ее Валя. После гулянья проводил до калитки, спрашиваю:
– Ну, что? В кино идем завтра?
А шла картина «Человек-невидимка». Она согласилась. После кино недолго погуляли, но завтра рано на работу. Пошел провожать. И так она мне понравилась с первого взгляда, что я, не ведая, что творю, выпалил:
– Слушай, Валя, выходи за меня замуж… Она чуть в обморок не упала, растерялась.
– У меня же есть мама и братья, надо с ними поговорить.
– А мама где живет?
– В станице Ольгинской. В воскресенье поеду, с ними поговорю.
Неделя прошла, в воскресенье поехала. Братья к матери туда тоже приехали. Она им сказала. Мать говорит:
– Мы ж его не знаем. И ты тоже не знаешь. Смотри сама, как решишь, так и будет.
Когда она вернулась, мы вечером встретились. Она мне пересказала, что родные говорили. Договорились, в долгий ящик не откладывать. Она беспокоилась:
– У меня ж ничего нет. Нас в семье детей было тринадцать душ. Я в детдоме росла.
– Вот хорошо! – говорю, – И у меня ни черта нет. Зато не будем друг друга укорять, что ты пришла голая или я… Будем работать и наживем все, что нужно.
30 мая познакомились, а 13 июня зарегистрировались. И всю жизнь душа в душу прожили – почти полвека. 20 февраля 1980 года она скончалась. Рак сгубил мою дорогую подругу жизни.
Петр Кондратьевич не прятал слез, достал платок, отер глаза, вздохнул глубоко, тяжко и продолжил нашу беседу.
– В кузне я тогда поработал недолго. Послали меня на профсоюзные курсы при заводе, ЦК профсоюзов их организовало. Я их окончил, направили в ремонтно-механический цех (так я и попал в этот цех) и назначили председателем цехового комитета. Это была освобожденная должность. Год я работал освобожденно. А хотелось иметь квалификацию. Был у нас фрезеровщик Панферов Василий Ильич – очень высокий мастер своего дела. Я как-то ему и говорю:
– Василий Ильич, я хочу стать фрезеровщиком. Помоги.
– А как?
– А вот так: в первой смене я работаю предцехкома, а вторую смену буду по три-четыре часа с тобой работать.
– Идет. Станок есть. Приходи!
Начали с несложных деталей, он мне объяснял: это так, это то. Месяца два я занимался. А у нас был Мартиросов Иван Михайлович, секретарь партийной организации, пожилой, мудрый мужик, работал он старшим мастером.
После встречи с Михаилом Ивановичем Калининым, еще когда в кузне работал, в 1932 году я стал членом партии.
Так вот, вызывает этот Иван Михайлович меня и говорит:
– Ты что там подпольными делами занимаешься?
– Какими?
– У Василия Ильича учишься?
– Да.
– Партийная организация не против. Только ты фрезеровщиком не будешь, а будешь строгальщиком.
– Почему, Иван Михайлыч?
– У строгальщиков не хватает коммуниста, чтобы создать партийную группу. Там мастер Соколов Александр Петрович и Никифоров – старший мастер – коммунисты, ты придешь, вот уже группа будет.
Ну, я человек дисциплинированный, пошел туда. Начал осваивать строгальное дело. Помогли товарищи, конечно. А через год уже работал самостоятельно. И вскоре даже стал многостаночником. Тогда Латрыгин из инструментального цеха первым перешел на два станка. Пришел в обеденный перерыв в столовую и рассказал, что, мол, я перешел на два станка, давайте и у вас это организуем. И еще обращение было из наркомата и ЦК профсоюза, просили поддержать. Никифоров, старший мастер, вызывает и говорит:
– Петро, давай, становись ко второму станку.
– Да вы что, смеетесь? Меня же засмеют, да и вас тоже. Есть товарищи, которые поопытней меня.
– Они могут не одолеть трудностей, они беспартийные, а ты – коммунист.
Ну, что ж, надо выполнять решение. Три месяца работал на двух станках. Получилось. Нелегко это было, у нас каждый день – новая деталь. Пока приладишься, станок наладишь, времени мало для работы на одном станке, а тут надо, чтобы оба не простаивали. Вот, до начала смены приходилось чертежи изучать, каждое свое движение рассчитывать. А во время смены так закрутишься, гудок загудит – и не веришь, что день прошел. Приезжает однажды представитель Москвы, из профсоюза, объявляет:
– За то, что товарищ Колесников в течение трех месяцев, работая на двух станках, выполнил норму более чем на 200%, награждается грамотой и денежным окладом.
В общем, дело пошло: рабочие просят: давай и мне два станка, фрезеровщики, токари, другие. Так родилось движение многостаночников, и я попал в передовики. Работал я, прямо скажем, от души, но движение-то началось благодаря партийной группе, которая меня направила, это их заслуга была.
Потом пришла пора комбайны делать. Мы еще из кузни ходили помогать строить цех комбайнов. По два, по три часа после смены работали. Хотелось, чтобы завод быстрее поднялся, это всех нас очень касалось. Был у нас на заводе инженер Ивахненко (он погиб во время войны, его с женой расстреляли немцы здесь, в Ростове), так он был не только очень эрудированный инженер (наш институт закончил, его и в Америку посылали), но еще и боевой коммунист, организатор хороший. Увлек всех, раззадорил строить новый комбайновый цех. Конвейера еще не было. Первые комбайны вручную лепили. Но какая радость была: сейчас освоили сложнейший, красивейший «Дон-1500». Большое дело! Но тогда, до войны, радость была какая-то более яркая. Может, потому что первые?
При этих словах Колесникова подумалось мне о том, что поколение того периода индустриализации было не то что особенное, а какое-то во всех делах лично заинтересованное и ответственное. Вот хотя бы то, о чем Петр Кондратьевич говорит: после смены, усталые шли не отдыхать, а находили силы еще и на стройке другого цеха поработать. Сами шли. Считали необходимым побыстрее завод поднимать. Откуда такая сознательность? Почему она двигала людьми, прибавляла им силы? Рабочее чувство хозяина? Мой завод, моя страна? А если так, почему с течением времени это чувство хозяина в молодом поколении несколько ослабло? Я ощущаю в словах, в рассказе Колесникова чувство радости, удовлетворения при многих неурядицах и трудностях того периода: и голодновато, и в одежде не до моды, лишь бы тело прикрыть, и жилье – бараки да углы, не у всех даже по одной комнате. И все же окрыленность в человеке, а не просто работа ради заработка.
Так было. В наши дни, когда пишут об индустриализации или коллективизации, чаще всего вспоминают ошибки, упущения, эти великие преобразования как принуждение, только в темных красках освещают.
Почему кое у кого такой провал в памяти при ретроспекции?
Вот вершитель тех дел, участник событий, у него глаза горят, лицо светится при воспоминаниях. А когда я с ним поделился своими размышлениями, Колесников с жаром сказал:
– Для нас это были не только трудности, но и обычная, заполненная всем, чем и сегодня у людей, жизнь: и любили, и в кино ходили, и семьи создавали, и детей рожали и растили. В общем, все как у всех. А в целом о тех, первых пятилетках скажу так – недооценивают их порой, но если бы не коллективизация – после нападения гитлеровцев, за четыре года войны с голода мы поумирали бы. А без индустриализации разве раздолбали бы мы гитлеровскую механизированную махину? В 1941 году и отступали, и заводы эвакуировали, а многие просто погибли от бомбежек, сгорели. И, несмотря на это, в 1942 году наша промышленность дала армии танков больше, чем вся, спокойно работавшая на Гитлера, европейская промышленность! Эту возможность и живучесть мы в первых пятилетках заложили, в тех самых, которые теперь, как вы говорите, при оглядке только через темные очки видят.
Тут наш разговор с Колесниковым подошел, пожалуй, к самым трудным годам жизни.
– В воскресенье собирался с женой пойти на Дон, но попросили выполнить срочный спецзаказ. Работаю. И вдруг подходит ко мне электрик, старик Жданов, и на ухо шепчет:
– Петр Кондратьич, война.
– А чего ж ты, в цеху никого нет, а ты шепчешь? Кто тебе сказал?
– По радио.
– Ну, раз по радио, так тем более! С кем война-то?
– Немцы.
Смотрю, уже люди сами собрались на митинг. Высказали мы свой гнев к агрессорам и готовность защищать родину. Сразу принялись за маскировку, за переход на военную продукцию. Перешли на казарменное положение. У меня была бронь, как и у многих, и я до 13 июля побыл на броне. А 14 июля меня срочно забрали в Ростовские стационарные авиамастерские. Там нужно было проводить ремонт самолетов, уже были подбитые бомбардировщики. Приехал военком, вызвали меня и написали: оформить увольнение через два часа.
Приехал в мастерские. Оказывается, обнаружился недостаток в хвостовой части бомбардировщика, и надо было срочно изготовить детали для устранения этого недостатка.
Осмотрел я деталь – сложная.
Начальник цеха говорит:
– Во что бы то ни стало, станок отремонтируйте. (Всего один был, и тот неисправный!). И для хвостового оперения сделайте хотя бы четыре детали.
И дает мне куски стали – толстенные. Там резать, резать, боже мой! К тому же это спецсталь. Посмотрел – это ж за неделю не сделаешь! Подумал. Говорю – кузнец нужен. Привели молодого парня, Сидоров фамилия. Я кузнеца спрашиваю:
– Молот есть у нас, 250 килограммов, не такой сильный, но отковать можно. Сделаешь?
Показал ему, он отвечает:
– Попробую.
И вот заложили мы в газовую печь болванки, восемь или десять штук.
А начальник цеха и еще тут полковник какой-то волнуются. Я, пока болванки греются, поставил две штуки и строгаю на станке. И все видят – это очень долго. Останется же всего тридцать миллиметров, а снять надо чуть не двести. Начальник цеха говорит:
– Я тебе даю солдата в помощь, ты никуда не ходи, он ужин принесет, а ты до завтрака, и так далее…
Ну, когда все ушли, стали мы с кузнецом ковать. Отковали с большим трудом четыре штуки. Закалить боялись. В общем, я за ночь четыре детали сделал и припрятал их. А поставил на станок болванку и делаю вторую сторону. Заря, смотрю, занимается. Начальник цеха прибегает:
– О-о! Да у тебя уже половина готова!
– Да, уже готова.
А про те – молчу, думаю – спасибо кузнецу!
Вскоре полковник, солдаты пришли. Токаря, фрезеровщики встали по своим местам. Полковник к начальнику подошел. Слышу, начальник говорит:
– Ребята молодцы, думаю, сегодня к вечеру сделают. Мы с кузнецом подходим, кладем четыре готовых детали. Они смотрят, не поймут в чем дело: как, откуда? Я докладываю:
– Ваше задание выполнил на 200%.
А там, по ихним нормам, все 1200%! Полковник не ожидал такого. Сразу вызвали разметчика, тот размечает; проверяет – все как нужно…
Начальник цеха тут же мне благодарность, десять килограммов меду и отпуск к жене. А жена на окопах была, окопы рыла…
А потом у Колесникова пошла такая фронтовая «одиссея», что рассказать ее подробно и последовательно можно только в целой книге. Ограничусь пунктирным пересказом только вех на его боевом пути.
– Меня забрали по партмобилизации в часть специального назначения, должны были высаживать десант в тылу противника. Но началось отступление из Крыма, и нашу часть вместо десанта бросили прикрывать Керченский пролив.
После боев – большие потери, переформировка, попал в отдельную 103-ю бригаду, ОИПТД – отдельный истребительный противотанковый артиллерийский дивизион 45-миллиметровых пушек. Мы должны были получить американские пушки, но мы их так и не видели, а получили свои сорокапятки. Потом отступали – Славянская, Верхне-Боканская, Крымская. Под Крымской у нас расчет погиб и пушку разбило. А потом защищали подступы к Новороссийску. У нас в батарее три пушки были выдвинуты вперед на километр, как бы для предупреждения, и одна – внизу, в лощине, замаскировались. Вечером, 24 августа, нас бомбили восемь бомбардировщиков Ю-88. В одну пушку – прямое попадание, ни пушки, ни людей – ничего не осталось. А нас только засыпало землей. Утром, 25 августа, приехал командир дивизиона и комиссар. Говорят, что ценою жизни надо немцев задержать хотя бы на сутки, потому что из Новороссийска еще не эвакуировано много населения. Мы сказали: постараемся. Они уехали. А в 12 часов началась атака, на нас четыре танка пошло. Мы – за пушку: я, Марков и Агапов. Я наводчик. Лейтенант в кустах стоит. А наша пушка, мы знаем, в лоб ничего не берет, это такая – прости господи… И вот когда первый танк подставил бок – самое выгодное положение, лучше не придумаешь – я первым снарядом перебил ему гусеницу. А другой танк его хотел обойти и тоже подставил бок. И второго я подбил. В общем, я двенадцать снарядов выпустил. Ну, и нас засекли и стали расстреливать. Маркову голову снесло, Агапову все нутро вырвало прямым попаданием. Лейтенанту тоже голову оторвало. А я упал, потерял сознание. Сколько пролежал, не знаю, но только кровь уже в глазах запеклась. Потом стал отходить, думаю: живой я или это снится? А глаза открыть не могу.
Потом меня погрузили на машину, а там уже человек пятнадцать раненых было. Привезли нас в Новороссийск, потом в Геленджик, потом в Лазаревку, в Сухуми, а потом на поезд и в Боржомский район, в госпиталь. Осколков во мне было не меньше сотни.
Гипс наложили на правое колено и плечо, и здесь были осколки – разрезали, вырезали. Обе ноги и левое плечо тоже чистили. После госпиталя попал в Иран: погрузили нас на самоходную баржу и в Пехлеви, а оттуда в Решт, в Казвин, и там стояли. Когда Тегеранская конференция проходила, мы как автоматчики в Тегеран для охраны ездили.
После конференции вызывают в политотдел, дают мне восемь человек и направляют нас в Тбилиси, в военно-политическое училище. Курс краткосрочный прошли, присвоили мне звание лейтенанта. Получили назначение на фронт.
Пришли на вокзал – ни поездов, ни билетов. Жмем к коменданту: отправляй, а тот инвалид Отечественной войны, без руки.
– Только грузовые эшелоны, – говорит. – Что ж я вас, на бомбы что ли, посажу?!
– Давай!
Вагон, в клетках бомбы, мы залезли на них и поехали таким образом на фронт.
Попал я в гаубичный артиллерийский полк. С этим полком мы Курляндскую группировку ликвидировали.
А потом – не поверите: получил назначение в город Кушка, на афганскую границу! Заместителем командира дивизиона по политчасти. В Кушке я был до 26 мая 1946 года. Там меня избрали председателем суда чести. Я был трезвенник, наверное, поэтому…
Подведем короткий итог военной страде Колесникова: от трудностей и в эту тяжкую пору не бегал, от брони отказался, ушел на фронт солдатом, вернулся командиром, кровь пролил за Родину в единоборстве с гитлеровскими танками – два стальных чудовища сразил он – наводчик – простой смертный из плоти и крови, правда, заключавшей в себе несгибаемый дух. Боевой орден, медали, офицерское звание – как и в труде – во всем передовик, во всех ратных делах преуспел…
– В Ростов я вернулся 20 июня 1946 года. Как приехал, сразу на завод. Там работал Дружинин Василий Матвеевич, мы с ним когда-то вместе поступали в институт, это еще до войны, он разметчик был, а я строгальщик. Но нас тогда начали критиковать на партсобрании, мол, вы работать не хотите, учиться… Я испугался, бросил. А он настоял:
– Учиться буду.
И закончил институт. Он был главным механиком завода в 1946 году. Когда меня встретил, повел в цех комбайнов.
Цеха нет – разрушен, воронка громадная, камыш в ней, лягушек полно, вода зеленая. Он говорит: вот что осталось. А наш, ремонтно-механический, на железобетонных столбах был, их взорвали, крыша вся упала внутрь.
– Ну, как работать будем?
– По-фронтовому, – говорю.
– Сутки пополам?
– Конечно, а может быть, и по суткам.
Так мы и работали. Сначала у стенки, без крыши, поставили продольно-строгальный станочек «либерти», старенький, не знаю, где он и валялся. На нем и начали работать, цех стали поднимать. Когда восстановили стены, я первый перешел туда, еще никакого оборудования не было, мой станочек перенесли через окно.
А потом поступило оборудование из Германии – поперечно-строгальные гидравлические станки. Очень хорошие станки.
Словом, жизнь после войны стала налаживаться. Жена нашлась, она тоже в армии служила, фронты нас так разбросали, не знали, кто где. В общем, вернулась моя Валя… А квартиры у нас нет, занята другими жильцами, жили пока у моей сестры. Потом и с квартирой устроилось.
Работал я на трех-четырех станках: мне давали учеников по два, по три, потому что оборудование есть, а работать некому. Я настрою станок, покажу ученику, что и как делать, – он клацает. А сам сложную работу выполняю. Так начинали работать. Мои ученики даже трех месяцев иногда не дорабатывали: как видишь, что получается – ну и на самостоятельную. Время не ждет, кадры нужны.
Послушать Петра Кондратьевича – просто все… Что это – непонимание, отсутствие глубины мышления? Или нежелание еще раз окунуться в те адские трудности, которые довелось перенести в первые послевоенные годы? Мне кажется, это у него от характера. Он – светлый оптимист во всем, о чем бы ни говорил, что бы ни пережил, видит прежде всего хорошее. Наверное, потому, что добрый человек и всей душой любит людей, его окружающих, дела, которые вместе с ними вершит. И опять невольно подступает сравнение и даже некоторое огорчение – куда девалась эта доброта во многих из нас в наши дни? Оглядишься, и неуютно иногда становится от желчности, озлобленности, нахрапистости многих, с кем приходится встречаться. Время наше освежающее, все шлюзы распахнуты: действуй, осуществляй то, о чем недавно шепотом опасался говорить. Так нет же, не делами порой поправляем свои же огрехи, а виноватых ищем, кого бы еще упрекнуть. И опять прилив огромного уважения охватывает меня по отношению к моему собеседнику, не к «покорности» его. Нет этого в нем! Он – боец! Сильный, всегда благороден и немелочен. Мне хочется показать величие трудового подвига рабочего Колесникова и его товарищей на небольшом кусочке нашей земли, имя которому – завод «Россельмаш»! Много и заслуженно высоко мы говорили и писали о делах героических на фронтах Великой Отечественной. И очень мало, как-то вскользь, походя, говорим о величайшем и труднейшем испытании, которое преодолели после войны. Может быть, счастье, радость Победы окрыляла нас? Может быть… Но как подумаешь, что мы были все те же, кто четыре долгих года выматывался, истекал кровью и потом на полях сражений, все те же, кто голодал и пахал порой на себе и безвыходно, сутками, до обмороков стоял у станков. Мы все – тоже издерганные, израненные. Да еще двадцать миллионов тружеников не встало рядом, легли они в землю нашу от рук вражеских. Да еще сколько родных и близких легло в ту же землю от руки своих же, наших доморощенных истязателей. А это тоже и угнетало, и подавляло очень многих из нас. Говорю об этом не для того, чтобы еще раз кого-то упрекнуть, а единственно ради того, чтобы восхититься выносливости и несгибаемости нашего народа.
К сожалению, о делах его говорить здесь подробно не могу, не тот замах наметил. Воспользуюсь лишь цифрами, которые относятся к Ростовскому заводу и нашему собеседнику Петру Колесникову.
Цифрами наше поколение не только отравлено, но и приучено видеть за ними масштабность дел, ими подкрепляемых.
…Восемь суток фашисты планомерно, с немецкой педантичностью и старанием взрывали и жгли завод в дни оккупации. Восемь дней и ночей огненное зарево освещало развалины Ростова. Остались от завода груды бетона, искореженных металлоконструкций да воронки с зеленой водой и лягушками, о которых сказал Петр Кондратьевич.
И вот цифры: пришлось расчистить 150 тыс. кубометров завалов, уложить 21 млн штук кирпича, соорудить 185 тыс. квадратных метров кровли. Много это или мало? Ну, представьте себе только кровлю: размеры футбольного поля – 100х50=5000 квадратных метров. Так вот: одной кровли – 37 стадионов! Построено 145 тыс. квадратных метров производственных площадей. Это, если опять же мерить в стадионах, будет тридцать, но не ровной покрытой травкой площади, а оснащенной станками и другим производственным оборудованием!
В 1947 году уже изготовили первые 240 плугов, а в конце года, как сказал Колесников, – «слепили» 400 комбайнов. В 1948 году их отправили в село 7189 штук (при плане в 6 тыс!). Ну, а в 1949-м (на четвертый год) «возрожденный из пепла» завод вышел на довоенный уровень и дал 11 258 машин.
За этими цифрами много прекрасных тружеников, и один из них – простой рабочий Петр Колесников.
Простой? Нет, уже не простой. В истории завода о нем сказано: « …стало развиваться с большим размахом, чем прежде, движение многостаночников. Их соревнование возглавил ветеран предприятия – строгальщик коммунист Петр Кондратьевич Колесников. Еще в довоенные годы он обслуживал несколько станков, и его имя не раз заносилось на доску Почета завода за высокую выработку, досрочное выполнение личных планов. И теперь он выполнял нормы на 300 %. Его показатели стали ориентиром для тех, кто решил досрочно выполнить личную пятилетку».
Какие сухие, заношенные, газетные слова, но все же попытайтесь представить за ними круглые сутки, перенапряжения полуголодных (да, и это было!) людей, разгребающих битый бетон, выпрямляющих покореженный металл (а сами не гнутся!), и вот уже выходят из цехов сверкающие свежей краской комбайны. Тогда это было чудом!
А теперь короткий пересказ того, о чем, как мне показалось, труднее всего и короче говорил Петр Кондратьевич (и то лишь потому, что я спросил его об этом):
– Ну, а какие награды Вы получили за такой труд?
(Не знаю, возникнет ли у вас улыбка от его ответа, у меня возникла, уж так-то он стеснительно прятался за завод).
– В 1957 году завод наградили Орденом Трудового Красного знамени, и меня также. Потом в 1962 году, кажется, завод наградили орденом Ленина, и меня. Потом в 1971 году наградили завод орденом Октябрьской революции, и я получил. В 1979 году меня представляли к Герою, но дали второй орден Ленина. А в 1983-м, в октябре, был указ, ну и «Золотая Звезда» и третий орден Ленина.
И не только наградами отмечали. Страну нашу не раз представлял Колесников за рубежом, как член советских делегаций, как говорит сам:
– Полшарика объездил: Финляндия, Индия, Франция и другие страны. Даже до Австралии добрался. Был там на одной из встреч надолго запомнившийся вопрос. Много ерунды про нас за рубежом болтают, но этот вопрос был особенно глупый: «Расскажите, – просят, – как гоняют коммунисты рабочих палками на работу». Я остолбенел от такого вопроса: сидят передо мной люди как люди, прилично одетые, вроде образованные, но до чего же темные! Отвечаю им: «Смотрите на меня внимательно. Похож я на забитого палками? Я и есть тот самый рабочий, которого по вашему мнению, вот уже много десятилетий гоняют палками». Вижу, не верят. И про палки, и про то, что я рабочий. Но случилось так, что из этой самой Австралии приехали к нам, в Ростов, несколько участников той встречи. Я водил их по заводу, и они сами качали головами и очень смущались оттого, какие глупые вопросы когда-то задавали. Ну, эти из капитализма, что с них спросить. Зато в соцстранах есть у меня много настоящих друзей, а в Болгарии, в городе Плевны, побратим – Иван Цветанов. Он – токарь, участник сопротивления, коммунист. Есть о чем поговорить. Семьями дружим, друг к другу в гости ездим. У Ивана мать старая, ей уже за сто лет, всегда нас встречала словами: «Ой, родненькие русские, как же я вас люблю!» После смерти моей жены Вали они приехали меня поддержать. Мария (жена Ивана) в квартире порядок навела. А сын их старший, артист по профессии, дочку свою в честь моей жены Валей назвал. Хорошие люди, настоящие побратимы.
У Колесникова в доме – болгарские газеты, он их выписывает, вот уже десять лет член комитета Болгаро-советской дружбы.
…Ну, чем еще удивить читателей? (Не скрываю – хочется и приятно мне это делать). Есть еще очень многое удивительное в жизни этого простого рабочего. Ограничусь простым перечислением: почетный гражданин города Ростова, написал несколько книг: «Рабочий – это звучит гордо», «Разговор с молодым другом», «Дела и думы старого кадрового рабочего» и другие. На заводе – переходящий приз имени Колесникова, он вручается бригадам – победителям соревнования. Есть и всесоюзная премия его имени, учреждена министерством, и Петр Кондратьевич ежегодно в сентябре летал в Москву для вручения этой премии в День машиностроителя все новым и новым лауреатам, добившимся выдающихся результатов (таких, как он добивался каждый год в своей жизни).
Наверное, в заключение интересно вам узнать, как живет, о чем думает, как относится к переменам, происходящим в нашей стране сегодня?
Тут мой пафос и восхищение жизнью простого рабочего угасают. Не о чем мне писать, все былое величие, о котором рассказано выше, перечеркнуто. Рабочий оказался на самой низшей социальной, материальной и правовой ступени. Воскрес капитализм с его повседневной борьбой людей за выживание. И вспоминаются Колесникову слова отца, единственное от него наследство, сказанные еще в том, царском капитализме: «Помни жизнь мою проклятую!» Сегодня и вспоминать ее не надо: вот она, вокруг, во всем ее капиталистическом гнусном похабии.
Глава рабочей династии
Познакомимся теперь еще с одним рабочим, Коровенковым. Никанору Ивановичу пятьдесят семь, он коренастый, среднего роста, очень сильный человек.
Прежде говорили: «Человека встречают по одежке, провожают по уму». Ну, одежкой в наше время люди мало чем отличаются друг от друга. Вот хотя бы наш Коровенков: строгий черный костюм сшит по последней моде, со вкусом подобран галстук, белоснежная сорочка, изящные полуботинки. Таким был Коровенков на сцене Колонного зала Дома союзов. Но он же бывает и в телогрейке, простенькой кепочке и резиновых сапогах. Словом, одежка – не показатель.
По уму? Да. Но чтобы определить силу ума и его направленность, как раз и нужно пройти тот сложный исследовательский путь, в который мы отправились. Направленность ума проявляется в конкретных делах.
Представьте себе небольшой земляной карьер: вспоротая земля, землекопы, оголенные до пояса, поблескивая потными телами, набрасывают лопатами землю в тачки, катят вверх на косогор. А вот другая картина: в Большом Кремлевском дворце, сияющем хрустальными люстрами, идет торжественное собрание – Леониду Ильичу Брежневу вручается Международная Ленинская премия «За укрепление мира между народами». Какая связь, что может быть общего между этими двумя событиями? А общее в них – наш знакомый Никанор Иванович. Это он когда-то, потный и загорелый, катил тачку с землей. И в Большом Кремлевском дворце один из гостей, приглашенных на прием, тоже он – Коровенков. Только между этими двумя событиями – сорок лет! Вот и мы пойдем по его жизни между этими двумя вехами.
Никанор Иванович за эти годы не вырос из простого землекопа в академика или министра, хотя и такое случалось со многими нашими соотечественниками. Коровенков как был тогда, сорок лет назад, так и теперь – рабочий. Только смысл, суть, наполняющая это прежнее его звание, очень изменилась! И переменилась она благодаря его труду и делам, которые, как мы сказали, являются главным, определяющим фактором в формировании человека как личности.
Беседовал я с Коровенковым много раз, всегда откровенно – это очень важно, чтобы разговор был доверительный.
Никанор Иванович родился в 1918 году в Калужской области, Мещерском районе, в деревне Песочная. До 1938 года, как и его отец Иван Титович, был колхозником, окончил курсы, изучил электрооборудование трактора и работал в МТС.
В 1938 году переехал в Москву и поступил работать в Мосводоканалстрой землекопом. Лопата, тачка, телега – вот «механизация» земляных работ в то время. Первые экскаваторы были диковинкой, на них с удивлением посматривал и деревенский паренек Никанор. Трудная была земляная работа, за день так намаешься, все тело гудит, будто тяжесть плотной земли в него перешла.
– Почему вы пошли учиться на экскаваторщика? Больше хотелось заработать?
– Заработок у экскаваторщика, конечно, не тот, что у землекопа. Но не только это. Уважают все. Тогда ведь экскаваторщик был, ну, как сегодня командир воздушного лайнера – это точно! А молодость славу любит! Ну и хотелось стать человеком уважаемым, быть на виду! – Коровенков смущенно улыбается.
– Однако, Никанор Иванович, тогда молодых парией на стройке было много, а вы все же пошли учиться. Почему? Что вас к этому побуждало?
– Не было тогда у меня настоящей сознательности, врать не буду. Это потом пришло.
Учился после работы. Набрякшие от тяжелой тачки руки не держали карандаш, голову клонил сон, однако Никанор Иванович одолел все тяготы и стал помощником экскаваторщика.
– Вот она награда за трудную учебу – стоит передо мной огромная железная махина, которая будет выполнять все мои приказы, как дрессированный динозавр. Скажу: «Грызи землю!» – будет грызть. Прикажу: «Кидай ее из траншеи на-гора!» – будет кидать. Долго мне казалось, не покидало меня чувство, что экскаватор живой.
– Работал я на экскаваторе до 1939 года, пока не пришло время идти на службу в Красную Армию. Только освоился в военной жизни, начались бои с белофиннами. Недолгой была та война, с декабря тридцать девятого по март сорокового. Но хлебнули мы в ней немало трудностей. Прорвать одну из мощнейших линий долговременных укреплений в условиях зимы и труднейшей лесистой местности – было делом очень тяжелым и кровопролитным.
Не успел отдохнуть, отогреться после финских событий, фашисты напали! Эту страду я тоже прошел от первого до последнего выстрела. Бился я за Кавказ, освобождал Новороссийск, Керчь, Краснодар. Потом опять попал в знакомые мне места – на Карельский перешеек. Оттуда на сандомирский плацдарм. Гнал фашистов из Польши, Германии, Чехословакии. День Победы встречал в Праге.
Глядел я на Никанора Ивановича, на его поседевшие виски, глубокие борозды морщин на лице, и представлялся мне этот могучий человек в огне войны. Был он и там, наверное, таким же спокойным, неторопливым, бил врагов старательно. И у могил боевых друзей стоял. И радостные лица поляков и чехов встречали его в освобожденных городах.
Сегодня в наших глазах каждый фронтовик – герой, который совершил много отважных дел. И это действительно так. Но вспомните, что мы отметили в начале нашего разговора: человек не всегда себя знает таким, каков он на самом деле. Вот и Никанор Иванович, как ни просил я его, чтобы он рассказал о своих боевых делах, ну хотя бы какой-то один пример храбрости, – махал безнадежно рукой и даже с каким-то укором говорил:
– Да что вы, какой у меня героизм, я всю войну за рычагами трактора просидел. Служил я в артиллерийской бригаде, на прицепе пушки тягал. Какая тут храбрость, главное, чтобы мотор не подвел, вовремя доставить на огневую позицию пушку, вовремя утащить, чтобы не попала в руки фашистов. И такое было! Вот и вся моя храбрость.
– Ну а на сандомирском плацдарме?
– Что на плацдарме? – удивленно вскидывает брови Никанор Иванович.
– Одно слово плацдарм, вас же там фашисты в реку хотели сбросить.
– Не выгорело у них это дело! Раз по десять кидались в день, но мы их отбивали.
– И вы отбивали?
– И я. Расчеты у орудий несли большие потери. Вражеская артиллерия вела зверский огонь. Мы же на пятачке, и попасть в нас было нетрудно. И танки все время лезли и крушили прямой наводкой. Вот и пришлось мне стоять у орудия и вести огонь. Многих товарищей побило. Да я всегда так: тягач отгоню в укрытие – и к своему расчету. Что же я буду сидеть в тягаче, когда товарищи бой ведут!Не трудно представить фронтовые дела Коровенкова даже по этим скупым словам: в жару и стужу, в распутицу и по горным тропам тащил Никанор Иванович пушку по исковерканным фронтовым дорогам. А начинался бой, и Коровенков вставал к орудию и вместе со всеми вел огонь по врагу до изнеможения, глох от своих выстрелов и разрывов вражеских снарядов. А чуть вперед или, не дай бог, назад! Уж тут роль Коровенкова главнейшая из главных – быть или не быть орудию, в первую очередь зависело от водителя. Вот так храбро и мужественно воевал человек, а теперь смущается и мнется.
– Нет, чего не было, того не было. Никакого героизма не припомню. У меня и наград-то нет, только медали – «За победу над Германией», «За освобождение Кавказа» да разных городов.
– Ну что ж, дорогой Никанор Иванович, не вина ваша, а беда, что попали вы к такому черствому командиру – за две войны не оценил труднейшую работу солдата!
Да, к сожалению, были и такие на войне.
И опять Никанор Иванович отвел глаза в крайнем смущении:
– Не поняли вы меня, не про награды я совсем. Я про себя говорил, про то, что не было у меня никаких таких случаев, чтобы меня награждать. – И, спеша уйти от этого не совсем приятного направления в разговоре, стал рассказывать о другом:
– После демобилизации в 1946 году я вернулся в Москву, пошел в свой родной Мосводоканалстрой, опять сел на экскаватор. Трудное было время. Старенькие экскаваторы надо было вернуть к жизни, заставить работать. Запчасти приходилось вытачивать самому. Ну ничего, главное – война кончилась. Все соскучились по мирному труду своему. – Коровенков помолчал, лукаво поглядел на меня и, будучи очень деликатным человеком, спросил:
– Не обидитесь, хочу сказать о вашем писательском деле? Вот вы со мной говорите и в газетах я читаю – труд да труд, будто вся жизнь наша только из этого состоит. Труд – дело важное и главное, но еще не вся жизнь. Я ведь после войны не только сидел за рычагами экскаватора. У меня в те послевоенные годы и любовь пришла. Встретил я девушку. Эмилией звать. Сестрой в поликлинике работала, ухаживал я за ней, словом, как в романе – все было. В скором времени она мне женой стала. Через год мне сына подарила, Евгением назвали. Была большая радость в нашей семье.
– Семья маленькая, а радость большая? – спросил я.
– Почему маленькая? И семья большая. К тому времени мы, все Коровенковы, вернулись с войны и трудились в одной организации – в Мосводоканалстрое. Отец мой Иван Титович – рабочим; брат Василий – слесарем; брат Петр – шофером; сестра Полина – уборщицей; сестра Мария – токарем; жена Петра Мария – в котельной. Несколько лет назад и сын мой Евгений стал работать со мной сменщиком.
1971 год, когда сын пришел и стал работать вместе с отцом, памятен Коровенкову еще одной большой радостью – Родина высоко оценила его труды: за выдающиеся производственные успехи в выполнении заданий пятилетнего плана Никанору Ивановичу было присвоено высокое звание Героя Социалистического Труда.
– Никанор Иванович, после получения этой высокой награды вам не хотелось обойти и посмотреть дома, в возведении которых вы участвовали?
Коровенков, как это не раз бывало в наших прошлых беседах, снисходительно улыбнулся моей неосведомленности и пояснил:
– Не только обойти, объехать трудно все, что я построил за сорок лет: водопровод, канализация – это еще до войны, а как пришел с фронта – жилые массивы в районе Песчаных улиц, Черемушки, Измайлово, Московский Государственный университет, Юго-Запад, Бирюлево, Орехово-Борисово, Чертаново – все это мои стройки. Мы, экскаваторщики, первыми начинали. Выходим на голое место, роем траншеи, котлованы. Только после этого дома поднимаются вверх. В общем, вся Москва – это моя стройка и не только моя, всей нашей семьи.
За труд уважали и чествовали.
Колонный зал Дома союзов сверкал огнями. Радужными вспышками переливались хрустальные подвески на люстрах, а в партере и на балконах не было ни одного свободного места. В президиуме, немного смущаясь от всего этого великолепия, сидело шестеро Коровенковых: Никанор Иванович – глава семьи, Эмилия Андреевна – жена его, Петр Иванович – брат, Мария Федоровна – жена брата, Евгений Никанорович – сын, Татьяна Ивановна – жена сына. В адрес этих людей было сказано много взволнованных слов. Для них выступали известные артисты. Коровенковым вручили подарки и теплые приветственные адреса. Каждому присутствующему хотелось подойти и пожать руку знатным строителям. И сами виновники торжества удивлялись: сколько же людей в Москве знают их, сколько сердечных, искренних друзей оказалось у семьи знатных механизаторов столичных строек!
А Никанор Иванович, глава этой рабочей династии, в элегантном костюме, на его груди сияли Золотая Звезда Героя Социалистического Труда и другие награды.
Побывал я в парткоме, беседовал с Михаилом Семеновичем Абраменко – парторгом треста.
Парторг говорил неторопливо и веско, но когда речь зашла о Коровенкове, Михаил Семенович сразу преобразился – улыбка и радость озарили его лицо:
– Коровенков не только ветеран нашего треста, он, можно сказать, эталон сознательности и добросовестности в труде. Очень хорошо работает.
– Но таких тружеников в тресте немало, а Коровенков чем-то выделяется даже в этом активе? – спросил я.
– Это верно. Выделяется он прежде всего подходом к делу. Очень правильно понимает Никанор Иванович роль коммуниста в коллективе, в частности свою роль. Он не начальник, не инженерно-технический работник, он, как говорится, рядовой труженик, но он постоянно увлекает, ведет людей вперед. Вы знаете, инициатором скольких начинаний и движений был Коровенков? Вот посмотрите, у меня сохранилось несколько газет и плакатов, – парторг достал из стола и развернул на столе хрустящую плотную бумагу: – Вот, читайте: «Патриотическое начинание Героя Социалистического Труда, строителя… Н.И. Коровенкова по досрочному выполнению полугодовой программы 1975 года».
На плакате крупными буквами написано: «Полугодовое задание – к Дню Победы!» Под этим призывом две фотографии Никанора Ивановича – одна сегодняшняя, другая фронтовая: лихой сержант, улыбчивый, грудь колесом, под фотографией написано: «Сержант 127-й артиллерийской бригады Н.И. Коровенков закончил Великую Отечественную войну в Чехословакии». Есть на плакате и третья фотография: у экскаватора стоят отец и сын Коровенковы. Сын первым поддержал почин отца.
– За Коровенковыми потянулись другие механизаторы, – продолжает рассказ Абраменко, – и не только в нашем тресте. Вот посмотрите статью в газете «Вечерняя Москва». Здесь пишут, что только в нашем тресте по почину Н.И. Коровенкова встали на трудовую вахту в честь 30-летия Победы девятнадцать экипажей экскаваторов и более ста водителей.
– Ну а как выполнили эту вахту? Какие результаты у самого Коровенкова?
– Никанор Иванович слов на ветер не бросает. Чтобы завершить полугодовую программу к 9 мая, нужно было ежедневно перерабатывать 450 кубометров грунта, почти на сто кубов больше нормы! Так Коровенков превысил и эту цифру. Он перерабатывал в день до 500 кубометров грунта!
Парторг развернул еще один большой, красочный плакат:
– Вот, любуйтесь! Никанор Иванович не только сам отличился, но и других повел на штурм. Вы знаете, как все боролись за досрочное выполнение девятой пятилетки? Это было всенародное движение. Наши коммунисты приложили много сил, чтобы трест перевыполнил план. Ну а Коровенков, как всегда, был впереди. Вот на плакате уже зафиксировано: «Они досрочно выполнили план девятой пятилетки! Равняйтесь на передовые бригады!»
Парторг показал мне много других газет с сообщениями и о делах Коровенкова, и о победах треста в социалистическом соревновании.
Вот такой он, рабочий человек Никанор Иванович Коровенков. Его жизнь, трудовые дела, мне кажется, очень наглядно показывают социальные, общественные черты, самые главные и драгоценные черты личности простого рабочего.
Любопытное совпадение – в дни, когда я готовил к печати эти очерки о рабочем, в газете «Завтра» в октябре 2006 г. № 42 (674) опубликована статья «Могильщик пролетариата. Где у нас рабочий класс?»
Привожу цитату, отвечающую на этот вопрос:
«Сегодня рабочим вновь нечего терять, кроме своих цепей: у них нет ни настоящего, ни будущего, и это ставит под угрозу любой план национального развития. Кто виноват в этом? Если настоящего рабочий класс лишают Герман Греф и Алексей Кудрин, то завтрашний день у него отнимает ведомство Андрея Фурсенко – Министерство образования РФ. Одни превращают нашу Родину в «конченую страну», другой – в «общество без будущего». За пределами экспортного сектора – добычи нефти, газа и металлов – рабочий класс России обрекают на вымирание.
Кудрин и Греф «отвечают» за «деиндустриализацию» России, за то, чтобы вся экономика сводилась к нефтегазовой «трубе», а валютные поступления ни за что не вкладывались в развитие промышленности. Пусть сотнями миллиардов долларов разбухает Стабилизационный фонд, который фактически является инвестициями в экономику США, но лишь бы в России не строились новые предприятия, не покупалось оборудование, не создавались рабочие места. Если США и Западная Европа превратились в «мировой офис», а Китай и Юго-Восточная Азия – в «мировую фабрику», то России отведена роль «мировой биржи труда».
Большинство российского рабочего класса представляет «резервную армию» безработных. Токари, слесари, фрезеровщики, инженерно-технические работники «излишни» в рамках нынешней модели экономики. Они могут по своему свободному выбору либо вымирать от голода и пьянки, либо переквалифицироваться в челядь новых «хозяев жизни» – водил, охранников, официантов, строителей особняков, массажисток, проституток».
Мои комментарии? Они в вышеприведенных очерках.Пахари и хлеборобы
Судьба каждого человека зависит от больших и малых событий, которые переживает наша родина. А судьба родины складывается из деяний трудов и подвигов людей. Вклад каждого в судьбу Отечества зависит от желания и умения хорошо трудиться, от того, какие духовные силы несет в себе человек.
Наше счастье и благополучие – прежде всего было делом наших трудовых рук. Помню, закончился еще один год пятилетки, еще одна уборочная пора, засыпан хлеб в элеваторы и хранилища. Его вырастили люди, он принесет радость и достаток в наши дома. Хлеб – это не только пища, хлеб – большой политик, посредник дружбы между людьми: при стихийных бедствиях как первую помощь посылают медикаменты и хлеб. Хлеб дороже золота, а у тех людей, кто его выращивает, – золотые руки.
В том году я познакомился с человеком, который всю жизнь выращивает хлеб, – Константином Александровичем Бориным. Веселый, разговорчивый, с хорошей русской хитринкой; все он видит, все понимает, обо всем у него свое мнение. Мысли у него светлые, оптимистические, главное в них – как сделать людям добро, как дать им больше хлеба. С виду он – простой сельский мужичок, с вихрами, выгоревшими на солнце, с лукавым прищуром глаз. Говорок у него этакий волжский, окающий.
Жизнь его удивительна. Это человек – роман. Я по своей писательской профессии так и загорелся – очень мне хотелось написать роман об этом человеке, чтобы он был в нем главным героем, но, увы, не моя это тема. Я писатель военный и не знаю сельской колхозной жизни в той степени, которая дает возможность написать роман. И все же мне очень хочется рассказать о Константине Александровиче, хотя бы коротко, не только о хлеборобной, но и военной его страде.
Родился он в большой многодетной семье. Мать умерла, да и отец прожил недолго, после Первой империалистической войны пришел раненый, больной. Костя с восьми лет должен был трудиться, помогать в хозяйстве для того, чтобы кормить младших братьев и сестер. В деревне заработков нет, он уходит в город. Стал слесарем, как он говорит, приобщился к технике. Через несколько лет вернулся в родные края. И вскоре по путевке комсомола он едет на Кубань. Там создавались колхозы и нужны были такие энергичные молодые люди, как Константин Борин.
Трудные это были годы: кулаки стреляли из-за угла, травили воду в колодцах, всячески вредили. И все же колхоз был создан, встал на ноги, стал собирать добрые урожаи.
В тридцатых годах появились первые комбайны, и Константин Борин, как человек, который уже, как он сам говорит, прикоснулся к технике, очень ими заинтересовался, а потом окончил курсы механизаторов и стал комбайнером. Машину он полюбил, работал с увлечением. Но ему было мало ощущения удовольствия в работе. У него от природы было еще стремление стать не только хозяином, но и повелителем этой новой техники. Ему хотелось заставить работать комбайн не только те часы, которые ему полагалось по норме, а чтобы вот эта могучая машина давала как можно больше: убирала хлеб, пока стоит хорошая погода. Борин задумал заставить работать комбайн ночью. Первые комбайны на это не были рассчитаны, их создали для дневной уборки. А Константин решил пристроить фары, освещать поле. Но где их взять? Куда и как подключить, чтоб светили? Все это сделать непросто, а время не ждет, на уборке каждый час дорог. И решил Борин подвесить впереди обычные керосиновые фонари, «летучая мышь». Так и стал работать. Убирал хлеб ночью.
Но и на этом не успокоился. Много уходило времени на разгрузку бункеров, которые заполнялись зерном. Борин придумал еще и разгрузку на ходу. В те годы это осуществить не так было просто. Сейчас мы это видим каждый день. Идет комбайн, и рядом с ним движется машина. Зерно пересыпается из комбайна в кузов на ходу быстро и умело. А тогда? Тогда, чтобы разгрузить комбайн на ходу, надо было пустить рядом лошадь с телегой, и чтобы лошадь сочетала движение с этим комбайном, и чтобы зерно не рассыпалось. Это казалось неосуществимым. И все-таки Борин этого добился. И пожалуйста – результат: когда подсчитали осенью, Константин оказался передовиком соревнования. И не просто передовиком, а рекордсменом по уборке хлеба. Результаты его труда были настолько высоки, что правительство наградило Константина Александровича Борина орденом Ленина.
Поехал он получать эту высокую награду в Кремль. Конечно же для молодого еще паренька это событие волнующее. И вот в Кремле, кроме того, что он получил орден, произошел еще и разговор, который повлиял на всю его дальнейшую жизнь.
Случилось это так: когда Михаил Иванович Калинин вручал Борину орден и жал руку, то обратил внимание на его молодость, веселое, энергичное лицо. Михаил Иванович спросил: «А какое у вас образование, товарищ Борин?» Константин очень смутился, опустил глаза, покраснел, хоть и не был ни в чем виноват, смущенно ответил: «На пятерых, Михаил Иванович, два класса». Он имел в виду свою жену, троих детей и себя. И вот на всех на них было два класса, которые он когда-то кончил.
Михаил Иванович сказал: «Для того, чтобы строить социализм, такого образования, конечно, недостаточно. Надо, дорогой мой, учиться». Эти слова на всю жизнь запали в душу Борина. Стремясь осуществить совет Михаила Ивановича, Борин стал учиться в вечерней школе, много занимался самообразованием. И продолжал все эти годы работать комбайнером. Да еще как работал – каждый год отличался рекордными сборами хлеба. Оказывая высокое уважение за его труды, Константина Александровича Борина избрали депутатом Верховного Совета первого созыва.
И вот ему удалось закончить десятилетку. Приехал в Москву, сдал экзамены, стал студентом первого курса сельскохозяйственной академии. Вроде бы жизнь пошла так, как хотелось. Но в это время грянула война! Враг напал на нашу родину в июне месяце, а это пора уборки хлебов. Студент первого курса Тимирязевской академии Константин Борин видит, не совсем удачно для нас развивались события на фронте – враг подходит уже и к его родным местам на Кубани. Решил он ехать и помочь в уборке хлебов. А прямой дороги на Кубань уже не было. Целое нелегкое путешествие пришлось совершить – кружным путем, чтобы добраться до своих полей: через Ташкент, Красноводск, через Каспийское море на корабле и дальше опять поездами, а как они тогда ходили, хорошо известно! И все же добрался Борин до своего колхоза. Он убирал хлеб со своими товарищами до последней возможности. Их бомбили фашистские самолеты – они пережидали в воронках от взрывов бомб и продолжали работать. Но вот уже не бомбы, а снаряды рвались неподалеку, а механизаторы все же убирали хлеб, потому что он нужен был народу, армии.
Пришел приказ – поджечь хлеб, уничтожить его, чтобы не достался врагу. Уничтожить и комбайны, которые так любил Константин Александрович. Не просто это было выполнить! Когда он мне рассказывал об этом – сорок лет прошло, а у него на глазах наворачивались слезы и я очень хорошо представляю, как это было. Черный дым повис над золотой пшеницей, сажа садилась на лица хлеборобов, слезы текли по их щекам, размывая эту сажу. Да, они плакали! Взрослым мужчинам в такой момент простительны слезы.
А вот комбайны уничтожить они не смогли. Хлеборобы верили, что вернутся в эти места и поэтому разобрали комбайны, сняли с них все детали, зарыли их в различных местах и только после этого ушли со своей родной земли.
Пришел Константин Александрович, как и многие другие, в военкомат. Ему хотелось попасть в действующую армию и бить врагов. Но помешало неожиданное осложнение: Борин – депутат Верховного Совета СССР, член правительства, и военный комиссар сказал, что не может призвать его в армию. Борин поспешил в крайком партии. Там поняли его, помогли, и он надевает военную форму.
Дорогие читатели, те, кто живет не в Москве, москвичам это сделать проще, когда приедете в Москву во время отпуска или в командировку, зайдите, пожалуйста, в музей Октябрьской Революции на улице Горького, рядом с площадью Пушкина, поднимитесь на второй этаж и на одном из стендов вы увидите мандат депутата Верховного Совета СССР, пробитый осколком. На мандате фамилия: Борин. Это удостоверение Константина Александровича. Но он не погиб! К счастью, в том бою Борин был только ранен и контужен. Он остался в боевом строю. Продолжал идти с частями, освобождая города один за другим: Оршу, Минск, Вильнюс, Каунас. Соединение, в котором он служил, последние, завершающие бои провело под Кенигсбергом. Другие части пошли дальше, взяли Берлин, а для Борина бои на Западе кончились под Кенигсбергом.
И вот после Победы состоялась первая послевоенная сессия Верховного Совета CССP – 22 июня 1945 года. На этой сессии был и Константин Александрович. Когда он приходил в Кремль и предъявлял свое депутатское удостоверение, пробитое осколком, товарищи, которые проверяли документы, как-то даже недоверчиво смотрели на этот поврежденный документ. Борин пояснял: «Это я, я жив, так случилось». Его пропустили. 24 июня состоялся Парад Победы, на который были приглашены все депутаты Верховного Совета. Борин в их числе стоял на трибуне рядом с Мавзолеем и смотрел на соратников по оружию, которые участвовали в этом параде. Воинская часть, в которой он воевал, в параде не участвовала: она в это время передислоцировалась эшелонами с запада на восток – предстояло еще разгромить союзницу фашистской Германии – Японию.
Константин Александрович в эти дни зашел в свою пустую квартиру. Жена с детьми находилась в эвакуации: она работала председателем колхоза в далеких краях. Походил по комнате Константин Александрович, посмотрел на фотографии, на которых он сфотографирован на своем комбайне, вспомнил друзей и, как он говорит – защемило сердце, – очень захотелось побыстрее вернуться на хлебные поля.
Конечно, он мог бы поехать в родной колхоз и заняться любимой работой. По-человечески его тоже можно было бы понять: Победа одержана, фашистская Германия разгромлена. Но думал Константин Александрович о своих боевых друзьях, которые ехали в эшелоне опять на войну, опять сражаться с врагами. И он решил догнать их. Долетел самолетом до Омска и на вокзале встретил эшелон, в котором двигалась его часть. Так он попал на восток и участвовал в боях по разгрому империалистической Японии. Закончил боевой путь в Порт-Артуре.
Кончились бои… Два ордена Отечественной войны, орден Красной Звезды, много медалей прибавилось к тем, которыми был награжден Борин в мирное время.
В год, когда он демобилизовался, ему было уже 38 лет – возраст немалый. Страна переживала очень трудные дни. Разрушено много: заводы, фабрики, села. Надо было все восстанавливать, строить заново. Не хватало строительных материалов, цемента, металла, всего не хватало, но все-таки можно было при стройке кое-что заменять. А вот было одно и такое, чего ничем заменить невозможно – хлеб. Труженикам страны нужен был хлеб, Борин это понимал. И поэтому, не тратя понапрасну ни одного дня, он едет в родную станицу и начинает опять растить хлеб.
Не забыл он и слова Михаила Ивановича Калинина о том, как необходимо образование человеку, строящему социализм. Откровенно признается Борин – не надеялся, что сможет продолжить образование, потому что все забыл за годы войны, все надо начинать сначала. А лет-то уже 39, трое детей, жена. Все же зашел в академию, побеседовал в ректорате, и добрые педагоги, ученые, наставники академии посоветовали, вселили надежду – надо преодолеть все трудности, надо продолжать образование. И Борин решился. Он опять стал студентом первого курса.
Предложили ему путевку в дом отдыха – с 1936 по 1947 годы ни разу не отдыхал, но Борин отказался. «Я так соскучился по своей работе, что это и будет для меня и труд, и самый лучший отдых». И поехал в родную станицу.
Работал он с жаром, с жадностью! Что бы он ни сделал, казалось, этого мало. Как и в прошлые годы, когда осенью подсчитали результаты уборки, Борис стал передовиком и рекордсменом.
Вот так в течение нескольких лет зимой учился, а летом уезжал на уборочную. Однажды подсчитали: по выполненным нормам он уже шагнул в XXI век. Это были большие, высокие рекордные показатели, за них Константину Александровичу Борину было присвоено высокое звание Героя Социалистического Труда.
Часто к нему приезжали конструкторы, которые постоянно улучшали машины, создавали новые образцы. Они советовались с ним, и он не только давал советы, а, как хороший знаток этой техники, вносил свои очень оригинальные предложения, за которые Борину выдавались авторские свидетельства. Таких свидетельств у него несколько. За рекордные показатели на уборке и усовершенствование техники уборки Константин Александрович удостоен Государственной премии.
Человек, который так хорошо трудится, вполне естественно пользуется огромным уважением и не только среди своих близких, но и среди соотечественников, поэтому Константину Александровичу Борину, как такому прекрасному труженику, была поручена очень ответственная миссия: его избрали делегатом на Первый всемирный конгресс сторонников мира.
Здесь Константин Александрович слушал известных борцов за мир – Фредерико Жолио Кюри, Поля Робсона, Александра Фадеева, Илью Эренбурга и сам тоже выступил на этом конгрессе. Был он делегатом и Второго Международного конгресса сторонников мира.
Защитив диплом и получив высшее образование в Тимирязевской академии, Борин пришел к мысли, что нужно ему обобщить громадный опыт, который он накопил. Это нужно новому подрастающему поколению. Поэтому он решил писать диссертацию. И написал диссертацию, и защитил ее, стал кандидатом наук, ученым, доцентом. Вот так через всю его жизнь прошли короткие слова Михаила Ивановича Калинина о том, что очень необходимо образование человеку, строящему социализм.
В сентябре 1975 года состоялась Всесоюзная научно-практическая конференция, на которую были приглашены ветераны стахановского движения и новое поколение стахановцев. В дни, когда работало это совещание, Леонид Ильич встретился в Кремле с ветеранами стахановского движения.
Был среди прославленных стахановцев и Константин Александрович Борин. Он подарил Леониду Ильичу на этой встрече свою книгу, которая называется «Вкус хлеба». На обложке книги написаны такие слова Борина: «Я, знаете, люблю хлебa. Пока они растут – это мои хлеба. Я могу помочь им, предохранить от всяких бед, потому нянчусь с ними как с малыми детьми. Ох и приятная эта забота, люблю ее. А вырос урожай, пришли на поля комбайны – все помыслы и заботы мои уже о будущем урожае». Леонид Ильич поблагодарил его за подарок и сказал: «Борина, как комбайнера, хорошо знаю, а вот то, что вы стали еще и писателем, этого я не знал».
Вот что мне хотелось рассказать вам о хорошем человеке, который всю жизнь выращивает для нас хлеб.
Рязанские мадонны
В начале этой книги я больше говорил о боевых подвигах, о наследовании ратных военных традиций, дальше пойдет разговор о трудовом подвиге, героизме женщин.
Одна из них – Анурова Антонина Яковлевна – рабочая, а другая – Дарья Матвеевна Гармаш – колхозница. Женщины удивительные! Я много видел героев в боях и восхищался их подвигами, а теперь преклоняюсь перед трудовым подвигом этих женщин и уже много раз говорил слова благодарности, да и не я один. Но сколько бы таких слов ни говорилось, всегда чувствуешь – сказано еще мало.
Антонина Яковлевна Анурова родилась в деревне Сидоровка Рыбновского района Рязанской области. Это есенинские места, неброские, но красивые.
Мы приехали с Антониной Яковлевной из Рязани в Сидоровку, ходили по ее единственной, заросшей травой улице и молчали. Я понимал, что на Антонину Яковлевну нахлынули воспоминания, и я не хотел ей мешать. Потом она тихо, даже вроде бы не обращаясь ко мне, сказала:
– Вот здесь и детство мое, и юность прошли. По этой улице я с Мишей гуляла. Здесь и любовь наша расцвела. Я здесь в колхозе звеньевой работала, а Миша – городской, токарь с завода «Рязсельмаш». Очень он мне понравился. Здесь мы и свадьбу отгуляли. Ну и потом пришлось мне уезжать с мужем из этих родных наших красивых мест.
С той поры прошло более тридцати лет. В городе жизнь Антонины сложилась так, что она была просто мужняя жена, или, как говорят, домохозяйка. Муж работал токарем на заводе, а Тоня ждала его дома, готовила обеды, вела хозяйство. Родила двух дочек, души в них не чаяла. Но вот грянула война. Муж ушел на фронт. У Антонины тяжело было на сердце и от опасений за судьбу мужа, и от общей большой беды, которая навалилась на нашу страну. Она все думала, как бы помочь, как бы принести пользу и Родине, и мужу, который сражается с фашистами на передовой. И вот она решила заменить своего мужа на заводе. Раз муж ушел на фронт, значит, у станка место пустое осталось. Пришла Антонина Яковлевна на завод, попросилась к станку мужа. Просьбу ее уважили, поставили к станку. Но первые дни Анурова станка только боялась, ничего понять не могла: рукоятки, шестерни, сверла пугали молодую женщину. Люди помогли, научили, постепенно привыкла. Завод делал мины для минометов, и Тоне очень хотелось сделать этих мин побольше, потому что они помогут Михаилу на фронте. И вот, движимая этим патриотическим стремлением и стараясь сделать как можно больше боеприпасов, Анурова дает с каждым днем все больше и больше продукции, а через некоторое время она уже выполняла и даже перевыполняла нормы.
Вспоминая те дни, Антонина Яковлевна рассказывает:
– Трудно нам было. Цех не отапливался, холодно. Замерзшие пальцы не слушаются. Руки грела о теплые детали, пока они еще горячие к нам от печей поступали. И все думала: надо, надо побольше этих мин сделать. Может быть, они Мише, там, на фронте, пригодятся. Он когда на фронт уходил, только одно мне сказал: «Сбереги детей». У нас тогда одна Раечка была, а второго ребенка мы только ждали. А он уж обоих беречь велел. Вот я и работала, и детей берегла. Работали без выходных, смены двенадцатичасовые. А то и сутки напролет, когда надо. После смены бежала в детский сад за Раечкой и в ясли – за Галей. Накормить их, обогреть в холодном доме надо. Растила я Галю и все думала: свидится ли она с отцом? И вот надо же, выпало Мише такое счастье: повидал он дочку. Отморозил ноги на передовой, и отправили его на излечение. Привез Мишу санитар на тележке к дому. Я его в окошко увидела, побежала навстречу. И дети со мной: Раечка, Гале-то уж годик был, тоже бежит, ножками топает. Миша прежде всего ее увидел. Схватил, обнимает, целует. «Человечек ты мой, – говорит. – Сверчок миленький». И уж только после нее нас увидел и поздоровался, целовать начал. Недолго был Миша дома, подлечил ноги, привез два воза дров, сказал: «Топи дом для дочек, не жалей дров». И снова ушел на фронт. Больше мы его не видели. Миша погиб. Товарищи его писали, что был Миша храбрым пулеметчиком. Вот такое было короткое мое бабье счастье с Мишей.
После гибели мужа не пала духом Антонина Яковлевна. С еще большим упорством трудилась, по две нормы выполняла. И про себя отсчитывала: одна за Мишу, другая – за себя. Пайку хлеба ни разу сама не съела, все на троих с дочками делила. А когда однажды на заводе объявление повесили, что солдатам раненым кровь нужна, пошла на донорский пункт.
– Были и свои радости, наверное, в те трудные дни, Антонина Яковлевна? – спросил я Анурову.
– Были, конечно, немного, но были. Когда армия наша город какой-то освободит – радость. Или вот стала я по три нормы выполнять. Мастер называл меня теперь по имени-отчеству – тоже радость. Ну, а самая большая радость – это была у нас в ночь с 8 на 9 мая 1945 года. Я в ночную смену тогда работала. И вдруг пришел к нам директор завода Василий Васильевич Новиков. Мы знали, у него большое горе – 2 мая погиб на фронте его сын. И вот вдруг Новиков приходит в цех и говорит нам в два часа ночи: «Дорогие мои, мы победили! Советская армия разгромила немецких захватчиков. Вы, мои дорогие, работали, когда на стенах висели сосульки. Я видел, как кожа лопалась на ваших руках от холода, но вы работали. Я видел, какие вы были синие от голода, и как падали в обмороки, и, приходя в себя, опять работали». Он низко поклонился и добавил: «Спасибо вам! А теперь идите домой, отдыхайте. Мы победили!» Это был своеобразный ночной митинг. Победа – самое большое мое счастье в жизни…
Послушать Антонину Яковлевну, вроде бы ничего особенного она и не сделала. Работала, как все, не жалея сил. И если не задавать ей вопросы, не наводить рассказ на то, что люди о ней знают, то она, пожалуй, сама и не скажет многое, очень важное. Вот хотя бы такое большое, доброе и не каждому посильное дело. В годы войны на заводе появилось много детей: мальчиков и девочек, которые потеряли родителей. У одних они погибли, у других были на фронте или в оккупации, а третьи просто потерялись в эвакуационной суматохе. Как могли, помогали этим детям на заводе. А сами дети находили тех, у кого сердце потеплее, искали их заботы и ласки. Пришли они и под крылышко Ануровой. И многим хватило ее душевного тепла. Сначала двух, потом еще трех, а потом еще десятерых стала учить Антонина Яковлевна токарному делу в своей бригаде. А всего более двухсот подростков прошли за годы войны через ее добрые, заботливые руки. И научила она их не только работать, но и жить полнокровной, счастливой жизнью рабочего человека. Тогда еще не было звания «наставник». Но широкое сегодня движение наставничества, по сути дела, зародилось именно тогда с заботливого отношения к молодежи таких вот добрых, государственно мыслящих людей, как Анурова. Она не только учила их работать. Она вникала во все тонкости их жизни, помогала укрепить характер, прочно встать на ноги. А характеров и судеб самых разных среди этих детей было множество. Встречались дети и сложные, и трудные, и порой казалось, что даже безнадежные. Но ни от кого не отступалась Антонина Яковлевна, ни одного из двухсот не отпустила от себя без твердой уверенности, что у человека будущее светлое. А были: среди ребят и такие. Ленивому и неповоротливому Рожкову все было, как говорится, до феньки: и норма, и гордость рабочая, и даже заработок. Антонина Яковлевна знала, что в каждом человеке свой секрет есть. Надо только разгадать его. И вот нашла она и Сережкин секрет. Оказывается, паренька расшевелить, растормошить можно, если гордость задеть. Да-а, оказывается, была в этом увальне чуткая гордость! Стал выполнять и перевыполнять норму Рожков. А когда спросила его Анурова: «Что ж ты так теперь стал работать?» Он сам признался; «Уж очень вы разозлили меня, Антонина Яковлевна». А разозлила его Антонина Яковлевна тоже по-своему. Она знала, что парень привязался к ней. И вот когда уже никакие уговоры не помогали, она отозвала его в сторонку и сердито сказала: «Ну все, больше изводить себя не позволю. Уходи с завода. Не могу больше на тебя смотреть». Этих слов оказалось достаточно – и Сергей переменился.
Однажды прислали в ее бригаду девочку. Худенькая, глазастая. В глазах настороженность. «Ну, ничего, – подумала Антонина Яковлевна. – И я, когда впервые к станку подошла, тоже побаивалась. Привыкнет». Стала показывать ей, что к чему, как крепить заготовку, как ее обрабатывать, а сама все про жизнь расспрашивала. Но девочка не раскрывалась, насупленная, угрюмая, неразговорчивая. И вот однажды выяснилось, что девочка эта из религиозной семьи, где вера, молитвы заслонили всю жизнь. И когда попробовала Антонина Яковлевна разубедить ее, Наташа строго и в упор ей сказала: «Я вас слушать не буду. Не позволю глумиться над верой!» Повернулась и ушла.
И если в заключение я скажу, что Наташа через год стала комсомолкой и хорошим токарем, то за этими короткими словами нетрудно понять, какая трудная, большая и сложная работа была проделана Антониной Яковлевной для того, чтобы просветлить, очистить душу этой девочки.
Двести человек, двести жизней, двести судеб. И каждый пришел к ней со своей тяжестью, со своей бедой. И каждому Антонина Яковлевна помогла. Именно поэтому в Указе Президиума Верховного Совета СССР о присвоении звания Героя Социалистического Труда Антонине Яковлевне Ануровой сказано, что звание это дается ей не только за высокие производственные достижения, но и «за большую общественно-политическую работу».
Недавно я побывал в Рязани, навестил и Антонину Яковлевну. Она по-прежнему работает в своем цехе. И как всегда, у нее несколько десятков учеников. И возится она с ними денно и нощно. Своих дочек уже вырастила, бабушкой стала, внуки есть. А этим тоже надо помочь: не только токарному делу научить. Она и в общежитии у них бывает, смотрит, как они там устроены, уютно ли? И в музей, и в кино с ними ходит. А кое-кому и в сердечных делах надо подсказать. Парни и девушки уже взрослые, о семейном гнезде кое-кто подумывает.
Побеседовал я с некоторыми из ее сегодняшних подопечных. Два брата Рожковы – Василий и Евгений – близнецы. На свет появились почти одновременно, и в жизни поступают во всем одинаково: вместе закончили десять классов, оба решили стать рабочими, поступили в ПТУ, в один день вступили в комсомол. И, узнав об Ануровой, оба решили именно у нее проходить практику. И выбор этот не случаен: не только высокое мастерство Ануровой привлекло этих парнишек. Они из большой, многодетной семьи. Их мать – Александра Валентиновна – мать-героиня, вырастила десятерых детей. И вот, уехав из родного села, вдали от матери, которую они очень любят, Василий и Евгений потянулись к Ануровой не случайно. Ее душевное тепло, несомненно, сыграло здесь большую притягательную роль.
Я сказал Евгению:
– Скоро в армию. Где служить хотелось бы?
– В десантниках.
– А ты? – спросил я Василия.
– И я туда же. Иначе и быть не может! – весело ответил брат.
Далеко ушли трудные годы войны, но, к сожалению, кое у кого и в мирные дни судьба складывается неладно. И вот трудные ребята тянутся к Ануровой, да и сама она в силу своих убеждений, жизненного опыта, движимая огромной добротой своей, спешит на помощь именно к таким ребятам. У кого все хорошо, тому и помогать нечего! Тяжело и даже трагически сложилась судьба Оли И. В семнадцать лет она уже за решеткой побывала. Там и встретила Олю Антонина Яковлевна в колонии для малолетних преступников. И там во время выступления глаза ее сначала разглядела. Внимательные, добрые, синие глаза. Не могла Анурова поверить, что такие глаза могут быть у преступника. Побеседовала с начальником колонии, разобрались в Олином деле, и действительно, не так все сложилось, как было сказано в бумагах. Нашлись и смягчающие вину обстоятельства. Добилась Анурова: Олю освободили, считая ее срок условным. И вот ходит сегодня Оля счастливая, с сияющими глазами. Стала для нее Антонина Яковлевна второй матерью. А мне Анурова шепнула:
– Сережка один за ней ухаживает, хороший парень. Я других-то отваживала, не годились для Оли. А этот пускай. Этот хороший, твердый парень. Глупые, дети еще, знаете, что они купили вскладчину недавно? Холодильник! Огромный ЗИЛ, самый дорогой! Его даже поставить негде – они в общежитии в разных комнатах живут. В коридоре пристроили. Я спросила Олю: «Зачем же такой большой брали-то?» – «А мы жизнь решили по-капитальному строить. У нас все должно быть самое лучшее», – ответила мне Оля.
Аскер Гусейнов, с которым я тоже побеседовал в тот день в цехе, рассказал, что он приехал на завод из далекого Азербайджана, узнав из письма друга об этой замечательной женщине. Друг его здесь, на «Рязсельмаше», работает. И вот, несмотря на то, что Гусейнов уже в армии отслужил, человек вроде бы самостоятельный, все же приехал к Ануровой, за ее советом, поддержкой, душевным теплом. И много их таких наберется. Сотни писем шлют бывшие ученики Антонине Яковлевне из разных городов страны, и она находит время всем им отвечать. Вот несколько строк из письма Сергея Исакова. Он прислал его из армии:
«Здравствуйте, Антонина Яковлевна! Благодарю вас за поздравление, приятно сознавать, что тебя помнят на заводе, где началась рабочая биография, были сделаны первые шаги в самостоятельной жизни. Именно у станка я почувствовал себя настоящим человеком. Думаю, что выражу мнение большинства ребят и девчат, которые работают с нами. Вы наш Учитель: и в труде, и в жизни… Служба идет хорошо. Меня избрали комсоргом. Скучаю о вас, о ребятах, о доме».
Слово «Учитель» Сергей написал с большой буквы. И это очень правильно!
Да, Анурова живет большой, широкой, возвышенной жизнью. Много она преодолела и своего, и чужого горя. И возвышенность эта в ее замечательном труде, в огромном уважении к ней людей, которые видят в ней друга, товарища, мать.
Я гляжу на простое, доброе лицо Ануровой, на ее внимательные, немного утомленные глаза, на седые пряди, появившиеся на висках, на ее волосы, гладко зачесанные назад и закрученные в узел, на морщинки, уже побежавшие от глаз и от уголков рта. И невольно вспоминая знаменитую «Джоконду», я думал: как бы нарисовали Анурову Леонардо да Винчи или Репин? Что самое характерное в ней? Каждый из них, конечно, нашел бы в портрете Ануровой что-то свое, какую-то, на его взгляд, главную особенность. И он был бы прав, потому что душа Антонины Яковлевны очень многогранна и богата. Жаль, что никто из больших художников не напишет и не оставит потомкам портрет этой замечательной женщины. Но помнить ее будут долго.
А если бы мне природа дала дар живописца, я нарисовал бы Антонину Яковлевну по-своему. Сюжет картины родился бы из услышанного мною эпизода, когда разгневанная тетка-баптистка, почувствовав, что Наташу вызволяют из-под влияния веры, пришла к Ануровой, чтобы проклясть ее! Но Анурова не стала с ней спорить, а попросила ее посидеть в цехе, в сторонке, и посмотреть на ребят, как они учатся работать. И вот эта гневная баптистка, сначала хмурая, потом все более мягкая, оттаивающая, просидела в цехе несколько часов. Она сказала Антонине Яковлевне на прощание всего два слова: «Вы – святая женщина». И ушла. И после этого уже не препятствовала своей племяннице Натаще уходить в новую трудовую жизнь. Святая женщина! Ну, святых в наши дни, конечно, нет. Но я вспоминаю старинные иконы, и особенно одну, на которой был изображен Христос, творящий чудеса. Вот и я бы нарисовал Антонину Яковлевну в центре полотна крупно, ее простое, умное лицо. И окружил бы ее такими сценами, где был бы муж-фронтовик, отражающий атаку фашистов; где она сама стелила бы своим дочерям вместо простыней мешковину; где она в годы войны ходила на работу в ботинках мужа, которые были ей велики; где она резала свою пайку и раздавала детям; где она тонкими, исхудавшими от голода руками с синими жидами поднимала и ставила в зажимы станка тяжелые мины; где она отдавала свою кровь раненым. И на празднике Победы, с сияющими на истощенном лице глазами, изобразил бы я ее. И на трибуне съезда, куда коммунисты избрали ее делегатом.А теперь я расскажу вам о другой прекрасной рязанской женщине, о колхознице Дарье Матвеевне Гармаш. Она родилась в селе Старом, недалеко от Киева, но давно, еще в детстве, переехала с родителями на рязанские земли.
Слава Гармаш, как известной на всю страну трактористки, гремела давно. Поэтому когда мы с ней встретились, познакомились и разговорились, я спросил ее прежде всего о тракторе.
– Когда у вас впервые родилась тяга к железному коню?
– Началось все с самого первого трактора. Я тогда еще девочкой была. И вот пригнали в нашу деревню первый «Фордзон». Стоял он на площади, и все жители нашей деревни окружили его и разглядывали. Мужики чесали бороды и затылки, сомневались: «Много ли силы в этой железяке!» А тракторист предложил им: «Давайте попробуем». Привязал длинную веревку к крючку, за который цепляют плуг, и говорит: «Ну, давайте держите». Взрослые сперва не взяли, ухватились мальчишки. Много, как гроздь виноградная, нависли они на веревку, и поволок их трактор, упирающихся, по дорожной пыли. Тогда и мужики, ухмыльнувшись, взялись за эту же веревку, но и они не справились: трактор был сильнее. Вот с тех пор и зародилась у меня мечта: как бы оседлать этого красивого железного коня. В нашей деревне не я первая была женщина-трактористка, потому что были старше меня девушки, и они раньше овладели этой специальностью. А я с завистью всегда стояла у края поля и смотрела, как они пашут. Как я им завидовала! Очень мне хотелось самой попробовать водить трактор. И вот однажды Нюра Булахова пахала, а я стояла, где она делала поворот, и любовалась, как она уходила точно по борозде в дальний загон и потом возвращалась ко мне. Думала я про себя: подойду к ней и предложу ей атласное платье, насовсем подарю, только пусть даст разок попробовать мне самой повести трактор. А она словно почувствовала или по глазам угадала это мое желание. Остановилась и спрашивает: «Порулить хочешь? Ну, давай, прыгай ко мне». И вот села я на жесткое сиденье. Нюра повернула какой-то рычаг – и трактор двинулся вперед. Когда я со стороны смотрела – это выглядело красиво. Мне казалось, она словно по морю проплывает, а тут трактор весь задрожал, затрясся, подпрыгивал на кочках, рычал, шумел. И мне все казалось, что он повернет куда-нибудь в сторону. «Рули, рули! – кричала Нюра. – Смотри, из борозды чтобы не выбилась». Так я дошла до поворота, а на повороте поднять плуг не сумела, и трактор заглох. Очень стыдно мне было смотреть на Нюру, как она напрягалась изо всех сил, стараясь завести трактор заводной ручкой. И я чувствовала, что в этом ее тяжелом напряжении я виновата. Ну, в общем, крещение я получила. Потом она же, эта Нюра, меня обучила, и стала я работать самостоятельно.
Когда началась война, Дарья Матвеевна тоже проводила мужа на фронт. Его, между прочим, тоже звали Михаилом, как и мужа Ануровой. А сама все силы отдавала, чтобы вырастить хороший урожай хлеба. И хлебом этим помочь фронту и труженикам страны, которые ковали нашу победу. И так было горячо ее желание помочь мужу и Родине, что она не могла просто работать, как все, она ежедневно и ежечасно искала возможности наработать побольше. Враг приближался к рязанской земле, уже было слышно громыхание артиллерии. Все, что можно было, эвакуировали в тыл, отправили технику и из колхоза, в котором работала Гармаш. Осталось несколько тракторов. И когда фронт подступил уже совсем вплотную, то и эти тракторы разобрали и разбросали по частям в разные места: в овраги, в реки, в лес…
Недолго продержались фашисты на рязанской земле, вскоре их прогнали. Приближалась весна, надо было пахать и сеять. А чем обрабатывать землю? Нечем. И вот пошла Дарья со своими подругами, девушками-трактористками, по оврагам к лесу, стала откапывать из-под несошедшего еще снега детали, носить их в деревню, собирать трактор. Многого не хватало, многое было потеряно навсегда. И казалось, ничего не получится из этой затеи: трактор не оживет. Но сметливая была Даша. Она сказала девчатам: «Надо пойти по квартирам трактористов, которые на фронт ушли. У каждого должен быть свой загашник запасных частей». И она оказалась права. Пошли по домам и нашли многое.
И как только вздохнула земля после зимы, молодежная тракторная бригада девушек выехала на пахоту. И радость, и слезы была эта пахота. Радостно, когда шел трактор вперед и поднимал жирную землю. Слезы, когда глох мотор. У ослабевших девушек сил не хватало повернуть заводную ручку. И опять Дарья придумала такую вот рационализацию. Принесли кусок водопроводной трубы, надели на заводную ручку, чтобы удлинить ее и чтобы можно было ухватиться двоим, а то и четверым, и так общими силами запускали мотор. Потом собрали и выпустили на поле еще несколько тракторов. Сама Гармаш работала день и ночь. А чтобы не заснуть, не упасть с сиденья, пела песни. Люди со стороны, слушая эти песни, говорили: «Смотри, как ей весело и легко работается». После смены она вместе со своими девчатами падала в постель и засыпала. Но спала Даша меньше других, потому что у нее, как у бригадира, было много других забот. И одна из этих забот заключалась в том, что она все время внушала своим подругам – они должны работать, как на фронте, невзирая ни на погоду, ни на какие трудности. Она даже придумала писать им боевые задания. И в заданиях этих у нее были слова, как в воинских приказах. Вот одно из них: «Боевое задание на 5 мая Фоминой. Ты работаешь в тылу, на колхозных полях. Помни, работа на колхозном поле – это тот же фронт. Тебе сегодня дается боевое задание: вспахать за смену при хорошем качестве работ 6 га. Выполнив с честью это задание, ты поможешь своей Родине в разгроме врага…»
Отдохнув несколько часов, Даша поднималась первой. Ныла спина, болели руки, была тяжелой от постоянного недосыпания голова. Но поле и фронт не ждали. И вновь будила Даша своих девчат: «В бой, девчата! По тракторам!»
Четырнадцать бригад было в Рыбновской МТС. Бригада Гармаш обогнала всех и первой за восемь дней завершила сев яровых в колхозе «Красный пахарь». Так, благодаря находчивости Даши, ее горячему желанию помочь Родине, людям, армии, она со своими подругами совершила настоящий трудовой подвиг.
Я смотрю в ее веселые, серые глаза, слушаю обычный, совсем не командирский голос и думаю: откуда же в ней такая сила бралась? Прошу ее:
– Дарья Матвеевна, ну выполнили план, заняли первое место – все это хорошо. Расскажите, какая обстановка была?
– А обстановка такая: мы лучше других работали, потому что фронт слышали. Артиллерийская перестрелка недалеко от нас громыхала. И самолеты фашистские над нами летали. И бывало так: пролетают они, вижу кресты, и смотрю на девушек наших – остановят трактора, побегут или нет? А они сидят за рычагами, не убегают. Радостно мне было, что мои девочки такие смелые! Наработаемся, домой отдыхать все вместе идем. По одной не ходили, потому что фронт близко. Бывали случаи, здесь появлялись группы гитлеровских лазутчиков. И вот мы идем ночью и берем с собой каждая молоток, ключ разводной или какую-нибудь железяку. Оружия-то у нас никакого не было. А домой придешь, отдохнуть бы, а тут свои заботы, печали. Дочка у меня росла. За ней ходить надо. И писем от Миши с фронта нет – тоже печаль сердце гложет. Ну, поспим недолго, задания девчатам боевые обязательно писала. Сводки Совинформбюро все читали. И опять – на трактор. А трактора тогда были ведь не такие, как сейчас. Сейчас тракторист сидит в кабине, со всех сторон стеклом, металлом закрыт. И тепло ему, и ветер его не обдувает. А мы работали – только сверху брезента кусочек. Ветер насквозь пронимает. Да и сидишь на железной тарелке, наброшена на нее тряпица какая-нибудь, а так и холодно, и дождем тебя окатывает, если дождь идет.
Вот так трудно: и холодно, и голодно, и ничего вроде бы особенного, а в газетах в ту пору про нее вот что писали: «Подведены итоги социалистического соревнования женских тракторных бригад. На весеннем севе во всем Советском Союзе соревновались 3932 бригады. На первое место вышла женская молодежная бригада Рыбновской МТС Рязанской области во главе с бригадиром Дарьей Матвеевной Гармаш».
Осеннюю пахоту бригада Гармаш тоже выполнила досрочно, при высоком качестве обработки земли. При этом девушки еще и горючее сэкономили. В ту осеннюю пахоту они сэкономили более 5 тонн горючего. Когда вручали Дарье Гармаш и ее подругам Анисимовой, Чупровой, Кочетыговой, Афиногеновой, Метелкиной грамоты ЦК ВЛКСМ, то там подсчитали, что на этом горючем могли 22 танковых экипажа целые сутки вести бой.
Теперь Дарью Гармаш уже приглашали делиться своим опытом и на областные, и на всесоюзные совещания передовиков в Москву.
Много сражений выиграла бригада Гармаш на хлебных полях. Каждый год два генеральных: посевная и уборочная. А в промежутках между ними тоже напряженная работа. Но все преодолели славные девушки-патриотки. Отмечала Родина их за эти победы, как солдат на фронте: Дарью Гармаш наградили двумя орденами Трудового Красного Знамени, медалью «За победу над Германией».
И опять я спрашиваю Дарью Матвеевну:
– Ну, детали вы рассказали. А теперь поведайте и главный секрет. В чем он? В чем секрет нашей успешной работы?
– Никаких особых секретов нет. Помогли наше стремление, наша большая обязательность, то, что мы сами себя поставили, будто мы, как на фронте, как бойцы боремся за выполнение вот этих задач. Но, как известно, на одном стремлении трактора далеко не уйдут! Секрет еще в том, что всю зиму мы, пока лежали снега, готовили свою технику к работе. И когда наставало время пахоты или уборки, наша техника работала от первого до последнего дня исправно. Вот и весь секрет. И еще мы получали очень много писем со всех концов страны. Особенно трогательны и приятны для нас были письма фронтовиков. У меня многие сохранились. Вот посмотрите сами, как благодарили, как желали нам успехов воины, которым мы выращивали хлеб.
С этими словами Дарья Матвеевна достала папку, развязала ее. Там было много газет со статьями и очерками о ней и ее бригаде. И много теперь уже пожелтевших фронтовых треугольников. Я развернул один из них и вот что прочитал: «Дорогие девушки! Мы восхищены вашим героическим трудом и выражаем большую благодарность за вашу работу, за вашу заботу о Красной Армии. Мы сознаем, что вам в дни Отечественной войны тяжело, каждая из вас работает за мужчину. Но ничего не поделаешь: война требует жертв и труда… Клянемся, девушки, что мы будем и дальше беспощадно громить врага. Лейтенант Гришин и его товарищи. Действующая армия».
В другом письме были такие строки: «Мы, моряки Краснознаменного Балтийского флота, стоим на охране города Ленинграда. И вы, девушки, знаете, что мы не отдадим наш красавец Ленинград врагу. Уничтожим немецких захватчиков! А вы, наши дорогие сестры, трудитесь на полях не покладая рук. Победа будет за нами!»
Много трудностей и горя пережила вместе со всеми в годы войны Дарья Матвеевна. Но обошла ее самая горькая беда, которая коснулась многих женщин, остался жив, уцелел в боях ее муж Михаил. В 1946 году он демобилизовался и, вернувшись на родную землю, сразу же отдался работе. Его выбрали председателем колхоза. Уж очень он, видно, истосковался по своему делу за годы войны. Не щадил себя, отдавал все силы. А их, видно, осталось не так уж много. Поднял одно хозяйство, избрали его председателем другого, отстающего колхоза. И опять Михаил Иванович работал, не покладая рук, не считаясь со здоровьем. И вот однажды его сердце остановилось. Осталась Дарья Матвеевна вдовой с двумя детьми. Дочке было тогда тринадцать и сыну восемь.
Пять лет подряд бригада Дарьи Гармаш завоевывала Красное знамя ЦК комсомола во всесоюзном социалистическом соревновании. После пятой победы это знамя было навечно оставлено бригаде. Сейчас оно хранится в Центральном музее революции СССР. В 1971 году Дарье Матвеевне Гармаш было присвоено высокое звание Героя Социалистического Труда. А трактор ее, тот, который когда-то разбрасывали по оврагам и кустарникам, а потом вновь собрали, и на котором пахали всю войну, как символ трудового геройства трактористок-девушек установлен на постаменте у дороги на родной рязанской земле.
Не удержался я, спросил Дарью Матвеевну:
– Не довелось ли вам видеть картину «Джоконда»?
Дарья Матвеевна улыбнулась и ответила:
– Видела. Красивая женщина. И улыбается широко. Только я считаю, что мои девчата из бригады не хуже. Это ведь они только в поле да на тракторах в ватниках, маслом испачканные. А в праздник так оденутся – куда вашей Джоконде!
Дарья Матвеевна засмеялась:
– Я ведь была в Париже, там и видела Джоконду в Лувре. И француженок тоже хорошо рассмотрела. Говорят, они самые большие модницы. Есть, конечно, и модницы, есть и попроще одеваются. Как в каждом народе – и красавицы есть. Но все же наши девчата, мне кажется, красивее! Встречалась я во Франции и разговаривала с одной трактористкой. И вот что она мне сказала: работает у фермера, наравне с мужчиной, а получает плату вдвое меньше. Вот такие у них порядки. Рассказала я той француженке, как в войну женщины-трактористки работали. И что не только сами за это деньги получали, да еще и собирали, и вскладчину внесли 20 тыс. рублей на постройку танковой колонны «Рязанский колхозник». Никак она меня не могла понять: как же это так – свои заработанные деньги и вдруг отдать ни за что, ни про что. А когда я ей рассказала, что мы однажды взаймы дали государству 250 тыс. рублей, а другой раз подписались на заем на 300 тыс. рублей, то совсем моя французская знакомая растерялись. «Откуда же у вас такие деньги?» – спрашивает. И никак не могла понять: как же это мы даем государству такие большие суммы?
Кроме больших общественных дел, кроме работы, были у Дарьи Матвеевны, как говорится, проблемы и в личной жизни. Ну вот хотя бы такая: овдовела рано. Прославленная труженица, у всех на виду, ну что же, теперь жить всю жизнь одной?! А она ведь еще совсем молодая. Чувствовала Даша, что сердцем по ней, как говорят, мается Александр Киселев. И вот так сложилась судьба, что Дарья вышла замуж за Александра Киселева. Родился у них сын. И этого, как и первенца, Сашей назвали. Стало у них теперь два Саши – старший и младший. Или вот такая еще дилемма, с которой сталкиваются многие родители. Окончила Людмила медицинский институт. Конечно, каждой матери хочется, чтобы дети жили от нее поблизости. Но не пошла Дарья Матвеевна, не просила никого о хорошем «распределении» дочери. Да Людмила и сама тоже по характеру, вроде матери, заявила: «Не хочу я здесь оставаться. Так и будут звать меня Людмила или Милочка. А я теперь врач». И уехала на Север. И вот работает там уже больше десяти лет. Теперь она уже главный врач городской больницы, зовут ее Людмила Михайловна, вышла там замуж. У нее свои дети. Дочь счастлива. Ездит к ней и к своим внучатам в гости Дарья Матвеевна и тоже довольна и тем, как работает, и что большим уважением пользуется ее дочь, и что характер у нее такой же, не пропадет с таким характером. Старший Саша тоже свой характер проявил. Захотел побольше увидеть, узнать. Стал геологом. И теперь он вечный странник, ездит по стране. А вот младший Саша в маму пошел. Землю любит, технику. Учился в сельскохозяйственном институте, на каникулы приедет – с трактора не слезает, все время за баранкой, в поле. Унаследовал от матери любовь к земле и технике. Сама Дарья Матвеевна сейчас работает директором районного управления «Сельхозтехники». Вся техника района у нее в руках. И как было когда-то в тракторной бригаде, так и здесь Дарья Матвеевна руководствуется неотступно истиной: технику надо готовить зимой, тогда она себя летом хорошо покажет.Был я с Дарьей Матвеевной у нее в мастерских. Это не какие-то, как мы привыкли представлять, небольшие сельские ремонтные мастерские, с наковальнями и молотом, горном, который раздувается мехами. Это огромные корпуса, настоящий завод. Причем несколько цехов. В каждом ремонтируется определенная марка комбайнов, тракторов, стоят целые вереницы станков, под потолком по рельсам движутся мощные краны. В общем, если эти мастерские чуть-чуть модернизировать, они, пожалуй, могли бы новые трактора выпускать. Вот с таким огромным, мощным и ответственным хозяйством управляется сегодня Дарья Матвеевна. И ходит она по этим корпусам совсем непохожая на какую-то огрубевшую мать-командиршу. Нет, идет по этим мастерским моложавая, симпатичная женщина в меховой шапочке, в ладном, хорошо сшитом пальто с пушистым воротником. Ну обычная городская жительница, которая направилась в театр или в гости. И с людьми она говорит не окриком, а по-доброму, внимательно, но когда нужно – строго.
На прощание подарила мне Дарья Матвеевна свою книгу. Называется она «Побеждает любовь». Это интересные мемуары трудового человека. Обычно мы привыкли читать мемуары генералов, полководцев, а я, прочитав эту книгу, подумал: чем Дарья Матвеевна не полководец?! Настоящий сельскохозяйственный генерал. Она не только сама работала, но и руководила, воспитывала людей, вела их за собой на ответственные сельскохозяйственные битвы, выигрывала эти битвы, и, как мы уже говорили, две главные битвы ежегодно: посевную и уборочную. И любовь, которую вынесла Дарья Матвеевна в заголовок своей книги, это не просто женская любовь, а имела в виду она ту большую, величественную любовь к Родине, которая всю жизнь помогала ей преодолевать трудности и одерживать победы.
Возвращаясь из Рязани, в поезде я подумал о том, как бы я, если бы был художником, нарисовал еще одну рязанскую мадонну – Дарью Гармаш. Конечно же на тракторе. И не только в поле. Хоть это и было главное в ее жизни, но жизнь ее, наряду с этим, так многогранна, так разнообразна, что мне хотелось бы нарисовать Дарью Матвеевну, как и Анурову, в центре полотна и окружить ее картинами из ее большой, замечательной жизни. Тут были бы, конечно, и годы работы на тракторе, тут были бы и тяжелые, холодные зимы, когда во время ремонта тракторов руки примерзали к металлическим деталям. Тут были бы и дети ее. Она с хлебом, который вырастила, муж на фронте – тоже с хлебом, солдатским пайком. Ведь не одним же оружием мы победили фашистов. Показал бы я ее и на трибуне Всемирного конгресса мира в Париже, где она, зная цену мирной жизни и радость мирного труда, отстаивала этот мир.
Думал я еще вот о чем: много ли значит труд одного человека в общем балансе страны? Очень много. Если человек трудится для всей страны, для народа. Если в этом труде заключен не только личный, но и общественный смысл. Труд в наши дни был делом чести, доблести и геройства. Сегодня мы уже не говорим о творческом содержании труда. Сегодня труд – это добывание денег, борьба за выживание.
Лишили тружеников пафоса борьбы за светлое будущее…
Интеллигенты
Хирург
Интеллигент, о котором мне хочется рассказать, живет в Москве. Фамилия его Гулякин, зовут Михаил Филиппович, он удостоен Золотой Звезды Героя Социалистического Труда в 1978 году.
Шел Михаил Филиппович к этому высокому званию много лет. По профессии он хирург. Встречался я с ним и беседовал не раз. Побывал в военном госпитале им. Бурденко, где полковник Гулякин работал главным онкологом… Мне хотелось задать ему несколько вопросов уже как человеку, удостоенному высокого звания Героя Социалистического Труда. Но пришел я, видно, не вовремя.
Около застекленной двери в операционную Гулякин остановился и сказал мне:
– Операция будет или очень короткой, или очень продолжительной.
К счастью, она оказалась долгой. Наверное, это единственный случай, когда люди считают счастливым исходом именно длительную борьбу за жизнь больного.
Сквозь застекленную перегородку я наблюдал за ходом операции, а точнее за лицом Михаила Филипповича. Да и лицо-то наполовину было закрыто марлевой маской, видны были только глаза да широкий лоб. Вот за этими глазами я и следил. Сейчас это были совсем другие, не знакомые мне ранее глаза. Я привык их видеть внимательными и добрыми. Теперь в них была строгая сосредоточенность.
…Операция длилась восемь часов. Эта операция не была какой-то исключительной для хирурга Гулякина, так он вообще работает – три операционных дня в неделю. Ну, разумеется, не каждая операция такая долгая. Но если напомнить, что их было более 2500 после войны и около 14 тыс. в годы боев, то как же охватить, оценить и описать все это?
Для того чтобы понять такое подвижничество, нужно не простое знакомство, не разговоры на ходу и даже не восхищение его мастерством и выносливостью. Тут все гораздо сложнее и глубже. За этим стоит вся жизнь хирурга Гулякина, и в ней – сложной и удивительной судьбе его, – несомненно лежат истоки и суть героического труда.
В 1941 году, в сентябре, когда война уже полыхала на нашей земле, Михаил Филиппович окончил Второй медицинский институт и через несколько дней уже был в действующей армии. До войны он занимался в аэроклубе, прыгал с парашютом. Поэтому его направили в десантные войска.
Трудно сегодня поверить, глядя на человека, делающего уникально-ювелирные операции, что он когда-то прыгал с десантниками в тыл врага, вместе с ними участвовал в боевых операциях. Да, там приходилось не только оперировать и перевязывать, нередко брать и автомат в руки, отбиваясь от фашистов или пробиваясь к своим войскам из тыла противника. И таких сражений в тылу было немало. 11 раз прыгал Гулякин с парашютом. Он был молод и смел. Десантники любили его и верили ему. Они говорили: «Раз доктор Миша прыгает с нами, будет полный порядок: он даже голову пришьет, если оторвут ее в бою!»
Михаил Филиппович прошел через вою войну, участвовал в битвах за Москву, Сталинград, сражался на Курской дуге, дошел до победного конца войны в Германии. Не один десяток лет прослужил он в различных частях и госпиталях Советской армии и в мирное время.
На следующий день после операции, о которой я рассказал, я все же встретился с Михаилом Филипповичем.
– Вчера не дождался Вас, – сказал я ему, – восемь часов быть в таком сосредоточенном, напряженном состоянии, наверное, способен только хирург. Может быть, кроме обыкновенной выносливости, есть у хирурга еще какое-то особое качество, помогающее ему в такой труднейшей работе?
– Есть, – ответил Михаил Филиппович, – это чувство ответственности за жизнь больного. Оно помогает мобилизовать в себе все силы, забыть о физической усталости.
Я возразил:
– Забыть-то ее можно, а она может о себе напомнить. Я вчера операции не делал, а восемь часов мне показались бесконечно длинными, и, ничего не делая, очень устал.
– Вот поэтому и устали, что не было у Вас этого чувства ответственности. Вы просто ждали, томились от безделья. У хирурга вырабатывается определенная физическая натренированность, а чувство долга, сознание того, что ты можешь спасти человека, сделать счастливым его, близких ему людей, все это удваивает силы.
Михаил Филиппович Гулякин получает сотни писем. Вот одно из них, очень короткое, от воина, которого Гулякин оперировал еще под Сталинградом: «Здоров, тружусь. Живу в Сибири. Желаю Вам, дорогой мой спаситель, сибирского здоровья!» Из таких писем можно составить объемистый том.
Интеллигент с подпольным стажем
Иван Лукич Хижняк тоже живет в Москве. Он встретил меня радушно. Пожилой, кряжистый, с кустистыми седыми бровями, из-под которых глядят мудрые глаза.
Мы сели к столу, раскрыли альбомы с фотографиями и повели неторопливый разговор.
– С чего начнем? – спросил Хижняк.
– С самого начала, Иван Лукич. С тех дней, когда вы впервые соприкоснулись с революционными делами.
– Ну, с революцией я соприкоснулся еще в 1905 году. Жил я тогда в Ейске, работал в столярной мастерской. Рабочие не раз поручали мне расклеивать листовки. Кстати, в выпуске прокламаций в те далекие годы в Ейске участвовал и будущий известный писатель Федор Гладков.
Иван Лукич рассказывал негромко, не торопясь, а я, листая альбом, слушал и разглядывал посветлевшие и выцветшие фотографии тех дней. В годы Первой мировой войны побывал молодой Иван Хижняк на турецком фронте, дважды ранен, затем попал на западный фронт. Не раз награжден за храбрость в бою, свидетельство тому еще одна фотография: Хижняк – георгиевский кавалер с лихо закрученными усами.
– Февраль 1917 года меня застал в тифлисской школе прапорщиков, – продолжал рассказ Иван Лукич. – Я уже был членом большевистского кружка, который существовал в школе. Читал нелегальную литературу, участвовал в спорах, беседах, выступал на митингах. После окончания школы прапорщиков опять попал на фронт. В сентябре этого года меня избрали председателем полкового комитета, а в декабре в Харькове вступил в партию большевиков. Партийный билет мне вручал Артем, который тогда возглавлял городскую парторганизацию. Харьков в те дни находился в руках петлюровцев, гайдамаков и эсеров. Когда из Петрограда прибыл отряд во главе с Антоновым-Овсеенко и Сиверсом, к нему примкнули и местные красногвардейцы. Я тогда командовал ротой. После освобождения Харькова Антонов-Овсеенко направил меня на Кубань, в Ейск, для организации красногвардейских отрядов.
В Ейске комитет РСДРП поручил сформировать отряд Красной гвардии большевику Балабанову. Он был мой старый знакомый, рабочий, потом фронтовик. Меня назначили начальником штаба. Мы сформировали этот отряд и по указанию комитета РСДРП боролись с местной, очень сильной, контрреволюционной сворой: белогвардейцами, казаками, монархистами, эсерами… Вскоре мы установили в Ейске советскую власть.
После этого по приказу Военно-революционного комитета я со своим батальоном выехал на защиту Екатеринодара от Корнилова. Там шли тяжелые бои. Город мы отстояли.
– После этого вы вернулись в Ейск?
– Да. Там вскоре произошел контрреволюционный мятеж. При подавлении его я уже командовал полком. Кстати, Ейск дал в те годы Красной Армии одиннадцать революционных полков и четыре батальона. В Центральном музее В.И. Ленина хранится служебная книжка красноармейца на имя Ленина Владимира Ильича. Эту книжку вручила вождю революции в те далекие годы специальная делегация от 195-го Ейского стрелкового полка.
Однажды меня вызвали в штаб Батайского фронта, где я встретился с чрезвычайным комиссаром Юга России товарищем Орджоникидзе. Встреча произошла в вагоне. Были здесь Иван Кочубей и еще несколько командиров частей.
Орджоникидзе расспросил нас о состоянии частей, о борьбе с контрреволюцией. Я чувствовал, что скоро нас перебросят на другой участок. И действительно, в июне по приказу главкома полк погрузили в эшелон и мы прибыли на царицынскую железнодорожную ветку. Здесь бились с отборной офицерской бригадой Деникина. Этой бригадой командовал Марков. Он был известен своей смелостью и жестокостью. В этом бою была разбита его бригада, а сам Марков погиб.
В момент напряженных боев на наш участок прибыл Серго Орджоникидзе. Когда я докладывал ему обстановку, белые прорвались на участке батальона, которым командовал Синица. «Твое решение?» – спросил Орджоникидзе. – «Брошу туда резерв, открою артиллерийский огонь по вражеской коннице», – доложил я. – «Правильно!» Я решил и сам поспешить в район прорыва, крикнул, чтоб дали коня. «И для меня коня!» – сказал Орджоникидзе. Я стал возражать: «Вам нельзя, товарищ чрезвычайный комиссар». – «Я знаю, знаю. Быстро лошадей!» – И мы поскакали к месту прорыва.
Очень смелый, горячий и энергичный человек был товарищ Орджоникидзе. Он сам горел и всех зажигал революционной страстностью.
Иван Лукич помолчал, вспоминая, тяжко вздохнул: ведь многих уже нет, о ком он рассказывал.
– Свела меня фронтовая дорога в те годы еще с замечательными пролетарскими полководцами: Ковалевым, Ковтюхом, Федько, Жлобой, Книгой.
Хижняк взял фотографию – на ней советский генерал: на груди его, кроме наших орденов, четыре Георгиевских креста.
– Василий Иванович Книга. В 1919 году спас мне жизнь. Случилось это так. Я заболел тифом, лежал в госпитале во Владикавказе. Белые захватили город, а меня выдал предатель. Два раза выводили на расстрел, случайно остался жив. Перегоняли из тюрьмы в тюрьму. В Ростове-на-Дону сидел в камере смертников, ждал расстрела.
Хижняк взял книгу, полистал ее, открыл нужную страницу и подал мне:
– Вот, взгляните, как генерал-майор Книга рассказывает об этом случае.
Я взял мемуары и прочел:
«Когда Первая конная подошла к Ростову, от разведки я получил сведения, что в тюрьме находятся около трехсот командиров и комиссаров. Я решил как можно скорее добраться до тюрьмы и освободить заключенных. Я продвинулся со своей бригадой далеко вперед. А потом взял эскадрон и поскорее к тюрьме. И вовремя – белогвардейцы из Дикой дивизии готовились уничтожить заключенных. По моему сигналу буденновцы в несколько минут расправились с палачами. С несколькими бойцами я ворвался во двор тюрьмы, где застал десятка два контрразведчиков. Они успели пробраться по коридорам и открыть стрельбу по арестованным. Я подал команду: «Товарищи, выходите на свободу!»
Я положил книгу, а Иван Лукич улыбнулся:
– Вот так третий расстрел намечался, но не попался я в лапы смерти и на этот раз! А положение было почти безнадежно. Беляки торопились, стали расстреливать арестованных прямо в камерах. Мы забаррикадировали дверь, не пускали в камеру палачей, но долго не продержались бы. Вдруг слышу – началась перестрелка и крик: «Выходите, товарищи!» Это кричал Василий Иванович Книга.
– А позднее приходилось вам встречаться с ним?
– Приходилось. Служили рядом в мирные дни. И в годы Отечественной неподалеку были.
Я попросил Ивана Лукича рассказать об Отечественной: где и как началась для него война.
– Двадцать второго июня 1941 года я находился недалеко от западной границы, в городе Новозыбково. Был я в те дни заместителем командира дивизии. Наша дивизия передислоцировалась в Новозыбково. Я приехал пораньше осмотреть новое место, организовать размещение частей. В общем, когда грянула война, я оказался вблизи границы без войск, с несколькими командирами. 23 июня меня назначили старшим воинским начальником Жлобинского участка. Здесь и в Рогачеве были большие склады боеприпасов, продовольствия, горючего. Я получил приказ уничтожить склады. Очень жалко было уничтожать добро, но врагу же оставить нельзя. Я пошел посоветоваться с секретарем горкома. Предложил раздать имущество воинским частям, сформировать и укомплектовать новые части Красной Армии. Мое предложение было одобрено.
С помощью городской партийной организации полковник Хижняк стал формировать воинские части, вооружал их, обеспечивал всем необходимым, выдвигал на рубежи обороны и сам руководил боем, преграждал путь фашистам. Нарком обороны высоко оценил мужество и инициативу умелого командира. Хижняк был награжден орденом Красного Знамени. После этих событии Хижняк был назначен командиром 117-й стрелковой дивизии. Она сражалась упорно, но вскоре оказалась в окружении. Со всех сторон наседали враги, а боеприпасы были на исходе.
У Ивана Лукича даже голос стал хрипловатым, когда он рассказывал об этой трагической эпопее:
– Приказал я начальнику штаба выводить главные силы, чтоб сохранить их, а сам остался с отрядом прикрытия в сто пятьдесят человек. Я считал, раз командир здесь, то сила отряда увеличится, уверенность бойцов будет крепче. С этим прикрытием мы бились до последнего. Дивизия была спасена. Когда нас в прикрытии осталось восемь человек, я был тяжело ранен пулеметной очередью в грудь…
Бойцы вынесли командира из окружения на носилках. Группу возглавлял старшина Шепелев. Лесами и болотами, голодные и обессилевшие, бойцы все же выбрались к своим. Хижняка на санитарном самолете отправили в Москву. В воздухе на санитарный самолет напал «мессер», обстрелял и подбил его. Самолет упал. Но Иван Лукич остался жив! В бессознательном состоянии его направили в госпиталь.
Командование сделало все, чтобы спасти жизнь отважному командиру. Его лечил известный хирург, академик Сергей Сергеевич Юдин. И поскольку Хижняк находился в тяжелом состоянии, надо было сохранить образ смелого полковника для потомков. Обратились к известному скульптору Вере Игнатьевне Мухиной. Она приступила к работе прямо в госпитальной палате, где лежал Хижняк.
– Я лежал без сознания, – рассказал об этом Хижняк, – и вот однажды пришел в себя, вижу, как в тумане: передо мной женщина в белом. Что же тут надо мной колдует эта женщина? Склонилась она ко мне и говорит: «Я скульптор Мухина, делаю ваш портрет». Вот оно что! Радостно мне стало, но все же чувствую себя очень плохо: «Не до портретов мне сейчас». Она отвечает: «Я не буду вас беспокоить, просто буду смотреть и лепить. Это очень надо!» – «Ну, если надо – лепите».
Вера Игнатьевна работала над скульптурным портретом с вдохновением. Очень ей понравился командир, совершивший много подвигов и теперь страдающий от тяжелых ран. Творческий задор у Мухиной был настолько силен, что она создала один из выдающихся скульптурных портретов. За него она была удостоена в 1942 году Государственной премии. И сегодня стоит бюст Хижняка в зале Третьяковской галереи.
– Мы подружились с Верой Игнатьевной в те дни и позднее переписывались. У меня сохранились ее письма, вот почитайте. – Иван Лукич достал из ящика письменного стола стопку писем. Я раскрыл некоторые конверты и прочитал. Поскольку Юдин и Мухииа – личности весьма примечательные, я привожу эти письма дословно:
«26 июня 1942 г.
Дорогой Иван Лукич, очень была рада, что Вы не забыли и черкнули о себе. Радуюсь за Вас, что начинаете поправляться и раны заживают. Можете сами шинель надеть или еще нет? Я мое обещание не забыла и послала Вам фотокарточки недели через две, как Вы уехали. Так и думала, что письмо не дойдет, ведь говорят, фото посылать нельзя, но я еще раз попытаюсь. За это время сработала еще человека четыре, но Ваша голова, по-моему, лучшая, очевидно, потому, что была очень симпатичная модель! Как будто скоро мои вернутся: муж получил вызов в Москву. Пишите и будьте здоровы. Надеюсь увидеть Вас совсем крепким. Сердечный привет. В. Мухина».
«Дорогой Иван Лукич! Только что С.С. Юдин прочел мне по телефону Ваше послание. Очень рада была узнать о Ваших замечательных успехах на фронте. Кое-что я знала из газет раньше. Примите мое искреннее поздравление по поводу Ваших награждений. Очень рада была узнать о них от Вас лично. Значит, Вы живы и здоровы. А все-таки Сергей Сергеевич Юдин Вас здорово починил! Если будете в Москве, не забывайте нас. Шлю сердечный привет. Оленины тоже.
17 декабря 1943 г. В. Мухина».
– Да, академик Сергей Сергеевич Юдин совершил чудо. Он буквально воскресил меня. С Юдиным я тоже подружился и переписывался.
Хижняк подал мне письмо Юдина:
«Дорогой Иван Лукич!
Очень благодарю Вас за Ваше письмо и добрую па мять и сердечно поздравляю со столькими высокими правительственными наградами. Они ярко знаменуют собой Ваш пламенный патриотизм и Ваше высокое воинское мастерство.
Мое русское сердце наполняется гордым сознанием, что залогом всех Ваших блестящих побед над врагами была и моя скромная победа над Вашей болезнью, когда, увидев Вас среди недостаточно опытных врачей госпиталя, я сразу и бесповоротно решил взять Вас к себе в клинику, в Институт имени Склифосовского, изображение коего Вы узнаете на данной виньетке – заставке моего письма. Здесь по моим указаниям художник изобразил наш институт «ощетинившимся» в памятные дни глубокой осени 1941 года – эпохи обороны нашей первопрестольной Москвы – столицы моей любимой Родины. Пулеметы между колоннадой уже убраны, но кирпичные бойницы остались до сих пор. Я постараюсь, чтобы эти бойницы так и остались навсегда как архитектурный добавок к нашему чудесному зданию и как вещественный символ немеркнущей славы русской доблести и русского оружия.
Я тоже могу рапортовать Вам некоторыми заслугами перед Родиной за время, как мы с Вами расстались. За эти два года я написал и выпустил около десяти отдельных книг по военно-полевой хирургии, помогающих молодым врачам лучше лечить наших раненых. Удалось сделать и некоторые ценные научные работы по хирургии. За них я получил Государственную премию, ученое звание Заслуженного деятеля науки и орден Ленина. За границей труды мои были отмечены исключительно высокой почестью. Я избран Почетным членом Королевского общества хирургов Англии и Почетным членом американского Колледжа хирургов. Из русских я третьим в мире удостаиваюсь столь высокого избрания.
Сам я часто выезжаю на фронт и обучаю армейских хирургов лечению раненых прямо на месте. Сейчас у меня все готово к очередному полету, на этот раз в Вашу сторону на юг.
Крепко жму Вашу руку. Нежно обнимаю Вас. Бейте фашистов беспощадно, истребляйте их всеми способами и везде, где бы ни встретились.
Ваш проф. С. Юдин.
Москва, 18.12.1948 г.»
Наш разговор прервала Нина Андреевна – жена и верный друг Ивана Лукича. Она подала нам чай и, увидев, что я читаю письмо Юдина, сказала:
– Сергей Сергеевич долго лечил Ивана Лукича, сам присутствовал на всех перевязках, увозил его с собой в Куйбышев, когда клиника Склифосовского туда эвакуировалась. Все же он поднял его на ноги. Я учила Ивана Лукича ходить. Руки у него не действовали. Каждый палец мы с ним тренировали, разрабатывали. Ну, ничего, окреп, стал двигаться. Хотели его уволить из армии на пенсию. Куда там! Не та у него натура. Здоров, говорит! Только на фронт поеду, больше никуда! О том, какой он «здоровый», знали. Мне разрешили быть при нем. Я ведь его каждый день перевязывала. Рана его еще не зажила. Подчиненные не подозревали об этом. Он всегда был среди них в полном порядке. Только я знаю, чего это ему стоило!
После лечения – снова фронт. Иван Лукич участвовал в боях на Кавказе, командовал 11-м гвардейским корпусом, освобождал Тамань. Гвардейская Таманская дивизия, которая стоит под Москвой, – мы видим ее теперь на праздничных парадах – входила в 11-й корпус генерала Хижняка и удостоена наименования Таманской именно в те дни, когда он командовал этим корпусом.
Вот что пишет о Хижняке Маршал Советского Союза Гречко, который был тогда генерал-лейтенантом и командовал 56-й армией, куда входил и 11-й корпус: «Хижняк – смелый, решительный и волевой командир. Быстро оценивает обстановку и принимает решения. Энергично и настойчиво проводит их в жизнь».
Иван Лукич принимал участие во многих операциях по освобождению Кавказа. Прорывал он известную своей неприступностью Голубую линию. Она состояла из нескольких укрепленных рубежей – левый фланг упирался в Азовское море, а правый заканчивался на берегу Черного, в районе Новороссийска. В числе других частей, прорвавших линию, был и 11-й гвардейский корпус. В этих боях особенно проявились находчивость и боевой опыт Ивана Лукича.
Вот как Хижняк рассказал о начале этого сражения:
– Мы решили обмануть врага, изменив обычный наш способ ведения боя. Шаблон в каждом деле вреден. На войне – особенно. Потому-то мы и решили начать наступление не днем, не на рассвете, как делали раньше, а глубокой ночью. Мы отказались от артиллерийской подготовки. Основная задача возлагалась на пехоту – надо бесшумно подползти к траншеям фашистов, пустить в ход гранаты и штыки. А уж если дело дошло до штыка, против советского воина никто не устоит! Штык-батюшка не раз выручал русских чудо-богатырей, приносил славу нашему оружию. Мне и самому доводилось ходить в штыковую атаку в годы Первой мировой войны, и я знал цену русскому штыку. Накануне наступления мы провели занятия, потренировали солдат, подучили приемам штыкового боя. Политработники пошли в подразделения, обстоятельно разъяснили замысел и особенности предстоящего ночного удара.
И вот 3 августа, ровно в полночь, поползли бойцы с запасом гранат, с примкнутыми штыками. Бесшумно подобрались к траншеям гитлеровцев и ворвались туда. Наша задумка осуществилась блестяще! К рассвету мы овладели несколькими траншеями и уничтожили до двух третей состава вражеских подразделений! А с рассветом пошли в бой танки, артиллерия. Прорыв развивался. Мы преодолели Голубую линию. Последний вражеский опорный узел на берегу Черного моря – порт Новороссийск был нами освобожден 16 сентября 1948 года.
…После очередного ранения – опять госпиталь. Затем Иван Лукич был назначен заместителем командующего Закавказским фронтом.
После победы над фашистской Германией Хижняк по состоянию здоровья вынужден был уйти в отставку. Как ни тяжко расставаться с армией, но что поделаешь!
Но и на пенсии у Хижняка отдых чисто символический. Не может он сидеть без дела. Вот уже много лет Хижняк шефствует над целинным совхозом «Ейский», причем шефство это не символическое, а самое реальное. «Лесу нужно, строительство может остановиться», – пишет директор совхоза. И спешит Иван Лукич по разным организациям, добивается, чтобы лес дали. Обжился совхоз на целине – новые заботы: инструменты для духового оркестра достать не могут. И в этом помог Хижняк. Но не только просили целинники, были и такие письма: «В 1956 году руководство и рабочие совхоза перевыполнили план и получили шестьдесят четыре правительственные награды». Это большая радость и для Ивана Лукича.
Давняя дружба у Хижняка и с Московским техническим училищем. Он здесь свой человек. Я побывал в этом училище, побеседовал с директором Д.С. Левятовым, поговорил с ребятами, обошел прекрасно оборудованные мастерские. Особенно мне понравилась радиомонтажная мастерская. Тут работа тонкая, все в белых халатах, удобные столы, современное оборудование, дневное освещение.
В музее боевой славы училища Левятов рассказал:
– К тридцатилетию Победы по инициативе Ивана Лукича мы создали этот музей. Хижняк очень помог нам в этом большом и нужном деле.
– Значит, Иван Лукич у вас не только в музее представлен, он и в повседневной работе участвует? – спросил я.
– Да, Иван Лукич больше двадцати лет состоит у нас на партийном учете. Он, можно сказать, нестареющий человек. Когда выступает на партийных собраниях, я слушаю его с восхищением. Он речь ведет не как старый, боевой генерал, а как молодой политработник. У него натура такая кипучая, он всегда с людьми, всегда в делах. Без дела жизни не мыслит.
Одним словом, настоящий советский интеллигент с революционным, военным и гражданским стажем.
Инакомыслящие
Я вспомнил о некоторых встречах за рубежом, и мне показалось, что будет не только интересным, но и полезным рассказать о людях, когда они чувствуют себя в безопасности, не таясь, охотно разговаривают и даже любят пофилософствовать.
Один из советских лайнеров зафрахтовала английская фирма. Он плавал по различным морям и океанам. Плавал на нем однажды и я в качестве туриста. Вмещает корабль больше трехсот пассажиров, народ очень разный. И вот однажды в Австралии сели на этот корабль русские. Их было много. Они решили плыть на советском корабле, посмотреть на наш теплоход, поговорить с соотечественниками. Большинство из этих людей выехали за границу на заработки еще до революции, да так и застряли в чужих краях. Это были скромные люди, они тяжелым трудом добывали свой хлеб, очень скучали о родине, радовались ее процветанию и сожалели, что остались в стороне от великих дел, которые мы совершили в своей стране.
Но были среди этих людей личности и с другим образом мыслей. Особенно отличался один выродок, не хочу называть его фамилию, назовем его С. Он предатель, перебежал к фашистам в начале войны, был власовцем, боролся с партизанами, истязал своих же украинцев, белорусов, в общем, был палачом. Боясь кары, сбежал на Запад вместе с фашистскими недобитками. Теперь бродит по свету в поисках заработка. А что он умеет делать? Убивать, пытать, вешать. Этим он и занимается. На такую работу его и берут. Бесчинствовал он в Африке, в отряде, подавлявшем освободительное движение в колонии. Побывал в Корее, когда там шла война. Служил вышибалой в ночном притоне. Сидел в тюрьме за кражи. Вот вам его лицо. Этот подонок за деньги на все пойдет. Тупой и недалекий, внешне он похож на гиену: почти без шеи, плечистый, взгляд медлительный и по сторонам все время будто озирается, чего-то боится – сразу видно: совесть у этого человека очень и очень нечистая!
В плавании С. частенько пьянствовал. Пил без закуски, чтобы быстрее захмелеть – денег-то не густо. Ну а когда напивался, вот тут и лезла из него черная предательская душа. Сначала он себя слезливо жалел, с поникшей головой говорил тихо:
– Брожу по свету, как собака бездомная. Везде и всем чужой. Однажды стояли мы под Витебском, летят в небе немецкие самолеты с крестами. Я говорю: «Наши!» А немец, ефрейторишка, поглядел на меня, как на гниду, и сказал: «Нет, наши!» Вот год я за него кровь проливаю, а он «нет, наши». На всю жизнь обидел меня тогда паршивый фриц. Везде слышу его слова, все чужое, все не мое. У всех есть дом, угол. А меня вышвырнули. Ну, погодите! Я еще вам о себе напомню. Мало я вашего брата вешал! Теперь пощады никому не дам! Я еще погуляю на своей родине. Придет время. Ух, как я вас ненавижу!»
Вот, друзья, как тоскует по родине враг и зачем он хочет вернуться на нашу землю.
В Лондоне познакомился я с бывшим русским помещиком. Он сам ко мне подошел, представился:
– Я ваш соотечественник, штабс-капитан Глебов. Не сочтите за бестактность. Тоска по родине вынуждает меня обеспокоить вас. Каждое слово о России… И так далее. Очень галантный, чистенький старичок, старается показать свою офицерскую выправку, держится прямо, щелкает каблуками, поклон одной головой. Мне трудно было сдержать ироническую улыбку – всего-то лет пять был этот человек офицером и вот уже пятьдесят лет щелкает каблуками, тянется, гордо выпячивает сухонькую грудь – играет в офицера. До революции он был помещиком, имение его было где-то под Рязанью. Он с тоской говорит о русских лесах, о липах, которые сам посадил под окном своего дома. А когда я спросил, где он был в годы Гражданской войны, старичок вяло махнул желтой рукой: «У Колчака, у Анненкова».
– А в годы Отечественной? – полюбопытствовал я.
Печальная грусть старичка совсем улетучилась, глаза его стали колкими, но на лице он все еще старался сохранить усталую мечтательность.
– Служил в немецкой армии. Последняя вспышка надежды, ужасно хотелось увидеть родную землю! Но теперь я смирился навсегда. Дело наше проиграно. Если бы вы знали, как я ликовал, как весь день ходил с гордо поднятой головой, когда в космос взлетел Гагарин – наш, русский!
– А дети у вас есть?
– Трое – два сына и дочь. Может быть, им посчастливится вернуться на родину! Почти каждую ночь мне снится Россия. Вам неведомо это странное, сладкое и невыносимое чувство тоски по родине. Один мой приятель, бывший офицер Его императорского величества кирасирского кавалерийского полка, работает ночным уборщиком в бильярдной. Он мог бы, конечно, найти место почище – шофером такси или официантом, но решил навсегда остаться в бильярдной. И знаете почему? Кирасиры носили медные нагрудники и такие же каски, а в бильярдной – медные урны. Ночью, когда в бильярдной никого нет, мой приятель начищает эти медные урны до блеска, выстраивает их и командует, как доводилось когда-то на параде в Петербурге.
Я смотрел на этого человека, как на музейный экспонат – живой помещик, белогвардеец, такой тихий и смирный. А как он зверствовал и лютовал, наверное, в бандах Анненкова и под фашистской свастикой! Нет, не верю я ему! Есть среди русских эмигрантов и порядочные люди, они отошли от политических и военных дел. Но Глебов не упустил ни одной возможности, чтобы попытаться вернуть свое имение под Рязанью. Где работают, чем занимаются его дети, рассказывать не стал – глаза его опять холодно кольнули, словно булавки. Вскоре он откланялся, опять подчеркнуто, по-офицерски. После разговора с ним эта выправка уже не вызывала у меня улыбки. Нет, здесь не только игра. Не смирился старичок! Он поддерживает свою внутреннюю строевую собранность в надежде, что она еще пригодится. Случись какая-нибудь крупная авантюра – и Глебов, и его друг, командующий надраенными плевательницами, опять пойдут с врагами на нашу землю под любыми знаменами.
Довелось мне разговаривать и с бизнесменами, и с предпринимателями в разных странах. Это были неофициальные разговоры, часто короткие, случайные, какие обычно ведут туристы. Бизнесмены не были похожи на карикатуры, которые рисуют в газетах. Все они были вежливые, тактичные люди, говорили любезно, и трудно было представить, что такие вот, как они, по сути дела, и являются зачинщиками и вдохновителями агрессий, военных нападений, мятежей, лишь бы прибрать к рукам новые рынки сбыта, сырьевые источники, получить побольше прибыли.
Особенно запомнился американский делец – он тоже восхищался нашей Родиной. Холеный, румяный, благоухающий отличным одеколоном, мистер Прайс просто причмокивал от удовольствия губами, когда мы разговорились с ним в Версале, любуясь фонтанами.
– Ваша Россия – это колоссаль! Это не страна, а хранилище, набитое богатствами. У вас доллары под ногами, вы не умеете их собирать! Нефть, уран, золото! Ах, если бы мне позволили приложить руки. Вы знаете, я бы даже ничего не строил, ничего не добывал из земли. Я бы просто создал туристскую компанию, позвал бы людей и показывал: смотрите на эти богатства, любуйтесь этой красотой! Я бы привез в Россию весь мир! И получил бы за это вагоны долларов! Вы не умеете это делать. Я много раз бывал в вашей стране. Я привозил с собой много денег, но ваши туристские компании, ваш сервис не смогли забрать у меня эти деньги.
– Наш сервис рассчитан на простых людей, – возразил я. – Мы имеем в виду, что туристы зарабатывают деньги на обычной работе, у них нет лишних денег, а отдыхать должны все…
– Нет, я с вами не согласен. Я не могу уважать людей, которые не могут взять у меня деньги, мне не нравятся порядки, при которых я за свои деньги не могу получить удовольствия.
– Да, мы не успели еще взять от природы все, но не забывайте, мистер Прайс, больше десяти лет пришлось вести оборонительные войны, вторые десять лет – залечивать раны. Ну а если еще напомнить, что после революции и Гражданской войны мы начинали строительство почти с нуля, то за немногие годы мирной жизни мы совершили просто чудо: из неграмотной и отсталой страны создали мощное многонациональное государство.
– Да, работать вы умеете! Работать! Работать! Это, пожалуй, самый главный призыв вашего времени. Но мне все-таки очень жалко, что вы ходите по деньгам и даже не нагибаетесь, чтобы поднять их!Для разнообразия расскажу вам о типе, отличающемся от тех, с кем вас уже познакомил. Однажды мы с женой осматривали исторические достопримечательности Парижа. Нам несколько раз встречался молодой человек с длинными, по моде отпущенными волосами и пристальным взглядом. Глаза у него были черные, немигающие, смотрел в упор, жестко, будто хотел подойти и сказать что-то неприятное.
Этот человек появлялся у гробницы Наполеона, у Эйфелевой башни, у дома, где жил Ленин, и в других местах, которые обычно посещают приезжие, поэтому мы посчитали его за туриста. Но однажды, улучив момент, когда я был один, молодой человек быстро подошел ко мне и без долгих объяснений сказал по-русски:
– Мне нужно с вами поговорить.
– Пожалуйста, мы уже говорим.
– Я бы предпочел наедине.
– Мне кажется, нам и сейчас никто не мешает.
– Ну, хорошо, – согласился молодой человек и продолжал, понизив голос: – Я из журнала «Посев», знаю, что вы писатель. Может быть, у вас есть какие-то произведения, которые не пропускает «советская цензура», – мы готовы их опубликовать.
Я знал о существовании этого журнала и о его антисоветской направленности, в общем, понимал, с кем имею дело. Как поступить? Обругать за оскорбительное предложение? Послать наглеца к черту или куда-нибудь еще дальше? Но этот тип может устроить скандал, пойти на любую провокацию. Поэтому я решил отвязаться от него спокойно и даже в какой-то мере удовлетворить свое писательское любопытство. Я сделал вид, будто ничего не знаю о журнале.
– Скажите, пожалуйста, кого представляет, чей печатный орган «Посев»?
– Мы представляем истинных патриотов России, с нами те, кто любит Родину и желает ей добра. Мы печатаем подлинно художественные ценности.
– Значит, вас интересует чистое искусство?
– Да.
– Но такого искусства нет, оно всегда несет в себе политический заряд, что-то утверждает или опровергает.
– Мы не согласны с этой марксистской теорией, мы за чистое искусство!
– Но ваш журнал назван так многозначительно – «Посев» – значит, он не нейтральный, а что-то сеет?
Молодой человек не смутился и, продолжая смотреть на меня строгими черными глазами, сказал:
– Вы прекрасно понимаете, о каких произведениях я говорю. Я сам недавно вырвался «оттуда». В общем, если у вас есть что-то с собой – давайте нам. Если оставили дома – там, – молодой человек махнул рукой, имея в виду нашу страну, – мы можем помочь вам переправить сюда. Если вы раньше не писали таких вещей, но можете их создать, мы готовы поддерживать с вами связь и даже выдать аванс.
– А если я не чувствую потребности писать антисоветские вещи?
Молодой человек молчал. Молчание его было достаточно красноречиво, он был сердит на меня.
На этом мы расстались.
Самое удивительное – все эти люди говорят, что они любят нашу страну! Какие различные стремления порождает эта любовь в каждом из них: один хочет крушить, вешать и убивать; другой – качать из нашей земли богатства: третий – опутать людей ложью. Все эти люди говорят по-разному, но они из одной стаи, и объединяет их не любовь, а главным образом лютая ненависть к Советскому Союзу.
И напомню тему нашего разговора – все эти люди считают себя интеллигентами…Полководец
Великая Отечественная война – труднейшее испытание Советской державы, ее народов, армии, да и каждого человека, это годы величайшего мужества и геройства в боях и трудовых подвигов в тылу.
Главными героями победных сражений были военные – от солдата до маршала. И вот, после блестящего разгрома фашистской армии кое у кого (и таких не мало – все средства массовой информации к их услугам) поднимается подлая рука, и поворачивается злобный язык говорить и писать о якобы безграмотных и бесталанных наших военачальниках. Ушаты помоев вылили «демократы» на Жукова, самого крупного и победоносного полководца XX века. Не стану приводить примеры этой клеветы и опровергать ее.
Среди приведенных выше представителей социальной иерархии советского времени – рабочих, колхозников, интеллигентов – считаю необходимым и правомерным показать труд, талант и военное искусство полководца хотя бы в одной крупнейшей операции. Я даже не беру в пример признанные всем миром блестящие победы под Москвой, Сталинградом, на Курской дуге.
Познакомлю гражданских читателей, и особенно молодых, с малоизвестным для них сражением на Висле и Одере.
Варшавско-Познаньская операция, которая переросла в Висло-Одерскую – произведение высочайшего полководческого искусства маршала Жукова. Если во многих крупных стратегических операциях он был координатором действий нескольких фронтов и в них был заложен замысел Ставки, большую роль играли командующие фронтами как разработчики плана и исполнители его, то в этой операции Жуков – единоначальник, творец и осуществитель с начала и до победного конца.
Жуков сказал новое слово в военном искусстве —применил оригинальный способ прорыва глубокоэшелонированной обороны противника на большую глубину в кратчайшие сроки.
Подобной битвы в истории войн не было! По красоте, лихости, быстроте, результативности это сражение войдет в историю военного искусства как один из блестящих примеров талантливого новаторства полководца. Историки и теоретики военного дела, на мой взгляд, еще не оценили, не придали должного значения в своих трудах Висло-Одерскому шедевру мастерства Жукова.
После таких подступов, наверное, пора перейти к описанию самой Висло-Одерской операции. Однако она настолько сложна, многопланова и многоступенчата, что изложить ее коротко и доступно для широкого круга читателей невозможно. Но образное, художественное описание дает возможность показать суть дела наглядно и более доходчиво, чем в пухлом профессиональном, научном изложении.
Даже не искушенные в военных делах читатели, наверное, слышали о «кумулятивных» и «подкалиберных» снарядах. Для тех, кто не слышал, поясню. С увеличением толщины брони танков появилась необходимость увеличивать пробивную способность снарядов.
Большим по величине снарядом можно пробить и более толстую броню. Но такой снаряд должна выстреливать и более крупная пушка. А большая пушка не годится для стрельбы прямой наводкой в борьбе с танками. Для противодействия маневренным и быстроходным танкам необходима также подвижная, легкая пушка. Да и производство тяжелых пушек и снарядов стоит гораздо дороже. Изобретатели и военные ученые пошли по пути создания более пробивных снарядов для пушек, уже имеющихся на вооружении армии. И создали. Кумулятивный снаряд, в котором благодаря особой конфигурации взрывчатки внутри снаряда увеличивается ударная сила взрыва, направляя ее не вразброс, как в осколочном для поражения живой силы, а в одном направлении. Для сравнения представьте себе увеличительное стекло, которое собирает солнечные лучи в пучок и прожигает или поджигает дерево или бумагу, на которую этот луч направлен.
Очень оригинально и экономно решили военные ученые проблему пробойной силы изобретением еще и подкалиберного снаряда. Сохранив внешнюю конфигурацию и калибр, пригодный для стрельбы из существующих пушек, они вставили внутрь снаряда сердечник (разумеется, описываю я это упрощенно). И вот снаряд по старому расчету бьет в броню, пробивает ее или недопробивает, на этом его расчетная функция свершилась. А тяжелый сердечник, находящийся внутри снаряда, продолжает полет по инерции, да еще толкаемый силой взрыва, добивает броню (если снаряд ее не прошиб) и, влетая внутрь танка, поражаетв нем экипаж и оборудование. Следовательно, в противотанковом снаряде его пробивную силу увеличивает вот этот самый сердечник, находящийся внутри основного калибра, поэтому и название такое – подкалиберный.
А теперь нам придется заглянуть в далекую историю – в 1916 год, четвертый год Первой мировой войны. Тогда из-за появления большого количества пулеметов и скорострельной артиллерии стало почти невозможным прорывать оборону, хорошо оборудованную в инженерном отношении. Война стала изнурительно-позиционной. Войска долго стояли на одних позициях, все попытки прорыва приводили к неудачам и большим потерям.
Наконец, в июне 1916 года командующий Юго-Западным фронтом русский генерал Брусилов нашел способ прорыва позиционной обороны. Он, имея почти равные с противником силы (573 тыс. штыков и сабель против 448 тысяч; легкой артиллерии 1770 против 1301, но, уступая в тяжелой артиллерии более чем втрое: 168 против 545 орудий), решил, наступая на всем фронте создать на нескольких участках, намеченных для прорыва, превосходство в 2—2,5 раза.
Благодаря этому «изобретению» Брусилов прорвал фронт противника на 70 километров на одном из участков и за три дня продвинулся в глубину на 25—30 километров и взял город Луцк. Через неделю войска Брусилова разгромили 4-ю австро-венгерскую армию эрцгерцога Иосифа-Фердинанда и продвинулись на глубину 65—75 километров. Дальнейшее (вполне возможное) развитие прорыва было остановлено из-за отсутствия резервов, пассивности соседей и противодействия свежих частей противника.
В этом сражении, в течение мая—июля, противник потерял полтора миллиона только убитыми, а российская армия – 500 тыс.
Некоторые теоретики считали, что оборона благодаря современному инженерному оборудованию и массовому насыщению пулеметами и артиллерией стала неодолимой для наступления.
Брусиловский прорыв вошел в историю военного искусства как новая форма прорыва позиционной обороны.
Этим способом прорыва широко пользовались полководцы всех воюющих государств во Второй мировой войне, в их числе и Жуков.
А то, что изобрел Георгий Константинович в Висло-Одерской операции, по вкладу в военное искусство не менее значимо.
Жуков прибыл в Люблин, в штаб 1-го Белорусского фронта, 15 ноября 1944 года (начальник штаба генерал М.С. Малинин, член Военного совет К.Ф. Телегин) и на следующий день вступил в командование. Рокоссовский в этот же день убыл на 2-й Белорусский фронт.
На сей раз маршал Жуков «скрестил шпаги» с командующим группой армий «А» генерал-полковником И. Гарпе, и не только с ним, но и с самим верховным главнокомандующим Гитлером, потому что 1-й Белорусский фронт стоял на Берлинском направлении, и этому участку уделялось постоянное внимание всего военного руководства Германии, здесь были сосредоточены главные силы.
Перед фронтом Жукова была выявлена всеми видами разведки мощнейшая оборона глубиной до 500 километров, с семью оборудованными мощными укрепленными рубежами. На каждом рубеже до трех позиций, и в каждой позиции по нескольку траншей, опять же последовательно одна за другой. И всюду минные поля, проволочные заграждения, надолбы и рвы против танков, доты и дзоты, врытые в землю танки, орудия прямой наводки, бесчисленное количество пулеметов, пушек, минометов. В глубине обороны – авиация на ближних и дальних аэродромах. Ну и, наконец, эти позиции занимала и совершенствовала самая главная сила – войска, солдаты, офицеры, генералы, хорошо обученные, прекрасно владеющие оружием.
Жукову надо пробить всю эту оборонительную махину, выполненную в семи вариантах (рубежах), каждый глубиной 10—15 километров со всеми ловушками, отсечными и ложными позициями общей глубиной, повторяю, 500 километров. (Брусилов прорывал всего один такой десятикилометровый рубеж.)
Прикиньте: как пробивать такую оборону?
Не станем мучиться долго в предположениях, воспользуемся опытом известных нам полководцев.
Маршал Еременко, наверное, тщательно изучил бы позиции противника, нашел бы и них слабые места, сосредоточил бы там главные силы и стал прорывать один рубеж за другим.
Маршал Рокоссовский в проведенных им операциях показал большую гибкость – он любитель фланговых ударов, обходов. И в этом случае он прорвал бы оборону на каком-то узком участке и стал бы сматывать рубеж за рубежом, громя их с фланга и тыла.
Что изобрел (не боюсь этого сравнения – анализ, изучение ситуации и находку в методе вполне можно приравнять к научному открытию, изобретению, ну а коль скоро мы говорим об искусстве, к блистательному проявлению этого самого военного искусства) Жуков: пропорол все семь рубежей одним ударом на всю глубину в 500 километров в феноменально короткий срок – за 15 дней!
Чтобы пройти 500 километров пешими колоннами без боев, нужно именно столько дней и ночей – по уставу суточный переход – 45 километров. 500: 45=12 суток; после каждых трех дней перехода полагается отдых – сутки. Вот и получается 15 суток обычного марша без боевых действий.
Как же можно за 15 дней пробить такую махину с боями?!
Оказывается, можно, в этом и проявилась талантливость и гениальность полководца Жукова.
Вот теперь нам понадобятся ранее приведенные пояснения о подкалиберных снарядах.
Наметив три участка для прорыва обороны противника, Жуков создал на этих главных направлениях пробивные мощные танковые кулаки. Например, с Магнушевского плацдарма, после первого удара трех общевойсковых армий, били в наметившийся прорыв две танковые армии (по взятой нами аналогии – кумулятивные противотанковые снаряды с мощной пробивной силой, направленной в одном направлении).
И как только эти танковые армии пробивали главный оборонительный рубеж, дальше, в глубину обороны, устремлялись передовые отряды (подкалиберные сердечники!) и мчались вперед в пространстве, не имеющем плотного насыщения войсками (они остались позади на главном рубеже).
Таким образом, построив войска по принципу действия подкалиберного снаряда, Жуков пробил мощнейшую оборону противника на глубину 500 километров в невиданно короткие сроки.
Причем передовые отряды были введены Жуковым на трех направлениях. Они не только пробились в глубину, но дезорганизовали, деморализовали войска на тыловых рубежах и помогли следующим за ними армиям расширить прорыв до 500 километров по фронту.
Левее фронта Жукова 12 января перешел в наступление (на два дня раньше) 1-й Украинский фронт под командованием маршала Конева. Правее 13 января (на день раньше) двинулся вперед 2-й Белорусский фронт Рокоссовского. Эти фронты наступали успешно и продвинулись на несколько десятков километров.
Фронт Жукова ударил 14 января, да так, что через два дня войска 1-го Белорусского фронта догнали и обогнали ушедших ранее вперед соседей справа и слева.
Чтобы долго не описывать сложные перипетии сражения, приведу цитату (ее и Жуков использовал в своих воспоминаниях) из книги немецкого генерала Типпельскирха: «К вечеру 16 января на участке от реки Ниды до реки Пилицы уже не было сплошного, органически связанного немецкого фронта. Грозная опасность нависла над частями 9-й армии, все еще оборонявшимися на Висле у Варшавы и южнее. Резервов больше не было».
Благодаря таким успешным действиям 1-й Белорусский фронт не только осуществил план Варшавско-Познаньской операции, но сражение приобрело более широкие и глубокие масштабы и переросло в крупнейшую в истории войн Висло-Одерскую операцию, осуществленную двумя фронтами – 1-м Белорусским (Жуков) и 1-м Украинским (Конев) при содействии 2-го Белорусского (Рокоссовский).
Жуков настолько опережал своих соседей, что Сталин был вынужден сдерживать его:
– С выходом на Одер вы оторветесь от фланга 2-го Белорусского фронта больше чем на 150 километров. Этого сейчас делать нельзя. Надо подождать, пока 2-й Белорусский фронт закончит операцию в Восточной Пруссии и перегруппирует свои силы за Вислу.
– Сколько времени это займет? – спросил Жуков.
– Примерно дней десять. Учтите – 1-й Украинский фронт сейчас не сможет продвигаться дальше и обеспечивать вас слева, так как будет занят некоторое время ликвидацией противника в районе Оппельн – Катовице.
Жуков понимал: противник деморализован и не способен сейчас на упорное сопротивление и поэтому настаивал на своем:
– Я прошу не останавливать наступление войск фронта, так как потом нам будет труднее преодолеть Мезерицкий укрепленный рубеж. Для обеспечения нашего правого фланга достаточно усилить фронт еще одной армией.
Сталин обещал подумать. Но время шло, а никакого решения Верховный не сообщал. В это время Жуков получил данные разведки о том, что Мезерицкий укрепленный район на многих участках не занят немецкими войсками.
Командующий группой армии «А» И. Гарпе не успевает отводить части, которые остались на первых рубежах. А Гитлер опаздывает с выдвижением резервов из глубины.
Жуков, не дожидаясь ответа Верховного и не принимая во внимание его рекомендацию приостановить наступление, решил ускорить продвижение войск к Одеру и захватить на его западном берегу плацдармы.
Равные силы фронта (как кумулятивные снаряды!) ударили на определенных направлениях и пробили Мезерицкий укрепленный рубеж с незначительными силами противника. И тут же (как подкалиберные сердечники!) Жуков опять запускает передовые отряды для захвата переправ и плацдармов на Одере.
Жуков в своей книге с явным удовольствием напоминает имена прекрасных офицеров и солдат, которые поняли замысел своего командующего и отлично выполнили этот маневр.
«Огромная заслуга в захвате плацдарма принадлежит передовому отряду 5-й ударной армии. Возглавил этот отряд заместитель командира 89-й гвардейской стрелковой дивизии полковник Х.Ф. Есипенко…
В состав отряда входили 1006-й стрелковый полк 266-й стрелковой дивизии, 220-я отдельная танковая бригада во главе с полковником А.Н. Пашковым, 89-й отдельный тяжелый танковый полк, истребительный противотанковый полк и 489-й минометный полк».
Вот какой «подкалиберный сердечник» запускал Жуков впереди главных сил, пользуясь благоприятной обстановкой!
Дальше маршал пишет:
«Появление советских войск в 70 километрах от Берлина было ошеломляющей неожиданностью для немцев.
В момент, когда отряд ворвался и город Кинитц, на его улицах спокойно разгуливали немецкие солдаты, в ресторане было полно офицеров. Поезда по линии Кинитц – Берлин курсировали по графику, нормально действовала связь».
Далее Жуков с восхищением рассказывает, как смельчакам в передовых отрядах пришлось тяжело удерживать захваченные плацдармы. Гитлеровцы понимали, какими непоправимыми бедами для них станут эти наши вклинения на противоположный берег Одера, который они намеревались превратить в непреодолимый, последний рубеж перед Берлином.
Передовые отряды совершили невозможное, они удержали плацдармы до подхода главных сил. Многие погибли, многие стали Героями Советского Союза в этих боях. Но с приходом главных сил напряжение не ослабло. Наоборот, подходили новые резервы гитлеровцев, и сражение разгоралось с еще большей силой.
Символический поединок маршала Жукова с командующим 9-й немецкой армией генералом С. Лютвицем и командующим группой армий «А» генералом И. Гарпе завершился победой Жукова. Гитлер снял обоих этих командующих и заменил первого генералом Г. Буссе, второго – генералом Ф. Шернером (которого вскоре произвел в фельдмаршалы).
Воздавая должное Жукову, мы, конечно, понимаем, что блестящее осуществление операции не только его заслуги. Но, к сожалению, нет возможности описать трудности, которые преодолевали солдаты, и сложнейшие, подчас критические ситуации, возникавшие перед командирами всех степеней, от сержанта до генерала в многотысячных побоищах людей и техники. Они были опытные мастера тяжелейшего на земле военного дела, прошедшие за годы войны огни, воды, госпитальные кровати, где не раз ощутили холодное дыхание смерти.
Сколько бы ни заняли места имена ближайших соратников маршала Жукова в этом сражении, я считаю обязательным назвать их, хотя бы самых близких, кого он видел тогда в лицо, говорил по телефону или радио, кто вкладывал все силы и душу, рисковал жизнью ради выполнения его замыслов, и, по сути дела, все они были соавторами Георгия Константиновича в этой блестящей победе (позднее некоторые из них стали маршалами, но в те дни они были еще генералами): командующий 8-й гвардейской армией Василий Иванович Чуйков, 5-й ударной армией Николай Эрастович Берзарин, 61-й армией Павел Алексеевич Белов, 3-й ударной армией Василий Иванович Кузнецов, 69-й армией Владимир Яковлевич Колпакчи, 47-й армией Франц Иосифович Перхорович, 33-й армией Вячеслав Дмитриевич Цветаев, 1-й гвардейской танковой армией Михаил Ефимович Катуков, 2-й гвардейской танковой армией Семен Ильич Богданов, 16-й воздушной армией Сергей Игнатьевич Руденко, командующий 1-й армией Войска Польского Станислав Гилярович Шоплавский, командир 2-го гвардейского кавалерийского корпуса Владимир Викторович Крючков, 7-го гвардейского кавалерийского корпуса Михаил Петрович Константинов. Все они Герои Советского Союза, а кое-кто – дважды.
Чтобы не сложилось впечатление, что в этой операции успех давался Жукову очень легко и наступление развивалось быстро и стремительно по взмаху его маршальской длани, расскажу не об обычных трудностях при организации и проведении таких грандиозных сражений, а о дополнительных к обычным, возникших только в этой операции.
Как всегда, перед наступлением надо было произвести перегруппировку и построить огромное количество войск на местности, согласно замыслу Жукова. В обычных условиях это занимает много времени, потому что передвижения с целью маскировки совершаются только ночью.
Для перегруппировки войск перед Варшавско-Познаньской операцией были такие невероятно трудные условия, что нарочно не придумаешь.
Наступление должно было начинаться с двух плацдармов, ранее захваченных на западном берегу Вислы, – Магнушевского и Пулавского. На эти плацдармы надо было переправить огромное количество войск и техники. Например, на Магнушевский три общевойсковые и две танковые армии!
Как бы ни маскировались, такую массу войск спрятать невозможно. Гитлеровцы без особых усилий разведки понимали, для чего сосредоточиваются эти войска на Берлинском направлении, и поэтому использовали удобный момент, пока наши соединения так скучены, бомбили их днем и ночью.
Раньше нашим поискам оказывали большую помощь своими боевыми действиями и разведкой партизанские отряды. Теперь в тылу врага партизан не было. Ведение разведки очень усложнилось. И наоборот, в тылу наших войск действовали теперь бендеровские и другие националистические банды и многочисленная агентура противника. Теперь железнодорожные пути, мосты на шоссейных дорогах, связь, работа тыловых учреждений постоянно подвергались нападениям этих банд.
* * *
По этому поводу придется сделать небольшое отступление. В новых, необычных для действия советских войск условиях Жуков опять проявляет находчивость и широту мышления. Для экономии сил и средств маршал предлагает свернуть партизанское движение, поскольку с выходом на территорию Румынии, Польши и Германии партизанские отряды фронтового подчинения уже не могли действовать так эффективно, как на советской земле при поддержке своего населения.
Вносить такое предложение было в некоторой степени даже опасно для Жукова. Шутка ли – ликвидировать партизанское движение!
Это движение курировал близкий к Сталину маршал Ворошилов. Предложение Жукова прямо затрагивало интересы Ворошилова и лишало его авторитетного поля деятельности (а в годы войны, как известно, Климент Ефремович ничем особенно не отличился). В общем, Ворошилов мог «надуть в уши» Сталину все что угодно, вплоть до пособничества Жукова противнику.
Но государственные и военные интересы для Жукова были выше каких-либо личных желаний, и маршал написал Сталину следующее письмо:
«Штабы партизанского движения при фронтах в настоящее время, в связи с освобождением нашей территории от противника, потеряли свое значение. Сейчас, кроме Прибалтики, штабы ничего не делают.
Я считаю: штабы партизанского движения при фронтах нужно ликвидировать.
Прошу Вашего решения.
...
Жуков
4.09.1944 г., 20.30».
С выходом наших войск на территорию сопредельных государств «партизанская ситуация» как бы поворачивалась на 180 градусов: теперь в тылу наших войск развили активную диверсионно-террористическую деятельность враждебные нам силы, которые организовывало, вооружало и снабжало гитлеровское командование, – это бандеровцы, националисты различных мастей и окрасок, аковцы – бывшие офицеры и солдаты Армии краевой, руководимые польским эмигрантским правительством, и другие просто бандитские отряды.
Насколько они затрудняли боевые действия и снабжение советских войск, видно из таких вот докладных.
«Начальнику Генерального штаба Красной Армии.
28.10.1944 года в 9.00 в районе ст. Быстрица (15 км сев. Люблин) на складе авиабомб в ВА, при разгрузке эшелона с боеприпасами, произошел взрыв, который продолжался до 14.00 28.10.44 г.
По предварительным данным взрывом уничтожено 300 вагонов боеприпасов и 10 тонн д. т., убито 100 человек и ранено 200—300 человек, главным образом местных жителей… Причины взрыва пока не установлены…»
Шестая воздушная армия была придана войскам 1-го Белорусского фронта, и потеря 300 вагонов бомб конечно же была для Жукова и для его наступающих войск ощутимым ослаблением авиационной поддержки.
Из другого донесения:
«13 октября 1944 года аковцы организовали восстание в 31-м полку 7-й польской стрелковой дивизии. В результате бунта ушли в леса 1661 солдат и 81 офицер. Бунтовщики убили русских офицеров. Они призывают другие польские части переходить на их сторону, а мирному населению приказывают уклоняться от мобилизации и вступать в А.К. Деятельность А.К. по разложению Польского войска облегчается засоренностью подразделений и штабов Польского войска агентурой А.К....»
Во многих донесениях говорится об уничтожении партийных работников, милиции и советских учреждений. Террор приобрел массовый характер, нападения совершались на госпитали, колонны войск, склады и штабы тыловых учреждений.
Жуков и в этом случае не ограничивался только своими мерами, он считал, что необходимо организовать специальную службу по охране тылов и борьбе с бандитами, о чем также написал докладные в Генштаб и Берии.
Последний ответил:
«1-й Белорусский фронт – тов. Жукову, Телегину.
Для ликвидации оуновских банд органами и войсками НКВД проводятся чекистские и войсковые мероприятия. Руководят борьбой с бандитизмом на территории Ровенской и Волынской областей зам. НКВД УССР генерал-лейтенант СТРОКАЧ, в западных областях Белоруссии зам. НКГБ СССР тов. КОБУЛОВ.
Усилена охрана железнодорожных мостов и полотна.
Проводимыми в настоящее время мерами обеспечивается выполнение задачи по ликвидации оуновского бандитизма и в первую очередь задача охраны от диверсионно-террористической деятельности фронтовых коммуникаций и военных объектов.
...
Л. Берия
23 декабря 1944 г. № 533».
* * *
Перегруппировка, подвоз боеприпасов, горючего, продовольствия и других видов обеспечения требовали гораздо большего времени, чем при подготовке менее сложных операций. Но случилось такое непредвиденное обстоятельство, из-за которого время подготовки пришлось не увеличить, а сократить! Начало Варшавско-Познаньской операции намечалось Ставкой на 20 января 1945 года. Но за месяц до этого, как знают читатели, гитлеровцы нанесли союзникам сокрушительный удар в Арденнах, они собирались сбросить в море часть соединений американцев и англичан и окружить остальные, отрезанные от снабжения по морю, в глубине территории Франции.
Премьер-министр Англии Черчилль обратился к Сталину с просьбой выручить союзников из создавшегося для них тяжелого положения. Приведу только часть его письма.
«На Западе идут очень тяжелые бои, и в любое время от Верховного Командования могут потребоваться большие решения. Вы сами знаете по Вашему собственному опыту, насколько тревожным является положение, когда приходится защищать очень широкий фронт после временной потери инициативы… я буду благодарен, если Вы сможете сообщить мне, можем ли рассчитывать на крупное русское наступление на фронте Вислы или где-нибудь в другом месте в течение января… Я считаю дело срочным».
7 января 1945 года, когда подготовка к наступлению с плацдармов на Висле шла очень напряженно, Сталин в своем ответе Черчиллю сообщил:
«Мы готовимся к наступлению, но погода сейчас не благоприятствует нашему наступлению. Однако, учитывая положение наших союзников на Западном фронте, Ставка Верховного Главнокомандования решила усиленным темпом закончить подготовку и, не считаясь с погодой, открыть широкие наступательные действия против немцев по всему Центральному фронту не позже второй половины января».
Учитывая военную неудачу, которая произошла у союзников, Ставка нашла возможным начать наступление даже не во «второй половине января», как обещал Сталин, а перенесла начало сражения с 20 на 12 января.
Это осложнило работу Жукова и всех других участников операции. Пришлось корректировать документы, сокращать сроки подвоза снаряжения, ну и вообще все мероприятия осуществлять в более ускоренном темпе. А это могло повлиять на качество подготовки и успех боевых действий. Но, слава богу, обошлось!
Наши войска свои задачи выполнили и союзников поручили, немцы прекратили наступление в Арденнах и стали перебрасывать части на Восточный фронт.
Но в это время возникли главные трудности, которые подстерегали Жукова именно тогда, когда он радовался захвату плацдармов на Одере и был готов к успешному продвижению на Берлин.
Не тут-то было! Все могло стремительно перевернуться, и войска Жукова не только потеряли бы захваченные плацдармы, но оказались бы в окружении. Гитлеровцы готовили его войскам нечто вроде сталинградского котла.
Замысел германского командования был прост и вполне реален в осуществлении, его разработал старый соперник Жукова во многих операциях, а теперь начальник генерального штаба Гудериан, очень опытный и талантливый полководец.
Войска Жукова вырвались далеко вперед, 2-й Белорусский фронт отстал. Правый фланг группировки Жукова был на несколько сот километров открыт. Вспомните, Сталин предупреждал Жукова о такой опасности. Но, предвидя ее, Верховный не дал армию, которую просил Жуков для прикрытия этого пространства на фланге.
Войска 1-го Белорусского фронта не только выполнили и перевыполнили задачу, поставленную Ставкой, появилась возможность продолжать наступление и с ходу ворваться в Берлин. Жуков видел – после сокрушительных ударов, полученных в ходе Висло-Одерской операции, гитлеровцы были в растерянности, больших резервов под Берлином у них не было.
27 января Ставка утвердила предложение Жукова о продолжении наступления на Берлине плацдармов на Одере. Маршал дал указание своим войскам о подготовке к новой операции. Познакомьтесь с этим документом в сокращенном виде.
«Военным советам всех армий, командующим родами войск и начальнику тыла фронта. Сообщаю ориентировочные расчеты на ближайший период и краткую оценку обстановки.
1. Противник перед 1-м Белорусским фронтом каких-либо крупных контрударных группировок пока не имеет.
Противник не имеет и сплошного фронта обороны. Он сейчас прикрывает отдельные направления и на ряде участков пытается решить задачу обороны активными действиями.
Мы имеем предварительные данные о том, что противник снял с Западного фронта четыре танковые дивизии и до 5—6 пехотных дивизий и эти части перебрасывает на Восточный фронт. Одновременно противник продолжает переброску частей из Прибалтики и Восточной Пруссии.
Видимо, противника в ближайшие 6—7 дней подвозимые войска из Прибалтики и Восточной Пруссии будет сосредоточивать на линии Шведт – Штаргард – Нойштеттин, с тем чтобы прикрыть Померанию, не допустить нас к Штеттину и не допустить нашего выхода к бухте Померанской.
Группу войск, перебрасываемую с Запада, противник, видимо, сосредоточивает в районе Берлина с задачей обороны подступов к Берлину.
2. Задачи войск фронта – в ближайшие 6 дней активными действиями закрепить достигнутый успех, подтянуть все отставшее, пополнить запасы до 2 заправок горючего, до 2 боекомплектов боеприпасов и стремительным броском 15—16 февраля взять Берлин».
Но гитлеровское командование спешно готовило контрмеры. Угроза стала реальной. Генерал-полковник Гудериан так писал об этом замысле:
«Немецкое командование намеревалось нанести мощный контрудар силами группы армий «Висла» с молниеносной быстротой, пока русские не подтянули к фронту крупные силы или пока они не разгадали наших намерений».
В группе армий «Висла» было до 40 дивизий, да еще в Штеттине находилась 3-я танковая армия, если бы эти силы нанесли удар по тылам фронта Жукова, произошла бы катастрофа. Советские части, ушедшие далеко вперед, израсходовали к этому времени запасы горючего, боеприпасов, продовольствия. Все службы обеспечения отстали. Удар противника пришелся бы именно по ним. Трагическая развязка казалась неотвратимой.
В этих вроде бы безвыходных условиях (резервы Ставки, если бы она их дала, не успели оказать помощь) Жуков проявляет исключительную находчивость, связанную с огромным риском. Но риск этот был основан на точных расчетах маршала. Он сам говорил об этом так: «Рисковать следует, но нельзя зарываться».
Войска 2-го Белорусского фронта должны были разгромить гитлеровцев в Восточной Померании и тем обеспечить фланг 1-го Белорусского фронта, но они не справлялись с этой задачей. Жуков понимал: окончательный исход Висло-Одерской операции и успехи, достигнутые в ней, теперь зависят от ликвидации немецкой группировки в Восточной Померании. Можно было обезопасить свой фланг, прикрыв его частью сил. Но удержат ли они мощный удар группы армий «Висла»? Вот в этом случае будет риск, не подкрепленный расчетом, а по принципу «или – или». Это был не жуковский вариант, он привык решать проблемы с твердой уверенностью в успехе и поэтому принимает решение: развернуть в сторону нависшей угрозы четыре общевойсковые и две танковые армии, в короткий срок уничтожить группу армий «Висла» совместно со 2-м Белорусским фронтом и затем быстро вернуть войска на Берлинское направление до того, как противник создаст здесь группировку, способную наносить контрудары.
Легко и просто рассуждать нам о повороте войск на новое направление. Представьте себе, что такое шесть армий и как невероятно трудно повернуть такую армаду для переноса ее ударной силы с запада на север, в сторону Балтийского побережья.
И все это состоялось: и поворот наших армий, и удар по гитлеровской армаде «Висла», и полный ее разгром усилиями войск Жукова и Рокоссовского. К сожалению, нет возможности описывать происходившие там тяжелые и кровопролитные сражения – они длились почти два месяца и завершились нашей победой в конце марта 1945 года. В этом очень динамичном сражении оппонентом Жукова был командующий группой армий «Висла» рейхсфюрер СС Гиммлер, и его наш славный маршал одолел блестяще.
А теперь представьте себе, как сложно и тяжело было Жукову удерживать плацдарм на Одере, после того как шесть армий он перевел для уничтожения группы армий «Висла». Гитлеровцы стремились воспользоваться ослаблением наших войск на плацдармах и ликвидировать их. Немецкая авиация совершала ежедневно более тысячи самолетовылетов для бомбежки наших войск на Кюстринском плацдарме. 5-я ударная армия несла большие потери. Генерал Берзарин, понимая сложности командующего фронтом, все же запросил усиления поддержки хотя бы авиацией.
Нетрудно представить, как переживал Жуков за своих боевых соратников, которые совершали все возможное и невозможное для удержания плацдармов. В его телеграммах явно просматриваются эти переживания, сочувствие и не свойственная военным документам своеобразная суровая нежность к героям. Маршал не приказывает, он просит их продержаться еще немного. Как старший опытный воин, он дает практические советы для более умелых боевых действий. Вот одна из таких телеграмм Жукова:
«Военному совету 5-й ударной армии, командирам корпусов и командирам дивизий 5-й ударной армии.
На 5-ю ударную армию возложена особо ответственная задача удержать захваченный плацдарм на западном берегу р. Одер и расширить его хотя бы до 20 км по фронту и 10—12 км в глубину.
Я всех Вас прошу понять историческую ответственность за выполнение порученной вам задачи и, рассказав своим людям об этом, потребовать от войск исключительной стойкости и доблести.
К сожалению, мы вам не можем пока помочь авиацией, так как все аэродромы раскисли и взлететь самолеты в воздух не могут. Противник летает с берлинских аэродромов, имеющих бетонные полосы. Рекомендую:
1) зарываться глубоко в землю;
2) организовать массовый зенитный огонь;
3) перейти к ночным действиям, каждый раз атакуя с ограниченной целью;
4) днем отбивать атаки врага.
Пройдет 2—3 дня – противник выдохнется.
Желаю вам и руководимым вами войскам исторически важного успеха, который вы не только можете, но обязаны обеспечить.
...
Жуков
».
Как видим, Жуков был не только строгим, но и мягким к подчиненным. Точнее сказать, он был справедливым. Много пишут и говорят о его жестокости. Бывало и такое, но опять-таки требовательность маршала соответствовала проступку. Он наводил порядок, невзирая на ранги и прошлые заслуги. Да, был грубоват, мог ввернуть обидное слово, были и такие проявления его характера.
В те же дни, когда он так ласково обращался к защитникам плацдарма, приведу пример его строгости. Кое-кто, торжествуя после достигнутых успехов, начал погуливать в ущерб делу. Жуков нелицеприятно пресекал такие проступки. Я думаю, не повредит авторитету Катукова, маршала бронетанковых войск, документ, написанный (у меня есть ксерокопия) лично Жуковым. Тем более что Михаил Ефимович был сам виноват и позднее просил извинения у Георгия Константиновича.
«В собственные руки т. Катукову, Попелю (член Военного совета 1-й гв. танковой армии. – В.К. )
Я имею доклады особо ответственных людей о том, что Катуков проявляет полнейшую бездеятельность, армией не руководит, отсиживается дома с бабой и что сожительствующая с ним девка мешает ему в работе. Авторитета Катуков в корпусах сейчас не имеет, и даже Шалин и командиры штаба вокруг Катукова ведут очень нехорошие разговоры.
В частях Катуков как будто не бывает. Бой корпусов и армии не организует, вследствие чего за последнее время имелись в армии неудачи.
Требую:
1) От каждого из вас дать мне правдивое личное объяснение по существу.
2) Немедля отправить от Катукова женщину, если это не будет сделано, я прикажу ее изъять органам СМЕРШ.
3) Катукову заняться делом.
Если Катуков не сделает для себя нужных выводов, он будет заменен другим командармом....
Г. Жуков1.2.45».
Маршал не был злопамятным, он оценивал людей по их делам и поступкам, и когда генерал Катуков исправился и очень умело руководил армией в последующих боях, маршал Жуков написал на него прекрасное представление к награде, и Катукову всего через два месяца после того неприятного воспитательного письма было присвоено звание дважды Героя Советского Союза.
В общем, Висло-Одерская операция, одна из крупнейших стратегических операций, завершилась разгромом и уничтожением 60-ти гитлеровских дивизий, была освобождена Польша, Советская армия вступила на территорию Германии и вышла на подступы к Берлину.
А теперь вспомните, какая мощная оборона противостояла войскам Жукова на глубину 500 километров и как он ломал ее, продвигаясь по 45—70 километров в сутки. Жуков в своих воспоминаниях при описании этих боевых действий не применяет сравнения с «подкалиберным» и «кумулятивным» способом прорыва оборонительных рубежей, это я применил для большей наглядности, но маршал сам отмечает:
«Такая стремительность была достигнута впервые в ходе Великой Отечественной войны…
Особая роль в развитии наступления на фронтах прорыва обороны противника принадлежала танковым армиям, отдельным танковым и механизированным корпусам, которые во взаимодействии с авиацией представляли собой быстроподвижный таран огромной силы, прокладывавший путь для общевойсковых армий…
Сильные передовые отряды (подкалиберные сердечники. – В.К. ) наносили глубокие удары, в то же время не ввязываясь в затяжные бои с отдельными группировками противника… Противник не сумел практически ни на одном из заранее подготовленных рубежей организовать прочную оборону».
Здесь, наверное, самое удобное время и место поговорить о потерях.
Многие, не говоря о недоброжелателях, даже вроде бы объективные историки и исследователи обвиняют Жукова в том, что в проведенных им операциях были большие потери.
Вот мои возражения на такие обвинения.
Во-первых: Жуков всегда осуществлял крупнейшие стратегические операции, потери в них были соответствующие.
Во-вторых: потери в операциях Жукова были меньше, чем у других наших полководцев. Прикиньте, сколько полегло бы солдат и офицеров, если бы эти семь рубежей пробивать последовательно, в стиле Еременко. Сколько на это потребовалось бы времени? По 3—5 дней на каждый рубеж (как минимум) – это 21—35 дней. А в стиле Рокоссовского? Тоже не меньше месяца. И еще неизвестно, как развивались бы события, немцы могли и остановить наше наступление. А потери в этом случае были бы весьма тяжелые. Прибавьте расход боеприпасов, горючего и прочего обеспечения – операция стоила бы во много дороже – это тоже надо учитывать, возможности снабжения не бездонная бочка. Израсходовали запасы здесь, пришлось бы 2—3 месяца накапливать, подвозить для следующей операции.
Таким образом, ввиду быстротечности жуковской операции потери в ней были минимальные, потому что противник не успевал последовательно занимать свои рубежи, а наши войска, уходя в глубь обороны противника, несли меньшие потери. И, следовательно, Жуков в этой операции не потерял, а спас десятки тысяч жизней людей, которые могли бы погибнуть при осуществлении Висло-Одерской операции, если бы она шла не так искусно, как ее провел маршал Жуков.
В 1993 году в Военном издательстве вышло статистическое исследование – «Гриф секретности снят». После многих дискуссий и споров о потерях наших войск в годы войны книга, составленная работниками Генштаба на основе подлинных архивных документов, как бы подводит итог и пытается положить конец всем кривотолкам на эту тему.
О потерях 1-го Белорусского фронта в Висло-Одерской операции сказано следующее:
«Продолжительность операции 23 суток. Ширина фронта боевых действий 500 км. Глубина продвижения советских войск 500 км. Висло-Одерская операция включает… Варшавско-Познаньскую операцию… Численность войск 1-го Белорусского фронта к началу операции – 1 028 900. Безвозвратные потери (за весь период) (убитые) 17 032; санитарные потери (раненые и больные) 60 310. Всего потеряно 77 342».
Если напомнить, что в Брусиловском прорыве, который принято считать очень удачным, было в российской армии только убитыми 500 000 человек, то потери 1-го Белорусского фронта, при таком размахе и количестве участников, можно назвать не только минимальными, но просто мизерными даже в сравнении с потерями наших войск в других операциях.
Например, в победной наступательной Сталинградской операции. На Юго-Западном фронте (Ватутин) из общего числа 398 100 человек убито 64 649, раненых и больных 148 043, всего потеряно 212 692 (больше половины!).
На Донском фронте под Сталинградом (Рокоссовский) из 307 500 человек убито 46 365, ранено 123 560, всего потеряно 169 925 (больше половины).
На Сталинградском фронте (Еременко) было 429 200 человек, убито 43 552, ранено 58 078, всего потеряно 101 630 (25%).
А всего в ходе сталинградского наступления из 1 143 500 человек убитых 154 885, раненых и больных 330 892, общие потери 485 777 (почти половина всех участников сражения).
Напомню, в результате этой операции окружили 6-ю армию Паулюса и другие части – всего 330 000 человек, после завершения операции «Кольцо» в плен взято 95 тыс. солдат и офицеров. Сравнив цифры, убедитесь, как дорого нам стоил поворот в войне под Сталинградом (причем цифры эти без потерь в оборонительных боях).
В период Нижнеднепровской стратегической наступательной операции в подчинении И.С. Конева при освобождении Правобережной Украины во 2-м Украинском фронте было 463 500 человек (35 дивизий), из них убито 77 400, раненых/больных 226 217, всего потеряно 303 617 (почти 70% л/с).
Не буду приводить другие цифры, скажу коротко для сведения всех критиков маршала Жукова: посмотрите эту книгу и убедитесь, потери в боях под руководством Жукова были меньше, чем у других наших полководцев.
Еще встречал я не раз сомнения насчет мастерства Жукова: у него, мол, всегда было много войск и средств усиления. Не вижу необходимости пространно опровергать такое мнение, напомню кратко: Жуков руководил самыми крупными сражениями, и наличие в них больших масс войск и техники закономерно и естественно, иначе просто не могло быть.
Каждый вид искусства – живопись, скульптура, театр – по-своему вызывает у зрителя положительные эмоции – восхищение мастерством, удовольствие от соприкосновения, удивление, что может быть достигнуто такое совершенство и, наконец, нравственное и даже идеологическое воздействие на того, кто видит это творение мастера.
Как же быть с военным искусством? Если оно действительно искусство, то должно оказывать такое же воздействие и вызывать подобный прилив положительных эмоций. На первый взгляд, военное искусство таких высоких чувств и взволнованности не вызывает. В чем оно проявилось? В беспощадной, грубой схватке людей и техники, обоюдно уничтожающими противостоящую сторону. Казалось бы, о каком искусстве может идти разговор, когда льется кровь и гибнут люди? Но, повторяю, это лишь первое поверхностное, дилетантское, некомпетентное мнение.
Военное искусство имеет все вышеперечисленные привлекательные стороны других видов искусства и даже кое-что сверх того.
Вот доказательства. Возьмем для примера одну из победных операций, ну хотя бы ту же Висло-Одерскую наступательную операцию, проведенную маршалом Жуковым. Сравним со зрительным впечатлением человека, рассматривающего (тоже беру первый широко известный пример) картину художника Шишкина «Медведи в сосновом лесу» (или как ее правильно называют – «Утро в сосновом бору»). Что может про себя отметить простой зритель: красиво, очень похоже, медведи как живые и деревья как настоящие. Более искушенный зритель отметит игру солнечного света и восхитится мастерством художника, который сумел масляные краски превратить в свет. Что еще? Многие другие тонкости доступны профессиональным критикам или коллегам-художникам: композиция, содержательность, сюжет, перспектива и т.д.
То же можно повторить в отношении скульптуры, актерского мастерства… и военного искусства.
У военных мастеров своего дела тоже у каждого свой стиль, свой почерк, свои особенности в творчестве. И в целом военное искусство и каждое его отдельное произведение вызывает определенные эмоции, такие же, как и в других видах искусства – положительные или отрицательные (нравится – не нравится, успешно – не успешно). Все это присутствует и при оценке творческих результатов полководцев.
И есть еще кое-что, порождаемое только военным искусством: это радость победы над врагом, приближающая конец войны, гордость за нашего полководца, взявшего верх, одолевшего проклятых фашистов, которые принесли так много горя и страданий советским людям, это, наконец, горькое и сладкое чувство отмщения за погибших наших родных и близких.
И все эти эмоции в крупных общенародных масштабах. Картина, скульптура, актер на сцене порождают чувство восхищения у сотен, пусть тысяч людей, но только тех, кто воочию воспринимает искусство этих мастеров.
Военное искусство, как видим, имеет широчайшее воздействие на всех соотечественников, порождает их благодарность, чувство гордости, воспитывает патриотизм, укрепляет веру и прибавляет силы для дальнейшей борьбы с врагом. Вспомните, как всколыхнула нас небольшая по масштабам первая наступательная операция, проведенная Жуковым под Ельней. А разгром Жуковым немцев под Москвой! (После того как Конев умудрился засадить пять армий в окружение, которые предназначались для обороны столицы, а Жуков, по сути дела, на голом месте слепил оборону.) Опять-таки, благодаря своему искусству, остановил врага малыми силами, а потом опрокинул и погнал гитлеровцев вспять. Это ли не мастерство полководца, достойное восхищения! А Сталинградское окружение. Курская дуга, преодоления с ходу Днепра – «Восточного вала».
Да, не один Жуков планировал и проводил эти операции, другие прекрасные наши полководцы, в том числе и Верховный Главнокомандующий Сталин приложил много ума и сил в их осуществление, но почти во всех этих операциях первоначальный импульс, зародыш идеи, изюминка целесообразного решения были высказаны в устной или письменной форме Жуковым. И этого никуда не денут, не спрячут, не замолчат и не очернят дилетанты, непрофессиональные оппоненты, сколько бы они ни напрягались в изощренных приемах лжи и подтасовки… и не только дилетанты.
Вернемся к Висло-Одерской операции – у меня, да и у каждого военного профессионала эта операция вызывает восхищение блестящим замыслом и еще более великолепным осуществлением задуманного. Эта операция военачальника с могучим талантом, ясным, смелым мышлением и огромным опытом, творчество его на уровне гениальных мастеров Брюллова, Репина, Врубеля, Айвазовского, Шаляпина, Вучетича, Игоря Ильинского, Жарова в годы их полного расцвета.
К юбилею 10-летия Победы (1955) Военно-историческому управлению Генерального штаба, кроме другой его работы, было поручено определить самую выдающуюся по военному искусству операцию в Великой Отечественной войне.
Военные ученые и историки, еще раз проштудировав и оценив весь ход боевых действий с 1941 по 1945 год, определили, что самой яркой и лучшей по полководческому мастерству является Висло-Одерская операция.
К оценке такого высокого профессионального и уважаемого управления, я думаю, невозможно, да и не нужно ничего добавлять.
Благородный, мудрый, сердечный
В помещенных выше очерках я рассказал о некоторых героях боев. Но эти короткие очерки не дают полного представления об очень достойных воинах. Эти люди, да и другие их однополчане, каждый со своей сложной судьбой, достойны более подробного описания их жизни. Но обо всех написать невозможно. Поэтому я предлагаю вниманию читателей описание служебного и жизненного пути одного из них – хорошего служаки, который прошел путь от красноармейца до генерала, – Конинского Василия Алексеевича. Почему именно его? Потому что служба свела нас на несколько лет, и я хорошо узнал его. А вы, читая мой рассказ, должны помнить, что такие же отважные и добрые воины были и все другие, кого вы встретили на страницах моей книги. Только, к сожалению, о них не написано так же подробно, как я расскажу вам о Конинском.
Познакомились мы с генералом Конинским в январе 1956 года в Ташкентском военном высшем офицерском училище. Василий Алексеевич получил назначение на должность начальника этого училища. А я уже второй год работал здесь заместителем начальника училища по строевой части.
Встреча наша произошла весьма оригинально и при неординарных служебных обстоятельствах.
Чтобы были понятны эти необычные обстоятельства, придется мне сделать небольшое отступление на два года назад, то есть в декабрь 1954 года. Тем более что вся эта ретроспекция в дальнейшем будет иметь самое прямое отношение к Конинскому.
Я точно помню день своего прибытия в Ташкент из Москвы – 5 декабря 1954 года. Точно потому, что это был праздничный День Конституции. На вокзале меня встретил высокий стройный подполковник Иван Колюшев – начальник строевого отдела училища.
Встреча с ним у вагона получилась очень энергичная – мы крепко обнялись, расцеловались, и я долго не выпускал из своих рук Ивана. Признаюсь, у меня даже глаза стали горячими, и я едва не пустил слезу.
На первый взгляд, такая трогательность выглядит странно – приезжий, только назначенный подполковник так пылко лобызается с местным встречающим офицером.
Но это верно, как я сказал, только на первый взгляд. С Иваном Колюшевым мы знакомы с 1938 года, когда поступали в Ташкентское училище. Потом два года учились в одной роте. Он был старшина нашей роты. Высокий и худой, получил у курсантов кличку «Каланча».
В феврале 1940 года наши пути разошлись: Ваня в День Советской армии 23 февраля получил звание лейтенанта. А меня арестовали перед государственными экзаменами 4 февраля, и Военный трибунал Средне-Азиатского военного округа осудил за «антисоветскую агитацию» и отправил в далекую Сибирь в Тавдинлаг, где я и отбывал наказание до октября 1942 года.
Отгремела битва за Москву, готовилось гигантское сражение за Сталинград, а я все еще ходил в зэковской робе на лесоповале. Только в октябре 1942 года одно из моих писем дошло до Калинина, и меня отправили на фронт в штрафную роту.
За что осудили? В те годы попасть в тюрьму было не сложно, достаточно было сказать… Впрочем, это не имеет отношения к нашей теме воспоминаний о генерале Конинском.
Пришлось это отступление сделать для того, чтобы стали понятны наши горячие объятия с Иваном – однокашником, с которым мы расстались еще до войны при таких горьких для меня обстоятельствах.
После того как были высказаны обычные при таких встречах взаимные фразы вежливости, Иван сказал:
– Курсанты училища собраны в большом зале для проведения торжественного вечера в честь Дня Конституции. Мероприятие проводить некому – начальник училища полковник Капров в госпитале, начальник политотдела полковник Кострыкин в отпуске. Придется тебе, как говорится, с корабля на бал.
Мы приехали в родное для меня великолепное здание училища (Кадетский корпус в царское время!). Как здесь все близко и дорого моему сердцу! В актовом зале мраморные доски на стенах с датами победных боев курсантов над басмачами. Пытливые взоры курсантов, которые притихли при нашем появлении. Они мне показались очень похожими на нас – тех, довоенных. Только с погонами…
В общем, собрание я открыл, докладчик был подготовлен. Все прошло хорошо. И на следующий день я приступил к своей новой работе. Почти год я исполнял обязанности начальника училища, полковник Капров, израненный, боевой офицер, командир одного из полков легендарной Панфиловской дивизии, уволился в отставку, не возвращаясь на работу в училище.
Придется продолжить затянувшуюся ретроспекцию, но она все ближе и конкретнее будет в дальнейшем соприкасаться с Конинским.
Целый год работать одному было нелегко. И, наконец, пришло радостное сообщение – едет новый начальник училища генерал Терченко – встречайте.
Я подготовил особнячок, в котором в бытность мою курсантом жил будущий прославленный полководец генерал армии Иван Ефимович Петров.
Когда генерал Терченко вышел из вагона, сердце у меня громко застучало от радости – он был высокого, под два метра, роста, статный, широкогрудый, с румяным, пышущим здоровьем лицом.
Настоящий, великолепный генерал будет возглавлять наше училище!
Разумеется, мы не обнимались, как при встрече с Иваном, к генералу я обращался с подобающим почтением. Генерал приехал с женой, отвез их в подготовленный особнячок и оставил отдыхать с дороги.
Я был не только рад, а прямо счастлив, что у нас появился такой видный, красивый и представительный начальник.
Но радость моя была недолгой. Терченко на следующий день обошел все училище, познакомился с курсантами в актовом зале. Коротко рассказал о себе – он многолетний политработник, а потом, возможно именно поэтому, его назначили начальником Суворовского училища воспитывать молодое поколение. А теперь вот получил назначение в высшее офицерское училище.
Откровенно говоря, меня несколько смутило то, что генерал не был на фронте, правда всю войну он занимался нужными для армии делами. Но все же…
Некоторые странности в поведении нового начальника стали проявляться в первую же неделю его пребывания в Ташкенте.
После знакомства с расположением училища в городе генерал уехал в Чирчик, это в 35 километрах от Ташкента, там учебная база училища – стрельбище, спортгородки и прочее. Я хотел его сопровождать, чтобы доложить, что к чему, но он сказал:
– Оставайтесь здесь, у вас работы много. Я там разберусь сам.
Все же офицера из учебного отдела я с генералом отправил. Уехали они в пятницу. Не вернулся генерал в субботу и воскресенье. Вот, думаю, какой трудяга, даже в дни отдыха работает. Но прошли дни следующей недели, и только в субботу появился наш начальник. Мне позвонили из учебного центра, и я его встречал. Он вышел из машины румяный, пышущий здоровьем – хорошо отдохнул на природе. Был он не в генеральской форме, а в охотничьем костюме – кожаная куртка, высокие охотничьи сапоги, на голове круглая панама. Охотничьих трофеев половина багажника. Мне не предложил ни одной убитой утки. Разумеется, я и не рассчитывал на подарок, вообще не знал, что он там охотился, но все же то, что не предложил ни одной птички из целой груды, как-то кольнуло в моем сознании.
В общем, кончая ретроспекцию и возвращаясь к воспоминаниям о Конинском, коротко скажу: оказался генерал заядлым, прямо фанатичным охотником, он уезжал «на учебную базу» и охотился там целыми месяцами, когда не было на стрельбах ни одного курсанта.
Первая моя радость от появления такого величественного генерала постепенно стала угасать. Я даже подумал: поэтому он такой пышущий здоровьем, и ни одного седого волоса.
Странности в службе Терченко подметил не я один, среди офицеров, а потом и среди курсантов поползли нехорошие шуточки о генерале, например о том, как он командиров батальонов при встрече называет не их фамилиями:
– Послушайте, майор Титаренко…
– Я не Титаренко, товарищ генерал, я Трофимов.
– Вечно я вас путаю с Титаренко! – примирительно восклицал генерал.
А командиров учебных батальонов было всего три! Даже их не мог запомнить наш незадачливый охотник.
В декабре 1955-го я уехал в командировку в Ашхабад, для подбора командиров взводов – практиков из строевых частей. Потому что в училище оставляли многих выпускников-отличников командовать взводами. Я считал это неправильным, учить должен офицер, поработавший в полку, знающий особенности службы и быта далеких гарнизонов.
Вот в дни, когда я занимался подбором опытных лейтенантов, приехал в училище генерал Конинский. Он прибыл на замену генералу Терченко. Как выяснилось позднее, странности в отношении к своим обязанностям генерала Терченко замечал не только я, высказали свое мнение об этих странностях членам проверяющей комиссии и другие офицеры – в дни моего пребывания в командировке приехала комиссия из Москвы. Председатель комиссии генерал Кеносян разбирал сообщения офицеров на своем генеральском уровне. Он пытался познакомиться в учебном отделе с «листами контроля», которые составляют офицеры из управления училища (и я в их числе) после посещения курсантских занятий. Но в учебном отделе не оказалось ни одного листа, заполненного начальником училища.
На вопрос Кеносяна:
– Как это понимать? – Терченко ответил:
– Что же я сам себе буду писать замечания о проверке занятий?
– Но какие-то выводы, обобщения по ходу учебного процесса у вас должны накапливаться, – настаивал проверяющий.
– Я делал записи для себя в общей тетради.
– Я бы хотел познакомиться с вашими записями.
– Хорошо. Они у меня дома. Завтра принесу.
Принес. Генерал Кеносян обнаружил, что все записи сделаны в одну ночь, по мере того, как уставал Терченко, делая эту «липу», почерк его становился все более неразборчивым и пляшущим. Занятий, на посещение которых ссылался в своих записях Терченко, в расписаниях не оказалось. В общем, обнаружилось очковтирательство, недостойное генерала.
Проверяющие дали удовлетворительную оценку работы училища за год, но отметили в акте: «Начальник училища генерал Терченко к этой положительной оценке не имеет никакого отношения».
Доложили об этом удивительном обстоятельстве в Москву. Там срочно приняли меры.
И вот приехал новый начальник училища генерал Конинский. Все это, повторяю, произошло в месяц моего отсутствия и поездки по дальним гарнизонам.
Возвратился я поздно вечером и сразу поехал домой, отдохнуть и привести себя в порядок после долгой командировки.
Но отдыхать мне не пришлось. Вдруг приехал за мной на квартиру дежурный по училищу, с красной повязкой на рукаве и при оружии. Прямо конвойный. Он и сказал как конвойный:
– Новый начальник училища приказал немедленно доставить вас в училище.
– Какой новый, откуда? – спросил я.
– Вы разве не знаете, у нас новый начальник училища, генерал Конинский.
– Почему? А где прежний? Что с ним случилось?
– Его отстранили, как не справляющегося со своими обязанностями.
– Вот это новость! Ну, что же, поехали!
Поскольку особнячок начальника училища был занят генералом Терченко, Конинского поселили в училищной санчасти, обставив под жилье одну из палат.
Я вошел в эту палату и доложил о прибытии.
Мне навстречу пошел совершенно седой, прихрамывающий генерал. У меня мелькнуло: «Ну, сменяли ястреба на кукушку! Убрали лодыря, прислали пенсионерчика».
Не здороваясь, генерал строго спросил:
– Почему вы не доложили о прибытии из командировки?
– Я с вокзала час назад. Было десять часов, когда прибыл. Думал, поздно. Доложу о возвращении утром.
– Ну, хорошо. Садитесь, поговорим.
Мы сели к столу. Он некоторое время меня рассматривал. Потом прямо сказал:
– Я слышал о вас много хорошего и много плохого. Расскажите, пожалуйста, как жили, где и когда служили.
Здесь я, для краткости, напомню читателям о ретроспекции – я предупреждал, что сделал тогда отступление, которое нам пригодится. Все это, с некоторыми подробностями, я изложил генералу. Про себя отметил: хорошее обо мне могли ему сказать офицеры и курсанты, с которыми я работал душа в душу. Вообще я был счастлив возвращению в родное училище после такого трагического и внезапного расставания с ним.
Плохое мог сказать только Терченко, он ревновал к уважительному отношению ко мне всего личного состава училища – от кадровых офицеров до многочисленных вольнонаемных. Скажу без ненужной скромности, я отдавал все силы и любовь своей работе, которая мне очень нравилась. Терченко мог воспринимать это как некое подсиживание, как желание выпендриваться на фоне его ни шаткого, ни валкого поведения. Я подозревал – именно он что-нибудь наплел Конинскому. Как я узнал позднее, они были давние знакомые, однокашники по школе ВЦИК (так называлось Кремлевское военное училище в 20-е годы).
Но Василий Алексеевич был очень мудрый и опытный вояка, за долгие годы службы он повидал много людей, умел разбираться в них. Видно, он понял, что информация Терченко обо мне не вполне соответствует действительности. И решил по-нашему, по-русски поговорить по душам. Предварительно, уже совсем не строго, спросил:
– Вы водку пьете?
Я почувствовал, что это уже неофициальный разговор, и так же просто ответил:
– Конечно.
– Ну, тогда предлагаю по рюмочке для более близкого знакомства. – Он поставил на стол пол-литра коньяка и тарелку с бутербродами. Выпили одну, другую. Он расспрашивал меня о фронтовых делах и, видимо, проникся уважением к моим опасным и многочисленным вылазкам за «языками».
Его отношение ко мне явно потеплело, и в ответ на мою откровенность он стал рассказывать о своей службе.
«Родился я на Северном Кавказе в курортном городе Ессентуки. Но жизнь нашей семьи была далеко не курортная. Отец батрачил, плотничал. В семье семеро детей. Я самый старший. Когда в 1914 году отец ушел на фронт, мне было 13 лет. И стал я основным кормильцем. Представляете – без профессии, без мужицких сил. Как зарабатывать? Был пастухом, батраком, подсобным рабочим на трубном заводе.
В общем, до возвращения отца в 1917 году продержались. Началась Гражданская война, стал я пулеметчиком Ессентукского полка. Так началась моя служба в армии».
Василий Алексеевич рассказал о своей эпопее в Гражданской и Отечественной войнах.
Прошло после нашей беседы много лет – полвека, я не помню многих подробностей, а жизнь Василия Алексеевича полна различными потрясениями и радостями. Поэтому предлагаю почитать, что написал о себе сам Конинский в автобиографии, вложенной в его личное дело (этот документ и некоторые аттестации мне любезно скопировали работники Пятигорского городского военного комиссариата при содействии Игоря Васильевича Калинского – заместителя главы города).
«Фронтовики организовали отряд так называемой местной самообороны. Потом из него вырос отряд Красной Гвардии, а потом и Красной Армии.
Борьба ожесточалась, начались бои. Все способное носить оружие шло или к белым, или в отряды Красной Армии. В 1918 году я пошел в пулеметную команду Ессентукского полка. В команде были фронтовики, в том числе три моих двоюродных брата Конинские, они-то и учили меня воевать.
В январе 1919 года началось страшное отступление частей 11-й армии, через Кизляр на Астрахань, по пескам. Уцелел благодаря заботам двух оставшихся в живых моих братьев – учителей. Перенес тиф, выздоровел и – снова за ружье. Попал в 1-ю Отдельную кав. бригаду, под славный тогда еще Царицын. Разгромили Деникина, дошел с бригадой до родных мест, а в мае 1920 года на Врангеля. В 1920 году вступил в партию и с тех пор состою в ней непрерывно, не имея взысканий.
В 1920 году послали учиться, сначала в Таганрог – 19-е кав. курсы. Кончилась война – сокращали сеть курсов, и начались мытарства по курсам. Послали в Полоцк – «43 Объединенные», перевели в Минск – «21 кавкурсы», и уж с них-то в 1922 году направили в школу ВЦИК.
В сентябре 1924 года М.И. Калинин на Красной площади поздравил нас с окончанием и присвоил звание Красных Командиров. Окончив в первом десятке, имел право выбирать. Выбрал 25-й Краснознаменный Заамурский полк, 5-й Блиновской дивизии. Год был командиром взвода, потом по существовавшему тогда хорошему правилу – пропускать строевых командиров через хозяйственные должности – два года был квартирмейстером и год казначеем. Это мне очень пригодилось после, да и сейчас хорошо помогает.
В 1929 году с должности командира эскадрона пошел курсовым командиром в родную мне школу ВЦИК в Кремль. Семь с половиной лет пробыл в вузах курсовым командиром: командиром эскадрона, дивизиона, преподавателем. Это была самая лучшая пора в моей службе. Тут, уча людей, очень многому научился сам.
В этот же отрезок времени два раза окончил Кав. КУКС, два курса вечернего университета в Москве. Что я пришел в военно-учебное заведение из полевых войск, имел опыт командной и хозяйственной работы, давало мне много преимуществ перед командирами, не служившими в войсках. В 1938 году был назначен помощником командира 14-й кав. дивизии.
Пройдя прекрасную школу вузовской работы, мне было легко и интересно работать в частях. Зная до мелочей строевую службу, я имел методический опыт. И если мои бывшие ученики по вузовской работе и бывшие подчиненные в частях иногда пишут и говорят хорошо, то этим я обязан тому счастливому обстоятельству, что прошел такую разностороннюю школу.
В 1940 году меня, как и три десятка других общевойсковых командиров, послали учиться в Академию ВВС, но, не доучив, в мае 1941 года назначили командиром 9-й авиадесантной бригады, которую формировал в гор. Резекне Латвийской ССР. Не успел сделать ни одного прыжка, грянула война. Походным порядком вышел в Двинск, 24 июня занял оборону, а 26-го, не имея соседей, никем не управляемый, вступил в бой, а до этого через мои боевые порядки прошли в беспорядке тысячи людей, что, естественно, отражалось на моральном состоянии моих десантников. Сведений об обстановке никаких, прошедший накануне штаб Фронта об обстановке пытался у меня осведомиться. Связи ни с кем никакой, пытались формировать из бегущих, но ничего не получилось, будучи деморализованными, только мешали и деморализовывали моих людей. Вот в этих условиях полтора суток держали Двинск, держали бы и больше, но бронебойных снарядов не было ни одного. Противник обошел мои фланги и вышел на мои тылы. Семь суток от Двинска до Резекне, задерживаясь на отдельных рубежах, дрались. Начальников за это время у меня перебывало множество: и начальник пехоты, и начальник бронетанковых войск округа. Все они старше меня чинами и все командовали. Задачу поставит, штабов у них нет, связи нет, обстановки никто не знает, в самый крутой момент моих начальников нет. И вот в такой сутолоке, западнее шесть километров Резекне продержался, а противник занял Резекне и все дороги в различных направлениях, и я со штабом и остатками бригады остался в тылу. С 4 по 27 июля ходил по тылам врага. Все попытки связаться с кем-либо ничего не дали. Никем не управляемые, били немцев ночью в лесах. Снабжение – местные ресурсы. Зажиточные латыши нас предавали, из-за этого беспечные командиры и бойцы гибли. Так погиб почти весь Особый отдел. Начальник штаба бригады и с ними люди.
В районе Великие Луки, станция Великополье вышли к своим. Нашел свой штаб 5 корпуса уже в районе ст. Бологое в начале августа. Туг я с начала войны увидел корпус, который пополнялся, формировался. Тут же и была спасаемая командиром корпуса 101-я бригада, но тоже потрепанная, хотя боев особых и не вела. Оказывается, я уже был отстранен командиром корпуса и проклят как предатель вместе с моим штабом и комиссаром. Прокуратура две недели вела следствие и пришла к другому выводу, а командующий Северо-Западным фронтом, ознакомившись с делом, приказал восстановить в должности и дело прекратить.
Таковы были горькие уроки начала войны. За это время я убедился, что немцы трусы без танков, что их бить и побить можно, не так они страшны, как казались на первых порах. А бродя по тылам – видел, как уже загоралась в народе месть. Сколько патриотизма проявляли дети, старики, особенно старые солдаты, служа у нас то проводниками, то разведчиками. А сколько горьких упреков мы слышали от наших людей, и особенно от тех же старых солдат.
В начале сентября вызвали меня в Москву, а 13-го я уже ехал в Новосибирск формировать 75-ю кав. дивизию. Кто-то придумал штаты легкой, рейдовой дивизии. Ни артиллерии, ни обоза, ни кухонь, ни автотранспорта. Проводной связи также не полагалось, а раций нам никто не давал. Но, имея уже опыт, зная, что нужно на войне, обратились в обком, а тот мобилизовал народ, и нам дали и автотранспорт, и кухни, и даже в примитивных мастерских, по нашим образцам, стали делать кое-какое оружие.
Восьмого ноября дивизия грузилась, формируясь и обучаясь всего полтора месяца. Удивляюсь даже сейчас, как и когда бралось время. За полтора месяца мы провели столько различных учений, занятий, больше, чем теперь за полгода, хотя программ и планов мы не получали, сами их составляли. Люди были прекрасные, в возрасте от 25 до 40 лет. Рвались скорее по-сибирски подраться. Сила, ярость у них была, но не хватало «мелочи» – оружия у нас почти не было.
Выгружались в двадцатых числах ноября в Рязани, каждый эшелон бомбился, но потери были незначительны. И мы воспользовались этим, чтобы доказать, что бомбежка не так уж страшна, страшна паника. Явился к своему командарму 10 генералу т. Голикову. Первый вопрос, как с оружием. Доложил – два орудия, шесть станковых пулеметов, 19 ручных, одна треть винтовок и десятка три автоматов. Вот и все наше вооружение. Пятого декабря началось наступление, сибиряки рвались драться, а не с чем. Наконец командующий согласился, предварительно поставил условие – вооружиться чужим и своим оружием, собирая его на полях боев. Бросились собирать и через три дня получили задачу: обгоняя свою пехоту, охраняя стык с соседним слева Юго-Западным фронтом, гнать противника на запад. Из горького опыта первых дней войны я знал, что противника надо бить ночью, обходить фланги и выходить на тылы. Этому быстро научились мои командиры всех степеней, и поэтому мы, почти без особого сопротивления и не имея больших потерь, вышли к Плавску.
К этому времени уже хорошо вооружились главным образом за счет трофеев. Фуража никакого, это крепко мешало делу, начался отход конского состава. Самое главное, не было средств связи. Командарм приказал установить старый казачий способ – летучую почту, это помогло, но не надолго. Оторвались далеко, глубокий снег, большой расход людей и медленно. Попытались с ходу взять Плавск, но не удалось, крепко засел немец. Подошла пехота, и еще два дня дрались. А мы по приказу Командарма спустились южнее километров 18, и тоже днем не удалось, главным образом, потому, что не умели вести разведку вообще, а минных полей – в особенности. Все-таки ночью прорвали, перерезали дорогу Плавск – Горбачев у Молочных двориков и вышли плавской группе немцев на тылы, и как водится – он побежал.
Во время преследования я был тяжело ранен. Со слезами расстался со своими вояками – сибиряками. Была стужа – январь, госпиталей никаких близко не было. Восемнадцать часов везли до Тулы, простудили, и с перебитым бедром и гнойным плевритом я пролежал в госпитале в Москве семь месяцев. Спасла вера в жизнь и, на мое счастье, хорошие лекари, наши беззаветные медики от профессора Герцен П.А. и до дежурной няни.
В июле 1942 года выписался из госпиталя, ходил с костылями, но уже хотелось что-либо делать. Но, видимо, учитывая мое состояние, генерал-инспектор кавалерии Ока Иванович Городовиков еще с месяц меня промариновал. Предлагали работать в штабе кавалерии, но меня тянуло снова в строй. И тогда послали в Среднюю Азию командиром 97-й кав. дивизии. Что это за дивизия, я не знал. Разъяснил мне командующий войсками округа генерал Курбаткин, когда я ему представился: «Дивизия добровольческая – Туркменская. Три раза по пути на фронт наполовину разбегалась. За год сменилось четыре командира. Надо бы ее разбавить обстрелянным составом, но у нас нет людей. Начни с поверки боевой подготовки, и материал с толковым офицером пришли мне через две недели».
Вот почти дословный разговор командующего. Сразу же создал комиссию по поверке, а сам наблюдал. Результаты, конечно, безутешные. Оно и понятно, офицерский состав подбирался местными властями из запаса, без какой-либо подготовки, а уж о младшем комсоставе и говорить нечего. Руководить учебой и учить было некому. Была семейственность, все из одного села, неделями жили дома, и никто ни с кого не спрашивал. Узнал, что в городе девять госпиталей, будучи начальником гарнизона, собрал начальников этих учреждений и приказал без меня всех выздоравливающих никуда не направлять. Сам со своими врачами ходил отбирать людей и за месяц набрал нужных мне офицеров человек 20, рядового и сержантского состава до 40%. Так удалось мне влить в дивизию обстрелянный состав и заменить почти весь младший комсостав.
Изучил национальные особенности туркменского народа, историю, традиции, с помощью правительства и ЦК Туркмении научили этому и офицерский состав и повели воспитательную работу. Дезертирство прекратилось, и учеба пошла толком и напряженно.
В ноябре дивизия из Сталинабада через Туркмению, на Красноводск, Баку, Кизляр шла на Сталинградский фронт. В пути мы потеряли по разным причинам 33 человека всего. Впоследствии в составе 4-го, а потом 7-го корпуса дрались не хуже других. В январе дивизия была расформирована и влита в 4-й кавкорпус генерала Шапкина, а я был назначен командиром 61-й кавдивизии этого же корпуса. Сталинградская битва кончилась, и корпус встал на отдых.
В конце февраля корпусу была поставлена задача выйти на Миус. Но, не получая фуража и продовольствия, так как тылы остались за Доном, а база – в Котельниковово, корпус задачи не выполнил. Туг мы научились только маршировать и переправляться по льду и без льда через Дон и Донец. В марте корпус передали из Южного фронта в Юго-Западный, и мы пошли в район Беловодск, где по реке Айдар заняли оборону.
В июне корпус и мою 61-ю кавдивизию влили в 7-й Гвардейский кавкорпус. По сдаче дел получил назначение начальником Новочеркасского кавалерийского училища в гор. Подольске Московской области.
Три года командовал училищем. Очень пригодился здесь мой опыт ранней вузовской работы, фронтовой и хозяйственный.
Начальник училища – это воспитатель, педагог, строевой командир и хозяйственник с большей нагрузкой.
Работал с большим интересом, люблю эту работу. Удалось сколотить хороший коллектив офицеров, работали все дружно и усердно.
В июне 1946 года по расформировании училища назначен командиром 4-й Отдельной Гвардейской Казачьей Кубанской Кавалерийской дивизии».
Написанное Конинским завершается 1946 годом. Как дальше служил Василий Алексеевич, узнаем из некоторых аттестаций.
СПРАВКА-ХАРАКТЕРИСТИКА
На генерал-майора КОНИНСКОГО Василия Алексеевича, представленного ЦК ВКП(б) к утверждению в должности командира 4-й Отдельной Гвардейской Кубанской Казачьей кавалерийской, ордена Ленина, Краснознаменной, ордена Суворова и ордена Кутузова дивизии.
…Тов. Конинский опытный, культурный и хорошо подготовленный генерал. Обладает хорошим развитием и оперативно-тактическим кругозором. Имеет боевой опыт Отечественной войны, который умело применяет в обучении войск.
В период Отечественной войны, командуя воздушно-десантной бригадой, а затем кавалерийской дивизией, показал себя волевым и смелым. Умело управлял подчиненными частями. Командуя Новочеркасским кавалерийским училищем, добился высоких показателей в подготовке молодых офицеров, за что получил от Военного Совета СКВО благодарность и награжден ценным подарком.
На новой должности с июня 1946 года показал себя вполне подготовленным генералом, правильно применяет опыт Отечественной войны в обучении частей.
Несмотря на трудные условия, связанные с переформированием, передислокацией частей, размещением, устройством казарм, конюшен и заготовкой собственными средствами продовольствия и фуража, сумел развернуть боевую учебу и с поставленными задачами справился.
Вывод. Занимаемой должности соответствует и подлежит утверждению.
26 ноября 1946 г. Маршал Советского Союза
...
Москва С. Буденный.
Генерал Конинский откомандовал славной 4-й Гвардейской кубанской казачьей дивизией два года. Шли перемены и сокращения в армии. Пришлось генералу побывать и на педагогической работе, почти два года, с февраля 1948 по октябрь 1949 года, и здесь проявил себя с самой лучшей стороны. Вот аттестация за этот период:
« Начальник военной кафедры Ленинградского Юридического института генерал Конинский В.А. хорошо организовал учебный процесс, как офицерского состава кафедры, так и студентов. Успеваемость студентов за 1948—49 г. поднялась до 4 баллов. Тов. Конинский хороший методист и организатор. Имеет опыт Отечественной войны и умело его внедряет в учебный процесс офицеров и студентов.
Дисциплинирован, энергичен, инициативен. Требователен к себе и подчиненным. Работает над собой. Обладает военными и политическими знаниями. Идеологически выдержан, морально устойчив. Предан делу партии Ленина—Сталина и Социалистической Родине.
Обладает удовлетворительным состоянием здоровья. Стремится вернуться на строевую работу.
Вывод: 1. Занимаемой должности вполне соответствует. Целесообразно пропустить через высшие академические курсы и использовать командиром дивизии или начальником училища…»Как видим, работал Конинский хорошо, но душа строевика тосковала о службе в частях, о чем, наверное, делился с товарищами, и это отразили в выводах аттестации. Выводы учли, и генерал получил назначение на должность начальника Краснознаменного кавалерийского училища имени 1-й Конной армии. Руководил им три года. В ноябре 1953 года назначен начальником Владимирского нехотного училища, в Московском военном округе. Здесь проработал два года. Но волна сокращений докатилась и сюда. Вот аттестация за период работы во Владимире:
« Генерал-майор Конинский В.А. в должности начальника Владимирского военного училища с 1953 года. За период пребывания в этой должности с возложенными на него обязанностями справлялся хорошо. Учебно-методический процесс училища знает и в состоянии правильно им руководить.
Состояние училища и подготовка курсантов командованием Московского военного округа оценивалась положительно.
Лично дисциплинирован и исполнителен. Энергичен и настойчив. Инициативен. Требователен к себе и своим подчиненным. В строевом отношении подтянут. Методикой обучения владеет. Имеет достаточные организаторские навыки. Общее развитие хорошее. Над повышением своих знаний работает. В военном отношении подготовлен удовлетворительно. Авторитетом среди офицерско-преподавательского состава пользуется. Состояние здоровья хорошее. Политически развит.Коммунистической партии, советскому правительству и социалистической Родине предан.
Вывод: Должности начальника военного училища соответствует.
В связи с сокращением и закрытием училища в дальнейшем можно использовать на должности начальника военного училища».
Несмотря на сокращения, нашли возможность сохранить опытного генерала для армии. А тут как раз и потребовалась срочная замена ленивого Терченко в Ташкенте.
И вот генерал Конинский здесь, и я продолжаю излагать ход нашей первой беседы.
Конинский сказал о том, что он с Терченко учился в школе ВЦИК. Видно, упоминание о Терченко напомнило Василию Алексеевичу о том, как он холодно меня принял. Человек добрейшей души, он уже чувствовал себя немного виноватым и поэтому достал и поставил на стол вторую бутылку коньяка…
Мы засиделись до трех часов ночи. И расстались с полным взаимным уважением.
В пять часов утра я уже был на ногах. Побрился. Надраил сапоги. Отутюжил одежду и к 6 часам, к подъему, был в училище. Соблюдение распорядка дня, ритмичный, плановый ход занятий – это входило в круг моих служебных обязанностей.
Я службу знал. То, что мы с генералом хорошо посидели допоздна, это одна сторона. А другая – это служебные отношения, на которые ни в коем случае нельзя распространять ни хорошие, ни плохие личные отношения. Это закон строевиков.
Голова после вчерашней выпивки была тяжелая, да и после командировочной поездки не отдохнул. Но я начищенный, наглаженный, был на посту. И вовремя! К подъему и Конинский пришел на плац, где проходила физзарядка курсантов. Ах, старый служака! Нужна ему эта зарядка, как рыбке зонтик! Он пришел проверить – буду ли я на службе после ночной беседы.
Я, как и полагается, подал команду: «Училище, смирно!» – и доложил генералу, что все идет по распорядку дня.
Василий Алексеевич что-то одобрительно мурлыкнул и ушел в штаб.
Перед началом занятий генерал вызвал меня в свой кабинет и попросил доложить, где и какие занятия будут проводиться сегодня по расписанию.
Я докладывал ему стоя. Сесть он мне почему-то не предложил. Может быть, хотел подчеркнуть официальность наших отношений.
Во время нашего разговора раздался звонок телефона, и я, как и Конинский, услышал в трубке голос Терченко:
– Василий, ну сколько можно ждать, пирожки остывают!
Конинский сухо ответил:
– Я сейчас занят, прийти не могу, – и сразу повесил трубку, чтобы не слушать уговоры.
Я продолжил свой доклад.
Конинский интересовался не только тематикой, но расспрашивал об офицерах и преподавателях, которые будут проводить занятия. Я рассказывал о каждом подробно, потому что знал всех отлично.
Вдруг раскрылась дверь, и вошел улыбающийся Терченко.
– Василий Алексеевич, мы заждались тебя! Надежда Алексеевна обидится, она так старалась, такие прекрасные пирожки напекла. Пойдем. Успеется с бумагами.
И тут произошла сцена, которая запечатлелась в моей памяти на всю жизнь. Это была мизансцена шекспировского накала! Конинский встал за столом по стойке смирно. И, не глядя Терченко в глаза, а отведя свои куда-то в сторону, видно, нелегко ему было в эти секунды, сказал:
– Товарищ генерал, вы оклеветали боевого, порядочного офицера, я больше не могу бывать в вашем доме.
Наступила пауза. Она длилась, наверное, несколько секунд, но мне показалась бесконечной. Я не верил своим ушам. Не воспринимал происходящее как реальность. Произошло что-то невероятное.
Впервые я увидел Терченко бледным. Он не мог сказать ни слова. Только зло посмотрел на меня, видимо, посчитал виновником в такой перемене к нему Василия Алексеевича, коротко молвил:
– Ну, что же, – и быстро вышел из кабинета.
Конинский, как будто ничего не произошло, сказал мне:
– Продолжайте, пожалуйста.
Я стал излагать дальше ход занятий на сегодня, но во рту вдруг стало очень сухо, язык плохо меня слушался. Но я довел доклад до конца. А генерал спокойно произнес:
– Хорошо! Я пойду на занятия в третью пулеметную роту. Вы действуйте по своему усмотрению.
Я поспешил в свой кабинет. Залпом выпил стакан воды. Нет, не с похмелья пересохло в горле. Я не мог прийти в себя от того, что произошло в кабинете Конинского. Так отрезать человека, с которым знаком с двадцатых годов. И за что? За то, что он, наверное, наговорил обо мне что-то нелестное.
Правильно говорят, человека можно познать не по словам, а по поступкам. Вот на моих глазах произошел поступок, который характеризует Василия Алексеевича как благороднейшего и порядочного человека. Терченко действительно оболгал меня, и Конинский убедился в этом, расспросив меня в нашей ночной беседе и поговорив с другими офицерами. Оценил он и то, что я после рюмок коньяка не забыл о службе и «как штык» был на своем месте к подъему. Все это и заставило его так обойтись с Терченко.
Никогда на протяжении нашей многолетней дружбы мы не вспоминали этот эпизод, хоть и был он действительно на уровне шекспировских страстей.
С той минуты я полюбил Василия Алексеевича навсегда. И он ко мне относился с теплой отеческой заботливостью.
Именно отеческой, он и хвалил, и журил меня всегда очень справедливо, желая прежде всего добра сегодня и в будущем.
Мы подружились семьями. Его жена Людмила Григорьевна, в противоположность ему, была веселая, компанейская женщина. Две дочки: Наташа – 1941 года рождения и Света – 1946-го, стали и для меня родными и близкими – я в те годы был холостяком: еще в Москве умерла во время операции моя жена.
Василий Алексеевич бывал часто в моей семье, я жил тогда вместе с матерью и отцом в небольшом домике недалеко от училища.
Василий Алексеевич пренебрегал предрассудками и даже некоторыми официальными условностями, например на Пасху с корзиночкой, в которой были крашеные яйца, генерал в полной форме шел поздравить мою мать. В училище он устраивал настоящие русские свадьбы, когда кто-то из курсантов решал жениться. Да и невест многие подбирали по рекомендации Василия Алексеевича. Рядом с училищем, отделенный забором, находился Медицинский институт. Конинский всячески поощрял знакомства и сближения курсантов с медичками. Он говорил: «Врач – лучшая жена для офицера». В заборе была приличная дыра, ее не заделывали, визит через эту дырку к медичкам не считался «самоволкой».
Когда созревала очередная свадьба, Василий Алексеевич устраивал настоящее русское бракосочетание со сватами и хорошим застольем для близких, друзей и родных жениха и невесты. Помогал деньгами из скромных училищных фондов. А иногда офицеры пускали «шапку по кругу».
За короткое время генерал Конинский стал самым близким и любимым человеком для офицеров и курсантов училища.
К сожалению, мне недолго пришлось послужить вместе с Василием Алексеевичем, сделали всего два выпуска. Хрущев сокращал армию, мою должность ликвидировали. Предстояло переходить куда-то на другую работу.
Василий Алексеевич, опять же по-отечески, со мной побеседовал, дал совет:
– Ты в управление кадров за высокой должностью не гонись. По положению, как зам. начальника училища, тебе полагается должность замкомдива или начальника штаба дивизии. Могут предложить в какое-нибудь управление в штаб округа. Не соглашайся ни в коем случае. Самая хорошая для тебя должность и школа на будущее – это командир полка. Все крупные военачальники начинали восхождение с этой должности. Ты прямо попроси кадровиков – дайте мне полк. Они любят назначать на ступень ниже положенного. Вот ты и попроси. Они будут рады выполнить твою просьбу…
И верно, все произошло, как предсказывал Конинский – я попросил, и меня назначили командиром полка, который стоял недалеко, в 35 километрах от Ташкента, в Чирчике. Меня это устраивало со всех точек зрения – дом родителей рядом, дорогое училище и Василий Алексеевич тоже близко.
Кадровик, который занимался оформлением моего назначения и писал представление командующего округом на подпись министру обороны, сказал:
– Повезло вам с начальником, не встречал я за свою работу такой аттестации, какую вам написал Конинский. Хотите почитать?
Он раскрыл мое личное дело там, где была вложена последняя аттестация. Конинский рекомендовал обязательно назначить меня командиром полка. Последние стоки меня поразили и обрадовали. Заслужить такое, наверное, мало кому удавалось, и я горжусь этим. Конинский написал в заключение: «Растущий, крупный военачальник Советской армии».
После моего отъезда из училища дружба наша с Василием Алексеевичем не прерывалась. Он часто бывал в моем полку, а я на различных торжествах в училище, все же мой геройский портрет представлен в музее училища.
Продолжалась и дружба семьями. Василий Алексеевич стал участником исторического для нашей семьи события. Я, наконец, высмотрел себе подругу жизни. Был я в те годы еще молодой человек, исполнилось тридцать четыре, полковник, Герой – в общем, модный жених. Пытались мне просватать дочек очень влиятельных личностей. Но Конинский говорил:
– Тебе нужно не положение в обществе, не богатство. Ты строевой офицер, и тебе нужна боевая подруга в жизни, настоящий друг, готовая к трудностям нашей офицерской кочевой судьбы и к жизни в дальних гарнизонах.
И вот однажды в театре во время антракта я увидел трех девушек. Одна из них сразу мне очень понравилась – чистое румяное лицо, веселые глаза, хорошая фигура и коса в руку толщиной до пояса. Ну, настоящая русская красавица! Я с ними познакомился, спросил:
– Где ваши кавалеры?
Они пошутили:
– Сегодня мы от них отдыхаем.
– А не страшно после спектакля ночью возвращаться домой?
– Не боимся.
– А у меня машина, могу вас подвезти.
Они согласились. Разумеется, двух других я развез первыми, а свою симпатию оставил напоследок. Она оказалась студенткой третьего курса пединститута, а до него окончила медицинское училище. Живет со старшей сестрой в маленькой комнатушке. Отец погиб на фронте. И как только стало об этом известно, богатенький сосед вышвырнул вещички сестер на тротуар и пробил дверь из своей квартиры еще и в ихнюю соседнюю, которая ему давно нравилась. Жалобы в военкомат, в местные органы не помогли. Так вот и ютились сестры-студентки в одной комнатке, в ожидании благополучия после получения дипломов. А тут, как говорится, я и возник в их поле зрения.
Познакомил Женю с родителями, с Конинскими. Общее впечатление – выбор прекрасный.
И стал Василий Алексеевич посаженным отцом на нашей свадьбе! Они с Людмилой Григорьевной были и официальными «свидетелями», ездили с нами в загс. Потом, как и полагается, Конинский перекинул рушник через плечо, сидел за столом рядом с моими родителями в генеральской форме, торжественный и важный, украшал застолье остроумными шутками. В общем, состоялась настоящая пышная «свадьба с генералом».
Так мы окончательно породнились с Василием Алексеевичем Конинским.
Стали мы с Женей обживать большую командирскую четырехкомнатную квартиру. Василий Алексеевич с Людмилой Григорьевной и девочками приезжали к нам в гости. Генерал шутил:
– Ну, настоящие спартанцы!
У нас были меблированы всего две комнаты: столовая – голый стол, три стула и спальня – две солдатские кровати, две тумбочки, две табуретки. На стене, у кроватей, вместо ковров – газеты, чтобы не пачкаться о побелку. Под ногами они же – не наступать на холодный пол.
– Надо тебе обживаться – ты большой человек – командир полка! – то ли шутил, то ли журил Василий Алексеевич.
К следующему визиту Конинских Женя купила на очередную мою зарплату тюль и повесила его на окна обжитых двух комнат. Стало уютно и домовито.
Конинский похвалил:
– Молодец, Женечка, не себе купила финтифлюшки, а дом украсила. Смотри, как пригоже стало!
В полку дела шли хорошо. В те годы не было никакой дедовщины. Солдат можно было отличать по внешнему виду: худенький, светлолицый – первогодок, загорелый, грудастый, мышцы распирают гимнастерку – третий год службы.
По старому штатному расписанию полк числился как горно-стрелковый. Но не было у нас горной подготовки и какого-нибудь специального оборудования. А горы были рядом, с зачетной более чем трехтысячной высотой – Чимган. Зачетной называется потому, что кто поднимается на этот пик – получает звание-удостоверение «Альпинист 1-й степени».
Посоветовался я со своими заместителями подполковниками: Малаем – бывшим лихим кавалеристом, «комиссаром» Мелибаевым, он называл себя «русский татарин», и Тайлыбаевым, казахом, который со смехом рассказывал, как он кричал «Вперед, ребята!» и сам плыл на каком-то заборе при форсировании Днепра, называлось это «на подручных средствах». А о том, что он сын степей и плавать не умеет, совсем забыл, главное – всем вперед!
Прикинули мы, как приблизить наименование горно-стрелковый: послать на пик полковую команду альпинистов, сделать сборную роту из представителей всех подразделений полка или штурмовать Чимган побатальонно. Я решил – мелочиться не будем, полк горный, значит, каждый солдат должен иметь звание и значок альпиниста. Приказал разработать тактический фон, и будем проводить учения с обстановкой, как при боевых действиях по истреблению басмаческой банды, засевшей на пике.
В штабе округа, в управлении боевой подготовки мою инициативу одобрили, прислали специалистов-альпинистов во главе с мастером спорта и чемпионом какого-то трудного восхождения, помню и сейчас фамилию этого бравого старшего лейтенанта – Нагель.
Начались обучение и подготовка. Короче говоря, в назначенный день поднялся полк по тревоге, совершил марш, разбил лагерь у подножия Чимгана, отдохнули, надели горные ботинки, взяли альпенштоки, канаты и прочее. Сказал я перед строем пламенную речь и «За мной, вперед!» Я впереди, за мной заместители и работники штаба и далее поротно весь полк. Затея так всем понравилась, что даже повара и рабочие кухни попросились участвовать в восхождении.
Все было прекрасно до тех высот, где нас ожидали почти вертикальные стены. Здесь пришлось вбивать в лед скобы, обвязываться веревками и подниматься со всеми мерами страховки. Когда я оглянулся, достигнув только середины этого почти вертикального подъема, у меня закружилась голова. И я вспомнил советы инструкторов – вниз не смотреть. Только вперед. И еще я вспомнил рассказ начальника штаба Мелибаева, сына степей, который, не умея плавать, кричал при форсировании Днепра на заборе «Только вперед, ребята!» Вот и я крикнул «Только вперед!», а сам подумал: какой же я глупец, что затеял это восхождение! Несколько солдат уже сорвались и спаслись благодаря веревкам и помощи соседей. Наверняка кто-нибудь свернет себе шею или разобьется. И не один! И оторвут за ЧП старшие начальники мою буйну голову за эту затею! Сидел бы тихо в своем Чирчике, занимался боевой подготовкой, как положено. Нет, в альпинисты решил вылезти! Снимут меня, как пить дать!
Но на вершину все же взошли благополучно. Дали победный салют. Оставили записку, как положено у альпинистов. И водрузили небольшой бюст Ленина, который несли по очереди, да еще воду и цемент для закрепления бюста.
Ну, думал, назад будет легче. Но оказалось назад страшнее. Когда лезешь вверх, взор упирается в каменную твердь, а пошли вниз – тут перед глазами распахнулось пространство, которое так и тянет к полету. А полет здесь после неосторожного шага такой, что внизу, как шутили солдаты, «от тебя только каблуки и сопли останутся!»
Признаюсь, очень я боялся и за себя, и за подчиненных, и за свою судьбу в случае каких-нибудь ЧП.
Но все, слава Богу, обошлось благополучно, было несколько срывов, небольшие ушибы. Но в целом все мы стояли в строю уже в новом качестве «Альпинисты 1-й степени». Весь полк, даже повара!
С чем я при построении и поздравил своих подчиненных. Они без команды закричали «Ура!» и, если бы не дисциплина, наверное, кинулись бы меня качать.
Устали все страшно. Восхождение длилось весь день. Попили чайку. Поели кашу. И завалились все спать богатырским сном.
Я все это подробно рассказываю не напрасно. Это не отступление от темы о генерале Конинском, потому что, когда я спустился с пика Чимган, внизу ожидал генерал Конинский! Он просто сиял, разделяя со мной радость благополучного восхождения. Он знал, я ему рассказывал о своей затее. И вот приехал в горы старый хромой служака. Приехал к другу на случай горя или радости. Не оставил без внимания при любом исходе. Все могло быть.
Мы пошли в мою палатку, выпили не только чайку, но и бутылку беленькой, которую привез Василий Алексеевич. Как он сказал: «Подкрепиться с устатку!» (от русского слова «усталость»).
Подкрепились. И сидел я у откинутого полога палатки, разомлевший, счастливый и до смерти утомленный.
Вдруг увидел – несет что-то старшина в термосе. Я подумал – свежий чай. Окликнул:
– Заверни к нам, попотчуй горяченьким чайком.
А он отвечает:
– У меня кумыс, товарищ полковник. В соседнем ауле местные жители подарили.
– Ну, давай кумысом полакомимся…
Налил он нам полный котелок и ушел. Пили мы с Василием Алексеевичем холодный, ядреный кумыс, крякая от удовольствия. А через десять минут ругал меня генерал во всю Ивановскую:
– Черти тебя видели с твоим кумысом! Отрезвел я, стал как стеклышко. Весь заряд пропал, к чертям. Ни в одном глазу!
Я тоже отрезвел от кумыса начисто, будто и не пил водки. А ругался Конинский потому, что восстановить, как он сказал, «душевное состояние» нечем. Он привез всего одну бутылку. А магазинов в горах нет. Да и ночь уже наваливается.
Так и легли мы спать чистые и безгрешные, как ангелы. А Василий Алексеевич еще долго ворчал на своей раскладушке.
Позднее я получал назначения в другие далекие гарнизоны: на Памир, в Каракумы и, наконец, в Кушку, дальше которой, как известно, уже не пошлют – это самая южная точка. В ней я прослужил почти пять лет и уволился в запас, отслужив 25 календарных, получив пенсию и право носить военную форму пожизненно.
Не соблюл я аттестацию и пожелания генерала Конинского, не получился из меня «крупный военачальник Советской армии». Литература взяла верх, пошел я в бурную писательскую жизнь.
Но мы не теряли связь друг с другом, изредка обменивались письмами.
Я знал: постигла в 1958 году генерала большая служебная беда – его уволили в запас, хотя было ему 57 лет, и он мог бы, по положению о прохождении службы, оставаться в армии до 60 лет.
Но какие-то подлецы состряпали подлый донос «наверх», якобы генерал Конинский организовал «черную кассу» и распоряжается ею по своему усмотрению. В действительности Конинский задумал воздвигнуть перед фасадом училища мраморный обелиск с именами бывших курсантов, отдавших жизнь за Родину. На сооружение этого памятника и накапливались деньги. При проверке все взносы оказались целы. Ни копейки не было израсходовано. Однако с этим не посчитались и уволили заслуженного генерала, блестящего воспитателя и педагога, который мог бы принести армии еще много пользы.
Правда, уволили не в дисциплинарном порядке, а по состоянию здоровья и по возрасту.
Помощник командующего войсками ТуркВО по вузам, генерал-майор Шевченко написал Конинскому такую последнюю аттестацию:
…Дисциплинированный, требовательный к себе и к подчиненным, инициативный, энергичен. В достижении поставленной цели настойчив.
Обладает организаторскими способностями. Благодаря наличию большого практического и боевого опыта сумел организовать офицерский коллектив училища и направить их знания на правильное обучение и воспитание будущих офицеров и привитие им практических навыков.
За период пребывания в училище проделал значительную работу по улучшению учебно-методического процесса, полевой выучки курсантов и наведению внутреннего порядка в подразделениях.
Политически развит. В своей работе постоянно опирается на партийно-политический аппарат, умело направляя их на выполнение задач, стоящих перед личным составом училища.
Основы организации и ведения общевойскового боя в масштабе дивизии, а также тактику противника знает хорошо.
В тактической обстановке ориентируется быстро, решение принимает правильно и настойчиво проводит его в жизнь.
Проводимые в течение 2 лет выпускные экзамены показали, что молодые офицеры-выпускники имеют достаточную теоретическую и методическую подготовку. И в этом большая заслуга принадлежит лично генералу тов. Конинскому.
Характер общительный, в быту скромен, пользуется деловым авторитетом среди всего личного состава…
Имеет тяжелое ранение, для службы в строю не годен.
Делу Коммунистической партии и социалистической Родине предан.
Вывод: Должности начальника училища вполне соответствует.
– По выслуге лет в Советской армии, по состоянию здоровья, по возрасту целесообразно уволить в запас.
– В военное время может быть использован в должности помощника командующего войсками по ВУЗам.
Помощник командующего войсками
ТуркВО по ВУЗам
Генерал-майор Шевченко
23.4.58 г.
Последний раз мы встретились с Василием Алексеевичем в 1975 году в Москве. Я уже был гражданским, работал заместителем главного редактора журнала «Октябрь», имел несколько изданных книг.
Конинский приехал ко мне из Пятигорска, где он поселился с семьей после увольнения из армии. В столице у него никаких дел не было. Жил он неделю в моей квартире, мы отвели ему нашу гостиную. Многое мы вспоминали за эти дни: первую нашу встречу, как он женил меня на Евгении Васильевне, как мы отрезвели от кумыса под Чимганом. Теперь он беседовал с моими детьми Васей и Олей, как я когда-то с его маленькими Наташей и Светой.
Днем я уходил на работу, а генерал отправлялся «побродить» по столице. Вечерами опять начинались приятные воспоминания.
Однажды, возвратясь с работы, я застал Василия Алексеевича за читкой газеты, в которой была напечатана моя рецензия на новый роман Юрия Бондарева. Генерал, как бы размышляя, сказал:
– Чтобы так анализировать – и кого, самого Бондарева! – нужна огромная эрудиция. И она у тебя есть. Очень убедительно ты написал и о достоинствах, и о недостатках. Молодец!
Это была последняя мне аттестация генерала Конинского.
Говорят, человек предчувствует свой конец. Даже будучи вполне здоровым, Василий Алексеевич почему-то приехал ко мне повидаться. Почти двадцать лет не виделись, и вдруг что-то его подтолкнуло встретиться со мной. А может быть, попрощаться… В начале 1978 года он скончался.
То, что он приезжал ко мне перед смертью, дает мне право сказать, что мы были очень близкими друзьями и любили друг друга. Я не знал о его кончине. Продолжал жить и писать в Москве. Но судьба преподнесла мне грустный и радостный, печальный и теплый подарок – я встретился еще раз с Конинским в Пятигорске.
Произошло это очень неожиданно. Мэр города Пятигорска Васильев Юрий Викторович и его заместитель, страстный книгочей и вообще очень эрудированный человек, Игорь Васильевич Калинский, узнав, что я нахожусь в санатории в Кисловодске, пригласили меня посетить Лермонтовские места. Юрий Васильевич, добрейшая душа, уделил мне максимум времени из своего невероятного мэровского замота и поручил сопровождать меня Игорю Васильевичу. Мы объехали с ним все места, связанные с памятью о Лермонтове. А напоследок предложили мне познакомиться с мемориалом «Огонь вечной Славы», около которого на посту № 1 вот уже тридцать лет, сменяя друг друга, стоят представители молодого поколения. Разработан торжественный ритуал смены часовых. В музее при мемориале проводятся встречи со знаменитыми людьми. Побывали здесь и побеседовали с ребятами Знаменосец Победы М.В. Кантария, летчики-космонавты П.Р. Попович, А.С. Иванченков, В.В. Коваленок, Ю.В. Романенко, В.В. Горбатко, В.И. Севастьянов, Председатель Совета министров СССР АН. Косыгин, Маршал Советского Союза Д.Т. Язов, академик Е.П. Велихов, министры С. Иванов, Б. Грызлов, директор ФСБ Н. Патрушев и многие другие.
И вот мой добрейший сопровождающий Игорь Васильевич Калинский приглашает и меня в музей. Я ему сказал:
– Хорошая у вас фамилия, почти Конинский. Он замечательный генерал, фронтовик, мы с ним служили и дружили.
Игорь Васильевич остановился, видимо, от неожиданности:
– Генерал Конинский – один из основателей этого поста № 1. Мы с ним задумали, организовали, а потом и укрепляли, расширяли все здесь происходящее. Пойдемте в музей, я вам покажу, как мы храним память о Конинском.
Мы быстро вошли в светлую залу, и меня подвели к бюсту Конинского на пьедестале. Очень похож. Я был взволнован до слез. Трогаю бюст, хочется ощутить тепло Василия Алексеевича, но рука встречает холодный гипс.
– Когда он умер? Где похоронен?
Игорь Васильевич отвечает:
– Скончался он 3 августа 1978 года. Внезапно, во время операции. Похороны состоялись 5 августа. Хоронили Василия Алексеевича почти все пятигорчане. Он был Почетный гражданин города. Мы с ним были добрыми друзьями. Василий Алексеевич был посаженным отцом на моей свадьбе.
– Вот это сюрприз! Удивительные совпадения преподносит нам жизнь. Он и на моей свадьбе был посаженным отцом в Ташкенте. Значит, мы с вами родственники, Игорь Васильевич.
– Выходит, так!
Начинается целый вихрь быстрых воспоминаний и восклицаний. Осматривали экспонаты музея, на многих фотографиях запечатлен Конинский – с первых дней существования поста № 1.
После осмотра состоялась моя встреча-беседа с юнармейцами. А затем я попросил Игоря Васильевича показать мне могилу Конинского. Заехал, купил цветы. И вот мы на последнем пристанище, которое ждет каждого из нас.
На центральной аллее – скромный памятник с барельефом Василия Алексеевича. У памятника, хоть и немного привядшие, но живые цветы. Значит, помнят, приходят.
– Кто-нибудь из родственников навещает? – спросил я, показав на цветы.
– Родственников в Пятигорске не осталось. Дочь Наташа вышла замуж, живет в Киеве, недавно приезжала. Я дам вам ее адрес и номер телефона. А цветы от нас, от горожан. Мы помним Василия Алексеевича.
Надо ли писать о том, какие воспоминания и сколько благодарных мыслей о Василии Алексеевиче возникло в моей памяти около этого памятника. Я положил цветы. И опять рука потянулась к памятнику, к барельефу, и на сей раз рука ощутила холод мрамора.
Да, все тепло Василия Алексеевича осталось здесь на земле в наших сердцах. И я ощутил это тепло в дни пребывания в Пятигорске особенно реально.
Это тепло, эта светлая память о генерале Конинском Василии Алексеевиче будет греть наши сердца и до наших последних дней.





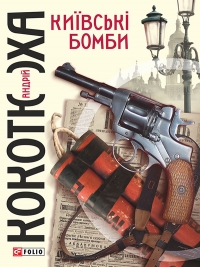
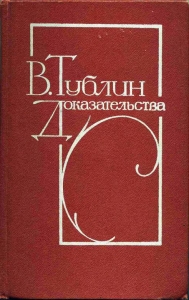
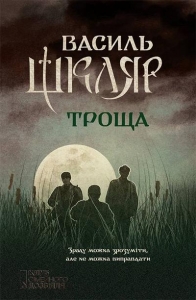
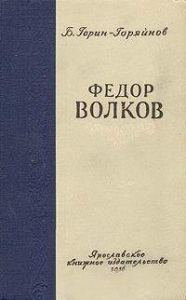
Комментарии к книге «Се ля ви… Такова жизнь», Владимир Васильевич Карпов
Всего 0 комментариев