Историческая хроника
Б. Костюковский, А. Садовский Г. П. Чиж и его литературный труд
Предисловие
Автор исторического повествования «К неведомым берегам» Георгий Прокофьевич Чиж (1876–1951) был человеком необыкновенно широких интересов. Географ, историк, юрист, экономист, изобретатель, писатель — Георгий Прокофьевич в каждой из своих профессий проявил большую одаренность, острый, пытливый ум, исследовательский характер мышления.
Г. П. Чиж родился в 1876 году в Варшаве, там же получил среднее образование, а в 1899 году окончил юридический факультет Варшавского университета. Тогда же он стал преподавателем истории и географии на Польских Высших женских курсах, позднее преподавал эти предметы в Суворовском кадетском корпусе и в Варшавском реальном училище. Уже тогда зародилась у него любовь к историко-географическим исследованиям.
В кадетском корпусе возник нелегальный революционный кружок учащихся, вскоре раскрытый начальством. Г. П. Чиж публично выступил в защиту участников кружка, уволенных из корпуса. Ученики были возвращены в корпус под давлением общественных кругов, но преподавателю пришлось переменить род деятельности.
Служба в Варшавском коммерческом суде помогла Г. П. Чижу обогатить свои знания в области экономики промышленности. В 1916 году Г. П. Чиж начинает работать в правлении заводов «Гусь Хрустальный». Здесь его застает Великая Октябрьская социалистическая революция.
После национализации предприятий он по уполномочию рабочих и служащих отправляется в Москву ходатайствовать о пуске заводов и добивается успеха. Вскоре он начинает работать в ВСНХ. Здесь ему пришлось соприкоснуться с торфодобычей, которая его заинтересовала настолько, что он поступил в Торфяную академию. Уже в зрелом возрасте, после сорока лет, Г. П. Чиж приобретает новую специальность и с присущей ему любовью к труду делает много полезного для страны в этой новой для него области.
В 1929 году Г. П. Чиж вступил в экономическую группу Ангарстроя и занялся проблемами освоения природных богатств — прежде всего лесных Иркутской области.
С 1931 по 1934 год он читает лекции в качестве доцента в Московском государственном университете, затем участвует в экспедициях, изучающих природные богатства Восточной Сибири.
После 1935 года он принимает участие в разработке экономических перспектив Большой Волги.
Г. П. Чиж написал 34 научные работы, освещающие пути использования природных сокровищ Родины. Кроме того, он получил 15 охранных свидетельств на различные изобретения. Среди них — реконструкция ткацкого станка, коренные улучшения деревообрабатывающих станков…
Этот необычайно деятельный человек проявил свою одаренность многосторонне, но особенно увлекала его мечта внести свой вклад в родную русскую литературу. Многие годы Г. П. Чиж отдал работе над своеобразным повествованием, посвященным подвигам русских первооткрывателей, землепроходцев, мореплавателей Шелихова, Баранова, Резанова, Крузенштерна, Лисянского, Невельского и их сподвижников, открывших русскому народу пути на Дальний Восток. Для того чтобы написать этот труд, автор изучил такое множество историко-мемуарных и архивных материалов, что их список составил бы еще одну объемистую главу этой книги.
Настало время познакомить читателей со всем большим трудом писателя-ученого, влюбленного в доблесть патриотов первооткрывателей, в трудовой размах, кипучую энергию русских людей, вышедших к неведомым, суровым берегам Дальнего Востока, Аляски, устья Амура.
Рукопись в полном ее объеме представлена издательству дочерью покойного писателя — Т. Г. Чиж.
Герои этой повести-трилогии — Г. И. Шелихов, А. А. Баранов, Н. П. Резанов, И. Ф. Крузенштерн, Ю. Ф. Лисянский, Г. И. Невельской — принадлежат к числу тех людей, которыми гордится наша Родина. В последние пять лет недалеко от Иркутска вырос новый город металлургов. По ходатайству общественных организации ему присвоено имя Шелихова. Памятник Резанову в Красноярске запечатлел уважение потомков к этому мужественному человеку, сослужившему добрую службу России. Памятник Крузенштерну в Ленинграде, во дворе Морского корпуса, увековечил заслуги руководителя первого русского кругосветного плавания.
Мы, как литературные редакторы этой книги, считали необходимым сохранить стилевые особенности языка автора (несколько архаического). Мы отдаем себе отчет в том, что работу над книгой автор не успел закончить, и поэтому нам пришлось, пользуясь обширным архивом покойного Г. П. Чижа, взять из его рукописи только то, что сам он считал готовым для опубликования.
Наши молодые читатели с интересом познакомятся с правдивой, основанной на многократно проверенных исторических данных повестью о людях, чьи самобытные характеры и спорные судьбы отразили дела своей эпохи и жизнелюбивую, деятельную природу русского народа.
Б. Костюковский, А. СадовскийЧасть первая «ЗЕМЛЯ РОССИЙСКОГО ВЛАДЕНИЯ»
1. Григорий Шелихов расправляет крылья
Среди нескольких сотен рубленых домишек города Рыльска, когда-то столицы особого княжества, имевшей и собственный герб — кабанью голову и речку Рыло, одна глубоко вросшая в землю избушка в средине XVIII века принадлежала мешанину Ивану Афанасьевичу Шелихову.
Рыльск не без основания гордился своей многовековой бурной историей и участием в сколачивании Российского государства: горел и сравнивался с землей половцами, татарами, поляками. Разрушенный и опустевший, доселялся выходцами из соседних городов и, кряхтя, снова отстраивался в ожидании нового нашествия или пожара. Однако никогда не падал духом и упорно продолжал свою незатейливую, но оживленную торговлишку.
Ивану Шелихову жилось трудно — многочисленная семья подрезала крылья: мальчишки поголовно росли ничему не обученными, а девицы-бесприданницы большей частью оставались вековушами.
Из мальчиков некоторые надежды «выйти в люди» подавал только Гриша, приглянувшийся приезжему из Курска купцу Ивану Илларионовичу Голикову. Мальчик прижился в его семье, выучился читать, писать и бойко считать на счетах и незаметно стал дельным подручным у рыхлого стареющего купца. Подвижной характер любознательного мальчика и успешное исполнение даваемых поручений вызвали и частые поездки его даже в Санкт-Петербург, к заводчику Демидову и далеко на Урал, когда Демидов засиживался там на заводах.
Составление рекрутских списков в 1770 году нарушило спокойное течение жизни молодого Шелихова: он был вызвал в Рыльск для жеребьевки.
Не повезло — выпала на долю бессрочная солдатчина…
— Сломаешь жизнь-то, — говорил старый Шелихов, невольно любуясь силой и статной фигурой сына и в душе признавая, что рослый красивый детина так и просится на коня.
— Генералом стану, отец, — смеялся Гриша.
— Не греши и не шути, — вмешалась мать. — Не дворянин, чай. Дворянам, что уже в пеленках полками командуют, и то ноне служба нелегкая. А на несчастье в гвардию запишут — сопьешься. А еще хуже — собьют с пути истинного. Лучше подайся куды-нибудь да выходи в купцы. Солдат-то и без тебя в том же Рыльске полно.
Вернулся Гриша в Курск попрощаться.
— Откупиться нельзя? — деловито осведомился прижимистый Голиков, хотя ему хорошо было известно, что это делается простым представлением «охотника» — за деньги.
— Вот что, — внушительно и твердо сказал старик, — сегодня же подашься на Урал к Никите Никитовичу — он сейчас там. Напишу письмо — укроет. И научит, как там дальше…
С тяжелым сердцем отправлялся Гриша в путь. То, что старик не захотел выкупить нужного ему человека, больно ударило по самолюбию. Проявленная Голиковым скаредность была тем более обидна, что «охотники» шли за две, много за три сотни.
«Скряга», — подумал он и решил ни о чем больше не просить купца и никакого дела с ним не иметь.
Никиту Никитовича на заводах Гриша не застал, но зато свел знакомство с несколькими молодыми, как и он, людьми. Недавние знакомцы устремлялись дальше — в Сибирь. Они охотно отвечали на вопрос: «Куда подаетесь?» — но уклончиво бурчали, как только их неуместно спрашивали: «Зачем?» «Так, отвечали, — просто белый свет посмотреть».
До Иркутска добрался Шелихов уже один, растерявши спутников по дороге. Из Иркутска, по совету людей бывалых, направился в Кяхту попытать счастья в торговле с Китаем.
Накопленные в Курске деньги быстро таяли, но Григорий Иванович не унывал: он был уверен, что легко нащупает верные для заработка тропочки. Ничего не сулила хорошего в Кяхте поставленная торговля чаями — тут на посредничестве не разживешься, прибыльнее была мануфактура: сукна российские, даба китайская. Но самым выгодным оказалось пополнять недостающую в ассортименте пушнину: сплошь да рядом привозили исключительно добротные шкурки, но не в «ассортименте», а из-за этого скупщики требовали большой скидки. Особенно же часто это случалось из-за недостачи обыкновенной белки — она должна была составлять примерно четверть партии шкурок.
Это обстоятельство побудило Григория Ивановича заняться скупкой на севере беличьей шкурки, годной к обмену на охотничьи припасы.
Постоянные разъезды, выносливость и личное знакомство с охотниками уже в три года поставили молодого Шелихова на ноги. А природное любопытство, страсть посмотреть на все собственными глазами закинула его в развивающийся Охотск и на Камчатку: в Нижнекамчатск, Петропавловск, Большерецк, где частенько околачивались прибывавшие с котиковых промыслов люди, производился дележ привезенной ими добычи и совершались выгодные для скупщиков сделки.
Через несколько лет Григорий Иванович Шелихов на иркутском и более обширном сибирском и даже бескрайнем восточном горизонте становится заметной величиной: он связан со всеми крупными купцами, ведущими торговлю пушниной. Завелись у него кое-какие деньжата, женился… Про жену говорили: бесприданница, но красавица. За красоту и взял.
— Наплачется, — толковали про мужа скептики. — У нас в Сибири, почитай, одни мужики живут — на тридцать одна девка… Скоро собьется с пути. Долго ль до греха!
— Да она его, почитай, и не видит, разве в пасху да в рожество.
— Думаешь, лучше, если не одна, а кругом народ, — в городе?.. Еще хуже.
Жили Шелиховы в Охотске. Видели, как уходили надолго в море корабли, как неожиданно возвращались с несметными богатствами… А то и гибли.
— Хочу и я рискнуть, Наталья Алексеевна, — сказал как-то Григорий Иванович жене. — Купца Алина знаешь?
— Луку Петровича? Лысого? Знаю.
— Ну вот, с ним… Решил снарядить кораблик на острова.
— В доле с ним?
— Само собой, в доле. Однако на свои…
— А сорвешься?
— Сорвусь, опять начнем копить… Как думаешь?
Наталья кинулась на шею мужу:
— Умница!.. А то все «коплю» да «боязно»!
— Приглядываюсь, Наташа. Ведь и правда боязно.
— Так можно всю жизнь в щелку проглядеть. Трапезниковы, Пановы, Алин, Шилов разбогатели? А ты — «боязно»! Волков бояться — в лес не ходить…
И наличные деньги уплыли. Не прошло и двух месяцев, как письмо из Иркутска — от Голикова. Опять Григорий Иванович советуется с женой:
— Слушай, Наташа… Пишет, что взял с торгов питейный откуп в губернии Иркутской. Дознался, что я с Алиным снаряжаю кораблик на Алеутские острова. Вот и он хочет попытать счастья, предлагает вместе строить корабль.
— Что же ответишь этой свинье?
— Свинья-то свинья, а отвечу: согласен…
И начались у Григория Ивановича большие дела — с Алиным, с Лебедевым-Ласточкиным, с Пановыми, с Голиковым, с Кознугиным… Каждый год уходят в далекое плавание купеческие суденышки: в 1776 году «Св. Павел» — из Нижнекамчатска, в 1777-м — «Св. Варфоломей», «Варнава» — из того же Нижнекамчатска и «Св. Андрей Первозванный» — из Петропавловска, в 1778-м «Св. Николай» — из Большерецка, в 1779-м «Св. Иоанн Предтеча» — из Петропавловской гавани…
А ходит Григорий Иванович мрачнее тучи. Мечется из конца в конец по всему краю, на Ураке, под Охотском, строит корабль, в Якутии скупает меха, какие только попадутся, на иркутском севере гоняется за белкой, в Кяхте посредничает и в мануфактуре и в пушном торге… Заработки большие, а уплывают сквозь пальцы. В долгу, как в шелку… Озабочен, отощал. Лихорадочно, неспокойно горят глаза. Сила, однако, не угасает…
— Подумай, Наташа, четыре года! Шесть кораблей туда, в море, и ни одного — обратно… Не знаю, что делать, как изворачиваться дальше.
— Трудно… понимаю… Занять еще? — неуверенно предлагает Наталья и конфузится, стараясь как-нибудь скрыть располневший живот.
— Занять?.. Да знаешь ли, сколько нужно теперь кредиту?
И на вопросительный взгляд сам оглушает суммой:
— Пятьдесят!
Заметив, что лицо жены вдруг покрывается ярко-красными пятнами, Григорий Иванович продолжает успокоительно:
— Да не волнуйся, как-нибудь справимся… Теперь на троих придется… говорит он и нежно гладит Наташу по плечам.
Но дела осложняются: расходы увеличиваются, приближаются сроки оплаты векселей. Что-то будет?..
Август восьмидесятого года. Григорий Иванович прямо из Иркутска, в пыли, обливаясь потом и не останавливаясь у конторы, мчится домой, почти не взглянув на густо покрытый туманом залив.
Еще стоя на тележке, спрашивает:
— Дома все благополучно?.. Наталья Алексеевна? Анютка?
Вот и Наташа с Дунюшкой на руках. Григорий Иванович спрыгнул на землю и отступает назад, пораженный красотой жены и очарованный ее лукавой усмешкой. Да, он хорошо знает эту лукавинку в ее усмешке, и ямочки на матовом румянце щек, и васильковые глаза с искрой… Сегодня в ней что-то новое, никогда еще не виданное — сияющее, счастливое.
— Ты ничего не слышал, Гриша?
— Нет…
— Тогда, — задыхается она, — получай: прибыл с богатым грузом «Павел».
— Что? Где? Здесь его на рейде не видел.
— Здесь… Вчера еще, но успел ли пришвартоваться, не знаю… Куда ты?
— В контору — там, наверное, всё знают, — бросает уже на ходу разволновавшийся Григорий Иванович.
Для него ведь это не просто «Павел», хотя бы и с богатым грузом. Его возвращение — это спасение от позора и нищеты…
А там и пошло: другой «Павел» — сто семьдесят тысяч, «Андрей Первозванный» — сто тридцать, «Варфоломей» и «Варнава» — шестьдесят…
Жизнь закружилась в бешеном водовороте: покупка дома в Иркутске, мучительный зимний переезд, уже с двумя детишками, составление ассортимента мехов для Кяхты, отдельных партий для Петербурга, бесконечные поездки.
Наступила осень 1781 года. Необычная теплынь сохранила на деревьях, в садах и огородах уже давно пожелтевшую, а кое-где и покрасневшую листву. По направлению к дому Григория Ивановича медленно двигались две фигуры. В одной легко было узнать молодцеватого, стройного и высокого хозяина, другая, тумбообразная, широкая и короткая, принадлежала сильно располневшему и состарившемуся Ивану Илларионовичу Голикову, ныне питейному откупщику Иркутской губернии. Голиков отрастил длинную седую бороду, густо покрывавшую все лицо. Среди обросших щек поблескивали маленькие, колючие и суровые серые глазки, не потерявшие до сих пор блеска, хитринки и выразительной жесткой непреклонности.
Голиков сипло и натужно дышал, поминутно останавливался, сбивал суковатой палкой уплотнившуюся серую пыль с выбивающихся из-под заборов и палисадников лопухов. Несмотря на теплую погоду, толстые ноги Голикова обернуты плотной шерстяной тканью и засунуты в необъятные голенища. Подошли к калитке дома Шелихова.
— Ф-фу, запарился! — вздохнул Голиков и остановился перевести дух.
— Зайдите, Иван Илларионович, — пригласил Григорий Иванович, посмотрите, как живем… Чайку попьем на воздухе… Хозяйку мою до сих пор ведь не видали… Дочек представлю…
Они прошли в беседку. Григорий Иванович усадил гостя в обширное камышовое кресло и направился в дом за хозяйкой, крича по дороге:
— Наташа! Наташа! Посмотри, какого я гостя привел!
— Ну его… не выйду… — последовал еле слышный ответ. — Скажи, кормит младенца…
— Прикажи, голубчик, собрать чай. Выйди, разлей по чашкам, а потом спохватишься, что кормить пора, и уйдешь, — последовал такой же тихий ответ.
Минут через десять сидели уже вдвоем с Голиковым за столом, хрустя крепким, как камень, рафинадом.
— Богатеешь, вижу, — заметил гость, пододвигая свою чашку в сторону самовара.
— Какое там богатство! Так, перебиваюсь с хлеба на квас, хотя и не жалуюсь: бог грехи терпит…
— Прибедняешься… А корабли?
— Глупое это дело, Иван Ларионович, скажу просто — не сурьезное. Сам посуди: отправил ты с первым встречным штурманом кораблишко, а с ним четыре, а то и все пять десятков сбившихся с пути промышленных — головорезы, пьяницы, гуляки… И ждешь: не то вернутся когда-нибудь, не то пропадут все, когда и с кораблем вместе.
— Вернутся, — наставительно заметил Голиков, — ан, смотришь, и богат, не ври.
— А вот и вовсе не вру: привезут, допустим, в десять раз больше, а одних издержек за три года нагуляют, почитай, половину! Но ведь три-четыре года капитал-то твой не в обороте! А чем промышлять?
— Ты неразумное сделал — засадил весь капитал. Ведь не карты — сегодня проиграл, завтра отыгрался, — продолжал наставлять Голиков, но Шелихов не слушал.
— Мало того, ты сам посуди, Иван Ларионыч, ведь кажиинный раз начинай дело спервоначала. Ну, дошел на остров — неведомо куда… Сегодня приняли тебя дикари хорошо, ласково, подружились. Не только наменяли все, что у них накопилось, но даже и сами помогали промышлять. А приехал через год — не говорю, через два, три, — натравят на тебя дикарей да вооружат их огнем бостонцы там али англичане, и готово — тут тебе и пуля, и отравленная стрела, и нож в спину… А то и в аманатах[1] у них наплачешься!
— Ну, а как иначе! — Голиков опять подставил чашку.
— Наташа, подсыпь угольков!
Через полминуты ведерный самовар снова захлебывался от усердия.
— Вот я и надумал, — продолжал Григорий Иванович, — первое — корабль всенепременно свой, да не на одно плавание, а навсегда… Не компания для него — бросила кости, получила выигрыш и сама рассыпалась, — а он для компании. Тоже и люди: пришли, провели свои промыслы и разбрелись кто куда. Нет, служи столько-то годов при промыслах, по договору, а потом — смена новыми. Люди меняются, а дело существует и растет, подыскивает вокруг местечки, облюбовывает и — подальше…
— Кажется, ты дело говоришь, — одобрил Голиков, отставляя чашку в сторону. Со скрипом пододвинул кресло, облокотился обеими руками на стол и сосредоточенно уставился прямо в рот Шелихову, приготовившись слушать.
— Я вот и смекаю: надо сколотить небольшую, но крепкую компанию, Шелихов крепко сжал кулак. — Во!.. И послать на острова, которых еще никто как следует не знает, сразу несколько кораблей. И не на один год, а на четыре по крайней мере. Привлечь к себе жителей лаской, подружиться с ними, построиться накрепко, завести промыслы, где пушного зверя много да рыбы для продовольствия… А там собрал на один корабль товару, отправляй тотчас, скажем, обратно в Охотск, где твоя контора. Оборотился — за ним другой, оборотился — третий. Выбирать зверя, само собой, с толком, по расчету… И поверь, ежели будем действовать, как теперь, то своих насиженных и устроенных мест у нас не будет. А защищать твои прибытки никто не станет. Шелихов повысил голос. — Охота государству их защищать?! Есть — ладно, а нет — и не надо. Другое дело — свои новооткрытые земли, государственные, признанные, земли Российского владения!..
Шелихов умолк. Гость задумался.
— Кто же возьмется за такое дело: строить корабли, ехать, бросить дело на много лет? — с сомнением проговорил старый купец и спросил: — Ты возьмешься?.. Окромя всего, деньжищи ведь нужны большие!
— Да, ежели хоть бы три корабля — тыщ сто, — тихо сказал Григорий Иванович. Видно было, что он высказал давно уже выношенную думку, а кое-что даже подсчитал.
— Корабли строить придется, — заметил Голиков.
— Конечно, нужны надежные, новые.
— Что мне пришло в голову, — сказал вдруг Голиков, кряхтя и шумно вставая, — однако пора и по домам… Я говорю «пришло в голову»: на днях должон быть у меня брат, Михаила Сергеич. Двоюродный он мне — ты его знаешь, — откупщиком теперь, вишь, в столицах, в Питере и Москве. Больше двух с половиной миллионов чистоганом в год казне отсчитывает. Сказывает, выгодно… Но что-то уж очень стал сорить деньгами — пролетит… Надо бы ему еще дело какое посурьезнее… А может, даже прокатает сам на острова. Моряк он, капитан, а тут целая эскадра. С ним поговорим… А как ты сам? Ведь мне ты никак не ответил?
— Хочу и сам испытать, — сказал Шелихов, потупясь. — Жена стесняет, добавил он тише. — Иван Ларионович, побудь, дорогой, минутку — прикажу запрячь…
Он быстро вышел распорядиться. Гость погрузился в глубокую думу. Затея хорошая, это было ясно. Но наличных денег у откупщика не было, надежда только на брата…
И вот он — столичный питейный откупщик Михайло Сергеевич Голиков налицо.
«Женский пересмешничек», — определила коротко Наталья Алексеевна.
— Рассказывал он тебе о стихотворении, посвященном ему придворным стихотворцем Державиным? — как-то спросил ее Григорий Иванович.
— Как же, рассказывал. Они в Петербурге рядом живут. И стихи так и называются — «К соседу». Там он описывает, как Михайло Голиков прожигает жизнь… И о столицах рассказывал… смеялся… Жизнь, говорит, что длинная, что короткая, у человека одна. И чем скорее возьмешь от нее все, что сумеешь, тем лучше…
Григорий Иванович нахмурился. Этот столичный любезник ему решительно не нравился. Не наружностью, нет. Наоборот, наружность привлекала: высокий, стройный, ловкий, с почти сросшимися бровями, оттеняющими смеющиеся глаза, открытый заразительный смех… Но почему-то он был неприятен Григорию Ивановичу. «Отчего бы это? — задумывался он. — Разве можно сравнить его хотя бы с Иваном Ларионовым? Ведь тот в затеваемом деле до сих пор ни шьет, ни порет… А вот Михайло — тот сразу, как только познакомился, выпалил: «Мне Иван Илларионович говорил о деле. Что ж тут задумываться!.. Разве над тем подумать, сколько наскребешь? Тут, конечно, труднее. — И наклонившись к уху: — Долгов наделал уйму… Могу пойти на двадцать… Как-нибудь наскребу наличными. А на старого сыча налегайте. Зажиматься будет и скряжничать — не верьте…» И пошел любезничать с Натальей Алексеевной как ни в чем не бывало.
А той и любо: просится отпустить на лодке покататься. Ну как не отпустить? Пущай малость повеселится…»
Прогулки участились: то по Ушаковке, то по Ангаре, а то и прямиком с ночевкой на Байкал… Приходит Шелихов домой и уж издалека слышит заразительный рассыпчатый смех жены. И вдруг станет как-то досадно до боли: Григорию Ивановичу никак не хотелось самому признаться, что обижает его смех жены именно потому, что таким он никогда его не слышал. А тут еще Дуняшка ручки протягивает Михайло и вскрикивает от удовольствия.
Вздумал Михайло учить Наталью Алексеевну столичным танцам. Танцевали вдвоем рука за руку, а то и в обнимку. Духу нет запретить ей хоть немного повеселиться, да и неловко — компаньон…
С чувством облегчения провожал Григорий Иванович веселого, жизнерадостного Михайло. А то, что у Натальи Алексеевны были заплаканные глаза и лицо бледно, видимо, после бессонной ночи, заставило Григория Ивановича призадуматься: «Неужто оставить ее в Иркутске, когда придется уезжать на острова и надолго?..»
Михайло Сергеевич оказался прав: со «старым сычом» пришлось-таки повозиться немало. Деньги, правда, достали — пятьдесят тысяч, но на векселя да еще с бланковой надписью самого Шелихова. Выходило так, что в случае неоплаты их ответствовать пришлось бы только ему…
2. В опасный путь
С образованием капитала в семьдесят тысяч рублей и открытием компании семейная жизнь Григория Ивановича пошла, что называется, кувырком — бывать дома почти не приходилось. Ежедневно надо было бегать к генерал-губернатору Якоби, к гражданскому губернатору, почти ко всем крупным чиновникам. Мало того, что приходилось бывать, но необходимо было принимать и у себя… Наталья Алексеевна научилась играть роль любезной и хлебосольной хозяйки. Ей, кстати сказать, и самой это нравилось: бывать у генерал-губернатора, у других чиновников губернии, вести образ жизни отнюдь не замкнутый, купеческий, а рассеянный, светский, принимать ухаживания чиновной молодежи, местной и приезжей, из Петербурга… Григорий Иванович выходил из себя, злился, но вынужден был мириться со всем.
Генерал-губернатор Якоби, живя весело и беззаботно, проживал ежегодно не менее сорока тысяч, но и этого не хватало. Явное предпочтение, оказываемое им Наталье Алексеевне перед всеми другими обольстительницами, уже начинало служить пищей для пересудов не только среди них самих, но и в купеческих кругах: посмотрите, мол, как Шелихов выслуживается женой…
И каждый раз, когда Григорий Иванович возвращался из поездок, он замечал в доме портившие настроение перемены: хороший, солидный, веками завещанный купеческий уклад стремительно переходил в суматошный чиновничий, невыносимо легкомысленный и расточительный.
Вместе с тем он не мог не отдавать должного оставляемой им дома супруге: она не выпускала из рук нитей сложного мужнего дела. Аккуратно велась переписка, вовремя производились платежи, и там, где это было нужно, Наталья Алексеевна и сама принимала решения.
— Веселиться — веселюсь, да не в ущерб тебе. Иногда и в пользу, говаривала она хмурому и недовольному Григорию Ивановичу.
Слова эти действовали слабо. Ревнивый муж старался поглубже уйти в дело. Но легче на душе не становилось. Особенно тяжелы были долгие поездки в Охотск, на постройку трех кораблей.
«Какой исход? — задавал себе Шелихов один и тот же мучительный вопрос, бывало трясясь верхом по бесконечным лесным тропинкам, болотам и горам к Охотску. — Какой исход?.. Неужели придется бросить ее одну в Иркутске на три-четыре года? Ведь это значит потерять ее навсегда… Взять с собой?.. Но ведь не потащишь же ее на аркане. А загубить ее жизнь… За что? За то, что доверилась, отдала свое сердце, юная, неопытная? Да и чем она виновата, что бог сотворил ее веселой и на редкость красивой?»
Не раз приходила мысль взять ее с собой. А как быть, если она откажется, сославшись на невозможность оставить без матери малых детей?
Строили корабли на верфи по соседству с Охотском, на знакомой уже реке Урак: здесь было изобилие хорошего корабельного леса. Последние известия оттуда бодрили.
«Зиму, почитай, всю не переставали строить, потому морозов лютых не было, даже пурга докучала мало. К пасхе надеемся все справить. Начинать грузить без вас не полагаем», — писал из Охотска доверенный Григория Ивановича.
Прочитав письмо, Григорий Иванович в изнеможении откинулся на спинку кресла. Наступал момент, которого он так боялся, — решительный разговор с женой.
Держа письмо в руках, он прошел к Наталье Алексеевне. На коленях у нее сидела Дунюшка. Надувая щеки, девочка разбрызгивала во все стороны жидкую кашку и хохотала, нисколько не боясь притворных угроз матери. Стараясь не обнаружить своего волнения, Григорий Иванович бросил письмо на стол и стремительно ушел к себе. Здесь он раскрыл конторские книги, силясь сосредоточиться, но собраться с мыслями не удавалось…
А перед Натальей Алексеевной в это время стояла помогавшая по хозяйству молодая жена лекаря Бритюкова. На имя Бритюковых секретно пришло письмо от Михайлы Сергеевича Голикова, успевшего вскружить Наталье Алексеевне голову заманчивыми перспективами широкой, веселой жизни в Петербурге.
«Думаю и день и ночь только о Вас, — писал он, — без Вас жизни не чаю, а окружающие подозревают — хочу бежать от долгов. Пускай их думают, что хотят, только учредили слежку, чтобы воспрепятствовать моему отъезду. К пасхе рассчитываю быть в Иркутске, если еще не забыла меня, горячо любимая, единственная. В мыслях осыпаю бесконечными поцелуями. Увезу мою единственную!»
Наталья Алексеевна уткнула пылающее лицо в теплый животик подхваченной на руки Дунюшки, но покрасневшие краешки ушей выдавали ее бедовой пройдохе Бритюковой. Не обманула Бритюкову ни возня с плачущей Дунюшкой, ни даже сказанное вслух в сторону: «Вот пристал-то, чудак!..»
Придя в себя, с одним скомканным письмом в кармане, с другим в руке, Наталья Алексеевна прошла к мужу.
— Ну что же, хорошо, — сказала она, кладя охотское письмо на стол, значит, к пасхе нам надо готовиться к выезду… — и, видя изумление в расширенных глазах мужа, спросила: — Что ты на меня уставился?
— Ты сказала, нужно готовиться… нам? — смущенно проговорил Шелихов.
— Неужели ты мог предположить, что я останусь здесь одна без тебя?
Григорий Иванович изумился еще больше и невнятно пролепетал:
— А как же дети?
— Их я пристрою к бабушке… Там им будет хорошо.
Шелихов вскочил и порывисто обнял жену. Ему вдруг стало жалко ее до слез.
— Ну и разодолжила… Ведь ты на островах погибнешь, ты это понимаешь?
— С тобою вместе. Понимаю… А чтоб тебе было понятно, прочти вот, оказала Наталья Алексеевна и протянула мужу скомканное письмо Михайлы Голикова.
— Видишь, — продолжала она, — нельзя мне здесь оставаться… На каждом шагу приходится изворачиваться, играть в любовь. Иначе или пропаду, или твое дело погублю. Кто же защитит? Сама? А от сплетен куда денешься? Ты должен понять: другого выхода у меня нет и быть не может. А суровой жизни, опасностей с тобой не боюсь.
Григорий Иванович не отвечал. Удивленная молчанием мужа, Наталья Алексеевна понизила голос до шепота и, глотая слезы, добавила:
— Ну, а если оставишь — пеняй на себя…
Дружно осуждали знакомые решение Шелихова взять с собой жену.
— Не позволю губить женщину! — стращал его Якоби. — Мало ли чего ты придумаешь!
— Не дело задумал — убьют, каяться будешь, — говорил Иван Ларионович.
Ругали Григория Ивановича в купеческих домах за черствость, осуждали в государственных канцеляриях за рабовладельческие замашки… А он еще никогда не видел свою подругу жизни в таком радостном настроении и любовался ее оживлением.
Шумные проводы за тридцать верст и устроенный на славу пикник перед расставанием закончились тем, что назойливые ухаживатели в пьяном угаре, хохоча, без церемонии обнимали и целовали подпоенную крепкими винами и наливками Наталью Алексеевну. А она беспрестанно смеялась, слабо пытаясь отдернуть руки. Когда же удавалось освободить хоть одну, грозила пальцем перед самым носом зарвавшегося любезника.
Распоясавшаяся компания, держа ее высоко на руках, понесла к приготовленному тарантасу. На глазах потрясенного этим зрелищем мужа Наталья Алексеевна шутя ерошила волосы и пудреные парики поклонников.
— Негодяи! — с сердцем сказал Григорий Иванович, как только лошади двинулись. — Хороша и ты. Смотрел с омерзением… Позор!
— Понравилось? — спокойно спросила Наталья Алексеевна. — А ведь ты собирался было оставить меня здесь одну… Теперь сам видел.
…Три новеньких галиота — «Симеон и Анна», «Три святителя» и «Св. Михаил» — с двумястами смелых людей на борту медленно и осторожно вытягивались из бухты. Было это 16 августа 1783 года. Выйдя на морокой простор, они тотчас одевались белоснежными парусами и один за другим скрывались из глаз.
Григорий Иванович и Наталья Алексеевна, стоя рядом, не сводили глаз с колокольни охотской церкви — оба были охвачены тревожными раздумьями.
Прощание с берегом вызвало у Григория Ивановича горделивые чувства. Он думал: «Я начертал план, компанию, создал капитал, построил эти корабли и сам иду искать новых земель, чтобы вдунуть в них новую жизнь. Вместе со мной плывут две сотни мне доверившихся людей, отдавших мне волю и тяжкий труд, и не только труд, но и жизнь. Велика ответственность, но она становится легче, когда сам человек уверен в своих начинаниях…»
Увы, суровая действительность дала себя почувствовать тут же: резкий противный ветер разбросал корабли по морю. «Три святителя» и «Симеон» приткнулись к первому Курильскому острову и не решались выйти отсюда три недели. Галиот «Михаил» с шестьюдесятью людьми на борту исчез.
Не пришел он и в назначенное на случай разлучения кораблей место Берингов остров, где пришлось зазимовать. С буйными ветрами, снегом, метелями и лютыми морозами пожаловала незваная гостья — цинга.
Люди полегли, как медведи в берлоге, и угрюмо хворали, а спасение было в том, чтобы непрестанно двигаться. Но трудно было заставить людей ходить куда-нибудь по берегу моря на лыжах или в ясные дни — в горы. Это помогало от болезней, но убедить павших духом больных становилось почти невозможным.
Весна и охота принесли облегчение. Пришел и «Михаил». Все оживились, но окрепли только к июлю, и тогда корабли, осторожно переходя от острова к острову, стали пробираться к востоку, до самого крайнего, еще не обжитого Кадьяка…
Враждебная встреча со стороны туземцев не смутила Григория Ивановича. Приходилось, как он, впрочем, и предполагал, начинать с завоевания дружбы. Приветливое отношение к туземцам, подарки им, помощь в охоте, а вместе с тем и демонстрация силы — огнестрельного оружия — все было пущено в ход для установления сносных отношений.
Через три года Шелихов чувствовал себя в полной безопасности даже на сборищах местных племен. Добрые отношения с населением острова по обычаю подкреплялись выдачей аманатов.
В исследованных местах были построены укрепленные пункты с оборудованием для охоты и рыбной ловли.
С собой Шелихов увозил человек сорок туземцев, чтобы показать им ближайшие русские города — Охотск, Иркутск, а некоторых даже представить в Петербурге. Уходя на корабле «Три святителя», другие два он оставлял на месте для открытий новых земель и постоянной связи с Охотском.
Об одном Шелихов как будто забыл — об обогащении: он уезжал без пушнины. Не это было сейчас его целью. Надо было прежде всего обеспечить существование постоянных российских поселений и их рост на островах и американском континенте.
3. Неожиданные заботы
Так же как и три года тому назад, они стояли рядом на палубе и, не отрываясь, пристально всматривались в дали сурового океана, стараясь увидеть родные берега.
Да, они стояли так же рядом, но на этот раз далекие друг другу: Григорий Иванович весь был поглощен думами и тяжелыми заботами о дальнейшем устройстве начатого дела; Наталья Алексеевна, считая свой долг исполненным, мечтала о шумном и веселом обществе, о богатстве, которое отныне потечет в их, шелиховские, руки непрерывной широкой струей. Она отошла от мужа и в каюте долго разглядывала себя в зеркало…
Стоял конец июля. Сильные ветры задерживали и отводили в сторону неповоротливое судно с измученной, обессилевшей командой островитян, плохо владевшей искусством лавирования. Добравшись до первого Курильского острова, пришлось прервать путешествие и отстаиваться в одной из крохотных бухточек. Бросить же якорь у Большерецка удалось только в августе.
— Оставайся на судне, — даже не оглядываясь, коротко и повелительно сказал жене Григорий Иванович, направляясь к трапу, к которому едва-едва удалось подвести плясавшую на сердитых волнах байдарку. — Рыбы надо купить…
Наталья Алексеевна следила за ныряющей байдаркой, пока та не скрылась из виду в белой пене сердитого моря.
— Зря хозяин поехал-то — видишь, какая непогодь… — показывая на бушующее море, сказал подошедший штурман, прислушиваясь к свисту ветра в снастях и беспокойному скрипению подергивающегося на якорных канатах корабля. — Иди ужо, Наталья Алексеевна, в каюту — вишь, разгулялось как…
Байдара вернулась только к вечеру, с мокрым и сердитым байдарщиком. На вопрос вышедшей из каюты Натальи Алексеевны он грубо ответил:
— Водки бы дала обогреться. Уж и не знаю сам, как уцелемши добрался… Три раза дорогой опрокидался… «Куплю свежей рыбки, найму бот да на ем и доберусь», — сказывал Григорываныч. Думал, они уже под парусом здеся давно…
— Мотри, какая буря поднялась, — перебил разговор штурман. — Счастлив твой бог, что вернулся… Как бы с якорей не сорвало. Барометр, поди…
Но он не досказал, что с барометром, и яростно закричал: «Аврал!» Несколько десятков босых ног зашлепали по палубе.
Оторвавшийся корабль стал боком к ветру и резко накренился, почти касаясь воды мачтами. Казалось, что он покорно лег в страхе перед навалившимся на него ветром.
— Надо быть, хозяин погиб со своей рыбой, господи помилуй, — сказал штурману байдарщик и перекрестился.
Наталья Алексеевна бросилась на постель в каюте и лишилась чувств.
А в это время Григорий Иванович, закрывая глаза от крутящихся вихрей и пригибаясь к земле, шаг за шагом добирался до укрытого в бухточке бота с рыбой.
— Не сумеем добраться до корабля, хозяин, — заявил рулевой нанятого бота. — Опрокинет враз, только выйдем…
— Попробуем, утихает, — успокаивал Григорий Иванович.
Проба оказалась неудачной: подхватило и понесло от Большерецка к югу. Не успели оглянуться, как бот выбросило обратно на берег мыска.
Вновь до Большерецка добрались пешком только через неделю. Тут Шелихов узнал, что его давно уже похоронили. Погиб, считали здешние жители, и его корабль, который сорвался с якорей и был унесен в море в сторону Охотска.
Шелихов купил трех верховых лошадей, собираясь пробраться к Охотску кружным путем, берегом моря. И вдруг узнал, что в Петропавловске уже несколько дней стоит английский корабль, нагруженный до отказа разными товарами.
Дух захватило от одной мысли, что личное свидание с английскими моряками, быть может, позволит завязать торговлю с чужими странами. И стало страшно, когда подумал, что англичане уже побывали на островах и накупили там пушнины, — каждая упущенная шкурка могла подорвать установившиеся цены. Их выгоднее купить самому даже в убыток, лишь бы не дать просочиться на рынок… Успеет ли? Решать надо было сейчас же — корабль мог уйти… И Шелихов тут же поскакал в Петропавловск, успокаивая себя тем, что если корабль погиб, его все равно не воскресишь, а если цел — несколько дней ожидания дела не изменят. С трудом отгонял тревожные мысли о жене.
Вскоре капитан английского корабля и два его офицера сидели с Григорием Ивановичем в Казенном доме.
Началась оживленная пантомима, разговор одними выразительными жестами: прибывшие знали только английский язык, а хозяева — только русский. Тем не менее сильно вспотевшие собеседники переговорили о многом: Шелихов узнал, что корабль вышел из Индии и побывал в Кантоне, что он принадлежит Ост-Индской компании, желающей завязать со здешними жителями торговые отношения, что на нем доставлены товары для обменной торговли с островитянами и, наконец, что фамилия капитана Петерс.
Григорий Иванович был приглашен затем на английский корабль. После обильного угощения любезные хозяева показали все свои товары, хотя Григорий Иванович и делал вид, что нисколько не интересуется ими. Привезенные товары ошеломили его количеством, качеством и разнообразием.
Явился и долговязый камчатский исправник, барон Иван Штейнгель, но и тут дело не клеилось: он не говорил по-английски, а немецкого не понимали приезжие. Не помогло и предложение воспользоваться латинским: англичане его не знали. Однако пантомимы до известной степени удалось избежать: англичане не говорили, но кое-как понимали по-французски.
В тот же день Шелиховым был скуплен почти весь груз в кредит на векселя с платежом на Москву, а после приемки закупленного условились о привозе следующих партий товара.
Характерная для Шелихова предусмотрительность сказалась на происходивших переговорах. Она насмешила Штейнгеля, но Григорий Иванович настоял на своем. Он выработал обязательный маршрут для английских кораблей к нам и обратно, внушительно заметив смеющемуся Штейнгелю:
— Нечего им шататься туда и сюда по нашим морям. Пусть ходят прямо по надобности.
* * *
Тюленьи торбаса до колен, поверх чулок из оленьей шкуры; меховые штаны шерстью внутрь; лисий кукуль с длинной костяной бахромой; двойная меховая рубашка; еще кухлянка из толстой и мягкой оленьей шкуры, разноцветная, вышитая снизу шелками, а у ворота и на рукавах обшитая блестящим, лоснящимся бобром; четырехугольный меховой лоскут у подбородка для защиты лица от ветра и снега — таков костюм Григория Ивановича. В нем он чувствует себя легко и свободно. Если бы не тревожные мысли о судьбе жены и людей, было бы совсем хорошо. Он ловко владеет крепким оштолом и умеет переупрямить собачью упряжку хоть в пятнадцать штук (а собаки каждая с волка, а то и больше). Он смело втыкает в снег оштол, и тогда покрытые снегом легкие санки мгновенно застопориваются. Глаза рвущихся вперед собак наливаются от натуги кровью, петли ошейников душат их до полусмерти, постромки глубоко впиваются в тело так, что лопается кожа, но сани на оштоле — ни с места. Суровый окрик тотчас же приводит в повиновение зарвавшихся животных, только по недоразумению именуемых собаками.
Сшитые из березовой коры (каркас из реечек, связанных ремнями из тюленьей кожи), поставленные на широкие выгнутые полозья камчадальские сани легки — в них нет и полпуда, а поднимают они от десяти до двадцати пудов клади. На этот раз на санях Григория Ивановича только продовольствие и охотничий припас.
За Нижнекамчатском пошло легче: снегу больше и речек меньше, но зато впереди злая непокоренная коряцкая земля и вьюжная тундра. Григория Ивановича ничто не останавливает. Стиснув зубы и раздувая ноздри, гонит и гонит он собак, мчит сломя голову.
Новые и новые преграды то и дело задерживали на трудном пути: проводники, несмотря на тароватые посулы, отказывались сопровождать этого железного человека, не знающего ни страха, ни устали. За павших собак он платил, правда, щедро, но свежих было доставать так трудно…
Через пять месяцев, уже в январскую стужу, глубокой ночью, собаки беззвучно подкатили санки по глубокому снегу к зданию Охотской фактории Шелихова. Она была тиха и безлюдна. Никого: ни брата, ни жены, ни прислуги… «Да здесь ли она?» — думал Григорий Иванович. Все тело покрылось холодным потом.
Наутро все стало ясно: галиот, занесенный в Охотск бурей, цел, хотя и потрепан, вытащен на берег, а Наталья Алексеевна с братом Василием с вечера на вечеринке, устроенной командированным сюда молодым и богатым чиновником из Петербурга.
Грозный и настойчивый допрос прислуги многое открыл Григорию Ивановичу: молодой администратор окружил Наталью Алексеевну вниманием и поклонением. Василий же Шелихов, лоботряс и пьяница, которого Григорий Иванович приспособлял было к вождению кораблей, но отставил за непослушание и дебоши, а потом сжалился и определил на службу в Охотскую контору, чуть ли не стал сватом. Он решил выдать Наталью Алексеевну замуж…
— Что говоришь, собака? — весь багровый от душившей его злобы, Шелихов сжимал в руках тяжелую страшную плеть и наступал на ошалевшую, заикающуюся от ужаса камчадалку. — При живом муже?!
— Василь Ваныч сказала — помер ты. Хозяйка плакал, плакал…
— Сволочь! Подлец! — кричал Шелихов, бегая по избе, шумно дыша и ловя ртом воздух, потом бессильно повалился в кресло.
Не сходя с места, вся дрожа мелкой дрожью, неподвижно стояла перед ним потрясенная камчадалка… Шелихов вдруг вскочил и побежал к двери.
Невзвидя света, громко закричала насмерть перепуганная женщина и тоже бросилась было вон, но Шелихов, обернувшись, с силой отшвырнул ее назад.
— Свяжу и утоплю, если хоть на шаг отойдешь из дому! Понимаешь? прошипел он и быстро прошел в контору.
Там, несмотря на раннее утро, он застал доверенного, двух приказчиков и одного рабочего, поведал о своем горе и просил помочь.
— Кому буду жаловаться? — умоляюще глядя на них, спрашивал Шелихов. Помогите наказать по-христиански христопродавца брата… Век буду благодарен, не забуду… А с женой я сам разберусь.
— Поможем, Григорий Иванович, поможем, — сказал за всех доверенный и послал за виновником: — Вести хорошие есть, скажи ему, — наставлял он посылаемого работника. — А выдашь, что хозяин здесь, запорю!..
Через полчаса короткая расправа была закончена: виновный исполосован ударами тяжелой плети и с рассеченной кожей на спине и плечах, в изорванном платье стонал на полу избы.
Прошло несколько часов. Шелихов сидел в горнице, низко опустив голову, обдумывая какое-то решение. Жену он еще не видел. Испуганная, ничего не понимающая, она забилась в комнате и ждала своей участи. Наконец Шелихов встал, подошел к конурке камчадалки и приказал:
— Собери Наталью Алексеевну в дорогу.
Спустя полчаса Григорий Иванович, молча и не глядя, прошел мимо бездыханного Василия, поклонился своим помощникам и вышел к саням… В них ни жива ни мертва сидела Наталья Алексеевна.
Поскрипывали широкие полозья, легко скользили лыжи, весело бежали собаки. Безумие и злоба понемногу проходили.
«Добьюсь все-таки для нее позорной церковной казни и заточу в монастырь, — уже хладнокровно рассуждал Шелихов, — того требует церковь и мой христианский долг. Мало что этот подлец мог ей сказать о моей гибели, она не должна была верить…»
«Разве я изменила мужу, решив выйти замуж? Что же было делать? Разве в Сибири можно спокойно жить молодой вдове без защитника? А Вася… Ведь он желал добра. Откуда он мог знать, что Гриша жив?»
…Через две недели на трех камчатских санках, с двумя проводниками Шелиховы приехали в Иркутск.
Сердце не камень… Безропотность Натальи Алексеевны, ее преданные, любящие глаза, тяготы пути смягчили сердце Шелихова. Неотложные дела и суета на время отвлекли от выполнения «христианского долга». Окончательно примириться с Натальей Алексеевной заставила Шелихова привычная, уже забытая было домашняя обстановка в Иркутске, а главное, дети. Да и любил Григорий Иванович свою жену той вечно молодой любовью, которая многое заставляет прощать и забывать.
4. «Земля Российского владения»
Громадный, почти во всю комнату, пушистый ковер, смущавший посетителей-сибиряков своею шелковой мягкостью и цепкостью, прикрывал великолепный штучный паркет кабинета генерал-губернатора иркутского и колыванского. Высокие окна скрывались под спущенными тяжелыми гардинами, и ни один звук не долетал с улицы до ушей его высокопревосходительства.
Тишину губернаторского кабинета нарушало мерное тиканье еле-еле качающегося маятника стоячих лондонских часов в гладком футляре красного дерева с золочеными рельефными завитушками. На подзеркальном вычурном столике, под стеклянным колпаком, группа фарфоровых пастухов и пастушек застыла в реверансе менуэта.
За большим письменным столом утонул в мягком кресле, обложенном легкими, лебяжьего пуха подушками, гроза одной седьмой части земного шара, всесильный сатрап и вельможа матушки Екатерины II, сам генерал-губернатор и кавалер, генерал-поручик Иван Варфоломеевич Якоби. Его длинный, отороченный мехом шелковый шлафрок свисал до самого пола.
Зажженные в больших бронзовых канделябрах свечи колеблющимся желтым пламенем освещали стол и блестящими кружками отражались на голом, как бильярдный шар, черепе рано состарившегося вельможи: Якоби было всего около пятидесяти.
Гневно нахмурив седые мохнатые брови, генерал-губернатор читал очередной анонимный донос на себя, адресованный «в собственные руки матушки государыни-императрицы». Донос был перехвачен и услужливо доставлен наместнику его любовно взлелеянной и оберегаемой, собственной генерал-губернатора тайной полицией.
«И откуда все знает эта неизвестная каналья? — задавал себе в десятый раз вопрос генерал-губернатор, читая точный список полученных им от именитых купцов и питейных откупщиков взяток и длинный ряд примеров самодурства. Доносы растут, и, кто знает, сколько их просачивается и доходит по адресу… Надо непременно съездить в Питер, потолкаться в передних у покровителей и благодетелей. Неприятно обивать пороги и бросать деньги, но ничего не поделаешь».
— Да, жаль, жаль, не застанешь светлейшего князя Потемкина, — произнес неожиданно для самого себя громко Якоби и задумался. «Мамонов? — спросил он себя. — Перекинуться к очередному любимцу Екатерины, Мамонову?.. Пожалуй, придется!»
И не подозревал всесильный сатрап, что дни его сочтены и что в Санкт-Петербурге над толстыми и затрепанными томами его дел и делишек, переходящими из рук в руки, угодливо трудится мелкая чиновничья братия, пакостно вылавливая то, что будет приятно их высоким начальникам. Не знал и того, что сам приютил на свою беду в иркутских канцеляриях братца Гарновского, доверенного «светлейшего» в Петербурге, и что шпионские сети, раскинутые над ним, — дело рук самого генерал-прокурора князя Вяземского.
Искусными маневрами Якоби перед назначением спасся от брачных сетей, расставленных родственницей князя, но тут же запутался в других сетях генерал-прокурорских. Дружба пошла к черту… Не знал Якоби, что уже опоздал. Не знал, что не пройдет и года, как Гарновский (не здешний, а петербургский), облизывая сухие тонкие губы, под датой 20–26 июня 1788 года запишет в своем дневнике: «Якоби приехал. Был здесь в Царском Селе два дня, но государыню не имел чести видеть, и граф Александр Матвеевич его принять не восхотел. Теперь сей наместник засел в городе под видом болезни на квартире и никого, кроме людей ему потребных, не принимает».
Судьба генерал-поручика Якобия и других сибирских наместников была одинакова: быстрое возвышение и неограниченное доверие, самоуправные поступки возвеличенного избранника, охлаждение, питаемое доносами обиженных, раздраженных и завидующих, внезапное смещение и суд. Иногда сначала суд, потом смещение, а то и ссылка. И, несмотря на то, что этот ход событий повторялся неизменно десятки раз, каждый думал о себе, что он исключение, и, конечно, в своей беспечности ошибался.
Отдаленность Сибири и безначалие разнуздывало страсти: одни, распоясавшись, развратничали, нахально похищая понравившихся чужих жен, невест и дочерей; другие находили наслаждение в буйных пирах, попойках и в безудержном разгуле, резво ездили на тройках, запряженных подчиненными чиновниками и недругами; третьи занимались незаконными поборами и взятками; четвертые тащили за собой десятки родственников и росчерком своего блудливого пера очищали для них теплые местечки, обрекая таких же предшественников на голод и нищету.
Сейчас, с досадой отложивши в сторону донос, генерал-губернатор придвинул поближе к свету аккуратно сложенный лист бумаги и стал его читать, подчеркивая отдельные места…
Бесшумно приоткрылись высокие тяжелые двери, и вошедший в придворной форме, в белых чулках и лакированных туфлях с большими блестящими пряжками лакей доложил:
— Господа купцы Шелихов и Голиков, по приглашению к вашему высокопревосходительству.
Ответа не последовало. Слуга вышел, но, выходя, двери широко распахнул. В них прошли и остановились у порога статный, худощавый, в мягких сапогах, тщательно выбритый, похожий на молодого щеголя-приказчика Григорий Иванович Шелихов и кургузый, широкоплечий, с окладистой бородой и обвислым животом, тоже в сапогах, курский купец Голиков, оба владельцы бобровых и котиковых промыслов на Курильских и Алеутских островах и на американском берегу. Остановившись у дверей, купцы спокойно, привычно, без трепета и любопытства созерцали блестящую лысину генерала и молчали, не приближаясь к столу.
Якоби кончил читать, откинулся на спинку кресла, поднял голову и сделал вид, что только сейчас заметил гостей.
— А, здравствуйте, почтеннейшие и именитые, прошу. Как вы неслышно вошли…
— Не смели мешать вашему высокопревосходительству, — ответил Голиков, подходя к столу.
— Изволили звать? — спросил Шелихав.
— Садитесь, дело есть, — ответил вельможа, жестом указывая на кресла.
— А дело такое, — сказал наместник и, обращаясь к Шелихову, вставил: Твой рапорт препроводил государыне императрице, но высочайшего решения пока не имею… — И после паузы: — Сделать же сейчас надо вот что: надо постараться закрепить за Российской империей вновь открытые американские земли… Пошлите немедленно от моего имени вашим доверенным мое секретнейшее, повторяю — се-крет-ней-шее, наставление, — он, погрозив указательным пальцем, приостановился, давая гостям прочувствовать важность задания. — За их усердие и преданность российскому престолу можете поручиться?
— Можем, — дружно ответили купцы.
— Так вот им, а стало быть, и вам обоим. Первое: когда доставятся вложенные в одном ящике пятнадцать гербов Российской империи и десять досок железных с изображением на оных медного креста и медными литерами сказанных слов «Земля Российского Владения», то стараться без потеряния времени выставить оные гербы на твердой земле Северо-Западной Америки, называемой Аляска… Далее: я даю свое наставление, как зарывать и как описывать место зарытая… А вот… четвертое: зарывать стараться доски так, чтобы не только не видали оных тамошние жители, но скрыть и от наших русских работников… Пятое: если случится, что для такого же промысла придут суда других держав, то вы имеете право сказать, что земля и промысел на оной принадлежат Российской империи. И что оные сысканы первее нашими мореплавателями… Ну, дальше там требую: о человеколюбивом обращении с туземцами… о похвальном старании открывать новые земли… о хлебопашестве… Поняли?
— Да, ваше высокопревосходительство, исполним, — ответил Голиков, вставая и низко кланяясь наместнику.
Привстал и поклонился и Шелихов:
— Будет точно исполнена воля вашего высокопревосходительства…
Якоби встал, схватил трость и, по-стариковски ковыляя, направился во внутренние покои. Сделав несколько шагов, он остановился и, повернувшись к смотревшим вслед купцам, пальцем поманил к себе Шелихова.
Шелихов, цепляя носками сапог пушистый ковер, быстро обежал стол и приблизился вплотную.
— Я чуть было не забыл, — сказал Якоби и тихо спросил: — Как рапорт твой о странствованиях по островам и в Америку?
— Составлен, ваше высокопревосходительство.
— Хорошо, поскорее представляй, поторопись.
Шелихов низко поклонился и, пятясь, отошел к своему спутнику.
— Кораблишек бы да войска немного, — вполголоса проговорил Григорий Иванович, останавливаясь у запряженных сытыми лошадьми пролеток. — А он гербы да доски для зарытия в землю…
— Да, много так навоюешь «земель российского владения», — усмехнулся Голиков.
Но иронические замечания купцов не доходили до ушей вельможи.
5. «Российского купца Григория Шелихова странствование в 1783 году из Охотска по Восточному океану к американским берегам»
— Ну что же, Сергей Петрович, читай, слушаю, — вернувшись от Якоби, обратился Григорий Иванович к ожидавшему его секретарю и поудобнее уселся в глубокое кресло, крытое черной блестящей тканью из конского волоса. На сиденье и спинку кресла в зимнее время набрасывалась жесткая волчья шкура.
На столе перед секретарем Шелихова лежала объемистая рукопись, состоявшая из отдельных, мелко исписанных замысловатыми закорючками толстых синевато-зеленых листов шершавой бумаги.
Любовно и нежно прикрывая и поглаживая ее левой рукой, Сергей Петрович держал в заметно дрожащей правой основательную, наполненную до краев заморскую чарку в виде полушария. Украшенный аляповатым выпуклым гербом, тяжелый екатерининский штоф зеленоватого стекла опустошен был до половины и свидетельствовал о том, что собеседники уселись за стол не сейчас, хотя разложенные в мисочках соблазнительные закуски — зернистая икра, жирный балык, скользкие соленые рыжики — оставались нетронутыми.
Приглашение приступить к чтению заставило Сергея Петровича вздрогнуть. Он молча и быстро привычным жестом опрокинул чарку в рот и, не закусывая, тотчас же машинально налил другую, а затем, растерянно глядя на хозяина, стал беспомощно водить выпуклым дном чарки по скатерти, не находя, к чему ее прислонить.
Серьезные холодные глаза Григория Ивановича превратились вдруг в смеющиеся щелки, окаймленные сетью лучистых морщинок. Не повышая голоса, он протянул руку к чарке и оказал:
— Дай ужо подержу, — а затем расхохотался, когда Сергей Петрович, откинувшись всем корпусом назад и убирая таким образом подальше от протянутой руки наполненную чарку, опять стремительно опрокинул ее прямо в широкое горло, булькнул и уже пустую услужливым жестом сунул хозяину. На одно мгновение перед глазами Григория Ивановича мелькнула небритая, грязная шея гостя. Кожа на горле тотчас же дрябло обвисла, выпятился острый старческий кадык.
Веселая вспышка в глазах Шелихова погасла, и с участием в голосе он мягко повторил свою просьбу приступить к чтению.
— Григорий Иванович, — все еще держа руку на стопке бумаги, сказал секретарь, — я думаю, было бы весьма полезно прибавить к вашему повествованию посвящение его какой-либо знатной персоне, быть может, — он как-то поперхнулся, — всемилостивейшей матушке государыне.
Последние слова он произнес с нескрываемой иронией: ему трудно было называть так непосредственную виновницу дальней одинокой ссылки, которую он разделял вместе со своим сиятельным патроном. Однако патрон неплохо поживал, окруженный комфортом, в Томске. Дети его продолжали учиться в собственном курском имении. А бедный домашний учитель и гувернер Сергей Петрович Басов небрежным росчерком «высочайшего пера» был брошен безо всяких средств в далекую заимку на суровой Ангаре, откуда его извлек вездесущий Шелихов.
Тщетно пытался Григорий Иванович поставить на ноги хорошо образованного спившегося учителя, поручая ему некоторые свои дела, требующие тонкой грамоты. Терпеливо, иногда целые недели, он ожидал исполнения своих поручений, но, видимо, тщетно старался увлечь Басова своими широкими планами создания мощных русских колоний на Курильских, Алеутских островах, на Большой земле, как именовали тогда берега Северо-Западной Америки, и даже на почти забытом русскими малоизвестном Сахалине…
Разбираться в материалах путешествия на острова помогала Басову Наталья Алексеевна.
Стоял конец апреля, и, стало быть, зимнего пути на Петербург не захватишь. Нечего было и думать дожидаться пока подсохнут дороги, — в Петербург надо было торопиться, а хлопот еще по горло, причем одни дела требовали широкой огласки, шумихи, другие, наоборот, — глубочайшей тайны или участия только немногих избранных.
Самой глубокой тайной была покрыта затея издания собственной книжки о морских подвигах рыльского купца Шелихова: с одной стороны, было страшно засмеют, а с другой — заманчиво. Ведь прославишься на всю Россию. И только этот страх (засмеют!) останавливал Шелихова от посвящения книги «великодержавной матушке»… Но если не ей, то кому?
Перед мысленным взором Шелихова мелькнул образ хорошо ему известного, с большими связями Александра Николаевича Зубова. «Правда, этот пройдоха и взяточник, — думал Григорий Иванович, — всего только вице-губернатор и лишь мечтает о карьере в Санкт-Петербурге. Зато сын его, красавец Платоша, в конной гвардии и, говорят, частенько дежурит во дворце у императрицы. И кто знает, ведь Платоше, говорят, покровительствуют сам князь Салтыков и камер-юнгфрау царицы известная Мария Саввишна Перекусихина. Светлейший князь Потемкин далеко на юге и бессилен помешать Салтыкову. А заместитель светлейшего в Петербурге при Екатерине, Мамонов, что-то, по слухам, дурить начал: с какой-то фрейлиной в любовь играет…»
— Нет, — решительно произносит, будто очнувшись от тяжких раздумий, Григорий Иванович, — никакого посвящения пока не надо… Ты все же сочини его, но без указания персоны. А я в Санкт-Петербурге подумаю, что делать… Читай титул, как написал.
Сергей Петрович откашлялся, высморкался в какую-то темную разноцветную тряпицу, снял большие очки в медной оправе, обвитые на переносице тесемкой, тщательно протер их, той же тряпицей вытер слезящиеся глаза и застуженным, сиплым голосам торжественно начал:
— «Российского купца, именитого рыльского гражданина Григория Шелихова первое странствование с 1783 по 1787 год из Охотска по Восточному Океану к Американским берегам и возвращение его в Россию с обстоятельным уведомлением об открытии новообретенных им островов Кыктака и Афогнака, до коих не достигал и славный аглицкий мореход капитан Кук, и с приобщением описания…»
— Погоди, погоди, Сергей Петрович, — пытался остановить его Шелихов, но тот только досадливо отмахнулся рукой и продолжал:
— «…описания образа жизни, нравов, обрядов, жилищ и одежд обитающих там народов, покорившихся под Российскую державу; также климат, годовые перемены, звери, домашние животные, рыбы, птицы, земные произрастания и многие другие любопытные предметы, там находящиеся, что все верно и точно описано им самим. С географическим чертежом, с изображением самого мореходца и найденных им диких людей».
Здесь он, наконец, остановился и вопросительно уставился на раскрасневшегося и протестующего Шелихова.
— Послушай, Сергей Петрович, я тебя ведь просил не врать. Не сам ли ты мне рассказывал, что аглицкий капитан Кук пять лет тому назад видел Кыктак и описал его, а наш мореходец Беринг еще раньше был на острове Афогнак… Да и наши промышленные не раз бывали. Что же на это скажут наши купцы, когда все знают, и мы с Натальей Алексеевной слышали на Кадьяке, что там уже лет двадцать тому назад зимовал мореход Глотов…
Наталья Алексеевна! — позвал он.
— Иду-у… — послышался низкий бархатный голос, и из соседней комнаты тотчас вышла легкой и плавной походкой с гордо поднятой головой «королева», как ее называли все без исключения в Иркутске, Наталья Алексеевна.
Она похудела и окрепла в исключительно тяжелом походе в Америку и несколько изменилась, но все, и в том числе сам генерал-губернатор, находили, что к лучшему. Темно-синие васильковые глаза, умевшие в зависимости от настроения и гневно вспыхивать и обвораживать, на этот раз глядели спокойно и строго. Высоко взбитые золотые волосы действительно напоминали корону. Трудно было поверить, что эта женщина всего только три-четыре недели тому назад, спасаясь со спутниками от неистовых якутских метелей и морозов, проводила в высоких сугробах, зарывшись глубоко под снегом, по трое-четверо суток. Лежа почти без движения, питалась одними сухарями, утоляла жажду сухим, рассыпчатым снегом с неприятным вкусом.
Мягкий голос и спокойный зов мужа обрадовали Наталью Алексеевну: это после охотской истории случилось впервые. Приветливо улыбнулась она неуклюже засеменившему к ней навстречу в меховых торбасах Сергею Петровичу и вопросительно взглянула на мужа.
— Послушай, что натитулил тут Сергей Петрович, вот… — Шелихов взял из рук Басова листок и прочитал: — «…с обстоятельным уведомлением об открытии им островов Кыктака и Афогнака, до коих не достигал и славный аглицкий мореходец капитан Кук…»
Наталья Алексеевна рассмеялась, обнаружив два плотных ряда мелких зубов, и укоризненно покачала головой.
— Можно так оставить? — спросил Шелихов. — Ведь засмеют, а?
— Да, засмеют… Один Лебедев-Ласточкин проходу не даст и уж, наверное, Куком будет прозывать.
— Хорошо, если аглицким Куком дразнить будет, а не русским кукишем… Нет, Сергей Петрович, вычеркивай… Вот о подвигах Натальи Алексеевны пиши сколько хочешь — ведь она первая российская женщина, прожившая у американских диких племен целых три года.
— Нет, ради бога, Сергей Петрович, — умоляюще сказала Наталья Алексеевна, — меня не трогайте, сердиться буду, — и она повернулась, чтобы уйти. Однако этого сделать не удалось, так как Басов протянул ей собственноручный, тонко сделанный, но совершенно неправдоподобный рисунок пером.
— А я тебя ищу по всему дому… и в коровник посылала и в погреб везде-везде, и нигде не могла найти, — скороговоркой, запыхавшись, затрещала, широко распахнув дверь девочка лет тринадцати. Она кинулась к отцу на шею, звонко и сочно его поцеловала и тотчас же вместе с матерью стала внимательно рассматривать рисунок.
На песчаном низменном берегу волнующегося моря, одетый в летний костюм, в кружевном жилете и с кружевными же манжетами, в легких туфельках с большими пряжками, окруженный дикарями стоит Шелихов — российский Кук. Один из дикарей присел перед бочкой у ног знаменитого мореплавателя с трубкой во рту. Другой, украшенный ожерельем, и сам мореплаватель стоят по обе стороны бочки и поддерживают сложенную пополам шкурку бобра. На песке лежит шкурка белки. На голове дикаря нечто вроде греческого кожаного шлема. Позади мореплавателя видна чья-то всклокоченная, непокрытая голова и одетая в кожу фигура третьего дикаря, вооруженного большим луком. Из-за спины его торчат три гигантские оперенные стрелы. В левом нижнем углу рисунка — два громадных клыкастых усатых моржа с человеческими лицами, за которыми виден весь в тонкой резьбе, оснащенный мачтами, украшенный флагами сказочный корабль с развевающимся по ветру длинным узким вымпелом, а около него, прямо над группой людей и зверей, с большим жезлом в руке и маленькими крылышками у лодыжек сам греческий бог Меркурий.
Девочка делилась впечатлениями вслух:
— Папочка, ты как настоящий маркиз из сказки — в кружевах, а рядом с тобой должна стоять мама или герцогиня, а не грязные, непричесанные алеуты… Туфли ты, конечно, уже промочил, стоишь ведь на мокром-мокром песке. Сергей Петрович, — обратилась она к своему учителю, — а это ангел?
— Это греческий бог торговли, Меркурий.
— А почему моржи как люди?
И, обняв мать и задыхаясь от смеха, шептала в ухо матери:
— Смотри, моржи похожи на Сергея Петровича, ну точь-в-точь…
— А я и не знала, что вы к тому же искусный рисовальщик, — сказала с запинкой Наталья Алексеевна, едва удерживаясь от смеха, так как сходство моржа с автором было несомненно. Она протянула рисунок мужу и вышла.
Шегшхов сумрачно и долго смотрел на рисунок, медленно читая хвалебную стихотворную надпись:
Коломбы Росские, презрев угрюмый рок, Меж льдами новый путь отворят на восток, И наша досягнет в Америку держава, Во все концы достигнет Россов слава.— Не надо, — коротко бросил он Басову, возвращая рисунок, и добавил: Вычеркни и «именитого» в титуле.
Однако эта скромность не помешала Шелихову допустить в дальнейшем преувеличения, которые не только не усиливали значения «славных подвигов», но, наоборот, окутывали их досадным туманом вымысла и вызывали недоверие ко всему повествованию. Басов твердо настаивал на преувеличениях, приводя десятки вымыслов прославленных мореходов, начиная с Одиссея.
— Пойми, Григорий Иванович, — говорил он, — россияне до сих пор о своих подвигах и открытиях новых земель ничего нигде не говорили, а ведь Алеутские острова, Аляску и даже дальние берега Америки мы лучше знаем, чем иностранные мореплаватели. Почему? А потому, что они пишут и хвастают, а мы о себе сообщаем только государевым воеводам да губернаторам, которые наши рескрипты прячут, или теряют, или, что еще хуже, выдают иноземцам, не понимая, сколь важны они для отечества…
— Ты говоришь, Кук, — горячо продолжал он. — Ну, так вот, послушай. Кенейскую губу Кук назвал рекой. Врал?.. Пролив между Кадьяком и Афогнаком он принял за залив и дал ему название Вайнтсентайд-бай, а настоящего Кенайского пролива, между Кадьяком и Аляскою, Кук не знал вовсе. Два острова, Ситхунок и Тугидок, подле которых Кук плыл к Кадьяку, он принял за один и назвал их островом Троицы… А кем был послан капитан Джемс Кук к берегам Америки десять лет назад? Ост-Индской торговой компанией. Догадываешься зачем? Затем, чтобы записать русские острова английскими именами. Сам Кук пишет, что он встречал тут наших русских промышленных, но это не помешало ему нашу Нутку переименовать в мыс короля Георга. Поверь, что и встреченный тобою английский капитан Мирс вновь откроет после тебя и Кадьяк и Кенайский пролив и об этом оповестит весь мир. Верно говоришь — к Кадьяку приставали наши русские компании еще в тысяча семьсот шестьдесят первом году. Холодиловская — в семьдесят шестом, Пановых — в восьмидесятом. Но куда приставали? Только к Агаехталицкому мысу, откуда их прогоняли коняги. А самого острова они и не видали. Об этих россиянах я написал, не скрыл.
Сергей Петрович судорожно стал перелистывать рукопись, тыча в разные листы грязным указательным пальцем:
— Вот Холодилов, вот Пановы, вот еще… Нет, открыл по-настоящему и Кыктак и Афогнак все-таки ты, рыльский купец Григорий Иванович Шелихов.
Шелихов молчал.
И действительно, то, что в запальчивости, брызгая слюной, доказывал запойный пьяница Басов, было сущей правдой. Не ошибся он и в отношении англичанина Мирса, который, наименовавши показанный ему русскими, промышленниками Кенайский. пролив проливом Святого Петра, присвоил его открытие себе.
Соседние государства с завистью смотрели на распространение русских на северных островах Восточного океана, изобиловавших пушным зверем. Государства эти ежегодно десятками посылали своих мореходцев на разведки, а попутно отнимали у русских славу первооткрытия новых земель. Эти люди ссорили русских промышленников с туземцами и вооружали последних не только ружьями, но и пушками и в изобилии доставляли им порох. Они — особенно англичане — одновременно старались расстроить даже хорошо налаженную русскую торговлю пушниной с Китаем через Кяхту.
В течение нескольких лет, с 1786 года, у берегов Восточного океана, на Алеутских и Курильских островах побывали, кроме Мирса, и другие англичане. Мирс откровенно писал, что занятие какого-нибудь из Курильских островов не встретит сопротивления, но благодаря этому окрепнет торговля пушниной.
Именитый купец Шелихов ничего не знал о письмах Мирса, но это не помешало ему в донесении на имя императрицы Екатерины сказать: «Без монаршего одобрения мал и недостаточен будет труд мой, поелику и по делу сему приступал и приступаю единственно с тем, чтобы в означенном море землям и островам сделать собою обозрение и угодьям оным учинить замечания, а в пристойных местах, в отвращение других держав, расположить надежнейшие наши, служащие к славе премудрой нашей Государыни, в пользу свою и наших соотечественников, занятия.
И не без основания питаюсь надеждою, что такое намерение и на будущие времена в тех странах по мере моего стремления, сколько сил и возможности будет, открою непредвиденные государству доходы, с пользою притом и своею…»
— Григорий Иванович, кушать подано, приглашай гостя, — сказала, появляясь на пороге, Наталья Алексеевна.
Оба тотчас же встали.
Обед был изобилен, но прост. Из закусок к водке поданы были только икра и вяленый омуль. Далее шел пирог рыбный, щи мясные, пельмени, холодное заливное из рыбы, каша, молоко с таньгою. От молока Басов просил его освободить.
Во время обеда, по обычаю прошедшего в молчании, Шелихов не удерживал Басова от обильных возлияний, а после обеда отправил его спать в отведенную для этой цели в доме комнатушку. Лег отдохнуть и сам, но заснуть никак не мог… Близилась поездка в Санкт-Петербург.
6. Высочайшая беседа
Приезд Григория Ивановича Шелихова в Петербург на первых порах оказался весьма неудачным: государыня продолжала путешествие по югу России. Зато, пользуясь досугом, ему несколько раз удалось побывать и серьезно побеседовать с президентом коммерц-коллегии графом Александром Романовичем Воронцовым. Весьма скептически настроенный к российским начинаниям, совершенно не доверявший им, этот англофил после нескольких бесед с Шелиховым убедился в том, что видит перед собой незаурядного человека, обладающего, несмотря на отсутствие образования, серьезным и зрелым государственным умом. Шелихов обнаруживал глубокие познания в области китайской торговли, а замыслы его о превращении случайных посещений побережья Америки в постоянные заселения очень понравились графу Воронцову.
Правда, он продолжал насмешливо улыбаться при упоминании о головокружительном и мощном развитии Ост-Индской компании, с которой Шелихов сравнивал будущее своей торговой компании, собираясь успешно конкурировать с ней.
В конце концов Воронцов обещал всяческую поддержку начинаниям Шелихова и серьезно обсуждал с ним вопросы, которые необходимо было поднять перед государыней.
— Одного не делайте, — предупреждал он Шелихова, — не упоминайте о вашем стремлении к получению монопольных прав, так как государыню раздражает самое даже слово «монополия».
Императрица приехала, но остановилась в Петербурге проездом только на несколько дней. Тем не менее Шелихов удостоился приглашения присутствовать при высочайшем выходе.
Всем виденным на большом выходе императрицы он был буквально потрясен и вместе с тем глубоко разочарован: он терпеливо, больше месяца, ожидал возвращения Екатерины из путешествия в Тавриду, твердо надеясь на то, что при представлении, давно назначенном ею самой, ему удастся толково объяснить значение для государства развития русских поселений на американском континенте. И вдруг произошло то, чего менее всего ожидал Шелихов: она не сказала ему ни одного слова.
К Зимнему дворцу он подъехал в карете четверкой цугом, осуществляя недавно дарованное именитым купцам право ездить не на пролетке, а в карете пусть все видят, каковы российские «купчишки»! К сожалению, его карета буквально потонула в море дорогих экипажей знати. Во дворце он был оглушен высокопоставленным сборищем, до отказа наполнявшим обширную кавалергардскую комнату. Ярмарочный гомон разодетой толпы как бы нарочито игнорировал священное местопребывание только что вернувшейся государыни, находившейся тут же, где-то в соседних апартаментах, за одной-двумя дверями. Шелихов с опаской поглядывал на двери, в которых должна была появиться «сама». Неожиданно дверь действительно стремительно распахнулась… для одного только человека — это был гофмаршал. Он не успел произнести обычного «шш-шш», как наступила мертвая, жуткая тишина. Толпа образовала широкий проход через всю комнату и застыла в низком поклоне; вдали показалось шествие, впереди которого медленно, величавой походкой выступала Екатерина, сопровождаемая капитаном гвардии с одной стороны и кавалергардом в чине полковника — с другой.
«Какая величественная и красивая!» — подумал Григорий Иванович, нагибаясь в поклоне почти до полу.
Освеженная приятным путешествием и длительным отдыхом, помолодевшая, она подчеркнула это свое возрождение возобновлением забытого было обыкновения наряжаться на выдающихся торжествах в длинное белое платье. Порфира на плечах и маленькая, украшенная брильянтами корона на голове придавали ей самой и всему шествию нечто сказочное. По плечам низко свисали в изобилии локоны роскошных белых как снег припудренных волос. Четко выделялись скрещенные на груди муаровые ленты с орденскими знаками, а несколько выше них с шеи падали на грудь нитки крупных чистых жемчужных ожерелий. Высоко держа голову, чуть-чуть наклонив ее на мгновение в ответ на поклон, она проплыла в дворцовую церковь. За ней потянулась нескончаемой лентой нестройная вереница присутствовавших.
Стоя почти все время на цыпочках и не сводя глаз с поразившей его своим величием Екатерины, Шелихов не слыхал ни торжественного и полнокровного густого церковного хора придворных певчих, ни громовых раскатов протодьяконской октавы, изо всех сил провозглашавшей «многолетие». В каком-то полузабытьи, не прикладываясь ко кресту, он прошел в обширный для представления государыне зал, где тотчас же дежурным чиновником ему было указано место в ряду удостоенных высочайшего представления…
— Именитый купец российский Григорий Иванович Шелихов из Америки, по всемилостивейшему соизволению вашего величества, — услышал он над собой чей-то голос.
Государыня молча протянула руку. С благоговением, как к иконе, приложился к ней Григорий Иванович и опустился на колено, склонил голову, ожидая вопроса. У него вдруг задрожал от волнения подбородок и судорога сковала челюсти. Он твердо помнил, что может отвечать только на вопросы, и затаив дыхание ждал, трепеща от одной мысли, что, может, вопрос еще воспоследует, а он не в состоянии проронить ни слова… Казалось, прошла целая вечность. Григорий Иванович вдруг почувствовал довольно бесцеремонный толчок ногой и понял, что надо вставать. Вставая, он уже не видел ни императрицы, ни лиц придворных — все слилось в безликую толпу. Он отошел в сторону и закрыл глаза, а затем медленно направился к выходу…
Через два дня государыня уехала в Царское Село проводить там обычный летний отдых. Надежды на ожидаемую беседу не было никакой… И вдруг приглашение в Село. «Поддержка Воронцова», — решил Шелихов.
Направляясь на прием, Григорий Иванович волновался: он не на шутку боялся, что, когда увидит величественную императрицу вблизи, язык его снова прилипнет к гортани. Однако, проходя мимо громадного трюмо, несмотря на волнение, он внимательно оглядел себя и с удовольствием увидел элегантно, даже роскошно, но не кричаще одетого, привыкшего к дворцовым паркетам придворного, а не какого-то рыльского «презренного купчишку». Расшитый, украшенный кружевами кафтан красиво облегал стройную фигуру. Безукоризненной формы сильные, упругие ноги в атласных белых чулках и красивых туфлях с затейливыми пряжками легко, по-молодому несли их обладателя.
Войдя в широко распахнутые двери кабинета, он быстрым взглядом окинул комнату с одиноко сидевшей за столом в профиль ко входу пожилой, полной и невысокой дамой… Где же государыня?.. В этой стареющей, небольшого роста женщине он никак не мог признать виденной им величественной императрицы, образ которой так ярко запечатлелся у него в памяти.
Робость исчезла и даже сменилась какою-то жалостью к ней, когда он увидел ясные следы свежего слоя пудры, припухшие мешки под глазами и густую сеть лучистых морщинок… Тихий мягкий голос императрицы и пригласительный жест сесть вывели его из оцепенения.
— Я радуюсь вашим успехам, господа российские купцы, — сказала Екатерина, милостиво протягивая руку.
— Стараемся, ваше императорское величество, как только можем, во имя любезного нам отечества и вашей славы, матушка государыня, — Шелихов низко наклонил голову.
— В чем особо нуждаетесь? — спросила Екатерина. — Не обижаете ли туземных обитателей при ясашных сборах?
— Ясак, ваше величество, алеуты платят охотно, дикие же коняги и другие народы сопротивляются, сами по-звериному обитают и в умягчении нравов через веру православную зело нуждаются…
Екатерина взяла в руки перо и, придвинув к себе лист бумаги, что-то отметила.
— Пробовали просвещать светом христианского учения?
— Ваше величество, с христианского увещевания повсеместно начинали. Дикие американцы великое усердие стать христианами являют, от них же первыми — племена алеутские… В воинской помощи, матушка государыня, також нуждаемся. Иноземцы, особливо бостонцы и аглицкие купцы-мореходы, не токмо товар перебивают и знатные цены зря назначают, да на нашу к тому погибель на порох и пушки выменивают. Ловом же звериным сами не промышляют.
— Своими силами не можете справиться?
— Справляемся, ваше величество, да надолго ли сил наших хватит? Большие тысячи войска требуются, а сами поставить можем только две или три тысячи, да и то не дюже надежных… Крепости тоже строить надобно… Торопиться надо захватить острова к полдню ближе, земля наша дюже прохладная, не родит, дожди тоже превеликие… Хлеб у нас дорогой, возим далече, из Сибири…
Екатерина сначала было записала, потом отчеркнула написанное и поставила сбоку большой вопросительный знак.
— Сами-то между собой дружно ли живете, российские промышленники?
Шелихов молчал.
— Говори без утайки…
— Плохо меж собой живем, матушка, чего таить. До кровопролитных дел доходим и тем сами себе прибытки уменьшаем.
— Это очень дурно, — недовольным голосом отметила императрица. — А чего же поделить не можете?
— Набольшого не имеем, которому все бы повиновались, а хозяев много каждый хочет сорвать, жадничает.
Екатерина нахмурилась: ясно было, что неуклюжий намек Шелихова на монополию не понравился.
— Не помиритесь, — твердо сказала она, — чиновника своего пошлю, ему повиноваться будете.
— Силы рабочей, матушка государыня, недостаточно имеем, — постарался Шелихов перевести разговор на другое. — А ремесленников, почитай, и совсем нет.
— Много надобно?
— Да человек бы ста полтора, хотя из сибирских ссыльных, что на поселение выписаны. Многие бы по своей охоте…
Екатерина записала и тихо сказала: «Дам».
— Калгов покупать у них бостонцы и аглицкие мореходы предлагают, вопросительно проговорил Шелихов и, подумав, добавил: — Ремесла иные из них знают…
— Калгов не надо, — нахмурившись, ответила Екатерина и кивнула головой в знак того, что аудиенция окончена.
Шелихов понял и встал, но был остановлен мягким жестом красивой белой руки государыни. Она, низко наклонившись к столу, что-то искала.
— Ах, вот, — она поднесла ближе к глазам исписанный листочек и, пробежавши его про себя, заметила: — Не сказал ничего о школах, о болезнях…
— Школы, ваше величество, стараемся иметь везде и грамоту распространяем, грамотные работники самим весьма нужны, а вот лекаря хушь бы одного и то не имеем…
Екатерина отметила.
— А какими больше болезнями хворают у вас?
— Вереда разные, животом тоже страдают — улитками морскими отравляются да травами дикими. Горячка тоже косит немало…
— А оспа? — живо перебила его Екатерина. — Оспу необходимо прививать, хотя я думаю, что у диких, вероятно, это будет трудно — будут бояться. А сами вы себе прививали?
— Да, ваше величество, у меня привита десять лет тому назад.
— В один год со мною, — улыбнулась Екатерина. — Но ее надо возобновлять, я уже возобновила один раз, года два тому назад, вот! — и, вздернув к плечу широкий рукав, поднесла к глазам сконфуженного и оторопевшего Шелихова обнаженную до плеча руку. На правом предплечье ясно были видны две оспины. — Да, да, несомненно, будет трудно, придется, пожалуй, действовать через их лекарей. У них есть такие?
— Лечат у них, ваше величество, шаманы.
— Попы ихние?
— Колдуны.
— Попробовать, однако, следует… — она позвонила. Вошел кабинет-секретарь.
— Поговори, голубчик, вот с ним, — кивнула она на стоявшего Шелихона, насчет прививки оспы американским народам. Да вот посмотри и остальное, она протянула вошедшему обе записки.
Шелихов, пятясь к двери, вышел. Беседа с кабинет-секретарем, державшим перед собой записки Екатерины, продолжалась часа полтора. Он живо интересовался путешествием Шелихова на острова, но особенно иркутским житьем-бытьем и Якоби.
В подробной беседе с секретарем Григорий Иванович затронул еще два существеннейших для русских владений в Америке вопроса, прежде всего — о самостоятельном отдельном порте на Охотском море в устье реки Уды. Помимо преимуществ чисто морских, место это имело и особое торговое значение, создаваемое ежегодной в течение трех месяцев — августа, сентября и октября оживленной пушной ярмаркой. Другим вопросом было дарование купеческим компаниям права самим заключать торговые связи и вести свободную торговлю с Японией, Китаем, Кореей, Индией, Филиппинскими и другими островами на Тихом океане.
От секретаря Шелихов узнал, что государыня действительно очень интересуется американскими делами и успехами русских промышленников и что «по случаю покушений со стороны английских торговцев и промышленников на производство торгу и промыслов звериных на Восточном море» с ее стороны английскому правительству давно уже сделано соответствующее представление.
Докладывая государыне о впечатлениях от своей беседы с Шелиховым и отдавая дань его уму и обширным познаниям в торговле, кабинет-секретарь, смеясь, сказал:
— Хитрый и умный мужик, из тех, про которых говорят: «глаза завидущие, руки загребущие»… Однако пользу государству может принести немалую.
— Надо подумать о награждениях ему и его компаниону, — заключила Екатерина.
Через три месяца Шелихов вершил дела уже у себя в Иркутске.
7. В Илимске у Радищева
Недовольный, весь в пыли, облизывая сухие, потрескавшиеся губы и изнывая от жажды, Григорий Иванович Шелихов в жаркий июльский день 1792 года подъезжал к реке, направляясь к Илимску. С путешествием своим Шелихов сильно запоздал: надо было выехать еще весной, но он поджидал в Охотске приезда правителя североамериканских промыслов Деларова с докладом о делах вообще и в частности о первых шагах назначенного туда нового правителя Баранова. Только дождавшись Деларова, он смог отправиться на разведку причин исчезновения белки, улов которой в этом году составлял едва четыре-пять процентов улова предшествующего года. Это угрожало расстроить торг с Китаем через Кяхту. Прекращение его сильно било Григория Ивановича по карману.
Илимская округа изобиловала белкой. Правда, здесь во множестве водились и лисицы, хорьки, росомахи, более редкий гость — горностай и даже особо ценный черный соболь, однако Григория Ивановича на этот раз озабочивало только отсутствие белки. При длительном затоваривании другими мехами отсутствие белки в торговом ассортименте грозило большими убытками.
Созерцание унылых лысин каменистых гор, только в нижних частях опоясанных темной густой зеленью хвойных лесов, усугубляло и без того удрученное настроение Шелихова. Беспокоили и долги: отношения с Голиковым обострились из-за постоянных задержек в финансировании предприятия, в то время как неуклонно растущий размах дела требовал все большего вложения средств. Тем временем не дремали и враги и, не стесняясь, как только могли, старались подорвать кредит Шелихова. Особенно хлопотали об этом Мыльниковы, распространяя слухи о близком банкротстве раздувшегося и до сих пор удачливого их конкурента.
Сердит Шелихов был и на матушку Екатерину, отказавшую ему и Голикову в займе пятисот тысяч рублей, несмотря на сильную поддержку сибирского генерал-губернатора, президента коммерц-коллегии и благоприятное заключение ее комиссии.
Конечно, и шпага и большая золотая, украшенная брильянтами медаль хорошая награда, и ею Шелихов гордился. Но что стоили все эти отличия сами по себе, без денег?
Наконец с гиканием ямщика, подсвистыванием и оглушительным звоном бубенцов, в облаке пыли лошади вскачь понеслись по пологому спуску к реке. Еще несколько часов покойного лежания на дне широкой посудины, мягко и неслышно несущейся вниз по течению, и он будет в Илимске. Однако и в лодке не лучше, чем на мрачном берегу: влажный воздух наполнен гнусом — мошка липнет к потному лицу, не спасает и одежда.
Шелихов познакомился с Радищевым в Иркутске. Неоднократные беседы с ним о китайском торге и своих американских затеях не прошли бесследно для впечатлительного и делового купца. Радищев казался ему таким человеком, который может его понять и может увлечься его широкими замыслами. Содружество этого умеющего широко смотреть и много видеть, знающего и всесторонне образованного человека с практически сильным и полным энергии Барановым, новым правителем промысловых поселений, не раз мерещилось Шелихову как особо желанное. Ведь простые случайные промыслы превращались в постоянные, фактически автономные российские, занимавшие необъятные пространства, владения, которые, несомненно, должны вскоре перерасти чуть не в отдельное государство — есть над чем задуматься!.. Справляться с этим новым делом Шелихову было трудно, а пожалуй, и вовсе непосильно. Облик же государственных чиновников и сановников, как нравственный, так и деловой, не внушал ему никакого доверия. Эти бесчестные и честолюбивые моты легко могли только разорить любое дело, но никак не создать. А строить надо было нечто совершенно новое, небывалое…
Тянуло Шелихова к Радищеву и то, что тот оставался в самых лучших отношениях с графом Александром Романовичем Воронцовым, президентом коммерц-коллегии. Наконец, знакомство по службе Радищева с управляющим Кяхтинской таможней Вонифатьевым, с которым Шелихову постоянно приходилось иметь дело, тоже было одной из причин, заставлявших Григория Ивановича искать дружбы с опальным дворянином.
С другой стороны, и Радищев остался в восторге от этого необычного для него знакомства с волевым русским купцом-самородком из глухого Рыльска, сумевшим завоевать без войск новые земли и начавшим осваивать их природные богатства…
Лодка Шелихова обогнала большой плот с крестьянской молодежью, возвращающейся с лугов. На фоне лесов показался четырехугольник до черноты потемневшего острожного тына с башнями по углам, а за ним — новешенький дом Радищева, только что им выстроенный.
Погруженный в свои невеселые думы, хозяин дома далеко унесся от начатого философского трактата «О человеке, о его смертности и бессмертии» и, рассеянно поглядывая в окно на дремучий лес, раскинувшийся на противоположном берегу реки, не видя ни его, ни плота, ни лодки Шелихова, машинально каллиграфическим почерком выводил на полях начатой рукописи: «От Иркутска 568, от Тобольска 2 953, от Москвы 5 894… почти 6 000».
«Вишь, куда загнала напуганная матушка! — мысленно усмехнулся он. — Вот и попробуй после этого открывать царям глаза или верить их словам…»
Ни одного слова порицания или неудовольствия не вызвал сделанный им в 1773 году перевод слова «деспотизм» словом «самодержавство», да еще с примечанием, что «самодержавство есть наипротивнейшее человеческому существу состояние».
«Поняла ли она тогда мои слова или притворилась, что не верит им? продолжал он рассуждать, охваченный тяжелым раздумьем. — Конечно, притворилась. Не она ли писала генерал-прокурору Вяземскому в 1775 году, что положение помещичьих крестьян таково, что если не воспоследует генерального освобождения от несносного и жестокого ига, то, не имеющие обороны ни в законах, ни вообще нигде, они могут впасть в отчаяние и что если не пойти по пути облегчения нестерпимого положения, то такое освобождение будет взято силой, против воли правителей… Но все это — сплошное притворство, игра. И напрасно Державин утверждал, что ей «можно правду говорить». Как раз наоборот, она любит лесть, хотя бы и самую грубую».
Вспомнился змеиный взгляд допрашивавшего его Шешковского и то, как дурашливый Потемкин, фамильярно приветствуя всесильного палача, всякий раз спрашивал его: «Ну как, кнутобойствуешь, дорогой?..» Холодок отвращения пробежал по спине Радищева.
«Да взять хотя бы Тайную концеярию и пытки. Существуют они или упразднены? — спросил он себ я и ответил: — Упразднены Петром III, что и подтверждено указом Екатерины еще в 1762 году, а на самом деле… Чем же хуже екатерининская экспедиция с Шешковским во главе Тайной канцелярии или Преображенского приказа?.. Все обман…»
Из сеней донеслась громогласная речь только что поступившей в горничные ссыльной девицы с Урала.
«Никак гости?» — подумал Радищев и, поднявшись, вышел навстречу.
— Какой добрый ветер занес вас в наши края, дорогой Григорий Иванович? — оживленно заговорил он, увидев Шелихова, и сейчас же распорядился: — Катя, проводи Григория Ивановича в ту комнату, подай умыться, да самовар на стол, быстро!
Шелихов с удовольствием ополоснул холодной водой искусанное мошкарой лицо и поспешил выйти к хозяину.
— Ну, как китайский торг, открыт? — спросил гостя сгоравший от любопытства и нетерпения Радищев после беглых вопросов о Наталье Алексеевне, о детках.
— Это дело решенное, — весело ответил Шелихов, предвкушая чайное блаженство и шумно усаживаясь за стол. — Из-за него-то я и очутился здесь у тебя, Александр Николаевич, — перешел он сразу на простецкое «ты». — Мехов у меня хоть отбавляй, затоварился, а ассортимента нет, и не хватает как раз вашего товара, белки…
— А я как раз закончил исследование о китайском торге и теперь хорошо понимаю твое беличье горе, — ответил хозяин. — Охотники говорят, три года подряд неурожай кедровых орехов был, ну и сбежала белка в другие места, где посытнее… Ищи вот теперь, где она поселилась.
— Я кое-что поразведал по дороге из Якутска, да хочу расспросить и здешних охотников… Без белки не обойтись… А ты говоришь, китайский торг исследовал? Наверно, для графа старался? Интересно…
После чая перешли в обширный кабинет. Густой смолистый запах свежеструганой сосны шел от высоких, чистых и гладких стен. Красивый и простой рисунок искусно подобранных досок украшал их лучше входящих в моду обоев. Еще красивее были широкие лиственные доски пола, как бы окаймленные рядом продольных прямых темных линий, ровно протянувшихся под прозрачной вощаной полировкой. Тяжелые полки по стенам сплошь уставлены книгами. Еще не разобранными журналами на европейских языках наполнены и расставленные в беспорядке только что открытые ящики. Громадный тяжелый письменный стол, накрытый зеленым сукном, и большие кожаные кресла дополняли обстановку. Кабинет бодрил легкой прохладой и свежим запахом леса.
— Однако у тебя тут уже целая библиотека, — заметил Шелихов, показывая на полки и ящики.
— Это граф Александр Романович, дай бог ему здоровья, печется обо мне. Не знаю, что и делал бы без его помощи… А теперь блаженствую: утром детей своих учу, потом сам учусь и не скучаю, хотя, признаться, боюсь, затоскую не привык я к такому одиночеству… Есть тут у меня на полке и твое «Странствование в Америку», читал… Неужто с Натальей Алексеевной ездил?
— Да, с ней, а только книгой сей, Александр Николаевич, недоволен я, ох, как недоволен!.. Издана она без моего ведома… Многого бы в ней не допустил, — с сердцем и как-то беспокойно сказал Шелихов.
Радищев с недоумением посмотрел на него и спросил:
— А как теперь идут твои американские дела?
— Что же, Александр Николаевич, идут кое-как. Вот главного управляющего нового подыскал, каргопольского купца Баранова. Смелый, крепкий и прилежный мужик, будет польза, но все-таки скажу, не то, что надо… Тебя бы туда… Дорого бы дал!.. Размахнулись бы мы с тобой, Александр Николаевич… Не упирайся, друг!
— Ну что ты, Григорий Иванович, заладил одно и то же… Ведь никак не подхожу. Ты порабощать хочешь, а я законом заклейменный враг рабства, да еще какой упорный! Я тебе там все испорчу…
— Зачем рабство? Там крепостных нет и не будет. Мне ведь тоже подневольный труд не по душе, да и невыгоден. Баранов, понимаешь ли, ни алеута, ни другого дикаря приручить не сумеет, а ты бы придумал, как сделать труд их необременительным для них самих, а для нас прибыльным.
— Лукавишь, Григорий Иванович! Ведь ты хочешь большой прибыли — на том стоишь: чем твой прибыток больше, тем больше убыток твоему работничку, не так ли?
— Нет, Александр Николаевич, грабить не стану и не хочу, а богатеть можно, и ох как можно! Умением да сноровкой. Пусть живут хорошо, так хорошо, как никогда не жили, а я богатею себе да богатею… Я только направляю да приохочиваю…
— Ну, это все, голубчик, сладкие соловьиные песни, и сам ты знаешь, что ничего этого не будет. Зажмешь беззащитного в кулак, а потом проглотишь, смеясь, сказал Радищев.
Шелихов обиделся и замолчал, но, подумавши, отошел и робко спросил:
— Ну хорошо, а детей моих тоже учить не хочешь? В Иркутск переедешь, от этого одиночества избавишься…
— Неужто не боишься, что из твоих детей крамольников понаделаю? улыбнулся Радищев. — Да и говоришь зря… Видишь ли, хоть сильная у тебя рука в Петербурге, хоть покровитель твой все может, а вот от Илимска избавить меня не возьмется. Что за охота ему сердить государыню? А рассердится, знаю, крепко и, может быть, сделает еще хуже… Надо тихонько в Илимске посидеть годика три-четыре… Сейчас нельзя, — добавил он, помолчав.
— А славно было бы, — мечтательно заметил Шелихов, с любовью глядя на задумавшегося Радищева, — славно бы зажили… Я бы размахнулся во как! Огорчил ты меня, дорогой…
Сделка не состоялась.
8. Николай Петрович Резанов
Давно ходили по городу слухи, что еще в июне 1793 года состоялся указ о посылке в Америку многочисленной духовной миссии, но год был на исходе, а о миссии даже и говорить перестали.
Для Григория Ивановича Шелихова было ясно, что июньский указ является ответом на его настойчивые четырехлетние просьбы о необходимости проповеди христианства на островах. И теперь он терялся в догадках о причинах молчания. На частные письма столичные друзья и благодетели не отвечали. И вдруг спешный вызов к генерал-губернатору!..
Едва вошел, как Якоби, даже не ответив на приветствие, приказал:
— Поезжайте сейчас же к преосвященному… Завтра в Иркутск прибудет духовная миссия на американские острова. Надо подобающим образом принять ее в каком-нибудь монастыре. Устроить достойную встречу, стол… Словом, что следует… Сообщите архиерею, что миссия состоит из десяти человек, во главе с архимандритом Александро-Невской лавры, и что сопровождает ее чиновник сената по личному поручению императрицы… Поняли?
В тот же день Григорий Иванович успел побывать не только у архиерея, но и у игуменьи Знаменского женского монастыря, в коем намерены были принять гостей. Обсудили и важный вопрос: как устроить стол поразнообразнее и вкуснее, что представляло некоторые трудности — был рождественский пост.
— Да вы лучше меня понимаете, как и что надо, — лебезил перед игуменьей Григорий Иванович. — Ну, там икорки, балычка пожирнее да побольше, омулька не забудьте, грибков солененьких… Денег, сколько нужно, скажите… Вина, меду, наливок пришлю… Только, знаете, — замялся он, — излишества, того, не допущайте, а то, пожалуй, оборони боже, не осрамились бы гости…
«Монахов добились, — взволнованно думал он, ныряя по пригородным ухабам в открытых санях, — а вот церковь на Кадьяке не достроена до сих пор… Не досталось бы от этого сенатского чиновника… Алеутов, почитай, всех и без миссии окрестили, кадьяковцы сами напрашиваются, а вот коняги, с теми плохо — упорны… Монахам, пожалуй, тяжела будет жизнь на островах, непривычны…»
Григорий Иванович к религии был безразличен, но тщательно это скрывал: сам аккуратно исполнял церковные обрядности и этого же требовал в своей семье. Здесь строю соблюдались посты, в дни поста все отстаивали обедни, часы и вечерни, говели. За стол садились с молитвой, с нею же вставали: «без бога ни до порога». Григорий Иванович в свои частые и долгие поездки не уезжал без молебна «о путешествующих» и по возвращении не начинал дела без «благодарственного». При встрече со священниками истово осенял себя крестным знамением и благоговейно, сложив руки горсточкой, подходил под благословение и лобызал руку… Так было на людях…
Но за глаза он презрительно называл тех же священников и монахов «долгогривыми» и, опрокидывая рюмочку и нанизывая на вилку груздочков, любил пошутить: «Ее же и монаси приемлют». Религия нужна была ему на островах «для умягчения нравов» и для того, чтобы поражать воображение дикарей торжественностью и благолепием богослужения…
Встречали монахов колокольным звоном, а кое-где около церквей и целым причтом, в лучших облачениях, с клиром. В архиерейской церкви служили молебен. Слушали епископское слово приветствия и ответное — архимандрита. Словом, было торжественно и пышно.
На следующий день Григория Ивановича посетил особенно интересовавший иркутян «уполномоченный самой императрицы». Шли слухи: «Гвардейский офицер, у императрицы бывает каждый день… В правительствующем сенате заседает… По распоряжению царицы обучает законам самого Платона Александровича Зубова».
— Вот когда настоящая заручка в Санкт-Петербурге будет у Шелихова, волновались конкуренты.
— Холостой, — шептались в семьях, — а ведь Анна-то у Григория Ивановича на выданье… Неужто упустит случай породниться?
Оказалось, что сенатский чиновник — родной сын председателя Совестного суда Петра Гавриловича Резанова. Приехал отца повидать. У него и поселился. А что состоял прокурором самого правительствующего сената, этого не отрицал и сам отец.
Заволновались свахи. Одна успела побывать, как вхожая в дом, у Натальи Алексеевны и с полчаса шушукалась с нею наедине. Проходя мимо Анны и прощаясь с нею, она как бы мимоходом спросила:
— Ты что же это, Анна Григорьевна, вздумала голову кружить приезжим кавалерам — обижать своих?
Вспыхнула Анна, хотела было что-то спросить, а свахи и след простыл…
Прокурор правительствующего сената Николай Петрович Резанов оказался красивым, веселым и простым молодым человеком. Держался он скромно, забавно рассказывал о своих дорожных впечатлениях и придворных сплетнях, ни разу не похвастал тем, что видает императрицу. И больше всего интересовался Иркутском. А от Натальи Алексеевны буквально не отрывался, требуя подробностей о житье-бытье ее на островах… Понравился он решительно всем, даже требовательному отцу.
«Можно подумать, что сам только что прибыл с Кадьяка, так досконально все знает», — удивлялся Григорий Иванович. И решил хвастнуть перед Резановым школой, устроенной им для вывезенных с Кадьяка алеутских ребят.
— Давайте осмотрим школу сначала вдвоем, — тут же предложил Николай Петрович. — А там, если охота, для миссии устройте парадный смотр отдельно.
Школа с общежитием занимала отдельный дом с флигельком, где помещалась поварня. Ребят застали за уроками.
Любопытные черные глаза с лукавинкой вперились в забавное, похожее на человека существо из столицы. Они никогда не видели такой головы в мелких кудряшках… Хорошо бы до них дотронуться… Существо, если только это настоящий человек, прикасалось, подходя, к их стриженым головам, но это было мало похоже на прикосновение, скорее легкое дуновение какого-то ласкового ветерка… И белая рука с длинными пальцами, украшенными светящимися колечками, не могла быть настоящей — таких нет. А что у него на ногах с такими изумительными застежками? А гладкие нежные штаны до колен — из чего они сделаны? Все интересно, но совершенно непонятно. Говорит и улыбается, а что говорит — не поймешь ни одного слова, кроме «Григорываныч», когда обращается к тойону Шелихову… Как трудно слушать и понимать учителя, когда перед глазами этот странный приезжий!
Однако учитель овладел вниманием учеников довольно скоро. Писали под диктовку на доске русские буквы и целые выражения, прочитывали вслух, складывали и вычитали числа, загибая пальцы или наизусть.
Учителю очень хотелось блеснуть знаниями старших учеников, заучивших книжку «Об обязанности русского гражданина».
Смешно было, как старательно двенадцатилетние детишки выговаривали, отчеканивая каждое слово: «Закон христианской научает нас взаимоделати друг другу добро, сколько возможно». Или: «Законы можно назвати способами, коими люди соединяются и сохраняются в обществе и без которых бы общество разрушилось». Называя по-алеутски себя и селение, откуда происходит, мальчик отходил в сторону. Шелихов тут же добавлял вслед отходящему:
— По святому крещению — Роман.
Старшие щеголяли таблицей умножения, четырьмя правилами арифметики и бойко, с азартом отстукивали костяшками на счетах. Не выдержал и подсел к ним сам Григорий Иванович. Тут он называл детвору и по-христиански, и по-алеутски, как попало, и задавал задачи «на счет вперегонки». Ясно было, что он здесь не случайный гость, а свой — ребята его не дичились, свободно отвечали ему по-русски.
За бойкий правильный ответ Шелихов с детски горделивой радостью каждый раз вынимал из кармана гостинец.
В заключение гостю была представлена оркестровая музыка: флейты, скрипки, контрабас, тарелки, а всех покрывал большой турецкий барабан.
— Что твой Преображенский полк идет со свистульками! — пошутил Резанов.
— Пока достигли одного: шибко громко, — смеялся Шелихов. — Теперь стараемся дальше… — Он кивнул мальчику с контрабасом. Тот отставил контрабас к стенке и с вызывающим видом подошел к Шелихову, но тут напускная храбрость, видимо, его покинула, и он виновато опустил голову.
— Андрюша, тебя, говорят, два раза драли, — сказал сурово Григорий Иванович. — За что?
— Я не хочу учиться на скрипке, а бас мне нравится, — проговорил мальчик.
— Розгами учитель драл? — спросил Шелихов.
— Нет, рукой… — левая щека мальчика задергалась, крупные слезинки покатились вниз, прокладывая борозду, растираемую грязным кулачком. — Я буду и на скрипке, — пообещал Андрюшка.
— Ну вот, это другое дело, молодец… — сказал Шелихов и протянул мальчонке несколько разноцветных леденцов.
— К чему вы их готовите, Григорий Иванович? — спросил Резанов уже в сенях.
— До зарезу нужны служащие в конторах, хотя и там у меня есть школа и учителя из моряков и конторщиков. Мне учителя из своих алеутов еще больше нужны. Этих думаю задержать лет до семнадцати, а потом — в семинарию мечтаю… Ну, да это не скоро…
— А взрослых учить не пробовали? — спросил Резанов.
— Не выходит… А паче всего, — добавил Шелихов после раздумья, мореходы нам нужны. Хочу теперь же к навигацкой школе приступить. Кораблей на островах нужно много, — он глубоко вздохнул, — а кто командовать будет? Морские офицеры? Первое — не пойдут, а во-вторых, ежели и пришлют выгнатых или еще кого-нибудь, на кой они бес! Кому охота жить на островах, кроме открывателей? Вот эти — другое дело: с корабля просто не выгонишь. Для них и корабли стоит строить особые и команды подбирать не простые.
— А про каких вы открывателей обмолвились? На самом деле есть такие, или только мечтаете о них?
— Мало, но есть. Слыхали, быть может, про штурманов Измайлова и Бочарова? Оба уже не молодые… Когда-то были замешаны в Большерецком бунте, устроенном ссыльным поляком Беневским. Одному пришлось побывать с ним даже во Франции, другому удалось сбежать с дороги.
— Я что-то слышал об этой истории, — подтвердил Резанов, силясь вспомнить. — Встревожила она государыню…
— Ну вот, оба и служат у меня штурманами.
— И как?
— А вот так: им только бы плавать на кораблях, открывать новые земли, описывать да наносить на карту — настоящие мореходцы! Они понемногу и алеутов натаскивают на это дело. Отдадут якоря у какой-нибудь земли — все кругом и облазят и обмерят… Отважные, ничего не боятся. Всех плавающих англичан, шведов, бостонцев, разных там Куков, Чатамов наизусть знают — со всеми не раз встречались. И не зевают: хорошо помнят, что все Куки одним миром мазаны: чуть недосмотрел, обязательно десяток ружьишек, а то и пушчонку нашим островитянам против нас же сбудут. Только это Куки наладят все, шито-крыто, ан смотришь — из-за мыса кораблишко с Измайловым или Бочаровым тут как тут… Ну и, смотришь, уходят пришельцы ни с чем.
Шелихов глубоко вздохнул.
— Конечно, вам самим обороняться не легко, — признал Резанов. — В постоянном плавании необходимо иметь по меньшей мере пять-шесть крейсеров. Пусть даже ваших, но действующих от имени государства, охраняющего свои пределы и безопасность промыслов.
— Матушка государыня очень сердится, — заметил Шелихов, — думает, монополии добиваемся… А как же иначе? Почему же не слиться нам воедино? Тогда по крайней мере мешать друг другу не будем, да и крепче станем, ежели капиталы сольем. Ведь земли, почитай, с три Франции, а порядка нет. Ты глянь-ка, что на островах делается! Чуть недоглядел, как липку обдерут. «Мое», и все тут — иди жалуйся. А кому? Выбьет зверя дочиста и пошли дальше — хоть трава не расти. Ну, и торопимся друг перед дружкой. И в этом все дело, голубчик…
Монахи скоро надоели, а до весны было еще далеко: корабли могли выйти в плавание только весной. Выехать же в Охотск не было возможности раньше, чем просохнут дороги. Пользуясь свободным временем, Григорий Иванович катнул на север подстегнуть охотников за белкой, забрать у них, что уже набито, подкинуть пороху, дроби… Готовился к большим делам в Кяхте. А на досуге решил поразмыслить о том, как обзавестись крепкой рукой в столице.
К весне Шелихов получил ободряющие сведения из Охотска. Оттуда писали: «Корабли почти готовы. Как только лед сойдет, будем спущать, а потом и грузиться. Товар, люди есть».
Обязательства Резанова позаботиться о духовной миссии кончались Иркутском. Однако Шелихов пригласил его проехать вместе с ним в Охотск проводить монахов на корабли, — сам он не решался взять на себя эту обузу. Это чрезвычайно устраивало Резанова — он жаждал ознакомиться не только с делами такого выдающегося организатора, как Шелихов, но и с его замыслами, новизна которых и размах захватывали. Ведь Шелихову нужна теснейшая связь с Петербургом и помощь оттуда. Эта мысль стала перед Резановым с поразительной ясностью… Было и другое. В семье Шелихова он давно чувствовал себя как дома: приходил запросто посидеть, не подыскивая предлогов, любил посвящать Наталью Алексеевну в жизнь крупного чиновничества в Петербурге, уговаривал проехать туда с мужем — побывать в театрах, повеселиться.
К вечернему чаю собирались всей семьей. Не дичились Резанова и девицы. На юную Анну, похожую на мать, Резанов давно засматривался… Чего думать? Молода, красива, скромна, много читала, особенно по географии, богата. Не похожа на развязных петербургских девиц… Правда, купчиха. Что скажут в Петербурге?.. Однако торгующее дворянство не выдумка, оно необходимо государству. Россия особенно нуждается в широком выходе на международный рынок и только тогда будет играть подобающую ей мировую роль. Коммерсанты это ведь не просто торговцы, это политически влиятельные лица, нужные государству. Они могут получать и высокие дворянские титулы за оказываемые государству услуги — графство, княжество…
Резанова все больше влекло к умному, предприимчивому купцу. А Шелихову молодой, любознательный и со связями Резанов решительно пришелся по душе. Так, не сговариваясь, оба стремились друг к другу.
Затеваемая комбинация, в которой имя Анны не называлось, но подразумевалось, давно уже не была тайной для всего города. Об этом своевременно позаботилась сваха, трудолюбиво сплетавшая брачные сети. Догадывалась и Анна. Стала с чего-то вдруг конфузиться, убегала при появлении Резанова, хотя тот ни одним намеком не выдавал ни своих чувств, ни намерений. Купеческий обычай заставлял начинать дело с родителей, и Резанов откладывал свое решение до поездки с Шелиховым в Охотск…
Провожали монахов всем городом после молебна в архиерейской церкви и прощального обеда у генерал-губернатора. С архиереем архимандрит окончательно договорился о рукоположении его «во епископа» будущей Кадьякской епархии через два года работы «по просвещению» дикарей на островах. Решили ехать на колесах до Усть-Кута и дальше до Якутска — водою по Лене.
— Не знаю, как они воссядут от Якутска на лошадей верхом, — озабоченно говорил Шелихов. — Доедут ли с непривычки?
Выбирали лошадей сами монахи.
— Мне посердитее, — потребовал высокий, с лихорадочно сверкающими глазами фанатика иеромонах Ювеналий, из горных офицеров. — Они, сердитые-то, выносливее.
— Отец Ювеналий, куда же вам такую мышь? — уговаривал его иеродиакон Стефан. — Ногами по кочкам молотить будете — искалечитесь…
— Не твое дело, — бурчал Ювеналий, подходя к облюбованной лошаденке.
Но не успел он ухватиться за гриву и занести ногу, как вскрикнул от боли: «мышь» укусила его за икру.
— Вот чертяка!..
В устах Ювеналия упоминание черта было так неожиданно, что монахи дружно захохотали.
Длинная костлявая фигура аскета, нелепый на ней якутский костюм и прямая (как палку проглотил) посадка еще долго смешили людей.
Вслед за проводниками двинулись миссионеры по узкой тропочке молчаливой тайги. Архимандрит лежал в качалке, прикрепленной на длинных жердинках к двум идущим гуськом лошадям. Сидеть в ней было нельзя, но утомительно было и лежать: лошади шли не шаг в шаг, жестоко трясло, от непрерывной качки тошнило. Архимандрит оценил этот способ передвижения только через несколько дней, когда научился засыпать. Но раз научившись, спал беспросыпно… Двигались почти целыми сутками, на привалах валились на землю и тут же забывались мертвецким сном до рассвета, задыхаясь от жары под волосяными сетками, которых не снимали… От несметной мошкары не спасал даже густой дым костров.
Близился август. Короче стали дни, прохладнее ночи. Дорога казалась бесконечной. Да она и в самом деле была такой. Для верности ехали сухим путем, через Юдомский Крест. Тут путников неожиданно обнадежили: до Охотска каких-нибудь двести верст.
Прибыли ночью прямо в контору Шелихова. Сонный и недовольный Василий, тот самый, который после охотской истории при возвращении Григория Ивановича с островов валялся у него в ногах, вымаливая себе прощение, засуетился, стараясь устроить удобный ночлег наехавшей дюжине гостей, людям при лошадях и усталым коням. Василий фактически уже давно стал управляющим Охотской конторой. На нем и доверенном Голикова Полевом лежал надзор за постройкой кораблей и их снаряжением. Они же опекали прибывших из разных мест промышленных. Во всех уголках было людно и тесно.
— Как корабли? — не поздоровавшись, спросил брата Шелихов.
— Спущены на воду, нагружены и стоят на рейде, — отвечал Василий.
— Людей много ли? Промышленные, больные?
— Людей много, больше двухсот. Больных, благодарение богу, нет. Старых промышленных пришлось принять шестьдесят…
— Чужих много? — озабоченно наморщился Шелихов. Он боялся «чужих», которые приходили из конкурирующих компаний, — их подсылали шпионить на промыслах и вредить.
— Только два от Ласточкина и один от Мыльникова.
— Надежны?
— Не дюже… Других нет.
— Завтра собери, посмотрю сам. Чужих проверю…
На другой день монахи поднялись поздно и жадно набросились на Резанова с расспросами о кораблях.
— До посадки кораблей не увидите — невидимки, — пошутил Резанов. — А впрочем, пойдемте, — и повел их к реке.
Далеко на рейде, километрах в пяти, видны были неясные очертания двух судов: большего — «Трех святителей» и меньшего — «Екатерины». Монахи остановились и молча созерцали захватывающую картину гладкого, как стекло, бирюзового залива.
— Ветерок, господи, как хорошо! — вдохновенно сказал Ювеналий. Смотрите, смотрите…
Вдали как будто кто-то острым инструментом прочертил по линейке тонкую прямую серебряную полоску.
— Это не ветер, — пробурчал, проходя мимо, какой-то старик. — Прибой начал шалить…
Полоска ширилась на глазах. Не прошло и минуты, как изумленные монахи стали различать, что полоской кажется быстрое течение к морю из залива. Вода стала падать, но вдруг остановилась, загороженная высокой и грозной водяной стеной с моря.
Стена стояла неподвижно. Проходил час за часом, она не обрушивалась на залив, но и не уходила. Увлеченные ее созерцанием, зрители не заметили, как падал уровень воды. Он казался им тоже неподвижным, а между тем опускался все ниже и ниже, обнажая песчаные мели островов и мысов, пересеченных во всех направлениях узенькими полосками ручейков. Далекие мачты судов покосились, как будто корабли повалились набок.
В море появилась на синем фоне воды резкая белая полоска. Она приближалась к ясно обозначившемуся обмелевшему устью реки, сначала окаймляла его широкой дугой, а потом, выпрямившись, с шумом обрушивалась на русло, подымая беспорядочные кипящие буруны, не дающие пощады застрявшим на отмелях залива судам.
— Что притихли? — спросил тот же старик, возвращаясь — Видите, никого в устье нет — все попрятались. Тут море не шутит… И так дважды в день. Кораблей у нас тут, лодок гибнет каждый год — счету нет. Вишь, куда их ставят, — указал он на выпрямившиеся мачты «Екатерины» и «Трех святителей». — А туда добираемся, когда воды много. Ну, тут торопиться надо. Не успеешь — погибнешь, — добавил он и ушел.
— Налюбовались! — ехидно заметил Стефан. — Пошли…
— Послезавтра погрузимся, — объявил вышедший из конторы Шелихов. Завтра съезжу, проверю, все ли в порядке. Хочу я, — обратился он к Резанову, — человек сто доставить вместе с миссией на Кадьяк, а несколько семейств с десятками двумя промышленных отправить к Японии, на Курильский остров Уруп. Там можно и промыслом заняться и торговлишку с японцами попытать — сами предложили прислать корабль.
— Ну что же, в добрый час, — сказал Резанов.
— Все дело в начальнике… Есть у меня один на примете, но что-то сумнительным кажется. Хотите, вместе посмотрим…
До поздней ночи сидел Шелихов за конторскими книгами и счетами. Но главное было не здесь — книги говорили только о количестве… А что именно погружено? А качество? Проявленная Василием суетливость вызывала подозрение: ведь товаров, купленных на ярмарке Василием, он не видал.
На рассвете Шелихов вскочил и разбудил Василия.
— Приготовься ехать со мной. Побуди Полевого, может, и он соберется.
Василий смутился.
— Ночью? Кораблей не найдем — туманит.
— Светает уже… Найдем…
Собрался и разбуженный Полевой.
Корабли Шелихову понравились: надежные, из крепкого мелкослойного леса. Такелаж тоже не вызывал сомнений в добротности.
Спозаранку познабливало — Полевой зябко кутался в плащ.
— Тесновато, — заметил Шелихов, оглядывая предназначенные для миссии каюты. — Да что ж, в тесноте, да не в обиде. Привыкнут…
«Неужто товар из трюма начнет вытаскивать?» — с тревогой думал Василий.
Так и случилось. И первый же тюк сукна оказался лежалым.
— Убью, негодяй! — шипел Шелихов, тыча пальцем в книгу. — Записан тюк из последней моей санкт-петербургской закупки. А положено? Скотина!
— А это что? — заметил Шелихов на полке у самой обшивки мятые медные котлы, такие же чайники и даже две расколотые чугунные шестерни для предполагаемой пильной мельницы. — Мы еще с тобой поговорим после отправки гостей! А сегодня ты заберешь все это к себе и завтра же утром обменяешь на годное. У кого и почем покупал?
Василий молчал, опустив голову. Звонкая пощечина заставила его зажать щеку рукой.
Поздним вечером, когда Григорий Иванович озабоченно трудился над письмом Баранову на острова, Василий тихонько подошел к нему и заискивающе сказал:
— Я переменил негодный товар на хороший, Григорий Иванович, — и протянул список. — Прости…
— Если б не дети, давно бы послал тебя к дьяволу… Убирайся!
— Спасибо, — некстати, но с покорностью в тоне промолвил Василий и на цыпочках вышел.
«Поздравляю вас с гостьми, — писал Григорий Иванович Баранову, подчеркивая возможную пользу от миссионеров. — Уверен, что вы не менее моего почувствуете удовольствие, когда увидите в них подпору своего будущего благополучия…»
День и ночь переправляли людей. Приходилось это делать с большими перерывами из-за отливов. Шелихов в это время тщательно, строка за строкой, следил по книгам, все ли предположенное погружено, и время от времени бросал Василии короткие замечания:
— Воды на «Святителях» мало… Заморим скот, птицу, что будем делать? Опять посылать? Бочек тридцать прибавь… Железа тоже не хватит, гвоздей, припасу разного для кораблестроения…
Последними перевозили миссию, и только слышалось: «Господи, сохрани и помилуй мя грешного…» Косясь по сторонам, монахи со страхом поглядывали на угрожающую стену воды — вдруг рухнет и потопит? А когда причаливали к кораблю, с облегчением торопливо бормотали: «Слава тебе, господи!» — и резво взбегали по лесенке на борт.
Нагруженные до отказа, оба корабля, особенно «Три святителя», несли на себе не только миссию и больше двухсот человек переселенцев, мастеровых, рабочих, но и более чем годовое снабжение островов, скот для расплода, семена и инструменты для разведения огородов. Одних товаров насчитывалось двадцать пять тысяч пудов, и об особых удобствах для миссии нельзя было мечтать. Монахи их и не требовали, считая, что потерпеть в море придется месяца полтора, не больше. Сторонясь грубой, недисциплинированной толпы, скученной на небольшой палубе корабля, они предпочитали отсиживаться в тесных каютах. Не смущался один лишь Ювеналий. Как только вышли в море, он взгромоздился на какой-то бочонок и, грозно сверкая своими сверлящими глазами маньяка, стал проповедовать, призывая некрещеных креститься, а остальных — каяться во грехах…
9. Рука об руку
В Охотске Шелихов пробыл недолго. Через два дня после отправки кораблей у начальника порта состоялся прощальный обед в честь столичного гостя.
— Вот что, ваше высокоблагородие, — обратился к начальнику порта Шелихов, когда все уже достаточно нагрузились и речи лились свободно, — хочу я от тебя из Охотска бежать. Не сердись, да видишь ли что — выход из своего порта вроде выигрыш какой: не успел поймать прилив, поминай как звали. Либо в море унесет и выбросит на камни, либо кинет на отмель — не сойдешь. Каждый год по кораблю теряю, а то и по два. Уйду подальше, хошь на Улью. Там и леса хорошие и спокойнее.
— А правительство? — возразил хозяин. — Я-то перечить не буду, но за Санкт-Петербург не ручаюсь. Порт обошелся дорого, и кто же осмелится заявить, что деньги выброшены на ветер?
— Похлопочем… не правда ли, Николай Петрович? — Шелихов вопросительно посмотрел на Резанова.
— Да, выход в море здесь — это какой-то цирковой фокус-покус, подтвердил Резанов.
— Веришь ли, — продолжал Шелихов, — каждый раз, как отправляю суда, дрожмя дрожу, удастся ли выбраться из этой проклятой мышеловки. Даром гибнут и труды и капиталы. А люди? Не воскресишь… Слава богу, — перекрестился он, — на этот раз удалось…
Обратно Шелихов и Резанов ехали налегке. За ними тянулись и все возвращавшиеся с лошадьми домой якуты. На этот раз они везли только небольшой запас продовольствия и закупленные Шелиховым на охотской ярмарке в небольшом количестве товары да подарки жене и детям.
Григорий Иванович уже пришел к окончательному выводу, что в лице Резанова он может приобрести надежного и знающего помощника в Петербурге и, по всему вероятию, вполне подходящего мужа для своей Анны.
— Ну, так что же скажешь на все это, дорогой Николай Петрович? заговорил он, когда выехали из Охотска. — Что думаешь о монахах? Справятся ли?..
— Смотря с чем, — ответил Резанов, решив быть откровенным. — К проповеди христианства они непривычны и как-то мало полагают о своей миссии — никак к ней не подготовились. Изучать язык, да и то слишком поздно, начал один Ювеналий. Но чего стоит один вид его: скорее напугает, чем привлечет какого-нибудь конягу. Плана будущих работ миссии вовсе нет.
— Я, признаться, тоже не больно на них рассчитываю, — раздумчиво проговорил Шелихов. — Но если поставят как следует хоть одни школы, будет большая польза. Торжественность богослужения привлечет дикарей. О школах много думаю и заставлю ими заниматься. А вообще замыслил я так: дадены нам милостию божией многие земли, никем не занятые и даже незнаемые, изобилующие богатствами. Что из сего следует? Первое дело — удержать уже известные. Народцы тут хорошие — их лаской взять легче, нежели насилием. Они сыздавна терпят от белых, да и сами из ссор не выходят, войнами уничтожают друг друга. Мне старшины их частенько говорили на Кадьяке, когда мы подружились: «Спасибо, вы пришли, а то мы выбили бы друг друга до последнего человека». Ну, так вот я и положил: первое — их приручить и землю закрепить за матушкой Россией; второе — не останавливаться с приобретением земель новых. Тут я наметил два пути: один к северу — через пролив до самого полюса…
— Далеко хватил, Григорий Иванович, — усмехнулся Резанов. — Когда же ты…
— Я не для себя так рассуждаю, не я сделать должен, другие — вся Россия, а я только пути намечаю… Другой путь — к югу до самой реки Колумбии или даже до Калифорнии, где земля знатно родит — кормить будет. А по нашу сторону океана — все Курильские острова, до самого Японского государства.
— Так, так… — Резанов улыбался, но слушал с возрастающим вниманием.
— Зверя, вишь, тут морского, кажется, много. Не перечесть, — продолжал Шелихов. — Да поберегать его все же надо так, чтобы он был без переводу. Ты смотри, хороший был еще недавно и прибыльный зверь «морская корова», а где он теперь? В музеях, может быть, да и то скоро не найдешь. Я еще застал его у островов. А что делали промысловики? Печень вырежут, а несколько тонн хорошего мяса выбросят в море. Ну вот, так будет и с китами. Зверя надо беречь… А земля? Мы вот чуть копнули — железо нашли, медь… Об этом надо подумать. Кто может навести порядок? Хозяин, а ему-то и не дают развернуться, всячески мешают. Ватаги наши не хозяева — разбойники…
— Пойми, друг, — повысил он голос, — я не монополии, я порядка добиваюсь и мощного капитала. С «пятачком» можно урвать то тут, то там. А нам великое товарищество нужно — с миллионами… Польза, прибытки — это потом, они не уйдут… Кто же будет защищать нас? Сами? Да разве новые рубежи, что мы создаем государству, можем сами защитить! Правда, пока поневоле стараемся, а что видим? Чуть где-нибудь наладили, придут Куки, Чатамы и выхватят подготовленное из-под носа, нагадят и уйдут. Так вот и бьемся… Вы там в столицах сидите да похваливаете нас… Хорошо… А надо и помогать!.. Просил я тотчас после удачи Лаксмана в Японии послать новую экспедицию. Матушка царица поняла, что дело не терпит, — к сибирскому генерал-губернатору… А у того, вишь, денег нет. Да надо бы экспедицию не от него, а высокую — от государства… Ну и застопорилось. Зачинать, что я затеял, конечно, можно, но дальше надо разворачивать это дело. Хватит ли меня? Капиталу у меня для своего дома довольно, нажить сумею и больше, но в этом ли дело! Я хочу, чтобы с уважением и трепетом говорили не «Англия», а «Россия». Понимаешь, Россия, а не какая-то там Ост-Индия. Наша Российская Америка, вот что нужно… И достигнуть этого могу! Генерал Пиль правильно доносил в Петербург царице: «Заведется Удинский порт, и умножатся при оном военные силы ваши». Но пока их нет… Вот хочу дорогу на свой счет от Охотска к Иркутску построить, измучился, а разрешения все не имею. Открыть Удинский порт для купеческих кораблей тоже не могу… Ты подумай, Николай Петрович, Кантон, Макао, Батавия, Филиппинские острова ждут нашей торговли. С ними и разговор может идти не об одних китах, а обо всем, чем так богат наш и американский пустопорожний сейчас и север и юг. А у нас руки связаны, и никто в столицах не может и не хочет объяснить, насколько все, что говорю, важно. Сандвичевы острова не займем, попомни — другие займут. А Сахалин и река Амур? Неужто можно спокойно сидеть и ждать, когда сядут другие? Не дай бог увидеть это… Ты спрашивал о промышленнике Звездочетове, которого я на Курилы послал с партией. Я и сам знаю — ненадежный человек, может загубить все дело на Урупе. Но ведь другого-то, лучшего, нет!
Резанова оглушила перспектива разворота дел, начатых Шелиховым, перерастающих на глазах в целое государство. Это был целый, связный и продуманный план, для осуществления которого мало было одной жизни…
— Григорий Иванович, — произнес он неуверенно, — я хорошо понимаю и целесообразность и осуществимость вами задуманного. Однако без помощи человека, который бы думал, как вы, и умел бы действовать на петербургской почве, не обойтись… Есть у вас такой человек в Петербурге?
— К тому, голубчик, и гну… Нет… За деньги таких в Питере найдешь хоть нескольких, даже честных и знающих, и вес имеющих, а вот такого, который зажегся бы и горел, покуда жив, такого у меня нет… На островах нашел такого — Баранова Александра Андреевича. Загорелся, признаюсь, он не сразу, а как вспыхнул — ну, прямо удержу нет: и не только исполнит все в акурате, а еще и подскажет, предусмотрит… Ну, словом, лучшего не надо… Зато компаньоны мои, прямо скажу, грабители — в ложке воды готовы утопить. А с ними и братец мой родной Василий — продажная душонка… Вот и посуди: в Иркутске живу, как на вулкане: ходи да оглядайся кругом. В Охотском — сам видал… Наезжаю сюда каждый год, а то и два раза. А нужно бы просто жить здесь да глаз не спущать — отсюдова все снабжение, отсюда и дурную славу пущают. Эх! — Он махнул рукой и долго ехал молча.
— Много претерпевает от оговоров и Баранов. Обносят его передо мной всячески. Я, видишь ли, — Шелихов усмехнулся, — притворяюсь, что верю клевете и оговорам, запрашиваю его, что, мол, так и так. А он опасается, честная душа, что я и впрямь могу поверить клевете, огорчается и оправдывается… Не понимает, что иначе не скажешь ему в письме: «Бди и смотри, чем не брезгуют враги, научись различать их».
Шелихов весело засмеялся и прибавил:
— Люблю я Александра Андреевича всей душой. Да и он меня премного уважает…
Разговор возобновился вечером у костра, после ужина, при длительном чаепитии. Шелихов хворостинкой старательно подравнивал края костра.
— Я давеча не окончил разговора с тобой, Николай Петрович, — задумчиво проговорил он, сдвигая вылезающие из огня потрескивающие сучья.
— Слушаю, — встрепенулся Резанов.
— Так вот, видишь ли: я здесь, в Иркутске, при губернаторе, Баранов на островах, с промышленными и американцами, а в Питере, так скажем, ты при царице.
Шелихов остановился, Резанов молчал.
— Только, видишь ли, в чем тут загвоздка… Нанять тебя, хотя бы и за большие деньги, нельзя…
«Нанять!» — Резанова покоробило от этого грубого слова. В замешательстве он поднялся на ноги.
— Надо сделать так, чтобы мои дела стали нашими, понял?
— Григорий Иванович, — тихо сказал Резанов, подходя и подсаживаясь к Шелихову. — Григорий Иванович, я вот все хочу сказать, да не решаюсь… Выдайте за меня Анну Григорьевну. Люба она мне, да и от меня как будто не отворачивается.
— Договорился, что ли, с ней? — спросил Шелихов.
— Нет, ни с нею, ни с Натальей Алексеевной я не говорил. Ждал случая сначала поговорить с вами.
— Отвечу прямо и коротко: это было бы лучше всего, — весело проговорил Шелихов. — Но учитывать надо здесь вот что: первое — молода и учения еще не кончила, а второе — хочет ли, ибо неволить не буду… Разрешим это дело в Иркутске, а пока что обнимемся, дорогой.
Они обнялись и потом крепко пожали друг другу руки.
На следующий день, когда они опять расположились у костра на привале, ехавший навстречу им якут привез письмо от Натальи Алексеевны. Шелихов по прочтении молча протянул его Резанову. Сообщая о различных семейных новостях, Наталья Алексеевна писала:
«Таскают здесь по всему городу, будто Биллингс обнес вас государыне, что вы ее обманули и просили миссию напрасно, так как у вас в Америке, как он сам видел, ничего нет и то, что у вас все выдумано из своей головы. А государыня будто разгневалась и послала курьера, чтобы вас воротить с дороги и привезти скованного прямо в Петербург. Этот курьер будто бы проехал под секретом, и о нем никто не знает, кроме только одного генерал-губернатора. Весь город барабанит, что вы вот-вот прибудете сюда в железах, и много разных пустяков, о которых говорить не стану…»
— Ну, вот тебе, — сказал Шелихов, — полюбуйся, как строят против меня козни и не унимаются до сих пор. Ведь дело идет все о том же доносе, написанном подлекарем Бритюковым по наущению Биллингса. Бритюков послан был охотским начальником со мною на острова. Жили мы там с ним три года и вернулись в восемьдесят седьмом году, а донос он настрочил четыре года спустя, в девяносто первом. Ты, само собой разумеется, спросишь, почему он молчал четыре с лишком года. Боялся — так он объяснил — потому-де, что я заявил на островах, будто имею право казнить и миловать. О том, как я миловал, Бритюков не рассказывал, а вот как казнил, выдумал и донес, хотя притом оговорился, что сам не видал. Я, видишь ли, пытал туземцев шомполами и китовым усом и собственноручно расстреливал из штуцера одной общей пулей, поставивши нескольких в затылок друг другу коняг, чтоб было подешевле… Тебе смешно? — нахмурился Шелихов, заметив что Резанов улыбнулся. — Думаешь, выдумка, не стоящая внимания? Никак нет: Биллингс послал обследовать дело «о зверствах Шелихова». К счастью для меня, оно было поручено благородному и прямому Сарычеву, который обследовал Уналашку, Кадьяк и Цуклю. И вот результат, доложенный государыне… — Он вынул из грудного кармана объемистый бумажник, нашел какой-то клочок и при колеблющемся пламени костра прочитал: — «Со стороны туземцев я встретил на островах полное доверие и радушие, особенно же в смешанных поселениях дикарей с русскими…» А ведь Сарычев, понимаешь, шел по свежим следам, когда «зверства Шелихова» должны были ярко сохраниться в памяти людей…
Шелихов вздохнул и махнул рукой:
— Бороться одному со всей сворой конкурентов-зачинщиков и их прихлебателей, ох, как трудно!
— Успокойтесь, Григорий Иванович, — серьезно заговорил Резанов. — Я понимаю, что вам тяжело, но ведь Биллингс все-таки уже прошлое.
— Прошлое? Ошибаешься! Не прошлое, а настоящее и будущее. Из поколения в поколение пойдет гулять и уже, видишь, гуляет по свету гнусная молва, что Шелихов — зверь, что его рубли в крови народов… — сдавленным голосом проговорил Шелихов, отходя в гущину обступившего полянку леса, и только замиравший треск валежника под грузными неверными шагами показывал, что он не может успокоиться…
Треск ломающихся прутьев валежника возобновился, и из чащи снова послышался голос Шелихова:
— Разволновался и не досказал тебе об истории с книгой о моем странствовании… Наставили там нулей, насовали лишнего, ну и дьявол с ними, не стал и связываться, пусть их; приврал Шелихов, так приврал — все моряки так делают. Ты сам читал, знаешь… Нет, придумали штуку похуже: через год хлоп — еще книга — «Продолжение странствований Шелихова». А на самом деле это журнал Измайлова и Бочарова. Как попал в печать, не знаю, а там точное указание, где и как зарыты доски с надписью «Земля Российского Владения»… Я, Шелихов, дал слово царскому наместнику держать дело в великой тайне, а они на, поди!.. Государственную измену мне пришили. Это свежий подвох под мое честное, именитого российского купца имя… Я не зря ношу на пожалованной мне самой матушкой царицей медали надпись: «За усердие к пользе государственной распространением открытия неизвестных земель и народов и заведения с ними торговли…» Очисти теперь себя, ну-ка!.. Зверь и изменник отечеству, а не именитый…
— Не растравляйте себя, Григорий Иванович, успокойтесь, — упрашивал Резанов взбудораженного Шелихова. — Приеду в Петербург, разыщу негодяев. Попляшут они у меня!..
Добрались до Иркутска, окончательно сдружившись.
— Ты аккуратно к Шелиховым каждый день ходишь, как в департамент, подтрунивали над Резановым его родители.
— Сватаюсь, — смеялся Резанов, — хочу иркутским женихам нос натянуть!
— В добрый час. А как в дорогу миллионы золота повезешь?..
Оставалось до отъезда две недели. Резанов посвящен был во все планы и предположения Шелихова, познакомился и с вернувшимся из Петербурга Мыльниковым. Говорили о делах вместе с ним…
Заставши как-то Анну, уединившуюся в столовой с вязаньем, Резанов решительно стал в дверях, мешая ей пройти, и сказал:
— Анна Григорьевна, одну минутку…
Вспыхнув до корней волос, она опустила голову. Не подымая глаз, теребила остававшееся в руках вязанье.
Сверху Резанову виден был аккуратный пробор красивых золотистых, как у матери, туго заплетенных в тяжелые косы волос.
— Я полюбил вас… Согласны быть моей женой? — тихо спросил он. Ответьте, как вы?
— С отцом говорили? — спросила Анна, наклоняя голову еще ниже. И на ответ «да» скороговоркой, продолжая смущаться, бросила:
— Присылайте сватов…
Выскользнув из-под рук Резанова, уже раскрытых для объятия, Анна вбежала в свою комнату, закрылась на ключ и уткнулась мокрым от слез лицом в подушку.
10. Смерть Шелихова
Июньский рассвет теплый, но тусклый и слезливый. Григорий Иванович вышел на свой двор, погруженный еще в глубокий сон. Подняв голову к небу, он посмотрел на низко бегущие тонкой паутинкой слезоточивые облака, на стайки носившихся крикливых и юрких стрижей и направился решительным шагом к конюшне.
— Да закладай сейчас же! — послышался оттуда его приглушенный голос. Потом донеслось недовольное бормотание и какой-то невнятный вопрос конюха, а вслед за тем резкое хозяйское «не-е», и Григорий Иванович, стараясь не шуметь, вернулся в дом.
Неосторожным бряцанием медного соска умывальника он разбудил Наталью Алексеевну. Она показалась на пороге в легком халатике.
— Никак куда-то собрался, Григорий Иванович? С вечера ничего не говорил…
— Не спалось, голубка, ну вот и надумал, — не переставая булькать умывальником, отвечал густо намыленный Григорий Иванович. Неожиданно он выпрямился и брызнул холодной водой в лицо жены, роняя на пол мыльную пену.
— Ах! — вскрикнула Наталья Алексеевна, закрываясь руками. — Дети увидят — скажут, отец разыгрался, как маленький… Слышишь? Надолго ли собрался?
— Нет, ненадолго. Думаю слетать на «Железный» к Бутыгину.
— Это на Петровский-то завод? Полтыщи верст…
— В неделю обернусь. Хочу посмотреть, нельзя ли чего приспособить для пильной мельницы на Кадьяке. Не тащить же каждый пустяк из Питера…
— Смотри, погода-то хмурится, — показала в окно Наталья Алексеевна.
— Стрижи выше облаков летают — к вёдру, значит… Чайку бы…
Через полчаса озабоченный, но бодрый, как всегда, Григорий Иванович уже тарахтел по городским ухабам.
На постройке пильной мельницы на американских островах чуть не в каждом письме настаивал главноуправляющий Баранов, а давно выписанное из Петербурга оборудование не приходило.
Разгулявшийся вскоре на редкость погожий денек не радовал Григория Ивановича: невеселые мысли не выходили из головы.
«Старый дурак, — досадовал он на своего главного и давнишнего компаньона, а в прошлом хозяина, Голикова, — от рук отбился, ничего не платит в компанию. Мало того, допустил до протеста векселя, а свой пай — до секвестра. Свою долю мехов в компании стал выхватывать еще по дороге, до дележа… Задумал что-то с переводом своего пая на чужое имя, зачем-то повадился тайком то к Лебедеву-Ласточкину, то к Мыльникову… Наушничают там, наговаривают на Баранова… Мешает, видно, их темным делишкам…»
Шелихов давно чувствовал, что вокруг него сплелось какое-то крепкое кольцо, из которого он никак не может выкарабкаться. И это кольцо угрожающе сжималось со времени удачи на островах, а особенно, когда стали известны его намерения завести там постоянные русские промысловые поселения, чтобы создать одно общее дело и охватить им все открытые земли.
Недоброжелательно, как к чужаку и выскочке, относились к Шелихову в Иркутске, старались чем-нибудь досадить, помешать. Его удачи питали и увеличивали родившуюся ненависть. Особенно радовали недоброжелателей постоянные подкопы под наиболее близких к Шелихову людей — таких, как Баранов.
Однако Шелихов не подозревал, что дело дошло до твердого решения разорить его или устранить. Мыльниковы даже сколотили уже особую компанию и собирались двинуть на острова собственные корабли и силой выгнать оттуда шеликовских промысловых людей. И чем больше возвышал Шелихова своим вниманием Петербург, тем настойчивее действовали иркутские его недоброжелатели.
Григорию Ивановичу вспоминались забытые было картины опасного пребывания на Кадьяке. Островитян, взбудораженных приездом русских, он постепенно приручал лаской, подарками. И как снег на голову, обрушивались неожиданные и необъяснимые нападения. Тогда кропотливые доискивания Шелихова обнаруживали происки то подкупленных конкурентами людей, то безнадежного труса, гадливого дурня, подлекаря Бритюкова, навязанного ему в Охотске.
На островах, заражаясь, видимо, от хозяев, партии промышленных силой сгоняли друг друга с насиженных мест, брали своих русских в плен и чуть не в аманаты, морили голодом, натравливали туземцев и вели между собой нескончаемую войну… «Не лучше ли, в самом деле, — думал Шелихов, — просить царицу не о том, чтобы сколотить всех воедино, а чтобы прислала генерала и солдат с саблями, как погрозила сама? Пускай расправляется с ними, как знает, если в ладу жить не умеют. Да чем-то еще окончится эта проклятая история с книгой… Дернула же нелегкая в сочинители лезть!»
А в это время с островов, от верного Александра Андреевича Баранова, уже плыло полное тревоги письмо: «Извещан я, что в изданной от вас в печать книжке (каковая и здесь было открылась, но я воспретил) обнаружены все секретные дела. Хранить ли здесь сию тайну государственную за секрет, по силе строгих предписаний прежних и нынешних правителей, или оставить в пренебрежении?»
Упрямо растравляя незажившие раны и не поправив настроения, Григорий Иванович незаметно добрался до Бутыгина и с любопытством озирался по сторонам. Он одобрительно оценивал ладные и крепкие постройки, расположение завода. Вблизи самого завода, на мысу двух веселых сливающихся речушек, на нарядном пригорке, среди деревьев виднелась обширная казарма для рабочих, а дальше синел густой нетронутый на необозримом пространстве сосновый лес…
С бородатым, но молодым кряжистым хозяином, радушно приветствовавшим гостя, трижды облобызались.
— Что заставило, Григорий Иванович, пуститься в наши Палестины? осведомился Бутыгин.
— Помощь нужна, милок, — ответил Шелихов и тут же изложил свое дело.
Бутыгин задумался.
— От тебя, Григорий Иванович, принять заказ не могу, — невесело проговорил заводчик. — Железо, вишь, дрянь, а чугун и того хуже.
— Так, значит, товар лицом? — усмехнулся Шелихов. — Топиться, что ли, вздумал?
— Почти что так… Поддался на обман… Чуть спасся… Ну, а теперича мне все одно…
Шелихов вопросительно вскинул глаза на Бутыгина.
— Продал завод казне, — пояснил тот. — Да еще с барышом, — прибавил он тише. — Им, вишь, своих каторжников нечем занять, а тут как-никак дело: пущай балуются… Ну вот, нагнали мужиков — работают, — он кивнул головой в сторону оцепленной вооруженными солдатами группы каторжных, прикованных к тачкам. — А мы помогаем понемногу… Так и живем.
От неудачи задуманного дела Шелихов окончательно потерял настроение и ранним утром, мрачный как туча, уже ехал обратно… На третьи сутки, насквозь пропотевший, в пыли, он подъезжал к Байкалу и с удовольствием представлял себе, как окунется в его ледяную освежающую воду и поплывет молодецкими саженками, смывая с себя какую-то липкую противную слабость, от которой бросало то в дрожь, то в жар.
«Заснуть бы… крепко-крепко заснуть», — мечтал он уже глубокой ночью, ежась в постели и не засыпая.
— Знобит чтой-то, — заявил он утром своему возчику, усаживаясь в тележку и зябко кутаясь в пылевой плащ. Возчик пожал плечами, взглянул на небо и затем, указывая на сложенный в ногах свой полушубок, предложил:
— Накинь на себя, Григорь Иваныч, согреешься. Жарынь, поди, к полдню разойдется несусветная.
Поехали. Искоса поглядывая на хозяина, возчик наблюдал, как тот вдруг то нетерпеливо сдергивал плащ с плеч и раздевался чуть не догола, разрывая на себе душивший его ворот рубашки, то в каком-то изнеможении скрючивался в калач, стараясь прилечь на дно тележки, лязгая зубами. «Ишь, как его треплет, беднягу», — соболезновал возчик, погоняя лошадей и опасливо оглядываясь. Больной тем временем неловко и бессильно привалился к краям кузова, и голова на ухабах крепко билась о жесткую обводку.
«Неладное дело…» — решил возчик и свернул с дороги к знакомому буряту выпросить какую-нибудь телегу подлиннее — уложить больного.
Долго ахал сердобольный бурят, сочувственно кивая головой. Сбегал к соседям; притащили длинную широкую телегу, заботливо устлали ее сеном и уложили пышущее огнем тело на плотную душистую подстилку.
Двинулись потихоньку, провожаемые сочувствующими взглядами бурят.
Зной понемногу уже спадал, когда въехали в город. Ожили загнанные в тень с полдня обитатели особняка Шелихова.
Наталья Алексеевна, в одном легком капоте, скрылась у себя в спальне, Катя с десятимесячной Лизочкой и бегающим уже самостоятельно Васюткой устроилась в садике при доме, в открытой беседке, среди густо разросшихся высоких кустов желтой акации, бузины, рябины, лиственницы и молодых длинно-иглистых кедров. Васютка, сидя на целой горе мягкого чистого песка, заботливо пек пироги «к приезду папы». Сонная Катя помахивала веткой рябины, охраняя безмятежный сон Лизочки в самодельном, на тяжелых сплошных колесах детском возке. Приехавший накануне из Охотска дядя Василий — брат отца отдыхал в кабинете хозяина с холодным полотенцем на голове после вчерашней встречи с друзьями. Он опускал время от времени полотенце в медный тазик со льдом и вздыхал.
Ветка рябины в руках очнувшейся, насторожившейся Кати неожиданно замерла… Катя прислушалась. Нет, не показалось: тяжелые скрипучие половинки ворот перестали скрипеть. Кто-то медленно въезжал во двор. Кто же, кроме отца?
Катя сорвалась с места. Она уже не слышала, как упал вслед за нею опрокинутый столик, как всхлипнула, а потом запищала разбуженная Лизочка, как вопил благим матом брошенный и испуганный резким движением Кати несмышленый Васютка.
— Отец, отец! — кричала на бегу Катя. И вдруг остановилась. Во двор медленно вползала незнакомая ей телега с конюхом Григория Ивановича на козлах, но без него самого.
Широко раскрыв глаза и не подходя к чему-то неподвижному и страшному, лежавшему на телеге, она с ужасом увидала, как с воплем кинулась вперед мать, как рывками стала скидывать с телеги полушубок, плащ и, освободивши голову отца, обнимала ее и, рыдая, повторяла: «Гриша, Гриша… посмотри на меня!» Из дома сбегались люди.
Обвисшее тело потащили в комнаты. Мать поддерживала багровую до синевы голову Григория Ивановича.
Пришла в себя Катя уже в спальне, облегченно вздохнула: жив! Чуть-чуть, но все же шевелились малиновые губы отца, трепетали ноздри, со свистом и неровно подымалась и опускалась грудь.
Больной, однако, не приходил в себя — горел в сильнейшем жару. «Рано обрадовалась, — подумала Катя. — Что-то будет?» Становилось страшно.
Губернский доктор был в командировке, городской лекарь — в отъезде. Дядя Василий предложил позвать подлекаря Бритюкова. «Этого доносчика, причинившего столько горя всем Шелиховым?!»
— Никогда! — отмахнулась от него плачущая Наталья Алексеевна. Она вспомнила, как Бритюков валялся в ногах и вымаливал прощение у Григория Ивановича… — Нет, ни за что!
— Попросит прощения небось успешнее еще раз, когда брата выходит… Тогда, быть может, и без просьбы обойдется, — насмешливо возражал Василий.
— Нет, оставь, — повторяла Наталья Алексеевна. — Видеть его не могу.
Проходил томительный день, другой — положение больного все то же. Василий решил сделать по-своему и, не спрашиваясь, пошел к Бритюковым.
— Здравствуй, Василий Иванович, — холодно ответил подлекарь на приветствие, стараясь держать себя с подчеркнутым достоинством. Он хорошо осведомлен о том, что случилось в доме врага, и, решив набивать себе цену, спросил: — Давно приехал, Григорий Иванович?
— Третьего дни, — отвечал Василий. — Да вот какая оказия вышла…
— Захворал, что ли, кто у вас?
— Да он, брат Григорий… Не знаем что — второй день без памяти.
— Оправится, — небрежно процедил Бритюков, — Оправится, крепок.
— Подь ужо, Бритюков, сам посмотри. Помоги, ежели понадобится.
Подлекарь ответил не сразу и как бы в раздумье:
— Много горя хлебнул я из-за него… Чуть не сгноил в кутузке… Разорил… Посмотри, как живу. Подымусь ли когда?
— Не на него пеняй, на Биллингса. Зачем ему поддался, — сказал Василий. Но Бритюков, не слушая его, продолжал жаловаться:
— Просил простить — выгнал… А теперь, слышь, нужен стал: помоги…
Он исподлобья взглянул на Василия.
— Выздоровеет, уже отыграешься тогда, поди… и делишки поправишь, обнадеживающе сказал Василий и замолчал.
— А сама как? — спросил Бритюков.
— Без нее не звал бы… Пойдем-ка! — Василий решительно направился к выходу. За ним, как был, без шапки, поплелся и Бритюков.
На его поклон и «здравствуйте» Наталья Алексеевна молча чуть кивнула головой и, не глядя, ушла.
«Однако язва баба, — подумал про себя подлекарь. — А, черт с тобой!» махнул он рукой и прошел в комнаты за Василием.
У постели Григория Ивановича сидела четвертая его дочь, Шура, и заботливо обмахивала полотенцем лицо больного.
— Штору поднять, — резко потребовал Бритюков, подходя к постели.
Внимательно и долго он всматривался в ненавистное ему лицо больного, потом приложил руку к горячему лбу Шелихова, поднял пальцем плотно сомкнутые веки, откинул одеяло, затем загнул к подбородку сорочку и стал выслушивать клокотавшую грудь. Потом попросил Василия приподнять больного, усадить его и стал выслушивать, постукивая по спине костяшкой согнутого указательного пальца. Наступило долгое томительное молчание. Слышалось только тиканье маятника подвешенных где-то недалеко часов.
— Картина ясная, — изрек, наконец, Бритюков. — Особое воспаление легких, полагаю, крупозное воспаление, наиболее опасное.
И стал приказывать непререкаемым тоном врача:
— Закутать всю грудь и спину отжатой, влажной простыней, в несколько раз сложенной. На нее положить аккуратно большой лист плотной бумаги, непременно (он подчеркнул это слово несколько раз) сплошным листом, а на него — теплое шерстяное одеяло… И во все это закутать больного… — он приостановился и раздельно произнес: — гер-ме-ти-че-ски! Можно даже для плотности спеленать свивальником, чтобы без продухов… Менять два раза в день при закрытых окнах… Пить — сколько угодно… особенно хорошо сладкую воду с отжатой, без шкурки, клюквой или с лимонной кислотой. На голову холодное полотенце. Можно со льдом… Будем ждать… Пока положение тяжелое… почти безнадежное, — добавил он и направился к выходу.
Томительный длинный день прошел — никто от «них» не приходил. Бритюков заждался: неужто больше не позовут? А как хотелось бы взглянуть еще хоть раз на это ненавистное, даже в болезни красивое, мужественное, волевое лицо!.. При мысли, что Шелихов умирает, что он непременно умрет, Бритюкову становилось как-то легче.
Между тем все в городе всполошились, когда стало известно о тяжкой болезни Шелихова. Сам Мыльников побывал у Бритюкова, неловко уверяя, что зашел мимоходом. И Голиков, должно быть, тоже заглянул «мимоходом».
— Лабазники! — шипел Бритюков. — Надо им, вишь, от самого Бритюкова слышать, умрет или не умрет… Пропади они пропадом, стервятники!
К вечеру пришел Василий.
— Что нейдешь?
— А ты, Василь Иванович, видел, как она со мной позавчера, а? — угрюмо отозвался подлекарь. — Пусть теперь попляшет…
— Сама посылала меня два раза… Говорила: «Не обидела ли я его?..»
Бритюков нервно прошелся два раза по комнате, приоткрыл зачем-то дверь в задымленную кухню… Бросилась в глаза засаленная, высоко подобранная, подвязанная на животе юбка и тумбообразные ноги рано расплывшейся и состарившейся «половины», давно потерявшей женский облик. Остановившись перед Василием, подлекарь коротко бросил:
— Пошли!
— Я тебя и твои колебания понимаю, Бритюков, — сказал Василий. Григория не любят здесь, всем насолил: и тебе, и мне, и Голикову, и Мыльникову, и Ласточкину. Сгинет — никто плакать не станет…
Бритюков вплотную подошел к Василию и пытливо взглянул ему в глаза.
— Мыльников и Голиков сегодня были у меня. Интересовались, выживет ли, — тихо проговорил он, отводя глаза в сторону. — Правда, прямо этого не говорили. Интересовались, как здоровье, но ясно было, что хотелось им слышать: подохнет… Обнадеживать их не стал, положение его действительно плохое… Ну, пойдем!..
На этот раз Наталья Алексеевна была с Бритюковым ласковее — протянула руку и попросила не помнить обиды и помочь ее горю.
Он обещал. Но когда увидел Шелихова, его трепетавшие при каждом вздохе ноздри, неровно подымавшуюся бессильную грудь, свежо переживаемая обида опять буйно бросилась в голову.
Овладевши собою, Бритюков тихим, соболезнующим голосом сказал неутешной женщине, что общее положение больного не улучшилось, а сердце заметно ослабело.
— Выдержит ли?
— Будем надеяться…
Василий с Бритюковым подружились и виделись теперь по нескольку раз в день. К ним потянулись и компаньоны — ненавистники Шелихова: раза два новые друзья всей тесной компанией выпивали. Независимо от того, выживет или не выживет брат, Василий подстрекал Мыльникова поскорее осуществить затеянную им новую вылазку против Шелихова и одобрял изменнические действия Голикова. Гадали о судьбе еще не открывшегося наследства, о возможных комбинациях раздела имущества. Открыто, хотя полушутя и легкими намеками, подходили вплотную к вопросу, не нужно ли, в случае чего, «помочь» Шелихову.
А в это время положение Григория Ивановича неожиданно резко изменилось: жар спал, но появилась невиданная слабость: малейшее движение, небольшой поворот головы или в полный голос сказанное слово — и ручьями льется пот. А потом больной надолго засыпает.
— Выздоравливает… — сказал Бритюков, когда заговорщики собрались вместе.
Наступила зловещая тишина, которую прервал сиплым, каким-то приглушенным голосом Бритюков, будто горло ему стиснула судорога:
— Я распустил по городу слух, что Шелихову стало хуже, что сердце с часу на час слабеет и надежды на то, что выкарабкается, стало еще меньше…
Когда Бритюков замолчал, взволнованно заговорил Василий:
— Если теперь же, сегодня, не помочь, завтра будет поздно. Слышал я в канцелярии генерал-губернатора, что должен вот-вот возвратиться городской врач, за которым третьего дня Натальей послан нарочный. Не прозевать бы, Бритюков! Это твое, брат, дело…
Заговорили и остальные. Говорили о том, как и когда каждому из них насолил Шелихов. В Бритюкове снова заклокотала жажда мести…
* * *
Вечером прибежала от Шелиховых к Бритюкову Катя: больному стало хуже. Рассказала, что отец бредит, дрожит, кричит, что боится, и слабеет на глазах.
Бритюков поспешил к постели Шелихова.
«Хорошо…» — определил он про себя, откидывая с ног одеяло: заметная синева ступней и пальцев, судорожное то тут, то там подергивание мышц, особенно икр, и бросающаяся в глаза худоба осунувшегося лица с темными подглазниками сказали все. Больной был без сознания, пульс еле прощупывался, биения сердца не было слышно, дыхание явно становилось реже и реже.
Бритюков поднял голову, но не в силах был видеть полные слез глаза Натальи Алексеевны; бросил уже на ходу:
— Молитесь!.. — И вышел.
Через два дня состоялись пышные похороны. В траурной процессии, с архиепископом и генерал-губернатором во главе, обращал на себя внимание целый отряд учившихся за счет покойного маленьких алеутов, оглашавших громкими рыданиями весь путь до самого Знаменского монастыря.
А на следующий день Василий занялся приведением в ясность всех дел покойного брата. Безвольная и ко всему безразличная Наталья Алексеевна доверила ему ключи от железного сундука с деловыми бумагами и обширной перепиской Григория Ивановича, и Василий с головой погрузился в недавно еще недоступные ему письма.
В первый же день этой работы ярко встала перед ним картина его падения. Склонившись над побуревшим от времени листком бумаги, он читал и перечитывал ненавистный «Контракт о найме на службу Василия Ивановича Шелихова», написанный под диктовку неумолимого и бессердечного Григория… «На один год без определенной должности… Делать все, что будет приказано…»
Среди бумаг Василий нашел два чистых листа плотной синеватой бумаги с выведенными старательно знаками характерной подписи покойного — «Григорий Шелихов». Один из листков Василий уложил на место, а другой отложил себе, подумав: «Может, пригодится?..»
11. Борьба за сохранение дела
Много дум передумал Василий, прежде чем решился использовать чистый лист бумаги с собственноручной подписью покойного брата. «Наташа ничего не подозревает и мне доверяет по-прежнему, — думал Василий. — Правда, я не наследник покойного брата — оттеснен законными детьми, но Наташа — законная опекунша их и сама наследница. А кто же все-таки я, Василий, сам по себе?» задумался он и продолжал размышлять:
«Для того чтобы начать распоряжаться, надо получить доверенность от всех взрослых наследников. Это нелегко. Анна, к примеру, замужем за Резановым, с которым тоже приходится серьезно считаться. А как быть с компаньонами? Голиков… Мыльников… Лебедев… Что они замышляют? Одно дело — разорить Григория, другое — пойти против себя и уничтожить крепкое предприятие, около которого можно кормиться, и хорошо кормиться!.. Так что же, с Наташей идти или с ними?.. А время не терпит… И посоветоваться не с кем — выдадут и продадут, некому довериться. Ведь кругом одни мошенники!»
— Думы все о тебе, Наташа, — соврал Василий вошедшей Наталье Алексеевне, — как спасти тебя от разорения. Не позаботился о тебе твой муженек.
— Списался бы с Резановым, что сделать, чем помочь, — предложила Наталья Алексеевна.
— С Резановым неплохо бы, хоть я и недолюбливаю этого зятька, — как бы про себя заметил Василий. — Надо хорошенько подумать… Ты, кроме письма о кончине Гриши, им ничего не писала?
— Нет, но упомянула Анне, что ожидаю всяческой помощи от Николая Петровича.
— Наташа, ты знаешь дела всех этих отдельных компаний Григория. Ведь того и гляди нагрянут с претензиями поставщики-кредиторы и держатели векселей. Придется удовлетворять текущие нужды промыслов, вносить казенные платежи, подати. Надо бы подготовиться.
— Понимаю. Баланс, однако, нужен. Не забыть бы чего… Самое лучшее пошли сейчас за Немовым. Потребуй, что нужно, — за какой-нибудь час подсчитает… Трудно нам, пожалуй, будет из-за отсутствия наличных — все деньги в деле. Голиков наседает не как компанион, а как враг. Да и другие не лучше… Ты читал письмо Баранова? Надо успокоить старика. Его действительно стараются оболгать. Но Гриша решительно наветам не верил.
— Надо, надо успокоить, а то сбежит… Что будем без него делать? Заеду, пожалуй, сегодня к генерал-губернатору, поблагодарю за внимание. А кстати, посоветуюсь, как быть…
Вошел с парусиновым картузом в руках бухгалтер покойного, Максим Афанасьевич Немов. Он не ждал ничего хорошего и потому волновался, припоминая, как приходилось письменно не раз подчеркивать промахи и недобросовестность Василия.
Плоская чахоточная грудь Немова с шумом, как кузнечные мехи, тяжело подымалась и опускалась. Уголки рта дрожали. На веснушчатом лице яснее выступали следы когда-то перенесенной оспы.
— Максим Афанасьевич, — внушительно, но любезно начал Василий. Выясняю вот с хозяйкой, как и что… Заготовьте, голубчик, немедля общий баланс на первое число и расчеты с компанионами и главными поставщиками.
Лоб Немова покрылся легкой испариной. Волнение проходило — дело оборачивалось не так, как он думал. С чувством облегчения он провел влажной рукой по слипшимся волосам и спросил уже спокойно:
— Когда прикажете?
— Если успеете — сегодня. Если нет — завтра… Надо бы заготовить список, кому послать извещения о смерти Григория Ивановича. Напишу их сам.
Немов повернулся к выходу.
— Постойте, — как бы вспомнил Василий, — принесите мне еще, пожалуй, книги Охотской конторы…
Через несколько дней в городе стало известно, что всеми делами покойного именитого рыльского купца Григория Ивановича Шелихова, от имени опекунши, вдовы Натальи Алексеевны Шелиховой, управляет брат покойного, Василий Иванович Шелихов.
Все это было хорошо, но перед Василием по-прежнему вставал неотвязный вопрос: как же вести себя с сообщниками? Идти ли дальше с ними по пути разрушения предприятия или начинать борьбу за его сохранение? Идти с ними, ясно, было не по пути. Однако против — опасно: собирались скрутить Шелихова, еще легче будет справиться им теперь с наследниками.
«Придется, видимо, до поры, до времени поиграть, — думал Василий. Бритюков… этого надо приголубить, отколоть от них и обезвредить. А против других лучше, пожалуй, поставить Резанова…»
Визит к генерал-губернатору Пилю был успешным. Пиль обещал немедленно написать, куда следует, чтобы вдову Шелихова не беспокоили. Ибо она дала обязательство быть исправной плательщицей казне и взялась продолжать дело, начатое мужем.
— Видишь, как хорошо, — сказала Наталья Алексеевна.
— Не плохо, — согласился Василий. — Но вот в чем дело, Наташа. Твое неограниченное опекунство могут оспорить в любое время казенная палата, кредиторы, пайщики.
— Даже если буду платить исправно? — непритворно удивилась Наталья Алексеевна.
— Даже если будешь платить вперед… В подобных случаях назначается опекунский совет с участием представителя казны, родственников и заслуживающих уважения лиц. Посадят в совет и компанионов, если и не всех, то некоторых… Голикова, например.
Наталья Алексеевна всхлипнула:
— Разорит… По миру пустит… Неужели ничего нельзя сделать?
— Расспроси Петра Гавриловича. Он как раз по этой части. К сожалению, только по опекам господ дворян.
На другой день они снова встретились.
— Ничего не вышло, — уныло заявила Наталья Алексеевна. — Петр Гаврилович так сказал: никто вас пока не трогает, и ладно… Сегодня не трогает, а завтра? — добавила она с горечью и раздражением.
Василий целый день не выходил из дому, исписывая лист за листом, просматривая написанное, черкал и снова писал… Просил не беспокоить. К вечеру он пригласил Наталью Алексеевну в кабинет, посадил ее на диван и, самодовольно хлопнув в ладоши, объявил:
— Придумал, Наташа. И, кажется, не плохо. Слушай… Я нашел в бумагах Григория Ивановича его завещание, написанное им во время болезни.
Наталья Алексеевна с явным недоверием уставилась на него.
— Когда же Гриша мог это сделать? Мы глаз с него не спускали.
— Писала под его диктовку Дуня и по его просьбе никому об этом не говорила.
— До сих пор? Этому никто не поверит.
— Кому покажем — поверит, — уверенно сказал Василий и продолжал: Письмо-завещание Григория Ивановича Шелихова, с перечислением известных его государственных заслуг, написано на имя государыни императрицы. В нем он просит сжалиться над осиротевшей семьей, на имущество которой под всякими якобы законными предлогами будут покушаться многие. Кто защитит осиротевших, кроме матушки царицы, а? Покажем, однако, завещание только тогда, когда понадобится. Поняла? Копию пошлем Резанову. О поддержке перед царицей сама попросишь Платона Александровича Зубова. А ему будет напоминать Николай Петрович.
— Да ведь подписи-то Гриши на этом сочиненном письме-завещании нет… Либо подделывать думаешь? — спросила с возмущением Наталья Алексеевна.
— Предусмотрел и это, — самодовольно усмехнулся Василий. — Узнаешь эту подпись?
Наталья Алексеевна взяла в руки бумагу, долго всматривалась в знакомую подпись «Григорий Шелихов» и с большим недоумением, возвращая бумагу, сказала:
— Можно поклясться, что настоящая…
— А ты забыла о бланках с подписью, найденных в железном сундуке? Я показывал их тебе. Переписано письмо Дуней…
— Ты, значит, посвятил ее в это дело? И она согласилась переписать?
— Конечно, поплакала. Но я ей объяснил, что если этого не сделать, то все пойдет за долги и всех нас ожидает нищета, и еще, мол, письмо является свидетельством заботы отца о них, детях…
* * *
Получивши копию письма Шелихова государыне, датированного тридцатым июня 1795 года, то есть в начале болезни, Резанов отшвырнул в сторону начатую было книгу и задумался. Прав его жены, его самого и детей покойного письмо не затрагивало, но показалось ему подозрительным. Странным казалось, что Григорий Иванович на первой же неделе болезни утратил веру в себя, в свое крепкое здоровье, и не менее удивительным было проявление трогательной заботы о жене, к которой со времени охотской истории он относился с некоторым недоверием. Покойный сам предупреждал его, Резанова, о том, что жена, которую он продолжал любить, очень легкомысленна и что, несмотря на ее интерес к делам и знание их, он вполне доверить их ей не рискнул бы. Впоследствии же Григорий Иванович шутя не раз говорил: «Умирать буду, единственным опекуном назначу тебя…»
— Аня! — позвал Николай Петрович жену. — Прочитай, подумай и скажи…
Конфузясь, Анна Григорьевна повторила те же сомнения: «Умру, — не раз говорил мне отец, выдавая замуж, — дело поведет твой Николай Петрович».
Резанов давно уже держал в своих руках нити всех начатых Шелиховым дел: снаряжение двойной экспедиции по Ледовитому морю, от устья Лены и навстречу ей, от Берингова пролива. Изучение американского берега, налаживание новых торговых связей. Заселение Курильских островов. Исследование побережья Азии до самого устья Амура, Сахалина. В связи с этим предстояли поиски места для порта и верфи вместо Охотска. Строительство дороги до Уды. И возможная постройка там порта для ближайшей связи с Японией, Китаем, Кореей, Индией, Филиппинскими островами. Далее стояла разведка к югу по американскому берегу, установление связи с испанскими колониями и с туземцами… Особое внимание Шелихова, а теперь Резанова привлекала возобновленная кяхтинская торговля.
Но самое главное, на что Шелихов обращал внимание Николая Петровича, заключалось в том, чтобы добиваться исключительного права на производство промыслов на всех занятых им до сих пор территориях. В вопросе о монополии, как известно, Екатерина оставалась непреклонной, хотя пугала ее, собственно, не монополия, а возможность навлечь на себя еще одну войну из-за необходимости защищать восточные владения России. «Пусть пока промыслы существуют как купеческие предприятия и защищают себя сами», — решила она еще при жизни Шелихова.
Шелиховскому предприятию угрожали серьезные конфликты с иркутянами, длительная борьба… Резанов, вращаясь в среде деятелей правительствующего сената и высших административных учреждений, зорко следил за развертывающимся конфликтом. У него было то преимущество, что он, как стоящий в стороне, мог делать представления непосредственно в правительственные органы и доказывать, насколько важным для государства было бы превращение разрозненных тихоокеанских промышленников в единое мощное объединение.
Так понимало дело и правительство Екатерины в лице коммерц-коллегии. Однако царица опасалась осложнений со стороны вооруженной до зубов Англии, на глазах которой уходили из рук облюбованные ею колониальные территории в Америке… Екатерине приходилось действовать особенно осторожно.
Учитывая все это, Резанов решил пока не предпринимать ничего существенного, выжидать и закреплять тем временем свое служебное положение и связи. В частности, он сблизился с некоторыми лицами из окружения Павла Петровича, указанными ему покойным Шелиховым.
Как и следовало ожидать, иркутское купечество не дремало, и поэтому уже через год после смерти Шелихова со стороны казенной палаты поступило требование: «Для защиты интересов казны создать законный опекунский совет над наследством Григория Шелихова».
— Вот видишь, Наташа, — торжествовал Василий, — как письмо-то Гриши к матушке Екатерине пригодилось… Понадобится и твое письмо-слезница Платону Александровичу Зубову.
Дело, пущенное опытной рукой Василия, пошло сразу ходко, было доложено императрице и высочайше одобрено. Единственным опекуном над всем имуществом покойного Екатерина утвердила вдову Шелихова.
Появление в Иркутске слухов о таинственном завещании Григория Шелихова вызвало шумное волнение среди компаньонов. Высказывались угрозы «сосчитаться» и «показать»… Особенно хорохорились Голиков и Мыльников, имевшие какую-то «руку» в самом Петербурге. Известие о решении государыни вызвало среди них растерянность.
— Что же ты проморгал, тетеря? — упрекали Василия компаньоны. — Так, чего доброго, вылетим в трубу…
— А что я мог сделать? — притворно оправдывался Василий. — Вдова сама устроила все через Резанова, тайно от меня.
Со смертью Екатерины карты неожиданно спутались: начала действовать «рука» Голикова и Мыльникова… Резанов, рассчитывавший на расположение Павла, узнал, что к царю докатился какой-то донос и что положение дела Шелиховых стало опасным.
Донос шел из синода. Смысл его заключался в том, что на шелиховских предприятиях обижают-де православную церковь и она влачит на островах жалкое существование, не имеет возможности не только распространять христианство, но даже совершать богослужения; что монахов заставляют заниматься охотой на пушного зверя или морят голодом.
— Немедленно прекратить этот позор! — кипел от негодования Павел. Подать сюда обманщиков! Я им покажу!..
Встревоженный Резанов поторопился к графу Палену, своему другу и покровителю.
О решении императора уничтожить начинания Шелихова, а одновременно и об ослепительном возвышении Лопухиных стало известно в Иркутске. Имя светлейшего князя и его дочери, ныне кавалерственной дамы и фрейлины, занявшей апартаменты при дворе, которая, как говорили шепотом, может безнаказанно драть уши коронованному поклоннику, не сходило с уст шайки Мыльникова. Он устроил у себя собрание единомышленников и объявил самостоятельное дело на островах открытым. Смущала, правда, несколько неясная позиция Голикова, который под разными предлогами не вынимал своего вклада из дела Шелихова, а от Мыльникова добивался особых привилегий. С ним приходилось считаться, так как будущий взнос его равнялся большей половине всего капитала нового предприятия. Мыльников, впрочем, рискнул дать к подписи участникам проект устава и начать операции до его утверждения… Да с такой, как у него, поддержкой можно ли сомневаться в утверждении?
«Я ему скажу», «я заставлю Лопухина», «я настрочу Анне Петровне»… так и сыпалось из уст захмелевшего, надутого спесью и сиявшего от удачи Мыльникова. Но положение у него было далеко не блестящим. Не входящие в его компанию купцы, отпустившие ему в кредит товары для снаряжения корабля, могли не сегодня-завтра потребовать денег. А чем платить, когда все паевые истрачены?
Тем временем Резанов составил доклад, в котором убедительно доказывал, что спасти положение на островах можно только созданием торгово-промышленного объединения. В коммерц-коллегии доклад встретился с представлением Мыльниковых, доказывавших целесообразность основания разных частных предприятий под общим государственным управлением.
Вопрос, кто осилит, тревожил обе стороны: волновались в Иркутске, а еще более в Петербурге. Лазутчики буквально не выходили из помещения коммерц-коллегии, чтобы выхватить новость и во весь дух мчаться на перекладных в далекую Сибирь. Дело же откладывалось и откладывалось…
В июле 1799 года Павел утвердил «состоящую под высочайшим покровительством Российско-Американскую компанию». Семейство Шелихова было отмечено особо, один из четырех членов правления компании должен был назначаться от Шелиховых. Для непосредственных представлений по делам компании императору был утвержден Николай Петрович Резанов.
Четыре года непрерывной борьбы за наследие Григория Ивановича Шелихова, которому, как и российскому влиянию на Тихом океане, грозила гибель, создали для Резанова жизнь, полную тревог, но вместе с тем и увлекательную.
Успокаиваться было еще нельзя — то, что сделано, еще не окрепло и шаталось, несмотря на все рескрипты и покровительства.
Многочисленные пайщики Российско-Американской компании отказались признавать избранное ими же самими правление в Иркутске. Не исполняли распоряжений генерал-губернатора, не слушали предостережений из Петербурга. «Внушите им, — писал Резанов главному директору Булдакову, — чтобы они прекратили тяжбы и ябеды и пеклись о пользах государственных, буде хотят, чтобы стулья под ними были прочны».
В ответ на эти предостережения группа Мыльникова совсем устранила от дел главного директора Булдакова, второго зятя покойного Шелихова, забрала контору в Иркутске в свои руки и продолжала действовать явно во вред предприятию.
Мыльников вскоре попался в мошеннической проделке. Под предлогом наблюдения над распространением паев предприятия, котировавшихся по цене в несколько раз выше номинальной, он стал потихоньку продавать свои паи, доставшиеся ему по номинальной цене, и, таким образом, нажил сто тысяч рублей, подорвав в то же время приток средств в Российско-Американскую компанию.
Такая неурядица в самом сердце предприятия, в правлении, отражалась, конечно, и на островах, — там отдельные артели перестали подчиняться Баранову.
В таком положении Резанову пришлось провести перевод главного правления компании из Иркутска в Санкт-Петербург. Это случилось тотчас по воцарении Александра I, который сам стал акционером компании. За ним потянулись и двор и другие сановники: капитал компании вырос до трех миллионов рублей.
Успех Резанова праздновался у Гавриила Романовича Державина, в тесном кругу близких.
— Я могу сравнить тебя, Коля, — поднял хозяин бокал за Резанова, — с Гераклом, поразившим Лернейскую гидру… Да будут в дальнейшем сопутствовать тебе одни удачи и радости, ниспосылаемые Зевсом, который не всегда бывает только проказником. Все же неусыпно бди и присматривай, — обратился он к Анне Григорьевне, — за своим ветрогоном. По моему мнению, ему не хватает бессмертной славы, но я уверен, что он ее заслужит. Об этом буду молить Зевса ежечасно.
— При чтимой мною богине Гере, — в тон ответил ему Николай Петрович, кланяясь в сторону красивой Дарьи Алексеевны, жены Державина, — я хочу забыть о проказах ее супруга Зевса: о Ледах и всяких других; хочу видеть его всегда у ее ног… Да здравствует хранительница семейного очага!
— Слышите? — смеялся дядя Резанова, Иван Гаврилович, сидевший рядом с оживленной и раскрасневшейся Натальей Алексеевной.
Маленький адмирал Шишков внушал Резанову:
— Ведите там, на островах, ясную и твердую русскую политику, привлекайте туземцев, не делайте различия между ними и своими. А самое главное — церковь и русский язык. Привлекайте лаской!
— Теперь, Иван Семенович, примусь за созидательную работу, обнадеживал Резанов. — Надо начинать с капиталов: все же малы они у нас. Сколочу капитал, заведу широкую торговлю на Тихом океане. Укреплюсь на Курилах до самой Японии. Снабжаться попробую из столицы. Умножу флот… Свои верфи заведем… А потом пойду и к северу и к югу, до самой Калифорнии.
— В добрый час… Помогать буду… Помочь вам надо и моряками.
— В первую голову…
Вставшие из-за стола гости перешли вместе с дамами в кабинет хозяина пить кофе. Шишков не отставал от Резанова…
Мечта Резанова сбывалась: он, строго говоря, уже находился в числе тех немногих деятелей страны, которые призваны творить политику, и творить своеобразно. Он призван руководить целой новой страной, не имеющей до сих пор никакого гражданского управления, и так, чтобы это руководство вполне совпадало с интересами государства.
Он забрасывал новые министерства проектами разрешения вопроса снабжения морем российских владений на Тихом океане, занятия и освоения новых земель, гражданского их устройства, расширения промыслов и торговли, охраны новых владений. Перед ним все яснее и яснее вырисовывалась крайняя необходимость лично ознакомиться с действительным положением дела на местах и с людьми, работающими там. Надо было спешить. Путешествие на острова стало настоятельной необходимостью.
Часть вторая ПО МОРСКИМ ДОРОГАМ
1. В дальний вояж
О первом кругосветном путешествии россиян, как об особенно сенсационной новинке, заговорили не только в России, но и за границей.
Первыми откликнулись влиятельные и широко распространенные по белу свету «Гамбургские Известия», посвятившие этому событию целую страницу.
«Российско-Американская компания, — сообщала газета, — ревностно печется о распространении торговли и теперь занимается великим предприятием, важным не только для коммерции, но и для чести русского народа… Она снаряжает два корабля в Петербурге, чтобы снабдить русские колонии, нагрузить там корабли мехами и обменять их в Китае, завести на Курильских островах селение для удобнейшей торговли с Японией, для чего нанят один англичанин на три года, с жалованием по пятнадцати тысяч рублей в год и двадцати тысяч за успех… Начальство над экспедицией поручается господину Крузенштерну, весьма искусному офицеру, который долго пробыл в Ост-Индии…»
В России готовых кораблей, к сожалению, не оказалась. Подходящие были куплены в Англии. Они прибыли в Кронштадт только в мае 1803 года. С отплытием приходилось торопиться.
Они производили прекрасное впечатление, эти суда, еще недавно «Леандр» и «Темза». Спокойно покачиваясь в гавани на якорях, они казались легкими и быстроходными, сияли чистотой и новыми русскими именами «Надежда» и «Нева».
Как-то, чуть ли не в день прибытия судов, государь спросил министра коммерции графа Румянцева:
— А как бы вы теперь ответили, Николай Петрович, на наш проект послать, пользуясь подходящим случаем, к его кабуковскому величеству, владыке и повелителю Японии, подобающее дипломатическое посольство с приличными подарками и кое-какими товарами, а?
— Я бы весьма приветствовал такой шаг, ваше величество, — отвечал министр. — В сущности говоря, как я имел честь докладывать, дорога нам туда открыта еще десять лет тому назад поручиком Лаксманом, который получил для нас разрешение посылать раз в год по одному кораблю в Нагасакский порт. Очень, конечно, жаль, что так долго мы не воспользовались этим разрешением. Обстоятельства ведь могли измениться, хотя ухудшения в наших отношениях с Японией не произошло.
— Ну вот, тем более. А кстати, и приличный предлог есть: российский монарх возвращает на родину обласканных и разбогатевших потерпевших кораблекрушение подданных кабуковского величества, а? Так давайте действовать. Японцы ведь в Петербурге?
— Да, ваше величество, я выписал их из Иркутска давно. Надо сознаться, однако, что они, как мне передавали, не очень стремятся на родину.
— Видимо, придется немного позолотить им обратную дорожку? Подумайте же, Николай Петрович, кого бы отправить послом, и послезавтра доложите.
Вскоре стало известно, что посланником назначался пожалованный по этому случаю в камергеры прокурор департамента сената, действительный статский советник Николай Петрович Резанов.
— Назначен устраивать свои собственные дела, ведь он зять и наследник крупнейшего состояния покойного Шелихова, женат на его дочери, — говорили одни.
— Неудавшийся фаворит Екатерины и потому закадычный друг Зубовых, посмеивались другие.
— Бывший офицер Измайловского полка, участник убийства Павла Первого, выскочка, — шептали третьи.
Вскоре закончен был набор команды, молодец к молодцу.
Собираясь к командиру «Невы» Лисянскому на прощальный вечер, Крузенштерн нашел у себя пакет от компании с изменениями прежней инструкции. Это очень взволновало его. Картина предстоящего трудного и длительного путешествия резко менялась к худшему.
«Что же, — подумал он с горечью, — строго говоря, я низведен к управлению парусами и матросами, как наемный шкипер торгового судна… Отказаться? Но это значило бы навлечь на себя гнев императора, последствия которого трудно предвидеть… Какие сволочи! — мысленно окрестил он правление компании. — Они ведь умышленно держали у себя эти документы чуть не до дня отплытия, чтобы сделать невозможными какие-нибудь контрмеры».
Гости в уютной квартире холостяка Лисянского были удивлены необычному запозданию всегда точного Крузенштерна. Их было, впрочем, немного, гостей: старший помощник на «Надежде» Ратманов, доктор Эспенберг, еще несколько офицеров. Но зато это были свои, испытанные люди, с которыми можно было вести беседу нараспашку.
Ели молча. Дурное настроение Крузенштерна, которого он не мог скрыть, к разговорам не располагало. С нетерпением ждали, когда подадут шампанское. С речью выступил хозяин, предложивший поздравить друг друга с отплытием и выпить за здоровье Ивана Федоровича — «исключительного товарища и, как все уверены, лучшего, какой знает флот, морехода и начальника экспедиции!».
— Прошу обождать пить, я уже не начальник экспедиции! — взволнованно выкрикнул Крузенштерн. — Я только шкипер!
Он встал, резким движением расстегнул сюртук, выхватил из нагрудного кармана полученное письмо и дрожащими руками стал его разглаживать на скатерти. Вскочили и все остальные, чувствуя, что стряслось что-то серьезное, и уставились на Крузенштерна…
Срываясь с голоса и запинаясь, он стал читать:
— «В дополнение пункта шестнадцатого сей инструкции Главное Правление вас извещает, что его императорское величество соизволил вверить не только предназначенную к японскому двору миссию в начальство его превосходительства, двора его императорского величества, господина действительного камергера и кавалера Н. П. Резанова, в качестве чрезвычайного посланника и полномочного министра, но и сверх того высочайше поручить ему благоволил все предметы торговли и самое образование российско-американского края. По сему Главное Правление, имея уже в лице сея доверенныя особы с самого существования компании уполномоченного ходатая своего у монаршего престола и во все время верного блюстителя польз ее, приятным себе долгом поставляет и ныне подтвердить ему свою признательность, уполномочивая его полным хозяйским лицом не только во время вояжа, но и в Америке. Вследствие того снабдило его особым, от лица всея компании, кредитивом. По сему содержание данной вам инструкции уже по некоторым частям относится теперь до особы его превосходительства, предоставляя полному распоряжению вашему управление во время вояжа судами и экипажем и сбережением оного, как частию, единственно искусству, знанию и опытности вашей принадлежащую».
Крузенштерн замолчал. Молчали и все остальные, тяжело переваривая витиеватое изложение.
— Ясно? — спросил Крузенштерн, устало садясь.
— Негодяи! — сочно выругался Ратманов.
— А плюнь ты на это дело, дорогой! — сказал с участием Лисянский Крузенштерну. — Никому, кроме тебя, мы подчиняться не будем, тем более этому посланнику от торгашей и продувной его американской лавочке. В случае чего выведем их на чистую воду перед государем… Давайте-ка выпьем за здоровье нашего единственного начальника!
На этот раз тост был подхвачен с большим энтузиазмом.
* * *
Утром 26 июля (еще не было восьми) к посланнику явился курьер от Румянцева:
«Считаю необходимым, чтобы экспедиция Резанова тронулась в путь при первом же дуновении попутного ветра. Кажется мне, что это можно будет сделать завтра же», — писал министру царь.
— Иван Федорович, государь император требует отплытия сегодня же! крикнул Резанов, постучавший в переборку каюты Крузенштерна. — Готовьтесь, а я съезжу пока на «Неву».
— Сейчас прикажу сниматься с якоря, ветер попутный, — с готовностью отозвался Крузенштерн и крикнул: — Старшего офицера ко мне!
Не успел Резанов сесть в поданную шлюпку, как сигнальщик уже отдал на «Неву» приказание Крузенштерна сниматься с якоря. Вызванные наверх дудками боцманов команды обоих кораблей чуть не одновременно заняли свои места. Кадеты Коцебу бросились к тетрадкам, где у каждого тщательно был переписан «Павла 1-го Устав военного флота».
Не прошло и часу, как оба корабля, одевшись в свои белоснежные одежды, описали широкий полукруг и устремились на запад.
* * *
Мысленный перечет всей публики, устроившейся на палубе, оживленные в группах беседы, яркое солнце и успокаивающая темная синева моря привели служащего Российско-Американской компании Шемелина, на которого возложена была обязанность вести дневник, к убеждению, что кают-компания совершенно свободна и пустовать будет долго.
Бесцеремонность и высокомерие старшего офицера, третировавшего Шемелина как «купчишку», любопытство надоедливого и шумного кавалера свиты Толстого и кадет Коцебу заставляли ловить минуты, когда можно было более или менее спокойно разложить материалы, сделать подсчеты и, наконец, черкнуть несколько осторожных строк в дневничке… К последнему Шемелин пристрастился. Он исправно пользовался разрешением знакомиться с распоряжениями капитана по кораблю и эскадре и неутомимо расспрашивал мальчиков Коцебу и ученых о международной торговле. Офицеры, правда, тоже не отказывали в корректных ответах, но по своей инициативе почти никогда не вступали в беседу и вели себя холодно, отчужденно.
По их представлениям мир делился на две части: «свои» — это моряки и «чужие» — все остальные. С наибольшим пренебрежением относились к купчишкам. Что касается Шемелина, он был вдвойне неприятен тем, что его положение лица, контролирующего расходы, — заставляло до известной степени с ним считаться. К тому же Шемелин держал себя с достоинством.
Из морских офицеров с ним просто вел себя один только лейтенант Головачев. Он охотно, по-дружески разговаривал с Шемелиным обо всех делах, делился и своими впечатлениями об офицерах корабля, большинство которых знал уже давно, по службе в Ревеле.
— С ними трудно дружить. Даже если они милы и корректны, то все равно по отношению ко всем не ревельцам чувствуешь с их стороны холодок. И потом они там все между собою в родстве или свойстве: Крузенштерн через Коцебу и Эспенбергов, Моллер через Беллинсгаузенов, Беллинсгаузены через Витбергов, Витберги опять через Коцебу, бароны Бистром через Крузенштернов, бароны Штейнгели тоже его родственники. Затем у них связи перекидываются за границу, как будто через Бернарди и опять же этого подозрительного Коцебу… С ними тяжеловато и скучно.
— А что представляет собой Крузенштерн? — интересовался Шемелин.
— Боевой капитан-лейтенант с хорошим морским прошлым. Отличился в девяностом году на «Мстиславе». Тогда заставили шведского контр-адмирала Лилиенфельда спустить флаг. Крузенштерну, как проявившему особую неустрашимость, поручено было тогда сопровождать Лилиенфельда на «Мстиславе» и доставить флаг контр-адмирала и шведского корабля в Ревель… Увлечен разными географическими исследованиями в области иностранной торговли. Успел побывать в Вест-Индии, на Бермудских островах, в Ост-Индии и даже добирался до Кантона. В Россию вернулся только год назад и сразу же подал какой-то проект о колониальной торговле, но проект где-то застрял. Крузенштерн чувствовал себя обиженным, собирался было уже жениться — хотел осесть на земле, разводить огород и писать воспоминания.
— А как служить с ним? Не трудно?
— Он корректен, умеренно требователен, но с людьми обращается чуть-чуть свысока.
О первой перенесенной буре Шемелин записал в своем дневнике:
«Надежда» во время шторма от ударов сильного волнения и жестоких толчков немало претерпела: ибо стены ее во время свирепствования оного, раздвигаясь, делали повсюду отверстия, сквозь которые, прожимаясь, вода текла в корабль непрестанно. Господин Крузенштерн, имев необходимость расшевеленные стены корабля исправить, нанял английских конопатчиков…»
Дальше, однако, писать не пришлось: послышался приближающийся топот шагов целой компании.
— А, Шмель! Ты здесь, российский Колумб! — заорал, потрясая небольшой книжкой в темном кожаном переплете, Толстой. — Творишь правдивую нашу историю?
— Нет уж, ваше сиятельство, творите вашу очередную историю сами, огрызнулся Шемелин, намекая на постоянно создаваемые Толстым недоразумения на корабле, и, поспешно собрав свои тетради, вышел.
Смелый выпад кроткого Шемелина заставил Толстого громко расхохотаться. Смеясь, он погрозил кулаком в сторону захлопнувшейся двери.
В кают-компании продолжался начатый на палубе спор.
— Я еще раз повторяю, господа, что заслуга решительно всех открытий земель в северной части Восточного океана, — сказал старший офицер Ратманов тоном, не допускающим возражений, — принадлежит нам, военным морякам. Купчишки и прочие только присосались к нашей славе. Не будем шевелить особенно старого, давнишнего — там все больше спорные легенды. Давайте начнем хоть с нашего Беринга, — и он растопырил толстые пальцы, приготовившись считать. — Существование пролива между Азией и Америкой доказал Беринг. Длинная цепь Алеутских островов, острова Шумагинские, Туманные, северо-западная часть Америки, гора Святого Илии — все это открыто и описано военным моряком Берингом. Даже такой прямой конкурент его, как Кук, и тот счел нужным отметить, что его наблюдения исключительно точны.
— Этого никто не отрицает, но… — возразил один из Офицеров Ратманову, — ведь Беринг сам писал, что, по словам жителей Анадырского острова, против Чукотского носа живут бородатые люди, от коих чукчи и получают деревянную посуду, выделанную по русскому образцу, причем в ясный день можно видеть к востоку землю. Кто же мог научить этих восточных жителей делать русскую посуду? Военные моряки?.. Нет уж! Именно «прочие» это и сделали! А вот вам другие примеры. Вскоре после смерти Петра Великого, чуть ли не в том же или в следующем году, якутский казацкий голова Афанасий Шестаков доставил в Петербург карту с обозначением северо-западного берега Америки, и ему было поручено проведать эту землю против Чукотского носа. А в тысяча семьсот тридцать втором году подштурман Федоров и геодезист Гвоздев побывали в Америке и описали некоторые острова.
— Я не могу отказать себе в удовольствии привести к тому, что тут уже сказали, несколько справок, полученных мною от Булдакова, — вмешался лейтенант Головачев. — В 1743 году на американских берегах побывали купец Серебрянников и сержант Нижне-Камчатской команды Басов. В 1745 году предприимчивый сержант, уже с другим компанионом, иркутским купцом Никифором Трапезниковым, плывет туда же во второй раз. Есть сведения, что плавал он еще два раза, но дальше Туманного острова не заходил, а вообще крепко он обосновался на Медном. Наконец, обратите внимание, что Басов из первого своего путешествия привез для показа больше пуда самородной меди, несколько фунтов какой-то руды, мешочек самоцветных камней и даже «незнаваемую новокурьезную рыбку». На его рапорт о путешествии, добредший до сената, состоялся указ, которым было поручено нашему гидрографу адмиралу Алексею Ивановичу Ногаеву составить на основании всех имеющихся сведений карту. Само собой разумеется, — продолжал Головачев, — тотчас же нашлись подражатели Басова: купцы Дальский-Чебаевский, Трапезников, Чупров. Они отыскали одного из бывших матросов, тобольского крестьянина Неводчикова, побывавшего в Америке с Берингом. Через три месяца по возвращении Басова, в сентябре 1745 года, Неводчиков плывет к островам, названным Берингом островами Обмана. Путешествие принесло Неводчикову славу новооткрывателя неизвестных островов, и он, по именному указу императрицы, был произведен в подштурманы…
— Головачев, пощади, скучно! — заныл Толстой.
— Хочешь спорить, наберись терпения и слушай, — ответил ему Головачев и продолжал с горячностью защищать русских пионеров, создавших твердую основу для освоения русскими земель в отдаленной Америке.
— Знаете ли вы, — говорил он, — что до 1764 года было зарегистрировано тридцать два путешествия к Алеутским островам и берегам Америки? В царствование Екатерины такие путешествия все чаще именовались в официальных актах подвигами.
— Вспомните хотя бы о походах таких русских кораблей, как «Георгий Победоносец» — якутского купца Лебедева и рыльского купца Григория Шелихова, «Зосима и Савватий» — купца Протасова, «Варнава и Варфоломей» купцов Шелихова, Савельевых и Пановых, «Георгий» — тех же Пановых, еще один «Георгий» — Лебедева-Ласточкина…
— Что же вы хотите этим сказать? — спросил Ратманов.
— Как что? Вы же, Макар Иванович, отрицаете заслуги «аршинников» в деле открытия новых земель?
— Да, отрицал и продолжаю отрицать, потому что вы ничего не доказали. Скажите, что именно и кто из них открыл? А что они плавали, грабили туземцев и привозили из разных мест меха и богатели, этого мало, — мы говорим об открытиях, дорогой лейтенант.
— Положим, Макар Иванович, купеческие суда, которые я перечислил, не только, как вы говорите, грабили, но и описывали новые земли, завязывали с туземцами постоянные сношения.
— Назовите их, — раздались голоса.
— Возьмем, например, иркутского купца Трапезникова. Он прожил на разных Алеутских островах четыре года. Мореход московского купца Никифорова, мещанин Степан Глотов, в 1759 году открыл острова Умнак и Уналашка и прожил здесь три зимы, а бывший с ним казак Пономарев составил, вместе с купцом Петром Шишкиным, довольно обстоятельную карту Алеутских островов. Селенгинский купец Андреян Толстых вместе с казаками Лазаревым и Вастютинским открыли целых шесть островов, названных впоследствии в его честь Андреяновскими. Степан Глотов на судне «Андриан и Наталия» купцов Чебаевского, Поповых и Соликамского первый приблизился в 1764 году к материку Америки и первым ступил на остров Кадьяк…
Споры эти прекращались обычно тогда, когда в кают-компанию вбегал кто-нибудь из молодых офицеров, кричал: «Господа, на горизонте земля!» или: «Корабль по правому борту».
Все высыпали на палубу…
2. Предоставленные самим себе
Голые каменистые острова с одинокими, упирающимися в небо пиками сменялись не похожими на них — плоскими, покрытыми дремучими девственными лесами. И те и другие таинственно и жутко молчали и казались необитаемыми. Гробовая тишина нарушалась только мерными всплесками волн, рассыпающихся в мельчайшие брызги от неумолимых тяжелых ударов о скалистые стены.
Безлюдным казалось и море. Редко-редко появится на миг черная глянцевитая спина кита и тотчас скроется в бездонной темной глубине. Ни корабля, ни лодки.
Так казалось… А на самом деле здесь клокотали и бурлили неуемные человеческие страсти.
О белых людях и об их повадках от мала до велика хорошо знали не только на западном конце цепи Алеутских островов и на примыкающей к Аляске Уналашке, но и по всему побережью Северной Америки, вплоть до самой Калифорнии.
Причиняемые белыми обиды не забывались, воспоминания о них передавались из рода в род, а слух о каждом новом прибытии белых с необъяснимой быстротой распространялся по бесчисленным островкам и вечно враждующим друг с другом селениям туземцев. Крепко сжимали боевое копье и испытанный боец и впервые в жизни по-настоящему вооруженный неопытный мальчик. Грозно сверкали зоркие глаза их, когда на горизонте появлялась неуклюжая тяжелая деревянная шлюпка или грузный, безобразно высокий и неповоротливый, но страшный своим огневым вооружением галиот.
Белые приходили с запада и с юга. Они всегда интересовались друг другом, дружили, а за спиной каждый из них старался чем-нибудь досадить другому.
Туземцам было очень хорошо, когда белые ссорились: тогда за бобра давали вдвое больше тканей, бус и железа, а белые, пришедшие с полудня, охотно давали и ружья, и порох, и даже медные звонкие пушки.
Пусть эти люди с полудня иногда и обижали островитян, но они не засиживались: приходили и уходили. А вот люди «русс» последнее время стали селиться, строиться и, казалось, совсем не думали уходить. Мало того, они стали привозить кадьяковцев, воинственных чугачей, медновцев и других островитян и вместе с ними промышляли и бобров, и морских котиков, и даже рыбу.
Опасения имели серьезные основания, так как главный правитель русских колоний Баранов, к ужасу туземцев, старался обосноваться на островах навсегда. Он настойчиво двигался с запада на восток и юг, закрепляя за собой занятые места крепостями. Не успел закрепиться на острове Кадьяк, как его отряды появились уже в Кенайской губе, в Аляске, в Чугацкой губе. Здесь в заливе основана была гавань, наименованная Воскресенской, и построен трехмачтовый корабль «Феникс».
Через год отряды Баранова, усиленные покоренными чугачами, появляются еще дальше — в Якутатском заливе, где опять-таки вырастают селение и крепость.
И этим Баранов не хотел ограничиться. Своим хозяевам он писал:
«Мест по Америке далее Якутата много, кои бы для будущих польз отечества занимать россиянам давно б следовало, в предупреждение иноземцев. Из них англичане основали на тех берегах, до самой Нутки. весьма выгодную торговлю, ежегодно приходя несколькими судами. Платят за продукты американцам весьма щедро, променивают огнестрельное оружие и снарядов множество, чем те народы гордятся».
При таких условиях Баранова не могла удовлетворить и крепость, основанная в Якутатской губе.
«Ныне, — писал Баранов в Петербург, — нет никого и в Нутке — ни англичан, ни гишпанцев, а оставлена пуста. Когда же они будут, то покусятся, конечно, распространить торговлю и учинить занятия в нашу сторону. От американцев слышно, что они собирают особую компанию сделать прочные заселения около Шарлотских островов, к стороне Ситхи. Может быть, и со стороны нашего высокого двора последует подкрепление и защита от подрыва наших промыслов и торговли пришельцами, ежели будет употреблено со стороны компании у престола ходатайство. Сие бы весьма нужно было в теперешнее время, когда Нутка еще не занята англичанами и Англия занимается войной с французами. Выгоды же тамошних мест столь важны, что обнадеживают на будущие времена миллионными прибытками государству. Сии-то самые побудительные причины, к пользам отечества обязующие, побудили меня благовременно сделать занятия в Ситхе, решаясь во что бы то ни стало при слабых силах и обстоятельствах основаться хотя первоначальными заведениями и знакомством, а от времени уже ожидать важнейших плодов. Жаль было бы чрезвычайно, если бы европейцами или другою какою компанией от нас те места отрезаны были».
Так писал в свое время Баранов правлению компании в Петербург, умоляя в то же время о помощи. Но там в те годы с помощью медлили.
Не легко давалось Баранову предоставленное собственным силам и тем не менее стремительное движение вперед, вдоль побережья Америки к плодородному и теплому югу. Ласковое обращение с туземцами, подарки и почет вождям, угрозы при попытках нападения — все это помогало лишь на короткое время. Стоило, например, русскому отряду подойти к Чугацкой губе, как жители разбегались и только от некоторых племен, застигнутых врасплох и не успевших спрятаться, удавалось иногда получить аманатов. На острове Цукли, около Якутата, пришлось выдержать нападение якутатских колошей. Колоши, правда, тогда искали своих туземных врагов, соседей чугачей, и, обнаружив россиян, тотчас бросили поиски и скрылись. А ночью с панцирями из твердых дощечек, скрепленных китовыми сухожилиями, вооруженные длинными копьями, стрелами и двухконечными кинжалами, они незаметно пробрались через прибрежные кусты и яростно набросились на стан растерявшихся, еще сонных людей. Дикий и протяжный их вой, лица, прикрытые свирепыми масками, изображающими медведей, тюленей и невиданных зверей, пугали, а притянутые ремнями к голове тяжелые островерхие деревянные шапки увеличивали рост. Рать великанов наводила ужас.
Стремительная лавина готова была поглотить горсточку едва оправившихся от неожиданности русских. Пули не пробивали ни шапок, ни панцирей колошей, пришлось идти врукопашную и стрелять в упор. Стоны раненых и умирающих лишили колошей мужества, и они побежали, оставив на месте двенадцать трупов и унося с собой к морю тяжелораненых.
«Меня бог сохранил, — писал Баранов, — хотя рубаха была проколота копьем и стрелы вкруг падали, ибо во сне я выскоча, не имел времени одеться, покуда отбили».
Положение победителей, однако, было незавидно. Потери двух русских и десяти наемных туземцев уменьшили отряд до пятнадцати человек. Из семерых аманатов четверо, пользуясь замешательством, бежали и попали в плен к колошам.
Слухи о тяжких поражениях многочисленных, сильных и дерзких колошей и о непобедимости русских, которым помогали ранее покоренные ими кадьяковцы, кенайцы и даже неукротимые медновцы, быстро распространились по всему американскому побережью.
Когда же гордые колоши примирились со своей участью побежденных и не без выгоды повели со своими победителями оживленную меновую торговлю, в более мирных племенах, какими были ситхинцы, родилась зависть. Им ничего не оставалось, как тоже принять условия белых.
С острова Кадьяк шли еще более удивительные слухи, будто кадьяковцы, да и другие признали вместо своих каких-то иных высоких духов-покровителей, беспрекословно подчинились привезенным россиянами шаманам и получают подарки за купанье в большом доме в кадке, в простой речной воде, а иногда в соленой — на морском берегу.
Правда, рассказывали и о кое-каких неприятностях: белые шаманы будто бы отбирали у островитян жен и оставляли только по одной, да еще по своему, шаманскому выбору, пусть даже это была не жена, а дочь.
Трудно было понять, зачем это понадобилось новым шаманам. По крайней мере самый влиятельный предводитель ситхинских племен, Скаутлелт, объяснить этого не сумел, хотя Скаутлелту неоднократно удавалось беседовать об этом с белыми людьми, приходившими с юга. Все это было непонятно и любопытно, но вместе с тем и тревожно.
Через несколько лет опасность уже придвинулась почти вплотную к Ситхе. К соседу ее, Якутату, находящемуся в нескольких десятках верст, приплыл корабль с россиянами. Прибывшие мирно договорились с колошами и, получив от них одиннадцать аманатов, построили деревянную крепость. Вооружив ее пушками и оставив пятьдесят своих воинов, ушли обратно.
Прошло еще два года и, богато награжденный и обласканный главный ситхинский тойон, Скаутлелт, добровольно уступил россиянам место для постройки крепости. Россияне обещали ему за это не только снабжать ситхинцев нужными им предметами, но и охранять от набегов соседей.
Скаутлелт уступил место для крепости добровольно, однако лишь после того, как в Ситху прибыла под предводительством россиян внушительная флотилия из пятисот байдарок и трех морских судов.
Несмотря на январские стужи и насквозь пронизывающие ветры, русские и приехавшие с ними алеуты раскинули рваные палатки и приступили к сооружению большой деревянной бараборы, в которую сгрузили с судов вещи и съестные припасы, а затем соорудили крохотную избенку, в которую переехал сам главный правитель российских колоний.
Вскоре, однако, отравившись морскими ракушками и потеряв от отравления около полутораста человек, почти вся эта партия русских, не поддаваясь никаким уговорам, уплыла на Кадьяк. Осталось человек тридцать.
Ни вьюги, ни цинга не помешали этой ничтожной горстке людей к марту месяцу построить двухэтажную, с двумя сторожевыми будками по углам, казарму и погреб для хранения припасов. Селение окружили тяжелым палисадом.
С большим любопытством смотрели на все это капитаны и матросы заплывших сюда из Бостона и других мест торгово-промысловых кораблей. Иноземцы покачивали головами и вслух удивлялись, как можно жить при таком плохом питании и даже недостатке в пресной воде.
Приезжие американцы и англичане конкурировали друг с другом и платили за бобра неслыханные цены: восемь аршин шленского сукна, или три сюртука, либо три байковых капота, да еще прибавляли то жестяное ведро, то зеркало, ножницы и по горсти, а то и по две бисеру. Или же за бобра давали ружье и картуза по три-четыре пороха, дроби.
Англичане жаловались на конкуренцию американцев, американцы — на англичан, но это не помешало им увезти тысячи шкурок.
Ружья, пистолеты и мушкеты передавались колошам открыто. А тайно, кроме того, сбывались и пушки среднего и большого калибра.
Все это сильно волновало Баранова. Он еще раньше писал в Иркутск: «Ружей стрелебных было послано до 40. Сказано «тобольские винтовки», но не выбирается ни одной годной. От одного выстрела делаются раковины и железо крошится…»
«Калчут и пансырей сколько можно, не оставьте, — просил он в другом письме, — и ружья со штыками весьма нужно в опасных случаях. Сколько-нибудь гранат и побольше пушек, две из старых совсем негодны — не высверлены, а одну разорвало на пробе».
Над Скаутлелтом и ситхинцами стали открыто насмехаться не только ближние, но и отдаленные племена колошей и даже взрослые его сыновья.
Не прошло и года, как насмешки сменились прямым издевательством, направленным уже не только против ситхинцев, но и против их покровителей, поселившихся в крепости и около нее, русских и алеутов. Дело дошло до того, что приезжие из дальних селений ситхинцы избили и прогнали толмача, посланного самим Барановым приглашать тойонов на праздник открытия крепости имени архангела Михаила.
Пришлось пригрозить силой и даже открыть холостую пальбу из пушки, а потом, примирившись, всю зиму задабривать ситхинцев вечеринками, обильными закусками и подарками.
Ни для кого не было секретом, что сплошь да рядом некоторые из гостей прятали под одеждой кинжалы.
Брожением среди колошей и чугачей воспользовался не желавший подчиняться распоряжениям Баранова штурман российского флота Талин, находившийся на службе компании. Он не раз давал понять знакомым тойонам и в Ситхе и даже на Кадьяке, что вооруженный мятеж может иметь успех, если только будет уничтожен Баранов.
Недоразумения с туземцами, доходившие до вооруженных стычек, вспыхивали то на Ситхе, то на Кадьяке, то в селениях Кенайской и Чугацкой губы.
Из Константиновской крепости бежали содержавшиеся там, выданные в свое время сородичами, руководители одного из мятежей. Кто-то помог им пробраться на материк, к Медной реке. Затем появились они в окрестностях Чугацкой губы и стали вербовать чугачей для восстания против русских.
Подозрительно шнырял около Ситхи капитан бостонского корабля Барбер. Тайно, по ночам он принимал у себя трех американских матросов, спущенных с корабля несколько лет тому назад и поселившихся у колошей.
3. Тайный совет
Высока гора Эчком. Точно серебряным шарфом окутала она белыми пушистыми облаками, ослепительно сияющими на солнце, свои сильные плечи и гордо поднятую шею и, нахлобучив до самых глаз шапку, окаймленную и зимой и летом горностаевой оторочкой, задумчиво глядит в бескрайные просторы.
В плохую погоду ей видны только клубящиеся облака, покрывающие холодной и скользкой изморозью зябнущую грудь, но зато в хорошую до мельчайших подробностей у ног ее видно синее море и бесчисленные острова и проливы, чуть не до самых берегов американского материка.
В конце февраля выдался такой редкий безоблачный день, что с краев кратера, некогда дышавшего огнем и клокотавшего лавой, а теперь доверху засыпанного вечным снегом, ясно виден был весь остров Круза, ситхинские поселения и даже далекие проливы Стефена и принца Фредерика.
Необычно было видеть в эту пору года куда-то направлявшиеся то одинокие, то сгрудившиеся в небольшие группы байдарки. Плыли на них не простые люди, а тойоны, каждый со своим гребцом. А кроме байдар, иногда вместе с ними в общих группах шли выдолбленные веретенообразные баты многочисленных ситхинских и якутатских селений.
Еще совсем недавно окончилась ловля сельди и сбор сельдяной икры. Скрытых в байдарах запасов икры и копченой сельди могло хватить по крайней мере на месяц. Запасать рыбу впрок другим способом, кроме копчения, туземцы не умели: она скоро покрывалась плесенью и становилась горькой.
В лодках было также спрятано оружие и на случай дурной погоды непромокаемые камлейки, сшитые жилами из кишок сивучей.
До рыбного лова, когда красная рыба стоит плотной стеной от самого дна до поверхности воды, оставалось больше месяца. Медведи еще не спешили к своим заповедным местечкам, где скапливается горбуша и чавыча.
У плывших на лодках людей, впрочем, не было с собою никаких рыболовных снастей. Не ко времени были и бобровые копья и нерпичьи дубины.
И тем не менее было совершенно ясно, что ловцы спешили к одной, всем им известной цели, заставлявшей крепко объединиться и забыть о непримиримой племенной вражде.
Гребли молча, сосредоточенно, без обычных шуток и без горластых песен. Даже молодежь не устраивала соревнований в гребле.
Плыли давно. На ночь вытаскивали лодки, опрокидывали на ребро и, подпирая их короткими веслами, устраивали навесы. Редко разводили костры и угрюмо, в одиночку питались сельдяной икрой, копчеными селедками, протухшей китовиной и китовым жиром.
Что-то таинственное и непонятное происходило на море и на земле. Тихонько, крадучись подползали к самому берегу одинокие люди и целыми днями, не сходя с места, всматривались в морскую даль, а заметив вдали одну или несколько лодок, стремительно бежали к своим селениям, прямо к тойонам.
Хорошо подготовленные к далекому морскому походу тойоны в сопровождении одного или двух человек, также крадучись, выходили к берегу, садились в спрятанные в зарослях мелких заливчиков лодки и присоединялись к проплывающим группам.
Тойон селения Ченю с острова Тытым, Лак Шенуга, прихватил с собой пятидесятилетнего брата, пользующегося большой известностью, Нектулк-Атама.
Прошли остров Ачаку, остров Кояк, где присоединились несколько начальников племени материковой земли.
Самостоятельно, не желая ни с кем иметь общения в пути, вышел на трех байдарках с сыновьями Нек-Хут и Хинг, чванный и заносчивый колошский тойон Илхак. Гребцами у него сидели юноши-переводчики: один кенаец, знавший чугацкий и колошский языки, другой чичханец с реки Чичхан, соседнего с Илхаком племени, говоривший по-чичхански и по-колошски.
На этот раз Илхак был особенно неприступен. И неудивительно, ведь он одновременно представлял не только свое племя, но и племя постоянных своих соседей и врагов, чичханцев — такое полномочие было неслыханной честью.
Должно быть, именно это заставило тойона и его сыновей принять особенно важный, воинственный вид. Длинные волосы тойона, перевязанные крепкой белой водорослью, свисали тяжелым пучком вниз. Они были посыпаны птичьим пухом. В проткнутых ушах болтались увесистые раковины. Лицо покрыто резкими синими, зелеными и красно-коричневыми полосами, голова и шея перевязаны сеткой, сделанной из тонких, как нитки, кореньев, унизанных орлиными перьями. На одно плечо была накинута громадная шкура шерстью вверх. С боков, от пояса до колен, свисали короткие острые копья. Под меховым плащом, за спиной, болтались прикрепленные к шейному ожерелью из птичьих клювов нити, увешанные такими же клювами и свиными клыками.
На головах у сыновей торчали высокие, выменянные у европейцев тяжелые шапки, напоминавшие гренадерские. В руках сыновья держали по острому топору, голени их ног прикрывали негнущиеся длинные, от колена до щиколотки, кожаные поножи, как у греческих гоплитов.
Молчаливых юных воинов вышла провожать мать их и красавица сестра. Девушка была смугла, стройна и не раскрашена. Прическа состояла из связанных пучком черных волос, как у греческой Афродиты. Но у этой чугачской Афродиты нижняя губа была во всю ширину рта прорезана, а в прорезь вставлена деревянная, похожая на ложку, но плоская овальная дощечка вершка в полтора в поперечнике. Таков был священный обычай, свидетельствовавший о девичьей зрелости, и чем больше оттопыривалась губа, тем большим почетом и уважением пользовалась ее обладательница. Тем, конечно, труднее было ей изучить искусство принимать пищу, особенно жидкую, не задевая вставленного в нижнюю губу украшения. Выпадение его являлось большим позором. В проколотых в шести местах ушах болтались большие раковины и ушко оловянной кастрюли. Подбородок был вышит до губы разноцветными тонкими нитками. И мать и веселая хохотушка дочь на этот раз молчали.
С наступлением ночи вся округа вблизи Ситхи неслышно заволновалась — ее заполнили массы незаметно прибывших людей.
Набежавший с моря туман пополз по низинам, цепляясь за траву и кусты, и понемногу затянул густой молочной пеленой весь остров. В полной темноте и непроницаемом тумане прибывшие без шума подымались от берега в глубь острова. Мокрые ветки молодой лесной поросли и высокие колючие кусты больно и упорно хлестали по лицу, но это не вызывало ни одного слова брани. Люди шли молча и совершенно неожиданно, даже для проводников группы прибывших, оказывались у самого частокола, окружавшего ситхинское селение.
Оно было расположено в полутора верстах от российской Ситхинской крепости и представляло собой большой, окруженный высоким частоколом прямоугольник. Внутри его помещались десятки обширных сараев — барабор.
Колья частокола мачтовых бревен были плотно прилажены друг к другу и заострены сверху. Неглубоко врытые в землю, они держались устойчиво, так как с обеих сторон их зажимали толстые, положенные одно на другое в несколько рядов длинные бревна. Этот цоколь в рост человека был весьма прочен благодаря поперечным обвязкам. Для придания всему этому сооружению еще большей прочности частокол снаружи и изнутри подпирали более легкие подпорки.
В изгороди был пробит ряд амбразур — небольших отверстий, предназначенных для стрельбы.
Прибывшие гости замедляли шаги, стараясь явиться в селение порознь, так как каждый из них рассчитывал на особо почетную встречу. Они удивлялись прочности и грозному виду стены, но никаких вопросов не задавали. Идти вдоль стены пришлось долго, так как ворота были только одни. Впрочем, прорубленный в цоколе узенький, ничем не закрытый проход никак нельзя было назвать воротами: прорубленный вкось, этот проход не был заметен даже вблизи.
У этих крепостных ворот приезжих встречали приветственными восклицаниями новые проводники из числа ситхинской молодежи; они провожали гостей в отведенные им огромные бараборы. Была приготовлена и баня, но без воды, так как предназначалась она только для потения.
У барабор гостей встречали раскрашенные и вооруженные до зубов важные ситхинские тойоны.
Гости и хозяева приветствовали друг друга потрясанием оружия и воинственным, несколько приглушенным кличем, после чего немедленно сдавали оружие своим оруженосцам. Обезоруженные гости на четвереньках вползали в тесное входное отверстие бараборы, хозяева же оставались снаружи и тотчас же снова вооружались для встречи нового гостя.
Земляной пол в бараборах был густо устлан свежими еловыми ветвями. Темная, сырая, прокопченная дымом барабора скудно освещалась множеством чадуков — каменных мисок, наполненных китовым жиром с фитилями из сухого ситовника.
Не успели гости усесться на земляном возвышении, как, позвякивая костяными и железными побрякушками, быстро ударяя рукой в бубен, в уродливой маске и деревянной с колокольчиками шляпе вбежал ситхинский шаман и прорицатель будущего.
Перед прорицаниями, ввиду их особой важности, шаман строго постился не восемь дней, как перед обыкновенными охотничьими собраниями, а целый лунный месяц. Он ел понемногу, только один раз в сутки, выпивал перед едой большое количество морской воды, дабы прежняя пища никак не могла смешаться со вновь поступающей в желудок. Свежая рыба, морская капуста, ракушки и многое другое на это время вовсе были исключены. Шаман жил в уединении, и ни жена, ни дети не смели приходить к нему и даже видеть его издали.
Подбежав к разведенному посредине бараборы костру, шаман медленно обошел вокруг него на небольшом расстоянии от сидящих, чтобы дать возможность дотронуться до него рукой — это прикосновение обеспечивало ему силу действия прорицания.
Ситхинский шаман происходил из ученого рода и пользовался особым уважением, но гости смотрели на кривляния чужого шамана равнодушно. Не проявили они никакого оживления и тогда, когда он грохнулся в судорогах на землю и когда с уголков рта потекла белая струйка пенящейся слюны. Все продолжали сидеть и молча смотрели на постепенно утихающие судороги лежавшего на земле тела. Шаман, казалось, умер. Прошло немало времени в тоскливом ожидании, и вдруг раздались невнятные слова: лежавший начал прорицать.
Гости внезапно всполошились и потребовали своих переводчиков, не удовлетворяясь любезными переводами соседей-ситхинцев. Первые невнятно произнесенные слова были, однако, гостями упущены.
— Со мной… при восходе и закате солнца говорил… сам могучий черный… грозный… неумолимый Ворон, — прерывисто дыша, прошептал шаман и опять затих.
— Он сказал: я затопил ваши зеленые острова, где вы жили и ловили бобров с давних пор, и подымал из глубины моря вместо них голые… неприступные… Я изринул огонь из скал и потрясал земли. Я далеко прогнал от вас бобров и котов… Вы молчали, а белые проходили все дальше и дальше. Они несли с собой страшные болезни…
— Вы прокляты могучим Вороном, — неожиданно громко воскликнул шаман, все до единого прокляты, потому что вы трусы и рабы!
Толпа заволновалась и насмешливо обернулась в сторону поникших головами ситхинцев.
— Все! — взвизгнул не своим голосом шаман. — И ситхинцы, и якутатцы, и угалахмюты, все колоши, и чугачи, и медновцы, и кенайцы, и кадьяковцы!..
Присутствующие негодующе замахали руками и закричали:
— Пусть он замолчит, или мы навсегда заткнем ему глотку!
В дальнем углу бараборы завозились в схватке несколько человек. Кто-то крикнул по-ситхински бранное слово, и тотчас же раздался такой же ответ. Это были сыновья Скаутлелта и Илхака. Их крепко держали десятки рук. Сын Илхака Хинк старался незаметно освободиться от выхваченного им из-под платья ножа, как вдруг звонкая увесистая затрещина отца повалила его без чувств на землю. Неподвижное тело потащили вон из бараборы. Скаутлелт в то же время провожал своего сына до самого выхода пинками в зад. К обоим приставили караульных. Так благодаря вмешательству отцов прекращена была начавшаяся свалка.
Прорицания продолжались.
— Я послал вам на охоте белых лисиц в знак подстерегающего вас несчастья, а вы не обратили на это внимания, убили лисиц и продали руссам. Я послал на вас смерть от страшной болезни, изуродовавшей вас и лица ваших жен и детей, но и это вас не расшевелило. Я решил вам помочь: я пропитал морские ракушки неотвратимым ядом и погубил полчища ваших врагов, отобравших у вас места бобровых охот, но вы не захотели пользоваться моей помощью и согласились дать аманатов и платить ясак, как последние покоренные рабы. Ну что же, якутатцы, платите! — крикнул шаман насмешливо. — Платите за ушедших от вас и истребленных бобров! И вы, ситхинцы, платите!.. Усердно платите за то, что вскоре ваши коты и бобры будут уничтожены пришельцами, если вы не захотите истребить самих пришельцев… А как дальше будут жить и охотиться ваши племена, уважаемые ближние и дальние тойоны? Многие из вас признали, что Ворон руссов сильнее нашего Ворона, а их шаманы отбирают у вас жен, оставляя только по одной. Идите же скорей, идите к шаманам руссов и сами поскорее добровольно отдайте остальных своих жен, да еще и дочерей в придачу, а я вам больше не шаман!
С этими словами, выхватив из-под полы платья тяжелый медный заплесневелый нагрудный крест, ситхинский шаман бросил его себе под ноги, растоптал и, пошатываясь и широко размахивая руками, вышел…
— Он правильно говорил, правильно! — раздались голоса со всех сторон.
Тогда на средину вышел, волнуясь, Скаутлелт. Он сказал:
— Руссов много, а нас мало, у них есть порох, ружья и пушки. Они привели с собой воинов с островов заката солнца. Мы вырежем здесь руссов, а другие придут на кораблях, сожгут наши селения и выгонят нас совсем. Куда денемся?
— Трус! — раздалось в толпе. — Это он продал нас, проклятая лисица! Вон, долой!..
Скаутлелт умолк. С ним рядом встал Котлеан — восходящее светило среди сйтхинских тойонов. Он плюнул в сторону Скаутлелта и, скосив глаза на его заметное брюшко, процедил сквозь зубы: «Беременная баба…» И затем громко сказал:
— Руссов на всех островах много, а на каждом одном — мало. Островитяне с запада не воины, а рыболовы и трусы. Руссы ночью спят крепко. Вырезать их всех до одного можно, но нужна помощь, и чем скорее, тем лучше. У нас есть уже друзья — три морских воина, убежавшие к нам с кораблей. Они с нами, они за нас. Руссы слабы, они пьют много водки…
Толпа одобрительно захохотала. Некоторые вкусно зачмокали.
Выступил Илхак. Он подтвердил, что русские не слушаются своего главного тойона Баранова и что есть у Баранова воин-мореход Талин, который их поддержит. Только надо выступить против руссов одновременно на всех островах.
После Илхака заговорил угрюмый и непомерно высокий тойон островов архипелага принца Валлийского, известный своей свирепостью Канягит, находившийся в постоянных сношениях с белыми людьми, прибывающими вдоль берегов Америки с юга. Он заявил, что тойоны некоторых ближайших к Ситхе и Якутату островов Стахина, Куева и Кекава уже договорились об одновременном внезапном нападении на русских и требуют того же от ситхинцев. При этом он обещал доставить, сколько нужно, пороху и даже пушек, картечи и ядер.
— Руссов, которые здесь, надо истребить до одного, и тогда будет спокойно, так как по ту сторону моря их уже больше нет. Это рассказал мне один бежавший с корабля белых моряк, — сказал он и, смеясь, открывая длинные хищные зубы, добавил: — После этого я воткнул ему нож в глотку и сказал: и тебя больше не будет…
Предложение шумно приветствовали и решили поднять мятеж ровно через два лунных месяца.
Мальчики подали обильное угощение, состоявшее из копченой и испеченной на палочках рыбы и птицы, морских ракушек, лайденной капусты и сушеных и квашеных ягод: шикши, морошки, голубики, брусники.
К ужину приведены были наказанные юноши. Их заставили помириться. Оказалось, что драка началась из-за утверждения Хинка, что самым благородным является его род — «вороний», в то время как ситхинские племена — «волчьи» и Скаутлелт происходил из волчьего племени кухонтанов, племени хотя и многочисленного, но не храброго. Мрачный Скаутлелт-отец еще более помрачнел при рассказе и с трудом сдерживал свое негодование, когда Илхак потрепал своего сына по плечу и, обращаясь к окружающим, самодовольно сказал:
— Из него будет толк!
Повернувшись к Скаутлелту, он добавил:
— Не сердись, твой мальчик тоже не даст себя в обиду!
На рассвете решили сделать разведку крепости. В ней приняли участие и три бостонских моряка.
Ползли на животе у самой стены больше версты по мокрому и холодному кустарнику и убедились, что гарнизон спит беспробудным сном. Спали и часовые. Никто не проснулся даже тогда, когда молодой Скаутлелт, умышленно оставленный в одиночестве, истошно кричал часовым, что он плутал всю ночь и просит пустить его в крепость отдохнуть.
Все пришли к заключению, что крепость взять можно. Не раздеваясь, как были, тойоны в насквозь промокшей одежде повалились на пол бараборы и крепко заснули.
Суровое воспитание туземцев — с самого детства привычка купаться в ледяной воде, длительные принудительные голодовки, пренебрежение к причиняемой боли, жестокие самоистязания — все это приводило к тому, что они могли без вредных для себя последствий спать на голой сырой земле, круглый год ходить босиком, еле прикрывая плечи жесткой, плохо выделанной шкурой, и стойко переносить любую боль.
Наступил вечер, и так же бесшумно и незаметно гости разъехались. Молодой Скаутлелт провожал Хинка в обнимку до самой лодки, подарив ему свое любимое копье. Хинк не остался в долгу и оставил Скаутлелту свой нож английского изделия.
До Баранова, основавшегося на Кадьяке, доходили глухие слухи о том, что высочайше утвержденная в 1798 году Российско-Американская компания, находящаяся под покровительством государя, решила послать для защиты своих владений несколько кораблей в Америку. Когда они выйдут? Скоро ли прибудут сюда?..
4. В пути
В кают-компании «Надежды» собрались все «свои». Толстой, как бывший морской кадет, посторонним не считался. Можно было говорить откровенно. На столе появилось вино. Ратманов предложил пригласить Крузенштерна и сам вышел на его поиски. Крузенштерн стоял на шканцах перед лонгшезом, на котором в небрежной, ленивой позе полулежал, мечтательно глядя на море, Резанов. Ратманов застал их в тот момент, когда посол, растягивая слова, спросил:
— Иван Федорович, до меня дошел слух, что мы изменили курс и вместо Тенерифа идем на Мадеру. В чем дело?
— Так надо, Мадера для меня удобнее, — последовал ответ.
Ратманов приостановился и прислушался.
— Для того чтобы изменять маршрут, предписанный компанией, — сказал Резанов, — необходимы мотивированные основания и согласование со мной.
— Эти основания не в вашей компетенции, — раздраженный не столько существом вопроса, сколько ленивым, небрежным тоном Резанова, ответил Крузенштерн. — И в них я никому не обязан давать отчета.
— Я все же попрошу вас дать распоряжение взять курс на Тенериф, — не меняя спокойного тона, сказал Резанов. — Макар Иванович, — слегка повернулся он к Ратманову, — вы слышали мое требование? Благоволите его исполнить.
— Слушаю, ваше превосходительство… как только мне будет дано об этом приказание капитана, — не повышая голоса, ответил Ратманов. — Господин капитан, — обратился он затем к Крузенштерну, — господа офицеры просят вас в кают-компанию.
— Хуже всего, — заявил вполголоса Крузенштерн Ратманову, — что я уже сам сегодня утром решил все же держать курс на Тенериф. Нельзя же пойти на Мадеру из-за одного только упрямства.
— Охота тебе себя расстраивать, Иван Федорович: на Тенериф так на Тенериф, тем более что мы все-таки приняли на себя перед компанией обязательство идти именно этим курсом.
— Я хочу отучить его путаться не в свои дела, — сказал Крузенштерн.
К их приходу офицеры уже успели вооружиться книгами из библиотеки. На обоих кораблях офицеры читали запоем, изучая предстоящее поле действий. Усердствовало в чтении и все остальное население кораблей. Даже сам посланник, камергер Резанов, обложился японскими учебниками и словарем. Японцы и переводчик Киселев буквально не выходили из его каюты. Даже такой убежденный лентяй, как Толстой, и тот усердно зевал над старинной английской книжкой Энгельберта Кемпфера «История Японии» и захлебывался от удовольствия, читая вслух курьезные выдержки из другой, тоже старинной книжки «О Японе и о вине гонения на христиан».
Когда вошел Крузенштерн, спор сосредоточился на родоначальнике Российско-Американской компании Шелихове и на современных ее заправилах.
Лейтенант Головачев опять отстаивал свою точку зрения. Однако здесь, среди морских офицеров, он был почти одинок.
— Иван Федорович, — встретил вошедших Толстой, — вы как раз подоспели вовремя! При вас, может быть, Головачев постесняется до смерти душить нас рассказами о новейшем аргонавте Шелихове.
Не отвечая Толстому, Крузенштерн обратился к Головачеву:
— Петр Трофимович, история именитого рыльского купца Шелихова нам всем хорошо известна. И его четырнадцати кораблей и личного путешествия с женой на Алеутские острова.
— Я, Иван Федорович, — сказал Головачев, — не собираюсь брать под свою защиту ту или иную штатскую персону. Я хочу только точно установить заслуги открытий новых земель. В настоящее время назрел, по-видимому, момент, когда понадобилось уже полуофициальное вмешательство российской государственной власти, как фактического хозяина русских поселений на американском берегу. Именно отсюда и возникла необходимость нашей экспедиции. Я не хочу суживать наш спор географическими открытиями, — продолжал он. — Особенно такими, где в конце концов самые открытия являются делом случая: попадется на пути неизвестный, не показанный на карте остров или не попадется? Ручаюсь, что даже из Алеутских островов до сих пор не все известны. Наконец, допустим, что они известны нам, русским, но являются новыми для английских мореплавателей. Поэтому они часто дают им свои названия и регистрируют их как новооткрытые, иногда не зная, что они давным-давно открыты. Почему Ситхинский залив, где находится наша Михайловская крепость, на английских картах именуется совсем иначе? Ванкувер тысяче островов, мысов, проливов, кои он видел, роздал имена всех знатных лиц в Англии и своих знакомых, а напоследок, не зная, как назвать остальные, стал им давать имена иностранных посланников в Лондоне. Прежним нашим мореплавателям запрещалось объявлять свету о своих открытиях, а журналы и описи их представлялись местному начальству, которое в те времена их держало в тайне. Впоследствии многие из этих бумаг были утрачены, оставались лишь краткие выписки из них, да и те были сделаны людьми, в мореплавании не сведущими. На самом деле за нашими людьми надо считать значительно больше открытий.
— В этом отношении вы правы, — согласился Крузенштерн. — Но вот послушайте, что пишет Шелихов, — продолжал он, принимая от матроса книгу, принесенную из корабельной библиотеки. — В начале книги открытие Кадьяка и Афогнака он приписывает себе, а далее, начиная с восемнадцатой страницы, не только отмечает, что до него на Кадьяке перебывала масса народу, но что некоторые из пребывавших там «промышленных», как он пишет, «узнав о намерении моем идти на остров Кадьяк, всеми мерами старались от того меня отговорить, представляя жителей оного кровожаждущими и непримиримыми». Заслуги описания островов, сделанного штурманами Измайловым и Бочаровым, Шелихов присвоил себе, наименовав их труды так: «Григория Шелихова продолжение странствования в 1788 году». А на самом деле он больше и не странствовал… Что вы на все это скажете?
— Иван Федорович, — с улыбкой возразил Головачев. — Если встать на вашу точку зрения, то нужно отрицать, что морской путь в Индию открыл Васко да Гама. Ведь до мыса Доброй Надежды его вели шкипера, прошедшие этот путь раньше с Бартоломеем Диасом, открывшим эту южную оконечность Африки, а отсюда, от Наталя, хорошо известный уже путь в Индию ему показывал случайно подвернувшийся нанятый им мавр, знавший туда дорогу. Мне кажется, например, довольно прискорбным, что у нас преклоняются перед Ост-Индской компанией, поддерживаемой государством и огромными частными капиталами, и всячески ругают и презрительно относятся к нашим российским, достойным уважения пионерам, которых иначе, как аршинниками, не называют. Их подвигов извините, иначе называть их не хочу и не могу — не только не ставят в заслугу, но даже вменяют как бы в вину. Да, наконец, знаете ли вы, что проникновение русских купцов в Индию имело место за четверть века до появления там Васко да Гамы?
— Головачев, ври да оглядывайся, — сказал Толстой. — Это ты того, не из этой ли книги о Японии? — и он потряс перед Головачевым томиком Синбирянина.
Головачев, не останавливаясь, продолжал:
— Русский купец Никитин пробрался туда по Волге и Каспийскому морю, через Ширван и Персию, прожил в Индии четыре года — целых четыре года! — и оставил ценнейшее, правильное и лучшее, чем у Васко да Гамы, описание Индии в своих записках о путешествиях «Хождение за три моря». Это оценка не моя, а историка Карамзина. По Северному Ледовитому океану и на ближайшие острова Беринга и Медный наши люди в пятидесятых годах прошлого века плавали на шитиках, а иногда на байдарах, ботах и шерботах, редко на кораблях…
Решительный стук в дверь опять прервал спор. В кают-компанию вбежал взволнованный матрос и гаркнул во всю глотку:
— Ваше высокоблагородие, господин вахтенный начальник приказали доложить, что с подветренной стороны виден военный корабль под французским флагом.
— Близко?
— Не могу знать, ваше высокоблагородие.
— Военный флаг на «Надежде»?
— Так точно, ваше высокоблагородие, подняты и на «Надежде» и на «Неве»!
Крузенштерн залпом допил вино и молча вышел. За ним поспешили и все остальные.
На палубе было людно. Новость успела уже облететь весь корабль. Офицеры, подняв к глазам подзорные трубы, впились в видневшийся вдали фрегат, который шел одним курсом с «Надеждой», не обнаруживая своих намерений.
«Надежда» продолжала идти своим ходом. Моряки с подчеркнутым спокойствием продолжали рассматривать неизвестное судно. Штатские, особенно Шемелин и кавалер Фоссе, взволнованно обменивались предположениями: «А вдруг пират, а у нас пушек так и не зарядили!»
— Выстрел! — вскрикнул Фоссе, увидев клубы дыма.
— Какая наглость! — процедил сквозь зубы Беллинсгаузен.
Возмутились и другие: выстрел последовал, несмотря на поднятие российского военного флага.
— Прекрасно, прекрасно! — вдруг сказал Ратманов, наблюдая за тем, как тотчас же после выстрела «Нева» решительно изменила курс и направилась прямо на фрегат. В намерениях Лисянского не было никаких сомнении, так как артиллеристы на его корабле стояли у орудия с дымящимися фитилями.
— А не лечь ли нам в дрейф? — обратился Ратманов к капитану.
Крузенштерн утвердительно кивнул головой.
Громкая команда, лихое исполнение. Чужой фрегат тоже стал ложиться в дрейф и спустил шлюпку. «Нева» сблизилась с ним в это время уже настолько, что видно было, как ведутся какие-то переговоры в рупор. В шлюпку, спущенную с незнакомого корабля, вскочили шесть матросов и два офицера и направились прямо к «Надежде».
Французский фрегат был так грязен и обтрепан, что ничем не напоминал военного корабля. Матросы тыкали в него пальцами и смеялись: затасканные и кое-где даже оборванные снасти, небрежно завязанные узлы с незаделанными концами торчали во все стороны. В подзорную трубу было видно, что и команда состоит из каких-то оборвышей. Дурное состояние корабля вызывало недоумение среди офицеров «Надежды».
Гостей встретил на палубе Ратманов.
— Наш капитан просит извинить его за причиненное беспокойство, вызванное вынужденным недоверием к флагам, — сказал один из французов. — Нас постоянно обманывают таким образом англичане. Теперь, однако, мы знаем уже, с кем имеем дело, и хотели бы принести свои извинения лично вашему капитану.
Крузенштерн был уже в своей каюте. Спокойно отложив в сторону книгу, которую он только что вяло перелистывал, прислушиваясь к звукам, доносившимся с палубы, он поднялся гостям навстречу.
— Наш корабль — французский военный фрегат «Египтянин», — доложил тот же офицер. — Капитан его, господин Лаплаефф, просит извинения за причиненное беспокойство капитану Крузенштерну, которого мы бы очень хотели видеть нашим союзником. Разрешите поздравить вас с прибытием в здешние воды. Наш капитан приказал передать, что он очень огорчен, что условия войны не дают ему возможности покинуть корабль. Он осведомлен французским правительством о целях и задачах вашего кругосветного плавания и был бы очень счастлив, если бы нам предоставлена была возможность лично принести свои извинения господину послу и его свите.
Сухо поблагодарив за внимание, Крузенштерн приказал Ратманову проводить французов к Резанову.
Резанов был, как всегда, любезен и обещал на обратном пути обязательно побывать в Париже.
Гости долго не задерживались. Но после того как они вернулись на свой фрегат, не раз бывшие в военных переделках морские офицеры «Надежды» сбросили маску безразличия и не могли уже скрыть своего беспокойства. Политический момент сложен, тревожен и весьма туманен, так как в любой момент Россия могла быть втянута в войну. А на чьей стороне, никто даже не пытался предугадать.
На рейд Санта-Крус вошли на следующий день. И первое, что бросилось в глаза, — старый знакомый, французский фрегат «Египтянин», в обществе двух таких же неопрятных, глубоко сидящих, грузных английских купцов. От приехавшего тотчас (едва успели бросить якорь) лейтенанта испанского флота узнали, что фрегат этот вовсе не военный, а простой и весьма алчный предпринимательский капер, притащивший с собой два английских купеческих судна, взятых в качестве приза — на продажу. Оказалось, что здесь, в Санта-Крус, не только не брезгают каперами и их добычей, но снисходят даже до обыкновенных морских корсаров.
Губернатор маркиз де ла Каза-Кагигаль, весьма гостеприимный хозяин, по происхождению испанский аристократ, не только старался не видеть, как его не менее почтенный тесть открыто заканчивал снаряжение своего собственного корсарского брига, но даже втихомолку сам принимал участие в снаряжении. И в то время как тесть маркиза под французским военным флагом собирался грабить англичан, зять его испанец-губернатор, взяв под свою опеку, ухаживал за ограбленным уже какими-то другими корсарами англичанином. Неудивительно, что при таких порядках корабль с покинувшим Тенериф губернатором, предшественником Кагигаля, едва вышел в открытое море, как сразу же попал в руки «неизвестных пиратов».
— Верно, стараются возвратить полученные в свое время взятки, — смеялся местный английский коммерсант и винный король Армстронг. — Губернаторы, между нами, до сих пор все были взяточники, и это неудивительно, если сравнить их ничтожное содержание с содержанием главы здешней инквизиции. Католический епископ официально получает сорок тысяч пиастров в год, а губернатор — шесть… Испанская католическая инквизиция здесь в силе, перед нею дрожат не только местные жители всех вероисповеданий, но и сам губернатор. Она сует нос даже в его гражданское управление.
Посол заинтересовался предстоящей возможностью ознакомиться с иностранной колонией и установившимися в ней порядками: колония была испанской. Шемелин уже успел не только получить некоторые сведения об этой колонии от лейтенанта Головачева, но и его заставил прочитать все, что оказалось в корабельной библиотеке по истории и географии на иностранных языках.
Братья Маврикий и Отто Коцебу тоже жадно читали все о Канарских островах, что было в книгах корабельной библиотеки. Из книг они узнали, что островерхие горы не что иное, как описанные Гомером таинственные Геркулесовы столбы, на которых «держится небесный свод», за которыми «кончается земля», что в глубине моря здесь покоится не менее таинственная и легендарная Атлантида, что счастливое, гордое и высококультурное племя Канарских аборигенов, гуанхов, уничтожено без остатка.
Разочарованно бродили они по широким и прямым улицам города, смотрели на красивые, в мавританском вкусе, обсаженные цветами колодцы без воды, наполняемые процеживаемой через пористый камень стекавшей с гор дождевой водой.
На городской площади масса народу в разнообразных национальных одеждах: смуглые африканцы в чалмах, в привязанных к плечу кайках и полусапожках из красной кожи, важные, по-индюшьи напыжившиеся испанцы, закутанные и зимой и летом в теплые суконные плащи. Тут же проходят португальские и испанские ремесленники и виноградари, земледельцы с шелковой сеткой на головах, обутые в толстые эспадрили. В толпе озабоченно шныряют разносчики. Медленной походкой, закрывая половину лица, движутся женщины. Они смуглы и худощавы, рты слишком велики, а носы слишком орлины, но белые ровные зубы, красивые, резко очерченные брови и живые глаза скрадывают недочеты. Они набрасывают на голову до самого лба мантильи, закрывая шею, плечи и руки. Это придает им какой-то особо щегольской вид.
И на каждом шагу — назойливые нищие. Они милостыни не просят, отнюдь нет, они требуют исполнить «вашу картиллу». От них и монахов нет спасения. Прохожие останавливают монахов, суют им деньги, просят молитв.
Коцебу, Головачев и взятый ими с собой егерь Иван, боясь потерять друг друга в толпе, озирались по сторонам. Они подошли к городскому фонтану из черной лавы, в который вода подавалась с гор по деревянной трубе. Здесь на площади стояла каменная беломраморная статуя богоматери, на беломраморном же постаменте, по углам — четыре статуи последних властителей древнего народа. Испанская надпись гласила, что «заступничеством богоматери» испанцам удалось истребить гуанхов.
Сильный, гигантски рослый и красивый народ гуанчи, или гуанхи, рыцарски доверчивый и добродушный, стерт с лица земли пигмеями испанцами. Овеянная поэтическими легендами счастливая земля титанов, земля амазонок и горгое, страна, где цвели легендарные гесперидские сады с золотыми яблоками, бесследно исчезла в пучинах моря. Становилось как-то не по себе…
Слава счастливой Атлантиды далеко распространилась по белу свету, к этой стране со всех сторон еще в доисторические времена протянулись алчные руки завоевателей. Сюда проникали неутомимые и дерзкие финикияне, предприимчивые и воинственные моряки карфагеняне, сюда мавританский царь Юба посылал армады завоевателей, в XII и XIII веках здесь побывали пронырливые генуэзцы и, наконец, в XIV столетии за четыреста золотых флоринов взятки римский папа Климент VI данной ему «божественной» властью рискнул подарить остров испанскому наследному принцу дону Людовику де ля Серда, ненасытному властолюбцу, которому не терпелось посидеть на троне. Но одно дело подарить не принадлежащее, а другое — взять, сорвать зрелый плод. Это Серда не удалось. За ним идут искатели приключений из Арагонии, потом португальцы, и только в конце XV века гуанхи пали под мечами чужеземцев.
Однако завоеватели не разбогатели после победы. Ленивые и беспечные, они принесли сюда не культуру, а одичание, не богатство, а разорение. Они довольствовались лишь дикорастущими плодами, морской рыбой, да по нескольку раз в неделю участвовали в религиозных процессиях. И только сравнительно небольшая часть их в далеких горах тяжело трудилась над виноградниками… Нужда ввергла местное население в нищету и воровство, а женщин — в разврат.
* * *
Открывшиеся было 1 декабря зеленые берега Бразилии вместе с заносимыми ветром на корабль ярко окрашенными громадными бабочками и замысловатыми, ярчайшей лазури, зелени, чистого золота и серебряными рыбами-дорадами исчезли. Противный ветер отнес корабли опять далеко в море, и только неделю спустя, после сильного шторма, корабли опять принесло к потерянному было берегу.
Вышедшие навстречу на лодке португальские лоцманы взялись провести их узким проливом в гавань на остров Святой Екатерины, где и стали на якорь в двадцати верстах от города Ностра-Сенеро-дель-Дестеро, резиденции бразильского губернатора. Губернатор тотчас же уступил российскому послу и его свите свой загородный дом. На кораблях закипела работа по заготовкам продовольствия и дров и возобновлению запасов пресной воды.
С сожалением пришлось Шемелину бросить отчетную работу и переехать на берег, в губернаторский дом. Он чувствовал себя скверно: рвота, сильные рези в животе и тупая головная боль не прекращались. Желудочными болями страдали и все остальные — не то от бразильского климата, не то от свежей воды. Могло быть, впрочем, и от арбузов или свинины. На теле у многих матросов появились вереды и сыпь, причинявшие при потении нестерпимый зуд.
Судовой врач Эспенберг усиленно поил матросов еловым пивом, пуншем, чаем с лимонным соком — ничто не помогало. Однако через три дня приступы болезни ослабли, а потом и совсем исчезли.
Однажды вечером, работая у себя в комнате, Шемелин услышал доносившиеся из-за дома страшные резкие звуки. Словно ночные сторожа, как в деревне, ударяли по висящей деревянной доске большой колотушкой. Тотчас же к колотушке присоединялись трещотки и неистовый собачий лай.
«Посмотреть, не тревога ли какая?» — подумал он и выбежал из дому. Звуки доносились со стороны пустыря, тонувшего в сизом тумане. «А может, игры какие-нибудь?» Он оглянулся и пошел крадучись. Но, дойдя до обрывистого кочковатого и мокрого края болота, в полном недоумении остановился: звуки действительно шли прямо с болота, примеченного им еще днем.
«Нечистый! Заманивает… Бежать!» — мелькнуло в голове Шемелина. Зубы стучали мелкой дробью. Тяжело дыша, несколько оправившись, он действительно бросился бежать. Навстречу ему и за ним неслышно двигались какие-то огоньки. Это было еще страшнее, и он, ничего уже не сознавая, сломя голову кинулся к дому и налетел на Толстого.
— Ты что, черти за тобой гонятся? — крикнул Толстой и схватил Шемелина за плечо, но тот молчал.
— Что с тобой?
Ответа не было. Вдруг Толстой понял и захохотал во всю Глотку:
— Лягушек испугался? Ха-ха-ха!..
— Каких лягушек? — прошептал, еле шевеля губами, Шемелин.
— А вот каких… — Толстой потащил его обратно к болоту.
Словно какие-то неведомые духи чертили в воздухе огненные линии. «Значит, не померещилось…» — подумал Шемелин, он все еще дрожал.
— Да что же ты, светляков никогда не видал? — спросил Толстой.
— Не видал.
— Они здесь больше и ярче…
Разнообразие и яркая окраска представителей животного мира Бразилии заинтересовали даже Шемелина: он стал наведываться к егерю Ивану и подолгу задумчиво смотрел на чучела крокодилов, енотов, черепах, земноводных каниваров. Особенно же его привлекала фантастически капризная окраска бесчисленных колибри. Увидел он и напугавших его жаб и лягушек — в четверть длиной, с симметричными фиолетовыми и желтыми узорами на унизанном как бы нитками жемчуга теле. Желтые ноги, два небольших рога, широкая пасть и страшные выпуклые глаза действительно пугали. Не менее страшными казались и живые безвредные ящерицы в полтора аршина длиной, когда они копошились и шуршали в комнатах и звонко щелкали челюстями, схватывая муху или бабочку…
Проходили последние дни недели, намеченные работы близились к окончанию, когда рано утром на «Надежде» у Крузенштерна появился встревоженный Лисянский.
— Иван Федорович, у меня несчастье, — сказал он упавшим голосом. — Ты был прав, придется менять и фок и грот. Жаль, не послушал тебя: надо было сменить обе мачты в Кронштадте…
Однако дело оказалось не так просто: призванный Лисянским португальский мастер заявил, что готовых мачт у него нет и что придется подыскивать их и рубить в лесу. Лес подходящий был, но доставка оказывалась весьма затруднительной, и времени на все это дело требовалось около месяца.
— Мне придется принять самые крутые меры! — кричал разъяренный Резанов, вызвав обоих капитанов в загородный свой дом. — Накупили какую-то гниль, на посмешище перед целым миром… Что же теперь, месяцами будем простаивать во всех гаванях для ремонтов? Я требую тотчас же назначить комиссию для самого подробного осмотра обоих кораблей.
Лисянский вспыхнул и, несколько оправившись от смущения, также повышенным голосом, заявил:
— Я прошу вас прежде всего не кричать и войти в должные рамки. Корабли покупались ведь не нами, а правлением Российско-Американской компании.
— Я все сказал, — высокомерно ответил Резанов, — и жду результатов осмотра. От себя назначаю в комиссию майора Фредерици…
В комиссию вошли оба капитана, штурман «Надежды» Каменщиков, штурман «Невы» Калинин да ничего в этих делах не понимающий майор Фредерици. Однако все сразу приняло совершенно бесспорный вид. Как только плотники «Невы» вместе с плотничьим десятником Тарасом Гледяновым и плотником Щекиным с «Надежды» сняли с мачт стеньги, необходимость замены их стала для всех очевидной.
— Да верно ли, что корабли так новы, как их официально считают? спросил Фредерици Каменщикова.
— Год их постройки установлен документами, — нехотя ответил Каменщиков, спускаясь в трюм.
Оттуда он вышел с растерянным видом и позвал в трюм обоих капитанов. За ними решительно устремился и Фредерици. На ходу Каменщиков отметил несколько прогнивших на концах бимсов и, остановившись у основания грот-мачты, поставил фонарь: на тщательно обтесанной, более светлой, чем остальная часть, поверхности шпангоута ясно виднелся в рамке выжженный год: 1793. Переставляя фонарь по шпангоутам дальше, Каменщиков обнаружил на других шпангоутах еще два таких же клейма. Сомнений больше не оставалось: кораблю было не три года, а десять лет.
Поднявшись на шканцы, члены комиссии остановились, стараясь не смотреть друг на друга.
— Рапортуйте! — глухо проговорил после долгого молчания Крузенштерн, обращаясь к Каменщикову…
* * *
Календарь пугал Крузенштерна: мыс Горн предстояло обходить в очень неблагоприятное время. Следовало ожидать неустойчивой погоды, ураганов, возможного разлучения кораблей. Пришлось подумать насчет мест и сроков рандеву.
Команда «Надежды» осталась очень недовольна месячным пребыванием в Бразилии. Ее не пускали на берег, а между тем ходившие гребцами на шлюпках матросы дразнили воображение затворников рассказами о красоте местных красавиц и дешевизне спиртных напитков, особенно рома.
— Холопам везде хорошо, — говорил конопатчик Ванька Шитов. — Эй ты, холопья шкура! — крикнул он и дернул за рубаху вошедшего в кубрик егеря Ивана.
Егерь резко отмахнулся, и Шитов полетел навзничь, гулко ударившись головой о переборку.
— Чего ощетинился? — примирительно сказал конопатчик. — Дома-то ведь все мы холопы: в холопской стране живем.
— Подлинно, — согласился плотничный десятник Гледянов. — Сегодня ты, скажем, холоп своего барина, а завтра… Хочет он из тебя, барин-то, помещик, — своего лакея сделает, хочет — в рекруты отдаст али на оброк пустит.
— А он, барин-то, разве не холоп? — спросил егерь и сам ответил: — Тоже холоп, только перед другим барином или там вельможей. А тот тоже холоп перед царем. Вон, к примеру, министр морской Чичагов — большой барин, а не понравился царскому величеству, сорвал с него эполеты да по мордам и — в равелин. Вот те и министр, кому жаловаться?
— Здесь, говорят, вольготно — народ сабсим свабодный, — заметил черненький татарин Розеп Баязетов и вздохнул.
Егерь расхохотался:
— Здесь еще хуже… Тут, брат, и пашут и сеют на черных невольниках, на неграх африканских. Привозят их сюда, как скотину, и продают. Я-то знаю, видел на рынке…
Разговор о торговле невольниками шел и в кают-компании.
— Какой это ужас! — возмущался Резанов. — Их силой отрывают от своих семей, везут, как скот, в темных и нечистых трюмах в Рио-де-Жанейро, а отсюда развозят по всему берегу. Вы все видели этих жертв алчности, продаваемых за сто пиастров. Покупатели заглядывают им в зубы, как цыгане лошадям. И кормят их, как скотину: раз в день сунут общую чашку маниоки, и все. А при продажах бессердечно разлучают детей с отцами и матерями, жен и мужей…
— Во время нашего пребывания в загородной резиденции губернатора, продолжал Резанов, — негры убили там по соседству жестокого плантатора, а затем заявили, что они знают о неминуемой для них смерти, но они предпочитают смерть своему тягостному существованию. Сто пятьдесят тысяч! Подумайте, сто пятьдесят тысяч людей ежегодно продаются и покупаются в одной только Бразилии. И это в наш просветительный век!
Однако Бразилия скоро была забыта.
В три недели благополучно добрались до широты мыса Сан-Жуан. Похолодало, помрачнело, подул жестокий противный ветер со шквалами и градом. Температура упала до пяти градусов. Приходилось все время подсушивать платье, постели, парусину, для чего назначался после каждой вахты специальный нарочный. На нижней палубе каждый день разводили огонь. Шквал налетал за шквалом, а 14 февраля море напомнило о бурном проливе Скагеррак. Не успели закончить уборку парусов, как разорвало кливер. В каютах оборвались все привязи и скрепы, и вещи беспорядочно катились по покрытому водой полу. Кругом булькало, хлюпало; казалось, корабль распадется и вода хлынет через все образовавшиеся щели. Волны хлестали через верхнюю палубу, в трюме что-то тяжелое зловеще перекатывалось с места на место. Корабль ложился набок и медленно поднимался, как будто в последний раз.
Шторм свирепствовал трое суток. Матросы выбились из сил. Всем было не по себе, а неморяки просто пали духом, когда на «Надежде» в носу появилась течь. Пришлось на веревке спускать за борт плотника, который нашел поврежденную доску внешней обшивки и укрепил ее железным листом. Шесть дней благодаря резкому ветру нельзя было сдвинуться с места. Сан-Жуан все время торчал перед глазами каким-то постоянным укором.
«Неву» потеряли, не помогли ни пушечные выстрелы днем, ни фальшфееры ночью — она не отвечала. От постоянной сильной качки течь на «Надежде» усилилась настолько, что воду приходилось почти непрерывно откачивать помпами.
К началу апреля потеплело. Начались различные работы: парусники чинили старые паруса для пассатных ветров, чтобы сберечь новые, более крепкие, для дурной погоды в северных широтах; кузнец готовил ножи и топоры для мены с островитянами, артиллеристы сушили порох. Гвардии поручик Толстой развлекался ружейной пальбой. Коцебу прилежно читали все, что находили в библиотеке о Вашингтоновых и других, лежащих на пути, островах, усердно учились. Бойко говорил по-немецки егерь Иван, крепостной графа Толстого, вызывая своей любознательностью и способностями восхищение Тилезиуса и Лангсдорфа.
— Работы Ивана изумительны, — говорили они Толстому. — У него чутье художника-зверолова, его чучела — как живые. Вы должны отпустить его на волю и дать возможность учиться.
Толстой отмалчивался, но был доволен.
Крузенштерн обдумывал изменение маршрута. Правда, июнь, июль и август можно было употребить на плавание по Тихому океану с целью новых открытий и после этого идти в Японию. Но Камчатка ждала нужнейших ей материалов и продовольствия; товары залеживались и портились. Грузы компании не были застрахованы. Крузенштерн решил переговорить с послом.
— Николай Петрович, я хочу предложить вам изменение маршрута, — сказал он, входя в каюту Резанова.
— Что так? — спросил Резанов. — До сих пор об изменениях маршрутов вы не только не спрашивали меня, но даже и не уведомляли, и, по правде сказать, как следует я и не знаю, куда мы сейчас путь держим и какие сроки преследуем.
— Идем мы сейчас к Вашингтоновым или Маркизовым островам, ибо рандеву с капитаном Лисянским назначено у острова Нукагива. Далее Сандвичевы острова и затем Япония…
— Ну что ж, хорошо, благодарю вас. Чего же вы теперь хотите?
Крузенштерн привел свои соображения о целесообразности идти не в Японию, а к Камчатке.
— Я мог бы принять ваш план, Иван Федорович, в одном только случае, если бы такого изменения маршрута требовало прежде всего состояние обоих кораблей или по крайней мере «Надежды».
— Об этом я вам не докладывал, — сумрачно ответил Крузенштерн, — но это само собой подразумевается. Ремонт кораблей необходим.
— В таком случае я согласен, а об убытках или интересах компании позвольте уж и теперь и в будущем заботиться мне самому…
5. Мятеж на Ситхе
В это смутное время смелый, но слишком доверчивый и простодушный начальник Ситхинской крепости Василий Иванович Медведников так оценивал свое положение в одном из писем Баранову: «Тойон Котлеан — верный нам человек Он сам признавался, что хотел заколоть нас и много раз таскал с собой нож. Я теперь ему помогаю, чем могу, часто принимаю и угощаю. Плоды есть, он старается изо всех сил: вашему Кускову и его алеутам показал не знаемую нами тесную бухту, в которой, как стаи водяных птиц, густо были рассеяны черные головы бобров. Колоши по собственному желанию помогали промышленным бить бобров, а для себя даже ничего не просили. Живем дружно».
А в это время тойоны спешно готовились к внезапному нападению.
В лесу рубили тонкие длинные прямые жерди, сколачивали лестницы для перелезания через стену, собирали и сушили мох для поджога крепостного палисада, добывали древесную смолу. Посыльные баты с испытанными людьми шныряли туда и сюда по проливам то для того, чтобы создать достаточный запас пороха, то с небольшими партиями мехов к Канягиту, чтобы обменять их на ружья и четырехфунтовые медные пушки.
Для испытания получаемого огнестрельного оружия и упражнений в стрельбе колоши совершали морские походы на другие острова.
Скаутлелт из кожи лез вон, чтобы показать свое усердие и преданность принятой на съезде затее и смыть с себя упреки в трусости и продажности. Не отставал от него и воинственный сын, ставший подручным у Котлеана. С нетерпением ожидали Хинка. Тот клятвенно обещал приехать до срока, независимо даже от того, даст или не даст разрешение суровый отец.
Медведников со всем своим гарнизоном и крепостью находились под постоянным незаметным наблюдением ситхинцев.
Взятые русскими для несения домашних работ, а иногда и в наложницы, колошки чаще, чем обыкновенно, бегали в лес по ягоды. Тут они тайком встречали своих и рассказывали о жизни по ту сторону крепостной стены все, что только могли сами понять.
Котлеану, к которому как-то незаметно и естественно перешло общее руководство военными приготовлениями, до мельчайших подробностей стало известно расположение пушек в укреплении, количество ружей и пороха, план распределения защитников на случай нападения.
Чаще и по неведомым причинам стали портиться кремни у ружей. Хотя стояла теплая и сухая погода, все сырее становилось в пороховом погребе. Пользуясь хорошими днями, приходилось вытаскивать порох и подсушивать его на воздухе. При этом как-то незаметно уменьшалось и его количество.
То тут, то там в отдаленных от крепости неизвестных бухтах появлялись во множестве бобры. Об этом, как никогда, услужливо доносили русским тойоны. Приходилось спешно отправлять из крепости отдельные небольшие партии промышленных алеутов.
В складах крепости хранилось уже несколько тысяч добытых в этот изобильный год меховых шкурок — бобровых, лисьих, нерпичьих и других. Их тоже приходилось часто выбивать, просушивать и сортировать на воздухе.
И не раз перед мысленным взором Котлеана ясно вставало громадное двухэтажное деревянное здание за неприступной оградой — казарма с обширным складом на втором этаже, где было скрыто такое несметное и такое далекое и манящее богатство. При одной мысли, что скоро настанет день, когда он ворвется в казарму и заберет, сколько захочет, бобровых шкурок, Котлеан, зажмурив глаза, сладко и тихо стонал. Собственное бессилие, однако, чаще и чаще выводило его из себя, и тогда он приходил в исступление.
Смущало многое: по плану американских матросов жилые и нежилые постройки, недостроенный корабль на берегу бухты придется зажечь в самом начале нападения, а пороховой погреб взорвать. Что же тогда будет с драгоценной пушниной? Наконец, во время нападения ему придется распоряжаться, командовать нападающими, а тогда, значит, лучшие меха заберут другие.
А сколько мелочей, которые необходимо предусмотреть!.. Например, надо хорошенько помнить, что у входа в казарму стоит пушка. Кому-нибудь из колошек надо поручить забить гвоздем заправочное отверстие. Сделать это надо заблаговременно и незаметно. Но как объяснить женщине, что именно надо сделать?
С нападением пришлось торопиться, так как некоторые из особенно пылких союзников, не выдержав томительного, долгого ожидания, слишком поспешно обострили на многих островах мирные отношения с русскими. Того и гляди, к Медведникову могут прислать подкрепления — на всякий случай…
Из донесений лазутчиков Скаутлелту и Котлеану стало совершенно ясно, что одновременное нападение на всех островах не получится. Особенно досадно было то, что поторопились и обострили отношения с русскими как раз ближайшие соседи — якутатцы.
В начале мая в Якутатскую крепость с партией в четыреста пятьдесят байдарок охотников алеутов прибыл по распоряжению Баранова Кусков. Он удивился заносчивости всегда приветливых местных жителей, которые на этот раз, казалось, только искали предлога для ссоры с прибывшими алеутами, всячески издевались над ними, а при случае заводили драки и бивали. Большой опыт подсказал Кускову, что приближается гроза, а произведенные через преданных людей расследования подтвердили подозрения. Надо было поэтому поторопиться с выходом в окрестности на промысел, что он и сделал. Не успел Кусков раскинуть стан верстах в шестидесяти на берегу моря, как тотчас же был окружен отрядом колошей, обратившимся после небольшой перестрелки в бегство.
У Кускова возникло беспокойство за судьбу Ситхи. Он немедленно выступил, но не прошел и десяти миль, как получил сведения, что к Ситхе со всех сторон двигались полчища колошей и других ближайших племен. Пришлось уходить обратно в неспокойный Якутат. На этот раз он продвигался с большими предосторожностями и только ночью. Не было уверенности, что цела Якутатская крепость. Предосторожности оказались не лишними, так как только непредвиденное для якутатских племен возвращение Кускова спасло Якутат от разграбления. Посланные Кусковым на разведку в Ситху лазутчики не вернулись.
А в Ситхе стояла ничем не нарушаемая тишина. В конце мая оттуда вышла под начальством Урбанова большая промышленная партия в девяносто байдарок в недалекий Кеновский залив, где, как сообщил Котлеан, появилось много бобров.
Судьба, казалось, благоприятствовала Урбанову: колоши попутных селений были на редкость услужливы, и уже в половине июня он беспечно возвращался обратно с богатой добычей в тысячу триста бобров. Урбанов угощал приходивших в гости колошей изобильными ужинами. После одного из таких вечеров утомленные охотой, жарой и плясками люди крепко заснули. Заснули выставленные караулы. Не дремали только не успевшие поблагодарить за гостеприимство гости. Они бесшумно вернулись в лагерь и перерезали сонных хозяев всех до единого.
В Ситхе в это время успела составиться и выехать на промыслы еще одна небольшая партия охотников-любителей из пяти русских, восьми алеутов и трех англичан, недавно принятых на службу Российско-Американской компанией в качестве командиров еще не выстроенных кораблей.
Крепость опустела.
Между тем Скаутлелт и Котлеан медлили.
Их очень смущало присутствие в бухте бостонского корабля. Оба тойона хорошо помнили, как командир этого корабля капитан Барбер лет шесть тому назад расправился с их предшественником, колошенским тойоном, родственником Скаутлелта. Барбер зазвал тойона для переговоров на корабль, хорошо угостил и, напоивши допьяна, потребовал немедленной выдачи ему всех набитых племенем тойона бобров. Тойон с негодованием отверг предложение, после чего, несмотря на отчаянное сопротивление, был закован в кандалы и опущен на веревке в воду. Захлебнувшись, он лишился чувств и был вытащен на палубу корабля. Как только он очнулся, его тотчас же подвесили на рее. Пришлось смириться. Получивши после бесконечных утомительных торгов богатый выкуп, Барбер без церемонии выбросил тойона и его товарищей за борт и ушел в море. Тойон утонул.
На тайном совещании нескольких ситхинских тойонов и американских матросов мнения сначала разделились. Пылкий и мстительный Котлеан, забывши о необходимости соблюдения осторожности, требовал напасть ночью, всех перерезать и захватить корабль. Его поддержал, дрожа от негодования, Скаутлелт; он вспомнил, какое тяжкое оскорбление нанес его покойному поруганному родственнику Барбер.
— Всех вырезать, а корабль сжечь! — яростно взвизгнул он.
Матросы были другого мнения.
— Нападем на корабль — всполошим крепость. Белые станут помогать друг другу пушками, — возразил один из них.
— С капиталом можно договориться, — нерешительно сказал другой, — я этого подлеца хорошо знаю. Есть у меня на его корабле приятель — парень верный. Ему можно поручить сперва прощупать Барбера.
— А он не обманет, не выдаст нас Медведникову? — спросил Скаутлелт.
— Конечно, это может случиться, — согласился матрос, — но, по-моему, другого выхода нет.
На этом и порешили.
— Обещайте ему, — вдруг неожиданно для самого себя сказал Котлеан, половину мехов, которые мы захватим в Ситхе.
— А не много ли будет? — возразил один из матросов. — Хватит с него и тысячи!
Матросы обещали произвести ночью разведку, а утром условились встретиться вновь.
— Заварим мы кашу, — сказал великан матрос по прозвищу Рыжий Джон. Как бы чего не вышло.
— Да уж хуже не будет, — возразил другой матрос, заросший волосами, как обезьяна. — Лучше подохнуть от ножа здесь на свободе, чем двадцать лет гнить в тюрьме на нашей прекрасной родине, — и он с досадой плюнул.
— Вот приятно удивится капитан, а, Том, когда мы предстанем перед ним собственными персонами? Ха-ха-ха! — хрипло захохотал моряк, представляя себе предстоящую сцену свидания.
— Я думаю, не только удивится, но и страшно обрадуется, — заявил Том, вползая на карачках в узкое отверстие бараборы.
* * *
Поздно ночью в неподвижном и непроницаемом тумане медленно продвигались к бухте три высокие плотные фигуры. За ними, несколько поодаль, особенно осторожно следовала еще одна, худая, сухопарая мальчишеская фигурка. Все четверо были одеты по-ситхински и держали в руках по короткому веслу. Дойдя в полном молчании до голого песчаного берега, где шум шагов уже совершенно заглушался морским прибоем, три взрослых ситхинца заговорили вполголоса по-английски так бегло и невнятно, съедая части слов, как можно говорить только на родном языке.
— Темно и сыро, как у дьявола в брюхе, — сказал шедший во главе, тщетно вглядываясь в тьму.
— Отыщем лодку, тогда сообразим, где мы, — ответил другой.
При слове «лодка», произнесенном по-ситхински, маленькая фигурка решительно выдвинулась из темноты. Это был молодой Скаутлелт, а с ним беглые матросы, взявшиеся начать переговоры с Барбером.
Скаутлелт, руководясь каким-то особым охотничьим чутьем, вышел прямо к вытащенным на берег батам и показал, какие из них надо спустить на воду. Компания разделилась. Скаутлелт с Рыжим Джоном сели в одну лодку, остальные двое — в другую и бесшумно отвалили. Не пройдя и одного кабельтова, оба бата стали рядом. Прислушались. Сквозь легкое хлопотливое хлюпанье воды под батами ухо улавливало с правой стороны едва слышный отзвук, съедаемый туманом, но все же похожий на бульканье воды.
— Пошел! — просипел Рыжий Джон. Соседний бат отделился и бесшумно скользнул в темноту, к стоявшему на якорях кораблю Барбера.
До затаившего дыхание вахтенного матроса донеслось отдаленное уханье филина. Вахтенный встрепенулся и напряженнее стал вглядываться в темноту.
— Том, ты? — скорее почувствовали, чем услышали вопрос сидящие в лодке. Вахтенный подошел к борту и низко свесился через поручни.
— Я буду ждать тебя на берегу, когда сменишься, — услышал он шепот с воды.
— Ладно, уже скоро, — ответил вахтенный и, стуча тяжелыми каблуками, пошел вдоль борта, что-то насвистывая.
— Куда ты? С ума сошел? — спросил его новый вахтенный, когда сменившийся матрос стал привязывать канат, чтобы скользнуть по борту в привязанную лодку.
— Тсс! — шикнул на него тот и, подойдя, помахал у самого его носа ожерельем из бус. — Видал? Там у меня колошка одна… Вернусь до рассвета… Выдашь капитану — морду набью, — добавил он, погрозив кулаком и неслышно переваливаясь за борт.
— Господин капитан, — сказал он рано утром Барберу, — сегодня ночью в мою вахту подходили к кораблю какие-то ситхинцы; говорили они по-английски и назвались американскими матросами. Хотели бы повидаться с вами.
— Почему не прогнал эту сволочь? — крикнул Барбер.
— Прогнал, тотчас же прогнал, — последовал торопливый ответ. — Но они говорят, что есть у них важный колошский секрет к капитану.
— Как дашь им знать? — коротко спросил Барбер, поджимая губы.
— Пошлите меня за чем-нибудь в крепость к русским.
— Ладно, пусть приедут поздно вечером… в твою вахту, — неуверенно и озабоченно проговорил Барбер.
Все шло как по писаному: матрос без провожатых и гребцов поехал по поручению капитана на берег. В крепости он, конечно, не был, но ночных гостей повидал и немедленно вернулся на корабль.
Его вахта наступила поздно вечером. С меньшими предосторожностями, но без излишнего шума прибыли вчерашние посетители. Неподалеку от корабля все время, пока длился необычный визит, крейсировал дозорный бат, но уже не с двумя, а с тремя гребцами. Третьим был отпущенный отцом, хотя и с большой неохотой, Хинк.
— Ну, с чем пожаловали, господа мошенники? — спросил матросов Барбер, не здороваясь.
— А вот с чем, Чарли, — нисколько не смущаясь, ответил тот, которого звали Томом. — Завтра ночью подымай якоря и айда отсюда!
— Ты сдурел? — повысил голос Барбер. — Мне уйти без товара? Выкладывай скорее, в чем дело!
Матросы рассказали о готовящемся нападении на Ситху.
— Ты должен уйти, но дня через два-три можешь вернуться, — сказал тот же Том.
— Негодяи! — вскипел Барбер. — Я сию минуту закую вас в кандалы и сдам властям как изменников!
— Не кричи, Чарли, и не делай глупостей, — спокойно остановил его Том. — Тут, на лодке, Чарли, около твоего корабля крейсирует Рыжий Джон. Он ждет исхода наших переговоров.
Барбер молчал.
— Да, дорогой Чарли, — продолжал Том, — свидетель твоих подвигов жив и здравствует… Ну так что же, уйдешь?
— Ладно, уйду, но я должен получить пять тысяч бобровых шкур, поставил свое условие Барбер.
— Ты получишь тысячу в благодарность и даром, когда вернешься, если только Ситха будет взята.
Барбер задумался, мысленно подсчитывая возможные барыши. Приходя к заключению, что в Китае, на самый худой конец, это все же составит двадцать пять, а то и все пятьдесят тысяч пиастров, он кивнул головой:
— Согласен… Только пусть тойоны пришлют человек пять видных аманатов.
— Не вздумай завтра посылать кого-нибудь в крепость, — предупредили матросы, уходя. — Ситхинцы следят за берегом и, в случае чего, укокошат…
До утра ворочался в своей постели взволнованный Барбер, не находя, как лучше выйти из затруднительного положения. Он не знал того, что крепость оголена и что оставшийся гарнизон в двадцать человек не может оказать сколько-нибудь серьезного сопротивления.
«Что выгоднее, — думал он, — стать на сторону русских, предупредить их и помочь своими сорока людьми и пушками или оставить на произвол судьбы?» А тут еще припутался Рыжий Джон — один недобитый из шести свидетелей его злодеяния, связанного с контрабандой в Вальпараизо и потоплением шхуны со всем ее экипажем.
«Надо разбудить помощника», — решил он в конце концов.
Помощник капитана нашел, что предложение тойонов надо принять, но вместе с тем необходимо соблюсти приличия по отношению к Медведникову.
— Пошлите к нему с письмом эту старую одноглазую сволочь. Старик всюду сует свой нос и слишком много знает… — сказал он и со смехом добавил: Пропадет — и черт с ним!
— Да, вы правы, — согласился Барбер и сел писать письмо коменданту русской крепости.
Некоторое время спустя он вызвал к себе тощего старого матроса, ослепшего на один глаз, и, передавая ему письмо, сказал:
— Отдашь самому господину коменданту и объяснишь на словах, что канаты нам очень нужны, а обменять можем на пшеницу. Да оденься почище, не срами корабля!
Когда дверь захлопнулась за матросом, он опять заговорил со своим помощником:
— С каким наслаждением я бы сам разорил это российское гнездо! Влезли сюда, сами дела не делают и другим мешают. Скрутил бы я тогда в бараний рог всю эту дикую полуобезьянью сволочь с ее тойонами. Через месяц не смели бы у меня и пикнуть!
— Да, если бы не мирные отношения между Англией и Россией, тут можно бы разгуляться по-настоящему, — отвечал помощник, такой же пират и пройдоха, как и Барбер.
Тем временем Кривой спустился в лодку и поплыл к берегу. Ему и в голову не приходило, что две пары зорких глаз неотступно следили за ним.
Неслышно скользя, как два ужа в траве, сопровождали его неутомимые и жаждущие молодецких подвигов молодой Скаутлелт и Хинк. Они подпустили гонца под самую крепость, а когда тот уже почувствовал себя в полной безопасности, к нему подошел Хинк. Матрос выхватил пистолет, однако Хинк опередил его. Он мгновенно вонзил нож в грудь старого матроса.
Скаутлелт нагнулся к матросу, выворотил карманы и, взяв письмо, юркнул с Хинком в кусты.
Через полчаса в бараборе Котлеана американцы читали письмо Барбера и всячески честили его.
Письмо было коротко, оно гласило: «Высокоуважаемый господин комендант, как нам стало известно, на Ситху готовится внезапное нападение. Нам очень нужны канаты. Посланный объяснит, какие и сколько. Обмен на зерно и крупу. С уважением Барбер».
Шумно поздравляли тойоны самодовольно улыбающихся молодых воинов.
— Должно быть, убили одноглазого, — сказал ночью Барбер своему помощнику.
— Несомненно, — согласился помощник. — Туда ему и дорога, а нам спокойнее…
Жалобно пищали блоки, звучно шлепнулся о палубу сильно растрепанный мокрый якорный канат, и не успел еще показаться над поверхностью воды обвитый со всех сторон длинными морскими водорослями и тиной тяжелый якорь, как корабль с поднятыми парусами, резво, без прощального салюта и огней тронулся из бухты.
Проходя мимо неизвестно почему-то затесавшегося здесь под самым бортом бата с двумя гребцами, Барбер увидел на палубе старый испорченный деревянный блок и с сердцем швырнул его в лодку.
Единственные свидетели его ухода Скаутлелт и Хинк, смеясь, подхватили упавший в воду блок и принялись изо всех сил грести к берегу.
* * *
После удушливой, влажной и жаркой летней ночи с тяжелыми сновидениями люди в испарине, в одном белье выбегали из большого двухэтажного здания ситхинской казармы прямо на двор. Растирая до крови следы многочисленных укусов москитов, от которых не спасали ни закрытые окна, ни полог, ни укутывание с головой в одеяло, они с наслаждением вдыхали свежий запах моря. Легкий предрассветный ветерок лениво сгонял с бухты завесу тающего на глазах розового тумана, становившегося все прозрачнее и прозрачнее. Вспыхнув багровым, а затем ярко-золотым блеском, туман вдруг рассеялся и исчез. А в рамке непорочной белизны далеких снеговых гор и бледной бирюзы неба, расточительно играя золотом солнца и ультрамарином воды, широко раскрылась Ситхинская бухта.
Утро обещало повторение знойного, изнурительного, насыщенного грозовой влажностью и редкого в этих местах дня, но пока развернувшаяся картина бодрила и веселила. Быть может, потому, что день был нерабочий, воскресный.
Как только бухта очистилась от тумана, все заметили отсутствие бостонского корабля. Медведников стоял у настежь распахнутого окна и думал: «Опять ушел тайком… Наверное, где-нибудь запахло пушниной. Эдакая падаль! Стоят тут то один, то другой месяцами, выхватывают бобра прямо у нас из-под носа, а подачками тойонам и обменом на оружие портят и цены и добрые наши отношения с колошами… А все-таки жаль, что Барбер ушел. Пшеницу все же надо было бы сторговать у него… Эх, кабы хороший флот да пушки! Ни одного из этих пиратов не пустил бы в бухту!»
Взглянув в сторону верфи, Медведников увидел строившийся крохотный кораблик. Он стоял на берегу, окруженный подпорками. Медведников горько усмехнулся: не такой бы надобно!..
Проснулась спавшая у самой пушки молодая смуглая и почти голая колошка. Она откинула густую гриву спадающих на лицо жестких черных волос. Бросив искоса быстрый взгляд на казарму и заметив Медведникова, она тотчас отошла от пушки и побежала вверх по лестнице.
— Ставь самовар, Марья! — крикнул ей по-ситхински Медведников и усмехнулся: — Опять спала на дворе? Смотри, как изукрасили тебя москиты…
Колошка улыбнулась, обнажая ровные белые зубы. Она совсем недавно приняла крещение, и христианское имя Марья звучало для нее непривычно и смешно.
Через час население крепости разбрелось кто куда: женщины собрались в лес по ягоды, мужчины, вооружившись удочками, направились кто в бухту, кто за лес на речку удить рыбу или просто прогуляться, посидеть, полежать, искупаться. В крепости осталось не более пятнадцати человек.
Напившись по-праздничному чаю с сахаром, с Петербургскими двухгодоралыми сушками, Медведников занялся текущими делами: обошел крепость и убедился в исправности палисада, сошел в пороховой погреб и лишний рад увидел, что, несмотря на тщательную подсыпку снаружи, в погребе недопустимо сыро. Он взял из бочки, выложенной изнутри войлоком, щепотку черного матового крупнозернистого пороха и понюхал. Порох издавал слегка кислый запах.
Пройдя на второй этаж казармы, Медведников отпер крепкий и тяжелый замок у двери пушного склада, перебрал несколько бобровых шкурок, поднес их осторожно к свету, любовно потрогал и положил на место. Заглянул в книги, прочитал несколько записей и вышел. До обеда оставалось еще три часа, и он решил заняться очередным письмом-отчетом…
«Что слышно, высокоуважаемый друг и благодетель мой Александр Андреевич? — писал он Баранову. — Дадут нам помочь или нет? Конечно, у нас в Ситхе теперя спокойно, но и сей день нужна крепкая сила на колош, буде заупрямятся, а пуще на иноземцев. Сам посуди, стоял тут, почитай два месяца, аглицкий мореход капитан Барбер, тот самый, помнишь, что колошского тойона в море утопил. Пришел и из-под самого носа то тут, то там рвет пушнину. Думаю, бобров тыщи три собрал. Платит везде таровато, подрывает нас нарочно. Сукна давал за одного бобра аршин по восьми или по три сертука или халата, подбитых байкою и бумазеей. Надбавляют жестяное ведро, кружки побольше печатных, зеркало вполаршина и более, ножики, ножницы и бисера еще разного горсти по две. Ружье за бобра одно с десятью картузами пороха и свинца, а железа по два и по три пуда валят за одного.
А мы смотри и молчи. Ну, а ноне он ушел, не сказавшись куда.
С хлебом плохо, почитай, все поели. Благодарение создателю, бобра сей год более трех тысяч штук набрали. Присылай за ним скорейше: негоже держать здесь так много — все ведь знают. Корабль кончаем строить. Думаем потом за другой приниматься: надо аглицких мореходов, что приняли на службу, пока чем занять.
А я из Ситхи всех поразогнал. Не сердись, любезный друг Александр Андреевич, спокойно ведь. Ведомость мехам высылаю…»
К полудню стало невыносимо жарко. После соленого рыбного обеда и чаю с сушеными ягодами люди искали тени и валились в изнеможении, где и как попало. Забывались одуряющим, тяжким сном.
Скотник Абросим Плотников, осмотрев по поручению Медведникова телят и пасущихся в лесу коров, устроился под строящимся кораблем. Он только что выкупался, всласть поплавал и, лежа навзничь, внимательно рассматривал пузатое, еще не осмоленное звонкое днище корабля. Развлечения, однако, хватило ненадолго — все тело сковало сладостным изнеможением, и он безмятежно заснул…
Колоши не теряли времени. Не менее тысячи ситхинцев, якутатцев, хуцновцев, небольших отрядов с далеких Шарлотиных островов и разных других, охватив крепость с трех сторон, бесшумно смыкали вокруг нее кольцо. Лестницы и зажигательные материалы были давно приготовлены и тщательно укрыты поблизости от крепостных палисадов.
В непроницаемой густоте леса, в низком кустарнике — всюду осторожно и бесшумно ползли страшные колоши, вооруженные копьями, кинжалами, луками, топорами и ружьями. Лица их, словно окровавленные, были измазаны размокшей от жары красной краской, всклокоченные густые жесткие волосы унизаны вороньими и орлиными перьями и усыпаны пухом. Среди них видны были страшные маски: волчьи морды, свирепые сивучи с громадными клыками, неизвестные миру гигантские жабы и еще какие-то чудовища.
Дремлющие на ветках птицы, вздрагивая от необычного колыхания кустов, стряхивали с себя убаюкивающую дрему и с любопытством, свернув голову набок, одним глазком вглядывались в ползущую массу.
Легко и быстро втягивались отряды колошей в открытые узкие ворота сонной крепости, направляясь прямо к казарме.
Затаив дыхание, с ужасом смотрела на них укрытая короткой тенью казармы русская женщина, у груди которой возился младенец. Вдруг она взвизгнула и без памяти ринулась в дом. Заверещала и другая, тоже с ребенком, и, подхватив младенцев под мышки, они помчались к казарме.
Из отряда нападавших стремительно выбежали двое в звериных масках. Два копья полетели вслед женщинам. Одно задело ребенка. Дикий крик послышался внутри здания. Дверь захлопнулась. Со звоном защелкнулся тяжелый железный засов. Второе копье задрожало, как струна, глубоко вонзившись в толстую доску двери.
Осаждающие открыли беспорядочный ружейный огонь по окнам казармы. Внутри заметались полуодетые люди. Трое мужчин бросились к окнам нижнего этажа, но тотчас упали, сраженные пулями. Остальные кинулись наверх по внутренней лестнице.
— Хорошо идет! Беги на берег, пусть жгут баты! — крикнул Котлеан Скаутлелту и побежал к казарме, где стояла пушка. Рядом с ним бежали молодой Скаутлелт и Хинк. Воинственный клич потрясал стены здания.
Американские матросы уже бросали на тесовую крышу камни, завернутые в пропитанный смолой зажженный мох, но пока без видимого результата.
Отряды колошей продолжали спешно втягиваться в крепость, таща на себе длинные лестницы и зажигательные материалы.
Скаутлелт выбежал из крепости и, находя опасным скопление внутри нее большой массы людей, на ходу приказал валить и жечь деревянные стены.
Колоши, вооруженные топорами, бросились к палисаду. Ожесточенно врубались они в твердые, как железо, дубовые бревна. Вдоль палисада вырастали горы щепы.
— Огонь! — кричали колоши, упоенные начавшимся разрушением. — Огонь!..
Не прошло и пяти минут, как у стен то тут, то там повалил густой черный дым от костров из сухой щепы.
Проснувшийся от криков женщин Медведников приказал двенадцати мужчинам попытаться прорвать кольцо нападающих.
Они побежали с заряженными ружьями по лестнице вниз. Дверь уже трещала под напором колошей, но в тот момент, когда, сорванная с петель, она падала внутрь сеней, раздался залп из десятка ружей. Клеть заволокло густым вонючим дымом…
Вырвавшись из казармы, Медведников подбежал к пушке.
Вместо деревянной пробки из отверстия торчала шляпка большого корабельного кованого гвоздя, слабо забитого неумелой рукой. Выдернув гвоздь, Медведников выхватил из кармана мешочек пороху, засыпал им все отверстие и провел пороховую дорожку до самого края полки.
Затем высек огонь. Веер искр из кремня брызнул на порох…
Резко ахнула пушка, направленная прямо на вход. Громадный заряд давно забитой в нее картечи вязко ударил в массу человеческих тел, заполнявших всю лестницу.
Сбитый с ног откатившейся назад пушкой, окровавленный Медведников не успел подняться, как был пронзен десятком острых копий. Его товарищей Тумакова и Шашина схватили и, уже безоружных, стали колоть и резать ножами.
Тем временем Котлеан со своими воинами ворвался внутрь здания. Комнаты были пусты. Под окнами на полу стонали раненые. На дверях мехового склада висел тяжелый замок.
Пока воины Котлеана вырубали топорами отверстие в дверях склада, молодой Скаутлелт, заметив, что Хинка нет с ними, побежал к лестнице. На верхней ступени лежал упавший навзничь мертвый Хинк.
Не своим голосом взвыл Скаутлелт и бросился обратно. Как разъяренный волчонок, заметался он по комнате, стал добивать раненых ножом Хинка…
Бесстрашно и молча, стиснув зубы, подбежали к нему женщины. Они были так страшны, что Скаутлелт отпрянул в угол и завопил что было мочи о помощи. Женщины подмяли под себя остервенелого волчонка, начали топтать его…
Из-под застрех и окон второго этажа валил дым, показались языки пламени. Котлеан торопливо нагружал колошей мехами, и они быстро убегали из крепости. Когда здание уже все было охвачено огнем, он, наконец, догадался выбрасывать меха прямо с балкона и из окон. Он увлекся до того, что едва успел, уже с опаленными волосами, спрыгнуть с балкона.
Скаутлелт-отец, стоя на пригорке, с которого хорошо были видны и крепость и берег бухты, в волнении облизывал сухие, потрескавшиеся губы, боясь пропустить нужный момент. Многочисленные столбы дыма в разных местах крепости заставили его кличем дать сигнал к штурму…
Множество набитых до отказа колошами батов, скрытых за мыском, черпая воду бортами, усеяли весь берег бухты. Они опоздали и в досаде забавлялись тем, что, встретив пасущихся под крепостью коров, пронзали их копьями. Коровы неловко и тяжело подпрыгивали и падали на землю. Жалобно мыча и вытягивая набок длинные языки, они тщетно старались лизнуть рану. Небольшой отряд занялся поджогом верфи и стоявшего в ней корабля.
Плотникова под кораблем уже не было. Разбуженный выстрелами из пушки, он увидел дым над крепостью и побежал было тушить пожар, но, узнав издали колошей и поняв, что случилось, побежал к лесу.
Опьяненные победой, в дыму и пламени, колоши быстро уходили из крепости к берегу, таща на берег, к своим батам, пушки, ружья, разный домашний скарб, продовольственные запасы и связки бобровых шкурок. Многие еще оставались в крепости. Пробегая от одного здания к другому, они искали, чем бы еще поживиться.
Вдруг дрогнула земля, и высокий столб дыма, пламени и камней поднялся к небу. Раздался густой протяжный гул взрыва. Это взорвался пороховой погреб Ситхинской крепости…
С наступлением темноты Плотников подобрался ближе к развалинам догоравшей крепости и здесь, в лесу, встретил двух беглецов. Это были заболевший и оставшийся в крепости русский партовщик Батурин и девушка алеутка с ребенком на руках. Вместе с ними он ушел в горы, в глубокую лесную чащу.
Целую неделю, блуждая по лесу, беглецы питались одними ягодами да кореньями. Спасения, казалось, не было…
На восьмой день по лесу и по горам гулко прокатился грохот двух пушечных выстрелов.
Сломя голову, задыхаясь от волнения, Плотников сбежал вниз и увидел, что в бухту входит знакомый ему русский корабль, кажется, «Екатерина».
— Не трогайтесь с места, чтобы вас можно было найти! — крикнул он своим спутникам и, спотыкаясь и падая, направился к берегу, но, наткнувшись на шестерых колошей, изменил направление и побежал к мысу, подавая кораблю сигналы руками и громкими, как ему казалось, но слышными только ему самому криками. Он долго метался по мокрому песку мыса взад и вперед и упал без чувств, когда заметил что с корабля спускают вельбот.
Очнулся Плотников на бостонском «Юникорне», пленником Барбера.
С помощью ситхинских, русских и английских слов он объяснил капитану, что случилось в Ситхе. Самое главное было понято Барбером; один отряд был послан им в лес за спутниками Плотникова, другой — в крепость, обшарить пожарище.
Из крепости удалось вывезти только пять бесформенных, покрытых копотью медных слитков — остатки недавно еще грозных пушек.
Прошел день, другой… Барбер ждал и все более волновался, недоумевая, не зная, что делать. Беглые матросы бесследно исчезли, тойоны тоже. Крепость пуста, обещанных мехов никто и не думает доставлять…
«Оставаться, — думал он, — опасно: дикарей много, они вооружены, упоены победой, у них где-то поблизости целая флотилия батов… Уйти с пустыми руками — досадно. Что делать? Рискнуть высадиться?»
Рассеянным взглядом смотрел он на развалины крепости, на безлюдный берег и вдруг увидел: из-за мыса вышел большой бат с хорошими гребцами и направился прямо к кораблю.
Бат подошел к борту. Сидевший в нем Котлеан спросил по-ситхински, есть ли на корабле русские. Потребовал выдать их, если капитан хочет сохранить добрые отношения.
Ни один мускул не дрогнул на лице Барбера. Он приветливо улыбнулся гостям, сказал, размахивая руками:
— Нет у меня русских, нет! Поднимайтесь, дорогие гости!
Тойоны направили бат к трапу.
«Будь что будет», — решил Барбер, провожая гостей в свою каюту, и выразительно посмотрел на помощника.
Секундная задержка перед дверью каюты оказалась для гостей роковой: на них навалилось сзади несколько человек, и через минуту, связанные по рукам и ногам, оба тойона лежали на палубе.
Услышав возню на корабле и заглушенные крики тойонов, колоши на бате поняли, что случилось, и торопливо отвалили от корабля.
Всю ночь на «Юникорне» никто не смыкал глаз, люди с запалами наготове стояли у пушек. Фонари у бортов освещали воду и выплывавшие из черной глубины стайки переливавшихся серебром рыбешек.
Наступило утро. Сквозь редкий туман видно было, как вдоль берегов бухты крадутся юркие баты. С корабля их насчитали больше шестидесяти.
Барбер мрачным взглядом окинул бухту. Обе половины лодочной флотилии скобками, одновременно и ровно, как на параде, загибали свои фланги за кормой корабля. Так красиво и согласованно проводить сложный маневр окружения могли только бывалые охотники на бобров, привыкшие к массовым действиям. Но Барберу было не до любования красивой картиной. Матросы-канониры стояли в боевой готовности на своих местах у двадцати пушек. Барбер приказал вытащить тойонов на палубу, а затем потребовал от них немедленно приостановить нападение…
Кольцо смыкалось. На батах, заметив тойонов, подняли короткие весла, и продолжительный вой протяжно прокатился по бухте.
Перед похолодевшими от ужаса тойонами матросы продергивали через ноки рей длинные тонкие, извивающиеся, как змеи, веревки с мертвыми петлями на концах. Тут же в полном молчании подготовлялись два смоляных факела предстояла пытка.
Скаутлелт невольно втянул голову в плечи и крепко стиснул зубы. Но Котлеан стоял, гордо выпрямившись, и на предложение Барбера отрицательно покачал головой…
Лодки сближались. Матросы проверяли наводку и ждали команды.
Воинственный крик с лодок повторился. Нападающие видели, как тойонов подтащили к реям и стали надевать им на шею петли. Изо всех сил налегая на весла и теряя строй, баты стрелой летели к кораблю.
Двадцать выстрелов потрясли до основания корабль и слились в протяжный гул. Громадные клубы черно-серого едкого дыма от самой воды до мачт скрыли бухту. Когда же дым отнесло немного в сторону, тойоны увидели в разных местах разбитые ядрами и картечью баты, тонущих людей. Однако десятка два смельчаков успели подплыть вплотную к закрытому дымом кораблю и начали топорами прорубать обшивку корпуса, не обращая внимания на оружейный огонь с палубы почти в упор.
«Пожалуй, гибель», — мелькнуло в голове Барбера, и он еще раз бросил взгляд на длинную глубокую бухту… И вдруг морщинки на его лице разбежались, разгладились. Указывая своему помощнику на вход в бухту, он крикнул:
— Смотрите! Это капитан Эббетс!
В бухту на всех парусах входили два корабля.
Сигнальщик быстро передавал сигналами под диктовку Барбера:
«Внезапное нападение дикарей на корабль! Заприте выход из бухты! Приготовьте пушки!»
Однако загораживать выход из бухты не пришлось: колоши, преследуемые ружейным и орудийным огнем, в беспорядке спасались к берегу и бежали в лес. Капитан Эббетс все же не утерпел, выпалил по двум подвернувшимся батам, потопил их, а людей забрал в плен…
Неожиданное появление двух кораблей сломило сопротивление тойонов. Они приняли условие Барбера: согласились выдать ему три тысячи бобровых шкурок, всех живых пленников взятой крепости и десять знатных аманатов.
Сильный отряд вооруженных матросов доставил к берегу переводчика с распоряжениями от тойонов.
Медленно и неохотно выдавали колоши пленных и с большим сожалением расставались с бобрами. Доставленные на корабль женщины рассказали, кто из мужчин жив и где находится.
С бобрами у колошей вышло совсем плохо: в Ситхе захватили они около двух тысяч шкурок, а отдать пришлось три.
Получив выкуп, Барбер отпустил тойонов и ушел на Кадьяк.
Здесь, войдя в гавань, он приказал подтащить к бортам все свои двадцать пушек и тотчас же отправился к Баранову, который успел уже из окна рассмотреть воинственные приготовления капитана «Юникорна» и был весьма удивлен.
Нудно, через кадьякского, плохо знающего английский язык переводчика шел хвастливый рассказ Барбера о том, как он, рискуя собственной жизнью, спасал доставленных из Ситхинской крепости пленников. Рассказ показался Баранову весьма подозрительным, а приход двух американских кораблей к уничтоженному главному опорному пункту русских встревожил его.
— Только дружественные, сердечные отношения наших держав, дорогой начальник, — ораторствовал Барбер, — заставили меня пойти на такое рискованное дело. Я каждую минуту без нужды мог погубить и свой корабль и самого себя. Поссорившись из-за этого смертельно с колошами, я лишился возможности закупить пушнину, ради которой сделал больше пятнадцати тысяч миль. Я совсем разорен, я истребил все свои съестные запасы.
За пленников Барбер потребовал выкуп. Баранов возмутился.
— Я хотел бы, господин капитан, получить двух отпущенных вами тойонов зачинщиков всего этого дела и изменников, а выручить своих людей сумел бы тогда и сам. Сумма, назначенная вами, ни с чем не сообразна, и согласиться на нее я не могу.
— В таком случае я их всех увезу с собой, — резко заявил Барбер.
— Увозите, но помните, что о похищении вами подданных российского государя императора тотчас же будет сообщено вашему правительству, и мой император потребует удовлетворения за нанесенное вами оскорбление его державе… Вы что, воюете с Российской империей? Вы утверждаете, что спасли моих людей, а держите их у себя. Они пленники, по-вашему? На вашем корабле наготове двадцать пушек. Вы поступаете всегда так, входя в гавань дружественной державы?
Баранов зашагал взад и вперед по комнате.
— Мои условия таковы, — сказал он, останавливаясь. — Вы сегодня же добровольно спускаете всех на берег, не ожидая выкупа. От меня вы получите под расписку пушным товаром не на пятьдесят тысяч рублей, а на десять. За прокормление и доставку двадцати людей этого достаточно.
Наступило молчание.
— Я жду, — продолжал Баранов, видя, что Барбер молчит, — и буду ждать до вечера…
— Передай на батарею, — добавил он, кликнув служителя, — держать прибывший корабль на прицеле.
Заметив, что служитель собирался что-то сказать, Баранов топнул ногой:
— Молчать! Делать, как приказывают!
Баранов и сам знал: на батарее не было ни одного ядра по калибру пушек.
Едва кивнув головой, не подавая руки и не говоря ни слова, Барбер стремительно вышел…
Несчастья сыпались на Баранова: гибли люди, гибли суда, гибла пушнина. Голод, нужда в самом необходимом, недостаток людей, злоупотребления и бесчинства служащих, отсутствие помощи из Петербурга — ничто не могло сломить энергии этого человека. А вот Ситха, эта взлелеянная годами и осуществленная, наконец, мечта многих лет, Ситха, оплот русских владений на берегу Америки и форпост решительного движения к югу, сожжена дотла…
— Я награжден! — кричал, бегая взад и вперед по комнате, Баранов, только что получивший известие о новой высочайшей награде. — Я награжден, а Ситха потеряна… Нет, я должен или умереть, или вернуть Ситху!
Он сел за стол и опустил на руки голову. Слезы катились по давно не бритым щекам. Не везло этому энергичному и умному русскому самородку. Из забытого Каргопольского захолустья, бросив любимую семью, он едет в 1780 году искать счастья в далекую Сибирь и через семь лет становится собственником двух заводов, но заводы идут плохо. Затруднения Баранова видит Шелихов. Такие люди ему нужны, но работа на американских островах не соблазняет Баранова.
Десять лет спустя он разоряется: заводы дают убыток, торговая пушная фактория в Анадырске разграблена. Надо обеспечить далекую семью… И он становится правителем шелиховских промыслов в Америке.
Старый галиот «Три святителя», на котором шел Баранов, разбит, имущество погибло, запасы тоже. Нападают аляскинцы, приходится спасаться бегством. Наступает суровая вьюжная зима. Питались травами, кореньями, китовиной, раковинами. Жили в землянке. Баранов не унывает. «В большие праздники, — пишет он впоследствии, — роскошествовали — кушали затуран. На чистый понедельник выкинуло часть кита. Тем и разговелись. Соль варил сам прекрасную, белизною подобную снегу и тою иногда рыбу, иногда мясо нерпичье и сивучье осаливал… Я хочу подарками привязать к себе диких американцев… При первом шаге ожесточенная судьба преследовала меня здесь несчастиями; но, может быть, увенчает конец благими щедротами или паду под бременем ее ударов. Нужду и скуку сношу терпеливо и не ропщу на провидение, особливо тут, где дружбе жертвую…»
Перед мысленным взором Баранова пронеслись длинной вереницей двенадцать лет тяжелых испытаний. Главный правитель российских владений в Америке, «коллежский советник и кавалер», положив лысеющую голову на руки, долго сидел перед столом, не вставая и не шевелясь…
В этот же день все спасенные Барбером люди были доставлены на берег. Вместе с ними прибыл помощник Барбера с полномочиями принять пушнину.
Расспросы спасенных вполне убедили Баранова в том, что Барбер сыграл роль предателя, и он искренне сожалел, что не мог разделаться с ним. Так же, по-видимому, расценивал обстановку и Барбер, и уже к вечеру «Юникорн» снялся с якоря и ушел к Сандвичевым островам.
Успех ситхинцев вскружил голову всем соседним племенам, а слухи о слабости россиян, усердно раздуваемые капитанами иноземных кораблей, сулили легкий успех.
По всему берегу, от островов Шарлотты до самого Кадьяка, гибли «по неизвестным причинам» русские корабли, учащались нападения, бесследно исчезали промышленные партии. Наконец неожиданно пал сосед Ситхинской крепости.
С потерей Ситхи пропали мечты Баранова о дальнейшем продвижении к югу и заселении еще не занятых пространств до реки Колумбии и далее до калифорнийских границ колоний Испании.
О кораблях, которые должна была выслать компания из Петербурга, ни слуху ни духу. Неизвестно, вышли они или еще лишь снаряжаются? А может быть, вообще не будет никаких кораблей?..
Баранов все-таки надеялся на помощь. Но не стал ждать ее и приступил к осуществлению собственного плана возвращения Ситхи.
6. У людоедов Маркизовых островов
Всю ночь под одним только фок- и формарселем «Надежда» медленно и осторожно подходила к Нукагиве. Уже с четырех часов утра все были на палубе и с любопытством вглядывались в туманные еще очертания незнакомых берегов. Первая, открывшаяся в десять часов утра бухта около мыса Крегик-лифт не понравилась: белые как снег буруны бились у ее берегов — с высадкой на берег было бы трудно.
Перешли к другой, заранее условленной с Лисянским — Анне-Марии, по местному — Тойогай. Была, однако, прежде всего необходима тщательная разведка.
На двух ялах, впереди корабля, отправились лейтенант Головачев и штурман Каменщиков с шестью гребцами на каждом, все вооруженные ружьями, пистолетами и саблями. С обоих ялов производился промер глубины.
— Головачев, вспомни обо мне, когда будешь хрустеть на зубах у людоедов! — кричал Толстой.
— Шутки в сторону, — сказал, свесившись за борт, Левенштерн, присмотрись там хорошенько к девушкам и привези на корабль двух-трех людоедок.
— Нашел о чем просить! — вмешался Ромберг. — Лучше узнай, есть ли здесь вино, и какое именно.
— И в какие игры здесь играют в карты, — добавил Толстой.
— Погодите, погодите, — смеялся вооруженный до зубов Головачев. Слишком много поручений, со всеми не справлюсь…
Десяток подзорных труб обшаривали берег и провожали ялы.
— Идут, идут! — вдруг заволновался младший Коцебу, пальцем указывая, куда надо смотреть. — Вон там, под теми высокими деревьями.
Действительно, что-то как будто шевелилось в тени у самого берега.
— Лодка! Ей-богу, лодка! — закричал неистово Коцебу.
От берега отделилась лодка с несколькими людьми и устремилась навстречу Головачеву.
— Какие отчаянные, идут вовсю прямо на Головачева, — удивлялись на палубе.
— Однако и Головачев… смотрите, бросил промеры и пошел навстречу. Неужто начнется схватка?.. Как интересно!
— Ах, вот что, на лодке подняли белый флаг… Откуда же дикари знают о существовании такого европейского сигнала мирных намерений?
— Сходятся… Сошлись… Поразительно, один из дикарей поднимается в лодке. Протягивает руку Головачеву. Головачев подает свою.
— Разговаривают! — заорал Коцебу. — Ха-ха-ха, лейтенант Головачев заговорил по-нукагивски! А нукагивец переходит, ей-богу, переходит в шлюпку к Головачеву!
Трубы впились в шедший на всех веслах ял; за ялом следовала лодка с дикарями. Что это, рога, что ли, у них на головах?
Ял подходит… Голый, с головы до пят татуированный дикарь сидит рядом с Головачевым, и оба оживленно разговаривают. Все устремляются к трапу, один только Крузенштерн сохраняет самообладание и продолжает стоять на шканцах. Дикарь с Головачевым быстро проходят мимо Коцебу, направляясь прямо к капитану.
Однако этот людоед мало похож на тех, что в лодке, он ничем не отличается от европейцев. Вот разве только татуировкой на лице. Те, в лодке, великаны, кожей темнее, у них черные волосы подняты с висков на макушку, свернуты в шарики и стянуты белыми и желтыми ленточками, завязанными бантом. Мускулатура, как у атлетов. Но, может быть, это особая раса или сословие гребцы, а гость — их начальник, не гребец, а вельможа?.. Подходит к капитану, что-то говорит. Капитан улыбается, протягивает руку и что-то отвечает.
— Говорят по-английски, — шепчет брату забравшийся вперед Отто Коцебу. — Он назвал себя. — Отто пятится назад и говорит разочарованно: Эдуард Робертс, англичанин… Стоило сюда плыть целый год, чтобы увидать англичанина.
— А почему же он татуирован?
— Очевидно, здесь его онукагировали.
— По-местному меня величают Тутта-Будона, господин капитан, — сказал англичанин. — Я женат на внучке короля этих островов. А ранее, до того как случайно восемь лет назад попал сюда, служил матросом на купеческих кораблях и бывал в Ост-Индии, в Китае и даже в Санкт-Петербурге.
Гардемарины Коцебу были разочарованы. Ничего романтического: какой-то беглый английский или американский матрос.
Иначе оценивал мысленно эту встречу Крузенштерн:
«Услужлив, вежлив, ссылается на рекомендации каких-то неизвестных капитанов бывших здесь случайно судов, зять короля, а следовательно, особа с весом…»
И действительно, не прошло и десяти минут, как «Надежда» с Тутта-Будона за лоцмана двинулась вперед и к двенадцати часам спокойно стала на якорь в бухте Тойогай. Бывшие в лодке гребцы выгребали за «Надеждой» до самого якорного места. Оказалось, что это вовсе не гребцы, а просто спутники Робертса и что среди них есть даже родственники короля. Гости были приглашены на палубу и щедро одарены материями на набедренные повязки и ножами из железных обручей, выкованными кузнецом «Надежды».
В течение какого-нибудь часового переезда Тутта-Будона успел мастерски провести внутриполитическую интригу против другого случайно оказавшегося на острове европейца — француза Джона-Джозефа Кабри, по местному — Шоу-Цгоу.
— Бойтесь его, — предупредил англичанин, — он нехороший человек.
— Ишь ты! — смеялся Толстой. — И здесь неустанно воюют англичане с французами.
Приехал и сам «нехороший человек» — Кабри. Крузенштерн на всякий случай и его оставил на корабле, чтобы пользоваться услугами обоих. Офицеры стали работать над примирением этих единственных двух на Нукагиве европейцев, а Толстой — ссорить; так казалось ему интереснее.
От Робертса и Кабри узнали, что наибольшим влиянием на островах пользуются жрецы, таинственная и грозная власть, имеющая к тому же право налагать общеобязательные для всех без исключения, включая и самого короля, запреты — табу. Власть короля была, в сущности говоря, властью наиболее богатого и влиятельного человека, имеющего достаточное количество приверженцев. Островитяне, а их было тысяч пятнадцать, чувствовали себя довольно свободно, каждый был полным хозяином своей усадьбы и семьи. Женщина не была порабощена, хотя на нее и налагались особые табу, не распространявшиеся на мужчин. Работать женщинам приходилось больше, чем мужчинам, так как на них лежало домашнее хозяйство и рукодельные работы. Основою питания служили плоды хлебного, кокосового и бананового деревьев, а они не требовали никакого ухода и росли повсеместно. Для искусственного насаждения достаточно было вырыть небольшую яму и сунуть в нее ветвь растущего дерева. Все остальное довершала природа.
Мужчины большую часть дня лежали в полной праздности на циновках, в тени деревьев; от скуки плели не торопясь веревки, корзинки из тростника или готовили и тщательно отделывали предметы вооружения.
Война была одним из любимых занятий мужчин, хотя жрецы часто запрещали ее своими табу. Она открывала нукагивцам возможность полакомиться человечиной. Во время голода, вызванного засухой, или в дни торжественных военных праздников по случаю победы они ели человеческое мясо убитых или пленных врагов.
Кабри, как оказалось, был завзятым воином и не раз получал свою долю человечины за военные доблести, но он усиленно отнекивался и горячился, когда на корабле высказывались подозрения в людоедстве.
— Я не отрицаю, — говорил он, — свою долю человечины я получал не раз, но всегда выменивал ее на свинину, она вкуснее.
— Как же вы можете их сравнивать, если не ели? — ехидно спрашивали его.
— Предполагаю, только предполагаю… — отвечал француз.
Откровенного признания не мог выудить у него и Толстой.
Вслед за европейцами на корабль приехал и сам король Тапега Кетонове в сопровождении восьми человек свиты — рослых, крепких людей. Сам скромный, молчаливый и важный, он долго спокойно и безразлично относился ко всему окружающему. Однако тотчас же вышел из равновесия, как только увидел в каюте капитана большое зеркало. Пошарив рукой за рамой и убедившись, что видит самого себя, он протягивал к зеркалу руки, ухмылялся, изгибался во все стороны, поворачивался и боком и спиной и с удовлетворением рассматривал детали своей татуировки. Ею он был покрыт, как щегольской, с иголочки одеждой, с головы до пят, и как будто даже не казался голым.
Насилу при помощи Робертса Крузенштерну удалось оторвать короля от зеркала и увести в кают-компанию, где был подан чай. Сладкий чай понравился, но пить его король не сумел, сколько ни старался подражать смеющимся офицерам. Смеялся и сам король, когда они пытались поить его с ложечки. Он, однако, заметил, что в чай сыплют ложечкой белый порошок и, как только его попробовал, с необыкновенной быстротой стал черпать из сахарницы, пока его не остановил англичанин Робертс. Это было тем более удивительно, что на острове сахарный тростник рос в изобилии.
Король выпросил себе у капитана бразильского попугая, пару больших пестрых кур и петуха, объяснив, что куры у него на острове очень мелки, а хочется иметь таких же больших. С удовольствием, но без жадности принял он также в подарок штуку пестрой материи и зеркальце — для себя и для королевы, которой послали и немного сахарного песку. Складные ножи вполне удовлетворили остальных.
Не успели гости отвалить от корабля, как от берега отплыла целая партия каких-то рогатых голов. Нетрудно было догадаться, что это головы нукагивцев, плывущих с какими-то съестными припасами. За первой в некотором расстоянии плыли другая и третья партии.
Вскоре при оглушительно громких возгласах: «О! ай! эй! оу!» — пловцы открыли бойкую торговлю кокосовыми орехами величиной с человеческую голову, пудовыми кистями бананов, редкими по величине шарами хлебного дерева и сахарным тростником. Разменной монетой служили обрезки ржавых железных обручей. За такой обрезок давали пять-шесть больших кокосовых орехов или две-три кисти бананов.
Бойко шло дело и у прибывшего на корабль мастера-татуировщика. Вооруженный топориком, очень похожим на жезл, он легко, как бы играя, насекал на подставляемых матросских спинах, руках и ногах красивые симметричные узоры, примазывая кровоточащие разрезы различного цвета красками из висящей у бедра хитро сплетенной корзинки.
В азарте торговли никто не заметил, как к кораблю подплыла еще одна партия пловцов, человек в сорок, — это были нукагивские девушки…
Вечером Крузенштерн снял запрещение личных покупок. До сих пор закупать поручено было только продовольствие и только Ромбергу и Эспенбергу, что было совершенно правильно, ибо азарт и легкомысленная конкуренция могли испортить все дело. Между тем у любителей разгорелись глаза, когда островитяне, кроме продовольствия, стали предлагать искусно отделанные пики, дротики, палицы из черного или красно-бурого твердого дерева, головные уборы, ожерелья, белые и желтые ткани из коры, прикрывающие наготу нукагивских женщин, ювелирно изукрашенные черепа врагов, разнообразные украшения из раковин. Особенно озабочен был покупками такого рода посол, имевший специальное поручение от Академии наук и императорской кунсткамеры. Он просил натуралистов помочь ему; дал отдельный приказ егерю и возлагал особые надежды на Шемелина, для чего отпустил его в глубь острова.
Прихватив Курляндцева, Брыкина, егеря и вооружившись для храбрости пистолетами, Шемелин набрал изрядный запас русских и английских железных изделий и смело вступил на землю «человекоядцев». Проводником у них служил, по рекомендации Робертса, саженного роста молодой детина — искусный пращник Мау-Гау, совершенный тип нукагивского геркулеса, имевший некоторое отношение или причисляемый к составу королевской семьи. Мау-Гау был замысловато и художественно татуирован.
— Это очень интересное явление, этот пращник, — вполголоса рассказывал спутникам Шемелин. — Он замещает короля в его отсутствие, если оно продолжается больше суток, но не как глава власти, а как глава семейства, блюститель семейного очага и временный муж королевы.
— Да, гладиатор, как посмотришь, — вздохнул академик живописи Курляндцев, не отличавшийся крепким здоровьем.
— Он именуется хранителем священного огня и избирается из самых сильных и храбрых воинов, — добавил Шемелин.
— И, наверное, большой любитель военного блюда, — усмехнулся Брыкин, намекая на людоедство.
Тем временем Мау-Гау по указанию егеря Ивана без промаха поражал на громадном расстоянии указываемых ему птиц и четвероногих. Тяжелые камни со свистом летели из его пращи и скрывались из глаз.
* * *
Пришла «Нева», стала на якорь неподалеку. Лисянский тотчас приехал на «Надежду». После завтрака Крузенштерн предложил нанести визит королю, и они вместе отправились на остров.
Королевская ставка находилась в долине, в одной миле от берега. Вела туда, собственно говоря, не дорога, а быстро текущий неглубокий ручей с ровным песчаным дном. Пришлось идти, шлепая по воде, босиком. Впереди далеко тянулся уходящий понемногу вверх лес кокосовых и хлебных деревьев, пропадая в дымке далеких гор. Затабуированные деревья были отмечены у комлей ожерельями-плетушками, с них свисали плоды тучного урожая. Кокосы местами сменялись панданами со странными ветвями, усыпанными питательными орехами, алевритами с масляными орехами, гардениями с их одуряющими цветами, акациями, гибиском. Кругом шумели живописные водопады, низвергавшиеся с высоких скал. Струи воды, ударяясь о подножья в виде глубоких каменных чаш, разбрызгивались мельчайшей пылью. Многоголосым свистом и чириканьем пернатые словно пели гимн расточительной, разомлевшей на солнце природе.
Король гостеприимно встретил моряков шагов за сто до своего жилища, а затем представил всю свою семью, включая маленькую внучку. Это было знаком особого внимания, потому что видеть ее могли только мать, бабка и ближайшие родственники. Предусмотрительный Лисянский торжественно и серьезно принял ребенка на руки, осторожно покачал и, положив в постельку, прикрыл его подарком — роскошным кружевным покрывалом. На него с умилением смотрела мать — принцесса из соседнего племени таи-пи, с которым путем брака заключен был вечный мир. Она была привезена сюда по воде через глубокий залив, и потому залив находился под безусловным табу.
Некрасивый, со свисающими усами и большим ртом, с непомерно широкой грудной клеткой и немного кривыми ногами, Лисянский, по-видимому, казался ей олицетворением какого-то недосягаемого, особо отмеченного сверхчеловека.
Гости получили разрешение осмотреть на острове все, что их интересовало, и даже Морай — место захоронения останков умерших, хорошо набальзамированных кокосовым маслом. Морай считался еще и обиталищем духов умерших, мстительных и страшных божеств различных рангов.
Смрад гниющих тел распространялся под душными темными ветвями далеко за пределы Морая. Трудно и тошно было дышать этим неподвижным, густым в парном воздухе запахом разложения. Однако у самого Морая обитал главный жрец с семьей, которому, очевидно, этот запах не был противен.
Гости остановились у входа в Морай, устроенного в виде низенького сарайчика, в который вела крохотная лазейка. На каменном помосте лежали груды костей тех несчастных, которых приносили в жертву, предавая тела их гниению. В воздухе стоял неумолкаемый звон носящихся тучами мух и разных насекомых. Подле груды гнили на подножье возвышался идол с толстым животом, как бы утучненный кровью человеческих жертв. Направо виделась «тапапау» погребальница с разлагавшимся трупом и идолами, вокруг которых на земле были разбросаны в изобилии кокосовые орехи, плоды хлебного дерева, гниющая рыба и трупы заколотых для пира собак.
А на темном фоне высоких гор, окаймленных играющими на вечных снегах золотыми лучами солнца, сквозь купы свежей яркой зелени, с вершин и обрывов черных утесов неподвижно свисали десятки голубовато-белых полотнищ огромных водопадов. Стремительно прыгая по скалам и как бы утомясь этой скачкой, они вдруг бессильно повисали над бездной, казалось, беззвучно падали туда с головокружительной высоты, чтобы снова, далее начать свою безумную скачку по камням и обломкам окал, а затем, успокоившись, в мощных потоках слить свою буйную воду с глубокими водами лазурно-прозрачных, прохладных горных озер.
* * *
Капитаны условились выйти в море, как только будут закончены работы на кораблях и пополнены запасы пресной воды. Считанные дни оставались до отплытия.
Неприветливо и неуютно стало в бухте Тойогай. Природа продолжала расточать свои ласки, но их никто не замечал, щедрое солнце согревало и баюкало, но берега опустели. Навещали корабли почему-то еще более усердно только сумрачный Робертс и обидчивый, вертлявый Кабри.
Завизжали плотничьи пилы, старательно завозили по борту длинными кистями, покрывая его до ватерлинии светлым тиром, маляры; застучали своими деревянными молотками конопатчики, ища щелей и заливая их кое-где составом из твердой смолы, клея, масла и серы, не распускающейся от жары. Матросы смолили канаты, еще и еще раз просушивали паруса: корабли готовились к отплытию.
В день отплытия легкий ветерок с утра зарябил гладкую синеву бухты. Корабли подняли якоря. «Нева» медленно потянулась на верпах вперед, к узким воротам залива, за ней, подняв паруса, устремилась «Надежда». Внезапно ветер упал, и «Надежда», подхваченная течением с моря, понеслась на мрачные, зловеще черневшие утесы, у подножия которых пенилась кружевная полоска бурунов. Едва брошенный тяжелый якорь достиг дна, как корабль резко остановился — почти вплотную к скалистым утесам. Тучи птиц, вспугнутых близостью людей, с воплями поднялись со скал, закружились над кораблем. Казалось, спасения нет… еще минута, еще немного, каких-нибудь десять сажен, и корабль разобьется об острые каменные стенки, уходящие отвесно в глубокую воду.
Спускаясь по невидимым с корабля уступам, делая отчаянные прыжки, с луками и копьями в руках, к воде устремились десятки голых дикарей. Они орали, размахивая оружием. Вот сорвался в воду один, другой, третий. С «Невы» загремел пушечный выстрел. Пущенная с «Надежды» ракета, обдав змеиным шипением и дымом стенки утесов, сотней палящих огней разорвалась над головами дикарей. Это отрезвило людоедов, бросившихся врассыпную подальше от корабля.
К «Надежде» помчался спасательный катер «Невы». Матросы изо всех сил налегали на весла. «Надежда» медленно дрейфовала к утесам — каждое колебание волны отнимало несколько вершков. На палубу упал десяток легких, по-видимому отравленных, искусно и красиво оперенных стрел.
С завистью смотрел экипаж «Надежды» на «Неву», уже одевавшуюся в блистательные одежды парусов. Они тотчас же наполнились ветром, и вскоре «Нева» скрылась в туманной дымке моря.
Два катера непрерывно завозили верпы, на них «Надежда» оттягивалась от опасных скал. Команда выбивалась из сил в борьбе за каждый вершок. Наконец верп был завезен уже почти к самому выходу из залива. Подняли якорь. Бодро зазвучала на этот раз радостная команда:
— Разруби шпиль и кабаляринг!.. Убирай буйреп на место!..
Увы, неожиданный резкий порыв ветра опять неудержимо прижимает «Надежду» к утесам.
— Дрейфует! — в ужасе кричит Ратманов.
Крузенштерн бледен, но спокоен.
— Все наверх! — отдает он команду вполголоса.
Запела боцманская дудка.
— Руль под ветер!.. Тяни брамсель на подветренной стороне!.. Крепи! командовал Крузенштерн.
— Руби кабельтов! — вдруг закричал он во весь голос.
Острое лезвие топора сверкнуло на солнце, и отсеченный конец каната мгновенно юркнул в воду, к лежащему на дне верпу. Корабль вздрогнул и остановился как бы в нерешительности.
— Развязывай паруса!.. Отдай!.. Долой с реев!.. — снова раздалась уверенная команда, и «Надежда» рванулась к выходу из бухты. Попутный ветер гнал ее в открытое море.
Слишком поздно на корабле спохватились: а где катера? Они безуспешно боролись с волнами и течением, временами совсем пропадали из виду… И опять вопит боцманская дудка.
— Ложись в дрейф! — командует Крузенштерн.
И снова «Надежда» ложится в дрейф. Вызвавшиеся охотники на большом восьмивесельном катере отваливают обратно в бухту. Еще два часа томительного ожидания, и громким радостным «ура!» команда встречает своих товарищей… Вернулись! Спасены!
Одного только Резанова не волновало все, что происходило на корабле. Он лежал в своей каюте с высокой температурой в жестоких приступах лихорадки. Вечером, очнувшись, он прислушался. Нет, это ему не почудилось: кто-то выл на корме, выл протяжно и долго, как собака перед покойником.
Это был француз Кабри. Стоя на каких-то ящиках на корме, смотрел он, не спуская глаз с далекого берега, на постепенно исчезающую из глаз полюбившуюся ему новую родину и выл без слез.
Кабри упустил момент, когда мог прыгнуть с корабля и вплавь добраться до берега, а пуститься в бурные волны на брошенной доске, как это делали туземцы, побоялся. И вот он плыл обратно с белыми и к белым, возвращался к их жизни, но это его совсем не радовало.
Безутешный вой Кабри надрывал душу, но слышали его только Резанов да вахтенные — измученная команда корабля повалилась спать еще до наступления темноты.
7. Пути разошлись
Становилось все жарче и жарче, а от налетавших бурь с дождями было так сыро, что ни одежда, ни белье не просыхали. Шквалы безжалостно рвали паруса, их приходилось заменять совершенно новыми: хотя и вынужденно, но чем дальше, тем все чище и наряднее становилась «Надежда».
Подходили к экватору, появились тропические птицы. Благодаря дождям до отказа наполнились водой опустевшие было бочки и возобновилось купанье в растянутом брезенте. Все томились, однако, от одуряющей жары. Люди больше лежали раздетые в каютах, устраивая опасные сквозняки. За столом обычно пустовало много мест. Разговоры не вязались, от пищи отворачивались.
Подавленное настроение постепенно овладевало всеми. Никто не интересовался близкими уже Сандвичевыми островами и, когда на горизонте показалась чуть ли не самая высокая гора в мире — Мауна-Ро, никто, кроме Тилезиуса и егеря, не вышел на палубу посмотреть издали на это чудо природы.
Крузенштерн в большой тревоге заторопился на север еще настойчивее: «Надежда» опять потекла.
Он решился только коснуться островов, не бросая якоря, но все же сделать попытку запастись продовольствием, лечь в дрейф у острова Овиги и пушечным выстрелом известить о своем прибытии. От берега отделилась и быстро направилась к кораблю лодка, с которой изголодавшиеся люди не сводили глаз. Увы, собственник лодки, отец сандвичанки, предложил купить или временно взять на корабль его дочь, девочку лет тринадцати-четырнадцати, похожую на ощипанного цыпленка. Правда, спустя некоторое время явилось и новое предложение — хорошо откормленная жирная свинья, однако купить ее было не на что, так как в обмен требовался непременно суконный плащ. Продавец решительно отказывался от самых лучших стальных изделий, на ножи и топоры и смотреть не хотел, отказывался даже от оружия. Сделка не состоялась, продавец уехал ни с чем.
Наступил час разлуки с «Невой». Оба корабля легли в дрейф, взвились военные флаги, матросы разбежались по вантам и реям. Троекратное «ура!»… и корабли разошлись: «Надежда» взяла курс на Петропавловск, «Нева» же направилась к последнему из Сандвичевых островов — Кирекекуа. Здесь за двух поросят пришлось отдать девять аршин толстого холста, но зато ликованию матросов не было конца: поросят нежно похлопывали, гладили по спинам, называли любимыми именами.
Вскоре на «Неву» прибыл старшина с двумя небольшими свиньями и множеством свежей зелени. Пьяненький, но довольный, он увозил с корабля три бутылки рому и два топора.
После этого торговля припасами пошла бойко: ножи, зеркальца были в большой цене, и в тот же день запасы пополнились еще двумя большими свиньями, поросятами, козами, десятком кур, бочкой картофеля и сахарным тростником. Матросы повеселели.
Здесь два американца, вернувшиеся с берегов Северной Америки, сообщили о разорении Ситхи. Новость показалась Лисянскому весьма правдоподобной. Необходимо было поторопиться…
Лисянский наслаждался полной самостоятельностью, о которой давно мечтал. Он высоко ценил своего начальника, но все же считал себя и опытнее и талантливее. Строгий и требовательный к подчиненным, а прежде всего к самому себе, он сумел подобрать хороший офицерский состав и основательно подучить людей во время плавания морскому делу: «Неву» никак нельзя было принять за купеческое судно.
8 июля «Нева» уже подошла к острову Чирикова и взяла курс на Кадьяк, а 13-го ночью бросила якорь в Павловской гавани. Почти тотчас же, как только улеглась суета на корабле и наступила тишина, в непроглядной тьме послышались всплески воды. К кораблю причалили большие байдары, наполненные людьми во главе с Баннером, помощником Баранова. Утром, когда корабль подошел к поселку, крепость салютовала одиннадцатью выстрелами из пушек. На «Неве» началось ликование: Лисянский первым совершил такое путешествие из Петербурга, не имея на борту ни одного больного.
После обеда у Баннера Лисянскому было вручено письмо Баранова с просьбой немедленно идти к Ситхе.
Вместо отдыха команде «Невы» пришлось готовиться к новому походу…
* * *
«Надежда» тем временем шла прямым курсом на Петропавловск. Свежая погода, чистый воздух и живительный запах моря благоприятно отразились на здоровье Резанова. Он подбодрился, стал меньше лежать и уже просиживал целые часы за своим столом, строча разные письма в Петербург и прожекты.
В восемь утра 1 июля раздался громкий крик с салинга: «Земля!..» Все за исключением Резанова устремились на палубу. На момент приоткрылся в густом тумане далекий берег, еще дальше проступила часть какой-то большой горы, но до восьми часов вечера десятки вопрошающих глаз не видели за туманом долгожданной родной земли.
Только на следующий день, на рассвете, выдвинувшийся далеко к востоку гористый Шимунский нос показал, что желанный Петропавловск близко. Досадное, как никогда, безветрие держало «Надежду» целый день почти на одном месте.
Наконец ветерок подхватил окрыленный множеством парусов корабль, помог приблизиться к берегу и направить путь прямо на Авачинскую губу: пять горных великанов-ориентиров повелительно указывали курс.
«Надежда» проходит мимо Старичкова острова, резвые бесчисленные старички на быстрых крыльях дружно слетают с обрывистого скалистого острова и с неистовым гамом носятся низко над кораблем. Между ними откуда-то прилетевшие как бы на разведку урилы. Они смотрят большими пытливыми глазами на редкое явление — корабль — и тотчас же деловито улетают обратно, как бы для доклада после исполненного поручения. С берега срываются во множестве морские попугаи и всесветные плакальщики — чайки. Узкий вход в губу охраняют три остро торчащих из воды черных камня, точно высунувшие из любопытства на момент только свои головы — это Три брата. За «братьями» чуть виден вход в Солеваренный заливчик. И без того узкий путь загораживает остров Измены.
Подножия гор и сбегающие к морю долины покрыты сочной, ярко зеленеющей травой. И они и скаты небольших холмов сплошь усеяны яркими полевыми цветами. Кое-где белеют извилистыми стволами нарядные березовые рощицы, снизу прикрытые на опушках купами темно-зеленых кустов. Цветы словно смеются, они не боятся молчаливо склонившихся над ними величественных скал эти темно-синие бархатные фиалки, вьющиеся по зелено-серому мху, розово-красные колокольчики и нежно-розовый шиповник, далеко разбросавший вокруг себя свои легкие пахучие лепестки.
Береговая стража обнаружила трехмачтовый корабль еще накануне. Время было тревожное — всего можно было ожидать, тем более что корабль — военный и никому в голову не пришло, что это та самая вполне мирная «Надежда», которая фактически должна сейчас стоять у Нагасаки и вязать торговые узы с Японией.
Петропавловский комендант майор Крупский озабочен: к встрече неизвестного военного корабля надо приготовиться, а гарнизон почти весь в разгоне. Он спешно сколачивает отряд из наличных солдат и канониров, втаскивает на батареи пушки и наскоро набрасывает план упорной обороны. Корабль-незнакомец на всех парусах, никак не сигнализируя, уверенно входит в гавань, не обнаруживая своих намерений. От берега отваливает катер с офицером и широкими взмахами весел быстро приближается к кораблю. Взволнованный офицер не видит ясно выведенного российскими буквами названия.
— Какое судно? Откуда? — спрашивает он не своим голосом и не верит собственным ушам: с корабля насмешливо отвечают по-русски:
— «Надежда»… из Санкт-Петербурга!
— Становитесь на якорь вот там! — радостно кричит офицер, показывая рукой место. — Глубина семь-восемь сажен… А я спешу уведомить коменданта… Поздравляю с благополучным прибытием!
Катер неуклюже поворачивает обратно.
Артиллеристы торопливо перезаряжают пушки холостыми, и одиннадцать выстрелов, повторяемые гулким горным эхом, радостно сливаются с выстрелами «Надежды». С шумом падает в воду тяжелый якорь.
На шканцах, в камергерском мундире, худой, высокий, с лихорадочно горящими глазами, появляется Резанов и осеняет себя широким крестным знамением.
Не задерживаясь на корабле ни одного часа, он садится в шлюпку и минут десять спустя сходит на берег.
Крупский рапортует послу состояние вверенного ему порта и приглашает к нему «откушать хлеба-соли».
За обедом гости до отвала насыщались похожею вкусом на лососину горбушей и тихоокеанской камбалой. Черный, хорошо выпеченный хлеб ели с редким удовольствием, подолгу нюхали, вдыхая его особенный, вкусный кисловато-парной запах.
— Мне кажется, я и не жую его, — уверял Шемелин, — а он сам тает у меня во рту, как сахар. А вода!.. — и он радостно причмокивал, выпивая уже шестой стакан чистой, прозрачной авачинской воды.
Крузенштерн торопился: надо было спешить в Японию, так как долгая задержка грозила лишней зимовкой и потерей почти целого года. Но злополучная течь требовала проконопатить почти весь корабль.
«Надежда» спешно начала расснащаться на следующий же день и одновременно разгружалась от товаров компании.
8. Возвращение Ситхи
Придя к Ситхе, «Нева» стала на якорь в устье Крестовской гавани.
Вдали — вечно белая гора Эчком, кругом крутые берега, сплошь покрытые ощетинившимся лесом. Дикость природы, напряженная настороженность и неизвестность…
После шумного Кадьяка безмолвие тяготило, а суровость природы заставила приутихнуть даже неугомонную молодежь.
Внезапно вынырнул из-за мыса четырехместный бат. Бесстрашно подошел он к борту корабля, но так же внезапно и торопливо отвалил, как только увидел показавшиеся из-за островов две большие байдары. Байдары были компанейские, с «Екатерины» и «Александра». Они уже десять дней поджидали здесь Баранова.
Вечером к «Неве» опять подходили баты с вооруженными колошами.
Корабль еще более насторожился, и по приказанию Лисянского матросы всю ночь держали пушки наготове.
Из-за полного безветрия в гавань не могли войти три дня, и в конце концов пришлось втягиваться на верпах.
Вырученный Барбером после падения Ситхи партовщик Плотников не спускал глаз с берегов и стоявшего на якоре американского корабля. Он увидел, как к кораблю подошел бат с тремя гребцами. Узнав тойона Котлеана и выздоровевшего молодого Скаутлелта, он тотчас же сообщил об этом на «Неву». Как только бат отошел от корабля, за ним погнался спущенный с «Невы» вооруженный ял. На «Неве» с большим интересом наблюдали за легким ходом бата, который словно летел, едва касаясь воды. Он уходил, но не бежал, колоши смеялись и поддразнивали гребцов тяжелого, неуклюжего яла.
Прошло еще пять дней, и со стороны ситхинцев началась охота на белых. Лисянский только успел отправить за рыбой две байдары, как с корабля была замечена пробиравшаяся у самого берега большая лодка с двенадцатью раскрашенными и осыпанными пухом людьми. Пришлось пугнуть их пушечным выстрелом. В тот же день другой колошский бат открыл огонь по «Неве», пули пробили спускаемый на воду катер.
Колоши явно бросали вызов, но предпринять против них что-нибудь серьезное Лисянский до прихода Баранова не решался. Заниматься промерами и составлением карт было опасно. Проходил день за днем, вынужденное бездействие раздражало Лисянского.
На совещании с капитанами «Александры» и «Екатерины» пришли к выводу, что Баранов погиб. Положение обоих компанейских суденышек было незавидное: две шестифунтовые пушки и два четырехфунтовых картауна не обеспечивали мало-мальски серьезной операции. Еще хуже обстояло дело с такелажем. Наступали долгие ночи, туманы, дожди. Надо было либо уходить, либо готовиться здесь к зимовке… Лисянский возмущался, но решил на всякий случай довооружить оба судна компании.
Однако предположения о гибели Баранова оказались неверными.
После падения Ситхи к Баранову на Кадьяк стали подходить суда Российско-Американской компании: «Екатерина» от Кускова из Якутата, галера «Ольга» из Уналашки, бриги «Александр» и «Елисавета» из Охотска — эскадра хоть куда! Баранов взволнованно раздумывал: «Хорошо бы выступить со всей флотилией отбивать Ситху, но можно ли решиться на это, когда время стоит смутное, а товаров накопилась тьма?.. Не потерять бы накопленное!» И скрепя сердце он отправил «Ольгу» на Уналашку, где скопилось много ценных мехов, а склады были малы и плохи: шкурки портились. Капитану «Ольги» дал поручение зайти на острова Павла и Георгия и временно закрыть там котиковые промыслы, обильные, но пока излишние. «Екатерину» пришлось отослать в Якутат к Кускову да к ней прибавить на всякий случай и «Александра».
«Ольга» выполнила поручение и вернулась довольно скоро. Двадцать тысяч доставленных ею котиков и бобров, которые, по самому скромному подсчету, стоили больше миллиона рублей, были погружены на бриг «Елисавета» и отправлены в Охотск, а сам Баранов, не утерпев, оставил остров Кадьяк и на галере «Ольга» отправился к Кускову в Якутат, не оставляя надежды двинуться оттуда к разоренной Ситхе.
— Ну что ты, Александр Андреевич, — убеждал его Кусков, — присмотрись хорошенько, что делается кругом. Не верь ты мирному настроению тойонов. Они теперь боятся возмездия, это верно, но и готовятся к сопротивлению. А что, если твои силы окажутся недостаточны? Время уже осеннее, байдаркам трудно да и опасно — могут погибнуть от бурь. Давай построим за зиму еще два кораблика, а там весной, с божьей помощью, и двинемся умиротворять колошей.
— Пожалуй, ты прав, — сказал Баранов, поглаживая себя по лысеющему черепу, — да уж очень невмоготу. Ночами не сплю, а днем хожу, как во сне, и все вижу на месте Ситхи новую крепость, больше и лучше. Ведь второй год пошел, страшно сказать, как наказал меня господь… Прямо не могу!
— А ты попробуй, Александр Андреевич, через «не могу».
— Попробую, — ответил Баранов, глубоко вздохнув.
На другой же день он отплыл в свою кадьякскую резиденцию и, следуя советам Кускова, начал серьезную подготовку… Зато следующей весной из Кадьяка прибыла в Якутат флотилия из трехсот многовесельных байдар, а 25 мая стали на якорь в Якутатской бухте «Екатерина» и «Александр». Баранов был очень доволен и весело ходил по Якутату, фальшиво напевал себе под нос русские и кадьякские песни без конца и начала.
Кусков свое обещание исполнил. Баранов с наслаждением постукивал тростью по двум новым крутобоким ботам. Кораблики готовились к спуску со стапелей и получили уже названия «Ермак» и «Ростислав». Такелаж и вооружение лежали тут же, под навесом.
В Якутате Баранов охотно вступил в переговоры с жителями Хуцновского и Чилькатского заселений, заключил с ними мир.
Эффектным сожжением на воде старушки «Ольги» и оглушительной пальбой из снятых с нее пушек был отпразднован этот новый непрочный мир, но все же мир, выгодный уже тем, что этим шагом Баранов отнял сразу у нескольких племен возможность сговориться с ситхинцами.
Хорошее настроение Баранова вызывалось еще и другим обстоятельством. Из Охотска ему доставлено было письмо с извещением о выходе в июле предшествующего года эскадры Крузенштерна и с маршрутом обоих кораблей. В Кадьяк должна была прибыть хорошо вооруженная «Нева». Она могла послужить надежным резервом на случай, если начнется схватка с колошами. Поэтому Баранов и оставил на Кадьяке письмо с распоряжением «Неве» немедленно поспешить к Ситхе.
«Екатерина» и «Александр» вышли по его приказанию прямо к Ситхе. Партия в триста байдар ушла вперед к Ледяному проливу под охраной бота «Ростислав», а сам Баранов отправился вдогонку на «Ермаке».
Через Ледяной пролив можно было обогнуть остров Ситху со стороны американского берега и появиться с флотилией с юга, в то время как «Екатерина» и «Александр» должны были подойти к Ситхе прямо с севера. При этом исключалась возможность пропустить ожидаемую «Неву». Но самое главное для Баранова было то, что, идя вокруг Ситхи, он рассчитывал, не вступая в бой, показать всю свою мощь колошам Хуцнова, Чильхата, Какнаута, Акку, Тану, Цултана и других поселений.
Этот мирный маневр и задержал Баранова.
«Ермак» во главе всей лодочной флотилии вошел в Крестовскую гавань 20 сентября. Молчаливый, безлюдный берег усеялся походными жилищами приплывшего на байдарах войска Баранова из покоренных кадьяковцев, аляскинцев, кенайцев и чугачей. Правда, из четырехсот байдар добралось триста пятьдесят, а из девятисот человек — восемьсот, но все же это была небывало внушительная сила.
Стан на полверсты растянулся по берегу. Шалаши из опрокинутых на ребро байдарок были тщательно покрыты тюленьими шкурами, а пол мягко устлан травой. Перед шалашами весело потрескивали искусно сложенные костры, на которых что-нибудь пекли или варили. Шумно стало на берегу. Люди занялись своими делами: одни развешивали вещи для сушки, другие выстругивали палки для копий или чистили ружья, третьи таскали воду с реки или вязанки хворосту из лесу. Некоторые ловили рыбу или, бродя по берегу, собирали съедобные ракушки.
Вооруженный фальконетами сторожевой баркас стоял у самого берега, караулы зорко следили за окрестностями. Десятивесельный катер и ял, спущенные на воду с «Невы», готовы были при первой же тревоге двинуться под командой лейтенанта Арбузова.
Наступила теплая ночь. Погасли костры. Люди, утомленные тяжелым переходом, крепко заснули, и только часовые бодро ходили взад и вперед, охраняя лагерь.
В селении ситхинцев тоже не видно было огней, но там не спали, и оттуда всю ночь доносились исступленные завывания, по-видимому шаманские. А утром пораженный тишиною Баранов выслал туда лазутчиков. Лазутчики побывали в селении, оно оказалось пустым.
Тогда Баранов вошел в это хорошо укрепленное высоким палисадом селение, взобрался на холм и водрузил на нем российское знамя. Здесь он и решил основать новую русскую крепость.
В лагерь пришел один из ситхинских тойонов, но затеянный им пустой разговор сразу же обнаружил, что он явился не для мирных переговоров, а единственно для того, чтобы выиграть время. Поэтому, когда вдали показалась большая лодка с вооруженными людьми, приказано было атаковать ее. Лодка, преследуемая баркасом, бросилась наутек, стала отстреливаться, стараясь уйти. Лишь только началась перестрелка, один из ситхинцев выскочил из лодки у берега и скрылся в лесу. Вдруг после нескольких выстрелов из бывшего на борту баркаса фальконета над лодкой сверкнул ослепительно яркий, острый, как клин, огонь и распустился гриб дыма — до кораблей донесся низкий звук взрыва. Лейтенант Арбузов быстро подошел на яле и стал спасать тонущих и раненых людей. Спасаемые кусались, вырывали у матросов весла, а некоторые, держась за обломки развалившегося бата, защищались кусками дерева и кинжалами.
Нескольких раненых доставили на «Неву», уложили на койки. Долго и неподдельно удивлялся их выносливости судовой лекарь.
— Да вы понимаете, у этого вот, — тыкал он пальцем в богатырскую грудь раненого ситхинца, — у него пять ран, из которых три смертельные. Так вот матросы говорят, что с этими тремя смертельными ранами он, сидя на обломках лодки, продолжал грести веслом и яростно дрался, не желая сдаваться в плен.
В это время ситхинец очнулся, без дальних слов пнул здоровой ногой доктора в живот и потерял сознание.
— Видали? — доктор развел руками. — Удивительно выносливы, ни один не стонет…
К вечеру у лагеря появились четыре парламентера. Они предлагали мир, который был принят Барановым на очень льготных условиях: выслать для переговоров тойонов и выдать десять аманатов.
Утром следующего дня прибыл тот же человек с одним только аманатом, бросившимся у берега в воду спиной плашмя — в знак полной покорности. Аманата вынули из воды, привели в крепость, подарили ему торбачанью парку и приняли подарок ситхинцев — бобра, однако от переговоров с посланным отказались до присылки тойонов.
Около полудня тридцать вооруженных ситхинцев, выстроившись перед селением и не входя в переговоры, просили выдать принятого аманата в обмен на другого. Целый час прошел в бесплодных пререканиях. Баранов пригрозил принять решительные меры. Ситхинцы что-то дружно прокричали и с достоинством удалились.
Все это тоже было похоже на попытку выиграть время. По-видимому, ситхинцы ждали помощи от других племен.
На другой день, когда Баранов двинул свое войско к бывшей Ситхинской крепости, там подняли белый флаг. Баранов ответил тем же. Однако проходил час за часом — никто для переговоров не являлся. Лисянский предложил начать штурм. Ночью к стенам крепости были стянуты отряды под начальством лейтенанта Арбузова и Повалишина. Отряд Арбузова, более сильный, располагал шестью пушками и полутораста ружьями. При отряде находился и сам Баранов.
На рассвете ситхинские стрелки, укрытые за непробиваемыми пулями палисадами, открыли из бойниц меткий огонь. Пришлось решиться на штурм. С криком «ура!» оба отряда, поддерживаемые пальбой из пушек, пошли вперед, но были встречены сильным орудийным и ружейным огнем. Не ожидавшие такого огня кадьяковцы остановились. Только два небольших отряда Баранова и Повалишина подошли под самую крепость и приготовились поджечь палисады.
Тогда осажденные, выбежавши из крепости, подняли на копья одного из матросов и ранили Баранова пулею в руку навылет, а Повалишииа — копьем в бок. Кадьяковское войско дрогнуло, побежало… Ситхинцы выли и плясали от радости.
Обоим отрядам пришлось отступить. Орудийный огонь всех кораблей прикрывал отступление. Арбузов, продержавшись до темноты, благополучно погрузил на лодки свою артиллерию и вернулся на корабль.
Не замечая сгоряча серьезности своего ранения, Баранов, блестя по-молодому глазами, оживленно рассказывал Лисянскому о неудавшемся штурме и даже шутил:
— Вот кадьяковский старшина Нанкок так перепугался, что говорит: «Что хочешь делай, Ликсандр Андреич, а вперед ни за что не пойду!» — «Знаю, говорю ему, — что вперед не пойдешь, но ты хоть не бегай назад и не подавай дурного примера другим…»
Лисянский, получив от Баранова право действовать по своему усмотрению, приказал открыть по крепости огонь из всех судовых орудий. Это подействовало, ситхинцы выкинули белый флаг. В переговорах с парламентерами Лисянский потребовал аманатов и выдачи взятых в плен нескольких кадьяковцев, а кроме того, поставил условия, чтобы до тех пор, пока не будет заключен мир, никто не смел выходить из крепости и ни одна лодка не отплывала от берега.
Ситхинцы приняли эти условия, но аманаты доставлялись туго, по одному, в течение целого дня. К вечеру их набралось всего несколько человек.
На корабле провели тревожную ночь, а на следующий день продолжалась та же канитель: присылались уполномоченные, которые рассказывали, что мирные переговоры задерживают разногласия между тойонами.
Выведенный из терпения Лисянский потребовал сдачи крепости. Ситхинцы согласились, но сидели в крепости по-прежнему, а посланному ответили: «Ожидаем прибылой воды…»
Но и прилив не изменил положения. Ситхинцы продолжали испытывать терпение осаждающих. Ночью наступила мертвая тишина. Ни плача детей, ни лая собак не доносилось больше из ситхинского селения.
Наутро над крепостью с громким карканьем кружили бесчисленные стаи ворон. Посланные на разведку лазутчики удостоверились, что крепость пуста. Ситхинцы оставили ее ночью, бросив всю свою флотилию и запасы вяленой рыбы.
Отряды вступили в пропитанную зловонием крепость, где оставлены были только три старухи.
Даже привыкший ко всему Баранов то и дело крепко зажимал себе нос, ступая по отвратительной, сочно хлюпающей жиже, и вдруг, пораженный, остановился. Перед ним в лужах запекшейся крови с почти отделенными от туловища головами валялись десятки собак. Некоторые еще судорожно дергали лапами… Так всегда поступали колошинские племена, дабы собаки своим лаем не обнаружили тайны их передвижений.
Через несколько дней «Нева» ушла в Кадьяк на зимовку.
Баранов, не медля ни одного дня, приступил к постройке новой крепости.
9. В Стране восходящего солнца
25 августа посол прибыл на корабль в сопровождении священника, правителя Камчатки, коменданта крепости, командира конвоя капитана Федорова и собственной военной охраны. Посольство направлялось в Японию.
Молебен. Краткие прощальные речи. Шумный, как всегда, подъем якорей. Салюты… И «Надежда», украсившись чуть не до самого флагштока парусами, медленно и важно направилась под слабым ветерком к выходу из Петропавловской бухты.
Дурная, пасмурная и холодная погода загнала всех в каюты. Опять началось усиленное чтение всего, что было о Японии. Читали Кемпфера и Тунберга, вырывали и тащили друг у друга книжку Синбирянина «О Японе». Ее читали группами вслух, как юмористический журнал, и весело хохотали. Японцы замкнулись в себе и неслышно двигались по кораблю зловещими тенями. Их страшил уже не на шутку приблизившийся час ответа перед суровыми законами страны. Резанов с головой ушел в изучение японского языка и подробнейшей инструкции графа Румянцева, местами изложенной в виде предполагаемых и задаваемых японцами всем иностранцам вопросов и рекомендуемых ответов. Отрываясь от этих занятий, он часто призывал Шемелина и, давая разные наставления по поводу предполагаемой торговли с Японией, в конце концов сделал выписку из Кемпфера и вручил ее Шемелину на заключение.
Резанов насчитал годных для ввоза два десятка разных товаров, а для вывоза — целых двадцать шесть.
— Эк, нагородил твое превосходительство! — смеялся Головачев, пробегая показанный ему Шемелиным обширный список. — Все свалил в кучу, и серьезное и пустяки.
— Да есть, есть, — улыбался Шемелин. — Вы правы, Петр Трофимович, вали валом, как говорится, а после разберем. Приедем в Японию, все постараемся выяснить.
До средины сентября шли спокойно. Как-то неожиданно, на один момент, показались берега неизвестной Японии и тотчас скрылись в накатившем тумане. Моросил дождь, низко проносились напоенные до отказа влагой тяжелые тучи, гонимые сильным ветром, которому, казалось, не будет конца. Барометр вдруг стал падать на глазах. Волны вздымались горами, и без того бледный, еле видный свет солнца еще более померк, и ветер завыл, как дикий голодный зверь… Сдирая гребни волн и распыливая их, он обдавал корабль холодным душем снизу доверху. Водяная пыль, смешанная с песком, принесенным ураганом с суши, и мелкими осколками прибрежных раковин, до крови секла лица измученных людей, работавших на ветру. От новых шкотов и брасов, марсельных и нижних парусов остались одни болтающиеся обрывки, и команда с опасностью для жизни, самоотверженно старалась кое-как закрепить хоть марсели. Они были спасены, но тотчас же новым порывом в клочья изорваны были штормовые стаксели. Корабль, оставшийся без управления, беспомощно болтался из стороны в сторону… С тревогой смотрел Крузенштерн на ванты, натянутые с одной стороны, как тугие струны. «А если не выдержат, лопнут? — подумал он. Тогда мачты вылетят из гнезд, взламывая корабль изнутри, от самого днища…»
Шемелин молча молился в своей каюте, прислушиваясь к ужасающим ударам огромных волн в борта корабля.
«Конец! Вот и конец всему…» — мелькало в уме бледного как полотно Резанова.
Крузенштерн не сводил глаз с барометра: он больше упасть не мог, ибо столбик ртути давно исчез за последней, низшей отметкой — 27 дюймов.
«Ниже двадцати семи дюймов! Я никогда ничего подобного не наблюдал, молча изумлялся он. — Вот они, тайфуны японских морей!»
Так продолжалось целых пять часов. Корабль тяжело выбирался из пучин на гребни волн и опять стремглав обрушивался в водяную бездну, зарываясь в нее то носом, то кормой…
Внезапная перемена направления ветра легко повернула «Надежду» на девяносто градусов, а набежавшая сзади волна, играя, перемахнула через корабль, унося с собою оторванную галерею капитанской каюты. В следующую минуту раздался оглушивший многих удар вала о корму, посыпались стекла вместе с вырванными из гнезд рамами — в каюты хлынула вода. Она каскадами вливалась через все люки на нижнюю палубу. Прихлопнув ставни и удерживая их аншпугами, офицеры, стоя по пояс в воде, старались задержать дальнейшее вторжение взбесившегося моря внутрь корабля.
Три матроса, вцепившиеся изо всей силы в рулевое колесо, вмиг были сорваны с мест и с силой брошены на палубу. Оторвавшийся вместе с тяжелыми винтами сундук, наполненный ружьями, пистолетами и саблями, пронесся мимо них, ломая все на пути…
Не растерявшийся Крузенштерн, однако, умело воспользовался мгновением перемены ветра. Выполняя его команду, матросы успели поставить штормовую бизань. Теперь можно было как-нибудь держаться по ветру, рискуя, правда, налететь на невидимую землю и на рифах похоронить навсегда и корабль и экипаж…
Только глубокой ночью буря стала затихать, а утро одарило измученных людей такой яркой и чистой улыбкой, что если бы не многочисленные поломки на корабле, то все пережитое можно было бы приписать кошмару.
Однако коровы и овцы с окровавленными мордами, невообразимый беспорядок на палубе, вода в каютах на целых три фута и болтающиеся на легком ветерке обрывки парусов и веревок наглядно показывали, что корабль был на волосок от гибели.
Проходили вдоль зеленых берегов неизвестных островов. Попадались лодки и даже какие-то большие, странные парусные суда, но люди на них были глухи и немы. Они не могли не видеть трехмачтового, вооруженного пушками иностранного корабля, но не только не стремились подойти к нему, а, наоборот, быстро уходили, никак не отвечая даже на призывы в рупор на японском языке.
— Похоже на то, что им запрещено иметь сношения с иностранцами, высказал свое предположение Головачев, вглядываясь в большую, удирающую от корабля лодку.
— Может быть, просто боятся, не обидели бы? — заметил Ратманов. — Во всяком случае, это неприятно.
Наконец-то при дружной настойчивости всех четырех японцев, бывших на корабле, удалось уговорить одну из приблизившихся рыбачьих лодок вступить в переговоры, объяснив рыбакам, что судно военное российское и что оно имеет разрешение от самого императора Кубо-Сама войти в Нагасакский порт.
Опасливо оглядываясь по сторонам, рыбаки поднялись на корабль, наскоро выпили предложенной водки и сказали, что Нагасаки близко и к вечеру можно до него дойти. Они перечислили все находящиеся там голландские и китайские купеческие суда и, самое главное, сообщили, что за «Надеждой» и ее курсом следят с берегов уже четвертый день. Не пробыв на корабле и четверти часа, гости поспешили отойти.
А через час японская лодка с десятью гребцами и двумя офицерами смело приблизилась к «Надежде». С лодки попросили бросить чалку. «Надежда» даже накренилась на один бок, ибо все кинулись поглазеть на японцев.
За поясом у одного из приезжих торчали два меча. Заметив стоявших у фалрепа офицеров, японец, низко поклонившись, спросил: «Какое судно? Откуда? Куда идет?»
Доставленные на «Надежде» японцы, одетые в парадное русское платье, быстро сбежали в причалившую лодку, стали на колени, протянули вперед по полу руки и, положив на них свои головы, в таком положении отвечали. Офицеры молча, с недоумением покосились на лежавших и, показав направление на Нагасаки, отшвартовались от корабля.
В двух с половиной милях от Нагасаки два гребных судна, уже с четырьмя офицерами, просили здесь остановиться до получения разрешения губернатора на дальнейшее продвижение. С корабля ответили согласием, и они с благодарностью удалились… А между тем, пока велись переговоры, «Надежда» была окружена по крайней мере тридцатью лодками.
— Ну вот, ваше превосходительство, — шутя заявит Крузенштерн Резанову, — дождались японского плена.
А еще часа через два начались японские церемонии, растянувшиеся на целых полгода…
Вдали показались направлявшиеся к кораблю со стороны залива восемь японских судов. Одно из них, побольше, было расцвечено снизу до верхушек мачт разноцветными флагами и какими-то значками, скрытыми в подвешенных лакированных футлярах. Пышность приближающейся эскадры заставила кавалеров посольства и офицеров надеть парадное платье и выстроить моряков. Отдельно выстроился в ружье конвой посла с Федоровым во главе. Вошедшие на корабль четыре офицера, в числе которых находились два переводчика голландского языка, низко наклонившись, спросили, позволено ли будет господину губернатору видеться с российским посланником.
— Почту для себя особенным удовольствием, — ответил Резанов по-французски.
Тотчас на палубе появился важно шествующий по кораблю японец с мертвой, неподвижной маской на тщательно выбритом, в морщинах и складках коричневом лице.
— Что за люди? — спросил он по-японски, увидев у своих ног японцев на коленях. Наклоняясь, они бились о пол головами. Узнав, кто они, он, не удостоив их ни словом, ни взглядом, тронулся дальше. Короткая команда Федорова и резкая, нервная дробь барабана заставили губернатора поднять вопросительно брови и приостановиться. Когда ему разъяснили, что это знак особого почтения, он попросил оказать такой же и другому чиновнику, который приехал с ним в сопровождении особой свиты из тридцати человек.
Приглашенные в каюту посла, оба чиновника уселись на софе, поджав под себя ноги, и тотчас же принялись сосать свои трубки, вынутые из услужливо поставленного перед ними лакированного ящика. Вместе с ящиком подана была маленькая жаровня с пылающими углями. На полу у их ног расположились переводчики, вынувшие из другого лакированного ящика бумагу, кисти и тушь.
«Губернатор» оказался на самом деле не губернатором, а его помощником, приехал же с ним случайный ревизор из Иеддо.
После обычных вопросов они заинтересовались посольской грамотой.
— К сожалению, я не вправе показывать ее никому, кроме его величества, — ответил Резанов, но все же подошел к ящику и открыл его. Чиновники, именуемые обер-баниосами, вскочили, подошли поближе и долго созерцали золотую парчу — футляр с широкой серебряной сеткой и толстыми, с кистями на концах шнурами.
— Но я могу представить вам для ознакомления копию, — сказал Резанов.
Японцы поклонились.
В каюту вошел голландский капитан попросить дозволения у господ обер-баниосов взойти на корабль обер-гаупту, управляющему торговыми делами в Японии, господину Генриху Деффу, который хотел повидаться с российским посланником. Он приехал одновременно с обер-баниосами, но терпеливо дожидался в лодке около часу, когда последует разрешение. Помощник губернатора дал это разрешение едва заметным взмахом бровей. Когда вошедший Дефф, обращаясь к послу, рассыпался было в приветственных словах, один из старших переводчиков, обер-толков, бесцеремонно толкнул его в бок.
Запнувшись и даже не кончив фразы, Дефф, не обнаруживая ни малейшей досады, сложил вместе ладони рук, а за ним и вся его свита, секретарь, два капитана кораблей и гость, барон Пабст. Все они склонились головами до полу и в таком положении, не разгибаясь, кланялись до тех пор, пока не получили разрешения подняться.
Резанов с удивлением и возмущением смотрел на это добровольное унижение голландцев.
— Господин посол, — обратился старший переводчик к Резанову, заметив его недоумение, — вам странны обычаи наши, но всякая страна имеет свои, а мы с голландцами друзья, и вот вам доказательство их доброго к нам расположения. Согласны вы ему следовать?
— Нет, — отвечал посол, — ибо слишком почитаю японскую нацию, чтобы начать дружбу унизительными церемониями. У нас другие обычаи, и мы придерживаемся их так же неколебимо.
К требованию японцев разоружиться посол был подготовлен своей инструкцией и не возражал, решительно настаивая, однако, на сохранении шпаг для себя и свиты и ружей для конвоя.
— Я считаю уместным предварить, ваше превосходительство, — заявил Дефф, — что японцы весьма тверды в требованиях исполнять их законы. Мы тоже, как видите, разоружены, несмотря на пребывание наше здесь в течение двухсот лет.
— Голландия нам не указ, — возразил Резанов. — Не забывайте, господин Дефф, что вы здесь торговый представитель, а я посланник его величества, государя императора всей России!
Дефф замолчал. Резанов передал ему письмо полномочного министра Голландии в Петербурге Гогендорна и открытое повеление голландского правительства об оказании господином Деффом услуг российскому посольству.
Тут пришлось господину Деффу сознаться, что японцы держат их на положении находящихся под постоянным строжайшим надзором и что исходатайствовать настоящее, быть может, первое и последнее свидание ему было нелегко.
Ответ японцев на просьбу Резанова разрешить войти в гавань последовал только к вечеру на следующий день. Одетые с утра в суконное, а день был очень жаркий, все с нетерпением поглядывали на берег, задыхаясь, обливаясь потом и чертыхаясь.
Опять торжественно приехал «помощник губернатора», оказавшийся на этот раз только его секретарем, с мэром города и тем же Деффом, и после церемонии разоружения, с оставлением, однако, шпаг офицерам и ружей конвою, появились шестьдесят четыре шестивесельные японские лодки. Осветившись с кормы и носа большими круглыми фонарями, они отбуксировали корабль до маленького островка Папанберг, где предложили бросить якорь… Лодочная охрана осталась у корабля.
Пошел третий день пребывания «Надежды» в Японии, о Нагасаки разговор не подымался, но расспросы каждый день навещавших ее японских чиновников ширились. Пришлось на маленьком глобусе показывать границы Российской империи. Заинтересовались и Японией, но для рассмотрения ее на глобусе понадобились очки. Старички обер-баниосы смотрели на свою Японию и удивлялись тому, что она такая маленькая.
— Маленькая, но могущественная держава, — любезно сказал посол.
Принять очки в подарок старички отказались, не имея разрешения губернатора.
Напряженность во взаимоотношениях понемногу таяла, найден был и общий язык — немецкий, позволивший отказаться от услуг голландских переводчиков. Весьма аккуратно и в большом количестве доставлялось продовольствие.
На четвертый день, сверх обыкновения утром, прибыли встревоженные обер-баниосы: они обнаружили в японском переводе посольской грамоты, что чин посла весьма невысок, и вот приехали проверить, нет ли тут ошибки, так как по чину приходится оказывать и почести. Пришлось просить японских переводчиков перевести всю грамоту с японского на голландский язык и таким образом обнаружить ошибку. Для вящей убедительности обер-баниосам были показаны ордена, звезды и ленты посла. Становилось скучно.
Прошла неделя. Резанов не выдержал и приехавшим обер-баниосам решительно заявил, что он не намерен больше пребывать на положении пленника, находящегося постоянно под стражей, и что он уйдет, не выполнив своей миссии, если не последует немедленно перемены в его положении. Обер-баниосы заволновались, заявили, что стерегущие «Надежду» лодки — знак почета, что необходимо потерпеть, и тогда посол убедится в самом лучшем к нему отношении, но что нельзя перевести судно в гавань, ибо там находятся голландские купеческие суда: не подобает ведь военному судну российского императора с полномочным послом на борту стоять рядом с замызганными купцами, уже, кстати сказать, готовыми к выходу в море… Японцы не обманывали.
Накануне отплытия голландцев губернатор через обер-баниосов просил капитана «Надежды» не отвечать голландцам на их салюты. Это было похоже на насмешку, поскольку и пушки и порох давно были сданы японцам и увезены на берег. Голландцы не преминули поиздеваться и открыли, проходя мимо, пальбу. Гардемарины Коцебу насчитали до четырехсот выстрелов.
С голландцами разрешено было лично одному только послу отправить письмо государю о благополучном прибытии в Японию.
* * *
«Авиньонское пленение» — так окрестили офицеры свое пребывание в порту Нагасаки, когда узнали, что запрещено даже плавать на гребных судах возле корабля. От нечего делать они вновь принялись изучать Японию, на этот раз с точки зрения поразивших их странностей.
Особенное негодование возбудили поставленные губернатором условия отсылки всеподданнейшего донесения посла, которое могло заключать в себе исключительно только краткий отчет о плавании и то на отрезке пути от Камчатки до Нагасаки. Оно должно было быть переведенным на голландский язык, а копия перевода доставлена губернатору, причем каждая строка этой копии непременно должна была оканчиваться тою же буквой, что и подлинник перевода. По сличении копии перевода с подлинным губернатор отослал его обратно Резанову с двумя своими секретарями с тем, чтобы подлинный перевод был при них запечатан в пакет и сдан обратно.
На следующий день, к общему удивлению, в ответ на громкие приветствия экипажа с проходивших мимо «Надежды» голландских кораблей только махали рупорами, подзорными трубами, шляпами и посылали воздушные поцелуи, но при этом молчали, не отвечая даже на задаваемые вопросы. Расстояние было близкое, слова ясно доносились до голландцев.
Доставленное на следующий день письмо обер-гаупта все разъяснило: голландцам попросту было запрещено разговаривать с русским кораблем…
— Голландцы, — объяснял Шемелину Головачев, — позволили здесь совсем поработить себя и переносят уже более двухсот лет безропотно какие угодно унижения.
— Должно быть, прибытки большие, — философски заметил Шемелин. — А все-таки сами себя не уважают. Пляшут под японскую дудку.
— Да, именно пляшут и плясали и в переносном и в буквальном смысле, сказал погодя Лангсдорф. — И не только простые служащие, клерки, но и сам посланник Макино-Бинго довольно легко пошел в свое время на всяческие унижения.
— Неужели? — удивился Шемелин.
— Да, и он. Это случилось, когда Бинго прибыл в Японию во второй раз. Император заставил его стоять, вертеться, петь, плясать, нянчить приведенных к нему детей, снимать и надевать парики и стряхивать с них пудру, расстегивать и застегивать пряжки. То же самое проделывал и Кемпфер. Голландцы доказывали, что это является у японцев не унижением, а почетом, за который дорого бы дал каждый японец.
— Господин посол об этом знает? — спросил Шемелин.
— Наверное, знает, ведь он проштудировал Кемпфера весьма основательно.
— А как русская торговля, господин Шемелин? Неужели русские не делали попыток завязать торговые сношения со своими, так сказать, ближайшими соседями? — спросил Лангсдорф.
— Делали, — ответил за него Головачев, — но все как-то не доводили до конца. В деле установления сношений с японцами принимал участие и тесть нашего посла, Шелихов. Он вместе с другим купцом дважды посылал корабли на остров Уруп. Их корабли побывали и на острове Аткис, где виделись с японцами, договорились начать торговлю и даже назначили свидание друг другу в 1779 году. На свидание прибыл и начальник японского острова Матсмай. Он привез разрешение открыть торговлю с японцами в Нагасаки. Но иркутские власти действовали очень нерешительно и непоследовательно, и в конце концов купцы охладели к этому делу, общение с японцами прекратилось. Во время царствования Екатерины началась подготовка экспедиции Муловского, нашего предшественника, но она не состоялась из-за войны со Швецией и смерти Муловского. Посмотрим теперь, что удастся сделать нам…
— Если судить по попыткам последнего времени, то они не сулят нам успеха, — сказал Лангсдорф. — Я слышал, что американцам не посчастливилось совсем недавно, в тысяча восемьсот первом или втором году. А торговую экспедицию англичан из Калькутты, с капитаном Тори во главе, как раз в год отплытия господина Резанова из Кронштадта, японцы попросту выгнали. Я рассказывал об этом послу.
— А французы? — спросил Головачев.
— Эти и вовсе ни разу не отваживались…
4 декабря переводчики объявили, что на следующий день назначена пристойная посланнику великого российского царя церемония переезда в приготовленный для него дом. Изведенный бесконечной волокитой, Резанов заявил недовольным тоном, что на этот раз он поедет не раньше, чем убедится в пригодности помещения. Обер-толки просили только об одном — чтобы это было сделано на следующий день утром, по прибытии на «Надежду» обер-баниосов. Утром отправились на берег Фоссе, Ромберг, Горнер и Лангсдорф и, вернувшись, заявили, что дом хорош.
Для переезда посла была приготовлена красивейшая, с добрый корабль величиной яхта, принадлежавшая одному из принцев. Вся отлакированная, как бонбоньерка, украшенная бронзовыми золочеными украшениями, она еле передвигалась посредством бесчисленных весел. Двери кают были покрыты дорогим штофом, а полы — тончайшей работы матами и драгоценными коврами. Снаружи она была расцвечена затейливыми вымпелами и флагами, похожими на хоругви.
На другой день яхта подошла и стала борт о борт с «Надеждой», на которую был перекинут специально для этого сделанный трап с лакированной балюстрадой, украшенной фантастической резьбой.
Посол при всех своих орденах, в шитом золотом камергерском мундире, в сопровождении кавалеров свиты и всех морских офицеров важно взошел на шканцы, где был встречен почетной стражей с барабанным боем. Стража под командой капитана Федорова вступила на яхту, за нею два кавалера посольства несли императорскую грамоту. Далее выступал посол, за которым следовали морские офицеры и остальные. Взвился кверху рядом с гербом принца императорский штандарт. Посол со свитой сошел вниз, в большую светлую каюту, посреди которой на четырех украшенных бронзовыми рельефными украшениями колоннах утвержден был легкий, отделанный золотом и лаками балдахин. Под ним стоял стол для грамоты и кресло, крытое косматым бархатом, для посла. Под непрерывную дробь барабана яхта отошла от «Надежды», с вант и рей которой, усеянных матросами, раздалось «ура!».
Яхту буксировали шесть японских лодок и сопровождали до восьмидесяти судов, на которых развевался атлас и блистало золото. Бастионы украсились флагами и целыми кусками шелковых тканей, отливавших на солнце всеми цветами радуги, а по возвышенным местам, под императорскими японскими знаменами сидели шпалерами войска, одетые в парадные одежды.
Наступление отлива не позволило яхте дойти до места назначения, подана была, другая, тоже роскошная яхта, но поменьше. На берегу посол был встречен старейшими обер-баниосами и их многочисленной свитой и препровожден в дом. Осмотрев его, посол поблагодарил обер-баниосов за встречу и попросил их передать его благодарность и губернатору.
А дом действительно был хорош. Он состоял из шести больших комнат и громадной столовой, просторной, светлой кухни, к которой примыкала еще комната с большими шкафами и ящиками для столовой посуды и белья. Кухонная посуда сверкала чистотой. Повар, в повышенном настроении, буквально не находил себе места и тянул кавалеров свиты посмотреть посуду и очаг. Устроенный на японский манер, очаг был снабжен семью разной величины котлами и чашами и котлом для горячей воды. Тут же в изобилии разложена была на столах прикрытая прозрачными сетками свинина, баранина, куры, утки, зелень. Другой флигель предназначался для приезжающих к послу флотских офицеров.
Пересчет японцами числа уезжавших и остающихся удивил. За офицерами ушли, провожая их до ворот, и баниосы, а за ними наглухо задвинулись тяжелые наружные засовы и зазвенели запираемые железные замки.
«В позолоченной клетке», — пронеслось в головах многих, и пышность, и позолота этой клетки сразу потускнели…
Небольшие окна были заделаны железными решетками. В узеньком переулке с запертыми воротами, ведущими дальше, на сушу, были помещены две избушки-караульни с дежурными полицейскими офицерами, а далее — гауптвахта. Каждая караульня и гауптвахта охраняла отдельные ворота. Таким образом, для выхода со стороны суши требовалось последовательно открыть замки трех ворот.
11 февраля было получено письмо от губернатора.
Губернатор писал, что высочайше повелено даймио — одному из семи государственных советников, а с ним шести высшим чиновникам империи отправиться в Нагасаки.
«Медленность в решении столь важного дела, — разъяснялось в письме, произошла оттого, что оно требовало больших рассуждений, поэтому двор и не хотел решить оного без совета чинов государственных. А так как они находились в разных провинциях и не в близком расстоянии от столицы, то и не могли скоро съехаться в Иеддо. Этот чрезвычайный совет состоял слишком из двухсот князей и вельмож, и хотя, впрочем, дело сие было давно решено императором, но государь хотел еще сделать честь своему дяде и другому родному брату своему, которых он почитает, чтобы спросить и у них мнение о деле. А как и те имеют пребывание свое не близко от Иеддо, то отправленные к ним посольства также продолжили время и не скоро с ответами от них могли возвратиться в столицу…»
«Значит, дело уже решено в благоприятном смысле», — подумал Резанов, и волна горячей крови наполнила грудь, бурно забилось сердце. Можно было уже спокойно ожидать этого японского государственного советника, титул которого произносился обер-толками и обер-баниосами не иначе, как благоговейным шепотом. Однако приезд даймио в корне испортил планы Резанова, мечтавшего о триумфальном въезде в Иеддо, о своем представлении императору, о беседах с министрами и вельможами.
Официальное известие о приезде даймио привезли послу только на шестой день после того, как тот приехал, три примелькавшихся и хорошо расположенных к посольству обер-толка — Скизейма, Саксабуро и Татикуро.
— Было бы гораздо вежливее, — заметил недовольным тоном Резанов, — если бы даймио потрудился известить того, кто ждал его столько времени, в день своего приезда.
— По нашим обычаям, ваше превосходительство, — возразил Скизейма, именно это было бы неучтиво, так как пришлось бы после извещения ждать эти же шесть дней, а они нужны были для подготовки. Теперь ожидать уже не придется, так как завтра к восьми часам утра будет подана яхта принца Физена с двумя обер-баниосами для встречи и сопровождения вашего превосходительства до места свидания. От пристани вас понесут в богатом норимоне.
Начались длительные переговоры о деталях церемонии приема.
Ультимативный характер условий заставил посла принять надменный вид и заявить в категорической же форме:
— При мне должен находиться сержант в каске и уборе с императорским штандартом на древке. — И, не желая слушать возражений, Резанов добавил: Поелику вы сами сего решить не можете, доложите даймио: норимоны должны быть поданы всем кавалерам свиты.
— Это только потому для вас одного, — смеялись обер-толки, — что уж очень близко.
— Я должен быть в одной комнате с даймио и губернаторами, и там пусть меня угощают, как им будет угодно.
— Как все у вас понятия различествуют с нашими! — воскликнули обер-толки. — В том-то и состоит большая вежливость и честь, ибо вы должны быть трактованы не от даймио и губернаторов, а от императора российского, особу которого здесь представляете.
— Но вам придется поклониться даймио в ноги, — нерешительно заявил обер-толк Скизейма.
Посол расхохотался.
— Я и самому богу кланяюсь не телом, а только душой. Оставьте это.
— Но это так легко! — сказали обер-толки, ложась на пол. — Посмотрите сами… Да вы хоть на колени встаньте и руками коснитесь пола!
Резанов продолжал смеяться.
— Все это пустяки! — бросил он с укоризной. — Я поклонюсь, как надобно, а даймио пусть учтет, что я прибыл сюда вовсе не для того, чтобы учиться поклонам, а основать дело к пользе двух империй.
Вечером пришел ответ от даймио, который не согласился только с разборкой стены в комнате для угощений.
— А будет ли завтра говорено о торговле? — спросил Резанов обер-толков.
— Нет, об этом речь будет послезавтра.
На следующий день утром к дому посла поданы были две разукрашенные яхты. Вслед за ними в восемь часов утра прибыли два обер-баниоса с шестью переводчиками и большим числом баниосов среднего достоинства.
Посол в сопровождении своей свиты, сержанта со штандартом, обер-баниосов, обер-толков и других чиновников вступил на первую яхту, а затем перешел на вторую.
Тихо, как расслабленный, начал произносить слова приветствия губернатор Хида-Бунго-но-Хами-Сама, окончив его такими словами:
— Очень сожалеем, что наши японские обычаи навели на высокую персону посла в пребывание здесь великую скуку.
— Вы справедливо отметили, — заявил в своем ответе посол. — Эту великую скуку мне пришлось перенести первый раз в жизни, но зато я счастлив, что могу, наконец, лицезреть лично тех, кому я так много обязан.
— Нам известны причины, вызвавшие прибытие российского посольства в нашу страну, но сюда по поручению императора прибыл из Иеддо даймио, дабы лично увидеть посла и выслушать его объяснения.
— С превеликим удовольствием, — ответил посол и изложил причины, вызвавшие его приезд.
Когда он кончил, весьма тихо и невнятно, едва шевеля губами, изрек нечто сам даймио. Из его речи Резанов не понял ни одного слова. Обер-толки, как это ясно было заметно, весьма смущенные, перевели:
— Император Японского государства удивляется благодарности, российским государем изъявленной, за торговлю, на которую позволения никогда дано не было. Притом можно ли вообще писать его кабуковскому величеству в то время, как Лаксману внушено и подтверждено было, чтобы никто никаких сношений с Японией не имел? И вот это самое первое условие нарушено, и нарушено только вследствие того, что император Японии слишком милостиво отнесся к Лаксману.
Резанов вспыхнул от негодования. Он испытывал такое ощущение, словно его ударили хлыстом по лицу. Но, стиснув зубы, он изобразил на нем нечто вроде улыбки и сказал:
— Мне удивительным кажется, что здесь усматривается оскорбление в том, в чем можно видеть только великую честь. Получение письма от великого государя российского европейские государи за счастие для себя почитают, и непонятно, как может повеление кабуковского величества Лаксману переноситься на великую особу всероссийского государя, который является таким же императором, как и Кубо-Сама, и, кто из них могущественнее, не здесь и не нам решать.
Брошенный полным голосом и с жаром вызов произвел большой переполох среди обер-толков, и тотчас же после перевода губернатор мягко и заискивающе сказал:
— Я думаю, господин посол, что вы очень устали от нашего японского утомительного сидения. Заседание считается закрытым до завтра.
Посол встал, поклонился и вышел в твердой уверенности, что японцы ищут ссоры.
Хмуро и неприветливо было на душе Резанова. Дурные предчувствия безвозвратного провала мешали уснуть. Дом дрожал от резких порывов ветра, холодное его дыхание проникало даже под одеяло. По крыше звонко барабанил дождь. Наутро небо прояснилось, но улицы тонули в непролазной грязи. От приехавших за ним баниосов Резанов потребовал подать норимоны для всех сопровождающих.
Губернатор Хида-Бунго-но-Хами-Сама принял от подползшего к нему ящерицей чиновника большой свиток бумаги, развернул и, прочитав, передал лежавшим ниц около посла обер-толкам. Смущенно, то разворачивая, то свертывая свиток, обер-толки заявили, что письмо настолько глубокомысленно, что они вдруг перевести не могут, и пригласили посла в другую комнату для перевода.
«Первое. В древние времена, — гласило письмо, — всем народам ходить в Японию, также японцам выезжать из отечества невозбранно было, но два уже столетия, как сохраняется непременным правилом, чтоб никто в Японию, кроме древних приятелей их, вновь не приходил, и японцы из отечества своего отнюдь не выезжали; а как российский государь прислал посла с подарками, то японские законы требуют, чтоб тотчас ответствовать тем же. А как посла отправить в Россию не можно, ибо никому из японцев выезжать не позволяется, то ни грамоты, ни подарки не принимаются, о чем все созванные Японской империи чины утвердительно определили.
Второе. Империя японская издревле торгует только с корейцами, ликейцами, китайцами и голландцами, а теперь только с двумя последними, то и нет нужды в новой торговле.
Третье. Так как запрещено ходить в Японию другим нациям, то следовало бы поступить по законам, но, уважая доброе намерение российского государя, отпустить судно обратно и дать на дорогу провизию, с тем чтоб никогда россияне в Японию больше не ходили, и поскольку другой бы нации судну быть шесть месяцев в Японии не позволили, то принять это за милость японского императора».
Дрожа от нанесенного оскорбления и негодования, Резанов заявил обер-толкам:
— России японский торг не нужен, но российский император хотел оказать свою милость японцам, которые во многом нуждаются. Им же хуже, если они отказываются. Кабуковское величество напрасно думает, что российский император ждет ответных подарков, его же подарки следовало бы принять, поскольку они присланы государем, предлагающим дружбу.
— Удел дружбы только тогда хорош, когда он завязан по доброй воле, возражали обер-толки.
Посла опять пригласили в комнату вельмож, где даймио прочитал бумагу и передал ее обер-толкам, которые объяснили, что их император «жалует на дорогу посольства пшена и соли».
— Государь мой жалует подарками ваших вельмож, — сказал посол обер-толкам.
— Не могут принять, — ответили они, — запрещено.
— Я желал бы заплатить за провизию.
— Нет, вы должны принять ее даром.
Пришлось согласиться.
Как по мановению волшебного жезла, на следующий же день настроение изменилось: губернатор высказал от имени всех трех вельмож сожаление о том, что дело не увенчалось успехом, и просил не отказываться от безделицы, пожалованной лицам посольства и офицерам в виде двадцати пяти ящиков японской шелковой ваты. Обер-толкам разрешено было принять от посла в подарок по одному предмету.
Обер-толки обещали вести с послом переписку через Батавию.
— Само собой разумеется, — говорили они, — называть вещи своими именами мы не сможем, но вы нас поймете, если мы напишем, например, что «погода у нас та же и ветры дуют по-прежнему», или что «дурная погода переменилась в тихую и благоприятную».
Они вместе с тем заверили, что так же думают и даймио и губернаторы.
— Вы не можете себе представить, — говорили обер-толки, — насколько мы возмущены вынесенным нашим правительством решением.
— Это решение бьет прежде всего, и больно бьет, Японию, а не Россию, горячо заговорил Скизейма, совершенно сбросив с себя ледяную маску безразличия и холодности. — Недовольство правительством шумно разойдется по всей Японии и отразится решительно на всех делах. Правда, у нас и правительство и законы очень строги, но я, конечно, буду писать вам не о погоде. Пусть отцы наши ели пшено и ползали, как и мы, но я вовсе не желал бы, чтобы мои дети мне в этом подражали. Я глубоко верю, что в очень скором времени мы завяжем с вами самые близкие отношения, и прошу вас сохранить обо мне и моих товарищах такие же искренние чувства, какие мы имеем к вам, собираясь с опасностью для собственной жизни писать вам…
— А не натворили ли чего-нибудь тут голландцы? — спросил Резанов.
Обер-толки рассмеялись.
— Ни в коем случае! Они ведь не пользуются ни малейшим влиянием, а Дефф очень обеспокоен тем, что вы так именно и можете подумать. Он сам огорчен…
Доходили слухи и о том, что приехавшие нагасакские и миакские купцы открыто ругают правительство и обер-толков, подозревая их в том, что они пляшут под голландскую дудку. Все это радовало, но ничуть не меняло положения: посольство в Японию потерпело полнейший провал…
Свободно вздохнули офицеры «Надежды»: скучнейшее шестимесячное пленение окончилось.
Проводы посла были так же торжественны, как и прием: роскошная яхта, обер-баниосы, обер-толки и сто буксирных лодок для сопровождения из порта российского корабля…
10. К туманным берегам Аляски
Ледяной припай и скопления льдин у залива Терпения заставили Крузенштерна изменить курс. Пошли на юго-восток. Резанов попросил зайти на курильский остров Уруп. С точки зрения интересов Российско-Американской компании это было не только целесообразно, но даже необходимо. Еще в 1795 году на Уруп был отправлен партонщик Звездочетов с сорока поселенцами, и с тех пор о них не было никаких известий.
— Я не могу заходить всюду, куда вам вздумается, — заявил Крузенштерн. — Соображения морского порядка заставляют меня держать курс севернее пролива Лебусоль, ибо на мне лежит ответственность за целость корабля и людей.
— Не забывайте, Иван Федорович, что высочайшим повелением на меня возложена определенная миссия…
— Но и вы не забывайте, что ваше положение теперь во многом изменилось, — перебил Крузенштерн. — Вы более не посол, а только представитель Российско-Американской компании. Судно же «Надежда» правительственное, и мои обязанности по отношению к вам ограничиваются теперь доставкой вас и ваших людей на Камчатку, и только.
— Кроме посольства, я имею еще ряд высочайших поручений, для исполнения которых корабль «Надежда» служит и будет служить средством… — начал было возражать Резанов.
Крузенштерн демонстративно отвернулся и зашагал в свою каюту.
* * *
«Надежда» вошла в Петропавловскую бухту, когда уже начинало темнеть. В бухте стоял зимовавший здесь бриг компании «Мария Магдалина».
Резанов сообщил Крузенштерну, что в связи с пребыванием здесь «Марии» его планы меняются. До сегодняшнего дня он предполагал, отпустив «Надежду» на Сахалин, обревизовать Камчатку и выехать в Петербург, не побывавши в Америке. Теперь же «Мария» позволяет выполнить ему и самую трудную миссию. То есть он намерен на «Марии» отплыть в Америку.
— Редко удается видеть такую плавучую мерзость, как эта компанейская блудница «Мария Магдалина» с ее экипажем и распорядками, — возмущался Крузенштерн, делясь с Ратмановым впечатлениями от визита к командиру «Марии» лейтенанту Машину.
— Я кое-что слышал об этом, Иван Федорович, — ответил Ратманов. — И судно видел — двухмачтовка… Нелепейшей охотской постройки. Неуклюжее, как чурбан, почему-то именуемое бригом.
— Судно перегружено и товарами и людьми, — продолжал Крузенштерн. — Я насчитал больше семидесяти человек, без офицеров, компанейских приказчиков и других пассажиров. Много больных… Как выходцы с того света, бродят люди по кораблю, немытые, нечесаные, в невообразимом рубище. Лангсдорфу, которому приходится плыть с ними, не по себе… А вот, кстати, и он собственной персоной, — добавил он, увидев входящего Лангсдорфа. — Ну что, господин доктор, — перешел он на немецкий язык, — каково?
— И не говорите. — сказал, здороваясь с Ратмановым, Лангсдорф, отправлявшийся на «Марии» в роли доктора. — Я в ужасе, мне все кажется, что по телу, не переставая, ползают жирные вши, которых так любезно и предупредительно пассажиры «Марии» вылавливали на палубе друг у друга… А вонь?.. На некоторых ни одежды, ни белья, одни грязные лохмотья. У некоторых, страшно сказать, рваные ноздри — это получившие прощение преступники. Горькие пьяницы, алкоголики из разорившихся купцов и ремесленников, разные неудачники из числа искателей приключений и легкой наживы…
— Да, из этих людей состоит и команда, — подтвердил Крузенштерн. Матросы в прошлом году в первый раз, да и то очень недолго, побывали в море. Я не знаю, как и чем занимался с ними Машин, да и занимался ли вообще, но они вовсе не умеют управляться с парусами и даже не знают их названий. Я просил проделать какой-нибудь маневр, и вот пятьдесят человек не смогли сделать в полчаса то, для чего достаточно десяти минут. Жутко даже подумать, в каком положении окажется корабль с такой командой в минуту опасности.
— Вы требуете от этих людей работы, господин капитан, — опять заговорил Лангсдорф. — Но для этого их надо прежде всего подкормить. Верите ли, они почти поголовно заражены цингой, а что будет с ними после голодного плавания?
— Ну, подкормите — и все, — ободряюще сказал Ратманов. — Запаситесь только противоцинготными средствами да свежим мясом.
— Черт знает, что делал с ними здешний эскулап, но он выписал здоровыми не только цинготных, но также и застарелых венериков, — продолжал жаловаться Лангсдорф. — Я предложил их списать с корабля и заменить здоровыми. С этим согласился и лейтенант Машин, а господин Резанов твердит одно: во-первых, некем, а во-вторых, надо спешить — послезавтра выходим в море…
Шемелин, узнав, что Крузенштерн, будучи на корабле, вслух грозил компании разоблачениями, поспешил с докладом к своему начальнику.
— Ваше превосходительство, — обратился он к Резанову, — капитан Крузенштерн был на «Марии» и разбушевался там, как у себя на корабле, но, конечно, не против командира, а против компании.
— Из-за чего? — спросил Резанов. — Что ему не понравилось?
— Вы уже сами изволите знать, что лейтенант Машин, вместо того чтобы спешно идти на Кадьяк, под предлогом неисправности судна из Охотска прошел на Петропавловск и здесь зазимовал. Солонина была заготовлена перед самым отбытием из Охотска, рассчитана на переход в холодное время, и потому дана ей соль малая. Теперь, перед самым отплытием, пришлось выбросить ее в море.
— А вот доктор Лангсдорф говорил, что люди раздеты, грязны и больны, это верно?
— Что грязны — это верно, к чистоте они не приучены, но все же, будучи на суше, умывались каждый день, а теперь об этом должен позаботиться командир корабля. Я проверил книги Охотской конторы. Из них видно, что при отплытии «Марии» из Охотска всем им было выдано, кроме ежедневной, по две пары праздничной одежды, одна из межирицкого синего сукна, а другая — из тонкого фламандского полотна и по трое брюк из ярославской полосатой ткани, белья всякого по пристойному количеству. Кроме того, они были достаточно снабжены табаком, мылом и хорошей обувью.
— Как с больными? — опять спросил Резанов.
— Больных было всего четверо. Из них двое скрывали свою тайную венератскую болезнь, а по обнаружении списаны на берег. Из двух остальных один собирал по приказанию лейтенанта Машина птичьи яйца на прибрежных скалах, упал и разбился, а другой лежит после стегания кошками по его же приказанию. Говорят, едва ли выживет…
— Скотина! — выругал Резанов лейтенанта Машина и продолжал расспрашивать: — А как же все-таки с продовольствием? С чем же мы пойдем?
— Две бочки со свежей солониной. Далее: треска, сельди сухие и соленые, лучшее пшено, что привезли из Японии, мука ржаная и пшеничная, сухари, коровье масло — бочка, хлебный ревельский спирт в большом количестве.
— Не мало ли продовольствия?
— Нет… по расчету на три месяца…
Через день свежий попутный ветер заставил капитана «Марии» отдать рано утром команду поднять якорь.
Резкий ветер гнал холодные туманы.
На бриге «Мария» в кубрике, между палубами, где были размещены больные, на верхней палубе, где зябко кутались в свое рванье, прижавшись к мачтам и тюкам, промышленные, царила невыразимая скука. Еще тоскливее было в кают-компании и офицерских каютах.
Резанов, почти не вставая от стола, исписывал с легким поскрипыванием пера целые стопы крепкой японской бумаги проектами, инструкциями и письмами директорам компании, министрам и даже самому царю.
На этом же корабле находились два моряка, которых еще в Петербурге Резанов нанял на службу компании: лейтенант Иванов и мичман Давыдов. Прибыли оба они в Петропавловск (еще по зимним дорогам), и сейчас Николай Петрович Резанов взял их с собой, зная, что оба они на американском берегу нужнее, чем здесь.
Машин, призвав к себе на помощь будущего кадьякского бухгалтера, молча проверял запущенные счета корабля, резко и быстро щелкая налитыми свинцом тяжелыми костяшками больших счетов.
Энергия, воля к жизни, к движению горела только на участке Лангсдорфа. Углубившись в свои докторские обязанности, он при помощи егеря Ивана, отпущенного Толстым в эту «сомнительную» экспедицию, скреб, чистил, стриг и мыл своих грязных пациентов. Время от времени Иван выбегал наверх с заряженным ружьем в руках в надежде, не удастся ли подстрелить какую-нибудь диковинку для собираемой коллекции.
Ружейный выстрел егеря будоражил весь корабль. Бежали матросы спускать шлюпку, бежали пассажиры в надежде полюбоваться диковинной добычей, бежали повар с поваренком: «А вдруг что-нибудь вкусное, свежее, съестное?» Бежал Лангсдорф, бросая выслушивание. Чуть ли не в чем мать родила мчался недомытый больной, не обращая внимания на промозглый холодный бус.
Через минуту возвращались с досадой на то, что напрасно истрачен порох. Один Лангсдорф, бережно держа в руках какую-нибудь убитую пичужку меньше воробья на длинных тонких ножках или с перепонками на коротких желтых лапках, внимательно присматриваясь, бросал: «Карош, Иванушка, ошин карош птичка!»
Резанов в своей каюте писал донесение на имя государя:
«Упрочиваться весьма нужно в краю сем, сие неоспоримо, но столько же и ненадежно с голыми руками, когда из Бостона ежегодно от 15 до 20 судов приходит. Первое, нужно Компании построить небольшие, но военные брики, прислать сюда артиллерию и тогда бостонцы принуждены будут удалиться. Второе, самое производство Компании дел ее на столь великом пространстве требует великих издержек и одним торгом рухляди удержаться не может, кроме того, что заведения и в Америке никогда не достигнут силы своей, когда первый припас, то есть хлеб, возить должно из Охотска, который и сам требует помощи. Для сего нужно исходатайствовать от гишпанского правительства позволение покупать на Филиппинских островах и в Хили тамошние продукты, из коих хлеб, ром и сахар мы за бесценок иметь можем и снабдим ими всю Камчатку…»
Пройдя между Командорскими и ближними островами Алеутской гряды, «Мария» отошла далеко к северо-востоку, к группе Прибыловых островов, где один из старовояжных, взявший на себя обязанности лоцмана, горький пьяница, но бывалый, тщетно старался отыскать хорошо знакомую бухту.
— Я бы нашел гавань, — хвастал он, отойдя от штурвала и торопливо переводя разговор на другую тему, — я тута с самим Прибыловым два года стоял. Мы здеся одних бобров, почитай, тыщи четыре набили, котов без малого тыщ сто да голубых песцов, поди, тыщ десять. Теперя самое их время — детеныш пошел, и мяса ску-усное!
— Вот ты, Иван, егерь прозываешься, — обратился он к Ивану. — Ну-ка, сказывай, когда начинаются лежбища котов и сивучей?
— Не знаю, — откровенно сознался Иван, — никогда не видал и не бивал.
— Не знаешь, та-ак… А может, знаешь, какой шерсти серый кот? продолжал он насмешливо.
— Ну что ты к человеку пристал! — добродушно вмешался в беседу другой промышленный, покрытый зарослью бороды до самых выцветших, маленьких, щелочками, глаз, и тут же пояснил: — Серый — это, понимать, совсем молодой осенний кот, а шерсть на ем не серая, а такая, как и у других. Коты, понимаешь, приходят сюды с полдня в апреле, и тут, понимаешь, матки все чижолые, а с ними секач — у яго по двести, а то и по триста маток. Ревет, понимашь, сзыват, значит, их и ложится, где повыше, да так, чтобы всех сразу видать. Ну, а холостяки, которые по третьему году, у тех, понимашь, только по одной, по две женки… Мать честная, — вскрикнул он после небольшой паузы, — посмотрел бы, как придет июнь!
— Да, да, — подтвердили с разных сторон, — вот потеха!
— Хи-хи-хи… — залился тонким дробным смехом бородач. — Подберется это холостяк к стаду с краешка да и подкотится, понимашь, к чужой женке-то. Ан ейный «мужичок» тут как тут — и пошла потасовка: ластами так и лупят со всего маху по мордам, аж мясо кусками. Ну, бьются, понимать, до смерти. В месяце июне тут, брат, секачу не до еды. С места не сходит и в воду не спущается и месяц и два: ссохнет весь, ослабнет.
— А плавать учат как, умора! — заговорил еще один из промышленных. Вот это выкинула она в апреле, ну, одного там, двух.
— Так мало? — удивился Иван.
— Да ты что, думашь, свинья, что ли?.. Ну вот, месяц и полтора в воду ни-ни: ползают это на брюхе по камням, сосут себе — и никаких. А как ближе к июлю, вот тады пожалуйте в воду: берет она его за шиворот в зубы и ташшит в море. Ну, он, конечно, пишшит — боится. А она никаких, отплывет и бросит барахтайся. Сама все около яго плывет. Он к берегу — и она тоже. Только вылез, а матка снова цоп — и опять, и опять, пока совсем не сморится. Ну, тогда отстанет — пущай кутенок дух переведет.
— А когда начинаете охоту на котов? — спросил Иван.
— У нас, брат, не охота, понимашь, а промысел, — наставительно ответил бородач. — А отгон делам в конце сентября или октября. Ну тогда, понимать, все собирайся в линию, отрезам лежбища от берега и тихонько гоним от моря вверх скрозь к нашему зимовью. Пойдем, пойдем, остановимся… опять пойдем. Скоро гнать негоже, утомятся — сдохнут.
— А много их в стаде-то?
— На Павле тыщи по три, а то и все четыре, а на Ягории больше двух никогда не быват. Ну тут, понимашь, из стада выгоняй стариков секачей, маток да холостяков к морю, а серячков бьем дрегалками… И что думашь, — добавил он, понизив голос, — жалко вить… Станет это он на хвост, изогнется весь, ласты подымет, то опустит, как твои руки, ей-богу! А сам вопит, прямо как дите, тонко, тонко. А у тебя-то дрегалка вся в крови, аж с рук тикёт. И дух чижолый, и сам, как убивец какой али разбойник…
Через несколько дней на Уналашке Иван и сам с другими промышленными, вооружившись дрегалкой и весь окровавленный, колотил, несмотря на то, что до сезона охоты было далеко, котовый молодняк. На корабль было доставлено около ста котовых тушек, набитых в течение одного часа. Тем не менее промышленные жаловались на то, что «ноне кота мало стало», и это было верно: стада котиков ежегодно на глазах уменьшались, и временами приходилось приостанавливать промысел.
Иван легко научился растягивать шкурки на деревянных пялах попарно шерсть к шерсти, осторожно сушить их в сушилах, обогреваемых каменками, и даже упаковывать в тюки «по полста». Набитые им и Лангсдорфом чучела тщательно исправлялись строгими судьями из промышленных до тех пор, пока не получали согласного: «Таперя хорошо, как есть всамделе…»
Сбежать с покрытой высокими остроконечными горами, негостеприимной Уналашки было довольно трудно, но что-нибудь пропить было вполне возможно, так как селение было людное. Тем не менее, сговорившись с управляющим колонией Ларионовым, о котором и туземцы и промышленные отзывались исключительно хорошо, Резанов распорядился спустить своих «варнаков» на берег, пригрозив, что за обиды жителей, ссоры с туземцами, драки виновные будут закованы в кандалы и заперты в трюме. И тут же перешел от слов к делу: наградил Ларионова медалью, а начальника ахтинской артели Куликалова за издевательства над туземцами и в особенности «за бесчеловечное избиение американки и ее сына», как он оповестил в приказе, заковал в железы, объявив ему, что будет предан суду.
Уналашкинский склад оказался заваленным до отказа прелыми и никуда не годными сапогами, торбасами, гнилым сукном, проросшим зерном, затхлой крупой, заплесневелыми сухарями, проржавевшими, негодными ружьями и такими же негодными пушками.
— Все проклятая Охотская контора, — жаловался Ларионов. Перелопачиваем зерно по два раза в неделю, устроили продухи, прогреваем склад круглый год, даже летом, ничего не помогает.
— Мошенники! Воры! — И до самого ужина бушевал Резанов, угрожая и стращая далеких «охотских мошенников».
Восьмидневная стоянка на Уналашке разрядила тяжелую атмосферу. Хвостов и Давыдов сдружились с общительным Лангсдорфом и заставляли его помогать им составлять словарь местных наречий. Он с исключительной добросовестностью записывал туземные слова по-немецки и даже пробовал переводить их на русский язык…
Иногда в их компании оказывался и Резанов, старавшийся лучше ознакомиться с неизученным краем.
— Вы здесь уже полгода, — обратился он как-то к Хвостову и Давыдову. Уже наслышались о здешних нравах. Скажите, очень бесчеловечно обращаются с туземцами здесь, в Америке?
— Да как вам сказать, Николай Петрович, — ответил Хвостов, — здесь, у Баранова, сурово, но с толком, а на том берегу, — он указал на восток, много хуже: как попало, бесчеловечно и сумасбродно. И отношение к расправам различно. Ну, хотя бы этот случай зверского поступка Куликалова: о нем вы услышите на всех островах, а там, — он опять ткнул рукой на восток, — это в порядке вещей и на подобное никто не обращает внимания. Или возьмите случай с утопившимися алеутскими девками — о нем несколько лет говорят, и, конечно, повторять неповадно.
— Это что еще за случай? — спросил Резанов.
— Да все это от незнания местных нравов, — вмешался в разговор Давыдов. — Послал тут один из управляющих десяток девок алеуток в лес за ягодами, да сдуру и пригрозив выпороть их за леность. А те возьми да и утопись в море все до единой. Здешние туземцы, — пояснил он, — порку считают для себя позором, смываемым только смертью обидчика или своей собственной.
— Вот тебе и язычники, дикари! — удивился Резанов. — Да уж дикари ли эти люди с таким чувством человеческого достоинства?
Ужинали в столовой отведенного офицерам дома: пробовали китовое жирное мясо, брезгливо и недовольно фыркали. Строгий и подтянутый Хвостов, особенно интересовавшийся состоянием здешнего флота, рассказывал:
— Суда до сих пор строились в Охотске людьми, не имеющими ни малейшего о сем представления, самими промышленными или какими-нибудь корабельными учениками. Они же становились и к штурвалу, прозываясь старовояжными в отличие от новичков, именуемых казарами. Старовояжный идет по затверженному им в прежних вояжах курсу, по приметным местам. Это называется перехватить берег: из Охотска — берегом Камчатки до первого курильского пролива, дальше перехватывают какой-нибудь из первых Алеутских островов и идут вдоль гряды, или, как они говорят, «пробираются по-за огороду». Идут до начала сентября, а потом отыскивают песчаный отлогий берег, вытаскивают на него судно и зимуют… до самого июля. До Кадьяка, как правило, в один год не добираются, а бывали примеры, что еле доходили на четвертый. Лавировать не умеют, идут только с попутными ветрами или ложатся в дрейф.
На Кадьяке Резанову сообщили о благополучном прибытии «Невы» после отвоевания Ситхи и о том, что Лисянский после зимовки, двадцать дней назад, ушел в Ситху, чтобы оттуда направиться в Кантон, на встречу с «Надеждой».
Резанов заторопился, хотел застать «Неву» еще в Ситхе и потому решил ограничиться здесь лишь самыми необходимыми мероприятиями. Больше всего беспокоило духовенство. О его жизни на островах Резанов был осведомлен еще в Петербурге, так как прочитал не только все документы, имевшиеся в правлении, но и доносы и письма, посланные в разное время в синод. Привезенного же «Невой» отца Гедеона он знал по совместному путешествию как робкого, безобидного и недалекого человека.
Выслушав доклад Гедеона, Резанов позвал остальных монахов, Германа и Нектария, и, не подавая руки, строго сказал:
— Вами очень недоволен святейший синод. Господину прокурору его досконально известны все здешние дела: вмешательство ваше в распоряжения главного правителя, плохие, отнюдь не христианские, отношения друг с другом, из рук вон скверная работа по приведению в христианство язычников, по просвещению их и смягчению нравов в духе православной веры, наконец, леность и праздность, коей вы предаетесь. Считаю своим долгом предупредить, что в силу предоставленной мне власти я церемониться с вами не буду, и ежели вы когда-нибудь осмелитесь что-либо сделать без разрешения правителя или вмешиваться в гражданские дела, то пощады не ждите. От меня будет дано повеление немедленно высылать такого преступника в Санкт-Петербург, где за нарушение общего спокойствия будет он лишен духовного сана и примерно наказан, яко изменник отечеству.
Дружный грохот неожиданно упавших к ногам Резанова трех тел заставил его невольно вздрогнуть.
— Простите, ваше превосходительство, будьте милостивы! — взмолились монахи.
— Встаньте… прошу вас, встаньте, — несколько раз повторил ледяным тоном Резанов, брезгливо глядя на унижающихся, забывших про свой духовный сан священнослужителей.
— Встаньте! — топнул он, наконец, ногой.
— Не встанем, пока не простишь, милостивец, ваше превосходительство, упорствовали монахи.
— Ну, так и лежите себе! — сердито проговорил Резанов и вышел в соседнюю комнату.
— Миновало, — сказал, еще лежа на полу, отец Нектарий.
— Кажись, миновало, — с некоторым сомнением в голосе подтвердил отец Герман и стал подыматься.
— Я вам покажу, стервецам! — зловещим шепотом прошипел поднявшийся раньше всех Гедеон, грозя двум остальным кулаком. — Будете у меня ходить по струнке!
— Отче, прости! — опустились оба перед Гедеоном на колени, молитвенно складывая ладони.
— Глядеть противно на вас обоих… Подымитесь! — сказал он и тоже, брезгливо морщась, подражая Резанову, вышел вслед за ним.
— Вот гадюка! — в один голос обменялись впечатлениями Герман и Нектарий, встали и в сердцах сплюнули на пол, и затем на цыпочках подошли к двери и прислушались.
— И вы тоже хороши, отец Гедеон, — говорил повышенным голосом Резанов. — Столько времени не можете справиться и навести у себя порядок!
— Трудно, ваше превосходительство, — еле доносился из-за двери елейный тенорок Гедеона. — Увещевание не помогает, ваше превосходительство. Огрубели здесь, оскотинели, тут надо бы либо заточение, либо железы.
— Злая ехидна, — прошипел Нектарий, а затем от волнения и негодования оба не выдержали и, толкнув дверь, медленно вошли. Придерживая наперсные кресты, оба истово перекрестились на икону и отвесили поясной поклон Резанову, после чего по его приглашению, нервно перебирая на коленях складки ряс, уселись на краешек табуретов.
— Крестили вы здесь несколько тысяч и этим хвастаетесь, — опять заговорил Резанов. — А не видите, что идолопоклонник как был, так им и остался: в одном углу у него Спаситель на кресте, в другом — идол. На обоих крестится, обоих тухлой китовиной кормит и обоих бьет, ежели не потрафили. Думаете, кивнул-мигнул — и православный христианин готов?
Монахи потупились и исподлобья многозначительно уставились на Гедеона, который действительно просто сгонял крестящихся американцев в море и там крестил их толпами.
— Про Ювеналия слышали?.. Только завели хороший торг на Аляске, обещавший большие прибытки, тотчас поскакал непрошеный туда, да и давай работать: насильно крестил и венчал на родных сестрах, девок отнимал у одних и отдавал другим. Пускал в ход и кулаки. Долго терпели, а стало невтерпеж убили. Дальше — хуже, заодно и всю русскую артель перебили: ни одного живым не выпустили… Как вы думаете, сколько времени носа туда нельзя показать? Сочтите, сколько убытку произошло от одного сего неистового безумца. Почему не посоветовался с главным правителем? Ведь он хозяин, он отвечает за все. Вольничанья, повторяю, не потерплю!..
Монахи смиренно молчали.
11. Резанов и Баранов
Жутью повеяло на Баранова ледяное «благодарю вас», небрежно брошенное Резановым, когда Баранов ввел его в отведенное на высокой горе помещение.
Баранову очень не понравился этот вылощенный петербуржец, высокий и худой, с холеными, бледными и набухшими в суставах подагрическими пальцами. Привычка Резанова картавить, медленно, как-то по-особенному процеживать слова сквозь зубы и затем старательно нанизывать их; его снисходительный взгляд сверху вниз на маленького Баранова, его короткое «подумаю» или расслабленный и брезгливый взмах костлявой руки, обозначающий не то «отстаньте», не то «не говорите вздора», действовали угнетающе. В разговоре с ним Баранов терялся и умолкал.
Его ближайший помощник и заместитель Кусков недоумевал, куда вдруг делась кипучая энергия, непреклонность, звучавшая во всех распоряжениях этого волевого, решительного человека. Баранов как бы застыл, потерял веру в себя. Он сбился с тона и на распоряжения Резанова безразлично отвечал: «Делайте, как знаете, пусть будет по-вашему».
Казалось, что эти люди, выходцы из двух разных миров — камергер, выдающийся прожектер высоких канцелярий и купец, прошедший суровую школу жизни, привыкший полагаться только на самого себя, — не могли понять друг друга.
Резанов творил планы для выполнения их другими. Баранов неутомимо действовал сам, легко применяясь ко всякому положению и находя наилучшее практическое разрешение всех трудностей, встречающихся на его пути. Эту энергию Баранова не могла сломить самая суровая действительность, но она замерзала от холодного дыхания таинственного, туманного Петербурга в лице приехавшей «особы». Баранов упрямо стал твердить одно и то же: «Освободите, я ухожу». За ним то же самое повторял Кусков.
Это не на шутку встревожило Резанова. Мысленно перебирая всех знакомых ему людей, он не находил ни одного мало-мальски пригодного для работы в тяжелых и своеобразных условиях Америки. Впрочем, самого Баранова он понял и оценил довольно быстро, но не сразу сумел примениться к нему.
«Баранов есть весьма оригинальное и притом счастливое произведение природы, — писал он в свое правление, — имя его громко по всему западному берегу, до самой Калифорнии. Бостонцы почитают его и уважают, а американские народы из самых дальних мест предлагают ему свою дружбу. Признаюсь вам, что с особливым вниманием штудирую я сего человека. Важные от приобретений его последствия скоро дадут ему и в России лучшую цену…»
Особенно подкупило Резанова и настроило в пользу Баранова полнейшее отсутствие забот о самом себе.
«Неприятно, однако ж, будет услышать вам, — писал он дальше, — что в теперешнем положении компании сей не только для нее, но и для пользы государственной нужный человек решился оставить край. Назначенный им в преемники г. Кусков — человек весьма достойный и доброй нравственности. Я отличил его золотой медалью, которую он принял со слезами благодарности, но также решительно отозвался, что оставаться не намерен. Между тем, узнав и вникнув в здешние обстоятельства, скажу вам, милостивые государи мои, откровенно, что по нынешнему устройству края новый человек не скоро найдется здесь и, пока будет ознакамливаться, компания уже почувствует великие и невозвратимые потери, да легко и всех областей лишиться может. Таково-то безобразное устроение торгового нашего дела».
Широкие по размаху планы Резанова, включавшие даже возможность продвижения на хлебный юг, с течением времени перестали пугать Баранова. Беседы стали чаще, продолжительнее и постепенно превратились в дружеские.
— Мне хотелось знать, в чем вы здесь больше всего нуждаетесь, спрашивал Резанов.
— Да прежде всего хотелось бы побольше флота, — говорил Баранов. — А то отрезаны мы и от Охотска и остров от острова, да и по-настоящему защищаться не можем. Иностранные компании хорошо знают эту нашу слабость. Мы сердимся, а как прогнать их? Чем?..
— Кстати, — заметил Резанов, — у вас тут бостонец Вульф затесался и что-то подозрительно долго сидит.
— Дай бог, чтобы все бостонцы были на него похожи. Вульф человек неплохой. Спросите у ваших офицеров, они с ним познакомились.
— Завтра же расспрошу. А как ладите тут с морскими офицерами?
— И не говорите, Николай Петрович! Флот — он вот как нужен, — провел Баранов ребром ладони по горлу, — а как подумаю об офицерах, мороз по коже подирает…
Слова Баранова заставили Резанова вспомнить недисциплинированность лейтенанта Машина на «Марии». Он уже знал, как трудно было правителю островов справиться с офицерами, находившимися с разрешения правительства на временной службе компании по специальным личным договорам.
Испытать на себе, что такое офицерская вольница, Резанову пришлось уже на следующий день по прибытии в Ново-Архангельск. Рано утром он увидел из окна входящее и гавань судно.
— Это наша «Елисавета», — сказали ему. — Командиром на ней лейтенант Сукин. Мы думали, он давно погиб, с прошлого года сюда идет. Не быть добру… Он себя тут покажет… И где же это он пропадал?
«А и в самом деле, где же он шатался?» — подумал Резанов, припомнив, что Сукин вышел в море из Охотска раньше «Марии» с предписанием держать путь прямо на Кадьяк и что, как рассказывали на Уналашке, он там и зимовал, занимаясь кутежами и разными бесчинствами.
На посланное Барановым Сукину на всякий случай, кроме Кадьяка, еще и на Уналашку предложение спешить прямо в Ситху он не обращал ни малейшего внимания до тех пор, пока не возмутились его собственные подчиненные, мичман Карпинский и корабельный мастер. Однако, снявшись с якоря только в июне, он все же пошел не на Сигху, а в Кадьяк, простоял там несколько недель и исчез и только теперь пожаловал в Ново-Архангельск.
Через час, не снимая шинели и шапки, Сукин ввалился к Резанову.
— Я слышал, новое начальство приехало? Давно пора, — развязно заговорил он, подходя к Резанову.
— Кто вы такой? — резко и сухо спросил Резанов, не вставая навстречу.
— Я российского военного флота лейтенант и командир судна «Елисавета», — ответил Сукин.
— А я, — сказал Резанов, вставая и выпрямляясь, — российского императорского двора камергер и начальник Русской Америки. Благоволите явиться ко мне через час.
Сукин смутился и, пожав недоуменно плечами, вышел, а через час явился в мундире и с рапортом. Рапорта Резанов не принял, но о причинах замедления приходом и невыполнения охотского приказа и последующего распоряжения Баранова расспросил. Сукин ответил, что он считал необходимым прежде всего обследовать новооткрытые острова, однако описать, какие именно и где, не смог.
— А вы не думаете, — спросил Резанов, — что ваша обязанность прежде всего охранять старые, которые мы можем потерять? Время неспокойное…
Баранов притворился, что поверил Сукину, и предложил ему отправляться на остров Хуцнов для охраны посланной туда партии промышленников.
— Благоволите немедленно приступить к исполнению распоряжения правителя, — сказал Резанов в ответ на заявление Сукина о том, что команда нуждается в отдыхе. — Необходимо тотчас же, в самом неотложном порядке спешить навстречу промысловой партии.
— У меня некому грузить балласт, — попробовал отмахнуться Сукин.
— Я дам вам на помощь людей с «Марии», — предложил Резанов.
Сукин людей с «Марии» поставил немедленно на работу, а своих снял.
Прошло три дня, балласт был погружен, но Сукин не уходил. Ссылался на то, что еще не запасся водой и не получил всего продовольствия. Продовольствие было выдано в тот же день, а он по-прежнему стоял на якоре.
Резанов вызвал его, строго спросил:
— Почему вы медлите?
— У меня течет байдара, — отвечал Сукин. — Починю, подыму якорь…
— Я предупреждаю вас, лейтенант, бросьте шутить! — прикрикнул на него Резанов. — Если завтра к шести утра вы не подымете якорь, вам больше здесь, в Америке, подымать его не придется.
Сукин снялся, отошел на несколько миль и лег в дрейф, несмотря на попутный ветер.
Тут взволновался и Баранов: он получил известия, что хуцновцы, вооружившись, поджидают возвращения партии после лова, чтобы отнять добычу, а в партии было шестьсот человек.
К Сукину послали лейтенанта Хвостова, на этот раз с приказом Баранова сдать командование судном мичману Карпинскому и явиться к Резанову.
— Лейтенант Сукин, почему вы так странно и вызывающе себя ведете? спросил Резанов, когда Сукин явился к нему. — Ведь если что-нибудь случится с промысловой партией, я вас не пощажу…
Сукин молчал.
В тот же день Резанов писал правлению в Петербург:
«Энтузиазм Баранова все еще так велик, что я, несмотря на ежедневные отказы его, все еще хочу себя польстить надеждой, что он, может быть, еще и останется, буде компания подкрепит его настоящим правом начальника. Следует испросить высочайшую волю, чтобы утвердить правителя областей ее на основании губернаторского наказа, в равном праве начальственном. А без высочайшей конфирмации смею уверить, что правления компании не послушают, да еще без гарнизона, и в том сомневаюсь потому, что водочные запои не допущают ничего порядочно обслуживать, а в буйную голову можно ли словами поселить уважение к пользам отечества.
По реестрам о заборе, вам посылаемым, убедитесь, что у многих офицеров за год вперед водкою выпито. Всюду, где ни погостили однажды, стекла у прикащиков выбиты. Господин Сукин по сие число более вперед забрал, нежели три тысячи рублей, но главная статья, как увидите, водка.
Унять разнузданность сию нечем, да и некому… День — послушны, а как чад забродил, ругают без пощады. Истинно стыдно и прискорбно описывать, как далече язва неповиновения распространилась».
* * *
— Так вот, Александр Андреевич, садитесь и давайте подумаем вместе, что же нам делать с господами офицерами, — сказал Резанов, с трудом подвигая тяжелый рубленый стул местного изделия к такому же столу, накрытому чистой скатертью. С потолка свешивалась взятая с «Марии» лампа, а на столе, дрожа от собственного усердия, пыхтел и захлебывался хорошо начищенный самовар.
— Как у вас уютно, — восхищался гость, — прямо как во дворце! И даже сахар в настоящей сахарнице!
— Так что же вы скажете о морских офицерах? — продолжал Резанов начатую утром беседу.
— Что скажу… — заговорил Баранов, ловко раскалывая на ладони обушком ножа кусок сахару. — Ну, Мишина и Сукина вы и сами теперь узнали. Пьют напропалую, буйствуют, и бывает, что с ними сладу никакого нет. Эти уж навсегда испорченные. И достойно сожаления, что являют собою пример… Вот вы привезли с собой лейтенанта Хвостова. Про него тут много рассказывали, когда он в первый раз появился, что он господин исключительно серьезный и приятный, и сын почтительный, и преданный делу человек. Так оно, рассказывают, спервоначалу и было, а потом ни с того ни с сего покатился, как с цепи сорвался. В трезвом состоянии, мол, его вовсе и видеть перестали. Да и сейчас, посмотрите, он как только освободится от надзора своей няньки, мичмана Давыдова, так сейчас же шныряет по складам, водку ищет, а в пьяном виде к нему лучше не подходи. Вижу, что приятель этот его, Давыдов, хороший, еще не испорченный юноша. Так он уже не раз в отчаяние впадал, приходил ко мне и плакал: «Ну, как мне с ним сладить — лезет все время на рожон; либо сам застрелится, либо его убьют». Сейчас вот его, к счастью, отвлекло от этих разных безумных и пьяных затей новое знакомство с бостонским капитаном Вульфом да с вашим ученым доктором Лангсдорфом. Их теперь водой не разольешь…
— Я знаю Хвостова давно, — сказал Резанов, — знаю и его родителей достойные люди. Его мучает какая-то душевная рана… Ему нужно особенное, из ряду вон выходящее дело, основательная встряска, а она не подворачивается. Вот он и ищет каких-то других сильных ощущений. Их нет, ну и пьет. Мне очень хотелось бы поставить его на ноги. Чувствую себя виноватым перед его родителями, так как сам уговаривал его поступить на службу в компанию.
— Душевными ранами, признаюсь, я не занимаюсь…
Беседа была прервана Лангсдорфом, Хвостовым и Давыдовым, принесшими с собой вместе с запахом моря раздражающий запах пунша. Неожиданные гости были говорливы, очень развязны, но не пьяны.
— Мы тут, Николай Петрович, — начал Лангсдорф, — извините, без вашего разрешения, но кажется удачно состряпали одно дельце… Бостонец Вульф решил, что для него удобнее и выгоднее будет совершенно отказаться от непосредственной торговли с колошами и покупать пушнину у вашей компании.
— Это хорошо, очень хорошо, но я все-таки прошу вас, господин доктор, сухо проговорил Резанов, — на будущее время воздерживаться от вмешательства в мои дела и ограничить сферу вашей деятельности рамками ученого естествоведа и лекаря.
— Никакого вмешательства тут не было, просто к слову пришлось, развязно заговорил Хвостов, не обращая внимания на замечание Резанова, в то время как Лангсдорф сразу потерял настроение и надулся. — А мы ему на это: «Тогда зачем вам «Юнона»?» — «Да я, — говорит, — «Юнону» продал бы, если бы только было на чем уйти отсюда и добраться до Сандвичевых островов». Вы подумайте, Николай Петрович, «Юнона» хоть и меньше «Невы», но все-таки вмещает больше двухсот тонн, построена всего четыре года назад из дуба, обшита медью. На ней десять четырнадцать с половиной фунтовых пушек. А как легка на ходу!.. Купить бы, ах, хорошо!
— С одним условием, лейтенант, — усмехнулся Резанов. — Если вы кончите… догадываетесь?..
— Догадываюсь и клянусь, — с чувством проговорил Хвостов и, скорчив рожу в сторону Давыдова, крикнул: — Ура, Гаврик, пошли!
И все трое сейчас же поднялись.
— Пожалуй, это не плохо, — сказал Резанов, когда компания вышла.
— Очень даже не плохо, — подтвердил Баранов. — Положение наше здесь с кормами скверное, надо посылать в Кадьяк за юколой. А нам без двух суднишек самим оставаться здесь никак нельзя — время неспокойное.
На следующий же день Резанов попросил Лангсдорфа начать предварительные переговоры с Вульфом.
К вечеру пожаловал и сам капитан Вульф — молодой, жизнерадостный, видавший виды моряк. Хоть бостонец и дорожился, но умеренно, несмотря на то, что знал, насколько трудно было положение Баранова и на Кадьяке и в Ситхе.
В результате корабельным мастерам Корюкину и Попову дано было поручение тщательно осмотреть бостонский корабль…
— Ха-ха-ха! — после осмотра раскатисто грохотал Корюкин, не стесняясь присутствием Резанова. — Представьте себе, ваше превосходительство, половина пушек у него не пушки, а чурбаны. Ну, просто деревянные чурбаны, хотя здорово добре сделаны: обиты медью и так окрашены, что ни за что не отличишь.
— Да ладно, — нетерпеливо прервал его Резанов, — бросьте пустяки и говорите дело. В каком состоянии судно?
— Судно? — Корюкин перестал смеяться и стал докладывать: — Судно, я вам скажу, прекрасное. Медная обшивка совершенно как новая, листы толстые, во! он показал толщину в полпальца. — Дубовый корпус отлично сохранился, мачты в исправности. Паруса и такелаж такой, какого у нас нет ни на одном корабле, тоже и якоря четыре. Вся оснастка первый сорт… — И вдруг, что-то вспомнив, он опять расхохотался грохочущим смехом: — А парусина, парусина… наша ярославская, с русским клеймом… из Бостона, ха-ха-ха!
«Юнону» купили. Командиром на нее был назначен Хвостов. Вместе с Давыдовым он должен был немедленно уйти на Кадьяк за юколой, но запил…
Давыдов почти каждый день бывал у Резанова и просил списать его на берег, так как совместная жизнь с Хвостовым стала невыносимой.
— Николай, — не раз говорил он Хвостову на корабле с такой мукой в голосе, что тот иногда, несмотря на опьянение, мгновенно переставал буянить и успокаивался. — Николай, голубчик, так дальше нельзя. Пойми, ты губишь себя, доставляешь неприятности Николаю Петровичу, который спускает тебе то, чего не спустил бы никому. Опомнись, перестань!
— Мне наплевать на твоего Николая Петровича! — махал рукой Хвостов; после долгого молчания он говорил тихим и слезливым голосом, расстегивая куртку и разрывая на груди рубашку: — Душит меня… смерть бы скорей… — И вдруг кричал истошным голосом: — Ты понимаешь, мне тошно! Я больше жить так не могу и не хочу… слышишь?
В один из светлых промежутков Резанов позвал его к себе и, не обращая внимания на растерзанный вид и мутные, плохо понимающие глаза, спокойно обратился к нему:
— Николай Александрович, я жду от вас дружеской помощи.
Хвостов, ожидавший упреков и уже приготовившийся отвечать дерзостями, удивленно поднял голову.
— Чем же я вам могу помочь? — спросил он с кривой усмешкой.
— А вот чем: продовольствие на исходе, и нам грозит голодная смерть. Надо спасать людей. На Машина надежда плохая. Я решил послать в Кадьяк за юколой «Юнону». Что вы на это скажете?
Наступило тяжелое молчание.
Положив руки на стол, Хвостов бессильно уронил на них голову, и только по судорожным подергиваниям плеч можно было угадать, что он плачет.
— Простите, Николай Петрович, — сказал он, наконец, резко поднявшись и быстро, большими неверными шагами направляясь к двери. — Я завтра же подымаю якорь…
На корабле началась спешка. Четыре катера непрерывно летали к берегу и обратно на корабль. Мрачный, но полный энергии Хвостов и повеселевший Давыдов носились из склада к Баранову, от Баранова к Резанову, от Резанова на «Юнону», раздобывая все нужное.
С Хвостовым на Кадьяк ушел и Вульф, чтобы оттуда пробраться до Охотска или Камчатки, а затем по суше отправиться в Петербург.
После ухода «Юноны» в Ново-Архангельске стало и скучнее и тревожнее. Полагались, в сущности говоря, на одного только Давыдова и отчасти на Вульфа. Баранов озабоченно считал дни, прикидывая, как скоро может вернуться «Юнона». Все время он проводил на верфи, подгоняя разленившихся корабельных мастеров и рассылая мелкие промысловые партии на ловлю рыбы и всего живого, что попадется под руку.
Наступали холода, сильные ветры несли с собой дождь, град и снег.
Резанов продолжал сочинять проекты, проверяя их беседами с Барановым. Особенно беспокоил его вопрос заселения островов, в котором он разошелся с Барановым.
— Знаете что, Александр Андреевич, — начал как-то Резанов, когда они вдвоем возвращались с верфи, — без людей нам никак не обойтись. Я так думаю, нужно тысяч десять…
Плохая пища и постоянное полуголодное состояние сильно подорвали его здоровье. Он шел тяжело, опираясь на палку, и обливался потом.
— Что вы, что вы! — испуганно замахал руками Баранов. — Нам хушь бы несколько сот, и то было бы легче, а вымахнули — десяток тыщ! Попробуйте заманить сюда такую уйму народа… Да прокормить-то их как?
— Ну, понятно, заманить нечем… А вы заманивать хотите? Да кто же пойдет, когда все знают, что климат здесь суровый, ни хлеб, ни овощи не родятся… Податься к Сандвичевым островам — взбудоражить целый мир против себя. Но я, видите ли, серьезно подумываю по весне спуститься по побережью Америки к югу, поразнюхать, нельзя ли там устроить русскую земледельческую колонию. Подманить народ на острова, конечно, нельзя, Александр Андреевич, я придумал другое…
— Неужто принудительное переселение? — с ужасом спросил Баранов. Откуда? Ведь перемрет народ с непривычки! Не могу с этим согласиться, Николай Петрович. Говорят, молодой царь собирается освобождать народ, а вы хотите его еще крепче закабалить. Да и что делать здесь землеробу? Какую он будет возделывать землю? А ни к чему другому ведь он не привычен. А бабы, а семьи?.. Нет, Николай Петрович, поступайте, конечно, как знаете, а только хорошего, я думаю, ничего от этого не воспоследует.
— Вы говорите — семьи… Но можно и без семейств, на манер рекрутского набора. Сдают ведь в рекруты, часть могут сдавать и нам.
— Ну, русский мужик без семьи не может…
— А то вот еще, — не унимался Резанов, — неоплатные должники, банкроты, преступники, наказанные поселением, разве это не население?
— Помилуйте! — чуть не закричал Баранов. — Мы не можем со своими добровольцами-головорезами справиться, законтрактованными, а вы еще хотите их нам подбавить… Не годится это никак.
— Ну, а политические ссыльные?
— Политические… — задумался Баранов и не сразу ответил. — Пожалуй, было бы неплохо, особливо ежели пойдут добровольно. Мы тут постарались бы их обласкать. Но вот беда, бегать на иностранные суда начнут, а мы будем в ответе…
Резанов замолчал: доводы Баранова были слишком убедительны.
Рыба перестала ловиться совершенно Пропали морские окуни, налимы, за ними треска, и, наконец, стал редкостью даже палтус. Лужи затянулись тонким звонким ледком с круглыми хрустящими белыми пятнами. Скупое и редкое солнце уже не в состоянии было растопить корку льда. Береговые окрайки в бухте непрерывно и тонко звенели от рассыпающихся под ударами прибоя ледяных осколков…
«Юнона» словно пропала.
С мрачным видом ели ворон, противное, жесткое и вонючее мясо орлов, целыми днями партии врассыпную по берегам собирали ракушки. Очень радовались, когда среди множества маленьких пуговичных раков-каракатиц попадались шримсы, морские раки. И радости не было конца, когда кто-нибудь из охотников кричал во всю глотку: «Мамай! Мамай!» Из раков варили ароматный суп, но все же это было только лакомство, а не еда. Особенно тяжко приходилось больному желудком Резанову.
Люди переносили голод стойко и даже ухитрялись проявлять трогательную заботу к заболевшим скорбутом.
…Вечерело. Было тихо и морозно, как вдруг у конторы Баранова, который вел с Резановым очередную беседу о новом устроении края, послышался топот бегущих людей. Бегущие кидали вверх шапки, что-то орали, но разобрать было невозможно.
— Не кита ли нам господь послал на мысу? — всполошился Баранов, увидев в окно знакомую фигуру десятника, и вышел.
— «Юнона»! — кричали на улице. — «Юнона»!
Да, это была она. Все побежали к мысу.
12. Рейд в Сан-Франциско
Переполох в сонном испанском порту Сан-Франциско в Калифорнии, так же как и в близком к порту поселке, важно именуемом «президио», и даже в более отдаленной миссии францисканских монахов «Долорес», 25 марта 1806 года начался очень ранним утром.
Еще вчера, после одуряюще жаркого, бездельно проведенного дня так приятно дремалось в обширных казармах грозной крепости, устрашающе обратившей ко входу в гавань широко и откровенно зевающие жерла пушек; так приятно думалось в тиши прохладного францисканского костела за монастырской оградой и так спокойно мечталось под тихие звуки клавикордов в уютной и гостеприимной квартире коменданта порта и крепости дона Антония де Аргуелло.
А сегодня?
Сегодня по валу крепости взад и вперед мечутся солдаты; по еще не потревоженной после тихой ночи глади гавани рассыпается горохом и далеко разносится отборная испанская ругань; около пушек хлопочут артиллеристы с кисло пахнущими порохом банниками в руках и торопливо подносят и складывают в сторонке снаряды. По пыльной дороге рысит кавалькада пестро одетых вооруженных до зубов всадников. Между ними тяжко трясется, отбивая спину ленивому старому коню, толстопузый монах в подпоясанной обрывком веревки длинной черной сутане, в широкополой шляпе и в сандалиях на босу ногу.
В президио волнение овладело и женщинами. Две простоволосые прислуги индианки и полуодетые барышни, дочери коменданта, суматошно носились по квартире, торопясь поспеть к порту, чтобы хоть одним глазком взглянуть на что-то неизвестное, но захватывающе интересное и жутко любопытное.
У подъезда в ожидании барышень стояли хорошо объезженные мустанги. Лошади нетерпеливо то одним, то другим копытом рыли жесткую землю. В окне на один момент показалось смуглое, с приятно очерченным овалом и живыми глазами личико, мелькнуло девичье плечо со сползшим с него кружевом ослепительно белой сорочки на загорелой коже и скрылось: барышни опаздывали.
Быстро, на всех парусах, под легким утренним ветерком в гавань неожиданно ворвался и быстро прошел мимо крепости хорошо оснащенный корабль. Ему навстречу спешил шестивесельный катер. С катера еще издали кричали по-испански:
— Становитесь немедленно на якорь, будем стрелять!
С крепостного вала в то же время громко вопрошали в рупор:
— Что за судно?
И с вала, и с крепости, и даже с берега, к которому приблизилась кавалькада, видно было, что на верхней палубе судна и на реях происходит какая-то невообразимая суета: матросы готовятся спускать паруса, но паруса не спускаются, на носу топчутся люди у якорных канатов, как бы приготовляясь становиться на якорь, но якоря не бросают — судно продолжает идти своим курсом.
Однако все время бесплодно повторяемое требование «остановитесь», видимо, наконец, дошло до слуха стоявших на капитанском мостике командиров, молодого моряка и высокого пожилого человека в штатском европейском костюме. Моряк что-то ответил в рупор, после чего, однако, корабль продолжал двигаться в прежнем направлении, заметно приближаясь к самому берегу и уходя из-под обстрела пушек крепости.
— Кажется, довольно дурака валять? — вполголоса спросил высокий.
Моряк оглянулся и, улыбнувшись, громко отдал команду отдать якоря.
Тщетно всматривались всадники в название корабля «Юнона», написанное на неизвестном им языке: расшифровать надписи так и не удалось.
— Только бы не дать им появиться сейчас на корабле! Надо их предупредить… — шептал высокий. — Спускайте шлюпку и шлите мичмана.
И через полминуты четырехвесельная шлюпка с распущенным на корме вопреки всяким правилам невиданным в этих местах государственным флагом стрелой понеслась к берегу, приглашая катер следовать за собой. Быстрые и уверенные действия мичмана произвели нужное впечатление на испанцев, и они вместо немедленного осмотра прибывшего корабля послушно повернули свой катер вслед за шлюпкой.
Сухощавый и ловкий мичман выскочил из шлюпки на берег и направился к группе спешившихся всадников. Навстречу ему шел, отделившись от группы, такой же, как и он, молодой человек, сын коменданта, дон Люиз де Аргуелло, за отсутствием отца исполнявший его обязанности.
— Мосье комендант? — спросил мичман, прикладывая руку к шляпе, и, когда тот утвердительно кивнул головой, продолжал по-французски: — Наше судно российское. Мы удостоены чести иметь у себя на борту представителя его величества императора российского камергера высочайшего двора, генерала и кавалера, господина Резанова. Идем в Монтерей, но авария заставила нас войти в первый же порт и невольно стать вашими гостями, господин комендант. Починившись, мы будем продолжать наш путь.
— Почему вы не остановились по требованию крепости и моего катера? спросил дон Люиз.
— У нас на судне никто не говорит по-испански, — весело и непринужденно ответил мичман Давыдов. — А кроме того, видя вашу блестящую кавалькаду, мы вообразили, что удостоены торжественной встречи и потому можем поближе подойти к берегу. Его превосходительство, наверное, не замедлит принести по этому поводу свои извинения, господин комендант.
Свита Аргуелло, успевшая окружить беседующих, громко расхохоталась после того, как толстый патер поспешно вслух перевел слова мичмана о якобы происшедшем недоразумении.
— О прибытии в Америку и, может быть, именно к нашим берегам его превосходительства, — заговорил Аргуелло, — мы были уведомлены нашим правительством, но в депеше были названы два ваших судна…
— «Надежда» и «Нева», господин комендант!
— Совершенно верно.
— Эти судна отправлены его превосходительством обратно в Петербург, а сам он остался здесь на некоторое время в качестве полномочного и главного начальника наших американских областей, — поспешил сообщить Давыдов.
— Не откажите, господин офицер, засвидетельствовать его превосходительству мое глубочайшее почтение и сердечное приветствие, сказал Аргуелло, подавая и крепко пожимая Давыдову руку. — Передайте, что мы были бы рады видеть у себя его превосходительство и господ офицеров к двум часам, к обеду. Я пришлю лошадей и проводника.
— Капитан русского корабля поручил мне осведомиться у вас, господин комендант, будет ли ваша крепость отвечать на салют?
— Конечно, непременно, господин офицер, ведь вы наши дорогие гости! Вы давно в плавании?
— Целый месяц, господин комендант.
— Наверное, соскучились по свежим продуктам?
— О да, но, по правде сказать, нуждаемся только в овощах, — соврал Давыдов.
— Я сейчас же распоряжусь о доставке свежей провизии для вашей команды на корабль. От свежей говядины, надеюсь, тоже не откажетесь?
— Очень обяжете вашей любезностью, господин комендант, — радостно ответил мичман и, отдавши с полупоклоном честь Аргуелло и его свите, быстро сбежал по откосу к шлюпке.
— Ура! — кричал он, приближаясь к «Юноне». — Давайте салют и готовьтесь принимать продовольствие!
В подзорную трубу отчетливо было видно, как кавалькада взбиралась в гору, а на самом гребне ясно обозначились силуэты двух остановившихся всадниц.
— Да тут даже женщины есть, Николай Петрович, — заметил Хвостов, опуская трубу.
— По-видимому, — усмехнулся Резанов, — вам скучать не придется.
Теперь суматоха перекинулась на потонувший в пороховом дыму корабль, содрогавшийся от звонких теноровых воплей медных малокалиберных пушек. С последним выстрелом «Юноны» басовито и бестолково, не соблюдая интервалов, стала отвечать береговая батарея.
В офицерских каютах брились, чистились и меняли белье, теряя запонки, впопыхах не находя нужных мелочей, господа офицеры и свита.
Ровно в половине второго к берегу прибыло пятнадцать верховых лошадей в сопровождении, к крайнему удивлению Резанова, того же толстого, подвязанного обрывком веревки, смиренного францисканского монаха.
При виде целого табуна оседланных лошадей и монаха гости переглянулись:
— Что город, то норов, — тихонько сказал Давыдов Резанову.
— Наверное, обер-шпион, — так же тихо высказал свое предположение Резанов и громко спросил по-французски у патера, машинально перебиравшего в руках крупные янтарные четки:
— Святейший отец, а ехать нам далеко?
— Нет, ваше превосходительство, — ответил, продолжая сидеть на лошади, патер, — до президио не более полумили.
— В таком случае, не пройдемся ли пешком, ваше высокопреподобие? предложил Резанов, глядя на запыленные седла и беспокоясь за свои новенькие камергерские штаны.
— Охотно, — быстро ответил патер, сползая с лошади и потирая левой рукой с болтающимися на ней четками растертое ездой седалище. — Проклятый конь до крови растер мне зад.
Четыре испанских солдата ловко захватили на длинных поводьях лошадей и, подымая тучу пыли, вскачь помчались к поселку. Проезжая мимо президио, они прокричали на ходу:
— Россияне идут пешком! — и скрылись.
— А какие они? — в десятый раз приставала к брату подвижная и темпераментная младшая из сестер Аргуелло, слывшая во всей Калифорнии несравненной красавицей, донна Консепсия.
— Да уж я тебе сказал, — смеясь, ответил брат. — Ну, как и все русские медведи, в бурой длинной шерсти и рычат!
— Ты все шутишь со мной, как с маленькой, Люиз, — обидчиво сверкнула глазами Консепсия. — Я их видела в Париже, они изящны и любезны, как маркизы.
— Ну, то в Париже, а то у индейцев, на американском побережье, это разница. Впрочем, сама сейчас увидишь.
— Так ведь этот, ну, их предводитель, что ли, ведь он шикарный русский вельможа? — не отставала Консепсия.
— Да, шикарный, но горбатый, с седой бородищей до полу, и лет ему около семидесяти.
Консепсия в негодовании топнула ножкой и побежала еще раз посмотреть на себя в зеркало.
В зеркале отразилась стройная, рано развившаяся молодая девушка в коротком черном шелковом платье, обшитом по подолу оборочками, и в узком светло-сером лифе, плотно облегавшем ее изящную фигурку с тонкой талией. На открытую грудь падала с плеч широкая двойная белая вуаль. Маленькие ножки обуты были в высокие зашнурованные башмачки явно парижского происхождения. На головке пристроилась испанская коффля.
Взглянув мельком в зеркало, Консепсия решительно сдернула с головы коффлю и отшвырнула ее в сторону — так много лучше. Кокетка расхохоталась и, сделавши глубокий реверанс, решительно встряхнула крепко от природы завитыми, блестящими, мальчишескими кудрями и помчалась к сестре.
В полутемном кабинете со старыми кожаными креслами ходил взад и вперед молодой Аргуелло и жаловался, обращаясь к сидевшему в кресле монаху, падре Педро:
— Боюсь, не наделать бы промахов с этими гостями. Хоть бы отец скорее возвращался.
— С божьей помощью не наделаешь, — смиренно ответил тощий и длинный как жердь монах и поднялся с кресла. — Наблюдательность и мудрость падре Жозе поможет раскусить истинные цели этих иностранцев. А вот, кажется, и они, добавил он, быстро подходя к окну.
Действительно, к дому подходили гости. Впереди шествовал Резанов, с ним рядом, размахивая руками, шел настоятель миссии падре Жозе де Урия. За ними группой, втроем: Хвостов, Давыдов и Лангсдорф.
Контраст между строгой высокой фигурой Резанова в камергерском мундире со звездой, с широкой муаровой лентой через плечо и при орденах и кургузой, пузатой, в сандалиях на босу ногу тушей патера Жозе де Урия заставил подсматривавших из глубины другой комнаты сестер громко расхохотаться.
— Интересная пара, не правда ли? — сказала старшая, донна Анна.
— А он очень красив, — перестав смеяться, задумчиво произнесла донна Консепсия и потом добавила: — И величествен.
У подъезда выстроен был почетный караул. Шесть солдат по команде офицера взяли ружья на караул. Резанов небрежным жестом приподнял шляпу с белым плюмажем и сказал: «Здравствуйте». В ответ прозвучало какое-то многосложное и непонятное приветствие. Офицер отделился от караула и присоединился к вышедшим к подъезду Аргуелло и монаху.
— Добро пожаловать, ваше превосходительство и господа офицеры, засуетился дон Люиз де Аргуелло, представляясь сам и представляя монаха и офицера. — Зачем же так официально, ваше превосходительство?
Поздоровавшись со свитой Резанова, он стал с ним в пару и повел гостей вверх по лестнице, сначала в кабинет, а затем, тотчас же, не предложивши даже сесть, в столовую. В дверях столовой шествие замедлилось для церемонии представления сестре Аргуелло.
Опытный глаз Резанова одобрительно скользнул по изящной фигурке Консепсии. Задержав на момент узенькую ручку, Резанов медленно наклонился для поцелуя, внимательно рассматривая скромно опущенные ресницы и ожидая взгляда. В глубоком свободном реверансе донна Консепсия повторила только что прорепетированный перед зеркалом поклон, и близко-близко перед склонившимся Резановым внезапно открылись два бездонных сине-черных озера.
За столом было весело. Резанов и офицеры едва успевали отвечать на методические, солидные вопросы патера Жозе де Урия и Аргуелло и сыпавшиеся непрерывным потоком вопросы любопытной Консепсии. Нравились ей решительно все, включая даже чопорного «ганц-аккурат» барона Лангсдорфа.
Грустен был лишь караульный офицер, которому никак не удавалось поймать частенько скользивший мимо него взгляд Консепсии. Тощий патер не стеснялся и, причудливо смешивая испанский и латинский языки, резво объяснялся с серьезным Лангсдорфом, поощрявшим его утвердительными кивками головы. Кофе подан был в кабинет.
— Ваша младшая сестра говорит по-французски, как настоящая парижанка, сказал дону Аргуелло Резанов, входя в кабинет.
— Нет ничего удивительного, — улыбнулся тот, — она воспитывалась во Франции, жила у тетки в Париже и только год тому назад приехала сюда. Скучает, никак не может отвыкнуть от шумной парижской жизни.
Разговор на эту тему, однако, тотчас же оборвался и принял деловой характер. Отозвав Резанова несколько в сторону, Аргуелло в изысканнейших выражениях и с извинениями сказал, что о приезде иностранных гостей он обязан немедленно известить губернатора Новой Калифорнии, резиденция которого находится в Монтерее, но что необходимо снабдить рапорт сведениями о тех судах, о которых губернатор был извещен испанским правительством.
Резанов охотно сообщил маршруты судов и просил разрешения послать и его письмо к губернатору с просьбой разрешить приехать к нему в Монтерей.
Гостеприимные хозяева не отпускали гостей до глубокой ночи.
За ужином донна Консепсия старалась вскружить голову не отходившим от нее обоим морякам. Погиб, впрочем, только один, мичман Давыдов. Хвостов вел себя неровно и нервно: то смешил Консепсию карикатурными описаниями петербургской и сибирской жизни, то молча мрачно осушал рюмку за рюмкой крепчайшего ямайского рома и бессчетное количество бокалов ароматного и крепкого испанского вина.
Опасливо поглядывал на него Резанов, и один из таких взглядов поймала Консепсия. Улучив момент, когда Хвостов наливал себе вина, она тихонько спросила Давыдова:
— У вашего друга сердечная драма, он страдает?
— Да, — ответил мичман, — вы угадали.
— Это видно. Бедный!..
Она решительно пододвинулась к Хвостову и, прикоснувшись к его руке, когда он поднимал бокал, участливо сказала:
— Не надо, лейтенант! — И добавила: — К жизни необходимо относиться легче, иначе она вас сломает.
— Она меня уже сломала, — ответил Хвостов и отставил бокал в сторону.
На следующий день все встретились за обедом у отцов миссионеров. Приехали верхом и девицы в амазонках. Развязавшиеся после обеда языки дали понять Резанову, что положение его в Калифорнии не блестяще, так как заходившие сюда американские моряки, побывавшие на Кадьяке и других островах, не раз рассказывали о господствующей там нищете, слабости власти россиян и столкновениях их с туземцами. Эти слухи надо было ему рассеять во что бы то ни стало.
Озабоченный, он вышел в тенистый сад миссии, встретился с запыхавшейся, но очень довольной Консепсией.
— Меня ищут ваши офицеры вон там, — сказала она, смеясь, указывая направо, — а мы поспешим с вами в другую сторону, хорошо?
Резанов кивнул головой, предложил руку, и они быстро пошли налево, в глубину сада.
— А что же вы сегодня такой невеселый? Вчера грустил лейтенант, сегодня вы… Вы чередуетесь?
— Да, а вы, донна Консепсия, разве всегда так веселы?
— О нет, мосье, здесь, во Фриско, я весела только на людях, а одна я скучаю и плачу, когда вспоминаю Париж, в котором провела целых шесть лет. Папа боялся оставить меня во Франции. В этой беспокойной стране, говорит, можно всего ожидать. А в Испании тоже неспокойно, там тоже часто бывают волнения. Большое недовольство вызывают самоуправство и притеснения любимца королевы и короля Годоя[2]. Может быть, вы слышали о нем?
«Однако девица из очень шустрых и, видимо, неглупа», — подумал, внимательно слушая, Резанов.
— Тетка моя — француженка, и папа очень опасался, что я тоже сделаюсь француженкой, — продолжала Консепсия и, подняв голову и повернувшись всем лицом к Резанову, возбужденно затараторила: — А я, скажу вам откровенно, давно уже француженка и терпеть не могу, когда здесь твердят: «Прекрасная земля, теплый климат, хлеба и скота много». Мне люди нужны, понимаете настоящие люди, а не индейцы и скот! А вы, мосье Резанов, вы, русские, ведь вы все тоже любите французов, говорите при дворе по-французски, одеваетесь по-французски и даже, говорят, кушаете по-французски, да? Ну, например, вы сами, разве вы не похожи точь-в-точь на французского маркиза или виконта?
— Не совсем так, милая маленькая донна, — мягко возразил Резанов. — Мы только недавно заговорили по-французски, а при царице Екатерине и императоре Павле мы больше говорили по-немецки.
— А вы видели императрицу Екатерину? Вы, может быть, разговаривали с ней когда-нибудь? — встрепенулась Консепсия, уставившись на Резанова.
— Да, и не раз…
— Расскажите о ней, сейчас расскажите, хорошо? — попросила Консепсия и тихо, мечтательно продолжала: — Она счастливая, она умела наслаждаться жизнью и властью. Мы много говорили о ней с подругами в нашем монастыре… Нас ищут, — сказала она, прислушиваясь.
Поблизости были слышны голоса моряков и донны Анны.
— Когда-нибудь расскажу, непременно расскажу, — пообещал Резанов. — А теперь, раз вы так любите все французское, я вам предложу вот что: у меня много интересных французских книг, хотите читать?
— Прекрасно, прекрасно, буду ждать с нетерпением…
— Чего это ты будешь ждать с нетерпением? — с подчеркнутым испанским акцентом спросила, приближаясь, донна Анна.
— Это наш секрет, не правда ли, мосье Резанов? — жеманясь перед офицерами, ответила Консепсия, и они присоединились к гуляющим.
— Я очень люблю носиться верхом по горам и по берегу моря, но не с кем, — возвращаясь домой, щебетала Консепсия. — Мой обожатель, вы его видели, не любит верховой езды. Кроме того, он в моем присутствии все больше молчит, а это скучно. Иное дело другой мой поклонник, из Монтерея, вы его там, наверное, увидите, но он и приезжает не очень часто, хотя и пользуется всяким предлогом.
— А они вам нравятся, эти ваши обожатели? — спросил Резанов.
— Как вам сказать, мосье Резанов, скажу вам откровенно, в монастыре мы только и говорили, что о любви и о искусстве нравиться и повелевать, а я теперь больше проверяю усвоенную теорию на практике, чем увлекаюсь сама.
«Очаровательна в своей непосредственности», — подумал Резанов и сказал:
— По-видимому, вы усиленно применяете пройденную вами науку на практике, — оба мои офицера уже у ваших ног.
— Я это сама заметила, — засмеялась Консепсия. — Но это не то, все не то, мосье Резанов, о чем я мечтаю…
Богатые подарки, присланные на следующий день Резановым всему семейству Аргуелло и монахам, очаровали их. Консепсия получила предназначенное для японцев роскошное французское зеркало высотою в четыре аршина, в тяжелой раме, украшенной золочеными амурами. Большой любитель шахматной игры падре де Урия, как маленький ребенок, радовался украшенным золотом шахматам из слоновой кости с доской из редчайших уральских самоцветов. Дон Люиз был в восторге от подаренного ему прекрасного английского охотничьего ружья с золотой насечкой.
Дарить было что, так как у Резанова остались неиспользованными все подарки, приготовленные для японского императора и его двора. Некоторое количество он предусмотрительно захватил с собой.
Тяжелое зеркало тащила на руках чуть ли не вся команда корабля под руководством егеря Ивана. В матросской щегольской форме, исключительно стройный, с легким загаром на приветливом юношеском лице, он заметно выделялся среди других матросов.
Передавая донне Консепсии записку, Иван взглянул на испанку и, густо покраснев, сказал по-французски:
— Его превосходительство приказали мне не уходить, пока не будет поставлено зеркало там, где вы лично укажете, и не скажете: «Вот так хорошо».
— Кто вы? — спросила Консепсия, протягивая ему руку. — Почему я вас никогда не видела?
— Я матрос, — ответил смущенно Иван, держа руки по швам.
— Нет, вы не матрос, — сконфузилась Консепсия, — но вы, — она улыбнулась, — невежа… — И, вновь глядя ему в глаза, решительно протянула руку. Обожженный взглядом, Иван вспыхнул до корней волос и, чуть-чуть пожав поданную руку, поднес ее к сухим, горячим губам.
— У вас все матросы на корабле говорят по-французски, мосье Резанов? спросила в тот же вечер Консепсия.
— Нет, только один, а что?
— Голову дам на отсечение, что он переодетый аристократ, — решительно заявила она.
— Вы дешево цените вашу прелестную буйную головку, дитя, — засмеялся Резанов, притянул ручку Консепсии к себе и крепко прижал ее ладонь к своим губам в долгом поцелуе.
Через пять дней из Монтерея вернулся от губернатора гонец с письмом на имя Резанова.
«Я эгоистично рад, — писал губернатор, — что ваше превосходительство, хотя бы из-за необходимости ремонта корабля, вынуждено подольше погостить у нас. О том, чтобы вам были предоставлены все возможные удобства и услуги, я одновременно даю распоряжение исполнительному и талантливому юному коменданту.
Однако, простите, ваше превосходительство, но я никак не могу допустить вас совершить верхом столь долгий и утомительный путь ко мне в Монтерей и собираюсь немедленно выехать сам, чтобы повидать вас в Сан-Франциско. Смею думать, что гостеприимная семья дона Аргуелло и в особенности его прелестные дочери не позволят вашему превосходительству скучать.
Я рассчитываю быть в Сан-Франциско между 5 и 7 апреля.
Примите, ваше превосходительство, уверения в совершеннейшем моем почтении».
«Боится пустить внутрь страны», — подумал Резанов, прочитав письмо в присутствии Аргуелло и монаха, а вслух сказал:
— Как вы здесь все любезны, господа! Мне будет трудно перещеголять вас, когда вы будете моими гостями в Санкт-Петербурге: дон Арильяго жертвует своим покоем и приедет сюда сам. Это чересчур любезно.
— Он хорошо знает, как это будет приятно вицерою и королю, — ответил ему Аргуелло.
Дни бежали незаметно. Дипломатическое ухаживание Резанова за Консепсией с каждым днем успешно двигалось вперед. Не двигалось только дело приобретения запасов продовольствия для русских колоний.
Несмотря на то, что значительную часть дня весь экипаж «Юноны» проводил у Аргуелло, по крайней мере по два раза в день Резанов посылал егеря к Консепсии то с запиской, то с книгами, то с тем и другим. Необходимость заставляла дорожить этой перепиской. В ответных записках Консепсия сообщала много интересного о том, что происходило за кулисами неизменных любезных отношений.
Когда 7 апреля приехал старик дон Жозе де Аргуелло, он застал у себя моряков, запросто беседующих с сыном. Взглянув на Консепсию, он понял все и укоризненно покачал головой. Офицеры тотчас скрылись в комнаты барышень, спасаясь от задержавшегося внизу губернатора, и сбежали черным ходом…
О приезде губернатора громогласно возвестил пушечный салют, приведший офицеров сначала в изумление, а потом в тревогу, так как после девяти выстрелов из крепости все они услышали их повторение — так выдала себя батарея, скрытая за мысом: раньше ее не было.
Официальное приглашение губернатора было передано утром монахами. На недоумение, высказанное Резановым, падре Педро, смеясь, заметил:
— Неужели мы, святые отцы, хуже офицеров?
— Я бы не выражал своего недоумения, — в тон, шутливо сказал Резанов, если бы святые отцы привезли мне приглашение к его святейшеству папе римскому, но удивился, если бы получил такое приглашение через офицеров.
— Мы живем в Америке, — примирительно заметил де Урия, — и, видит бог, ничего, кроме искренности, в этих делах не понимаем…
По дороге к губернатору Резанов спросил отца Педро, дано ли, наконец, разрешение продать ему хлеб.
— Я вам скажу совершенно конфиденциально, — ответил монах. — Губернатор перед самым отъездом из Монтерея получил от вицероя из Мексики эстафету о том, что Россия с нами уже начала или собирается начать войну.
— Какой вздор! — натянуто засмеялся Резанов. — Да разве я бы пришел к вам, если бы мы были враги?
— И мы с отцом Жозе так же сказали, а он спросил: «А вы знаете, где два исчезнувших их корабля?»
— Резанов пожал плечами и про себя подумал: «Кажется, они больше боятся нас, чем мы их…»
Губернатор встретил Резанова в парадной форме, на дворе. С ним приехал и главный поклонник Консепсии, комендант Монтерея, дон Жозе Нурриега де ла Гарра, артиллерийский офицер.
За обедом Консепсия, не обращая внимания на влюбленное в нее многочисленное окружение, тщетно, с досадою ловила взгляд Резанова. Он был чем-то очень озабочен и почти не замечал ее, а после обеда тотчас удалился с губернатором в кабинет.
— Не удивляйтесь, ваше превосходительство, моей нетерпеливой просьбе дать мне аудиенцию сейчас, — начал он разговор с губернатором. — Я хочу рассеять какие бы то ни было сомнения, которые могли зародиться у вас.
— У меня нет никаких сомнений, уверяю вас, но я самым внимательным образом вас выслушаю, — ответил с готовностью губернатор. — Присядемте.
— Мой приход, — снова заговорил Резанов, — имеет единственной своей целью установление добрососедских отношений. На этих отдаленных от метрополий берегах и вы и мы не можем похвалиться особой прочностью своего положения. Время тревожное, ожидать можно всего. Правда, мы предпринимаем кое-какие меры. Эскадра, которой вы интересуетесь — это проба переброски морских сил в Восточный океан.
— Вы хотите сказать, что намерены бросить сюда более крупные силы? Но в таком случае мы должны опасаться вашего усиления, — недовольно проговорил губернатор.
— Что вы, ни в коем случае! Я хочу только сказать, что мы намерены усилить защиту своих владений в Америке и обеспечить их всем необходимым. Наш север богат пушниной и рыбой, но остро нуждается в хлебе: его мы можем получить либо в далеком Кантоне, либо от избытков нашего соседа — испанской Калифорнии. Об этом я уже сделал представление императору и думаю, что мы могли бы договориться о широком и выгодном для обеих сторон товарообмене.
— Мы осведомлены уже о широких полномочиях, которые предоставил вам император российский в делах американских. К сожалению, мое положение менее самостоятельно. Разрешите мне подумать до завтра… Скажите, ваше превосходительство, — спросил губернатор после некоторого молчания, — знаете ли вы, что у вас война с Пруссией?
— Очень может быть, — ответил Резанов, — но я полагаю, что Испания никак не заинтересована в наших спорах из-за Померании.
— Это так, однако сведения, полученные мною за последние пять с половиной месяцев, показывают, что и отношения ваши с Францией, а значит и с Испанией, не особенно хороши, — продолжал губернатор.
— Находясь в такой отдаленности от метрополий, мы, по-моему, не должны руководствоваться в своих действиях временными колебаниями весьма неустойчивой политической погоды в Европе, — с улыбкой заметил Резанов. Ведь может случиться, что мы здесь заведем ссору, когда там будет заключен мир.
— Однако может быть и наоборот, — возразил губернатор.
На следующий день из спешно доставленного письмеца Консепсии Резанов узнал, что до поздней ночи все мужчины в доме заняты были записыванием и переписыванием состоявшейся беседы и что оба миссионера горячо поддерживали просьбу Резанова продать хлеб, ссылаясь на необходимость пополнить тощую казну миссии и освободиться от накопившихся больших излишков. Губернатор посвятил их в грядущие политические осложнения и заявил, что до получения официальных сведений об этих осложнениях необходимо каким-нибудь образом поскорее расстаться с гостями… «Я проплакала всю ночь, черствый и неблагодарный вы человек!» — так кончалась записка Консепсии.
— Буду с вами совершенно откровенен, мосье Резанов, — сказал без предисловий губернатор на следующий день. — Я от всего сердца желаю вам добра и, так как с часу на час ожидаю неблагоприятных вестей, то искренне желаю только одного — чтобы до прибытия ожидаемого мною курьера вы поспешили дружески с нами расстаться.
— Я полагаю, господин губернатор, — вспыхнул Резанов, — что, имея от своего правительства предписания об оказании мне дружеского приема, вы и в этом случае не нарушите международных обычаев и мы расстанемся не менее дружески — в срок, официально вами назначенный.
— В этом вы можете быть уверены, — ответил губернатор, пожимая руку гостю.
— А в таком случае, — предложил Резанов, — оставим эти неприятные для нас обоих разговоры и вернемся к вопросу, который мною был поставлен вчера.
— Скажите, зачем вам столько хлеба, мосье Резанов? Ведь для вашего обратного путешествия много не нужно, а между тем мы, продавая вам требуемое количество хлеба, начали бы внешнюю торговлю с вами в буквальном и широком смысле слова, на что я не имею разрешения моего правительства.
— Не такое уж большое количество… Но дело в том, что судно требует починки и выгрузки балласта. Ясно, что вместо совершенно ненужного балласта я предпочитаю нужный хлеб. Его на обратном пути я развезу понемногу по всем нашим факториям и вернее определю в генеральном плане все потребное нам ежегодно количество.
— Я слышал, что у вас есть товары на обмен, — сказал губернатор. Обмена я допустить никак не могу, но решаюсь отпустить вам хлебные продукты на пиастры.
— От платежей пиастрами, ваше превосходительство, я не отказываюсь. Однако мне, признаюсь, было бы весьма приятно освободиться от небольшого количества товаров, заметьте, нужных для вашего края. Это лучше, чем везти их обратно. Ведь в конце концов можно сделать так: миссионеры привезут хлеб, я заплачу пиастры и получу от них квитанции, которые вы в подлинниках представите вицерою, а не все ли вам равно, на какие нужды истратит эти пиастры святая церковь, коленопреклоненно благословляя вас за это дело?
— Кажется, она за вас уже давно усердно преклонила колени, — смеясь, заметил губернатор. — Право же, не могу дать на это разрешения, а хлеб вы получите, только оформите свое требование официальной нотой ко мне.
— Благодарю вас, в таком случае я сейчас распоряжусь разгрузить корабль, а ноту пришлю завтра.
Однако прошло после этого пять дней, хлеба не присылали и старались о поставке не говорить, а слухи о политических осложнениях росли. Благодаря близости с Консепсией стало известно, что из Монтерея прибыла часть гарнизона и размещена в миссии Санта-Клара, в сутках езды от порта, и что в Сан-Франциско ожидается испанский крейсер из Мексики. В то же время внешний почет к Резанову подозрительно увеличился: его всюду сопровождал эскорт драгун.
Однажды Консепсия с видом заправского заговорщика предложила Резанову немедленно пройти в сад. День был жаркий, но она куталась в большую теплую шаль, утверждая, что ее знобит.
— Найдите предлог немедленно вернуться на корабль, а прочитавши вот это, — она вынула из-под шали объемистую кипу испанских и немецких газет, возвращайтесь, так как я боюсь, что спохватятся. Я слышала, что тут очень много интересных для вас сведений.
Резанов тотчас поскакал к пристани, проклиная нарастающие осложнения. Очутившись в каюте, он дрожащими руками развернул первую газету — из нее выпал вчетверо сложенный лист бумаги. Это оказалось письмо вицероя губернатору. В нем подробно описывалось отчаянное сражение франко-испанского флота с английским.
«Интересно, но, по-видимому, все же не то», — подумал Резанов и, не дочитав письма, вновь схватился за газеты. «Наполеон взял Вену и принудил римского императора удалиться в Моравию», — гласило одно из сообщений.
«Опять не то!» — досадовал он и вдруг застыл: гамбургская газета от 4 октября 1805 года осторожно сообщала о происшедшей в Петербурге революции, не приводя никаких подробностей и оговариваясь, что слухи требуют проверки.
«Газетная утка? Провокационный прием с какой-либо целью?» — задавал себе вопросы Резанов. Новость поразила его настолько, что при всем уменье владеть собой ему не удалось скрыть у Аргуелло своего тревожного настроения.
— Этого не может быть, я ручаюсь, чем хотите, — говорил он наедине Консепсии после того, как рассказал о встревожившем его сообщении. Решительно не может быть!
Побыть наедине с Консепсией десяток-другой минут Резанову удавалось почти ежедневно. На людях он смешил ее до слез, быстро и смешно лопоча по-испански, а наедине образно описывал по-французски петербургскую жизнь крупного чиновничества, имеющего доступ ко двору. Не позабыты были и ослепительные приемы Екатерины.
— О, как я хотела бы хоть однажды, хоть одним глазком взглянуть на то, о чем вы рассказываете, мосье Николя! Взглянуть и умереть, — сказала как-то Консепсия, сидя на скамье в саду рядом с Резановым.
— Это не трудно, дитя, — сказал Резанов и, вдруг поцеловав ручку Консепсии, пылко, как молодой любовник, шепнул ей на ухо: — Я увезу вас в Россию, хотите?
Ответные, сумасшедшие поцелуи Консепсии очень смутили еще не старого, но хорошо пожившего вдовца. Однако отступать было и поздно и рискованно…
И вот они жених и невеста. Увы, бурная радость Консепсии сменилась постоянными слезами. Для нее настали тяжелые дни: в дело решительно вмешалась церковь, так как он — о ужас! — православный схизматик[3], а не католик.
— Милый друг, твой вид разрывает мое сердце. Пойми, дочурка, и прости, я не могу идти против святой церкви, — говорил расстроенный отец, лаская заплаканную дочь.
— Если бы вы знали, как я ненавижу этих лицемеров в сутанах, все равно каких — французских, испанских, итальянских или ваших, русских, — с жаркой ненавистью в глазах жаловалась Консепсия Резанову. — Эта подлая, жирная, лысая крыса пыталась застращать меня карами божьими, если я выйду замуж за православного. Какое право имеют эти наглецы называть себя посредниками божьими? Почему таких нечистых посредников терпит создатель? О, как я их ненавижу!
— Успокойся, моя крошка, — говорил Резанов, нежно поглаживая ручку Консепсии.
— Нет, вы подумайте, эти наглецы, оба старались уверить меня, что вы… что ты… милый мой, — девушка прервала свою речь поцелуем, — что ты не любишь меня и затеял это сватовство по каким-то особым дипломатическим соображениям. Подумай!
— Какие негодяи! — возмутился Резанов, но тут же вздрогнул от мысли, что святые отцы, пожалуй, недалеки от истины. — Что же еще они говорят?
— Что ты, устроивши свои дела, тотчас же бросишь меня одну, там, у себя, на диком и холодном севере, и никто не узнает, где я и что со мной. Это они говорили и отцу.
Резанов решил действовать энергично. Со святыми отцами он пошел в открытую и, сделавши ценный вклад на нужды францисканского духовного ордена, так как францисканцы отрицали личную собственность, добился церковного обручения, а затем поддержки перед его святейшеством, папой римским, в разрешении на брак.
— Все это очень просто, — убеждал Резанов будущего тестя, — тотчас по прибытии в Петербург я добьюсь назначения посланником в Мадрид и устраню все недоразумения между обоими дворами. Затем я отплыву из Испании в Вера-Круц и через Мексику явлюсь в Сан-Франциско осуществлять торговые сношения. Вот тогда-то я и увезу ненаглядную мою Консепсию. — Он при этом прозрачно намекнул, что некоторые из русских аристократов целыми семьями переходили в католичество. Смакуя эту возможность и в данном случае, отцы ликовали.
Консепсия с восхищением внимала увлекательным планам Резанова, но наедине, когда фантастические по быстроте расчеты передвижений заменялись трезвыми, обычными, выходило, что ждать возвращения Резанова можно не раньше чем через полтора года.
— Полтора года! — горестно повторяла Консепсия и плакала, пряча лицо на груди у Резанова.
В семье Аргуелло давно утвердилась тирания Консепсии, и буквально все, включая и друга детства Аргуелло, старого губернатора, старались предупреждать ее желания. Губернатор вскоре почувствовал себя гостем у Резанова.
«Тридцатилетняя и примерная с комендантом дружба губернатора, описывал Резанов немного позже в одном из своих писем в Петербург пребывание в Сан-Франциско, — обязывала его во всем со мною советоваться. Всякая получаемая им бумага проходила через руки Аргуелло и, следовательно, через мои. Но в скором времени губернатор сообразил сделать мне ту же доверенность, и, наконец, никакая уже почта ни малейших от меня не заключала секретов. Я болтал час от часу более по-испански, был с утра до вечера в доме Аргуелло, и их офицеры, приметя, что я ополугишпанился, предваряли меня наперерыв всеми сведениями так, что никакой уже грозный кумир их для меня страшен не был».
Резанов осмелел настолько, что пожаловался губернатору на миссионеров, которые задерживали подвоз хлеба, и совершенно размякший старик откровенно признался, что они, как он подозревает, ожидают курьера: тогда, надеются они, можно будет задержать «Юнону» и получить даром привезенный ею груз. Тут Резанов заметил губернатору, что сам он является причиной этих необоснованных надежд, так как не снимает поставленного в Санта-Кларе гарнизона. Гарнизон был снят, а миссионерам отдано приказание поторопиться, иначе будут изысканы другие пути снабжения.
К этому времени при содействии Консепсии и ее брата заготовлен был хлеб с фермы инвалидов. Как только двинулся этот транспорт, францисканские миссии наперерыв стали возить хлеб в таком количестве, что вскоре пришлось уже от него отказываться.
На правах близкого родственника коменданта Резанов стал распоряжаться и гарнизоном: испанские солдаты были в постоянных разъездах по его делам, то подстегивая возку хлеба, то доставляя на корабль воду, то хлопоча о разных других, кроме хлеба, продуктах и вещах, то, наконец, работая до изнеможения по устройству празднеств.
Резанов принимал гостей в доме Аргуелло, но устроил прием и на корабле. Пороху не щадил, жгли и свой и испанский и веселились так, что даже старый губернатор, несмотря на слабость ног, неоднократно пускался в пляс. Испанские гитары чередовались с русскими песенниками.
В ответ на полные жизни, веселья и ловкости русские пляски матросов Консепсия со своим братом сплясала с кастаньетами под гитары такое бешено-огневое фанданго, что у зрителей стеснялось дыхание, а бедный егерь Иван, которому показалось, что пляшет она только дня него, выбежал на палубу и там, прислонившись к холодным поручням, просидел до самого рассвета. Давыдов устроился около привлекательной и женственной Анны и долго не мог понять, как это раньше не замечал ее. Два испанских поклонника, караульный офицер в Сан-Франциско и монтерейский комендант были предусмотрительно откомандированы в Монтерей…
Бежали дни. Корабль был отремонтирован и щеголял новой окраской, чистотой и белизной. Трюм и всевозможные закоулки были до отказа заполнены пшеницей, мукой, ячменем, горохом, бобами, солью и сушеным мясом. Можно было бы нагрузить еще три таких судна, но, увы, их не было. Пришлось примириться с тем, что и пять тысяч пудов продовольствия — количество не малое.
Наступил день расставания. Толпа народа покрыла берег, у которого, в расстоянии одного кабельтова, носом к выходу из гавани мирно стояла на якоре разукрашенная российскими и испанскими флагами «Юнона». Многочисленные друзья и близкие на шлюпках и катерах были доставлены на корабль.
Торжественно и грустно прозвучала прощальная речь прослезившегося губернатора с пожеланиями счастливого пути. Острой болью отозвалась в сжатом тоской девичьем сердце Консепсии ответная бодрая и рассчитанная на эффект речь Резанова.
«Он не любит меня», — назойливо повторяло без конца это неопытное, но чуткое женское сердце.
Молча выпили по бокалу вина. Начались прощальные объятия и поцелуи.
Когда в почтительном поклоне, бесстрастными губами привычно холодный и такой уже далекий и недоступный чужеземец припал к дрожавшей мелкой дрожью трепетной ручке, у Консепсии не хватило смелости броситься к нему на шею: помолвка их и обручение были пока секретом.
Гости стали садиться в свои катера. Шлюпки уже подняты на корабль. Важный и торжественный Хвостов входит на капитанский мостик. Давыдов посылает поцелуй за поцелуем донне Анне. На корме стоит прямой и сухой Резанов и изредка помахивает шляпой.
Острый огненный клин вылетает из орудия, и звонкое эхо много раз повторяет резкий звук выстрела. За ним другой, третий — корабль окутывается дымом, сквозь который время от времени проступают знакомые, милые лица… И когда начинает отвечать крепость, дым рассеивается, и с высокого берега ясно видно, что корабль уже снялся с якоря и, украсившись розовыми на заходящем солнце парусами, медленно скользит к выходу из гавани.
Консепсия молча берет у отца подзорную трубу, и долго она дрожит в ее нервных, далеко вперед вытянутых руках. И вдруг горизонт заволакивается не то туманом, не то появившейся на глазах влагой.
— Ты устала смотреть, дитя, — приходит к ней на помощь, отнимая трубку и нежно обнимая, отец и видит, как две крупные слезинки падают на землю: «Нет, не любит…»
Резанов, тоже с трубкой в руке, — на капитанском мостике, рядом с Хвостовым. Он видит на далеком берегу хорошо освещенную группу лиц и Консепсию, но трубка не дрожит в его руке и глаза не заволакиваются туманом.
Случайно брошенный в сторону Хвостова взгляд заставляет присмотреться к нему пристальнее: тот же, как в далеком прошедшем, точно камея, тонкий энергичный профиль и вместе с тем что-то новое, бодрое.
— Николай Александрович, а как ваше с Давыдовым ухаживание? — с игривой ноткой в голосе спрашивает он.
— Великолепно! — отвечает Хвостов. — Мы не теряли времени даром, Николай Петрович, и, носясь верхом по горам и долам с сестрами да на охотах с братом, многое успели высмотреть.
— Да ну? — удивился Резанов. — Например?
— Извольте: испанцы здесь слабее, чем мы у себя на островах, в десять раз. Индейцы-туземцы ненавидят францисканских патеров до глубины души, они считают себя хозяевами своей земли и мечтают о чьей-нибудь поддержке против ига испанцев. А самое главное, плодороднейшие земли вплоть до самого Сан-Франциско беспрепятственно могут быть заняты без сопротивления хоть сейчас. Об этом Давыдов готовит доклад.
— Ха-ха-ха! — смеется Резанов. — А мне и невдомек, что вы политикой занимались!
— Доклад о военном положении, Николай Петрович, у меня готов, серьезно говорит Давыдов.
— А я устал, Николай Александрович, смертельно устал, — говорит Резанов после долгого молчания и, передавая трубку Хвостову, спускается в каюту. Там он садится в мягкое кресло, в сладком изнеможении закрывает глаза и мысленно созерцает только что виденную, такую красивую в лучах заходящего солнца группу.
Думает он и о поразившей его перемене в Хвостове. «Неужели воскрес? Поскорей надо дать ему новое дело».
Уже на следующий день Резанов принялся за работу.
«Опыт торговли с Калифорнией, — писал он графу Румянцеву, — доказывает, что каждогодне может она производиться по малой мере на миллион рублей.
Ежели б ранее мыслило правительство о сей части света, ежели б уважало ее, как должно, ежели б беспрерывно следовало прозорливым видам Петра Великого, при малых тогдашних способах Берингову экспедицию для чего-нибудь начертавшего, то утвердительно сказать можно, что Новая Калифорния никогда б не была гишпанскою принадлежностью, ибо с 1760 года только обратили они внимание свое и предприимчивостью одних миссионеров сей лучший кряж земли навсегда себе упрочили. Теперь остается еще не занятый интервал, столь же выгодный и весьма нужный нам, и ежели и его пропустим, то что скажет потомство?
Предполагать должно, что гишпанцы, как ни фанатики, не полезут далее, и сколь ни отдалял я от них подозрение на нас, но едва ли правительство их поверит ласковым словам моим.
Часто беседовал я о гишпанских делах в Америке с калифорнским губернатором. Они похожи на наши.
«Я получил от своих приятелей из Мадрита сведения о том, — говорил он, — как ругали там Калифорнию министры: «Уж эта Калифорния, проклятая земля, от которой ничего нет, кроме хлопот и убытка!» Как будто я виною был бесполезных в ней учреждений. И это в то время, когда торговля получила великое покровительство и класс людей, в ней упражняющихся, до того ныне уважен, что король, вопреки дворянских прав, дал многим достоинства маркизов, чего в Гишпании никогда не бывало».
«Скажите, — спросил я, — что стоит в год содержание Калифорнии?»
«Не менее полумиллиона пиастров».
«А доходы с нее?»
«Ни реала. Король содержит гарнизоны и военные суда, да миссии он обязан давать на созидание и укрепление церквей, ибо весь предмет его есть распространять истинную веру, и потому, как защитник веры, жертвует он религии всеми своими выгодами».
Я много сему смеялся.
Теперь перейду к исповеди частных приключений моих. Не смейтесь, ваше сиятельство, но никогда бы миссия моя не была бы столь успешной, если бы не помощь прекрасного пола.
В доме коменданта де Аргуелло две дочери, из которых одна, по заслугам, слывет первою красавицей в Калифорнии. Я представлял ей климат российский посуровее, но притом во всем изобилии, она готова была жить в нем. Я предложил ей руку и получил согласие.
Предложение мое сразило воспитанных в фанатизме ее родителей, разность религий и впереди разлука с дочерью были для них громовым ударом. Они прибегнули к миссионерам, а те не знали, как решиться, возили бедную мою красавицу в церковь, исповедали ее, убеждали к отказу, но решимость ее, наконец, всех успокоила. Святые отцы оставили дело разрешению римского престола».
Так писал Резанов. Многие из его предложений были осуществимы.
Нерадостными новостями встретил его Баранов. За время плавания в Калифорнию на Кадьяке скорбут унес семнадцать человек русских и много туземцев, в Ново-Архангельске шестьдесят человек были при смерти.
К концу марта, однако, подошла ранняя сельдь, и люди стали оживать, а к прибытию Резанова осталось больных всего одиннадцать человек.
В октябре захвачен был колошами Якутат. Опять вспыхнули волнения среди чугачей, медновцев и кенайцев.
В проливах гуляли и обторговывали русских целых четыре бостонских судна, да столько же ожидалось.
«Когда же избавимся мы от гостей сих и как, ежели не будем помышлять о прочном устроении флотилии нашей? — взывал Резанов в своих письмах в Петербург. — Я писал, почему считаю бесполезным входить в какие бы то ни было переговоры с правительством американских штатов о берегах здешних. Усилите край здешний, они сами по себе оставят их…»
Но все эти вопли оставались без ответа.
13. В обратный путь
Суета на «Неве» из-за отплытия с Кадьяка началась 14 июня 1805 года. В кубрике оживление: матросы дружно вдруг заговорили о родине, как о чем-то близком, — вот-вот увидишь ее собственными глазами, вдохнешь острый парной запах родной деревни.
Команда «Невы» отдохнула, отъелась, настроение бодрое, ноги сами носят. В последние дни стоянки на Кадьяке капитан стал как-то снисходительнее делал вид, что не замечает, как матросы таскали на корабль выменянные у туземцев, а может, и купленные и даже, может быть, выигранные в азартные игры шкурки и разные интересные местные изделия…
Вдали показался величественный Эчком. За ним Ново-Архангельск, на фоне темно-зеленой хвои двадцатисаженных елей, лиственницы, пихты и американского кипариса — ярко-зеленая листва дикой яблони. Еще дальше — заволоченные синей дымкой высокие горы.
Все потрясены; как в сказке, перед изумленными взорами широким полукругом раскинулся новый город. У воды, отражаясь в ней, громадное здание с двумя башнями по бокам. Это казарма гарнизона. Дальше внушительный корпус для лавок и материального склада. Пристань с громадным сараем и двухэтажным, обращенным к морю вторым складом, дом для служащих, эллинг с кузницами. По правую сторону — еще дом, кухня, баня.
Удивлению прибывших нет границ, когда Баранов показывает свое хозяйство. Восемь домов — это и так всем видно, но, оказывается, кругом разведены и щеголяют густой зеленью овощей пятнадцать огородов…
— Юрий Федорович, прошу обратить особое внимание на то, к чему вы сами щедро руку приложили, — говорит Баранов и ведет к скотному двору.
Какое богатство: четыре коровы, две телки, три быка, овца и баран, три козы, свиньи, куры…
— Да вы североамериканский крез, Александр Андреевич, — смеется Лисянский, — а кроме того, маг и волшебник. А сами-то где живете?
— Я? А так… Я еще не вполне устроился, — смущенно бормочет главный правитель Русской Америки. — Потом покажу, а теперь пойдемте обедать.
Проходят мимо нескольких колошских юрт. Здесь живут немногие не устроенные еще каюры и кадьякские американцы.
— Вот еще не успел… но к осени устроим и этих… — как бы извиняясь, говорит Баранов.
— А это что? — спрашивает Лисянский, указывая на дощатый, наскоро сшитый сарайчик с одним слюдяным окошком у самой земли.
— Здесь пока я… — сконфуженно говорит Баранов и старается заслонить собой вход.
Но гости бесцеремонны и, главное, на Кадьяке наслышались легенд о Баранове, которого знают хорошо не только побережье Северной Америки, но даже Калифорния, Сандвичевы острова и капитаны судов всего мира.
Входят…
«Пять аршин на шесть, — мысленно определяет Лисянский, осматриваясь, высота до потолка около четырех…»
На покрытой густой плесенью деревянной стене — отсыревшая одежда, на кое-как подвешенной полке — книги, на деревянном некрашеном столике — бумаги и вместо лампы ситхинский «чадук». В углу — постель из набитого мхом тюфяка и такой же подушки. На простыне лежит, видимо вместо одеяла, дорожный суконный плащ. Весь угол комнаты в воде, которая доходит до половины обеих ножек косо стоящей койки.
На немой вопрос гостей хозяин окончательно конфузится и пытается объяснить:
— Каждый день вытираем плесень со стен… С весны все дожди, сыро… Сегодня, видимо, еще не вытирали… А это, видите ли, — кивает в сторону кровати, как бы отвечая на вопрос, — ночью дождь шел… с площади натекло. По-настоящему надо бы приподнять этот угол дома, да как-то все руки не доходят… Ну, это все неинтересно, — прерывает он себя, — пойдемте обедать, нас ждут…
На следующий день все ночевавшие на берегу своим видом возбуждали сочувствие и смех: распухшие физиономии кровоточили, под слипшимися глазами образовались багровые пятна. Это оставила следы мошка, но не сибирская, а еще злее. Особенно ядовитыми оказались укусы москитов и маленького насекомого вроде черной мушки с белыми лапками.
Побывали и на горе Эчком. Оказалось, что его кратер наполнен снегом, который летом оседает, тает и образует бассейн — водой его питаются бегущие с горы чистые, веселые ручейки. Запасались противоцинготными средствами: диким щавелем, моченой брусникой, брусничным соком, диким луком, чесноком, сельдереем, ложечной и огуречной травами, сараной и ягодами — шикшей, черникой, смородиной, малиной. Грузились. Принимали гостей.
Не скоро и с различными церемониями собрался получать своего сына-аманата, прибывшего на «Неве» из Кадьяка, главный ситхинский тойон Сагинак, настолько важный, что даже для удовлетворения естественных потребностей заставлял себя носить на плечах. Он прибыл со свитой на двух больших батах, в сопровождении трех байдарок. Подходя к берегу, сопровождающие затянули разноголосицей какую-то песню. На носу передней лодки стоял почти голый колош и, держа в одной руке содранную орлиную шкурку, вырывал из нее пух и сдувал его на воду. Остальные с тойоном во главе, стоя в лодках, плясали на месте. Тойон при этом в такт и не в такт махал орлиными хвостами.
Лодки причалили, но гости не выходили из них, наслаждаясь специально для них устроенной на берегу пляской чугачей. Появился отряд кадьяковцев. Кадьяковцы подняли лодки с людьми и тойоном прямо с воды и опустили уже на суше.
— Хорошо бы этих американских чванных древлян, по примеру святой Ольги, бросить в яму и закопать, как вы думаете? — спросил Лисянский Баранова.
Не выходя из лодок, гости продолжали несколько минут любоваться плясками, после чего тойон был положен на ковер и отнесен в назначенное для приема место. Туда же были отнесены и остальные гости, но не на ковре, а на руках.
Посольство пировало на берегу у Баранова до утра, и только на следующий день состоялась церемония передачи подросшего и располневшего сына.
Побывал в гостях на «Неве» и знаменитый Котлеан, уже не главный, а простой тойон, но еще более важный, чем прежде, во всем подражавший главному.
Прежде чем пристать к берегу, он прислал Баранову в подарок одеяло из черно-бурых лисиц, а Баранов отдарил его табаком и синим халатом с горностаями. Свита, получившая табак от Лисянского, одарила его корнем джинджами, коврижками из лиственничной заболони и бобрами.
Котлеан признал себя виновным в восстании и разрушении Ситхи, но обещал впредь оставаться другом. Несмотря на более чем холодный прием, он прогостил четыре дня.
В день отплытия Лисянский сказал Арбузову:
— Я решил на Сандвичевы острова не заходить и взять курс прямо к островам Ландроновым.
— Почему? — спросил Арбузов, разглядывая на карте прочерченную капитаном толстую синюю черту маршрута.
— А видите ли, я хочу пройти по тем местам, где капитан Портлок в тысяча семьсот восемьдесят шестом году поймал тюленя. А мы, когда шли на Кадьяк, видели что-то похожее на выдру. Может, удастся что-нибудь открыть… — задумчиво проговорил Лисянский и продолжал: — Пройдем по неизведанному пути до самых тропиков. При этих условиях мы, быть может, наткнемся на остров, о котором перед нашим отплытием из Кронштадта писал Крузенштерну граф Румянцев.
Граф действительно писал, что будто уже в древние времена в трехстах сорока немецких милях от Японии открыт был большой и богатый остров, населенный просвещенными белыми людьми.
Безветрие заставило «Неву» лечь в дрейф вблизи крепости. Этим воспользовался Баранов. Он еще раз приплыл на «Неву» проститься.
— Хочу еще раз поблагодарить вас, Юрий Федорович, за услугу, которую вы оказали здесь России со своими офицерами и матросами, — говорил Баранов, крепко пожимая руку Лисянскому. — Ведь без этого форпоста мы не только не могли бы двинуться дальше, но потеряли бы навсегда с таким трудом добытое…
Внезапно подул крепкий северо-западный ветер — прощание пришлось ускорить. Выпили по бокалу вина, обнялись. Баранов спустился в шлюпку и долго махал платком, взлетая на гребни волн.
— Полюбил я этого чудака и уважаю за труды в пользу отечества, — сказал Лисянский Арбузову, проходя в каюту. — По-моему, Российско-Американской компании лучшего начальника в Америке не найти.
— Исключительный человек…
«Нева» бежала не задерживаясь. Котики, кулички, треугольные ракушки, плавающие по морю, как цветки, служившие котикам пищей, и… ни малейшего признака земли. Достигли 1650 долготы и спустились к югу. Сильный западный ветер нагнал мрачно насупившиеся низкие тучи. Взяли курс на Ландроновы острова.
Становилось все жарче и жарче, несмотря на октябрь. Гребные шлюпки рассохлись, стеньги и бушприт, сделанные из елового леса, расщелились, пришлось наложить найтовы. Появились тропические птицы и летучие рыбы.
— Смотреть в оба, парусов поменьше, — предупредил капитан вахтенного офицера и добавил: — Земля, несомненно, близко…
Действительно, весь день кругом плавали касатки, бенеты, лоцманы-рыбы, с криком носились белые, с черной опушкой на крыльях чайки, узкокрылые, с закорюченным клювом и вилкообразным хвостом буро-черные фрегаты. Они, поблескивая то зеленым, то пунцовым металлическим отливом своего оперения, спокойно кружили среди разных тропических непуганых птиц.
Становилось темно, душно, жарко… Лисянский сунул руку в карман, чтобы вытащить носовой платок и обтереть влажное, несмотря на ветер, лицо, но так и застыл прислушиваясь. До слуха долетело царапанье днища обо что-то острое и жесткое. «Мель?» — пронеслась в голове жуткая догадка…
— Все наверх!.. Руль лево на борт!.. Крепи паруса! — скомандовал он, опередив растерявшегося вахтенного офицера.
Царапаясь о дно, корабль дрожал как в лихорадке… Толчок, другой — и он остановился. Полураздетая команда бросилась крепить паруса, штурман начал обмерять глубину. Сомнений не было: сели на мель посреди коралловой банки.
Полетели в воду все ростры, за ними вслед, тяжело хлюпая и обдавая людей брызгами, пошли одна за другой карронады с поплавками. Спустили шлюпки, завезли верп и стали подтягиваться…
При свинцовом свете раннего утра развернулась жуткая картина: вблизи судна виднелась гряда камней, о которые с шумом бились кипящие, белые как снег буруны.
Налетевший вихрь свел всю ночную работу на нет и вновь отшвырнул корабль на мель. В воду сбросили бунты канатов, якоря и разные тяжелые вещи. Свежий ветер с тупым и жестоким упрямством бил корабль об острые кораллы до самого вечера, и только наступивший к ночи штиль помог к утру сойти на глубину и стать на якорь. В воде плавало несколько сажен отбитого фальшкиля…
На следующий день утром на двух шлюпках Лисянский с несколькими офицерами подошли к злосчастному острову и тотчас скрылись в черных густых тучах непуганых птиц. Их приходилось отгонять палками. Особенной неустрашимостью и настойчивостью отличались громадные стаи глупышей — они яростно налетали на людей, не обращая внимания на палки. Величиной с гуся, с желтым клювом и такими же ярко-желтыми глазами, глупыши заглушали голоса людей своим резким, неумолкающим гамом. Сонные тюлени в сажень длиной лежали неподвижно, как мертвые, удостаивая пришельцев только безразличным взглядом слегка приоткрытых глазных щелок. У берега, на отмели, неподвижно лежало несметное количество больших черепах.
Обмеры показали, что мель весьма обширна и что дно всюду коралловое…
Весело праздновали на «Неве» избавление от смертельной опасности. Несмотря на двухсуточную работу без сна, после обеда, в изобилии уснащенного свежим тюленьим мясом, птицей и чаркой вина, матросы веселились до глубокой ночи.
Кают-компания блистала роскошной скатертью и лучшей сервировкой. Лисянский поздравил товарищей с открытием не значащегося на картах, опаснейшего для мореплавания острова.
«Юго-восточная мель, на которую сел корабль наш, назвал я Невскою, записал он у себя в дневнике, — острову, по настоянию моих подчиненных, дал имя Лисянского, а громадную мель около острова назвал Крузенштерновой…»
В конце ноября в португальской колонии Макао встретились с «Надеждой». До двадцатых чисел января 1806 года были вынуждены заниматься «расторжкой» сбывали меха, коими набиты были трюмы «Невы». Только в последний день января при свежем попутном ветре оба корабля благополучно вышли из залива Макао. В Индийском океане разминулись. И хотя было условленно о встрече на острове Святой Елены — не встретились. Поговаривали, что Лисянского тяготила опека Крузенштерна и он, пользуясь быстроходностью своей «Невы», улизнул. Потом, в Петербурге уже, узнали, что Лисянский впервые в истории парусного флота проделал огромный путь от Кантона до Портсмута безостановочно…
* * *
На прощальном обеде в честь экипажа «Надежды» у губернатора острова Святой Елены много говорилось о войне, начавшейся между Францией и Англией в союзе с Россией, о французских военных кораблях, крейсировавших вдоль западных берегов Европы и Африки… «Удастся ли пройти в Балтику?» — с тревогой раздумывал Крузенштерн.
Пасмурный и недовольный собою, бродил он по кораблю, не находя себе места. «Вот когда надо было держаться во что бы то ни стало вместе», — думал он, и досада на Лисянского не оставляла его ни на минуту.
Было еще и другое, беспокоившее Крузенштерна обстоятельство: стремясь поскорее закончить кругосветное плавание, он пренебрег выполнением некоторых важных государственных заданий. Так, незаконченным оставлено было обследование Сахалина, брошено важнейшее для России обследование устья Амура…
14. Последняя дорога
Резанов все еще оставался в Ново-Архангельске. Результаты Калифорнийской экспедиции и добытые в Сан-Франциско сведения радовали его. Правда, Калифорния не покрывала японской неудачи, но зато разрешала к обоюдной выгоде вопрос снабжения островов хлебом. Кроме того, теперь можно было с достаточным основанием судить о необходимых мероприятиях для дальнейшего устроения и усиления русских владений в Северной Америке. А если к этому прибавить предполагавшуюся на обратном пути домой хотя бы летучую ревизию Сибирского генерал-губернаторства, то Резанов мог считать изложенные в его инструкции поручения выполненными.
Чем дальше отходила японская неудача, тем хладнокровнее и спокойнее Резанов подвергал неоднократной проверке случившееся. Стало совершенно ясно, что причиной провала вовсе не являлись какие-либо допущенные им промахи, а обстоятельства, которых ни предвидеть, ни тем более устранить со стороны никто не мог, — они таились глубоко в недрах внутриполитической жизни самой Японии.
Резанов раздумывал: что предпочесть — немедленное возвращение в Петербург, чтобы там добиться осуществления ряда необходимых мероприятий, или задержаться в Ситхе для проведения намеченных им реформ?
Мысленно он прикидывал время, ориентируясь когда-то предположенными сроками обследования Сахалина и устья Амура и встречи кораблей в Кантоне. Выходило так, что только к средине 1807 года «Надежда» и «Нева» могут добраться до Петербурга… Проходило лето 1806 года — значит, необходимо было торопиться.
Он случайно взглянул на бухту: новенькие, только недавно спущенные со стапелей «Тендер» и «Авось» лениво покачивались на воде вместе с «Юноной». Они уже успели совершить несколько коротких рейсов по промыслам, чтобы показать всем растущую мощь русских. Воинственное настроение соседних племен, однако, путало карты: суда нужны были в Ситхе.
«Пора, однако, подвести итоги и принять окончательное решение…» пришел к заключению Резанов. Снова начались частые и длительные беседы с Барановым, в которых иногда принимали участие и Хвостов с Давыдовым.
— Я считаю, — говорил Резанов, — что вам, Александр Андреевич, предстоит выполнить две главные задачи, а именно: оставив на время продвижение на север и северо-восток, где нам пока никто и ничто не угрожает, решительно устремиться на юг, к устью Колумбии или еще дальше — в Калифорнию, и обосноваться где-нибудь вблизи Сан-Франциско. Надо обласкать независимых индейцев, обещать им всяческую поддержку против посягательств на их независимость со стороны гишпанцев, приобрести у них за деньги небольшой клочок земли для постройки крепости и взять для обработки в аренду незанятые места — на первое время столько, чтобы можно было прокормить население наших островов. Потом, не откладывая, вы приступите к заселению интервала между новым нашим заселением и островами возможно более широкой полосой внутрь материка. Тут необходимо действовать примером, показом: миролюбивым отношением к туземцам, трудолюбием и, что очень важно, собственным процветанием.
— Попробуем, Николай Петрович, и, полагаю, сделаем, — сказал Баранов. Даст бог, выйдет… А вот мужиков скоро не народишь.
— Да за мужиками, Александр Андреевич, дело не станет, не беспокойтесь — переселим… Чем, к примеру, плохи землеробы из Малороссии? В Калифорнии климат, что под твоей Полтавой или Хоролом, и земля изобильная, плодородная, хотя и не чернозем… А добровольцы найдутся — народ смелый, с ухваткой, подымаются с места легко. Надо только обеспечить переселенцев избами, скотом, лошадьми. Да и Гишпания подсобит, ежели тонко провести дельце, — об этом мы в Питере позаботимся…
— Тогда легче будет, Николай Петрович, и с сандвичевскими королями, что дружбу предлагают, торговлишку завести… Корабликов эдак бы пяток в год с разным добром из Санкт-Петербурга. Вот бы ахнули кругом! — И засмеялся Баранов, и глаза его заискрились от удовольствия.
— Ну вот, — с облегчением сказал Резанов, поощренный поддержкой Баранова, — теперь снова и снова поговорим о моряцкой вольнице… Что, ежели, например, вам в помощники, с непосредственным вам подчинением конечно, подкинуть молодого, предприимчивого и смелого капитана флота, чтобы морским делом ведал, а?
— Это было бы неплохо, — одобрил Хвостов. — Тогда, кроме условий контракта, с которым военные моряки не считаются, действовала бы военная субординация… Вот только подходящего человека из здешних моряков я не вижу.
— Не видите, — усмехнулся Резанов, — а я вижу!
Он выразительно посмотрел на Хвостова. Тот густо покраснел.
— Через каких-нибудь пять лет здесь создалась бы своя крепкая флотилия, — продолжал Резанов, — должное число людей и достаток. Можно было бы тогда заняться как следует не только севером, но и Курилами… А теперь пора нам с вами, господа офицеры, в путь-дорогу… А что, — вдруг весело закончил он, — если бы на прощание я предложил завтра нам вчетвером прогуляться пикничком на ту сторону бухты?
Необычность предложения поразила Баранова Он с нескрываемым удивлением уставился на Резанова: не ослышался ли?
На следующий день, около полудня, самый легкий и быстроходный ситхинский ял, выгребая вдоль берега к выходу из гавани, вошел в крохотный, хорошо укрытый зеленью заливчик и причалил к берегу. Гребцы перенесли на сухую полянку брезент, посуду и закуски и, по приказанию Резанова, удалились. Резанов был задумчив и молчалив, у спутников нарастало недоумение и любопытство.
Как гостеприимный хозяин, не позволяя себе помогать, он наполнил стаканчики, разложил по тарелкам закуски и предложил тост за здоровье Александра Андреевича — «исключительного правителя и человека, предоставленного самому себе благодаря попустительству плохо знающего положение вещей Петербурга».
— Я поставил себе первейшей целью, дорогой Александр Андреевич, положить этому конец, — сказал он, — и хочу вам торжественно об этом заявить.
Баранов был растроган и, расплескивая от волнения вино, провозгласил тост за здоровье Николая Петровича, «не щадящего сил и здоровья для блага далекого края».
— У нас в Петербурге, — сказал Резанов, — до сих пор представляют себе, что наша Российско-Американская компания — дело предпринимательское, промышленное и торговое, и только. Лишь очень немногие понимают, что это не так, что наше укрепление здесь и расширение есть первейшая государственная задача.
— В вашем лице, — обратился он к морякам, — я вижу молодое поколение, охваченное благородными чувствами, и взываю к вашей самоотверженной помощи. Я наблюдал в вас минуты слабости, — он пристально уставился на Хвостова, но теперь я торжествую вместе с вами вашу победу, победу духа. Унижающее вас падениями прошедшее — позади, а впереди подвиги и слава… Вы, Гавриил Иванович, — перевел он взгляд на Давыдова, — скромно укрываетесь в тени, жертвуя собой ради святого чувства дружбы. Что может быть краше? Что может быть выше? Вы воскрешаете собой незабвенные образы героев древности Кастора и Поллукса. Хвала вам!
С большим смущением чокнулись с ним офицеры.
Через несколько дней тепло и сердечно распрощались со стареющим уже, но все еще незаменимым Барановым. Обнимаясь с Резановым, Баранов всплакнул: «Опять один…» И неудержимые слезы навертывались на глаза у этого неутомимого, закаленного в невзгодах и бурях борца за Русскую Америку.
В то время как Крузенштерн уже пожинал лавры в Петербурге, Резанов, не теряя времени и пренебрегая удобствами, безостановочно мчался в Якутск. Это не помешало ему не пропускать ни одной конторы компании и даже фактории без ревизии. Сопровождавшие его приказчик компании Панаев и егерь буквально сбились с ног, добывая подставы, лошадей, проводников, продовольствие.
Многие сотни верст верхом, в мороз и вьюги давали, однако, себя чувствовать: в Якутск Резанов прибыл еле живой.
Около Нижне-Удинска он решился на рискованную переправу по льду между угрожающими полыньями бурной речки с шумными потоками воды и подо льдом и над ним. Лошадь поскользнулась на наледи и упала, придавивши бок и ногу всадника. Острый как кинжал осколок льда вонзился под коленную чашечку. Ледяное купанье вызвало жестокую простуду. Напрасно Панаев уговаривал Резанова передохнуть хоть два дня. Ранение колена вызвало сильное кровотечение, ушибленная грудь ныла, но и это не остановило упрямца: он без передышки продолжал свой путь.
Наконец Красноярск! Резанова лихорадило, бросало то в жар, то в озноб. Через наложенные на разбитое колено повязки просачивались кровь и гной. В дом больного уже пришлось внести на руках.
К ночи стало хуже: жар, бред… Резанов поминутно подымался на постели и требовал от дежурного егеря перо. В неудобной позе пробовал писать, но, обессиленный, падал в забытьи на подушки.
Созванные утром на консилиум врачи, не сомневаясь, дружно поставили диагноз — гангрена. Делать ампутацию было поздно и бесцельно…
На следующий день курьер, посланный за Резановым вдогонку из Петропавловска, привез ему лестный высочайший рескрипт, табакерку с вензелевым изображением государя, украшенную бриллиантами, и повеление о принятии его сына в Пажеский корпус. Поздно. Резанов умирал…
Умирал он в полном сознании, отдавая распоряжение о сохранении своих дневников, записок, описи их и пересылке всех материалов в Петербург, первенствующему директору компании Булдакову.
Часть третья ВЫХОД В ОКЕАН
1. Обиженный гардемарин
Столовая морского кадетского корпуса быстро успокаивалась. Похожее на всплески прибоя шарканье бесчисленных ног постепенно замирало в отдаленных коридорах и на лестницах. Смутно отражался в опустевшей глади исцарапанного подошвами и потускневшего паркета неуютный и безмолвный бриг «Наварин».
Сегодня большой день, 31 декабря 1831 года: морская школа выпускала в родной флот, на простор морей, шестьдесят готовых к полетам орлят. Выпустила всех, кроме одного, но зато лучшего из лучших!..
На самом уголке примкнутой почти вплотную к печке скамьи, против мрачной громады брига, виднеется щуплая мальчишечья фигурка. Голова бессильно опустилась к коленям, гардемаринские погоны на торчащих кверху костлявых плечах сморщились и смялись неровными складками. Спит?.. Задумался?.. Плачет?
Не спит и не плачет. Самообладание мальчика сдерживает рвущиеся наружу рыдания. Это Геннадий Невельской — лучший из лучших орлят, украшение корпуса. Он мучительно ищет выхода из обидного положения, в которое попал, и не находит.
Виновник этой незаслуженной обиды и горя — сам император! Мальчику не верится: тот самый император, который так часто отличал Невельского на своих прогулках с кадетами, щедро угощал его фруктами и конфетами за самозабвенное, искусное и упорное карабканье вверх по каскадам петергофских фонтанов и смелое плавание и ныряние в холодных прозрачных бассейнах за брошенной палкой… И вдруг нежданно-негаданно обидел, да как!..
Может, и вправду он такой жестокий, как рассказывали кадеты… Ведь они даже старались не ездить во дворец — притворялись больными, а друзьям сознавались, что просто боятся: прикажет повесить, вот и все… Лейтенанта Бестужева на каторгу в кандалах отослал….
Неожиданно перед глазами встала во всех подробностях прогулка царя с кадетами и брошенная в воду палка, за которой, как дрессированные собачонки, плывут мальчики…
И сердце Невельского наполнилось гневом. За что царь так оскорбил его?
Царь, как это делалось ежегодно, лично просматривал на днях гардемаринский список представленных к производству в мичманы.
— Невельской? — спросил он, остановив острый ноготь на его фамилии, стараясь что-то вспомнить. — Это тот крохотный, но ловкий и смышленый мальчишечка? Неужели он уже окончил курс?
— Да, ваше величество, Геннадий Невельской — первый по успехам и записан на мраморную доску, — доложил директор корпуса вице-адмирал Крузенштерн.
— На доску?.. Ну, на доску, конечно, следует, — согласился император. Да, следует… А вот в мичманы, в командиры над людьми — слишком рано. Где же авторитет офицера? Нехорошо выходит… Нет, не разрешаю: офицер, да еще на корабле, прежде всего должен пользоваться у матросов неограниченным авторитетом, а что же здесь?
— Ваше величество, ему семнадцать лет, — осмелился сказать в защиту Невельского директор. — Мы таких выпускали неоднократно.
— Знаю, — недовольным голосом возразил царь. — Выпускали. Так то были настоящие юноши — молодые люди, а этот — совершенное дитя, на вид ему лет двенадцать-тринадцать, не больше… Нет, задержим на годик, худа не будет. И, немного помедлив, добавил: — Пусть подольше побудет под вашим влиянием здесь, а не на палубе с разными разнузданными шалопаями…
Взволнованный директор корпуса не находил нужных слов и дрожащими пальцами левой руки не переставая машинально вращал в одну и ту же сторону надетый на палец правой руки жалованный брильянтовый перстень. Он с плохо скрываемым осуждением, не отводя глаз, следил, как из-под мягкого карандаша размашисто выбегали неумолимые слова: «Задержать производство Невельского на год…»
На следующий день приехавший в корпус к концу обеда Крузенштерн приказал выстроить окончивших и поздравил их с производством в офицеры. Невельской отсутствовал.
Не говоря никому ни слова и не расспрашивая, директор с озабоченным видом прошел по коридорам, заглянул в классы, библиотеку, столовую и, подойдя к кадету, часовому на бриге, проделавшему перед ним по уставу «на караул», спросил:
— Невельского не видал?
Вымуштрованный кадет-часовой не ответил, но выразительно перевел глаза с директора в сторону.
Директор неслышно подошел к неподвижной согнувшейся фигуре и положил руку на плечо. Невельской вздрогнул, вскочил и вытянулся.
— Зачем здесь сидишь, Невельской? Столовая не для мечтателей… Я хотел, Невельской, тебе по-отечески сказать, — и он погладил мальчика по голове, — надо быть твердым как сталь — не гнуться и не ломаться… Зачем от товарищей отвернулся? Не надо, они тебя любят и огорчены не менее, чем ты. Мои Карлуша и Яша просили меня позвать тебя сегодня встретить Новый год с нами. Приходи, потолкуем, как взрослым мужчинам держать себя надо…
— Покорно благодарю, ваше превосходство, я буду держать себя как подобает, — пообещал мальчик.
— Ну, вот и хорошо, — одобрил директор и снова ласково похлопал Невельского по плечу. — Скажу, что придешь… Рады будут…
И маленький Невельской на самом деле на встрече Нового года в семье Крузенштерна вел себя так, как будто ничего неприятного не случилось.
После скромного ужина адмирал подарил Невельскому роскошное трехтомное издание своего кругосветного плавания с пудовым атласом и собственноручной надписью.
Предложенный Крузенштерном проект занятий Невельского в предстоявшем учебном году увлек юношу: он проведет год не только с большой для себя пользой, но и к тому же интересно. В самом деле, в гардемаринском классе ему придется быть не столько учеником, сколько учителем своих новых товарищей, особенно отстающих из них. Он будет непосредственно участвовать в большой работе по постройке в адмиралтействе разборной модели фрегата «Президент». Директор предоставил ему право пользоваться его библиотекой редких русских и иностранных книг — словом, предстоит интереснейший год.
Особенно же приятной неожиданностью для обиженного Невельского явилось предложение трех преподавателей офицерских классов, как первоначально называлась морская академия, руководить его занятиями по их предметам. Все трое были выдающимися педагогами.
На первом месте между ними стоял Шульгин, профессор русской истории, до самозабвения увлекавшийся ею. Всегда приветливый, доверчиво открывавший чуткое сердце навстречу любви к знанию, бесконечно добрый, он, живя исключительно на свои учительские заработки, ухитрился содержать и успешно «выводил в люди» четырех своих братьев и сестер. Для этого ему приходилось читать курс истории одновременно в шести учебных заведениях, в том числе и в университете, вставать до света и ложиться далеко за полночь, а подчас шагать пешком из Царского Села в Петербург, чтобы попасть к началу занятий. Но усталость не лишала его ни душевного равновесия, ни обычной приветливости.
Интересуясь исторической географией, он не жалел для развития ее ни времени, ни сил, не останавливаясь даже перед трудностями составления таких оригинальных курсов, как историческая топография. Ко времени его знакомства с Невельским он уже был известен как ученый-историк. Живой и наблюдательный, он легко откликался и на современные политические вопросы.
— Милый дружок, — говаривал он Невельскому, — жизнь бьет ключом сильнее не в центре страны, где она устоялась, а на далеких окраинах… Страны юго-запада России суть страны славных воспоминаний для нашего отечества. Здесь, под Олеговым хранительным щитом, укреплялись русские младенческие силы; здесь была для нас колыбель первого нашего гражданского образования и первого законодательства. На западе, отстаивая свою самобытность и свою государственность, нам приходится защищаться. А на востоке, где границы не устоялись, мы должны идти вперед, чтобы в конце концов опереться на постоянные границы государств-соседей, доныне неопределенные, ускользающие. Наша русская культура должна поднять культуру кочевническую… Работы, захватывающей работы, голубчик, хватит досыта на всех… Жизнь прекрасна, потому что она — борьба. Без борьбы нет жизни!.. Огорчения, неудачи закаляют.
Восхищенный Геня Невельской не сводил глаз с увлекающегося наставника: в волнении стеснялось дыхание, горячей стремительной волной вливались неведомые силы, смущенная душа жаждала богатырских действий, подвигов, в которых нуждается родина.
— Посмотри, голубчик, сюда! — и с этими словами Иван Петрович Шульгин однажды закрыл ладонями чуть ли не половину Тихого океана. — Курилы, Приморье, Амур — вот то, к чему должно, не мешкая, приложить руки. Здесь наше будущее, сюда надо стремиться всем существом, укрепляться, расширяться, пока издалека не налетело сюда международное воронье… Оно еще не выхватило желанной добычи из рук, но уже каркает, уже всячески кружит приспособляется. Народ наш чувствует и понимает это сыздавна и недаром пытался укрепиться дальше на востоке, идя по стопам Ермака. Казацкая вольница в конце XVII века проникла из Якутска на Амур и основала Албазин сильную крепость, державшую в подчинении всю Даурию.
— И что же, отдали ее? — живо спросил Невельской. — Почему не помогли?
— Не сумели или не захотели, трудно сказать… Опасались угроз маньчжур, а, должно быть, можно было и не бояться: плохо знали, что делается у них.
— А теперь не боимся? Конечно, не боимся, — поспешил успокоить себя Невельской.
— Русских, голубчик, мало…
— Войск? — недоумевал Невельской.
— Руководителей, — коротко бросил Шульгин и, оставив Невельского в недоумении, оборвал разговор.
Недомолвки Шульгина останавливали внимание юноши, он подолгу задумывался. Вопросы накапливались.
Восприимчивый юноша после таких разговоров уходил взволнованный, в приподнятом настроении и с неутолимой жаждой учиться, учиться и учиться…
Преподаватель истории русской литературы Плаксин с исключительной убедительностью доказывал, что наша молодая литература, к которой с таким обидным пренебрежением относились оторванные от России, воспитанные иностранцами образованные круги русских верхов, крепнет с каждым годом и не только догоняет чванных учителей, но умеет сказать и свое новое, самобытное слово, к тому же облеченное в оригинальную и более совершенную, чем иностранные образцы, форму.
Плаксин, увлекаясь уроками, подчас не замечал ничего вокруг. Как-то он читал слушателям морских офицерских курсов об элементах сатиры в баснях Крылова, сравнивал с баснями иностранными. Предметом сравнения на этот раз служила басня «Воспитание льва» известного французского баснописца Флориана.
Плаксин не заметил, как в класс в сопровождении директора вошел император, дав офицерам знак молчать. Вошел и остановился у открытой двери. Подавшись далеко вперед грудью и не сводя оловянных глаз с Плаксина, он зловеще хмурился и все внимательнее и внимательнее вслушивался.
Воспитание царевича-львенка, по Флориану, собакой в духе христианской кротости и любви к подданным явно пришлось императору не по вкусу, не понравилась и сыновняя привязанность царевича-львенка к воспитательнице-собаке, открывшей ему глаза на злоупотребления поставленных царем нечестных начальников…
Однако суровые морщины на лбу императора разгладились и по хмурому лицу скользнула, не задерживаясь, едва заметная улыбка, когда лев из крыловской басни вознамерился отдать царевича-львенка на воспитание царю птиц — орлу. Когда же лев задал уже прошедшему науку ученому львенку вопрос: «Как ты свой народ счастливым сделать чаешь?» — император весь превратился во внимание.
«У птиц недаром говорят, что я хватаю с неба звезды, — сказал с убеждением львенок. — Когда ж намерен ты правленье мне вручить, то я тотчас начну зверей учить вить гнезды…»
Видимо, не ожидавший такого оборота, император, давясь беззвучным смехом, выхватил носовой платок и, боясь уронить свое достоинство в глазах класса офицеров, не прощаясь и заплетаясь шпорами, поспешно вышел. За ним семенил Крузенштерн.
— Что это такое? Ты учился чему-нибудь подобному? — спросил царь в коридоре.
— Эта новость, ваше величество, именуется «история российской словесности». Заведена у меня и у сухопутных…
Наибольшее, однако, влияние на складывавшийся духовный облик Геннадия Ивановича Невельского оказало тесное его общение с молодым астрономом Зеленым. С этих пор Невельской перестал смотреть на астрономию как на какую-то прикладную расчетную науку, необходимую только для ориентировки на море и на суше. Уроки Зеленого будили мысль о беспредельности мироздания. Они учили о многовековой борьбе астрономии с астрологией, с этой таинственной наукой жрецов, с суеверными учениями ее, о тесной личной связи каждого человека с планетами и звездами, о замысловатых туманных предсказаниях гороскопов и их действительной ценности…
Склонный к анализу пытливый ум Невельского за этот год окреп, установился: юноша решительно перестал принимать все сообщаемое «на веру», без тщательной самостоятельной проверки. Он возмужал и созрел, как говорится, «вырос», но, увы, только душевно, и царского повеления не выполнил — не утратил мальчишеского вида и не прибавил ни вершка в росте.
Через год выдающийся по успехам гардемарин Невельской стал обыкновенным мичманом 27-го флотского экипажа, вынужденным за неимением высоких покровителей самостоятельно пробивать себе дорогу в жизнь.
Но лишний год, проведенный в корпусе, расширил и углубил научную подготовку. Еще через год мы видим Невельского в числе слушателей морских офицерских классов; зиму учится, лето плавает и, меняя руководителей, корабли и моря, приобретает необходимый морской опыт. Еще три года рядовой морской лямки — и рядовое же производство в лейтенанты…
И вдруг Геннадия Ивановича Невельского командировали на корабль, на котором приучался к морскому делу второй сын царя — десятилетний великий князь Константин Николаевич. Ему предстояло в будущем командовать флотом, а потому с пеленок он носил звание генерал-адмирала. Пока что, однако, по воле своего воспитателя контр-адмирала Литке генерал-адмирал Константин должен проходить морские практические науки под руководством скромного и знающего лейтенанта Невельского.
— Слышали? Генерал-адмирал плачет, когда приходится выходить в море без «няньки Архимеда»! — подсмеиваются школьные товарищи Невельского, вспоминая данное ему в корпусе прозвище «Архимед», и, конечно, дружно завидуют: мальчик генерал-адмирал растет, не сегодня — завтра он — настоящий генерал-адмирал и министр. Вот когда Архимед пойдет в гору!
Проходит еще несколько лет. На кораблях «Беллона», «Аврора», «Ингерманланд» великим князем исхожены все западноевропейские моря. Ученик уже капитан 2-го ранга, а учитель по-прежнему — лейтенант флота. Они в прекрасных отношениях, но не дружеских, хотя могли бы быть и в душевно близких: Геннадий Иванович пользуется полным доверием мальчика, которого увлек мечтой о далеком Амуре, о величии государства и закреплении и усилении его на Дальнем Востоке. Но Геннадий Иванович не верит в возможность и прочность великокняжеской дружбы, он предпочитает сохранять только уважение к себе и с учеником всегда сдержан и холоден. Такое поведение невыгодно для карьеры… Пусть! Но зато он, Невельской, останется самим собой, что в жизни является основным и главным.
И вот в то время, когда великий князь становится капитаном первого ранга и командиром фрегата «Паллада», предназначенного к дальнему плаванию, когда он ждет только совершеннолетия, чтобы возглавить российский военный флот, капитан-лейтенант Невельской, блуждая по делам из канцелярии в канцелярию по адмиралтейству, случайно узнает о закладке в Финляндии маленького транспорта, предназначенного в дальнее плавание в Петропавловск для снабжения его продовольствием, одеждой, военным и морским снаряжением…
«Жребий брошен», — тут же решает Невельской. Он станет командиром этого судна, возьмет на себя поручение в Петропавловск и, пользуясь случаем, увидит собственными глазами, осуществимы ли на самом деле мечты его жизни…
2. Выбор
Двадцатилетний командир фрегата «Паллада» великий князь Константин Николаевич в своей просторной, комфортабельно обставленной каюте. Здесь трюмо, пианино, несколько мягких кресел, два дивана, софа из двух частей, поставленных под прямым углом, одна вдоль корабля, другая — поперек (удобно лежать при бортовой качке и при килевой), шкаф, набитый книгами, и платяной шкаф, тоже набитый — военными и штатскими костюмами.
Константин Николаевич в прекрасном настроении: работы по подготовке «Паллады» к дальнему плаванию успешно близятся к концу. Он одобряюще смотрит на смущенного Геннадия Ивановича в ожидании услышать то, что эти дни слышали от каждого обращающегося с просьбой: «Ваше высочество, возьмите меня с собой в плавание». Он готов тут же ответить согласием.
— Ваше императорское высочество, — продолжая смущаться и волнуясь, тихо произносит Невельской. — Вам хорошо известно мое отношение к служебным обязанностям в течение почти десяти лет, — он переводит стесненное дыхание…
«Конечно, оставайтесь при мне, — собирается ответить великий князь и приоткрывает рот. — Иметь вас при себе — это и мое желание… вы меня предупредили», — хочет сказать он, но останавливается: вместо просьбы великий князь слышит нечто неожиданное и странное.
— Я буду говорить совершенно откровенно, — продолжает Невельской, ваше высочество, я хочу уйти в дальнее плавание!
— Вот именно это я и имею в виду, — с живостью подхватывает великий князь. — Вы пойдете со мной на «Палладе».
— Нет, ваше высочество, — твердо отвечает Невельской, — я хочу идти один… Хочу идти туда, о чем давно мечтаю… Это мой долг перед родиной.
— Я не понимаю вас, — обиженно говорит великий князь. — Мы оба служим родине… Служба со мною вас почему-то не радует, — и пожимает плечами. Так я понял?
— Ваше высочество, я давно вынашиваю в себе единую мысль и горячее желание послужить родине на заброшенном и забытом Востоке: там и люди нужнее. Между тем возможность послужить там все время ускользает от меня далее и далее. Слабеет решимость, слабеет воля, и я чувствую, что теперь, именно теперь судьба дает мне последний шанс на осуществление мечты многих лет!
— Геннадий Иванович, никак не пойму, чего вы от меня хотите, однако мешать вам ни в чем не собираюсь!..
— Ваше высочество, я, конечно, и не жду от вас какой-нибудь помехи, наоборот, я жду вашей помощи — я хочу получить в командование строящийся транспорт «Байкал».
— «Байкал»? — Константин Николаевич широко раскрывает глаза. — Странная просьба, Геннадий Иванович, — назначение на транспорт, кроме больших хлопот и неизбежных неприятностей, вам решительно дать ничего не может. Объяснитесь поподробнее.
— Слушаюсь, ваше высочество. Разрешите, — Невельской развернул карту восточной половины Азии, от Байкала до берегов Северной Америки.
— Извольте взглянуть сюда, ваше высочество, — он провел карандашом по Сахалину, гряде Курильских и Алеутских островов и вдоль побережья Америки, от северной ее оконечности к югу до Сан-Франциско. — Эти места требуют заселения и укрепления для того, чтобы обратиться в мощную первую линию наших крепостей в Тихом океане. Недаром плавание вдоль густой цепи островов местные мореходы остроумно называют «идти по-за огороду»; этот естественный частокол из островов представляет собой непроходимый барьер для любого неприятеля. Другими словами, ими мы легко можем закрыть выход из Тихого океана к нашему на десятки тысяч верст открытому северному побережью… За стеной островов мы неодолимы!..
— Я все это от вас слышал неоднократно, — тоном упрека прервал Невельского великий князь.
— Я умоляю вас, ваше высочество, выслушайте терпеливо мои доводы. Я хочу, чтобы вы их не только знали и поняли, но приняли бы их и уверовали, как верую я! — горячо воскликнул Невельской.
— Ну что же, продолжайте, я слушаю, — смиренно согласился Константин Николаевич, с обреченным видом пододвигая себе кресло. Потом встал, прошелся по каюте и склонился над картой.
— Камчатка, — продолжал Невельской, — со своей исключительно удобной по природным условиям обширной Авачинской бухтой и портом, способным вместить чуть ли не все флоты мира, беззащитна перед блокадой ее сравнительно небольшим десантом. Она легко может быть отрезана от остальной части империи и лишена снабжения, а наш флот так же легко может быть заперт в бухте…
— Но ведь есть и другие порты на побережье, — заметил Константин Николаевич, указывая на Охотск.
— Нет, ваше высочество, купцы, а особенно Российско-Американская компания, хорошо его изучили. Их совершенно не удовлетворяет Петропавловск, обиженный удобной связью с материком, но ни с какой стороны не устраивает и Охотск, где они ежегодно теряют свои суда на баре и кошках. Теперь стали указывать на Аян, несмотря на явные его недостатки: мал, открыт с южной стороны, не имеет связи с Якутском — пока это только ничтожная фактория Российско-Американской компании. Будущего порт иметь не может и для стоянки военного флота непригоден.
— Вы напрасно так браните Аян, — возразил великий князь, усаживаясь в кресло. — Аян считают будущей опорой военного флота на востоке.
— Потому что нет другого, о чем я и говорю! — с запальчивостью воскликнул Невельской. — А отсюда прямой вывод: надо продолжить поиски, проверить еще и еще раз побережье до Аяна и изучить все береговые извилины до самой Кореи…
Константин Николаевич вскочил с кресла и замахал руками, протестуя, но это не остановило разгорячившегося Невельского.
— Надо, наконец, основательно исследовать устье Амура!.. А здесь, как назло, мы почему-то не только не обнаруживаем настойчивости и упорства, но даже попросту уклоняемся от каких бы то ни было попыток исследования. — Он остановился и понизил голос: — Я хочу, ваше высочество, с вашей помощью добиться согласия на это исследование, трудное и ответственное, и сочту разрешение за величайшую для меня милость!
— М-м-м… — замялся великий князь. — Вы, по-видимому, совершенно не желаете считаться с данными, установленными Лаперузом, Бротоном и, наконец, вашим божеством — адмиралом Крузенштерном. А они положительно утверждают, что вход в Амур для морских судов непроходим, так как загроможден банками, мелями и песками…
— Ваше высочество! — воскликнул Невельской. — Обратите внимание на то, как издавна все государства интересовались и интересуются до сих пор устьем Амура! А ведь в нем наше вечное незыблемое владычество над побережьем Тихого океана, в нем наш естественный водный путь от побережья на тысячи верст в глубь своей страны, в нем наше снабжение всего азиатского и американского севера хлебом. От владения Амуром зависит наша мощь на востоке! Иностранцы, особенно англичане, проникают сюда к нам под самыми неправдоподобными предлогами: здесь и десятки экспедиций для отыскания пропавшего Франклина, здесь и бесчисленные китоловы под флагами Соединенных Штатов, Англии, Голландии, Франции и даже сухопутной Швейцарии. Здесь и подозрительные купцы с пушками вместо товаров, и будто бы занесенные бурями разные морские бродяги. И это все воронье, ваше высочество, нет-нет да и пробует пройти в Амур и Охотское море между Сахалином и берегом!..
— Все это так, — прервал Невельского великий князь, подойдя к нему вплотную и с какой-то снисходительностью глядя сверху вниз на тщедушную фигурку, — все это так… я все это знаю и сочувствую, но чем я-то могу помочь?
— Я прошу вас, ваше высочество, во-первых, как я уже сказал, помочь мне получить в командование транспорт «Байкал» и, во-вторых, поддержать мое ходатайство перед светлейшим князем Меньшиковым о поручении мне, после сдачи груза в Петропавловске, обследовать побережье южнее Охотска, войти в устье Амура, пересечь по сухому пути перешеек между Сахалином и материком и дойти до Татарского залива.
— Второе уже сделано без вас, — возразил великий князь. — И повторяю, достаточно авторитетно: имена Крузенштерна, Лаперуза и Бротона сами говорят за себя.
Невельской, однако, не сдавался.
— Ваше высочество, нет таких морских авторитетов, которые бы не ошибались. Вам самим прекрасно известны ошибки таких светил, как Колумб, Васко да Гама, Магеллан, Кук — всех не перечесть. Чем лучше их Лаперуз, Бротон и Крузенштерн? Ведь ни один из них перешейка не пересек ни вдоль, ни поперек, а без этого, согласитесь, какие бы то ни было доводы являются только более или менее убедительными предположениями… То же самое надо сказать и об устье Амура: надо пройти промерами весь лиман вдоль и поперек: непроходимый для судов в одном месте, он может оказаться легкопроходимым в другом, еще не обследованном. А утверждать, что самый Амур мелководен и что устье его загромождено песками, преждевременно. Только после действительно тщательного исследования с чистой совестью можно будет отказаться от южного порта или порта в устье Амура, от плавания по Амуру и защиты Приамурья… И вам, ваше высочество, лучше меня известно, что откладывать задуманное мною надолго нельзя: вряд ли мы получим еще раз отсрочку!
— К крайнему моему сожалению, Геннадий Иванович, я вынужден ответить вам решительным отказом, — твердо произнес великий князь и, видимо взволновавшись и сам, опять зашагал по каюте, потом стал спиной к Невельскому и молча долго смотрел в широкое окно на оживленную гавань.
Невельской, дрожа от обиды, бурно переживал решительный отказ от удовлетворения его первой в жизни и, как ему казалось, небольшой просьбы и тоже молчал, тщетно стараясь сложить упрямившуюся, развернутую на столе карту…
— Геннадий Иванович, — неожиданно и как будто вдруг решившись на какой-то опасный шаг, повернулся к нему великий князь, — ведь это первая ваша ко мне просьба, не правда ли?
— Да, ваше высочество, первая и…
— И последняя, хотите сказать?.. Вам тяжело, я это вижу и до сих пор колебался, что предпринять, так как вы вправе были ожидать от меня другого ответа, но дело в том, что вы знаете далеко не все… — он остановился.
Невельской быстро вскинул вверх голову и уже не спускал глаз с лица великого князя. Чего же он еще не знает об Амуре?
— Я решился вам сообщить, совершенно секретно, что творилось в последнее время, скрывалось и скрывается даже и от меня… Знаете ли вы, что императору недавно был сделан министром иностранных дел доклад, поддержанный министрами — военным и финансов, о том, что даже простая разведка на Амуре, даже один намек на какие-то действия со стороны России может вызвать неудовольствие европейских государств, особенно Англии?.. Ну вот… И что, несмотря на это, император решил послать для исследования Амура и вопроса о Сахалине экспедицию во главе с Путятиным…
— Я знаю, что она отменена, — сказал Невельской.
— И тем не менее экспедиция состоялась!
— Нет, об этом я ничего не слышал, — смущенно ответил Невельской. Лицо его покрылось красными пятнами.
— Ну так вот, Геннадий Иванович, — понизил голос великий князь, повторяю, что я решил посвятить вас в эту государственную тайну, разглашение которой может повредить не только вам, но и мне, запомните это.
Невельской поклонился.
— Секретная экспедиция под видом занесенных бурей рыбаков, отнюдь не русских, а какой то неизвестной национальности, под каким-то несуществующим разноцветным флагом, поручена была контр-адмиралу Врангелю, как главе правления Российско-Американской компании, втайне от членов его правления! Возглавил экспедицию корпуса штурманов поручик Гаврилов, знаете такого?
— Да, ваше высочество, слышал: дельный и опытный офицер, но больной, как я слышал на днях…
— Так вот, команда его маленького брига, кстати сказать, моего имени «Константин», набранная умышленно главным образом из алеутов и американских креолов, даже не должна была знать, где находится ее бриг… Я не видал рапорта Гаврилова Врангелю о результатах разведки, но знаю точно содержание резолюции императора на представленном ему докладе: «Весьма сожалею. Вопрос об Амуре, как реке бесполезной, оставить; лиц, посылавшихся к Амуру, наградить». Теперь посудите сами, к чему повела бы попытка с моей стороны поддержать вас перед государем в вашем благородном и бескорыстном порыве, хотя я ему весьма сочувствую и разделяю… За ваше назначение на «Байкал» я ручаюсь. Это в моих силах. И если вы еще однажды придете и скажете: желаю на «Байкал», то быть сему. Но подумайте: целесообразно ли это? После всего мною вам сказанного. Подумайте и приходите.
Невельской вышел в лихорадочном ознобе, с затуманенным сознанием. Взбудораженные мысли не находили выхода, а между тем необходимо было выбирать: успокоиться ли под крылышком расположенного к нему царского сына и в недалеком будущем неограниченного владыки флота, создать семейный очаг и уют и благоденствовать… или бороться до конца? «Надо поступать, — говорил он себе, — как все, по тщательно взвешенному расчету…»
Но что-то властное, более сильное и более упорное, чем бесстрастная логика, бунтовало в душе, заставляло повторять: «Нет, нет! Жизнь проходит. Мне тридцать три года. И ничего до сих пор мною не сделано… Надо не отступать от задуманного».
3. Знаменательная встреча
— Тебе придется, Невельской, вместе с «Байкалом» состоять в распоряжении сибирского генерал-губернатора. Генерал Муравьев сейчас в Петербурге. Воспользуйся случаем, представься ему, — приказал Невельскому начальник главного морского штаба светлейший князь Меньшиков.
Как фактический и полновластный хозяин морского министерства, адмиралтейства и флота, он позволял себе говорить «ты» молодым офицерам.
Геннадий Иванович не заставил себя ждать и в тот же день, горя от нетерпения узнать, кто он, этот генерал-губернатор, с которым придется иметь дело, направился к Муравьеву.
— Я командир строящегося на верфи Бергстрема и Сулемана, в Гельсингфорсе, транспорта «Байкал» в двести пятьдесят тонн, — объяснял Невельской. — Транспорт предназначен для службы в Охотске и должен доставить для Охотского и Петропавловского портов различные комиссариатские, кораблестроительные и артиллерийские запасы и материалы. Выход «Байкала» в море предположен осенью будущего года.
Открытый взгляд Геннадия Ивановича располагал к себе, а прошлая его служба внушала к нему доверие. Муравьев же никогда не упускал случая мысленно прикинуть, нельзя ли приспособить понравившегося человека, как исполнителя, к какому-нибудь особо нужному делу. Он сразу заинтересовался Невельским.
— Скажите, если не секрет, что заставило вас отказаться от блестящей карьеры у великого князя и ринуться в опасную неизвестность на восток?
Геннадий Иванович чуть не вскрикнул от радости: заданный вопрос давал ему возможность сразу приступить к своему давно вынашиваемому проекту. Он рассказал горячо и толково о лелеемой мечте и о своих надеждах осуществить, наконец, ее. Тут, в свою очередь, заволновался Муравьев. Ему судьба Амура тоже казалась важной. Но, скрывая свои чувства, он почти холодно спросил:
— Вы подобрали уже команду для вашего транспорта?
— Да, ваше превосходительство, мне повезло: попались, как на подбор, прекрасные, молодые, полные сил и желания служить, хорошо подготовленные, энергичные офицеры.
— Я вашему плану вполне сочувствую, — сказал Муравьев, — но, ознакомившись с материалами об имевших уже место попытках, не вполне верю в возможность его осуществления. Прежде всего скажите, что следует признать несомненно доказанным в интересующем обоих нас деле?
— Только немногие факты, ваше превосходительство, но отнюдь не выводы! — с жаром воскликнул Невельской. — Например, оставим Лаперуза и Бротона, поскольку они, продвигаясь с юга, до устья Амура не дошли и его не видали, а основывались только на словах туземцев, языка которых не знали. Остается Крузенштерн. Он шел с севера и добрался до расположенных друг против друга мысов Головачева — со стороны Сахалина и Ромберга — со стороны материка. Устье должно было находиться со стороны мыса Ромберга, но Ромберг также до него не добрался… А если принять во внимание, что этот офицер был известен своей службой «спустя рукава», то какова цена его показанию, будто он не мог пройти к устью? Может быть, не мог, а может быть, и не захотел… На все исследование, ваше превосходительство, затрачено было около восьми часов! Во всяком случае, до тех пор, пока вся полоса предполагаемого Сахалинского перешейка не будет пройдена, все равно как — по суше или по воде, — ни о том, остров ли Сахалин, или полуостров, ни о том, что представляет собой устье Амура и где именно оно находится, ничего достоверно утверждать нельзя. Вопрос требует глубокого исследования, может быть, кропотливого, опасного, но сделать его надо, и я, повторяю, готов за, это взяться.
— Прекрасно, очень хорошо, но как? Одного моего сочувствия здесь недостаточно, не правда ли?
— Да, — засмеялся Невельской, — требуется по крайней мере еще и распоряжение. Его может дать озабоченный необходимостью иметь незамерзающий порт генерал-губернатор Сибири! Он может поручить находящемуся в его распоряжении «Байкалу» тщательно обшарить все береговые извилины к югу до самого устья Амура. А может, и южнее? — он вопросительно посмотрел на сосредоточенно сосущего трубку Муравьева.
— Вы, кажется, забыли, голубчик, — Муравьев вынул изо рта докуренную трубку, — что вы со своим «Байкалом» в мыслях уже действуете, таким образом, не в наших пределах. Чужие границы… Во всяком случае, ваше ходатайство о поручении вам исследования дальнейшего прохода от мысов Ромберга и Головачева к югу я буду поддерживать. Об этом доложите при свидании со светлейшим князем, а в случае крайней необходимости можете еще обратиться от моего имени и к министру внутренних дел Перовскому.
Невельской так и поступил, но со стороны Меньшикова наткнулся на решительный отказ от попытки возбудить вопрос об экспедиции как потому, что нельзя было бы обойтись без участия министра иностранных дел, который не захочет пойти против самого себя и откажет в представлении вопроса государю, так и потому, что у Невельского фактически не будет времени заняться экспедицией: «Байкал» сможет прийти в Петропавловск не ранее глубокой осени, то есть к самому концу навигации.
Огорченный, но все же не совсем обескураженный ответом Меньшикова, Геннадий Иванович решил прежде всего устранить всплывшее вдруг действительно серьезное препятствие — слишком позднее прибытие «Байкала» в Петропавловск и ускорить свой выход в море. Откровенная беседа его с наблюдавшим за постройкой транспорта на самой верфи лейтенантом Казакевичем, которого Невельскому пришлось посвятить в замысел, выяснила, что ускорение постройки на месяц и даже на два вполне возможно.
Пришлось пойти на некоторую хитрость. Пользуясь тем, что Меньшиков числился также финляндским генерал-губернатором, Невельской однажды затеял с Бергстремом разговор о том, что его светлость очень недоволен кораблестроительной компанией, так как она с него содрала за постройку транспорта втридорога да еще растягивает строительство, вследствие чего транспорт рискует не добраться до места даже к концу навигации 1849 года. Таким образом можно потерять еще один год и оставить население восточного побережья без припасов. Его светлость поэтому был бы чрезвычайно рад и благодарен, если б фирма ускорила постройку, тем более что возможности есть. Бергстрем согласился вместо сентября спустить транспорт на воду весной.
Полный надежд Невельской неутомимо носился по канцеляриям министерств и адмиралтейства, из Петербурга в Гельсингфорс, оттуда в Кронштадт, обратно в Петербург и успевал еще рыться в библиотеках и архивах, продолжая прилежно изучать вопрос о границах России с Китаем. Книжные раскопки давали хорошие результаты, по его мнению, речь должна была идти не об овладении Амуром и Сахалином, а о восстановлении забытых, но всегда существовавших прав России на них, добытых открытиями, людскими заселениями и кровью предков. Кое-что возмущало и огорчало: так, он сравнивал государственные границы, обозначенные на карте времен царя Алексея Михайловича, с более поздними и не мог понять, когда и почему границы были перемещены не в пользу России. Случайно попавшая в руки Невельского английская карта разъяснила вопрос: новые, вымышленные границы попали в русские карты именно оттуда. Но каким путем? На карте, составленной при царе Алексее Михайловиче, наша граница на востоке включала Охотское море с устьем Амура, на юго-востоке — реку Амур до Сунгари, на юге она шла от устья Сунгари вверх по Амуру. В состав владения входили туземные племена гиляков, наткисов, гольдов, дучер, дауров, тунгусов, бурят… «Как же смеет этот голландский выходец-троеверец, к великому несчастью России, министр, за полстолетие не научившийся русскому языку, швыряться целыми российскими областями?» — думал Невельской о канцлере Нессельроде, заправлявшем в эти годы всей внешней политикой России.
Маленький Невельской негодовал и в бессильной ярости сжимал кулаки, заражая негодованием своих офицеров. «Теперь мне понятно, как это случилось, — думал Геннадий Иванович о пренебрежении Россией своими собственными интересами на Амуре. — Тут сыграли первенствующую роль нелепые сказки о том, что устье Амура теряется в песках и что сам он не годится для судоходства».
«Байкал» спущен на воду, оборудован, оснащен и приведен в Кронштадт под срочную погрузку. Невельской поспешил в Петергоф с докладом к Меньшикову, у которого застал министра внутренних дел Перовского с братом, тоже человеком влиятельным при дворе. Доклад происходил в их присутствии, причем обоим хорошо были известны, по рассказам Меньшикова и Муравьева, и сам Невельской и его сокровенные планы.
— Ваша светлость! — сказан Невельской очень довольному его действиями Меньшикову, только что выразившему свою благодарность. — Я сделал все возможное, чтобы выкроить время для описи юго-восточного берега Охотского моря, а еще южнее могут занести меня свежие ветры и сильные течения, настойчиво упоминаемые Крузенштерном в заключении об устье Амура!
— Ничего не изменилось, Невельской, не трать сил попусту: министр иностранных дел продолжает считать места нерусскими и доклада государю делать не будет. Да и денег нет на экспедиции.
— Я денег, ваша светлость, не просил и не прошу, я их найду у себя.
— Да почему ты хочешь во что бы то ни стало помешать ему рискнуть своей головой, Александр Сергеевич? — вдруг вмешался один из Перовских.
— Я не протестовал бы на твоем месте, пускай ломает, — поддакнул и другой, поощрительно улыбнувшись в сторону Невельского. — Мало ли куда действительно могут занести ветры!..
— Вот что, — после минутного раздумья распорядился нахмуренный Меньшиков, — поезжай сейчас же в Петербург к вице-адмиралу инспекторского департамента Лермонтову, возьми у него представление сибирского генерал-губернатора, — Геннадий Иванович вздрогнул: значит есть такое представление, — я дам записку. Прочти представление, составь проект инструкции и завтра же мне доложи…
Ощущая всю дорогу сочувственные и одобряющие пожатия братьев Перовских, Геннадий Иванович спешил в Петербург, как на крыльях. Он не замечал тряской, выматывающей душу пролетки и, непрестанно покрикивая, тыкал извозчика кулаком в спину, обещая «на чай». Не помогло: оказалось, что занятия в департаменте окончились.
Запыхавшись, он, однако, ворвался к собиравшемуся домой Лермонтову и, несмотря на его протесты, чуть не силой вручил записку Меньшикова. Записка быстро решила дело, протесты прекратились, и с драгоценным представлением Муравьева в руках Невельской поспешил домой.
Представление являлось ответом на его февральское письмо Муравьеву. В нем Геннадий Иванович писал, что рассчитывает быть в Петропавловске в мае месяце, а не осенью, но что, судя по разговору с Меньшиковым, без содействия Муравьева разрешения на опись берегов получить не удастся из-за того, что Нессельроде считает их нерусскими.
— Вот что, Невельской, — сказан Меньшиков, внимательно прочитавший представление Муравьева и проект инструкции, составленной Невельским, и спокойно, но решительно перечеркнул его почти целиком. Оставил только то, что касалось предписания разгрузить транспорт и находиться в распоряжении сибирского генерал-губернатора; а в свободное время, вставил он: «посмотреть юго-восточный берег Охотского моря между теми местами, которые были определены или усмотрены прежними мореплавателями». Это было расплывчато, звучало невинно и было вполне приемлемо даже для подозрительного и ревнивого Нессельроде.
— Этим я не собираюсь избавить тебя от ответственности за нарушение высочайшего повеления, я его и не допускаю. Это, братец, разжалование в солдаты! Амура здесь нет! Край принадлежит не нам, — Меньшиков глубоко вздохнул. — Впрочем, — добавил он, как бы рассуждая вслух сам с собой, если подобный осмотр будет произведен случайно, без каких-либо несчастий, то есть без потери людей или судна и без упущений в описи и исследовании Константиновского залива и окрестных берегов, куда предполагается перенести Охотский порт, то, может быть, обойдется и благополучно. Инструкция будет сообщена генерал-губернатору. Ну, с богом, — он обнял Невельского и, уже смеясь, закончил напутствием: — А здешние чиновники, особенно комиссариатские, злятся на тебя и подают жалобы генерал-интенданту: заставил ты их работать. Спеши, голубчик, спеши, кланяйся генерал-губернатору и его молодой супруге. Да не влюбись — обаятельная француженка!
Пользуясь долговременным пребыванием в Кронштадте, Геннадий Иванович побывал у главного командира порта барона Беллинсгаузена. Этот известный исследователь Антарктиды мичманом плавал к устью Амура с Крузенштерном. К удивлению и радости Невельского, адмирал сказал, что вполне разделяет высказываемые им сомнения в правильности заключения Крузенштерна, но что, тем не менее, возможность плавания в устье Амура исключается. Это будто бы доказано какой-то недавней экспедицией, которую снаряжал Врангель, председатель главного правления Российско-Американской компании.
— Вам необходимо иметь при описи берегов алеутскую байдарку с двумя гребцами и переводчика, я попрошу ее для вас у Фердинанда Петровича, любезно предложил Беллинсгаузен и написал Врангелю записку.
Старик Врангель охотно обещал помочь и не удержался, чтобы не рассказать об экспедиции штурмана Гаврилова. Мало того, усадив Невельского в кресло, он показал в копиях все документы экспедиции.
Наконец-то!.. Прыгающие буквы и едва различаемые дрожавшие строчки сливались, глаза заволакивало туманом. Невельской старался овладеть собою: ведь перед ним тот самый неизвестный, до сих пор ускользающий материал, который стал ему поперек дороги! Материалом, однако, он так и не овладел из-за коротенькой, видимо забытой среди бумаг, личной записки Гаврилова Врангелю: «Встречные ветры и течения, краткость времени и неимение средств и мое нездоровье, — писал Гаврилов, — помешали мне выполнить возложенное на меня поручение с достаточной точностью, вследствие чего по моим описям нельзя делать каких-либо заключений о том, в какой степени лиман и устье Амура на самом деле доступны с моря…» Лоб и спина Невельского покрылись испариной, потные кончики плясавших от волнения пальцев в полном изнеможении еле держали листок прилипшей к ним записки, дрожавшей вместе с ними: «Налгали! бушевало в груди Невельского. — Они налгали доверявшему им государю!..» Перед Невельским, бессильным как следует рассмотреть развернутую Врангелем карту, отчетливо встали слова копии доклада Нессельроде: «Повеление вашего величества председателем главного правления Российско-Американской компании, бароном Врангелем, в точности исполнено; устье реки Амур оказалось недоступным для мореходных судов, ибо глубина на оном от полутора до трех с половиной футов и Сахалин — полуостров, почему река Амур не имеет для России никакого значения…»
4. Жребий брошен
Дальний вояж транспорта «Байкал» под командой капитан-лейтенанта Невельского проходил как по писаному, и Невельской бросил якорь в Петропавловске в начале мая 1849 года. К 29 мая закончил разгрузку и сдачу товара, произвел осмотр судна и нужные починки и получил заказанную алеутскую байдарку, а 30-го на рассвете уже разбудил безмятежную сонную тишину бухты поросячьим визгом шпиля и деловитым звоном якорных цепей. Серьезность и сосредоточенность еще накануне с вечера избороздили лоб и лицо Невельского морщинами и так и застыли. Сосредоточенными, впрочем, стали все. Ночью тревожно дремали: камнем на сердце легла забота: неотвязно тяготила дума о сознательном и обдуманном нарушении дисциплины и воинского долга.
— Дорогие друзья мои! Да, вы для меня отнюдь не «господа офицеры», и обращаюсь я к вам не как командир корабля, а как старший товарищ и друг, так обратился вечером Невельской к офицерам. — Вам предстоит сделать трудный, быть может, труднейший в жизни выбор, который для себя самого я сделал много лет тому назад. Я должен осуществить во что бы то ни стало вам известную идею. Для меня поэтому дело проще: я сам стремился к ныне предпринятым действиям и считаю, что нравственное право на них я получил давно. Ваше положение другое — вы невольные жертвы моих, быть может, необоснованных и фантастических замыслов… Законного разрешения на то, что мы собираемся делать, у нас нет. Та инструкция, которую оставил здесь для меня генерал-губернатор, является пока только неутвержденным проектом — мы идем к берегам Амура самочинно, против прямого запрещения государя. Правда, как я думаю, государь введен в заблуждение министром. Я не только не могу сулить вам славы и отличий, но честно должен предупредить о грозящем, быть может, разжаловании и арестантской куртке. В моем сердце поэтому не найдется ни тени осуждения тех из вас, для которых мои дальнейшие шаги неприемлемы, и я по-прежнему сохраню к ним чувство уважения и теплой дружбы, спаявшей нас во время счастливого доселе плавания. Я распорядился так: для желающих списаться с корабля до самого выхода «Байкала» из Авачинской губы в море будет приготовлена шлюпка с гребцами. Никаких объяснений для оставления корабля не нужно. В случае надобности ответственность за все предстоящее я принимаю на одного себя.
Разошлись молча и так же молча приступили к работе: не перекорялись, как бывало, друг с другом закадычные приятели, мичманы Гейсмар и Гроте, и не подшучивал над бесшабашным близоруким юнкером князем Ухтомским веселый подпоручик корпуса штурманов Попов.
— Аврал! — коротко приказал, выходя на шканцы, Невельской.
Здесь в присутствии всех офицеров и команды громким бодрым голосом он официально произнес другое:
— Господа офицеры и матросы! На нашу долю выпало исполнение важного для государства дела. Я надеюсь, что каждый из вас честно и благородно исполнит при этом долг свой перед отечеством! Экспедиция наша является секретной, и поэтому все, что вам придется совершать по моему приказанию, должно оставаться в тайне. По прибытии на место наших действий вам будет дана мною подробная инструкция…
— Ваше благородие, — приставал к вахтенному лейтенанту Казакевичу боцман, — шлюпку не прикажете ли поднять? Заливает.
— Не зальет! — отмахивался Казакевич.
И пустая шлюпка с положенными на дно веслами продолжала рыскать из стороны в сторону, сиротливо болтаясь за окрыленными парусами и лавирующим к выходу из бухты транспортом… Шлюпка не понадобилась.
Противные ветры перемежались со штилями. Штили сопровождались непроницаемыми молочными туманами. «Байкал» полз как черепаха и подолгу дрейфовал, с тем чтобы снова, как слепец с клюкой, ощупывая беспрестанно дно и лавируя, брести вдоль Курильской гряды островов. Нужен был хоть один ясный день или хоть час, чтобы через первый попавшийся пролив пробраться в Охотское море. Счастье улыбнулось только 7 июня: ласковое солнце осветило четвертый Курильский пролив, помогло ориентироваться и взять курс прямо на то место, где Крузенштерн почти полстолетия назад встретил напугавший его «сулой», принятый им за бар реки Амур, и отошел подальше от берегов.
Счастье продолжалось недолго: опять опустилась всем надоевшая тяжелая завеса туманов, как бы пытавшихся еще раз скрыть от пытливых и настойчивых русских людей тайну Амура. Тихо, крадучись, с повязкой тумана на глазах осторожный «Байкал» подползал к вожделенной, но гостеприимной точке северной конечности Сахалина. Упорство командира было вознаграждено только 11 июня: ясный, безоблачный день помог, наконец, точно определиться. А к вечеру опять заволокло.
Мрачная туманная ночь, непрерывное бросание лота, противный порывистый ветер и ход не более двух-трех узлов вконец изнурили несдававшихся моряков. И вдруг в полной тьме, при изменившемся направлении ветра, все ясно услышали зловещее шипение и всплески невидимого буруна — пришлось снова отойти в море и с волнением ждать рассвета, держа наготове оба якоря.
Выглянувшее из морских глубин, не отоспавшееся за ночь подслеповатое кривое солнце осветило лениво уплывавший к югу туман. Отойдя от корабля миль на пять, туман так же лениво стал скатываться в темно-серые свертки и пополз куда-то кверху, открывая за собой неведомую землю.
Берег Сахалина оказался на двадцать миль ближе, чем на карте Крузенштерна: карта не верна!
— Ветер — с берега!
Это заставило тотчас же удвоить осторожность.
Перед лавирующим «Байкалом» — унылая и неясная линия берега пустынной низменной равнины с двумя высокими горными хребтами по бокам. Они тянутся с севера на юг и пропадают вдали. До берега еще далеко, около двух миль, и глубина под «Байкалом» очень большая, но с салинга хорошо видны протянувшиеся от самого берега многочисленные кошки. За ними и за песчаной полосой отсвечивает необозримое пространство воды. Сверились с картой — на ней показан сплошной скалистый берег. Надо обследовать.
— Из бухты вон! Шлюпку на воду! За ней — байдарка!
— Алеуты сюда!
Кто первым высадится на северный берег Сахалина? Счастье выпадает на долю мичмана Гроте и подпоручика Попова, остальные что-то недовольно бурчат под нос — не повезло — и, вооружившись подзорными трубами, не спускают глаз с отваливших счастливчиков.
«Байкал» ни минуты не застаивается на месте и, снявшись с якоря, идет вдоль берега. Шлюпка заходит в каждую береговую складку, она ищет пролива к видному с салинга за береговой полосой озеру. Гроте вооружен инструментами.
Так началась самовольная опись Сахалина капитан-лейтенантом Невельским.
Шлюпка и байдарка возвратились только к вечеру. Гроте и Попов возбуждены и, не стесняясь тем, что делают официальный доклад, поминутно перебивают друг друга. Невельской улыбается и не мешает: он успеет хорошенько допросить их потом, поодиночке, когда уляжется возбуждение, тем более что и без них день дал «Байкалу» кое-что новое, важное.
Еще утром с «Байкала» было замечено сильное течение с юга на север, а в шесть с половиной вечера течение приняло обратное направление! Гроте и Попов донесли, что вода из озера через обнаруженный ими пролив с большой силой стремится в море — ясно, что морское течение с севера на юг и обратно, встречаясь с другим течением, с запада на восток — из озера, создают далеко видный с корабля, кипящий, бурлящий «сулой», который меняет свое направление с северо-восточного на юго-восточное: вот почему в свое время Крузенштерн, не зная о существовании ни озера, ни пролива, вывел ошибочное заключение, что здесь где-то близко находится бар Амура или одного из его рукавов… Да, бар есть, но он лежит против входа в озеро, и Амур здесь ни при чем!..
Расхождение с картой по всему пути большое: «Байкал» шел в трех милях от берега, а по карте — в расстоянии от семи до шестнадцати миль…
— Господа, — озабоченно говорит Невельской, — предупреждаю еще раз, примите во внимание обнаруженное и соблюдайте крайнюю осторожность. Завтра с восходом солнца опять пойдут шлюпка и байдарка. Байдарка — по озеру, шлюпка — морем, под самым берегом. По тому же направлению с промерами в расстоянии одной-двух миль от берега пойдет и «Байкал».
Второй вечер опять принес новости: на одной из высоко поднявшихся над водой кошек, поросших тальником и можжевельником, обнаружены три небольших селения. Туземцы разбежались, но не все.
Оказались они гиляками. Одеты в рыбьи кожи и собачьи шкуры мехом вверх. На головах — грубо сделанные из древесной коры шляпы. На ногах тюленьи чулки. Гостей приняли миролюбиво, но неприветливое выражение лиц и хитрые-прехитрые глаза, которые они стараются прятать, доверия не возбуждали.
Убедившись в течение следующего дня, что в северной оконечности Сахалина для стоянки судов нет ни одной хотя бы мало-мальски удовлетворительной бухты, «Байкал» направился к югу вдоль западного берега Сахалина.
Сильное и неправильное встречное течение сбивало корабль с курса, а резко менявшиеся глубины заставляли все время лавировать. Постоянная перемена галсов измучила и без того обессиленную команду, как вдруг на глубине шести сажен корабль покачнулся и сел на крутую банку. Опять аврал, опять сверхчеловеческие усилия сдвинуть корабль: ни верпы, ни становые якоря не помогли — сняться не удалось, начавшееся с приливом волнение с ожесточением колотило транспорт о кочковатое твердое дно…
Невольно Невельскому пришли на ум и уже не выходили из головы и подкашивали энергию пророческие слова Меньшикова по поводу предполагаемого самовольства: «Впрочем, если подобный осмотр будет произведен случайно, без каких-либо несчастий, то есть без потери людей или судна и без упущения возложенного на вас поручения — описи и исследования Константиновского залива и окрестных с ним берегов, куда предполагается перенести Охотский порт, — то, может быть, и обойдется благополучно».
«Вот оно, — волновался Невельской, — описи охотского побережья и не начинали, а корабль загубили… Нет, видимо, «не обойдется благополучно».
Еле двигавшаяся команда вяло отзывалась на приказания капитана, корабль как будто прирос к мели.
Но то, что не удавалось падавшим от усталости людям, поднявшийся прилив и переменившийся ветер поправили в одну минуту: корабль закачался на воде. В трюме сухо, повреждений нет. Только новое, крепко построенное судно могло играть роль копровой бабы или трамбовки в течение шестнадцати часов подряд и не развалиться.
Казакевич ходил гоголем — он один не падал духом и нет-нет подходил к Невельскому и ободрял:
— Не развалится, Геня, успокойся. Я его строил, знаю, что не развалится, — крепок, как скорлупа ореха.
Опять высланы к берегу Гроте и Попов, «Байкал» же из осторожности отошел в море и там лавировал всю ночь и часть дня, поджидая их возвращения. Шлюпка и байдарка заблудились: они попали в открытый Гавриловым еще в 1846 году залив Обмана и так же, как и он, приняли залив за лиман Амура. Ночевали на берегу и вернулись только к вечеру.
Отсюда Невельской решил идти с промерами прямо к мысу Головачева, но не дошел и опять угодил на мель. Густой туман не давал никакой возможности ориентироваться.
Горькую думу думал Невельской, выстаивая подолгу в одиночестве на мостике. Как бы злорадствовали все его недоброхоты и критики, если бы сейчас видели его положение! Холодные капли оседали на зюйдвестке и мелкими рябинами покрывали лицо, соединялись и струйками стекали по шее и подбородку, неприятно щекотали и леденили грудь. Команда отсыпалась. Просветлело только на третий день.
«От мыса Головачева на запад, — доносили посланные в разведку, тянется отмель глубиной не более восьми-девяти футов, с глубокими ямами, в беспорядке разбросанными и часто вовсе не связанными друг с другом. Прохода от мыса к югу нет». Оставалось попытать счастья у западного, материкового берега. Так Невельской и порешил.
Ощупью потянулся «Байкал» вдоль уходившей на запад кошки. Высланный вперед на шлюпке мичман Гроте на достаточной для транспорта глубине стал на якорь в качестве бакена. Дойдя до этого места, «Байкал» благополучно обогнул кошку по глубокой воде и, бросая лот, стал подвигаться к материковому берегу и вместе с тем — вперед, избрав ориентиром высокую конусообразную гору, видневшуюся за мысом Ромберга. За кошкой, ближе к западному берегу, оказалась глубина в шесть сажен. До берега оставалось около полутора миль. Очевидно, «Байкал» нащупал фарватер. Действительно, глубина ближе к берегу стала уменьшаться.
Двигаясь короткими галсами, зигзагом между отмелью и берегом, Невельской устанавливал ширину прохода к югу.
Операция была тяжелая: садились на мель, с трудом стягивались и опять садились. Стемнело, моросил холодный дождь. Люди выбились из сил и ворчали, офицеры пожимали плечами и не проявляли никакой инициативы. Невельской не сдержался, и впервые на корабле услышали начальнический окрик и брань.
Офицеры и команда притихли, насупились. В кают-компании весь вечер царило угрюмое молчание. Недовольный всеми и собою Невельской, забившись в свою каюту, ворочался без сна до утра. Корабль стоял на якорях, придавленный плотным туманом. В головах измученных, оторванных десятком тысяч верст от родины людей рождались тяжелые кошмары и беспросветные, как этот туман, мысли…
Утром внезапно поднявшийся свежий ветер разорвал в клочья навалившуюся на «Байкал» мокрую и холодную подушку тумана, и корабль, имея впереди идущие с промерами две шлюпки и байдарку, как только что покинувший постель тяжелый больной, неверно и медленно двинулся вперед. Встречное течение оказалось настолько сильным, что только порывы еще более усилившегося ветра позволяли передвигаться вперед редкими и короткими бросками.
— Идем, как стрелковая рота в наступление: перебежка — и носом в землю, — сказал сумрачного вида матрос, ослабляя в руках шкот.
— Вспомнил, балда, пехоту, перебежки, — с сердцем ответил сосед, тоже со шкотом в руках, повысил голос и крикнул, заглушая свист ветра в снастях: — Дурак! Не трави шкот, перекашиваешь! Тяни живее!
Под вечер удалось, наконец, бросить якорь при входе в лиман Амура. Отсюда уже можно было начинать его исследование и поиски фарватера дальше к югу на гребных судах. Лиман представлялся беспредельным и для изучения с наличными ничтожными силами по-прежнему недоступным. Люди приуныли, приуныл и командир.
Неправильные и быстрые разрозненные течения, лабиринты мелей, банок и обсыхающих лайд, противные юго-западные ветры сбивали парусный «Байкал» с пути и старались выбросить его из фарватера в стороны — то на одну, то на другую мель. Что же будет дальше? Ушедшим в разведку гребным судам было не легче.
Транспорт обезлюдел — на нем оставалось всего десять человек, все остальные брошены на исследование лимана: Гревенс — на шестивесельном баркасе, Гроте — на четырехвесельном, Гейсмар — на вельботе. Резкий порыв ветра вмиг раскидал их во все стороны: баркас выкинуло на лайду, вельбот на сахалинскую отмель, шлюпку — в море…
Промокшие до костей офицеры с командами еле добрались до берега и из выброшенных на сушу кусков коры и дерева развели дымный шипящий костер. Разделись и стали обсушиваться.
— Надо бы, — натягивая на себя заскорузлую от соленой воды рубашку, сказал, зевая во весь рот, Гревенс, — вы-ста-а-вить на-а ночь кара-а-ул, — и умолк.
— Ка-акие там еще караулы! — сонно возразил уже свернувшийся в клубочек Гроте. — На сто верст никого… — и заснул.
Никто, впрочем, успокоительного ответа Гроте не слыхал: согревшиеся офицеры и матросы спали мертвым сном.
Разгоревшийся было костер погас, но люди не просыпались.
Пробуждение от холода на рассвете оказалось весьма неприятным: исчезло все платье, продовольствие и сапоги. Рекогносцировка полуголых матросов выяснила близость большого гиляцкого селения.
5. Чудесные превращения
— Ваше высокоблагородие, три лодки! — закричал матрос с салинга отбывающему на мостике почти бессменную вахту самому капитану и показал рукой по направлению к берегу Сахалина.
Геннадий Иванович вскинул трубу и удивился — он узнал своих, и сердце его сжалось от недоброго предчувствия: возвращались все вместе, не вовремя, почему-то в одном белье, несмотря на холод и ветер.
Через час сконфуженные офицеры и матросы с потупленными глазами предстали перед капитаном в одном белье и без сапог. Кровоточащие, синие от холода ноги, выбивающие мелкую дробь зубы и опущенные головы говорили о многом, но не все. Гревенс взошел на мостик к капитану и, заикаясь, доложил. Капитан слушал, стиснув зубы.
— Инструменты? — спросил он.
— Целы, господин капитан! — ответил, дрожа уже не столько от холода, сколько от стыда и волнения, Гревенс, чувствуя на себе взоры своих раздетых матросов и любопытствующей команды корабля.
Наступило долгое молчание. Невельской обдумывал, как поступить.
— Господа офицеры, — сказал, наконец, членораздельно Невельской, — я арестую вас. Лейтенанта Гревенса за разгильдяйство и непростительное легкомыслие — на семь суток, остальных — на трое. Исполните в первый же день по прибытии в порт. Командам объявляю выговор. А теперь марш по местам, привести себя в порядок, умыться, обогреться и пообедать!
С опущенными, как были, головами разошлись.
Спустя час новый сигнал матроса с салинга: «Много лодок!» В подзорную трубу было видно, что идет целая флотилия гиляцких лодок, растянувшись полукругом. Отдельно впереди идет легкая лодка с четырьмя гребцами. Направление — на левый борт корабля.
— Спустить все лодки и вместе с вооруженными гребцами укрыться за правым бортом и ждать команды! Приготовить орудия левого борта к стрельбе! распорядился Невельской. — Оружие пускать в ход в самом крайнем случае. Постараться захватить первую лодку в плен. С салинга долой! Все по каютам!
Мертвый вид корабля не удивил приближающихся гиляков, уже владевших, как казалось им, опытом, показавшим беспечность русских моряков. Бесшумно, стараясь не выдать своего присутствия, приближалась флотилия, суживая полукруг…
Прижавшись к палубе и лежа, где и как можно, незаметные для наступающих, матросы и офицеры не спускали глаз с подходившей шлюпки. Гревенс и шесть человек матросов в кубрике лежали босые. На них некому было обращать внимание, так как, кроме прислуги у двух пушек да капитана, все были заняты.
Гиляцкая лодка подошла почти вплотную к «Байкалу», как вдруг мертвую тишину разодрал свист боцманской дудки. С левого борта прямо в воду, почти в самую гиляцкую лодку, бултыхнулось семь человек. Это были Гревенс и его команда. Неожиданный маневр озадачил не только гиляков, но и Невельского, успевшего только скомандовать:
— В атаку!
Цепкие руки прыгнувших в воду матросов раскачали гиляцкую лодку и выплеснули озадаченных гребцов в воду.
Через минуту еле дышавшие от страха, мокрые пленники лежали на палубе и, ничего не понимая, испуганно вращали глазами. Гиляцкая флотилия остановилась. Две-три лодки уже покинули строй и улепетывали обратно.
Вдохновенная и выразительная матросская мимика показала остальным, что захваченные в плен будут крепко наказаны, если те не образумятся и не отдадут награбленного. Не прошло и получаса, как любители чужого, воинственные гиляки спешно выгребали обратно домой, чтобы вернуть похищенное.
А через несколько дней завязалась дружба, и те же гиляки охотно продавали «Байкалу» рыбу и различные продукты в обмен на разные мелочи домашнего обихода и усердно помогали вести промеры глубин.
Обширность лимана угнетала Невельского. Исследовать возможности плавания здесь для морских судов с теми средствами, которые были в его распоряжении, да еще за два-три месяца, было задачей не по силам: площадь лимана превышала две тысячи квадратных верст. Пришлось сосредоточить внимание только на вопросе об устье Амура.
Шедший по сахалинскому берегу мичман Гроте, следуя на юг, наткнулся на отмель, которая, как казалось, закрывала проход к югу от берега до берега. Данные же доклада лейтенанта Казакевича подавали большие надежды: осматривая все бухты, он шел вдоль материкового берега и добрался до возвышенного мыса Тебах, за которым открылась очень глубокая, с западной стороны, бухта. Из бухты, во всю ее ширину, насколько можно было наблюдать, стремилось единое сильное течение.
— Я убежден, — закончил свой доклад Казакевич, — что бухта и есть устье Амура. Ширину его я определяю миль в семь.
— Петр Васильевич! — радостно воскликнул Невельской, выслушав доклад Казакевича. — Ты сделал, я в этом нисколько не сомневаюсь, великое для нас открытие. Завтра же мы крепко ухватимся за кончик твоей ниточки и уже не выпустим ее из рук. Ура!
Успех отпраздновали шампанским, матросы — лишней чаркой водки и добавочным отдыхом.
К утру Невельской сообщил план обследования, обдуманный им по частям еще в Петербурге, в спорах о промахах, допущенных его предшественниками: вместе с Казакевичем на гребных судах, не теряя нити глубин, войти в реку. Перейдя устье под левым берегом, добраться до возбуждающего сомнения главного русла Амура, затем перейти на правый его берег, спуститься вдоль него до впадения в лиман, пройти вдоль материкового берега до соединения лимана с Татарским проливом, до той широты, до которой доходил Бротон, а оттуда, следуя уже вдоль западного берега Сахалина к северу, возвратиться на транспорт.
— Вот, господа, порядок исполнения моего плана, — объявил Невельской офицерам. — Я полагаю, что если при этом ни в каком случае не терять нити глубин, по которой шел лейтенант Казакевич, то мы сможем одним выстрелом убить двух зайцев: проложить судоходный путь для входа в Амур кораблей и выхода обратно к морю, а может быть, и «несуществующему» Татарскому проливу, — и хмурое, изборожденное морщинами, покрытое мелкими рябинками лицо Невельского осветилось широкой радостной улыбкой. — Что бы ни случилось дальше, вход в Амур с севера оказался доступным для судов, и надо думать, что он не единственный. С богом!
Во главе с самим Невельским в поход двинулись шлюпки: шестерка, четверка и вельбот, с командирами на них — Поповым, Гейсмаром и Гроте. Поход не из легких: штормовые ветры заставляли чуть не вплотную прижиматься к берегам, десятки раз садиться на мель, сниматься, стоя по грудь в воде, и возвращаться обратно, чтобы ухватить упущенную нить глубин.
Шквалы рвали в клочья и без того уже рваные паруса и опрокидывали крохотные скорлупки. Дожди промочили насквозь платье; паруса стали мокрыми от шквальных дождей и туманов. Сухари заплесневели уже на четвертый день, провизия, особенно крупа, мука, макароны, превратилась в сплошной ком липкой противной массы. Промеры выматывали силы, а отдыхать было некогда и негде. Но тяжелые весла без перерыва сменялись набухшими водой мокрыми парусами, паруса сменялись снова тяжелыми веслами — поход продолжался.
Туман либо скрывал лодки друг от друга, либо сбивал их в кучу, нарушая строгую последовательность промеров. Руки как у матросов, так и у офицеров покрылись кровавыми мозолями и кровоподтеками, исчерченная по всем направлениям глубокими трещинами и ссадинами кожа потеряла эластичность, лопалась или шелушилась. От соленой воды образовались кровоточащие язвы.
И тем не менее участники похода не теряли бодрости — работа ладилась, и записные книжки покрывались рядами промеров глубин. Особенно радовали столбцы фарватера Амура, покрытые двузначными цифрами сажен, превышавшими нужные для плавания морских судов глубины в несколько раз.
Собираясь иногда вместе на ночевки и обсушиваясь у костра, неунывающая компания офицеров цитировала наизусть нелепости доклада Нессельроде о непригодности устья Амура для судоходства и сочиняла по этому поводу неприличные частушки, заражая своим задорным настроением и матросов. Частушки заливисто оглашали пустынные берега, и бесстыдное эхо четко и громко повторяло нескромные слова. Под пение легче было бросать лот и орудовать длинными шестами.
— Тсс! Господа офицеры! — как-то при свете ярко разгоревшегося костра неожиданно вскрикнул Невельской и сделал вид, что прислушивается.
Все застыли.
— Слышите? — крикнул он в сторону поющих матросов. — Не дышать…
— Ничего не слышим, — зашептали офицеры, тоже прислушиваясь.
— И я тоже, — серьезно заявил Невельской, — но я рассчитывал услышать бряцание оружием тех четырех тысяч маньчжур, которые день и ночь стерегут вход в Амур!
— Ха-ха-ха! — смеялись офицеры.
— Подкиньте, ребята, свеженьких сучьев сюда! Может, на огонь пожалуют!
Но маньчжуры не жаловали…
— Здесь мы построим крепость, — ни с того ни с сего однажды показал рукой Невельской на глубоко вдавшийся в реку полуостров, — она будет запирать вход в Амур с моря.
Этим он выдал свои сокровенные мечты: он не только исследовал, но и мысленно решительно закреплялся в этих местах, — он их занимал и собирался защищать.
Приближались к широте, до которой доходил Бротон. Перешеек все еще не появлялся, но проход между берегом и Сахалином постепенно суживался и мелел. И опять настроение упало. Шлюпки уже подходили к широте, до которой добрался Бротон, так что перешеек, если бы он существовал, представлял бы только узенькую полоску земли. Узенькую, однако превращавшую остров в полуостров.
Это случилось 22 июля 1849 года. Проход сузился до четырех миль. Хорошо был виден унылый и пустынный берег Сахалина с выступавшим далеко вперед низменным мысом, к которому ровной дугой стремилась с обеих сторон линия берега.
— Вот вам!
Попов встал и выразительно очертил по воздуху полукруг открывшегося залива и недовольно пожал плечами. Невельской кивнул головой: «Вижу», — и тоже пожал плечами, не сводя, однако, глаз с мыса. И вдруг нервно вскочил и закричал во всю силу легких, топая ногами и приседая, как бы помогая ходу шлюпки:
— Навались! Еще! Еще!
Вершина мыса на глазах стала отделяться от другой половинки, и, раздвигаясь, обе части дуги поползли в стороны.
— Навались, черти! Навались! — кричали сзади почти одновременно Гревенс и Гроте. Со стороны показалось, что дан старт для какого-то безумного состязания — лодки стремились в открывшуюся щель.
— Ура! — кричали люди на всех шлюпках.
— Ура! — бросали вверх шапки офицеры.
Перед изумленной командой открылся глубокий пролив в четыре мили шириной: на несколько миль вперед видны были оба берега пролива.
— Ура! Остров! — кричал Невельской.
— Ого-го! Остров! — кричали со всех лодок.
Высадились на берег.
— Шампанского! — требовали сиплыми, простуженными тенорками Гревенс и Гроте.
— Шампанского! — требовал басом Попов и тут же устроил чехарду, в которой приняли участие и забывшие об усталости матросы.
Со стороны можно было подумать, что на берег высадились два десятка бежавших из больницы бесноватых, не знающих, что с собою делать. Смотреть, однако, на них было некому.
— Все запасы сюда! — распорядился Невельской.
Разостлали брезент, разложили всю провизию. Увы, шампанского не оказалось. Досталось только по две чарки водки.
Радостно было смотреть на развевающиеся русские флаги!
— Господин капитан, — тихонько доложил стоявшему в стороне Невельскому поручик Попов. — Продовольствие сильно подмочено.
— А мы будем есть мокрым и соленым, — бесшабашным тоном ответил Невельской и махнул рукой.
— Его хватит еще только на пять дней.
— А мы слопаем в один! Ну вас к черту! Съедим, и все тут.
Он присел на край вытащенной на берег шлюпки и достал из бокового кармана затрепанную записную книжку.
— Ребята! — обратился Невельской к матросам. — Все ли вы хорошо видите пролив? Можно донести об этом в Петербург?
— Видим все, ваше высокоблагородие, — заговорили матросы. — Доноси!
— Ну вот, а что, если там дальше окажется перемычка и пролив тут же оканчивается?
— Не может быть, — возражали матросы.
— А вот и нет, может оказаться. Чтобы знать наверняка, надо пройти вперед еще миль десять, до того места, до которого с юга доходил по воде английский капитан Бротон. Вот когда дойдем до этого места, тогда можно и доносить.
— Дойдем, приказывай вперед! — кричали матросы.
— Вы слышали, что продовольствия у нас на пять дней, а для того, чтобы дойти туда и вернуться на транспорт, нужно не менее семи?
— Поголодаем два дня, и все! Идем! — дружно решили матросы.
И они пошли и убедились.
Последние четыре дня обратного пути пришлось голодать: селения не попадались, да и не до них было — шли быстро, но промеров не бросали. Промышляли по берегам в кустарниках зайцев и ловили рыбу.
Подошли к транспорту 1 августа вечером. Орать начали по крайней мере за две мили, требуя салюта. И дождались: на «Байкале» замигали огни, забегали люди, и при вступлении капитана на трап одиннадцать пушечных выстрелов огласили пустынным берегам весть о счастливом событии, о начале на этих берегах новой жизни.
6. Женский заговор
Упорные юго-восточные ветры с океана гнали над Аянским заливом нескончаемые караваны туч. Подстегиваемые ветром, косые дожди нещадно хлестали кланявшуюся в беспомощном трепете чуть не до земли робкую, покорную березу, и озорно свистела ветру вслед, чуть качаясь острыми копьями вершин, привычная к сумасшедшим шквалам колючая черная ель.
За непроницаемой завесой дождя совсем скрылась крохотная аянская фактория Российско-Американской компании, еще не возведенная в высокий ранг морского порта.
На этот раз, накануне сентября 1849 года, фактория могла, однако, гордиться своим значением: в бухте на якорях стояли целых два корабля: транспорт «Иртыш», над которым громко шлепал набухший водой генерал-губернаторский флаг, и морской бот «Кадьяк».
Генерал-губернатор Муравьев уже трижды побывал на складах компании, дважды успел пересмотреть приготовленный для обмена с гиляками нехитрый товар, приказал разостлать перед собой пахнувшие старой псиной еще не затюкованные гиляцкие меха, с гримасой отвращения понюхал охотскую лежалую муку и заплесневевшие сухари, дважды ходил с капитаном Завойко, чиновником Струве и штабс-капитаном Корсаковым в лес, интересовался количеством и качеством приготовленных для строительства бревен и дров. С каждым часом он становился все угрюмее и придирчивее: делать было решительно нечего, а ждать далее, по-видимому, безнадежно: транспорт «Байкал» с Невельским, повидаться с которым так не терпелось начальнику края, бесследно исчез.
Молодая жена начальника края и ее приятельница, виртуоз-виолончелистка Христиани, роптали. Они только что совершили тяжелое путешествие из Иркутска через Якутск в Охотск, а затем морем в Петропавловск и сюда. Их уже не веселили прогулки в заросшие колючим кустарником мокрые леса в обществе все тех же Миши Корсакова и чиновника для поручений Струве, надоели и задушевные и грустные песни неразлучной певучей виолончели Христиани. Не в духе был и постоянно жизнерадостный и неунывающий Корсаков: он только несколько месяцев назад приехал из Петербурга, покинув веселый гвардейский полк, и с тех пор вел непрерывно образ жизни неугомонного кочевника. Он жаждал одного отдыха, а отдых не давался. Корсаков невольно вспоминал, как окоченевший от быстрой езды без остановки в течение почти целого месяца, падая от усталости, но радостный, он ввалился в генерал-губернаторский дом, мечтая отоспаться и не желая даже думать о службе. Не успел он, однако, как следует обогреться, умыться и поесть, как к нему, торжественно размахивая листом бумаги, победно оживленный, пожаловал сам генерал:
— Да знаешь ли ты, Миша, что ты мне привез? — спросил он. — Это долгожданная инструкция Невельскому на обследование устья Амура!
— Знаю, дядя, а он сам-то где?
— Он, я думаю, приближается к Петропавловску, из которого уже должен выйти в начале мая… М-м-м… — генерал замялся. — Вот что, Мишенька, придется тебе понатужиться и денька через два марш-марш вперед, на Камчатку, в Петропавловск.
И, видя, что Корсаков помрачнел, уже строго добавил:
— Иначе нельзя, голубчик, сам рассчитай. Надо добраться, не теряя времени, до Охотска и выйти в море с первым днем навигации. Имей в виду, что она в Петропавловске начинается раньше, чем в Охотске, и можно Невельского упустить. Нечего и говорить, насколько важно для него получить высочайше утвержденную инструкцию — это придаст ему крылья.
Муравьев приостановился и после минутки раздумья добавил:
— Уверен, что этот одержимый ждать не станет и все равно улетит к своему Амуру без инструкции.
Через два дня, не отдохнувши, Миша, напутствуемый пожеланиями, вкусной снедью и горячими поцелуями красивой молодой тетки француженки, а заодно и мадемуазель Элиз, то скользил в легких нартах по снежным равнинам, то трясся в седле по горным и лесным тропам к Охотску.
В тот год навигация у Охотска началась только в июне — смысла ловить Невельского в Петропавловске не было, и Корсаков, превратившись из пехотинца в моряка, тотчас же из Охотска отважно пустился в море на борту «Кадьяка».
Покрейсировав у северной оконечности Сахалина, он дважды заходил в Константиновскую бухту, снова крейсировал и, наконец, отчаявшись встретиться с Невельским, угрюмый и злой, забился в Аян.
Прибытие туда же Муравьева, тоже после безуспешного крейсирования у северного берега Сахалина, привело обоих в уныние.
— Я надумал еще одну попытку, — вдруг заявил на третий день ожидания Муравьев.
— Какую? — уныло спросил Корсаков. — Наверное, погибли. Сами посудите, какая стояла погода. Штормы. «Кадьяк» едва спасся. Выбросило на берег, и утонули, вот и все… Я думаю, все же погода немного поправится. Тогда надо пройтись по берегам, — сделал предложение Корсаков.
— Так и мне кажется, ваше превосходительство, — подтвердил Завойко.
— Я решил, — кивнул головой Муравьев, — пошлю к Шантарским островам байдарку, пусть поищут хоть следы. Дай-ка мне сюда прапорщика Орлова.
Разговор происходил на палубе «Иртыша», где уединился Муравьев, чтобы как-нибудь скрыть от жены свое скверное настроение и не выдать угнетавших его мыслей о злой участи «Байкала».
— Вот что, прапорщик! — Боевой и бывалый штурман Дмитрий Иванович Орлов приготовился слушать. — Возьмите две байдарки и идите к югу вдоль берега, присматриваясь к нему, как будто собираетесь его описывать. Пройдите возможно дальше. Если попадутся люди, не вздумайте расспрашивать их о «Байкале» — выжидайте: если его видели, сами расскажут.
— Когда прикажете выйти, ваше превосходительство?
— Сейчас же.
Через полчаса Муравьев с борта «Иртыша» с любопытством и сомнением присматривался к сшитым из тюленьих шкур, натянутых на легкий каркас, шестивесельным байдаркам с выгребавшими из бухты гребцами-алеутами. Под ударами весел байдарки извивались, как живые.
— Я думаю, — сказал Струве, иронически подсмеиваясь, — что при прямом ударе волны в борт такая посудина согнется полукольцом, а пассажиры вывалятся.
— Не беспокойтесь, — ответил Корсаков, — не сгибаются и очень устойчивы.
Байдарки скользили мимо «Иртыша», едва касаясь воды, и вскоре за выступом входа в бухту скрылись. Стало еще сиротливее.
Через два дня нового томительного ожидания, как только просветлело, радостный окрик вахтенного возвестил, что в море виден корабль.
— Бот! — самоуверенно заявил Струве, опуская трубу. — Бот под всеми парусами.
— Бот-трехмачтовик? — с укоризной пожал плечами Корсаков и, состроив презрительную гримасу в сторону Струве, процедил сквозь зубы: — Стрюцкий, штафирка несчастный.
— Пешеброд, — так же презрительно смерив Корсакова с головы до пят, ответил Струве и отвернулся.
— Моряки! — засмеялся Муравьев и, вспомнив, что и сам он не моряк, обращаясь к вахтенному, спросил: — Транспорт?
— Так точно, ваше превосходительство, — уверенно ответил тот, продолжая пристально приглядываться к далекой точке. — Теперь видать ясно — транспорт «Байкал», ваше превосходительство!
— «Байкал»! — закричал Муравьев и засуетился. — Аврал! Шлюпку на воду! Вельбот! Штабс-капитан Корсаков, скорей навстречу. Струве, предупредите дам: я на велъботе.
Не прошло и минуты, как Миша Корсаков, укутываясь в брошенное с берега чье-то пальто и ловя увертывавшиеся на ветру рукава, торопливо командовал насторожившимся гребцам:
— На воду! Начали! Еще, еще! Наддай ходу!
Когда шлюпка приблизилась к воротам, сквозь узкий проход из бухты в море ясно был виден идущий на всех парусах, включая даже стаксели, транспорт «Байкал». Палуба его густо была покрыта шевелившимися точками.
— Вас ждет в Аяне их превосходительство! Прибыла высочайшая инструкция! — орал издалека в рупор возбужденный Корсаков, передавая устаревшие новости, уже известные от взятого Невельским на борт Орлова. — А у вас что?
— Все хорошо, — коротко отвечал Невельской, не желая повторяться, расскажу на борту, — и пояснил: — Вижу из бухты двенадцативесельный вельбот без флага, это он? Салютовать?
— Салютуйте, он, он! — оглядываясь назад, кричал Корсаков.
— Готовьсь к салюту! — распорядился Геннадий Иванович.
— Сколько прикажете? — спросил лейтенант Казакевич.
— Валяй все одиннадцать! — забывая о торжественности минуты и официальности обстановки, бросил опьяненный, счастливый Невельской.
Шлепая о волны длинными тяжелыми веслами, подходил неповоротливый вельбот.
Не слушая плохо доносившихся на «Байкал» слов генерал-губернатора, Невельской с упоением выкрикивал в рупор:
— Сахалин — остров! Вход в лиман и Амур возможен для мореходных судов и с севера и с юга! Вековое заблуждение рассеяно!
Вельбот беспомощно и нервно ерзал на волне и долго не давал выпрыгнуть, но как только нога Муравьева коснулась нижней ступеньки опущенного трапа, следивший за всеми движениями генерал-губернатора лейтенант Казакевич махнул рукой. Корабль вздрогнул от оглушительного выстрела и окутался вонючим, но приятным для всех участников густым дымом. Взволнованный Муравьев не успел решить, догадаются ли в порту ответить на салют, машинально оглянулся в сторону Аяна и, увидев клубы дыма, улыбнулся: «Догадались». Посреди рапорта, представлений, объятий, поцелуев и приветствий действительно стало докатываться отдаленное буханье аянских пушек.
— Я полагаю, что этот документ покроет все наши прегрешения, Геннадий Иванович, — обнадеживающе произнес Муравьев, вручая Невельскому высочайше утвержденную инструкцию.
— Увы, нет, ваше превосходительство, — шутя ответил Невельской, не думая, что его слова станут пророческими, — боюсь: ведь здесь нет разрешения на плавание по Амуру, а мы вошли и проплыли вверх и вниз по реке больше полусотни верст!
— А-я-яй! — так же шутливо в тон ответил Муравьев. — Значит, разжалование неминуемо.
Все захохотали.
— Шампанского! — потребовал Муравьев.
Офицеры переглянулись.
— У нас нет шампанского, ваше превосходительство, — пробормотал смущенно Невельской, — извините великодушно, на берегу.
— На берегу — то само собой, — не унимался Муравьев, — ну, тогда по чарке вина! Матросы! Государю императору ура!
А когда смолкло дружное «ура» и оказалось, что нет и водки, смутился было и Муравьев, но нашелся:
— Господин капитан, господа офицеры и лихие орлы матросы, — сказал он, — поздравляю всех вас с неслыханной одержанной вами великой победой. «Ура» вашему отважному капитану! — А после оглушительного «ура» он добавил: — На берегу за мной по три чарки…
После этого новое «ура», уже без всякого приглашения, не смолкало до самого входа «Байкала» в бухту.
Тут шла своя суета: дамы решили встретить прибывших хлебом-солью, очаги уже давно дымились для этой встречи…
— А если они возвратились ни с чем? — опасливо заметила Екатерина Николаевна.
— Не было бы салюта, — возразила Христиани.
— Салют «Байкала», — пояснил француженке Струве, — это привет порту и генерал-губернатору Восточной Сибири, а наш ответ — приветствие «Байкалу» по случаю благополучного возвращения, и больше ничего.
— Вот что мы сделаем, — решила генерал-губернаторша, — с поднесением повременим, пока не узнаем точно, а там видно будет, может быть, придется скушать самим.
Упавший ветер задержал резвый бег транспорта, и допрошенные гребцы с прибывшего вельбота успели сообщить приятные и волнующие новости.
Пропущенный генерал-губернатором вперед и слегка подталкиваемый им маленький, тщедушный триумфатор медленно и торжественно сошел с поданного вельбота, набитого до отказа пассажирами, на берег. Здесь его встретило все сбежавшееся население фактории, несколько ошалевших от салюта случайных гиляков, матросы, солдаты и две дамы, за которыми стоял матрос с хлебом-солью на блюде, накрытом расшитым полотенцем. Впереди всех стоял Струве, уполномоченный дамами держать речь.
Говорил Струве хорошо и закончил речь такими словами:
— Дорогой Геннадий Иванович! Для того чтобы сделать открытие, нужны ум, отвага и упрямство, но для того, чтобы доказать ошибку таких непререкаемых авторитетов, как ваши славные предшественники, нужны, кроме того, знание, вера в себя, дерзание и, что важнее всего, безграничная любовь к родине, когда жертва служебным положением и даже жизнью кажется желанным благом. И вы с вашими сотрудниками, в груди которых бьется такое же, как и ваше, львиное сердце, преодолели все препятствия. Вся Россия вместе с нами, я уверен, веками будет гордиться такими сынами. Честь вам и слава!
Невельской поклонился, целуя руки дамам, принял хлеб-соль, и шествие направилось к хибарке, очищенной под временную квартиру начальника края, где до утра провозглашались тосты и искрились бокалы.
В четыре часа ночи подвыпившие Гревенс, Гроте и Попов подошли к генералу и, вытянув руки по швам, попросили разрешения уйти.
— Что? — спросил Муравьев, недоумевая. — Что вам взбрело на ум?
— М-м-мы извиняемся, ваше превосходительство, н-но мы… заб-были… сесть под арест!
— Какой арест? Ничего не понимаю! — рассердился Муравьев.
Невельской, путаясь, объяснил.
— Ваш начальник теперь я? — спросил Муравьев.
— Да, ваше превосходительство.
— Арест отменяю — промах сторицею заглажен! Шампанского! Ура-а! — и бросился всех поочередно обнимать.
Шумно было и на кораблях: здесь дружно, не сговариваясь, крепко забыли о трех обещанных генерал-губернатором чарках и мерок не считали…
— Уж очень неказист, сударыня, этот ваш герой, — задумчиво заметила хозяйке Христиани за утренним кофе, когда мужчины разбрелись по делам и они остались одни.
— Головой ручаюсь вам, — многозначительно ответила генеральша, — что он сделает сумасшедшую карьеру…
— М-м-да-а? — протянула с загадочной улыбкой артистка. — В таком случае надо серьезно подумать…
Для заговора и тесного союза женщин-приятельниц этого обмена двумя короткими замечаниями оказалось вполне достаточно: над беспомощным героем, совершенно отвыкшим от женского общества, предательски раскинулась тонкая, искусно сотканная паутина женского обаяния.
А несколько часов спустя дивный инструмент Христиани под заколдованными пальцами молодой артистки нежно обволакивал то грустными, то обнадеживающими песнями о любви растревоженное и лишенное женской ласки, безвольное и полное жизни, наивное сердце неказистого веснушчатого капитан-лейтенанта.
Женские маневры не укрылись, однако, от зоркого глаза опытного, несмотря на молодость, царскосельского лицеиста и светского человека Струве, и он тут же решил взять героя под свое покровительство: мадемуазель Элиз он хорошо изучил во время пути, и заговор дам ему пришелся не по душе.
— Как вам понравились наши дамы? — спросил он Невельского, сопровождая его, по поручению Муравьева, на транспорт «Байкал». — Не правда ли, как хороша мадемуазель Элиз, а?
Невельской вспыхнул.
— Сказать по правде… я мало к ней присматривался, — потупился он в смущении.
— Скоро присмотритесь, — убежденно и умышленно резко сказал Струве, она вся как на ладони: протрещит целый день, не умолкая, утомит до одури — и все тут…
— Она глубоко чувствующая артистка, умна и говорит интересные вещи, серьезно заметил Невельской.
— Да, перескакивая, не останавливаясь, с предмета на предмет. Это плоды светскости: многие светские женщины у нас на этом, что называется, собаку съели, а она — способная ученица… Однако нельзя отнять у нее и больших достоинств: смела, отзывчива и любезна, — спохватился Струве, боясь переборщить критикой и потерять свой авторитет в глазах Невельского, но потом, как бы нехотя, добавил: — Хозяйственных наклонностей — никаких… не домовита, непоседа — настоящая концертирующая артистка, из города в город, в погоне за аплодисментами и славой… — И, решив, что на первый раз довольно, он перешел к другим темам.
Распоряжения Невельского по спешной подготовке к выходу в море, в Охотск, где он должен был сдать «Байкал» и ехать за Муравьевым в Иркутск, а затем — с докладом в Петербург, указания, данные прапорщику Орлову по предстоящей ему самостоятельной работе — описание берегов, съемки различных пунктов на материке и зимние наблюдения за морем и Амуром, — произвели на Струве большое впечатление продуманностью, спокойствием, отчетливостью и действительной необходимостью. Он проникся к Невельскому уважением, и искреннее желание прийти к нему на помощь и в Иркутске укрепилось. Он видел, что Невельской — человек не светский, к тому же застенчивый, лишенный самоуверенности, женщин не знает и требует поддержки и руководства первыми шагами в обществе.
— У нас в Иркутске отдохнете в чудном окружении, Геннадий Иванович, в исключительном, — начал он многозначительно.
— Это откуда же у вас такое взялось? Купцы, чиновники, дельцы…
— Зачем дельцы? Декабристы!
— Де-ка-бри-сты? В Иркутске? На свободе? — удивился Невельской.
— Представьте себе, в самом Иркутске. Учат своих детей в гимназии и институте благородных девиц, сами выступают, как незаурядные педагоги.
— Прямо сказка какая-то! — недоверчиво заметил Невельской. — Давно?
— Такая свобода? Нет, недавно, с приезда Николая Николаевича Муравьева…
Невельской с сомнением покачал головой:
— Кто же там из декабристов?
— В самом Иркутске с семьями только Волконские и Трубецкие, но многие в окрестностях: Поджио, Муравьевы, Борисовы, Раевский с семьей… Не стоит перечислять — почти всех увидите у Волконских, где я принят, как свой, и даже по просьбе Марии Николаевны руковожу первыми шагами только что окончившего гимназию сына их, Миши, ныне чиновника для поручений при генерал-губернаторе. Мишель — славный, серьезный мальчик… Подрастает и дочурка у них, Елена, — обещает превратиться в интересную женщину. Пребедовая девочка! Несмотря на свои четырнадцать лет, уже приворожила к себе одного из наших чиновников, Молчанова, и обратила его в белого раба. Девичье поколение у нас многочисленно и во всех отношениях выше ваших петербургских светских барышень. Я объясняю это большим вниманием к вопросам воспитания детей со стороны прошедших суровую школу жизни родителей, а пожалуй, и тем, что жены декабристов, да и мужья, до сих пор окружены ореолом мучеников за идею и общим сочувствием. Девицы у нас прониклись духом самопожертвования княгини Волконской, Трубецкой, Анненковой и только и мечтают о том, чтобы принести себя в жертву. Набожны и не чужды некоторого мистицизма… Присматриваю себе среди них жену и я.
— С каким успехом? — спросил Невельской.
— Увы, без успеха, несмотря на все старания, — вздохнул Струве, — они хотят полюбить непременно героя, а я не герой и, по-видимому, им никогда не буду. — Он остановился, а затем сказал: — А знаете, что мне пришло в голову, Геннадий Иванович? Ведь вы-то теперь герой! Боюсь, все в вас начнут влюбляться. Словом, как только приедете — к Волконским с визитом, под моей опекой, идет?
— Боюсь, уж очень одичал я, — засмеялся Невельской. — Чего доброго, не решусь, а в опекуне, пожалуй, действительно нуждаюсь, спасибо.
Не прошло и недели как все разлетелись: Корсаков на боте с кратким донесением Невельского Меньшикову и запиской Муравьева — в Охотск, а оттуда, посуху, в Петербург; Муравьев с дамами и Струве — прямо из Аяна, по новой сухопутной дороге через Нелькан — в Якутск и Иркутск; Невельской с офицерами — в Охотск, сдавать транспорт «Байкал», а затем на свидание с Муравьевым в Якутск.
Словом, Аян опустел, и жизнь здесь надолго замерла, И только изредка в факторию продолжали захаживать гиляки, да оставленный с несколькими людьми прапорщик из штурманов Орлов терпеливо ждал бесконечно далекой весны, вскрытия Амура и возможности начать промеры, в десятый раз вычерчивая по наброскам и запискам исхоженные вдоль и поперек и измеренные прибрежные пространства…
7. Воспоминания и думы
Результаты пережитых волнений, чередующихся надежд и отчаяния, бурная пьяная радость от успехов и близкая, уже несомненная слава кружили голову. Трясясь верхом на лошади, скользя в легкой, булькающей по глади рек лодке, а под Якутском чуть шелестя на легких нартах в туче снежной пыли, Невельской чувствовал себя в каком-то полузабытьи.
Он предался мечтам о близких встречах в Якутске с обаятельной Христиани, с лукавой и насмешливой генеральшей. Являлись и мысли о будущих встречах в Иркутске с людьми, ставшими уже при жизни легендарными, декабристами. Что он знает о них, кроме легенд? Мало, очень мало — почти ничего.
Тысячеверстная дорога услужливо и неутомимо разматывала любовно сбереженный в каких-то тайниках души клубок воспоминаний. Узелки непрерывно тянущейся нити, связанной из коротких обрывков почти забытых воспоминаний отдаленной юности, проносились мимо, как черточки и точки на ленте электрического телеграфа… «А ведь это те самые телеграфные точки, всполошился Невельской, — посредством которых, как рассказывали, часами перестукивались декабристы во время бесконечного сидения в каменных мешках крепостных казематов. Как странно, что именно здесь нашла себе впервые применение телеграфная азбука!»
Декабристы… Он их увидит, узнает, что это за люди, узнает их после двадцати пяти лет неописуемо тяжелых испытаний. Декабристы, наверное, думают, что в борьбе с царской властью они пали побежденными. Это неверно: они победители, жертвы их не напрасны. Он расскажет декабристам, что брошенные ими семена бурно разрослись и что царь со своими опричниками бесплодно борется с молодой порослью, что жуткий страх овладевает царем…
Четырнадцатое декабря застало Невельского двенадцатилетним мальчуганом в Морском корпусе. Он живо помнит красавца преподавателя лейтенанта Николая Бестужева и тот жуткий мальчишеский шепот, каким передавали, что Бестужев четвертован, а голову его проткнули копьем и возят по городу. Помнит и окончившего при нем корпус Петю Бестужева, сосланного царем на Кавказ, прямо под пули горцев. От пуль Петя уцелел, а травли цепных псов Николая не выдержал и сошел с ума.
Невельской и не подозревал, что скученные в Чите и на Петровском заводе декабристы многое установили, проверили и, самое главное, давно вскрыли истинную роль самодержца в их деле. Главный виновник их несчастий и несчастий родины, выдающийся актер на троне, был разоблачен до конца.
Как только попали в его руки участники заговора, император скинул маску и превратился в опытного сыщика и тюремщика: он разработал до мелочей для каждого особый режим, усиление строгостей или ослабление их, смотря по поведению преступников. Шаг за шагом, зорко и с холодной жестокостью следил он за каждым из них, чтобы внезапными вопросами использовать психологическое состояние беззащитных жертв: презрение и угрозы причудливо переплетались с игрой на супружеских и родительских или сыновних чувствах. Пускались в ход даже слезы огорченного отца-монарха, беспокоящегося о своих заблудших, но любимых детях.
И надо признаться, что искусная игра окрыляла актера: теперь он был на высоте призвания, в ударе. И некоторые неопытные жертвы, не допускавшие, что монарх способен на гнусные провокационные приемы, дрогнули: царю удалось глубоко проникнуть в святая святых заговора. Это доставило ему самоудовлетворение своим искусством, но еще больше обеспокоило: оказалось, заговорщики везде — в столице, в южной глуши и даже на Западе, за рубежом. Их много. За ними роты, полки, дивизии, корпуса, военачальники, вельможи. Последние пока прячутся в тени, но они есть, они сочувствуют, и стоит лишь ему покачнуться, обнаружить свою слабость, и… полетит кувырком доставшийся так дорого трон.
У актера созрел план: показать, намекнуть вельможам, что ему все известно, и тем самым подчинить их себе, обезвредить, а там и сосчитаться, в зависимости от проявленного ими усердия.
Во главе будущего временного правительства восставших намечались Сперанский и Мордвинов, за ними шли вожаки — Пестель, Рылеев и отказавшийся принять присягу, страшный своим молчанием Ермолов с его хорошо дисциплинированным корпусом.
Царь принялся за них… Константин отказался от престола, Ермолов присягнул — первая серьезная победа, Мордвинов подал в отставку — вторая, Сперанский — основная пружина его верховного уголовного суда — одинок: пусть старается заслужить право на жизнь. Пестель и Рылеев открыты до конца: эти не сдадутся и сами жаждут, как избавления, смерти в немеркнущем ореоле мученичества. Они ее получат, но получат без ореола, как жалкие, попавшие в капкан волки.
И все идет, как по писаному. Сперанский лезет из кожи, чтобы создать для сборища лишенных чести и уважения к самим себе Дибича, Бенкендорфа, Чернышева, Левашева пышную оболочку тайной комиссии и верховного суда, и наряжает их в судейские тоги. Своих мнений у этих судей никогда не было и быть не могло — они только молчаливые подголоски, верное эхо Николая. Николай трусливо прячется за этой ширмой.
Каждый день этот почтительнейший «сын-рыцарь» пишет письма своей кровожадной матушке, которая опасается, что у него не хватит решительности, и старается поддержать в нем жажду мести. Незачем стараться: сын садистки достаточно мстителен и кровожаден сам, он заставит декабристов, избегнувших казни, умирать десятки лет в медленной, мучительной агонии. Он высосет из них жизнь капля за каплей: в объятиях вьюг и снегов беспощадной Сибири, в каменных сырых мешках крепостей, в темных клетках тюрем, в тоскливом одиночестве, созданном специально для них в акатуйской пустыне. Но он пробует воспользоваться прикрытием и материнской ширмы: он мечтает слыть всепрощающим, жертвой, которую заставляют играть роль мстителя.
Он изливал перед матерью свои человеческие чувства, которые якобы терзают его источающееся кровью от любви к заблудшим сердце, а в то же время на клочках бумаги от него летели короткие распоряжения в тюрьму: «содержать строже», «содержать особенно строго», «держать на хлебе и воде», «заковать» и т. д.
«Потом наступит казнь», — писал он в одном из писем брату, как провидец, еще до решения суда… Иначе откуда же ему знать о грядущих казнях? Он знает больше: не только о том, что она состоится, но и место ее совершения, и время, и даже весь ее ритуал. Откуда? Да он сам его обдумывал во время прогулок с собакой по дворцовым садам и затем тщательно сочинял строку за строкой ночами в кабинете. Он сочинил ритуал ее в нескольких вариантах, чтобы выбрать лучший, наиболее бьющий по нервам жертв, родных, зрителей и даже участников — палачей. На донесения о сумасшествиях и смертях среди заключенных в тюрьмах упорно отмалчивался.
В своем «смирении» перед совершившимся он был так «великодушен», что отказался от права самодержца «карать и миловать», предоставив это право «независимому» верховному суду в обязательных, однако, для суда страшных рамках убийства. Вот теперь уже действительно можно отдохнуть от тяжелых трудов, чтобы, сидя в тихом кабинете, придумывать новые способы мучительства своих жертв.
…Перед императором уже в течение четверти века лежал поименный список обреченных на каторгу. Он знал его наизусть, но список помогал тщательно следить за каждым в отдельности, а это очень важно, так как со стороны осужденных и родных начались и все время продолжались просьбы о смягчении и милостях… И они получают смягчение и милости, но тоже капля за каплей, отравленной ядом злорадствующей мести.
Умоляют освободить из заключения — высочайше повелено освободить и отправить на каторгу в кандалах! Просят избавить от невозможной скученности в тюрьме — задыхаются, — высочайше повелено выстроить в пустынном, уединенном месте новую обширную тюрьму, с темными, без света, но «обширными» каморками.
Света, бога ради, света! Через три года разрешена «щель у потолка в четыре вершка».
Прекратите терзание запрещением писать! Ответ — каторжные вам не родные, забудьте о них. Однако царское разрешение все-таки последовало… через одиннадцать лет.
Разрешите проехать к мужу, сыну, брату, жениху!.. Только в качестве лишенных прав и без охраны дорогой и на месте от уголовных элементов, непременно без детей. Дети, рожденные в изгнании, лишаются права носить фамилию отца, а жены — права возвратиться на родину.
Дайте возможность распорядиться средствами для воспитания детей! Воспитывайте сами, в другом образовании нет надобности. А через несколько лет — милость: дети могут быть приняты в казенные школы при условии лишения их фамилий. И дальше — прямое издевательство: появляются Никитины (Трубецкие), Барановы (Штейнгели), Давыдовы (Васильевы)…
Издевательства царских властей продолжались, крупицы льгот ожидались годами и непременно отравлялись ограничениями. Зато секретные циркуляры за печатями, с фельдъегерями летели, не задерживаясь, чтобы запугивать едущих к мужьям женщин, чтобы не допускать никаких связей с населением.
Вопрос о декабристах и их идеях раскрепощения людей и о конституции занимал внимание царя в продолжение всего царствования.
8. Якутск и первые шаги Невельского в Иркутске
В Якутске Невельской застал Муравьева и дам. Он работал со своими офицерами над подробным докладом Меньшикову, а главное — над приложениями. На них наглядно и со старанием изображали, как представляли себе лиман, перешеек и сахалинские заливы с северной и южной сторон Лаперуз, Бротон, Крузенштерн, Гаврилов и, наконец, что оказалось на деле.
За работой с нескрываемым интересом следил сам генерал-губернатор, предвкушая удовольствие ярко изобразить в докладе царю важность и своевременность открытия. Позднее чуть, заразившись пылом открывателя, он и сам стал слагать гимны победителям и открыто осуждал министерство иностранных дел.
Муравьев писал: «Обвинение в том, что будто бы Россиею уступлена река Амур, так тяжко, что я считаю моим долгом его опровергнуть. Амур весь никогда нам не принадлежал, не принадлежал он и китайцам, — покуда он никем еще не был захвачен, — но почему тридцать с лишком лет Азиатский департамент иностранных дел оставлял предмет этот без внимания при всех представлениях местных начальников? Почему губернатору Лавинскому приказано было останавливаться со всякими исследованиями в этом отношении, а моего предшественника осмеяли, тогда как нисколько не воспрепятствовали англичанам во всех их предприятиях на Китай? Это уже, без сомнения, лежит на совести Азиатского департамента». «Множество предшествовавших экспедиций к сахалинским берегам достигали европейской славы, но ни одна не достигла отечественной пользы по тому истинно русскому смыслу, с которым действовал Невельской…»
Вечерами посещали обеды и балы. Молодежь веселилась вовсю. Не отказывались от веселья и дамы. Паутинная сеть Христиани становилась опасной.
Струве насторожился и пускал в ход все свои недюжинные дипломатические способности, чтобы мешать, но помехи шутя устраняла генерал-губернаторша. Тогда Струве решил подкопаться с другой стороны.
— Екатерина Николаевна, — сказал как-то он Муравьевой, — я давно уже наблюдаю и по правде удивляюсь: неужели вам не жаль так расположенную к вам мадемуазель Христиани — ведь она, на свое несчастье, по-видимому, увлеклась Невельским не на шутку.
— Вы считаете увлечение несчастьем? С каких пор?
— В данном случае — конечно: ведь эта богато одаренная артистка и редкой красоты женщина обречена будет на скитания где-нибудь в устье Амура в обществе чумазых гиляков, вдвоем с этим черствым сухарем, которому только дикари интересны. Или еще хуже — оставаться одной-одинешенькой и беззащитной, пока сухарь, одержимый своим неизлечимым безумием, будет блуждать по неведомым морям. Право, не сумею даже сказать, что хуже.
— А я знаю, — лукаво ответила генеральша, — вы просто злой ревнивец.
Она слегка ударила его веером по руке и встала, направляясь в соседнюю комнату, где начались танцы.
Струве от неожиданности своего дипломатического поражения растерялся и безнадежно махнул рукой: будь что будет…
Всего только два семейства декабристов устроились в Иркутске по-настоящему да несколько в его окрестностях, но и этого оказалось достаточно, чтобы личная жизнь иркутян вне службы изменилась и наполнилась каким-то новым внутренним содержанием: без попоек, гомерических пирушек и без сумасшедшей, отравляющей душу азартной картежной игры, — все это, если еще и продолжало существовать, то где-то глубоко и совсем уже не составляло основных интересов общества.
Декабристы добрались до Иркутска не сразу, а рядом этапов после многолетней суровой школы лишений и борьбы за право на жизнь. В этой борьбе их поддерживали и принимали посильное деятельное участие лучшие люди Сибири и столицы.
Особенно тяжелыми для декабристов были первые годы, тем более что тяжесть бесправия опустилась на их головы внезапно, неожиданно. Но уже первые шаги их по пути в Сибирь, после крепостных казематов, комедии разжалования (срывались погоны с мундиров и ломались шпаги), казалось, были усыпаны розами: не всеобщее презрение, которым их стращали, и не народная злоба сопровождала их на далекую и бессрочную каторгу, а полное признание величия принесенной жертвы и горячая любовь.
Закованным в броню безразличия жандармам, бессердечным тюремщикам, опасливо озиравшимся трусливым чиновникам и крупной администрации пришлось ограждать дерзнувших на свержение венценосца не от гнева народного, а от проявления безграничного сочувствия и трогательной заботы: всяческая помощь, бесчисленные услуги, предлагаемые со слезами на глазах, сопровождали «лишенных всех прав и состояния каторжников» от петербургской заставы до самого места каторжных работ. И они, согретые неподдельной теплой лаской и горячими, от чистого сердца пожеланиями, после тянувшихся месяцами и годами унижений, оскорбительных допросов и сырых, безмолвных и темных каменных мешков, оттаяли, согрелись. Сознание, что жизнь прожита не напрасно, наполняло души изгнанников покоем и удовлетворением. Да, прожитая часть жизни хороша, но надо ее донести такою же светлою до конца!..
Рядом со многими из них были жены. Не вспышка чувств, временная экзальтация и самолюбование руководили Трубецкой, Волконской, Ивашевой, Анненковой, Муравьевой, Нарышкиной и десятками других, а так именно понятый долг жены, неизменной спутницы — подруги жизни и матери.
Они лишили себя самого необходимого, они ютились на нарах темных, без окон тюремных конур, кочевали за мужьями с рудника на рудник, с завода на завод и сами не падали духом, самоотверженно ухаживая за своими «каторжниками», поддерживали в них бодрость и умудрялись воспитывать подрастающих детей.
Лучезарными и легкими, как видение, представлял себе Невельской этих пока неведомых, но таких привлекательных женщин. Закрыв глаза, он часами лежал в кибитке, мягко скользившей по девственному снегу, и мечтал. Мечтал и удивлялся, почему, попадая под очарование мадемуазель Элиз на стоянках, когда восхищало в ней все — и стройность движений, и музыка голоса, и, казалось незабываемая улыбка, — он тотчас же освобождался от ее чар, как только поудобнее усаживался в кибитку и закрывал глаза. Роем других, желанных для сердца видений тотчас вытеснялся яркий и такой земной образ беззаботной и резвой француженки. Струве мог бы не беспокоиться: увлечение само по себе шло на убыль.
Иркутск встретил приехавших солнечными днями, крепкими бодрящими морозами, слепящими снежными далями и задумчивым и тихим рождественским постом. Духовитым рыбным запахом вместе с клубами пара пыхало из открывавшихся кухонных дверей во дворах — в кухнях обывателей царила пряная жирная треска и нежный пресный байкальский царек — омуль. Чиновный Иркутск в то же время не поскупился и забросал приехавших злыми новостями и ядовитыми, связанными сложными узлами сплетнями.
Недовольный и мрачный начальник края почти не выходил из кабинета и без конца строчил длиннейшие донесения и письма, стараясь разорвать хорошо видную ему столичную сеть интриг и готовясь к годовому по краю отчету. Чиновники сбились с ног, таская пудовые дела «для справок» и пыхтя, далеко за полночь, над сводкой и «экстрактами»…
Сибирского генерал-губернатора раздражало решительно все, и во всем, что шло из Петербурга прямо или косвенно, он безошибочно угадывал какой-нибудь подвох или тщательно скрытое жало недоброжелательства.
Взять хотя бы производство его в генерал-лейтенанты. Для начинающего генерал-губернатора это как будто и неплохо, но почему же забыли упомянуть об утверждении его в должности — ведь он только «исправляющий должность»? Однако этот чиновничий, другим незаметный оттенок в приказе — отнюдь не промах, нет, а злостный подвох, чтобы лишить его уверенности в действиях и распоряжениях.
Только что закончилась раздражающая история с трогательной супружеской парой опасных английских шпионов мистера и миссис Гиль. Эта пара очаровала своим обхождением все иркутское общество и порывалась во что бы то ни стало сопровождать генерал-губернатора в его поездке в Охотск и на Камчатку.
Не успели выпроводить супругов Гиль, а на их месте тут как тут вырос геолог, турист-одиночка мистер Остен. Он тоже из далекой, но весьма любознательной Англии, и мистера Остена неудержимо заинтересовала геология Приамурья. Сказано — сделано: мистер уже садился на большой, сколоченный в Нерчинске плот, с которого так удобно изучать геологическое строение берегов Шилки и Амура, как вдруг пришлось плавание до самого синего моря, мимо не менее интересного в геологическом отношении Сахалина отложить любознательного мистера за шиворот с «миль пардонами» стащил с плота специально посланный генерал-губернатором курьер. Приятная поездка мистера прервалась, но зато началась неприятная переписка генерал-губернатора с министром иностранных дел канцлером Нессельроде: канцлер рекомендовал генерал-губернатору деликатно доказать туристу, что разрешить поездку мы не можем, так как-де Шилка — пограничная наша с Китаем река и мы дали Китаю слово не плавать по этой реке, а тем более дальше, по Амуру.
Генерал-губернатор от ярости скрежещет зубами: ему, который старается доказать, что Россия искони владеет всем течением Амура, Приамурьем и Приморьем, доказывать английскому мистеру, что наша граница идет по Шилке?
— Негодяй, — шипит генерал-губернатор по адресу канцлера, не-го-ддяй! — повторяет он членораздельно.
— Не могу, сэр, разрешить вам этой опаснейшей, в высшей мере опаснейшей и бессмысленной поездки, — сладко уговаривает он огорченного мистера, — но я могу предложить вам интереснейшее путешествие в китайский город Маймачен, на юбилейное торжество нашей кяхтинской торговли с Китаем.
Лицо мистера проясняется: он там многое узнает, а главное — он встретится там с эмигрантами, сбежавшими из России, старообрядцами. Мистер хорошо знает историю русско-китайских отношений, знает и о переселившихся в Китай старообрядцах, но своими познаниями на этот раз не хвастает.
Посланные на торжество русские представители — испытанные люди, они охотно предоставляют мистеру Остену возможность побеседовать с бежавшими старообрядцами наедине и сами храбро провожают к ним мистера.
— Ведь это ваши враги? — удивляется Остен. — Вы не боитесь?
— О нет, — смеются, — это наши друзья…
— Как странно! — пожимает плечами мистер. Он любопытен и недоверчив, он хочет убедиться лично.
— Вы, должно быть, остро ненавидите Россию? — спрашивает он в упор, сидя у старообрядцев в гостях.
— Мы ушли из России, — говорят они, — от притеснений нашего вероучения, но мы продолжаем всем сердцем любить нашу Россию и здесь.
Англичанин Остен долго после этого волновался: он не мог понять этого, по его мнению, явно порочного силлогизма, в котором вместо вывода «месть» поставлен вывод «любовь». Чудной и непонятный народ эти русские варвары!..
Но больше всего возмутила Муравьева экспедиция подполковника Ахте. Она была отправлена из Петербурга по инициативе Нессельроде, без ведома начальника края, но, конечно, с высочайшего утверждения. Она предназначалась для исследования наших границ с Китаем в таких местах, где границы никогда не было и где вопрос об ее установлении по Нерчинскому акту был оставлен открытым. Нессельроде, смертельно боявшийся чем-нибудь раздражить наших соседей, на этот раз явно изменил своему принципу, так как ясно было, что появление вблизи китайских границ отряда в двадцать пять человек не могло не стать им известным. А это, в свою очередь, могло (а может быть, и желательно было канцлеру, кто знает?) вызвать осложнения в едва начатых амурских делах Невельского и Муравьева…
Экспедиция прибыла в Иркутск тотчас после того, как Муравьев отправился в объезд по краю на полгода. Известие о ее прибытии застало Муравьева в пути. Выведенный из себя, он решился на крайнюю меру — задержать экспедицию до возвращения с Камчатки, а тем временем донести о мотивах задержки царю. И таким искренним возмущением дышал его всеподданнейший рапорт о нелепости и вредности экспедиции, что не мог не остановить на себе внимания императора.
В довершение всех неприятностей преданный Муравьеву Невельской раскритиковал его затею перенести порт из Охотска в Петропавловск и основать новый порт в Аяне. По мнению Невельского, оба порта надо оставить, не развивая, а все свободные средства края употребить на то, чтобы прочно занять устье Амура и исследовать берега Татарского пролива и материка к югу, до самой Кореи, где, вероятно, можно отыскать совсем не замерзающую гавань. Муравьев внутренне не мог не согласиться с доводами Невельского, но не был в силах задержать отправленное уже представление.
Работы у Невельского и всей его компании было немного. Не прошло и нескольких дней, как его офицеры, успевшие сделать визиты, проводили вечера в доме гостеприимной генерал-губернаторши, в обществе жизнерадостной француженки, и у губернатора Зарина, в обществе миловидных его племянниц. У мадмуазель Христиани уже образовался целый круг поклонников.
Невельской держался особняком и после официальных визитов никуда не ходил, тем более что занятому по горло его опекуну Струве было не до него.
— Геннадий Иванович, — сказал Невельскому неделю спустя Муравьев, Екатерина Николаевна жаловалась мне вчера, что вы глаз не кажете к нам. Очень прошу вас охранять меня от жалоб хоть с этой стороны, им и без того несть конца. И потом, это я уже от себя, помните: женщины многое могут простить, но только не пренебрежение.
— Слушаю, Николай Николаевич, я сегодня же буду, — ответил Невельской, густо краснея.
— За мадмуазель Элиз ваши офицеры ухаживают наперебой, особенно лейтенант Казакевич, но предпочитает она, по-видимому, Гревенса. Помните, я не отвечаю, если случится по пословице «что имеем, не храним»… Кстати, у декабристов вы не бывали?
— Нет, Николай Николаевич, не был — все недосуг.
— Тут уж, знаете, просто как-то выходит нехорошо: у нас в Иркутске повелось, что все стараются оказать им внимание, тем более что к пренебрежению у них, это понятно, родилась особенная чувствительность… Да вы сами много потеряете, если устранитесь от знакомства с ними.
Геннадий Иванович почувствовал себя неловко и в тот же вечер побывал у Муравьевых. Элиз была в ударе и успевала одарить вниманием всех поклонников и в том числе чопорного и неловкого долговязого юнкера князя Ухтомского, все время соскакивавшего с места и щелкавшего каблуками. На Невельского она явно дулась и старалась не замечать его присутствия: не задевала его вопросами, обходила улыбками и ни разу не попросила аккомпанировать ей на рояле.
На минутку вышел из генеральского кабинета озабоченный Струве, наскоро выпил стакан чаю, извинился и поднялся, чтобы снова исчезнуть, но, как будто что-то вспомнив, подошел к Невельскому и вполголоса сказал:
— Вы до сих пор не были ни у Волконских, ни у Трубецких. Это нехорошо. Вчера Мария Николаевна наказала мне привести вас, если вас тяготят церемонные визиты к ним, запросто. Завтра суббота, это удобно, будет дома и дочурка — сразу со всеми и познакомитесь. Я зайду за вами.
Невельской утвердительно кивнул головой.
9. У Волконских
— Ну вот, дорогой Геннадий Иванович, — сказал на другой день вечером, вбегая в его комнату, Струве, — наконец вы увидите ту женщину, единственную, перед которой Пушкин терялся в немом восхищении, благоговел, как перед святыней, и сохранил это благоговение до конца. Помните его посвящение к «Полтаве»?
Узнай, по крайней мере, звуки, Бывало, милые тебе И думай, что во дни разлуки, В моей изменчивой судьбе, Твоя печальная пустыня, Последний звук твоих речей Одно сокровище, святыня, Одна любовь души моей.…На условный звонок Струве из комнаты, освещенной только одной затененной большим абажуром лампой, тотчас выбежала в темную прихожую высокая, несколько еще угловатая в движениях девочка-подросток, а за нею стройный высокий юноша с ясно обозначившимся черным пушком на верхней губе.
— Бернард Васильевич, — затараторила девочка, — я сразу узнала, что это вы… Вы не один?
— Нет, не один, — прошептал он ей в ухо сценическим шепотом, — я привел к вам гостя — Невельского…
— Такой маленький, — разочарованно прошептала, в свою очередь, Нелли Волконская.
— Позвольте представиться, мадемуазель, — шагнул к ней Геннадий Иванович, который слышал перешептывание, — перед вами действительно Невельской-маленький, а большой Невельской, настоящий, идет вслед за нами…
Нелли присела перед ним в глубоком институтском реверансе и, сконфузившись, сказала:
— Маман будет вам очень рада, она у себя, — и, видя, что брат пропускает гостя вперед, в гостиную, повисла на руке Струве и опять принялась шептать: — Видите, я с места, кажется, сказала какую-то глупость, как быть?
— Сказать другую, — громко пошутил Струве. — Геннадий Иванович ничего не боится, все стерпит.
— Я позову сейчас маман, — заявила окончательно смущенная Нелли и повернулась бежать.
— Она одна? — спросил Струве.
— Нет, у нее кто-то есть, я думаю, Катя, — и убежала.
С волнением ожидал появления прославленной женщины, так пленившей Пушкина, Геннадий Иванович, не слыша, как Струве представляет ему своего ученика, Мишу Волконского.
В темной рамке широко распахнувшейся двери за откинувшимся драпри показалась высокая стройная фигура Марии Николаевны. Ее легкая походка была так стремительна, что бросившийся навстречу ей Геннадий Иванович не успел сделать и двух шагов, как протянутая вперед узкая теплая рука Марии Николаевны очутилась у его губ.
— Я рада вас видеть…
— Геннадий Иванович, — подсказал Струве.
— Николай Николаевич Муравьев много удивительного рассказывал про вас, Геннадий Иванович, про ваши исключительно важные для России планы и, самое главное, про вашу настойчивость, так блестяще увенчавшуюся успехом. Он говорит, что вы умозрительно, одним изучением материалов, обнаружили ошибки моряков с мировой известностью, сделанные много лет назад, а теперь только проверяли ваши выводы. Расскажите, как это все сложилось?
— До безумия обожаю приключения! — вслух сказала, не удержавшись, Нелли и тут же закрыла себе ладонью рот, опустив голову перед укоризненным взглядом матери. Мишель, заметно только для сестры, выразительно провел пальцем по языку.
— Да, право, нечего рассказывать, Мария Николаевна, — просто, без рисовки заявил Невельской, — после того, что пришлось пережить вам и Сергею Григорьевичу, наши злоключения так бледны, так ничтожны, что не стоит о них говорить… Да и сделали мы, в сущности, очень мало, почти ничего: мы только своими глазами увидели и убедились в том, что существовало тысячелетия до нас. Но ведь не в этом дело, настоящая работа вся впереди: надо занять, населить и сделать своим целый край. Вот перед этим я трепещу; хватит ли сил, уменья, да и не помешают ли…
— Враги? — спросил Мишель.
— Нет, хуже, — замялся Невельской, — свои…
— Свои? — удивилась Нелли. — Зачем же они это делают?
Но ответа не получила — в дверях из столовой появилась молоденькая, в чистом белом передничке и в наколке, горничная и заявила:
— Барышня Екатерина Ивановна просят к чаю.
По дороге в столовую Геннадий Иванович успел обещать любопытной Нелли, что он расскажет о смешных приключениях, а она ему сообщила по секрету, что ей без приключений нельзя будет показаться в институте.
— Но приключения должны быть смешные, — потребовала она, — веселые, а не со стрельбой, бомбами и смертями. Такие нужны только мальчикам.
— Вы посмеялись надо мной там, в передней, — продолжала она вполголоса, — так мне и надо, но только не высмеивайте меня при маман; я тогда совсем теряюсь, молчу и краснею, как дурочка.
— Не буду, никогда не буду, будемте друзьями, — предложил Геннадий Иванович.
— О, как я рада! Какой вы, однако, добрый! — с убеждением сказала Нелли, порывисто схватила его руку, пожала и радостно добавила: — О, если бы вы знали, как мне будут завидовать в институте!
За большим столом, накрытым белоснежной скатертью, с такими же салфетками и сияющим свежестью и блеском чайным сервизом, сидела молоденькая, лет девятнадцати, миловидная девушка в простеньком скромном платье с кружевным воротничком. Строгий ровный пробор, приспущенные назад и затем подобранные к ушам черные волосы хорошо оттеняли открытый лоб, нежный овал чистого девичьего лица и сложенный в едва заметную улыбку небольшой рот. Это была одна из губернаторских племянниц, Ельчанинова Екатерина.
— Вы у нас пробудете святки, Геннадий Иванович? — спросила Мария Николаевна.
— Я полагаю, да. Николай Николаевич решил отправить нас в Петербург, когда закончит отчет. А я думаю, что когда бы он ни кончил, все равно отчет может выйти отсюда только после 31 декабря, то есть уже в будущем году.
— Как хорошо! — сказала Мария Николаевна. — Мы успеем повеселиться с вами на святках. Привлечем всех ваших офицеров, да и своих тут кавалеров у нас немало.
— Нас тут, кавалеров, пруд пруди, Мария Николаевна, — как-то особенно серьезно заметил Струве. — Во-первых, Молчанов, — и он скосил глаз на густо покрасневшую Нелли.
— Почему, во-первых, Молчанов? — спросила она и покраснела еще больше.
— Потому что Молчанов, как мне доподлинно известно, — еще серьезнее сказал Струве, — из кавалеров первый во всех отношениях: правовед, умнее всех, красивее всех, ловчее всех, находчивее всех, танцует лучше всех, а как поет!..
— Довольно, довольно, — запротестовали голоса, — мы все сами хорошо его знаем и разбираемся… Кто еще?
Послышался звонок, и минуту спустя столовая огласилась приветствиями и поцелуями: явились генерал-губернаторша с Элиз и другой Ельчаниновой, сам Николай Николаевич Муравьев и чиновник для поручений Молчанов.
Невельской посмотрел на Струве и незаметно пожал плечами, — вот так посидели уютно в семейной обстановке Волконских, нечего сказать!
Мария Николаевна разрешила нежелающим больше чаю встать и пройти в гостиную и тут же сменила у самовара Катю Ельчанинову. Пошли: впереди Катя и Нелли с Невельским, за ними Струве с Мишелем, сразу заговорившие о службе.
— Скучаете? — спросил, чтобы что-нибудь сказать, Невельской, обращаясь к Кате.
— Мы? О нет, мы много и дружно веселимся — одно развлечение сменяет другое. Затейница, конечно, Мария Николаевна. Видите ли, у нее сложилось такое мнение, что только несчастье дает возможность оценить добрые дары, время от времени подносимые жизнью. Оно же охраняет и от пресыщения. Мы заброшены на край света и очень ценим то, что нам преподносит здесь жизнь.
— Я с мамой не согласна, — сказала Нелли, — и не хотела бы по достоинству ценить двенадцать баллов по математике только после несчастья, то есть получивши шестерку или пятерку. Это несчастье лишнее, правда?
— А я согласен, — возразил Невельской, — кают-компанию, душную, тесную каютную конурку, особенно ценишь после вахты в темную снежную ночь, когда зуб на зуб не попадает и от волнения и от холода. Только тогда чувствуешь, что живешь и наслаждаешься и стаканом крепкого чаю и заплесневелым сухарем.
— Какое счастье — беззаботно лететь с горы на салазках или скользить по расчищенному льду на коньках, а вечером в теплой, уютной комнате прислушиваться к бессильному вою ветра в трубе и жить одной жизнью и мыслями с великими предками и чудными писателями! — воскликнула Катя с непосредственной наивностью и пояснила: — Читаем мы здесь запоем. И не только читаем и переживаем, но и спорим… Наши все работают: оба Поджио прямо славятся, как педагоги, тоже и Борисовы, а Сергей Григорьевич непререкаемый сельскохозяйственный авторитет у мужиков. Мария Николаевна обшивает, устраивает, лечит, утешает и ставит на ноги десятки семейств словом, все действуют, как говорят, «кто во что горазд», и все это с подъемом, с сердцем. Словом, мы не скучаем, некогда… Правда, мы с сестрой еще не устроились, но с Нового года обе думаем о занятиях в институте.
— Мы вас, Геннадий Иванович, непременно закружим, как в водовороте, правда? Вы не откажетесь ни от коньков, ни от салазок, ну, словом, ни от чего! — воскликнула Нелли и прислушалась.
— Папа пришел, вы еще с ним не знакомы? — И она бросилась навстречу высокому, востроносому, с лицом, испещренным резкими морщинами, мужику в русском овчинном тулупе, бараньей шапке и местных оленьих торбасах.
Острый запах лошадиного пота и кислой овчины наполнил гостиную.
— Наследил! Наследил! — прыгала Нелли возле мужика, стараясь повиснуть у него на шее. — Достанется от маман на орехи, и поделом. — И, повиснувши, на ухо: — У нас в гостях герой — Невельской.
— Невельской? — громко повторил Волконский. — Где же он? Дайте посмотгеть… А я давно собигаюсь заагканить вас и ваших одичалых могяков у меня сегьезное дело, батюшка, — и он все время крепко тряс руку Невельского и настойчиво требовал зайти к нему переговорить о разведении огородов в Аяне, на Амуре и Сахалине, обещая снабдить книгами, семенами и своими предположениями, основанными на изучении климата.
Из столовой показались гости и хозяйка: Муравьев и Христиани шли, смеясь и затыкая носы.
— Серж, — укоризненно сказала Мария Николаевна, взглянув на пол, посмотри, что ты наделал! Ты откуда?
— М-да, наследил, — согласился тот, целуя жене руки. — Я от Поджио, сейчас пойду к себе, пегеоденусь.
— Совершенно ясно, что мосье Поджио устраивает у себя на ночлег князя Волконского в конюшне — как самом любимом местечке, — насмешливо сказала, жеманясь и притворно чихая, Христиани, вынула из кармана хрустальный флакончик с ароматической солью и поднесла к самому носу Муравьева.
— Разрешите, мадам, — бросила она хозяйке, — я открою форточку? — и бегом направилась к окну, у которого сидели Невельской с Катей, но ее уже предупредил Молчанов. Нелли тут же потеряла настроение и, шепнув Молчанову на ходу какую-то коротенькую фразу, вышла. Муравьев со Струве подсели к столику с шахматами. Христиани подошла к роялю, Молчанов и Миша засуетились около нее, откинули крышку, зажгли свечи и тут же, стоя, приготовились слушать. Мария Николаевна и Екатерина Ивановна уселись на диване. Сестра Кати оставалась в столовой.
И почти без перерыва, в течение всего остального вечера, лились и переливались звуки грустных и веселых итальянских песен Христиани, любимые Марией Николаевной Волконской; потом песни каторжные — байкальские, нерчинские и петровские, которые так хорошо, в угоду матери, разучил и исполнял задушевным тенором Мишель, и оперные арии хорошо поставленного баритона Молчанова.
Невельской заслушался.
— А вы поете, Екатерина Ивановна?
— Я больше люблю играть, но и пою, особенно русские плясовые, наши, орловские. Прилежно собираю местные — камчатские, якутские; стараюсь добраться и до тунгусских. Впрочем, не брезгаю и песнями вообще.
— Я постараюсь вам собрать там, у себя, гиляцкие, орочонские, айновские, может быть, и тунгусские — словом, какие будут и насколько сумею, — предложил Невельской. — А для начала завтра же могу вам предложить одну людоедскую, с Вашингтоновых островов, записанную на острове Нукагива.
— О, как я вам буду благодарна! — обрадовалась она.
И уже перед тем как расходиться, Катя подкупающе просто и, нисколько не смущаясь, спела несколько лихих орловских плясовых.
— Мадемуазель Катиш — несравненная русская народная певица! — вскричала Христиани, подбежала к Кате и крепко поцеловала ее.
Катание на салазках, на коньках, в ближайшие леса на лыжах, на добытых моряками откуда-то собаках, поездка табором с палатками на Байкал — время летело быстро и незаметно.
Компания сдружилась и увеличилась: примкнули все Трубецкие и девицы Раевские, муравьевские дамы и моряки, почти все молодые генерал-губернаторские и губернаторские чиновники, друзья Мишеля Волконского по гимназии, а Нелли — по институту.
Наступили каникулы. Местом ежедневных сборищ служил каток в одной из заводей бешеной, холодной, не признающей никаких оков и голубой, как море, красавицы Ангары. В заводи лед был прозрачен, как стекло, и аршин на пять ясно было видно каменистое дно, а на его фоне — бесчисленное рыбье население. В лунные ночи катались долго, завивали головокружительного длинного и быстрого «змея» и даже танцевали. Непременной участницей этого развлечения была Мария Николаевна. Искренность веселья ее красила и молодила: она казалась сестрой Мишеля и Нелли, но никак не матерью. Сухой и деловитый Невельской совершенно оттаял и веселился за троих. Муравьев его буквально не узнавал.
На рождестве пошли балы: в институте, гимназиях, дворянской, городской, купеческой, у известного благотворителя миллионера Кузнецова. Словом, никому ни отдыху, ни сроку. «Никогда еще не веселились в Иркутске так, как в эту зиму», — записывал в своем дневнике аккуратный Струве…
И вдруг, в разгар веселья, — чудовищно нелепый слух из Петербурга: Невельской за самовольный, противный желанию государя императора проступок разжалован в матросы.
Неизвестно было, откуда пошел слух, но он распространился одновременно с доставленной фельдъегерем обширной петербургской почтой и не противоречил новостям, сообщенным Муравьеву Перовским. Среди бумаг был и запоздалый приказ о повышении в чинах Невельского и всех его офицеров за отличное плавание и доставку казенного груза на транспорте «Байкал». Невельской стал капитаном второго ранга. А в письме, двумя днями позже, Перовский сообщал, что в комитете открытиям Невельского решительно не верят и что-то собираются против него предпринять.
Балы, однако, не прекращались, и все веселились по-прежнему. Пример подавал сам виновник слухов — разжалованный в матросы капитан второго ранга Невельской.
Однажды он по обыкновению зашел к Зариным за Катей, чтобы идти на каток, но на этот раз она почему-то не была готова и появилась не сразу. Геннадий Иванович поражен был ее бледностью и грустным лицом. Поздоровавшись, она тут же отвернулась и вышла. Внимательно приглядевшись к ней, когда она вернулась, Невельской на этот раз увидел на щеках ее ясные следы наскоро высушенных слез, и сердце наполнилось совершенно неожиданным для него ликованием, почти счастьем: он догадался… Вышли на улицу. «Что это со мной?» — подумал он и необычно смело взял ее под руку. Так некоторое время шли молча.
— Меня удивляет, — нарушила затянувшееся молчание Катя, — что вас как будто нисколько не огорчают петербургские слухи, а между тем это так серьезно… Бравируете?
— Нет, петербургские новости огорчают: они могут помешать работе, серьезно ответил Невельской. — Но зато радуют здешние, а они для меня гораздо важнее.
— Делитесь же ими скорей, порадуйте, потому что те своей несправедливостью и бездушностью огорчают меня почти до слез, — потребовала она.
— Те слухи расплывчатые, может, еще и неверные, а эти определенны: в них нет никаких «почти», а есть просто чистые слезы.
— Что за загадки? Бросьте шутить, я не могу разгадать, — сказала она строго.
— И не надо, ведь речь идет обо мне. Важно, чтобы я их разгадал. Помните мнение Марии Николаевны, что только тогда чувствуется полнота счастья, когда ему предшествует несчастье? Ну вот!
— Нет, не пойму, — в сердцах возразила Катя, — будет ли там когда-нибудь это ваше счастье или не будет, это еще вопрос. А сейчас… сейчас ведь на вас обрушилось большое несчастье! О нем и надо говорить, его переживать.
— Екатерина Ивановна, миленькая, не сердитесь, но мы смотрим на вещи различно: вы (я убежден, вижу это и ценю), вы горячо приняли к сердцу мое несчастье и переживаете его, а я его уже пережил, вот и все, — он крепко пожал руку. — Да, да, пережил, — подтвердил он, заглядывая ей в лицо сияющими глазами. — И мне хорошо, хорошо… Но вот сказать, объяснить вам сейчас не могу, не сумею, да и не надо. А петербургские сплетни — это вздор, который рассеется от легкого дуновения богини истины: взмахнет волшебным покрывалом — и как не бывало.
— Вы, дорогой, по-моему, некстати стали поэтом. Вчера сам Николай Николаевич у нас вечером с возмущением говорил папе: «Государь еще, к счастью, верит мне. Я поставлю вопрос ребром и повезу прошение об отставке. Я или они, негодяи!»
— Ну вот видите, «негодяи», — живо подхватил Невельской. — И я так думаю… С его стороны отставка, а с моей — точные промеры и вещественные доказательства правоты — это поможет. Я не доделал своего дела капитан-лейтенантом, доделаю матросом — будет немного труднее, и все тут… Давайте тоже продолжать вместе с вами начатое дело — веселиться. Ведь нам осталось в Иркутске всего три-четыре дня!
И веселились действительно как никогда. Назавтра к Трубецким явились ряженые: высоченный мужик, поводырь, в самодельной маске с длинной льняной бородой и волосами, остриженными в скобку, с громадным ученым ревущим медведем на цепи и с ним мальчишка-поводыренок с медвежонком. Оба зверя показывали фокусы, почти вплотную подходя к шарахающимся зрителям. В одном поводыре признали Сергея Григорьевича Волконского, другого узнать не могли.
Ряженые уже уходили, как вдруг медвежонок растянулся на пороге и упал на спину большого медведя. Тот рявкнул вовсю и бросился в сторону, а медвежонок — в другую, оставив в озорной руке поводыренка свою шкуру. К удивлению зрителей, медвежонком оказался Невельской.
10. Куда же исчезли декабристы?
Накануне предполагаемого отъезда Катя с сестрой и Невельским сидели втроем в гостиной Зариных, собираясь вместе провести вечер у Волконских, и дружески беседовали по поводу только что прочитанной повести в «Отечественных записках».
Все трое находили, что журнал изменился: сестры утверждали, что он изменился к худшему, так как стал суше и скучнее. Невельской же доказывал, что он просто стал глубже и разностороннее, а что в них говорит просто пристрастие привычки: что не совсем обычно и знакомо, то кажется всегда хуже.
— А кстати, — прервала неожиданно беседу Катя, почему-то смущаясь, как в конце концов вы оценили наших декабристов? Вы теперь уже знаете многих.
— Вопрос прост, а ответ, ой, как труден! — серьезно сказал Невельской. — Если смотреть на них как на случайно встреченных на жизненном пути людей — это одно, а если как на декабристов, носителей определенных идей — совсем другое.
— Без загадок ступить не может, — обратилась к сестре Катя, пожимая плечами.
— Пока ответа что-то не слышно, одно вступление, — поддержала ее Александра.
— Мне не хотелось отделаться ничего не значащей фразой, — возразил Невельской, — я принял вопрос серьезно, а вы сразу бросились в бой на защиту друзей очертя голову, хотя, честное слово, я не думал на них нападать, оправдывался Невельской, удивляясь беспричинной и неожиданной нервозности Кати. Он заметил, что беспокойно бегающие по книжке журнала пальцы дрожали, а на обычно спокойном лице то вспыхивал румянец, то разливалась неестественная бледность.
— Если смотреть на них как на знакомых, друзей, приятных собеседников, то надо прямо сказать: редкие по своим качествам люди — чуткие, разносторонние собеседники, хороших, благородных взглядов на все вопросы жизни; в их обществе чувствуешь себя легко, без всякой напряженности, как у себя дома, среди близких друзей. Но вот от декабризма у них не осталось никакого следа.
Он замолчал. Катя низко наклонила голову. Румянец покрыл не только лоб и все лицо, но захватил и весь затылок под завитками волос, полымем вспыхнули уши.
«Что это с нею? — виновато подумал Невельской. — Откуда это странное волнение?»
— Что же вы остановились? — спросила Александра.
— Мне передалось волнение Екатерины Ивановны… продолжать ли? смутился Невельской.
— Непременно, — потребовала Катя и еще ниже наклонила голову.
— Видите ли, ни в Волконских, ни в Поджио, ни в Борисовых я не приметил никаких признаков прошедшей борьбы — одни казематские и каторжные переживания. Да и о них вспоминают неохотно, точно о чем-то постыдном, что хочется забыть. Откликаются охотно на что угодно, если только это не политика, не политические взгляды, которые когда-то казались единственной целью жизни. Я предположил, что они замыкаются передо мной, как недостаточно изученным человеком, но это не то: нет, понимаете ли, того кипения, которое я в них жаждал подсмотреть и которого не скроешь, зато есть непротивление злу, какое-то запуганное подчинение року, надежда только на провидение и покорность — та рабская покорность судьбе, которую я ненавижу в других всеми силами души. Чтобы заполнить чем-нибудь свою жизнь, они с головой ушли в свою маленькую семейную жизнь, какое-то растительное прозябание бесплодного, хотя и пышного и привлекательного пустоцвета. Что же они дадут детям, в глазах которых они должны поддерживать величие героев, принесших жизнь за идею? Что дадут они окружающей среде, над которой они должны возвышаться, как монументы, как памятники, которые переживут не только их, но и века?
Он нечаянно взглянул и увидел в черных любимых, наполненных слезами широко открытых глазах Кати такую мучительную боль, что осекся, не досказав мысли до конца.
— Пойду распоряжусь лошадьми и оденусь, — поднялась вдруг Александра Ивановна и быстро вышла. Катя снова опустила голову и молчала, нервно комкая носовой платок.
Невельской растерялся и не знал, что предпринять.
— Я думал, — начал он, наконец, но в это время, как будто решившись на что-то, вскочила и Катя и убежала вслед за сестрой. Стало тихо и тревожно.
Минуты через две, однако, Катя вернулась, таща по полу большой кожаный дорожный туго набитый кошель.
— Я приготовилась вам сказать. Потом заколебалась… Вот… — Она указала на кошель. — Тут письма наших декабристов для отправки с оказией: есть присланные к Волконским и ожидающие случая отправки с верным, испытанным человеком дальше. Есть и от декабристов, живущих вблизи Иркутска. Есть в города по вашему пути. Есть в Москву и Петербург, — она тяжело перевела дыхание, испытующе посмотрела Невельскому в лицо и тихо добавила с явными слезами в голосе: — Я за вас ручаюсь… Я была уверена… теперь… не знаю…
— В чем? Что я возьму, доставлю и не выдам? Как вам не стыдно!
Прояснившееся лицо Кати сияло неподдельным счастьем: да, она не ошиблась в своем выборе. Просиял и Невельской: казалось, слепой и тот бы прозрел и понял без слов невысказанное обоими.
— Я так обрадовалась за вас, — добавила она после некоторого молчания, — когда Мария Николаевна спросила, можно ли вам доверить эту переписку… Поймите, это высокий знак доверия. Такие лица у них все наперечет…
Через два дня на перекладных, нагруженный казенной почтой, грудой писем и десятками поручений, Невельской спешил в столицу, на грозную расправу за свои географические открытия, которые могли бы сделать честь любому из известнейших моряков.
Неизвестность тревожила, но в груди сладко трепетало молодое сердце, и, умиленная чем-то невысказанным, но приятным, согревалась и нежилась в первый раз в жизни оттаявшая душа одинокого «сухаря» Геннадия Ивановича Невельского.
Он в сотый раз вспоминал ласковое материнское объятие Марии Николаевны Волконской, накинувшей на его шею образок хранителя моряков и путешествующих святого Спиридония, крепкое, чуть-чуть задержавшееся в его руке пожатие Кати Ельчаниновой и неожиданно скатившуюся из ее глаз на его руку еще теплую, влажную слезинку.
«Хорошо жить на свете!» — чуть не вслух подумал он и неловко, с трудом запахнулся в необъятную медвежью шубу, подаренную Сергеем Григорьевичем.
На другой день с утра, однако, стало как-то беспокойно: не надо ли было высказать свои чувства к Кате Ельчаниновой определеннее — ведь она может его забыть. Следовало связать как-то ее и себя. Не помогали доводы, что этого нельзя было делать: а вдруг в самом деле разжалуют в солдаты?.. Однако беспокойство росло, и на ближайшей почтовой станции он принялся строчить письмо… Марии Николаевне Волконской!
Он не знал, что растрогавших его слез и после его отъезда было много и что свое сладкое горе Катя в тот же вечер выплакала на груди у Марии Николаевны и рассказала ей все-все. Мария Николаевна погладила ее по голове, потрепала по щеке и, улыбнувшись, сказала;
— Все хорошо, Катюша, все хорошо…
Груда писем, какие ему поручила Катя, раскрыла Невельскому многое: он увидел, в какой тесной связи и взаимном доверии друг к другу живут декабристы.
Дальние углы еще достижимого севера, захолустья Забайкалья, с одной стороны, и столица — с другой, связаны тончайшей сетью собственных сообщений. Каждая явка по пути — это центр какого-нибудь округа. По количеству писем можно определить, какое значение для всех имеет декабрист И. И. Пущин. По прежнему положению декабриста в обществе легко понять, что здесь не соблюдаются, не имеют места те перегородки, которые мешали сближаться там, на свободе, в салонах. Там сближала только одинаковость общественного или служебного положения, неодинаковое положение разъединяло, здесь крепким узлом соединяло единомыслие и взаимная поддержка. Ниточка не кончалась Петербургом. Нет, отсюда она тянулась и дальше, в знойные пустыни Средней Азии и на грозный снежновершинный Кавказ.
Николай боролся с декабризмом всей силой и мощью общего и специального государственного аппарата, не брезгуя шпионажем и даже провокациями, вроде похождений известного плута Медокса. Декабристы брали только сочувствием общества, но победителями являлись они, а не император — побеждали идеи, и перед ними он чувствовал свое бессилие. Люди бодро смотрели в будущее, и хотя энергия истощалась, но на смену уже шли другие, тоже зараженные микробом вольномыслия и жаждой свободы: в Иркутске в это время ждали осужденных петрашевцев.
Невельскому впервые стало понятно увлечение декабристов земледелием и огородничеством: не было другого выхода. Переход в поселенцы заставлял заниматься сельским хозяйством, по крайней мере на своем пятнадцатидесятинном наделе. Обрабатывая много большее количество (Волконский здесь не был одинок), декабристы вместе с тем сближались с землеробами вплотную, изучали их нужды и, что самое главное, пользовались случаем проверить преимущества «вольного труда» перед рабским крепостным.
11. «Победителей не судят»
Краткий сентябрьский рапорт Невельского об открытии устья Амура и пролива между Сахалином и материком был представлен Меньшиковым «на распоряжение» канцлеру Нессельроде.
Докладывая канцлеру о рапорте, начальник азиатского департамента Сенявин назвал его вздором и собирался бросить в свою папку, как вдруг Нессельроде, до сих пор слушавший доклад весьма рассеянно, протянул руку, положил рапорт подле себя в число бумаг, «требующих особого внимания», и сказал Сенявину:
— Такие возмутительные дерзости не должны оставлять без наказания, — и на вопросительный взгляд Сенявина раздраженно добавил: — Вы себе представляете, во что обратится государственный аппарат империи, если каждый безусый лейтенант в нем, вопреки указаниям монарха, начнет вести собственную политику? Пора прекратить эту муравьевскую свистопляску, — сердито пожал он плечами, строго из-под своих больших круглых очков посмотрел на Сенявина и распорядился: — Прикажите положить в мой портфель, я возьму с собой подумать.
Вечером Нессельроде счел нужным самолично побывать у Врангеля и обратил его внимание на то, что, по-видимому, ни Невельскому, ни Муравьеву неизвестны результаты исследований экспедиции штурмана Гаврилова и, должно быть, поэтому-то Невельской так самонадеянно смел в своих утверждениях о возможности входа в Амур будто бы даже для крупных кораблей.
Врангель смутился: он вспомнил о письме Гаврилова, в котором последний, чуть ли не накануне смерти, счел нужным признать свои исследования Амурского лимана и входа в Амур совершенно недостаточными и требующими проверки. Врангель хотел было тут же покаяться в том, что он скрыл существование этого важного письма, но не решился: после того как канцлеру Нессельроде именно материалами Гаврилова удалось убедить государя в том, что в Амур могут проходить, да и то с трудом, только лодки и что вследствие этого он бесполезен для России, раскрыть истину — значило бы окончательно погубить себя и других.
Нессельроде экстренно назначил заседание особого комитета, на котором заявил, что он и слышать не хочет о предложении Меньшикова о том, чтобы рассмотрение вопроса об открытиях Невельского отсрочить до получения от Муравьева более подробных сведений.
— Нам нельзя больше ждать, — кипятился Нессельроде, — мы и так уже дождались: мы видим, как господин Муравьев сам показывает пример своим чиновникам, что можно не исполнять высочайших повелений совершенно безнаказанно, как, например, задержать спешно посланную экспедицию Ахте, и к чему эти примеры приводят. Удивительно ли после этого, что лейтенант Невельской делает какие-то сенсационные открытия, пользуясь военными кораблями, ни у кого не спрашиваясь и даже не ожидая, по его мнению, очевидно, совершенно ненужных высочайше утвержденных инструкций. Мы этим легковесным открытиям решительно не верим.
Натиск со стороны Нессельроде и его подголосков был настолько силен, что, обменявшись незаметными для других взглядами, Меньшиков и Перовский решили взбесившемуся Нессельроде не противоречить и больше не выступать. Постановление комитета о том, что доклад Невельского идет вразрез решительно со всеми достоверными данными, имеющимися в министерстве иностранных дел, и ни в каком отношении не может изменить ранее принятых и высочайше утвержденных решений, состоялось. А дабы в дальнейшем самовольство прекратить навсегда, решено представить ослушника высочайшей воли к разжалованию.
— Я вас не понял, Александр Сергеевич, почему вы отказались от защиты Невельского? — спросил Меньшикова Перовский после окончания заседания комитета.
— На этот раз просто хочу проучить Нессельроде, хочу показать этому зазнавшемуся злокачественному прыщу, что его политика на наших восточных окраинах государем не одобряется и обречена на провал. Я не допускаю и мысли, что государь согласится на разжалование Невельского до получения подробного доклада Муравьева. Но на всякий случай я уже исходатайствовал для себя высочайшую аудиенцию.
Расчет Меньшикова оказался верным: получив постановление комитета с особыми мнениями его и Перовского о необходимости выждать, император вслух выразил одобрение смелому патриотическому поступку Невельского, но резолюции никакой не наложил.
Невельской прибыл в Петербург в конце января 1850 года и тут узнал, что слухи о его разжаловании держатся до сих пор весьма упорно.
— Да, — ответил на его вопрос Меньшиков, к которому Невельской поспешил с докладом, картами, промерами, журналами описей берегов, подробными мотивированными заключениями и письмами и представлениями Муравьева, заключение комитета о необходимости вас разжаловать за дерзость имеется у государя, который лично мне сказал, что результатами вашей разведки он остался очень доволен. Теперь, вследствие доставленных вами новых материалов, вопрос подвергнется вторичному рассмотрению. Быть может, даже будет допущен личный ваш доклад. Если это случится, будьте мужественны, тверды и определенны. Имейте в виду, что мы с министром внутренних дел в комитете в меньшинстве и что, кроме нас, охотников защищать вас против Нессельроде и Чернышева не найдется. Не кипятитесь и держите себя в руках. А сейчас поезжайте к Перовскому.
— Очень благодарен, ваша светлость, за ценные советы. Я держу себя в руках, но обвинение в том, что я и мои офицеры дали ложные сведения о лимане и Амуре, может меня взорвать, — сказал Невельской. — Лжецами ни я, — он покраснел, — ни мои…
— Полноте, — успокоил его Меньшиков, — ведь вам хорошо должно быть известно, что в открытие северного пролива Берингом поверили чуть ли не полустолетьем позже, и то только после того, как его открытие подтвердил авторитетный иностранец капитан Кук и заступился за покойного, назвав пролив Беринговым. А вы хотите разрушить авторитеты одним махом. Подождите несколько годков, время работает на вас.
— Ваша светлость, помилосердствуйте, мне уже сорок лет, так что вряд ли удастся дождаться признания, — пошутил, успокаиваясь, Невельской.
— Не теряйте надежды, капитан, — в тон ответил Меньшиков, — это ведь может случиться и гораздо раньше.
Экстренно собравшийся особый комитет на этот раз был необычно многолюден: пожаловали и те члены, которые его заседаний никогда не посещали.
И как-то так случилось, что дебаты по основному вопросу вошли в русло далеко не сразу: внимание участников сначала опять сосредоточилось на оценке поступка Невельского, а не на открытии и не на рапорте Муравьева, который требовал немедленно занять Амур.
— Налицо факт возмутительной недисциплинированности всего экипажа корабля, — строго заявил военный министр, светлейший князь Чернышев, — при попустительстве высшего начальства. Что касается меня, я повторяю свое мнение — разжаловать Невельского в солдаты! — он злыми раскосыми глазами окинул собрание. Так, бывало, смотрел он на допрашиваемых декабристов, издеваясь над их показаниями, и требовал зачисления их в первый разряд преступников, то есть на виселицу.
— Александр Иванович, как всегда, прав, и самовольство должно быть наказано, — внешне спокойно ответил Меньшиков, хотя внутренне клокотал негодованием на этого злобного зверя и неудачного охотника за наследством декабриста Чернышева, однофамильца министра.
— Но у Невельского, как известно, была временная инструкция от меня, это раз. Во-вторых, у него были указания облеченного достаточной властью сибирского генерал-губернатора, в распоряжении которого Невельской находился. И, наконец, в-третьих, высочайше утвержденная инструкция, которая, как это стало теперь известно, просто до него не дошла. А если не дошла, то не могло иметь места ее нарушение. Не знаю, как у вас, в сухопутных войсках, ваша светлость, предоставляется ли в подобных случаях офицеру инициатива действовать по своему разумению, или он должен отречься от дела и бросить его на произвол судьбы. У нас же, на флоте, за непроявление в таких случаях инициативы строго взыскивают… Так вот, по моему мнению, прежде чем принимать предлагаемые крайние меры, надо бы дело исследовать: я ли в этом виновен, Муравьев ли, или на самом деле Невельской. И в какой мере. Ваша светлость, Александр Иванович, армия богаче нас людьми, российский же флот беден такими выдающимися офицерами, как Невельской, и мы только в самых крайних случаях можем позволить себе такую меру, как разжалование.
— Я решительно возражаю против того, что вместо сути дела, а суть заключается в двух серьезнейших и необходимых для империи открытиях, поддержал Меньшикова министр внутренних дел Перовский, — и в рапорте генерал-губернатора о немедленном занятии Амура, мы занимаемся какой-то деталью. Дисциплинарное дело о капитан-лейтенанте Невельском должно быть передано для расследования по начальству, то есть по флоту или адмиралтейству. А вот амурские вопросы — это прямые вопросы нашего комитета. Вследствие этого я позволю себе спросить: почему драгоценнейшие открытия Невельского являются какими-то чудесными, неожиданными и имеют место только в 1849 году, вместо того чтобы вытекать непосредственно из текущей работы тех, кому ведать надлежит и иметь место пятьдесят лет тому назад? Почему до сих пор нами не заселен Сахалин? Почему сведения наши о наших же российских окраинах по своей достоверности напоминают сведения из Геродота и других историков древности о нашей стране? Ведь для всех нас давным-давно ясно, что покушения на российские пограничные области ведутся больше ста лет, а между тем в наше время положение создалось такое: французу Лаперузу лезть в Татарский залив и на Сахалин невозбранно. То же и англичанину Бротону. Невозбранно это и сотням китоловов всех стран ежегодно, хотя и Франция и Англия касательства никакого к нашим берегам не имеют — далеконько. И все же они лезут. А вот нам нельзя: не обиделись бы японцы или китайцы. Я хотел бы слышать мнение по этому поводу азиатского департамента!
Нессельроде беспокойно заерзал в кресле и недовольным голосом заявил:
— Особый комитет не имеет права суждения об общегосударственной политике…
— Я и не вмешиваюсь, — огрызнулся Перовский. — Я только прошу разъяснения по вопросу о фактическом положении амурских и сахалинских дел, которое не может составлять для нас, членов особого комитета, тайны…
Нессельроде на клочке бумаги черкнул карандашом несколько слов и передал Сенявину, тот нехотя поднялся.
— Все дело в настоящий момент, — сказал он, — заключается в следующем: вопрос об Амуре и его использовании весьма озабочивает департамент уже давно, и через наших агентов с достоверностью удалось установить, что устье Амура охраняется войсками китайцев, армией в количестве четырех тысяч человек, а вдоль Амура построено от трех до пяти крепостей. Что касается Сахалина, то его население давно признало над собой власть Японии. В открытиях Невельского пока что, после исследований Лаперуза, Бротона, Крузенштерна и Гаврилова, мы вправе сомневаться… Теперь, я думаю, понятна та осторожность, с которой нам надо действовать в упомянутых местах.
— Нет, ваше превосходительство, совсем непонятна, как непонятно и многое другое, — горячо ответил Меньшиков, — и я вижу в этом вопросе полное неблагополучие. Вы говорите, китайские войска, крепости… Когда же они появились там? Без нашего ведома или с нашего согласия? И кто и когда устанавливал границу с Китаем, как известно, оставленную открытой по Нерчинскому трактату? Азиатский департамент делал запрос по этому поводу? Имеет ответ? До какого же пункта китайцы свободно могут продвигаться еще далее со своими войсками и крепостями к нам, в глубь страны? Разве мы отказались от Амура? Те же вопросы я должен задать и о Сахалине. Когда население его стало японским? Были ли запросы? И почему все-таки мы должны верить этим сказкам с их известными грозными картонными крепостями и непроверенным донесениям, почерпнутым нашими агентами из иностранных источников?
Обмен мнениями явно переходил в спор, а моментами казалось, грозил перейти и в открытую ссору. Нессельроде дал знак глазами министру финансов Вронченко.
— Я считаю своим долгом поддержать образ действий азиатского департамента, — сказал тот, — важнейшая для государства внешняя торговля через Кяхту сама по себе уже висит на волоске, а малейшая неосторожность с нашей стороны может ее совсем погубить, и я прошу иметь это в виду при всех рассуждениях.
— Ничего не понимаю, — горячился Перовский, не обращая внимания на Нессельроде, который показывал жестами, что он не давал слова. — Ни-че-го не понимаю: как же в таком случае надо расценивать запрет внушительной экспедиции Путятина в сорок четвертом году и в то же время посылку слабенькой экспедиции Ахте в сорок восьмом году? Которая, не будь она задержана Муравьевым, несомненно, могла бы взбудоражить китайцев? И, наконец, тут уж совсем несерьезная посылка, чуть ли не на одном дикарском челноке, Гаврилова для таких исследований, для которых нужна эскадра… И вот в то же время сделавший большое дело для выяснения истины Невельской оказывается преступником!..
— Лев Алексеевич. — старается остановить Перовского Нессельроде, — вы уже кончили?
— Извините, ваше высокопревосходительство, я еще не досказал. Англичане, не говоря о Соединенных Штатах и Франции, завладели пятью портами Китая и нашу кяхтинскую торговлю, о которой так беспокоится министр финансов, того и гляди, совсем добьют своей конкуренцией.
— Лев Алексеевич, я вам слова не предоставлял! — повторил Нессельроде и, желая отвлечь комитет от острой темы, предложил выслушать объяснения капитана Невельского.
Взоры участников совещания с любопытством уставились на маленького Невельского, невзрачный и мирный вид которого никак не вязался с невольно создавшимся представлением о каком-то забияке. Особенно быстро и неприязненно обшарил его глазами с головы до пят тут же взявший слово Чернышев.
— Мы считаем, — произнес он торжественно, — что вы, лейтенант Невельской, являетесь прямым и сознательным нарушителем ясно выраженной воли его императорского величества, причем вовлекли в это тягчайшее преступление подчиненных вам офицеров. Это заставило особый комитет представить вас к разжалованию в матросы. Что вы на это можете ответить?
— Поскольку особым комитетом уже сделано представление о разжаловании без предварительного истребования от меня объяснений, как то следует по уставу, — с ледяным спокойствием сказал Невельской, вызывающе глядя на Чернышева, не выдержавшего прямого взгляда, — то теперь только государь император может наказать или жаловать меня, как ему будет угодно. Я же сделал то, что при создавшихся обстоятельствах, как верноподданный, считал полезным и необходимым в интересах царя и отечества. Осмелюсь также обратить внимание вашей светлости, что согласно высочайшему приказу от шестого декабря прошлого года я ношу штаб-офицерское звание и чин капитана второго ранга, а не лейтенанта, — и он скосил глаза на свои эполеты.
Чернышев рассердился и вызывающе сказал:
— Помимо всего, капитан Невелбской, вашим рапортам мы не верим, они противоречат имеющимся у нас данным.
— Ваша светлость, — вдруг насмешливо улыбнутся Невельской, стараясь поймать взгляд Меньшикова: он решил использовать свой разговор с ним. — В том, что вы не верите, нет ничего удивительного: в открытие северного пролива неизвестному Берингу не верили целых полстолетия. Наше положение, мое и товарищей, еще труднее — своим открытием мы, неизвестные мореплаватели, разрушили почти полувековые, прочно укоренившиеся в умах заблуждения известного мореплавателя Крузенштерна. Не верить и сомневаться, конечно, можно, а вот опровергнуть наши утверждения нельзя. И я прошу либо признать наши утверждения, либо назначить авторитетную проверку на месте, в устье Амура и в проливе. — И, видя, что все осклабились в улыбках, добавил: — Эта спешная проверка на месте тем нужнее, что необходимого для признания полустолетнего срока, о котором я упомянул, мы не дождемся. И я боюсь, что признание нашего открытия со стороны англичан воспоследует гораздо скорее.
Он замолчал, с удовлетворением наблюдая, как, несмотря на серьезность положения, слушатели искоса посматривали на Нессельроде, давились смехом, сморкались и вытирали слезы.
— Господин Невельской, — строго сказал Нессельроде, — вы хотите с отрядом в семьдесят человек занять устье Амура и утвердиться там. А известно ли вам, что там китайцы содержат громадное войско и построили несколько крепостей?
— Ваше сиятельство, на месте я имел возможность в точности убедиться, что в устье Амура нет не только китайских войск, но и мирных китайцев, есть только свободные гиляцкие поселения, и захаживают иногда маньчжурские и наши сибирские купцы для торговли. Что касается мирнейших гиляков, то для поддержания среди них авторитета и повиновения достаточно и двадцати пяти человек.
Нессельроде увидел, что продолжение совещания ухудшает занятые им и его единомышленниками позиции, и решил прекратить прения, но, пока он собирался с мыслями, слова попросил Меньшиков.
— Я очень внимательно ознакомился до настоящего совещания со всеми представленными Невельским и сибирским генерал-губернатором документами и не могу им не верить, не могу далее придраться к каким-нибудь неточностям. Положение в устье Амура стало весьма напряженным, и надо спешить. Я рекомендовал бы принять представление генерала Муравьева целиком и сверх того принять экстренные меры к (усилению охраны входа в пролив и в устье Амура двумя крейсерами.
После долгих прений и споров, однако, вынесено было постановление держаться высочайшего повеления, имевшего место год тому назад, а именно основать на берегах Охотского моря, близ Амурского лимана, зимовье в заливе Счастья для сношения и торговли с гиляками и для разведывания края, не касаясь, однако, ни под каким видом устья Амура.
Исполнителем этого постановления назначен был тот же Невельской, уже как состоящий для особых поручений при генерал-губернаторе.
Эта новая должность Невельского дала возможность Муравьеву использовать «положение об управлении Сибирью» и тотчас же добиться производства Геннадия Ивановича в капитаны первого ранга.
Задуманное Чернышевым, Нессельроде и компанией черное дело на этот раз провалилось, хотя и не совсем: разжалования, правда, за сделанные Невельским важные для государства открытия не состоялось, наоборот, последовало «всемилостивейшее прощение», но Невельской лишен был даже обычной за дальние экспедиции и описи берегов награды — ордена и пожизненной пенсии.
Он не был огорчен лишением ордена, но пенсия входила в его бюджетные расчеты, так как она разрешала мечты о семейной жизни.
Однако больше всего огорчили его отныне крепко связанные руки для дальнейшего закрепления на Амуре и Сахалине: действуя фактически на Амуре, он был лишен права даже близко к нему подходить «Победителей не судят, — думал он. — Какая горькая ирония!» А в груди его тем временем неудержимо ширилась и охватывала все существо буря решительного, неудержимого протеста.
12. Петербургская наука
Геннадий Иванович никак не мог справиться с охватившим его тяжелым чувством: казалось, что пребывание его в Петербурге было ненужным, а достигнутые в комитете результаты хуже всякого поражения, и он никак не мог понять, почему поддерживающие его братья Перовские этими результатами довольны.
— Подождите, — не раз повторял Василий Алексеевич Перовский волнующемуся Невельскому, — это только начало, это только первое предостережение господину Нессельроде, а он сам рассматривает его уже как провал. Ведь ясно, что со стороны государя по отношению к комитету проявилось большое недоверие и даже сомнение в правильности всей его дальневосточной политики, а может быть, и западноевропейской.
— Я этого не вижу, ваше высокопревосходительство, — упрямо твердил Геннадий Иванович, — наоборот, считаю, что факт принятия комитетом прежнего решения, несмотря на мои новые материалы, означает движение вспять.
Собеседник, однако, не соглашался.
— Голубчик, — смеялся Василий Алексеевич Перовский, постукивая по сукну стола длинным серебряным наперстком на указательном пальце (наперсток заменял ему потерянную на войне в морском деле часть пальца). — Вы дока по морской части и вполне заслуженно капитан первого ранга, а может быть, следовало бы вам звание и выше. Но в политике вы не выше гардемарина. Поверьте, что наш опыт чего-нибудь да стоит.
Вы понимаете, Геннадий Иванович, — снисходительно цедил сквозь зубы, как полагается самоуверенному снобу, министр Перовский, — что для того, чтобы вынести такое решение, канцлеру пришлось пойти на крайность отмахнуться от ваших материалов, не опровергая их: «Не верим им и их не учитываем, вот и все… и потому принимаем старое прозорливое и мудрое решение государя императора, имевшее место год тому назад». В чем тут расчет? Государю это, конечно, будет приятно, и против этого своего решения он, конечно, не пойдет. Расчет на сегодня правильный — сегодня не пойдет, а завтра? Завтра приедет генерал-губернатор Сибири, которому государь пока доверяет, и развернет перед ним всю картину вот этих самых ваших новых открытий, как она есть. Что же, по-вашему, и на этот раз не поверит? Полноте, он уже и теперь им верит и потому на предложение комитета разжаловать вас отмолчался, а чтобы всех нас на ваш счет успокоить, на словах, как бы вскользь, обмолвился, что ваши действия одобряет. Вот и смекайте. С приездом сибирского генерал-губернатора разговоры пойдут другие, и сооружение Нессельроде, помяните мое слово, затрещит по всем швам. Так-то, молодой человек! — и он покровительственно похлопал Невельского по плечу.
Сутолока петербургской жизни — с утра и до утра на людях — мешала сосредоточиться. Приходилось жить мелочными хлопотами о различных канцелярских справках, документах и переживать неприятные впечатления от посещений азиатского департамента и колючих бесед с господином Сенявиным… Скорей бы очутиться в мягком возке!
До отъезда оставался только один день, но зато совершенно свободный от беготни. Невельской решил запастись книгами.
Над знакомым еще с детства магазином М. Глазунова на Большой Садовой он прочитал две фамилии, из которых одна напомнила ему предупредительного старика, глазуновского приказчика, всегда приветливого Сидора Федоровича Сирякова.
— Батюшка, кого я вижу! Геннадий Иванович! Давненько у нас не бывали-с, — приветствовал, ласково поглядывая на него поверх очков, сам любезный Сиряков в засаленном сюртучке и таком же заношенном в большую клетку пестром галстуке. — Слышали о вас, слышали-с, что с успехом подвизаетесь где-то на Камчатке, а вы, накось, самолично здесь, да еще «ваше высокоблагородие», капитан первого ранга, высоко летаете! А помните, как с ленточками-то на затылке, бывало, к нам жаловали, да все мне умильно так: «Сидор Федорыч, книжонок бы мне каких, морских путешествий поинтереснее нет ли?» А теперь нате-с, подите, ваше высокоблагородие — и никаких-с, сами теперь путешествуете да описываете — как хорошо-то!
— Книжонок бы мне каких, Сидор Федорыч, — шутливо протянул за стариком Невельской, здороваясь за руку, — морских бы путешествий, да каких-нибудь эдаких, совсем неизвестных.
— Счастливо попали, Геннадий Иванович, только маленько придется пообождать-с, этак, — он немного подумал, — денька четыре. — И пояснил: Тут библиотечку намедни у вдовы одного моряка купил-с знатную, — он наклонился к уху Невельского и неслышно назвал фамилию, — списочек она дала мне, — он открыл ящик конторки, — взгляните. А вот на журналы иностранные списочка пока нет-с, только начали составлять, подбираем-с. Дня через четыре, полагаю, управимся.
— Никак не могу ждать, почтеннейший Сидор Федорыч, завтра утром уезжаю опять в Иркутск, а оттуда в Охотск.
— Видите ли, какая оказия, — с сожалением замотал головой старик, придется вашему высокоблагородию ограничиться списком. Но и тут найдется, может, что-нибудь: покойник изъездил весь свет, бывал и в Китае и в Японии и книгу страсть любил. Посмотрите, ваше высокоблагородие, на переплеты, как берег книгу: аккуратно, со вкусом, красиво. Жаль, мы в журналах не разбирались, их множество, — и он повел Невельского за прилавок в соседнюю комнату. Отобранные книги сияли чистыми красивыми корешками уже на полках, журналы беспорядочной грудой валялись на полу.
— Взгляните все же на них, Геннадий Иванович, — показал он рукой на груду.
Но Невельской и без того, не ожидая приглашения и даже не слыша его уже стоял, опершись на острое ребро шкафа, быстро пробегал по списку знакомые заглавия, изредка отчеркивая огрызком карандаша интересное для себя. Сидор Федорович опять взглянул поверх очков, тихонько пододвинул Невельскому просиженный низенький стул, одобрительно крякнул и вышел.
Быстро пробежав список, Геннадий Иванович вздохнул, подошел к полкам, вынул отмеченные им книжки, погладил по корешкам и перелистал.
Внимание его привлекла неизвестная ему английская книжка, вышедшая в Лондоне в 1847 году.[4]
Перелистнув несколько страниц опрятного второго тома, Геннадий Иванович уже не мог оторваться — речь шла о владении Амуром. Известный автор указывал, как на особенно счастливое обстоятельство для равновесия Европы, на то, что русские не владеют Амуром, который открыл бы России океан и образовал бы из нее со временем сильную морскую державу. «Здесь мог бы быть сооружен такой флот, который бы непременно привел Россию в соперничество с обоими богатыми соседями еще и как морскую державу. Рухнула бы тогда перед российским колоссом последняя преграда, которую он встречал в своем поступательном движении на восток».
— Что же это такое! — возмущался Невельской. — Что думает наш азиатский департамент? Читает? Видит? Надо показать Николаю Николаевичу Муравьеву… Да скорей, скорей надо занимать Амур, если только еще не поздно!..
Геннадий Иванович бережно положил солидный том на полку и заглянул в магазин. Сидор Федорович был занят — пришлось вернуться. Он наклонился над французско-англо-немецкой грудой растерзанных журналов, машинально пододвинул ногой стул и стал их разглядывать. Сверху лежал журнал со статьей Зибольда «Доклад о статье по вопросу о происхождении Японии» — сообщение на заседании французского географического общества.
Минут через десять тихонько вошедший Сидор Федорович остановился на пороге. Маленький капитан первого ранга, согнувшись в три погибели над грудой журналов, при скудном освещении петербургского зимнего дня, весь ушел в чтение какой-то тоненькой, очевидно, выхваченной из кипы тетрадки. Еще несколько уже развязанных кип валялось на полу, у ног капитана.
Сидор Федорович вышел. Через четверть часа он приоткрыл дверь. Застывший в той же позе капитан продолжал читать. Развернутые странички брошюрки дрожали в его руках.
«Выпивает, должно быть, бедняга», — подумал старик, переводя соболезнующий взгляд с дрожащих рук на крохотную сгорбленную фигурку Невельского.
Дочитав не отрываясь доклад Зибольда, Невельской, по-видимому еще волнуясь, стал читать его заново, подолгу останавливаясь на некоторых местах. Доклад был посвящен описанию жителей Курильских островов, обоих берегов Сахалина и восточного берега Азиатского материка. Интересное само по себе описание было основано не только на русских материалах Крузенштерна и Головина, но и на собственных, Зибольда, и на рассказах какого-то старика японца. Поразило Невельского, однако, не это, а слова доклада о том, что восточная часть Сахалина отделена существующим проливом, в чем никогда не было сомнения вопреки противоположному утверждению Крузенштерна. Этот пролив посетил в 1808 году Мамо Ринзоо и нанес на карту. Он произвел эту новую разведку по поручению правительства… Пролив получил название Мамия но Сето, или проход Мамия… Амур именуется у японцев китайским именем Кон-то-Коо, а местное его название Манкоо или Мангоо.
В каком-то изнеможении от поразивших его своею неожиданностью сведений Геннадий Иванович откинул назад голову, стараясь собрать вдруг разбежавшиеся мысли и дать себе отчет о прочитанном.
— Нашли что-нибудь? Вы не здоровы? — спросил его снова вошедший Сидор Федорович, удивившись растерянному виду и блуждающему взору Невельского.
— Да, да, нашел, — очнулся он, — по списку — вот эти, — он показал рукой на переплетенные книги, — а без списка — эти французские журналы, в переплете, и эти, в папках, связанные и не связанные по годам, — словом, подобранные с двадцать пятого по тридцатый год, но хотелось бы получить журнал и дальше. Сидор Федорович, если возможно, заставьте подобрать его весь.
— Слушаю-с, Геннадий Иванович, подберем-с, что только будем в состоянии-с и вечерком пришлем-с на квартиру… Геннадий Иванович, а что не успеем подобрать, не прикажете ли выслать посылкой? А может, и так попадутся интересные для вас книжечки, выслать-с? — предложил старик.
— Да, очень будет хорошо, — сказал, оправившись, Невельской, высылайте в Иркутск, в канцелярию генерал-губернатора, для меня. А интересует меня все, что касается Курильских островов, Сахалина, Амура, Камчатки, Тихого океана, Японии, Китая и тихоокеанских островов.
Оторвавшись от книги адресов, куда он записывал адрес Невельского, Сидор Федорович рассмеялся:
— Да вы, ваше высокоблагородие, чуть не весь земной шар перебрали. Трудненько будет вас удовлетворить, трудненько-с. Однако попробуем… Счастливого пути вам, Геннадий Иванович, и успехов по службе. Дай вам бог скоро дослужиться до адмирала… Да деток, сыновей-с.
— Я не женат, — пожал плечами Геннадий Иванович.
— Пора, — строго и серьезно ответил старик. — Без супруги-то негоже: годика через три госпожа адмиральша, поди, потребуется — гостей принимать. Пора… в час добрый…
Вечером Корсаков увлек Геннадия Ивановича в театр, потом ужинали, но зато, простившись с не вполне проснувшимся другом и закутавшись в необъятную медвежью шубу Волконского, он тотчас же бездумно провалился в темную бархатную бездну. Очнулся он после полудня и никак не мог понять, где он и что с ним.
13. Колебания
Чуть-чуть поскрипывая на трескучем морозе, мягко скользил по ровному снегу возок, дерзко-жизнерадостно звенели бубенцы, изредка сбиваясь с такта, когда высоко вскидывал на ходу головой коренник. Слепили чистые снежные широкие и ровные скатерти полей.
Только на второй станции Невельской пришел в себя, глотнул горячего чаю со свежими хрустящими бубликами и, садясь в сани, решил надо, однако, хорошенько поразмыслить о том, что случилось в Петербурге, а особенно о вчерашней французской статье.
Через минуту, однако, он закрыл глаза и, мысленно повторяя под ритм бубенцов идущего крупной рысью коренника: «Надо подумать, нужны итоги, надо подумать», — опять крепко уснул.
День умирал в лиловых и синих красках снега, в сизой игольчатой дымке крепнувшего мороза. Огромный медвежий воротник заиндевел, и по всему телу пробежала тревожная мелкая дрожь, заставившая Невельского проснуться. Шаловливой живительной струйкой вливалась бодрость и свежесть. «Вот теперь, — улыбнулся он ритму бубенцов, — подведем итоги и подумаем». И, однако, думать не хотелось.
Промелькнул верстовой столб. Интересно, сколько отмахали? Стал вычислять — выходило, верст сто… А впереди в семьдесят раз больше. Как много! Но зато все ближе и ближе к Иркутску. И опять невольно сомкнулись веки, и понеслись бесконечной лентой желанные, любимые, уже много раз виденные образы: уверенно опиралась на его руку оживленная Катя, временами лукаво заглядывая ему в глаза… Он видит ее глаза… Бодрым шагом они идут на каток. Качаются и чуть позванивают у него в руке коньки… И вдруг беспокойная мысль: «А не растаял ли каток?» Он широко раскрывает глаза видение пропадает. «Доберусь до Иркутска, — считает он в уме, — не раньше половины марта… Нет, лед, конечно, еще не растает. А ведь если растает, тогда трудновато будет часто видеться с нею без помех». Он припомнил свой первый приезд в Иркутск и бесконечный великий пост. «Теперь опять пост. Если будет каток, все хорошо, а не будет, тогда… Как это сложно! Да все равно, надо решаться: неясное и сложное станет простым. Надо, надо решаться», убеждал он себя.
Что, в сущности, представляет собой он как жених? Невзрачен, ростом мал, некрасив, лицо в веснушках, как у курносой деревенской девки, на семнадцать лет старше ее, человек не светский и никогда им не станет без связей. Сделать сносную карьеру не позволит недостаточно гибкий характер. Правда, и она, Катя, бесприданница, но молода и хороша собой: Зарин года через два — губернатор какой-нибудь центральной губернии, а там образованная, красивая, молодая девушка легко найдет кого-нибудь получше капитана Невельского. На что-то, правда, вроде чувства благоговения Кати перед его подвигами намекала Мария Николаевна Волконская. Да, намекала. Но, во-первых, где он, этот возвышенный его героизм, а во-вторых, что же получилось? Герою еле-еле удалось увернуться от разжалования в матросы, его открытиям не верят, действовать дальше запрещают.
Тут он вспомнил: а где же, в самом деле, его открытия, когда, как оказывается, какой-то Мамио сделал их чуть ли не за сорок лет до него? Ведь нечестно же это скрывать после обнаружения статьи Зибольда!
— Нет, когда я свое ложное положение вскрою перед нею, такой искренней и прямой, она непременно откажется, — твердо решил он и тут же заволновался при мысли, что Катя от него уйдет навсегда, а с нею уйдет и мечта о дружной семейной жизни и, конечно, о перемене службы: ведь наивно и жестоко думать о верной подруге жизни в условиях какого-то чуть ли не пещерного или бродячего существования. Подвергать неисчислимым опасностям и лишениям кого? Любимое существо! Он представил себе ее в обществе гиляков, гольдов и большеголовых бородатых айно и горько усмехнулся. Однако мысли продолжали витать около Кати, семьи Зариных, Марии Николаевны, и он чувствовал себя бессильным отогнать и вырвать из души соблазнительные видения. В конце концов он пришел к заключению: впереди для решения почти целый месяц — и успокоился.
Чем ближе, однако, Невельской подвигался к Иркутску, тем яснее и назойливее становились вопросы незаконченных им на Амуре дел. «Наделала синица славы, а моря не зажгла», — насмешливо думал он о себе и, призвав на помощь всю свою волю, решил рассмотреть все предстоящее заново и, как он привык, строго систематически.
Уцелел ли командированный для наблюдений за весенним паводком его энергичный Орлов? Зима в Сибири, как сообщали, установилась исключительно суровая и вьюжная. Успел ли построить беспечный, хотя и выносливый, труженик для себя теплую и сухую избушку и где? Ведь не в заливе же Счастья, откуда нельзя наблюдать за вскрытием Амура и движением льдов в лимане. Очевидно, Орлову приходится перекочевывать с места на место. Вдруг он вспомнил, что стоит февраль и там все еще крепко сковано льдом, а сумасшедшие вихри наметают непроходимые горы снега… С кем-то он, нашел ли каких-нибудь помощников?
Надо все же спешить.
Он стал торопить ямщиков, и ямщики старались изо всех сил, но их усилия ни к чему не приводили: от Томска дорогу занесло пушистым мягким снегом в сажень толщиной. Сани тонули в нем, как в мягком пуху, вместе с лошадьми, пробивавшими себе дорогу грудью шаг за шагом. После каждой полуверсты приходилось останавливаться и ждать, пока мокрые и дымящиеся животные отдышатся. Езду ночью пришлось совсем отменить: в снежной пелене да без луны ямщики ехать наотрез отказались. Вместо двухсот-трехсот верст в сутки с трудом стали одолевать сто и даже пятьдесят и, наконец, верст за четыреста до Красноярска остановились совсем.
«Какой смысл, — снова задавал себе вопрос Невельской, — устраивать зимовье в заливе Счастья? Как временный порт и небольшой, он, правда, за неимением лучшего, годится — так по крайней мере представляется по местоположению, но он открыт для всех юго-восточных ветров, и весной его, наверное, забивает надолго льдом. Неужели же оставить попытки отыскать лучшее место в лимане Амура, южнее в проливе, в устье, или вверх по реке?
Когда вход в устье Амура не был обследован, само собой разумеется, другого выхода не было, а теперь… Допустить иностранцев в устье Амура было бы в самом деле тягчайшим преступлением.
И если этого не понимает азиатский департамент и канцлер Нессельроде, то он-то, Невельской, должен понимать!»
Вдруг от таких мыслей становилось душно и жарко, он сбрасывал с плеч убаюкивающую разнеживающую шубу, жадно глотая бодрящий морозный воздух, и, сжимая кулаки, злобно кричал кому-то в угол возка:
— Нет, не допущу! Пропаду, но Амура не отдам. Прочь с дороги! Я не сумасшедший, я знаю, чего хочу!.. Вам не угодно защищать родину на ее диком, некультурном востоке. Претит вашему европейскому нежному обонянию? Вы мешаете! К черту подлецов! Наперекор всем я сам буду ее защищать, как сочту нужным!
Странные восклицания, глухо доносившиеся из возка, пугали настораживавшихся лошадей, они боязливо встряхивали головами, крепко прижимая уши. Ямщик опасливо поглядывал на возок: «Никак сбрендил барин сам на себя орет, беда! Скорей бы станция».
После таких вспышек Невельской успокаивался, перед ним проходили бодрящие картины: в крохотном валком челноке вдвоем с Орловым он плывет вверх по Амуру, открывает на берегах частые военные посты и на каждом водружает громадные русские флаги. Он рыщет по берегу Татарского пролива и строит небольшие, но грозные крепости для защиты входа в пролив, выгоняет из Охотского моря английских и американских китобоев… Он открывает чудные, никому не ведомые незамерзающие бухты и глубокие гавани… И вдруг спохватывается: «Мамио!» Да кто знает, существовал ли он, этот Мамио, на самом деле? Зибольду ведь рассказывал о Сахалине не Мамио, а какой-то старик Могами… А почему японцы скрывали и скрывают эти свои открытия? Невельской сам удивился своему вопросу и тут же на него ответил: «Боятся, не раздражали бы нас эти японские разведки в принадлежащих нам местах, вот почему…»
— Выгоним, выгоним! — кричал он опять вслух.
Задача, что делать дальше, разрешалась сама собой: женитьба — прочь. А Катя? Семейный уют? О нем надо забыть — отложить до выполнения главного дела всей жизни: не для него, сурового борца, мирное прозябание. Победить или погибнуть — вот его путь!
Только 20 марта, при установившейся уже погоде, Невельскому удалось добраться до Красноярска. «Отдохнуть бы хоть денек», — подумал он, закрывая глаза, и тут же, упрекнув себя за слабоволие, стал освобождаться от шубы.
— Самовар и лошадей! — потребовал он, входя в горницу.
И то и другое оказалось готовым, и в ожидании перепряжки Геннадий Иванович уселся за поданную прямо с огня миску пельменей, предвкушая последующее чаепитие. Он не слыхал бубенцов подъехавшей к крыльцу тройки, как дверь стремительно распахнулась и из клубов пара некто невидимый крикнул:
— Геня, ты? Наконец-то! А я выехал пятью днями позже тебя, все старался нагнать!
Невельской бросился обнимать и распутывать плохо одетого Мишу Корсакова. Тот был в легкой шинели и овчинном полушубке и прикатил в простой кошеве. Он так окоченел, что тут же пришлось оттирать обмороженные ноги.
— Вот это другое дело! — радостно воскликнул он через час уже в возке, уходя с головой в спасительную медвежью шубу Волконского, и тут же притих. Не успел возок отъехать от станции, как из-под груды теплого меха до Невельского долетел его расслабленный приглушенный голос:
— Геня, милый, извини, я засыпаю… все расскажу тебе потом… Везу тут с собой одну неприятность… лично для тебя… Видишь ли, предписано… — и заснул.
Отогреваясь ночью на станциях, прозябший в Мишином полушубке Невельской не будил его, все время мучаясь загадкой, разъяснившейся только утром: Муравьеву предписано спешно ликвидировать Охотск, а имущество перевезти в Петропавловск. Вопрос о переносе Охотска Муравьев возбудил, как известно, два года назад и отстаивал его все время, правда уже без прежней уверенности в целесообразности своего домогательства, так резко в свое время раскритикованного Невельским.
Для Невельского, предвидевшего последствия ненужного переноса, новость действительно была весьма неприятной. Помимо нецелесообразности, этот перенос отодвигал на задний план преследуемую Невельским неотложность поисков незамерзающей и хорошо защищенной бухты южнее устья Амура. Новость наводила также на тревожную мысль: не охладел ли к Амуру сам Муравьев?
Другие новости были приятнее. Последний перед отъездом вечер Корсаков проводил у Марии Алексеевны Крыжановской, в том же обществе обоих братьев Перовских и Меньшикова. Когда разговор коснулся Амура, Меньшиков сказал, что, по его мнению, будущее Амура теперь в руках одного Невельского и зависит от того, захочет ли он еще раз рискнуть быть разжалованным или не осмелится. Подсказать же ему этот действительно необходимый и неотложный шаг, по мнению Меньшикова, было бы неблагородно, и ни они, ни Муравьев, конечно, этого не сделают.
— За Невельского я и так ручаюсь, — сказал Лев Алексеевич Перовский, что он догадается сам и рискнет. Мало того, из боязни, что могут отговорить, скроет свои намерения от самого Муравьева, чтобы не поставить его в неловкое положение, как генерал-губернатора в роли подстрекающего своего подчиненного к неповиновению. Лучше дать Муравьеву возможность поддержать и одобрить совершившийся факт.
— С чего вы все это взяли, Лев Алексеевич? — спросил Меньшиков. — Уж нет ли у вас с ним сговора, а?
— А вот с чего… Как вам известно, Амур для России — это лелеемая Невельским с детства мечта. Ценою принесения им в жертву карьеры и большого риска она осуществляется, но еще не осуществлена — до конца еще далеко, а откладывать дела ни на один день нельзя. Не таков Невельской, чтобы отступить теперь, когда труднейшая часть пути пройдена.
— Придется опять нам помогать, если вляпается? — вопросительно заметил Меньшиков.
— И поможем, непременно поможем, ведь это в конце концов наше общее дело, в котором мы сами ничем не рискуем.
— Так-то, Геня, обстоят дела, — заключил Корсаков. — Ты лезь в петлю головой, а они тебя, может быть, соблаговолят поддержать, — продолжал с иронией Корсаков, не видя, как от его рассказа засияли глаза Невельского: он радовался и тому, что Лев Алексеевич в нем не ошибся, и тому, что сам он пришел именно к единственно нужному решению.
— Нет, господа, — с сердцем продолжал Корсаков, — было бы по-джентельменски не прятаться, начать этот разговор при Невельском и стать, в случае твоего согласия, соучастниками, идущими на такой же, как и ты, риск. Меня точно ушатом холодной воды облили эти «патриоты» только до той черты, за которой начинается риск, не головой, нет, а чуть-чуть слегка стремительной карьерой… Да нет, даже не карьерой, а еле заметным, ничтожным ее застопориванием. Какая гадость!
Невельской боялся выдать себя: пусть лучше и Корсаков не знает, что он уже твердо решил действовать и что ему никакого дела нет до меньшиковских и других карьер, у него путь единственный и определенный.
Другое дело, что скажет Катя. Как она посмотрит? Это его беспокоило.
14. Новые дороги
В спальне Муравьева только что отбыли русское «присаживание» перед дорогой и сотворили короткую молитву. Днем отслужили молебен о путешествующих.
Качаясь из стороны в сторону в длинном атласном шлафроке, шаркала туфлями немощная тень Муравьева. В руках он держал два образка покровителя путешествующих мученика Спиридония, по-детски неуверенными шагами приблизился к отъезжавшим, благословил и неловко набросил шелковые гайтаны на склонившиеся головы. «Точно старец великопостник благословляет любимых послушников на ратный подвиг», — подумал растроганный Геннадий Иванович и сам проникся сознанием важности своего предприятия.
На большом темном дворе вокруг четырех троек хлопотливо бегали люди с факелами и фонарями, бросая на снег во все стороны пятна колеблющегося света. Факелы трещали, посыпая шипящий снег горячими смоляными каплями, чадили длинными косами сажи и наводили ужас на прижавших уши лохматых лошадей. Они трясли густыми спутанными гривами, невольно вскидывали головами и нервно перебирали ногами. Косящиеся на огонь глаза налились кровью и злобой: лошади далеко вытягивали шеи, скалили зубы и щелкали челюстями, стараясь схватить приближающихся к возкам неосторожных.
— Готово! Зови садиться! — громко раздалось откуда-то из темноты.
— Иду-у!
У подъезда заколыхался фонарь, и загрохотали по скользким ступенькам кованые сапоги. Через минуту по тем же ступенькам осторожно спустились двое мужчин и две закутанные женские фигуры и тут же беспомощно остановились.
— Я дальше не пойду, боюсь… Какая темень! Мишель, прощай, счастливого пути, — капризно сказала генеральша.
Мужчины с трудом сняли теплые шапки с длинными наушниками, по очереди наклоняли головы и подносили к губам протянутые руки.
— Все хорошо, не беспокойтесь, дорогой, все хорошо, — сказала вполголоса Мария Николаевна, целуя уезжающего Невельского в лоб.
Из-за этих нескольких слов она решилась ночевать у Муравьевых. Попрощавшись с генеральшей, приятно взволнованный Невельской торопливо двинулся к лошадям. За ним с фонарем в руке и дорожной шубой на плече следовал казак, дальше спешил Корсаков. Долго оба усаживались в один возок: до Иркутска решили ехать вместе.
— Трудно держать, ваше высокоблагородие, — сквозь зубы с усилием процедил ямщик, едва удерживая рвущихся из рук лошадей.
— Езжай!
— Ворота!.. Пошел!.. — заорал по-разбойничьи дико ямщик.
Четверо дюжих казаков настежь распахнули звонкие железные ворота, и ошалелые тройки, одна за другой взметая на крутом повороте вихри снега, пропали в темноте. Осторожный Иркутск еще спал мертвым сном, плотно укрывшись с вечера за дубовыми ставнями и за тройными дверями подъездов, обитыми толстым войлоком и крест-накрест железными полосами.
Долго не могли успокоиться взбесившиеся кони, продолжая скакать до самого леса. Стало светлее — внизу маячила широкая лента покрытой льдом Ангары.
— Итого за три месяца, — вдруг вслух ответил на какие-то свои думы Корсаков, — около шестнадцати тысяч верст! — и глубоко вздохнул.
— У меня столько же за два месяца, и то не хвастаю, — ответил Невельской и добавил: — Тебе хорошо: от Охотска — корабль, уютная каюта, повар, дальше — верная награда, отоспишься, а у меня нарты, вонючие и грязные проводники и такие же собаки да лыжи… На воде — в лучшем случае кожаная беспалубная ладья и собачья юкола да ночевки под мокрыми кустами. А насчет наград — сам знаешь.
— Прелестная моя кузина опустошила для вас все свои запасы, оживившись, сказал Корсаков, — у нас пельмени, окорока, жареные куры, поросята, гуси, есть и копченые, и всякая дичь и снедь. Не пожалела и вина мно-о-го! Живем!
От Якутска пришлось несколько облегчить лошадей, с трудом выбиравшихся из снежных заносов. Непрестанные скользкие наледи на реке провожали шутников скрежетом и звоном ломающихся льдинок. Подолгу приходилось задерживаться на вынужденных привалах под осыпавшими снег мрачными елями.
Тогда вдруг оживлялся Корсаков, вытаскивалась провизия, котелки и самовар, и они не торопясь наслаждались сторожкой таежной тишиной и заслуженным отдыхом.
— Не ершись, Геня, — уговаривал Корсаков, — надо здесь передохнуть: зарежем без надобности лошадей. Поедят, скорей дотянут, а времени, ей-ей, не потеряем ни минуты. Что здесь ждать, что там, на месте, пока начнется навигация, не все ли равно? Ведь из Аяна без моей охотской посудины не уйдешь.
— Кто знает, — загадочно отвечал Невельской, — может, не стану ждать и на лыжах махну искать Орлова.
— А чем питаться будешь?
— Охотой.
— М-м-да… А остальные?
— Мне дело нужно, а не отдых.
И тем не менее так приятно было лежать на спине с закрытыми глазами и мечтать, не управляя своенравными упрямыми мыслями, витающими в маленькой квартирке Зариных, у Волконских, в архиве, на катке… И всюду она, Катя, единственная и любимая. Что она теперь будет думать о нем? Поймет ли, почему, так и не высказав ей всего, даже не попрощавшись, как хотелось попрощаться, уехал?.. Но она поймет. Мария Николаевна, эта женщина, которую все боготворят, расскажет ей обо всем. Поймет меня Катя. Поймет, милая. Вспомнилось еще, что Катя и Волконский успели прошлой осенью послать Орлову с оказией несколько мешков картофеля для посадки. Как она беспокоилась, сохранится ли, дойдет ли до Орлова картофель!
От Алдана пришлось ехать верхом. Кладь перевьючили. Образовался большой караван.
Вскоре лошади съели захваченные овес и сено. Съели свои запасы и люди. Лошади перешли на траву «силикту» и с остервенением выбивали копытами снег, чтобы как-нибудь до нее добраться. Люди занялись охотой и питались медвежатиной, рябчиками и вообще всем, что попадется. Часто вздыхали о хлебе.
Голодный Нелькан не мог помочь горю, хотя небольшое количество муки местной фактории Российско-Американской компании позволило напечь лепешек. Собаки и достаточный запас юколы решили вопрос о дальнейшем передвижении: перешли на нарты.
В Нелькане расстались с Корсаковым — дороги расходились: старая — на Охотск, и новая, недавно построенная Завойко, через страшный обрывистый Джугджур — на Аян….
Вскоре после ухода Невельского у Волконских появилась Катя. Бледная, с желтизной на висках и почти черной нездоровой синевой под беспокойными глазами.
— Ты не спала? — спросила ее Мария Николаевна, но ответа не получила.
Бросившись к ней на шею, Катя залилась слезами.
— Я спрашиваю, ты не спала? — притворно строго повторила вопрос Мария Николаевна.
— Он меня не любит! — всхлипывала Катя. — Я унизилась перед ним… и сказала, сама сказала… а он и не подумал ответить…
— Что же ты сказала?
— Я на катке намекнула, что люблю его, а он на это шутя закружил меня до изнеможения, не выпуская из рук, а потом… потом… как в рот воды набрал… до самого дома… Попрощаться и вовсе не пришел — прислал какую-то пустую записку…
— Некогда было: Николай Николаевич неожиданно отправил их днем раньше. Невельской очень долго задержался у меня…
— У вас?
Катя резко отстранилась от Марии Николаевны и уставилась на нее недоумевающими глазами.
— Да, у меня… Так случилось. И, представь себе, говорили все время о тебе. Тебе кажется, что он тебя не любит, а он больше всего боится потерять тебя. Бежит же он от тебя, чтобы сохранить решимость довести до конца дело своей жизни. Думать теперь о личном счастье он считает изменой делу.
Мария Николаевна уселась в кресло, указывая Кате кивком головы на диван, но та уже успела пододвинуть скамеечку к ногам Марии Николаевны и, положив руки на ее колени, приготовилась слушать.
— Его беседа, Катюша, растревожила меня, передо мной ясно, как вчера, встало мое далекое прошлое…
Катя внимательно вгляделась ей в лицо.
— Вы плакали, дорогая… Я вижу, не скроете, — и Катя бросилась целовать ее руки.
— Было и это. Я расскажу тебе: видишь ли, Сергей Григорьевич тоже был много старше, и перед ним я чувствовала себя маленькой девочкой… Это чувство у меня прошло как-то вдруг, сразу после несчастья с ним, когда от него отвернулись и он остался беспомощным и душевно одиноким. Тут-то я его полюбила по-настоящему… как равная и даже старшая. До несчастья я была украшением его жизни, а теперь — всем, самой жизнью; я поняла, что он пренебрег земными благами и шел на смерть… а ему великодушно оставили ненужную, после гибели дела, жизнь. Что еще могло его удерживать в ней, кроме меня? И я это поняла и пошла за ним. Я не ошиблась: быть единственной и любимой душевно чистым и цельным человеком, Катюша, — это большое счастье, для этого стоит жить. Родные, друзья мне внушали: «Он эгоист, обманщик! Он позволил себе скрыть, что сам на краю гибели, и погубил не знающую жизни и неопытную девочку!» Ведь это неправда, дорогая; он верил в победу дела, которому служил, в которое посвятить меня не имел права, недостаточно зная меня, девочку. Несчастье стряслось внезапно… Он сватом избрал моего зятя Орлова, тоже декабриста, и в этом щекотливом вопросе — «сказать или не говорить» — положился на него… Больше он ничего сделать не мог, не мог отложить сватовство: отложить — значило потерять меня, ведь он видел, что я не могла долго сопротивляться воле родителей и родных, а претендентов на мою руку было много… Ну, а моего Сергея Григорьевича ты знаешь сама и дружишь с ним — стоит он любви?
— Сергей Григорьевич! — живо воскликнула Катя. — Да я с ним рука об руку на всю жизнь, хоть сейчас! Мне дороги и его сельскохозяйственные затеи и все его «темные» и такие умные русские мужики. Мне дорого все, что его касается.
— Катюша, это уж слишком, — смеялась Мария Николаевна, — я еще жива, в преемницах не нуждаюсь…
Но Катя уже висела у нее на шее и зажимала поцелуями рот, не давая сказать ни слова. Мария Николаевна, продолжая смеяться, отбивалась, стараясь как-нибудь перейти к главному вопросу, и не смогла до тех пор, пока ей не удалось членораздельно произнести магическое слово «Невельской». Катя сразу присмирела.
— Невельскому дорого в жизни только закрепить за Россией Амур! И он, как Сергей Григорьевич, рискует своей жизнью. Без тебя она ему не нужна.
Выпрямившись и глотая слезы, Катя сказала:
— Значит, он не верит в меня, не верит в то, что вдвоем было бы легче… Я… как и вы… только украшение!
— Не верит в твои силы и жалеет… да, это так: вдвоем хуже; ты вместо помощи можешь оказаться обузой, помешать.
— Как мне тяжело! О, если бы вы знали, как мне тяжело и… обидно!
В доме Зариных стало непривычно тихо: не слышно было Катиного голоса, не разучивала она новых русских и якутских песен; она просиживала целые дни в архиве. Архивариус в недоумении руками разводил:
— В первый раз в жизни вижу такую девицу: от пыльного архивного старья не оторвешь, ей чем пыльнее, тем милее.
Это было не совсем верно: кроме архива, Катя все чаще и чаще заходила в неуютную и запущенную комнату Сергея Григорьевича, здесь засиживалась подолгу, особенно когда приходили потолковать мужики о том, о сем, а в конце концов — всегда о хозяйстве.
Сначала дичились, а потом привыкли и даже вступали в разговоры, когда хозяина отвлекали другие дела.
— Девка-то твоя, — говорили Сергею Григорьевичу, — сирота, говоришь? Хороша… Хоша весу в ей надо бы по-боле. Но и так ничего: бойкая и, видать, предобрая.
Дни становились все длиннее. Солнце припекало и крепко въедалось в ароматный, пахнущий весной, крупитчатый и еще ослепительно белый снег. Надо было торопиться — за Джугджуром, чего доброго, и совсем развезет.
Площадка у вершины Джугджура, похожая на опрокинутое блюдце, была покрыта на славу отполированным ветром и снежными вьюгами льдом. Пришлось сделать привал: входить на нее, не подготовившись, нельзя было.
Из поклажи добыли и скрутили вдвое длиннейший морской линь и привязывались к нему поодиночке, в десяти шагах друг от друга. Вгрызались в лед кирками и шаг за шагом ползли на животах. Опыт удался. Вернувшись обратно, разделились на две партии: одна, сойдя несколько вниз к лесу, занялась рубкой высоких елей, другая нагрузилась небольшим количеством юколы и отправилась с собаками в запряжках, но без нарт вперед. Беспокойно вдыхая запах юколы, собаки не разбегались и спускались вместе с лошадьми.
Обход над пропастью по гребню отвесной стены был страшен. Две запряжки с двадцатью собаками сорвались. Собаки с визгом падали вниз, в плотно набитые снегом расщелины, с высоты по крайней мере двадцати пяти сажен и пропадали в снегу.
Туда же, вниз, другая партия сталкивала длинные ветвистые ели с накрепко привязанными нартами. Ели, шумя ветвями, не полностью погружались в глубокий снег — по ним можно было найти нагруженные нарты. Потом, вершок за вершком, люди сами врубались в обледенелые тропинки и, пятясь, сползали вниз.
Поиски нарт, подтаска их к дороге, освобождение утопленных в снегу собак, починка изгрызенных зубами запряжек заняли целых три дня. Путники выбились из сил, не подозревая, что настоящие трудности ждут их впереди: внизу началась весна!
Не только не приходилось полежать на нартах, наоборот, их приходилось поминутно вытаскивать, переправлять, стоя по пояс в шумливых потоках вешней воды, поддерживать, чтобы не опрокинулись, подымать опрокинутые и, наконец, тянуть их на себе вместе с обессилевшими собаками по обнаженным и даже местами обсохшим каменистым тропинкам.
— Думал, никогда не оправлюсь, захвораю и умру в Аяне, — рассказывал впоследствии Невельской, — а стоило увидеть из-за горы на синей глади моря верхушки корабельных мачт, все недомогание мигом исчезло и готов был бежать до них, не останавливаясь.
Радоваться было чему: очистилось от льда море, и от Корсакова прибыл транспорт «Охотск» с продовольствием для предполагаемого поселка в заливе Счастья. Радость отравляло отсутствие сведений об Орлове, ушедшем к заливу Счастья пешком еще в начале зимы.
В Аяне Невельской застал начальника порта капитана Завойко в больших хлопотах перед отъездом на Камчатку. Приказ о назначении его начальником Камчатки и Петропавловского порта доставил ему Корсаков на «Охотске».
Завойко все еще находился под обаянием авторитетов Лаперуза, Бротона, Крузенштерна и особенно Гаврилова. Он по-прежнему скептически относился к амурским затеям Невельского и давал это понять. Обиженный Невельской мстил тем же, понося и только что пройденную Аянскую дорогу и Аян, затею Завойко. Кроме того, Завойко продолжал отстаивать целесообразность упразднения Охотска и переноса его в Петропавловск.
— Неужели вы не понимаете, — кипятился Невельской, — что этот перенос нелепость? Петропавловск беззащитен, и даже один (только один!) крейсер может его уничтожить и отрезать всю Камчатку.
— Неужели вы не понимаете, — в тон ему отвечал Завойко, — что Охотск ежегодно губит десятки кораблей? И чем раньше уйдем оттуда, тем лучше. А гавань и бухта в Петропавловске — лучшая в мире. Куда же идти?
— Да, да, — поддакивал новый начальник Аяна, алеутский креол Кашеваров, уже дослужившийся до чина капитан-лейтенанта. — Идти больше некуда.
— На юг надо идти, искать гавани по проливу до самой Кореи, обшарить южную часть Сахалина — вот что надо, — горячился Невельской, — а вы стараетесь сосредоточить две незащищенные гавани в одной, тоже незащищенной. Что это, по принципу «бери одним ударом обе»?
— Не защищена — надо создать защиту, — вспыхнул Завойко, силясь, однако, сказать возможно спокойнее, но вместе с тем и побольнее кольнуть собеседника. — А в десятый раз проверять проверенное много сомнительнее, чем укреплять существующее: пустая фантазия и авантюра — не одно и то же, но они — родные сестры.
Незаметную трещинку во взаимоотношениях Невельского с Муравьевым (генерал-губернатору не нравилось, что Невельской критически относится к идее перенести порт из Охотска в Петропавловск) эти ссоры с Завойко, близким Муравьеву, могли углубить. Невельской это сознавал и был недоволен собой, но кто же из них троих, одинаково преданных делу и одинаково стойких и убежденных в своей правоте, мог уступить в этом благородном соревновании? А между тем трещинки мало-помалу открывали пути для клеветы и интриг.
Встревоженный отсутствием сведений об Орлове, сумрачный и сосредоточенный Невельской прошелся по складам и резко потребовал себе все, что мог вместить стоявший на якоре корабль.
— А вы, Василий Степанович, возместите себе все из Охотска, там теперь много окажется лишнего, — сказал он Завойко.
— Совершенно верно, вы правы, капитан, — согласился тот, — но вы категорически требуете, как начальник экспедиции, и это невольно возбуждает во мне протест, в то время, как я отдал бы без возражений просто Геннадию Ивановичу, по-дружески. Я хочу предложить вам еще часть своего продовольствия, а для себя сумею на «Охотске» получить новое.
Геннадий Иванович смутился, хотел было извиниться, но вместо этого выдавил из себя одно короткое «спасибо». Остался недоволен и Кашеваров. «Поплясал бы ты у меня, — подумал он недоброжелательно. — Жаль, что я еще не принял порта: показал бы я ему фигуру из трех пальцев…»
Невельской, так же, впрочем, как и Завойко, оказался в двойной зависимости: от Муравьева, как чиновник для поручений, и от Российско-Американской компании, которая поддерживала экспедицию деньгами и платила обоим особое жалованье.
Немногие морские офицеры, да и то только из высшего состава, понимали и представляли себе политическое значение этой якобы «торговой» компании. Остальные, презрительно именуя невоенных ее служащих «купчишками», а самую компанию «рваной», с трудом подавляли в себе дворянскую спесь по отношению к ней и к ее коммерции. Так повелось еще со времен Екатерины, так продолжалось и во второй половине XIX века, несмотря на то, что уже 30 лет возглавлялась компания, и на месте и в Петербурге, преимущественно морскими офицерами. Ее интересы всегда казались им чужими и презренными, торгашескими, а подчинение не морскому начальству — чем-то оскорбительным. Это, конечно, дурно отражалось на ведении коммерческих дел самой компанией и затрудняло ей выполнение поручений правительства. Последние причиняли большие убытки, возмещаемые правительством деньгами и привилегиями. Все это, вместе взятое, и, кроме того, неумелое руководство сдерживали ее промышленно-коммерческую гибкость: компания становилась казенным, учреждением с непосильными расходами на содержание управлений, канцелярий, контор и факторий. Отсутствие надзора на местах и случайный подбор служащих влекли за собой хищения и злоупотребления. Дурная слава крепла, авторитет и доверие к делам компании падали.
Завойко, близкий к управлению компанией, понимал ее политическое значение. Фактория компании была перенесена из Охотска в Аян по его предложению, а сам он охотно заведовал и тем и другим и понемногу освободился от духа пренебрежения, свойственного морским офицерам.
Свободен был от этой предвзятости и капитан-лейтенант креол Александр Иванович Кашеваров, сын алеутки, всецело обязанный своим образованием и положением компании. Невельской же по-прежнему каждую неполадку в снабжении экспедиции, в содержании кораблей, каждую задержку или критику его требований считал умышленным и личным оскорблением или результатом мошенничества и не признавал никаких компромиссов.
Неприятное столкновение с Завойко, недовольство собой и тревога за Орлова вынудили его в тот же день перейти на борт «Охотска». Следующее утро застало его уже в пути.
…Неугомонный Орлов творил чудеса: он нанес на карту все закоулки обширного залива Счастья, нашел место для стоянки судов и зимовья, проследил в нескольких пунктах за вскрытием устья Амура и пролива, обзавелся двумя преданными ему переводчиками и даже с их помощью успел посадить доставленный сюда с осени с неимоверными трудностями Катин картофель, а в избушке на окне в деревянных ящиках посеял капусту и выращивал рассаду.
С чувством умиления смотрел Невельской на зеленые побеги капустной рассады и темно-синие замысловато изогнутые коготки картофеля, заботливо укрываемые на ночь травяными матами: неужели вызреют? Надо будет написать Кате, порадовать…
Пока обстоятельства складывались благоприятно: выбор места Орловым говорил сам за себя — лучшего не было.
Сам Орлов был не в духе, ходил за Невельским мрачнее тучи и, наконец, не выдержал:
— Чаял, жену доставите, — сказал он. — Не тут-то было.
— На транспорте ее не оказалось, Дмитрий Иванович. Стало быть, в Охотск еще не прибыла. Михаил Семенович Корсаков погрузил бы… Ничего, — утешал его Невельской, — оказий будет еще много и из Охогска, и из Аяна, и даже из Петропавловска… А вы вот что: я никуда вас больше не пошлю, стройтесь здесь. Да поудобнее да поуютнее и ждите. Просто завидно, как заживете своим домком!
— А вы, Геннадий Иванович?
— Я послезавтра выйду в Амур. Приготовьте шесть матросов пошустрее, шлюпку, обоих переводчиков, товары для торговли с гиляками, оружие, продовольствие на три недели.
Назавтра, в день Петра и Павла, при салютах из всех ружей в присутствии наличных стрелков и жителей из ближайшего гиляцкого поселка, на высокой мачте взвился государственный флаг и был заложен первый венец первой избы. Родилось русское зимовье Петровское. Прием гостей длился до вечера: угощали рыбой, вином и хоровым пением. А наутро строгий и нахмуренный Невельской, входя в шлюпку, вручил Орлову запечатанный пакет с надписью; «Вскрыть 20 июля».
Шлюпка направилась к устью Амура. Не успела она завернуть за мыс, как вдруг появилась возбужденная толпа гиляков, они что-то настойчиво кричали и размахивали руками.
— Требуют капитана остановиться, поговорить, — доложил переводчик Позвейн.
— Что они хотят от тунгусов? Почему они повторяют все время «тунгус, тунгус»?
Невельской выскочил на берег. Толпа окружила его плотным кольцом. Оказалось, что местные гиляки, встревоженные прибытием весной иностранного китолова, открывшего охоту на гилячек, требуют русского покровительства. Этого хотят и тунгусы.
— У гиляков одна голова и желание одно! — кричали они.
— Мы любим Дмитриваныча и не обижали его, вернись и обещай нас считать своими! У нас добрый ум.
— Хорошо, — пообещал Невельской, — выберите несколько человек, я вернусь и повезу в Аян, к начальнику, и вы скажете, чего хотите. Передайте это Дмитрию Ивановичу.
Долго махали вслед и кричали «ура!» беспокойные гиляки…
15. Секретная экспедиция
Орлов был недоволен: ему казалось, что Невельской свалил с себя заботы об устройстве Петровского зимовья целиком на него: проявленная Невельским заботливость в подготовке уюта для семьи самого Орлова, по-видимому, только предлог. Уехал Невельской сумрачный, ушедший в себя. Отчего?
Секретный пакет жег пальцы: почему не поделился с ним? Не доверяет, что ли?.. А простился в обнимку, сердечно и серьезно, как бы навсегда.
Опускались руки, не хотелось приниматься за дела, и Орлов долго не выходил из своей избушки, глубоко задумавшись и ничего не предпринимая.
Геннадий Иванович в самом деле был не удовлетворен общим положением вещей и тут же своей ближайшей задачей поставил найти во что бы то ни стало такое место, с которого действительно можно было бы наблюдать за Амуром и раз навсегда отвадить от его устья мореходов каких бы то ни было государств. Кроме того, точно обследовать, нет ли где-нибудь у самого Амура, поближе к устью, подходящего места для устройства порта.
Через нескончаемые три недели после бессонной ночи на 20 июля, еле дождавшись рассвета, Орлов дрожащими, нетерпеливыми руками вскрыл мучивший его секретный пакет.
Наскоро написанная короткая записка на клочке бумаги встревожила его еще больше: она ничего не раскрывала, но требовала к 1 августа прислать «горою», то есть сухим путем, за 70 верст, на мыс Куегда, топографа с двумя матросами, а после 10 августа, в случае отсутствия Невельского на мысе, предписывала принять энергичные меры к розыску и сообщить об исчезновении генерал-губернатору.
«Значит, — рассуждал Орлов, — там, на Куегде, нужна какая-то съемка, это понятно, а где же та опасность, на которую намекает записка, и где он сам? Не бросить ли дело в Петровском, забрать человек, ну, хоть десятка полтора и спешить туда? Что затеяла эта горячая, отчаянная и упрямая голова?» Тотчас оставить пост Орлов, однако, не решился, выслал топографа, а сам с двумя бесшабашными матросами и переводчиками выехал позже на лошадях и точно 1 августа, смиренно опустив голову, молча выслушивал на берегу широкой и глубокой протоки Пальво бранную речь рассвирепевшего начальника.
— Что вы наделали? Кто вас просил? Я вам поручил строить, строить и строить, а шпионить за мной не ваше дело — пусть делают это другие… Поняли?
Орлов молчал.
Через час, однако, конь о конь, впрочем не разговаривая друг с другом, рысили по берегам протоки и озер, причем Геннадий Иванович временами не мог скрыть своего бурного восторга, вскидывал руку, резал ладонью воздух вдоль и поперек водных пространств и громко кричал:
— Восемь! А у самого берега десять! Поняли? А здесь семь кругом! Вот, голубчик, — он тыкал рукой на протоку Пальво, — где порт, а? Плохая зимовка для флота?.. Пробили канал во льду, и с ледоходом пожалуйте русские кораблики в море, а? Ведь это что значит? Это значит, что мы будем выходить в море не в конце июня, а в начале мая, — вот что это значит! Это лишних полтора месяца навигации!
Орлова давно уже подмывало спросить, зачем во временном лагере из палаток на мысе поставлена зимняя бревенчатая избушка, но он не решался. Вызывали вопрос и десятки увешанных шкурами гиляков, сидевших без дела на траве, как бы в ожидании чего-то, в то время как десятка два других тащили с матросами из лесу бревна и длинную, гладко оструганную мачту.
С праздными гиляками тем временем оживленно беседовали, жестикулируя не только руками, но и ногами, оба переводчика: гиляк Позвейн и тунгус Афанасий. Время от времени оттуда доносились дружные взрывы смеха. Веселым, жизнерадостным тунгусам чего-то, по-видимому, не терпелось — они то и дело вскакивали с места и, подпевая себе под нос, ритмично покачивались и приплясывали.
Невельской пригласил к себе в палатку Орлова, вызвал матросского старшину, распорядился приготовить к походу шлюпку с запасом на неделю и выстроиться у мачты.
Когда они затем вышли наружу, мачта с пропущенным через блок у вершины шнуром была глубоко врыта в землю, а у подножья лежало свернутым большое полотнище.
«Флаг, — подумал Орлов. — Что же Невельской собирается делать?»
Невельской в то время шел по фронту. Он поздоровался с командой, затем пальцем подозвал переводчика и сказал:
— Мои слова запоминайте и тотчас переводите гилякам и тунгусам, — и взмахнул рукой.
По мачте резво побежал кверху, щелкая и развеваясь на ветру, большой государственный флаг. Звонкий салют из фальконетов при криках «ура!» разорвал тишину утра.
— Именем государя императора всероссийского я открываю здесь, торжественно произнес Невельской, обращаясь к толпе, — русский военный пост Николаевский для защиты вас от притеснений со стороны маньчжур; государь император принимает вас под свое покровительство, и впредь мы никому не позволим вас обижать. За защитой спешите, когда понадобится, сюда: здесь будет наше с вами войско, наши пушки, наша крепость. С вашей помощью мы сюда никого пускать больше не будем! Солдаты! Старайтесь во всем помочь этому миролюбивому населению. На их обиды смотрите как на свои собственные, и пусть гиляки, тунгусы, мангуны станут для вас как ваши родные братья и сестры!
Угощение, танцы, песни; шумная торговля по неслыханно дешевым ценам как с той, так и с другой стороны шла до самого вечера и продолжалась еще и на следующий день, когда шлюпка с Невельским и Орловым, гонимая попутным верховым ветром, быстро двигалась вдоль тихих и приветливых берегов.
И еще целых двое суток, до самого Петровского, Орлов терзался неизвестностью: что же еще делал во время своего отсутствия довольный, но по-прежнему неразговорчивый Невельской?
Переводчики объяснили Орлову: Невельской объявил здешним жителям мангунских и гиляцких племен, что вся земля от Хинганского хребта до моря и весь остров Сахалин принадлежат России, а сами они отныне находятся под русской опекой. Вместе с тем он потребовал от гиляков объявлять об этом всем иностранным кораблям.
Возвращаясь обратно, путники увидели впереди, за Петровской кошкой, верхушки мачт и поспешили к берегу, думая, что пришли корабли из Охотска. Орлов волновался — не жена ли?
— Парадную форму! — скомандовал Невельской. — И марш со мной!
В сопровождении Орлова и трех матросов, взобравшись на борт сначала американского, а потом гамбургского китобоев, Невельской объявил капитанам, что они находятся во владениях России, простирающихся к югу до границ Кореи, и что плавание и промысел в Охотском море могут быть разрешены только им, Невельским, и начальниками портов Аяна и Охотска. Китобои просили разрешить им салютовать Петровскому порту и обязались уйти в море на следующий же день, прося дать им лоцмана для проводки судов через протоки лимана.
— Лоцмана я вам дать, к сожалению, не могу, — серьезно сказал Невельской, — поскольку вы забрались сюда без разрешения. Выкарабкивайтесь, как знаете, на свой риск и страх. Предупредите о моем объявлении вам все встречные суда.
— Со стороны туземцев как с материка, так и из Сахалина ко мне поступило очень много жалоб на причиняемые командами китоловных судов обиды, — добавил Невельской, — впредь мы этого не потерпим, и нами отдано соответствующее распоряжение нашим крейсерам преследовать и арестовывать такие суда.
Сказанное показалось китобоям не простой угрозой, когда через несколько дней они увидели подходящее к Аяну вооруженное судно. Это был «Охотск» из Петровского, на борту которого с Невельским ехала депутация от гиляков, уполномоченная заявить, что гиляки просят принять их под покровительство и защиту могущественного русского царя.
Особенно важно было то, что оба гиляцких посла были свидетелями триумфального шествия Невельского как представителя России, явившегося для наказания обидчиков, маньчжурских купцов, обманщиков и насильников, похищавших у них жен и дочерей. К Невельскому являлись с просьбой о защите с обоих берегов Амура не только гиляки, но и самогиры, нейдальцы и даже более отдаленные мангуны и гольды. Они рассказывали, что в таком же положении находятся и живущие на Сахалине мохнатые курильцы. К ним время от времени наезжают японцы торговать и при этом обижают. Некоторые из прибывавших гиляков приносили русскому начальнику в дар рис, стерлядей и китайскую водку. Они рассказывали, что на правом берегу Амура, в четырех местах, поставлены из обломков скал столбы, на которых, кроме дат 1649 и 1779, выточены какие-то знаки.
Дружелюбно настроенный к русским маньчжурский старшина из ближайшего города Отто тем не менее за взятку пускал за Амур маньчжурских купцов вопреки запрещению пекинского правительства. Все это создавало ясную картину состояния границ и политического положения Амура — медлить с закреплением здесь действительно нельзя было.
….Невельской был очень доволен: вместо неприятного для него и не совсем доброжелательно настроенного ко всем его начинаниям по освоению устья Амура Завойко он застал уже начальником порта Кашеварова. Особенно же было кстати пребывание в Аяне якутского, камчатского и аляскинского архиепископа Иннокентия, пользовавшегося благоволением генерал-губернатора и нового камчатского губернатора Завойко. В Аяне оказалась и семья Орлова.
Архиепископ вполне разделял образ действий Муравьева и мысли о значении Амура для России и благословил Невельского на дальнейшие подвиги. Он ласково принял гиляцкую депутацию и убедился в благоприятной почве для распространения среди них христианства. А самое главное, он узнал, что как гиляки, так и все другие туземные племена от моря вверх по Амуру до самого Хинганского хребта и устья Уссури часто подвергались грабительским наездам маньчжурских купцов, но никогда не признавали над собой их власти и не платили дани.
Окрыленный удачами, Невельской немедленно настрочил откровенное донесение о своих самочинных действиях в Петербург Меньшикову и в Иркутск Муравьеву и тут же выслал его с нарочным, а сам стал готовиться выехать вслед, чтобы лично упросить Муравьева принять решительные меры для закрепления успеха: нельзя же было обороняться от пришельцев шестью человеками в Николаевском, а от нашествия судов Англии, Америки и других стран — пятнадцатью в Петровском!
«От имени Российского правительства, — писал Муравьеву Невельской, — на мысе Куегда, в Николаевском и в Петровском я поднял Российские флаги и объявил гилякам, маньчжурам, а при посредстве их и всем иностранным судам, плавающим в Татарском заливе, что так как прибрежье этого залива и весь Приамурский край до корейской границы с островом Сахалин составляют российские владения, то никакие здесь самовольные распоряжения, а равно и обиды обитающим инородцам, не могут быть допускаемы. Для этого ныне поставлены российские военные посты в заливе Искай и на устье реки Амур. В случае каких-либо нужд или столкновений с инородцами нижеподписавшийся посланный от правительства уполномоченный предлагает обращаться к начальникам этих постов».
«Убедившись лично, что устье Амура китайцами не считается своей территорией, так же как и все Приамурье, и что, с другой стороны, вторжение иностранных держав, суда которых во множестве шныряют у входа в открытый и доступный Амур, может со дня на день осуществиться, — объяснил Невельской, как верноподданный, я не мог не предпринять тех мер, которые были в моих силах, для отвращения опасности. Проклятие потомков справедливо пало бы на меня…»
В заключение он выражал надежду, что при заступничестве Муравьева ему будет прощено нарушение высочайшего повеления.
Донесения пошли, корабль готов к выходу в море, а на сердце становилось все неспокойнее и неспокойнее: приходилось рискнуть еще раз.
«Навигация кончается, — рассуждал он, — и вряд ли до весны может грозить какое-нибудь вторжение с моря, люди обеспечены на зиму жильем и продовольствием, со стороны туземцев никакой опасности нет, новые же шаги без подкрепления и одобрения сделанного невозможны — надо ехать лично к Муравьеву». Тут Геннадий Иванович неожиданно для себя густо покраснел, убедившись в том, что его поступком руководит еще и другая сила: его неудержимо потянуло в Иркутск — видеть Катю, получить прежде всего ее одобрение и убедиться в том, что она ждет его и будет еще ждать, если понадобится, подышать с нею, единственной и любимой, одним воздухом…
«Предписывается вам, — писал он Орлову, невольно при этом улыбаясь и представляя физиономию истосковавшегося неизвестностью Орлова, — принять и предоставить все удобства для спокойной зимовки в Петровском семье поручика Д. И. Орлова, отправленной мною на транспорте «Охотск», который прошу с наступлением навигации возвратить в Аян. С закрытием Амура и лимана переведите людей из Николаевского в Петровск. Перед вскрытием вновь восстановите Николаевский пост в усиленном виде и обстройте сколько возможно лучше. Ведите наблюдения над замерзанием лимана и Амура, вскрытием, движением льдов, половодьем, ведите съемки берегов и промеры глубин. Изучайте состояние края и наблюдайте за судами, входящими в пролив с севера и с юга, объявляя им о принадлежности владений России».
«Охотск» под командованием лейтенанта Гаврилова, нагруженный до отказа продовольствием и разными припасами более чем на год, снялся с якоря 8 сентября, а через два дня, сопровождаемый благословениями и всяческими пожеланиями Иннокентия, нетерпеливый Невельской мчался по дороге к мрачному и неприступному Джугджуру.
И все оказалось совсем не так, как он ожидал: он думал в Иркутске после доклада Муравьеву дождаться решения из Петербурга, затем, в случае благополучного исхода дела, сделать Кате предложение и до начала весны вернуться продолжать начатые дела. Между тем Муравьев оказался в Петербурге, Невельскому же предписывалось оставленным приказом спешить туда же… Доклад, высланный с нарочным из Аяна, Муравьев получил еще до своего отъезда. На сердце стало спокойнее: при разборе дела в комитете будет надежный заступник.
Катю Геннадий Иванович нашел одну, в архиве. Уткнувшись в какое-то порядком потрепанное «дело», лежавшее у нее на коленях, она не слышала, как он вошел. Затаив дыхание Невельской остановился… Катя продолжала читать и время от времени пожимала плечами, возвращаясь к обложке, внимательно ее разглядывала, снова пожимала плечами и опять продолжала читать… Из подслеповатого, плохо заклеенного бумагой окна тянула морозная холодная струйка. Катя зябко поежилась, потерла ладонью о ладонь, машинально взмахнула концом шерстяной шали, накидывая ее на грудь. Тяжелое «дело» упало к ногам.
Не глядя, Катя потянулась за ним, коротко вскрикнула и откинулась на спинку — опущенная к полу рука была сжата чьими-то холодными крепкими пальцами.
Ее широко открытые испуганные глаза встретились в упор с взволнованными, счастливыми глазами того, кто, сам не подозревая, безраздельно уже давно владел всеми ее помыслами и с кем она рука об руку, как наяву, переживала невзгоды полной лишений и превратностей кочевой жизни.
— Вы? — еле слышно прошептали губы, и она, плача и смеясь, приникла к его груди.
Тихо сидели они, не шевелясь. Он овладел кистями ее рук и без конца покрывал поцелуями холодные пальцы. Она крепко прижималась щекой к его склонившейся голове и с чувством восхищения и преклонения перед созданным ею самой образом желанного, лучшего в мире человека нежно целовала высокий упрямый лоб и жесткие от морских ветров, соленой воды и жгучего солнца густые, красивым взмахом очерченные брови…
Они не слышали, как вошел старик архивариус, и не видели, как зазмеилась в его страшных запущенных моржовых усах лукавая, понимающая улыбка. Повернувшись к притихшей паре спиной, он тихонько приставил к стене лесенку, потом кашлянул и стал шарить где-то высоко под потолком. Потом вдруг засмеялся и сказал вслух, прижимая к груди папку:
— Ищу рукавицу, а рукавица за поясом: думал, затерялась, цельную неделю беспокоился, а ведь сам ее положил. Екатерина Ивановна, я опять пошел; генерал-губернатор ее спрашивает каждый день, а я все отмалчиваюсь. Господи, думаю, неужто сознаться, что потерял?
Тут он, наконец, обернулся.
— Ваше высокоблагородие, Геннадий Иванович! — притворно удивился старик. — А я вас и не заметил. Когда же пожаловали к нам? Давно ли? Как драгоценное ваше здоровье? Намаялись, чай? Как Орлов Дмитрий Иванович? — И, не ожидая ответов, стал натягивать на себя сброшенный было тулуп. Поспешу… Екатерина Ивановна, уходить будете — кликните Микиту, чтобы прибрал помещение и запер, а я уж, извините, не вернусь, не успею, — и, поклонившись, вышел, унося с собой не сходившую с лица сочувствующую улыбку.
Оба смущенно стояли друг перед другом. Он — не спуская с нее глаз, она — опустив голову. Оба старались овладеть собой — и не могли.
И вдруг Геннадий Иванович шагнул вперед, смело и крепко обнял ее. Потом, не выпуская ее из рук, тихо сказал:
— Я люблю вас, люблю с первой встречи и прошу вас ответить мне…
«Вот так бы всю жизнь», — подумала Катя, и вдруг почему-то стало стыдно, она оттолкнула его.
— Геннадий Иванович, — насмешливо сказала она, отступая на шаг назад и надменно поднимая голову, — я тоже полюбила вас, и даже раньше, до встречи, этого я не скрываю. Но женой вашей быть не могу. Вы не тот идеал, которого ищу: мне нужен муж нежный, всегда у моих ног с мольбой о любви, а вы, как грубый матрос, налетели, насильно облапили и позволили себе целовать меня. Матрос не может быть моим мужем.
— Успокойтесь, многоуважаемая Екатерина Ивановна, — в тон ответил Геннадий Иванович, — грубый матрос и не будет вашим мужем, он откажется от вас.
— Откажется? Пусть только попробует! — и она снова оказалась в объятиях смеющегося Невельского.
Успокоившись и усевшись рядком, они повели серьезную беседу о будущем, прерываемую то и дело счастливым смехом и бесчисленными поцелуями.
— Я боялся сказать «люблю»: скажу — и вдруг, как одуванчик, разлетятся все глупые несбыточные мечты о счастье!
— Ну вот, а я все гадала: любит, не любит. Да и как полюбить такому серьезному человеку какую-то ничего не смыслящую дурочку? Зачем ему такая?.. Ты знаешь, я во всем, во всем призналась Марии Николаевне.
— Да что ты! А я все боялся тебя потерять: тут около тебя столько светской блестящей молодежи… как Молчанов, Струве, Свербеев, Беклемишев, Бибиков, Стадлер…
Мягкая и теплая ладонь плотно прикрыла ему рот:
— Замолчи, не надо…
— Я тут между ними какой-то лесной человек или морская выдра. Где же мне с ними тягаться? Вижу, как будто симпатизируешь, а уеду, сердце щемит и щемит. Я ведь тоже все сказал Марии Николаевне, и она поняла, успокоила меня и дала мне понять…
— Что дала понять?
— Что любишь…
— А я вовсе не боюсь, что тебя разжалуют: ну что же, матрос так матрос, вместе будем из генерал-губернаторской кухни выносить помои… А ты знаешь, что сказал, уезжая, Николай Николаевич? Что Невельской завоевал государству целое новое царство, что он, то есть ты, настоящий русский герой. Он собирается сказать государю: «Я лучше покончу с собой, чтобы не видеть, как Нессельроде и их прихлебатели губят мощь и славу России».
— Да, я теперь вижу, — Геннадий Иванович вздохнул, — как трудно бороться с той паутиной, что опутала Россию, — и он невольно представил себе замерзающее и заваливаемое снегом Петровское, свист ветра в трубах и голодное существование…
— А ты знаешь, Катя, картошка дала прекрасный урожай. Давали пробовать гилякам, мужчины пробовали — хвалили, женщины пока отказываются.
— Приучатся, думаю.
— Конечно, приучатся… А что ты тут читала?
— Посмотри, — и она подняла растрепанное дело о командировке лейтенанта Подушкина на исследование устья Амура.
— Ну и что же? Открыл? — засмеялся Невельской.
— Да нет, только ухлопал безрезультатно два года, но самое главное это то, что в деле о Подушкине несколько слов, а все оно — история Российско-Американской компании.
Вечером у себя в будуаре растроганная Мария Николаевна, единственная из посвященных, не без слез благословила молодую чету на жизненный путь, рука об руку, до гроба.
— А ведь у нас в Иркутске всем по сердцу будет ваш взаимный выбор, зачем же эта тайна? Или вы не уверены друг в друге? — шутя сказала она.
— Это мое желание, Мария Николаевна: Екатерина Ивановна никогда не станет женою разжалованного в солдаты, — тихо и серьезно ответил Геннадий Иванович.
16. Победа
Не подозревая о новой злостной вылазке врагов, генерал-губернатор Восточной Сибири, не спеша и останавливаясь в Красноярске, Омске, Екатеринбурге, подвигался к Петербургу. На этот раз он пренебрег обычными визитами к двум старикам по пути, к западносибирскому генерал-губернатору князю Горчакову и московскому — графу Закревскому.
Оба сановника усмотрели в этом необычную некорректность зазнавшегося выскочки и вместе с тем встревожились, опасаясь, что Муравьев узнал о их последних кознях и дает им это понять: рыльце в пушку было у обоих.
Закревский сообщил Чернышеву, с которым очень дружила жена Нессельроде, дочь Закревского, о том, что действия Муравьева на Амуре вызывают неудовольствие пекинского правительства. Горчаков в то же время предполагал, что его сообщение понравится царю, недавно отказавшемуся от Амура, и писал тому же Чернышеву, что Амур России не нужен, что в связи с высылкой в Сибирь петрашевцев и влиянием осевших в ней революционеров зреет крамола, которая может довести Сибирь до отложения от России!
Все это было нелепо, неправдоподобно, и Чернышев смеялся, читая эти «дружеские» письма. И тем не менее по совету Нессельроде решил довести их до сведения царя.
По расчету льстецов и интриганов, содержание писем должно было напугать царя и заставить его отнестись с особой осторожностью и недоверием к предстоящему личному докладу Муравьева о сибирских делах. Вышло, однако, наоборот.
Подозрительному Николаю давно уже казались странными чрезмерная боязливость, обнаруживаемая перед Пекином со стороны Нессельроде и его азиатского департамента, и постоянное непротивление, граничащее с попустительством, по отношению к англичанам, явно стремившимся овладеть всей торговлей с Китаем и парализовать нашу.
Почуявши нечто неладное в переписке, завязавшейся между Чернышевым, Закревским, Горчаковым и превратившейся в донос Чернышева, за спиной которого стоял Нессельроде, Николай решил дождаться приезда Муравьева и столкнуть всех их лбами, а там видно будет. Вместе с тем, быть может, и удастся вывести на чистую воду амурский вопрос: кто же, наконец, его запутывает и мешает распутать?..
На очередных докладах самого Нессельроде Николай ни словом не обмолвился ему о полученном доносе Чернышева. Он запрятал этот донос в стол, снабдив его пометкой: «для памяти». Нессельроде недоумевал, куда мог бесследно исчезнуть этот донос, а спросить — значило бы выдать свое участие.
Живой, красочный доклад Муравьева об амурских делах приятно поразил царя своей точностью и определенностью. Он поверил и в доступность устья Амура для морского флота и в желание гиляков, орочан, нейдальцев, самогиров отдаться под опеку России. Он понял, что промедление может повести за собой занятие Амура англичанами. Замена на южных границах России добродушных и миролюбивых китайцев англичанами была нежелательной и опасной. Окрыленный таким приемом царя, Муравьев счел передачу дела на рассмотрение Гиляцкого комитета простой формальностью. На самом же деле оказалось иное.
Бурное заседание Амурского комитета затянулось. Раскрасневшиеся лица участников, а у некоторых и взмокшие, плотно прилипшие к голым лысинам жидкие пряди напомаженных и подкрашенных волос и вдруг оживившиеся тусклые склеротические глаза свидетельствовали о пережитой буре.
Буря действительно разбушевалась, а минутный перерыв позволял противникам обменяться впечатлениями и броситься в бой с новой энергией. Участники четко распались на «воюющих» и «примыкающих». Примыкающие и меньшая братия из министерств сгрудились в обширной столовой у буфета, воюющие сгруппировались вокруг вожаков.
К продолжавшему сидеть на председательском месте под громадным, во весь рост, царским портретом Нессельроде подсел бывший директор азиатского департамента, только что назначенный товарищем министра иностранных дел Сенявин, за ним министр финансов Вронченко и военный — Чернышев.
Канцлер нервничал, его смущала неизвестность судьбы доноса Чернышева. Он беззвучно барабанил дрожащими пальцами по толстому красному сукну стола и что-то быстро вполголоса, недовольным тоном внушал по-немецки Сенявину, успевшему уже получить прозвище «Нессельроде-второй». Вронченко и Чернышев, оба приложивши к ушам ладони, чтобы лучше слышать, время от времени кивали головами, одобряя заключения канцлера.
Возражения Сенявина, по-видимому, раздражали канцлера, почувствовавшего с некоторого времени, что хотя благоволение к нему царя наружно даже как бы усилилось, фактическая власть зашаталась. Выдумка царя поручить управление министерством Сенявину, в то время как канцлер никуда выезжать не собирался, казалась подозрительной. Правда, сделано это было под предлогом облегчения работы канцлера и сбережения драгоценных для государства сил, но ведь он об этом не просил. Пришлось еще и благодарить за проявленную высокую, весьма сомнительную, «милость и внимание».
Из прогуливающейся взад и вперед другой воюющей группы, где в центре был Муравьев, доносились оживленные возгласы и приглушенный смех. Это «веселье некстати» еще больше раздражало канцлера и лишало его привычного самообладания.
Бой возобновился словами Муравьева:
— Я ставлю в заключение, — отчеканивал он с подъемом, — два прямых и категорических вопроса, на которые хочу слышать такие же ответы: во-первых, нужен ли России судоходный, как теперь оказалось, Амур со свободным выходом кораблей в море, на север и юг; и, во-вторых, отказываемся ли мы от установления определенных границ с Китаем в нижнем течении Амура? Задавая вопрос, я, впрочем, не думаю, что кто-нибудь из здесь присутствующих членов комитета ответит, что ни судоходный с выходом в море Амур, ни твердые границы не нужны.
— Муравьев явно хочет добиться при жизни памятника! — громко с места заметил с кривой усмешкой Чернышев.
Резкая, надменная складка у его губ стала еще резче, раскосые глаза сузились в еле видные щелки, а легкое движение руки послало Муравьеву в глаза острый пучок брильянтовых лучей царского перстня.
Муравьев приостановился и тут же резко бросил в сторону Чернышева:
— Да, ваше сиятельство, добиваюсь и не вижу в этом стремлении ничего постыдного: я всегда был глубоко убежден, что благодарная память современников и потомков желательнее их проклятий.
Чернышев побагровел: намек на его пристрастие четверть века назад при разборе дела декабристов, не забытое доселе, прозвучал, как беспощадная звонкая пощечина…
— Теперь по вопросу о Невельском: на этот раз его действия, как изволите усмотреть из данной ему мной инструкции, вполне соответствовали ее духу и смыслу и мной признаны правильными. Обо всем этом я имел счастье уже докладывать его величеству… Упорное же и ничем не мотивированное частью членов комитета недоверие к материалам, мною представляемым, без их проверки, я не могу рассматривать иначе, как личное недоверие ко мне, как начальнику края, которому высочайше вверена до сего времени охрана границ империи!
— Я вполне разделяю мнение генерал-губернатора Восточной Сибири, что действия Невельского представляли собой единственный правильный выход из создавшегося у него положения и что Невельской заслуживает не порицания, а награды, — присоединился министр Перовский, — по существу же дела теперь требуется усилить основанный Невельским Николаевский военный пост, а в устье Амура и на лимане сверх этого надлежит иметь постоянно военное судно.
Комитет продолжал быть глухим ко всем доводам. Нессельроде предложил ограничиться журналом заседания, в котором было бы изложено мнение комитета. На этом разошлись.
И вот журнал заседания комитета готов, и не только готов, но и всеми, за исключением Муравьева, подписан.
— Господин канцлер, — вкрадчиво говорит Муравьеву посланный с журналом офицер для поручений при Нессельроде, — просит только подписать.
У Муравьева в гостинице «Бокен», на Малой Морской, гости. Он просит офицера к столу, предлагает ему стакан чаю и наскоро просматривает журнал заседания. Слова журнала «призванный в заседание генерал-губернатор согласился с этим мнением» приводят Муравьева в бешенство. Он бежит в кабинет и тут же набрасывает сдержанное, но ядовитое свое «особое мнение». Он добивается затем у царя аудиенции.
Через несколько дней по департаментам и министерствам разнеслась ошеломляющая весть: мнение Амурского комитета государем не утверждено и передано на новое рассмотрение под председательством наследника…
Нессельроде взволновался не на шутку, перед ним встали и другие признаки того, что его ставка бита: по всем учреждениям, где находятся на рассмотрении проекты Муравьева, разослано из царской канцелярии повеление рассматривать их, не задерживая Муравьева в Петербурге.
На этот раз заседание Амурского комитета идет сосредоточенно, настороженно: каждое слово обдумывается, никаких реплик с мест или шутливых замечаний, нет даже улыбок. Со стороны Нессельроде и его сторонников бесконечное число раз повторяется одна и та же песня: «Верим только сведениям, доставленным нам нашими испытанными людьми, и, как верноподданные своего государя, не можем позволить себе одобрить рискованную игру генерал-губернатора… Остаемся при прежнем своем мнении…»
И все же кое-чего удалось достигнуть: нессельродовцы сочли возможным согласиться на содержание после ледохода у устья Амура брандвахты, которая бы препятствовала входу в него, а до ледохода заменялась бы караулом, высылаемым из Петровского.
Муравьев торжествовал, получив возможность после заседания ответить Нессельроде запиской, полной яда и скрытого издевательства: «Имею честь почтительнейше представить при сем вашему сиятельству соглашенную мною, во исполнение воли его императорского высочества, с князем Александром Сергеевичем Меньшиковым редакцию особого мнения, состоявшегося в комитете об Амуре и гиляках 19-го января, для внесения в журнал сего заседания, и поставлю себе долгом присовокупить, что редакция сия согласна с мнением его императорского высочества, государя наследника цесаревича и министра внутренних дел графа Л. А. Перовского».
Император уже без колебаний приказал: военный пост, поставленный капитаном Невельским в устье Амура, оставить на месте, а в период навигации еще усилить содействием одного морского судна. Пост этот в качестве скромного торгового склада должна была прикрыть своим именем Российско-Американская компания. Ей же было поручено освоение края посредством заселения и торговли с гиляками. Что касается Китая, то письмом о взаимной опасности, посланным уже дипломатическим путем, русский сенат запрашивает китайский трибунал: «Не признает ли китайское правительство полезным войти с нами в соглашение насчет обезопасения устья Амура и противолежащего острова от всяких покушений на сии места иностранцев, чего, по-видимому, требовала бы взаимная безопасность наших и ваших в тех местах пределов?»
Начальником вновь образованной Амурской экспедиции назначен Невельской…
— Вы рады? — спросил Невельского Муравьев, передавая ему для ознакомления утвержденное царем постановление комитета.
Веселое и оживленное лицо Невельского, предвкушавшего быстрое возвращение в Иркутск, вдруг помрачнело:
— Боюсь, ваше превосходительство, показаться неблагодарным, я очень ценю и назначение, и владимирский крест, и дополнительные полторы тысячи рублей — они дают мне возможность подумать о собственном личном устройстве, но ведь не это в жизни главное. Я понимаю, что Николаевский пост вовсе не компанейская лавка, а военный укрепленный пункт для охраны наших границ и туземного населения и что Амурская экспедиция прежде всего является государственной и подчиняется она только генерал-губернатору. Все это хорошо. Однако руки, руки-то связаны, поскольку предписывается «отнюдь никаких мест не занимать». Я являюсь начальником экспедиции во всех отношениях — так гласит постановление. Но у меня есть служащие двоякого рода: назначенные офицеры и служащие компании. Я начальник только офицеров, я их командирую, перемещаю, назначаю, а служащие зависят в этом отношении от компании. Она может давать им свои указания, свои инструкции, хотя бы они противоречили моим. Да и я сам, принимая за свои труды деньги от компании, становлюсь в зависимое от нее положение. При хороших отношениях это все годится, а при недоразумениях может погубить дело. Вот это меня беспокоит.
— Я в таком же положении, голубчик: Российско-Американская компания подчинена мне, но у нее есть правление и совет в Петербурге, распоряжения которого могут противоречить моим. Надо учиться управлять, подчиняясь. И вам, Невельской, я понимаю, будет трудновато, ибо вы этого не умеете. Не огорчайтесь, — и он показал ему копию письма китайцам, из которого можно было сделать вывод и о новых мерах безопасности для нижнего течения Амура и об обширной деятельности по исследованию и освоению Сахалина.
— А что вы думаете об отъезде домой? — переменив разговор, лукаво спросил Муравьев. — Да не пора ли вам, в самом деле, обзаводиться семьей? Вы никого еще не присмотрели здесь, в Питере?
— Здесь? Нет, — смутился Невельской. — Но вот, — он сунул руку в боковой карман и вынул прошение о разрешении на брак, — в Иркутске я сделал предложение Екатерине Ивановне Ельчаниновой и получил согласие… Пока, впрочем, в это никто не посвящен.
— Благословляю, вы сделали исключительный выбор, Геннадий Иванович, и я так рад за вас. Когда же свадьба?
— У меня план такой: дождаться в Иркутске пасхи и обвенчаться на «красной горке», а затем спешить к вскрытию Амура. Поеду один, уж очень тяжела и дорога в распутицу и неустроенная жизнь на месте.
— Рассуждаете вы правильно, но, дорогой, не сердитесь, вы плохо знаете вашу прелестную невесту: уж если она вас полюбила, не бросит ни при каких обстоятельствах. Готовьтесь поэтому к тяжелому путешествию вдвоем.
— Я думаю, что вы, ваше превосходительство, на этот раз ошибаетесь она так женственна и уступчива.
— Любит и безропотно подчинится, хотите сказать? Только не в этом: тут она вторая Мария Николаевна Волконская, помяните мое слово… Мне так хотелось бы вас благословить, ведь у вас нет отца… Во всяком случае, мое пожелание, чтобы ваша свадьба была у меня и чтобы вы с женой до вашего отъезда поселились у меня: пусть попривыкнет жить без своих… Дело в том… я прошу ничего до поры, до времени не рассказывать, — я устраиваю Зарина губернатором в Курск. Приказа еще нет.
— Он сам этого захотел? — удивился Невельской.
— Нет, но постоянные его ссоры с военным губернатором Запольским, который сейчас для устройства Сибири нужнее, заставили меня принести в жертву более приятного и близкого мне человека более нужному для дела, Муравьев вздохнул и замолчал.
Образ действий Муравьева заставил Невельского призадуматься: этот человек расценивал своих сотрудников прежде всего с точки зрения пригодности их для службы, а уж затем с точки зрения душевного к ним расположения, которое стояло на заднем плане. Что же заставляло его так поступать? Чистая польза для дела или тут примешивается некоторая доля пригодности данного лица для личного возвышения самого Муравьева? Ответа он не нашел, но подумал, что жизнь, по-видимому, сама подскажет ему ответ и что, во всяком случае, он, Невельской, пока пожаловаться не может, интересы его и Муравьева слились в одно русло и в одном направлении должны будут течь и дальше еще долгое время… А сам он, Невельской, по отношению к сотрудникам, каков он? И ему ясно стало, что и он расценивает своих помощников прежде всего с точки зрения пригодности для дела и что лично наиболее симпатичны ему те, которые, как и он, горят рвением сделать возможно больше и лучше и проявляют при этом свою инициативу. На вопрос, не примешиваются ли здесь, впрочем, вопросы собственной карьеры, он, не задумываясь, ответил: «Нет!»
Перед отъездом необходимо было навестить молодых Молчановых, безжалостно задержанных Муравьевым в Петербурге для помощи в его сибирских делах. Свадебная поездка их прервалась. Впрочем, кроме Муравьева, была еще и другая причина задержки — тяжелая болезнь дяди Нелли, Петра Михайловича Волконского, успевшего крепко полюбить свою племянницу за ее обаяние и красоту, заметную даже в петербургском большом свете.
В то время как Петр Михайлович, человек обыкновенный, невыдающийся, делал блестящую военную карьеру, искусно сплетавшуюся с придворной, и стал «светлейшим» и близким лицом к царю — министром императорского двора, отец Нелли, Сергей Григорьевич, в течение того же двадцатипятилетия успел сделать другую карьеру: стать разжалованным, лишенным княжеского титула и дворянства каторжником и затем повыситься до звания ссыльного поселенца.
Семидесятипятилетний Петр Михайлович поплакал над пышущей здоровьем, жизнерадостной красавицей сибирячкой и стал ее баловать, показывая все выдающееся, что было в Петербурге, и часто бывал с ней в оперном театре.
Однажды во втором действии какой-то оперы появился император, и министру двора пришлось пройти к нему, оставив племянницу одну.
— Кто это сидит у тебя в ложе? Красавица!
— Это моя племянница, ваше величество.
— Племянница? У тебя нет никаких племянниц.
— Волконская.
— Какая Волконская?
— Дочь Сергея, ваше величество.
— Ах, того, который умер…
— Он, ваше величество, жив, — радостно ответил старик, решив, что представляется удобный случай замолвить слово за Волконских.
— Когда я говорю, что умер, значит умер, — повышенным тоном заметил царь, резко отвернулся и стал разговаривать с другими.
Неожиданный ответ поверг министра двора сначала в смущение, а затем и в негодование, сопровождавшееся дома нервным и сердечным припадком.
Слов царских сказано было немного, но они красноречиво говорили о досаде Николая на то, что декабрист Волконский вопреки принятым царем мерам не только не умер, но продолжает жить сам и цвести в потомстве.
Нелли рассказала об этом случае смеясь и, обратившись к Невельскому, добавила:
— Геннадий Иванович, я рассказала это вам со слов дяди Пети, я же ничего не подозревала и в это время пялила глаза на императора из соседней с ним ложи. Дома дядя рыдал. Я вызвала доктора. С тех пор он, бедняжка, в постели. Пришлось мне поселиться там — дома удается бывать редко.
От Муравьева уже позже вернулся Молчанов. Разговор продолжал вертеться около Николая.
— Странно, — сказал Невельской, — всей Европе известно, как искусно умеет царь носить желаемую для него маску.
— Да? — улыбнулась Нелли. — Тогда послушайте… К больному дяде император приезжает ежедневно. Как только приедет, я сейчас же к себе… И вот вчера собираюсь бежать, а дядя Петя сжал руку, не выпускает и делает знак остаться. Сердце упало, но делать нечего, отвесила реверанс. Взглянул, и увидела я, что он меня узнал. Что же он сделал? Поставил стул так, чтобы меня не видеть, уселся около постели и так просидел двадцать минут. А я все время не знала, что мне делать с глазами, куда их девать: на него посмотреть страшно, потому что не скроешь ненависти, но страшно и за дядю — не вынесет моей и своей обиды. Ушел, конечно, не простившись. А с дядей после этого визита пришлось повозиться — припадок повторился.
До утра проговорили об Иркутске.
Через три дня резвая тройка уносила Невельского с неразлучным спутником подполковником Мишей Корсаковым снова в далекий Иркутск, навстречу заслуженному счастью. В ногах покоился знакомый кожаный кошель с письмами — ответами из Петербурга.
17. Свидание единомышленников
В половине марта Невельской был уже в Иркутске. Здесь он сделал официальное предложение Кате и на правах жениха проводил с ней все свои досуги, а их на этот раз было непривычно много: то в скромной квартире Зариных, то у Волконских или у одинокой в пустынном генерал-губернаторском доме Екатерины Николаевны. Оба не дичились общества, но все же не забывали и ставшего приятным сердцу пыльного архива, наполненного интересными для обоих материалами. В архиве Катю забавляло то, что здесь она выступала в роли осведомленного руководителя, в то время как в других местах сама благоговела перед тем же человеком и смущалась.
Казалось, что сизоносый старичок архивариус явно стал манкировать службой: вечно находились у него какие-то неотложные дела в генерал-губернаторской канцелярии. Он исчезал на целые дни, обязательно подчеркивая Кате перед уходом, что он не вернется совсем. При этом он с ласковой усмешкой посматривал на своих гостей и заставлял их краснеть.
— Он явно покровительствует нашему тет-а-тет, — смеялся Невельской, крепко обнимая Катю, как только захлопывалась дверь.
Другим любимым их местом была безалаберная комната чудака Сергея Григорьевича Волконского с его пахнувшими дубленой овчиной и лошадиным потом «кондовыми», по его выражению, мужиками, с подаваемым горячим, вприкуску чаем.
Недовольно фыркая, сверкающая снежной белизной накрахмаленных передничков и наколок горничная втаскивала громадный поднос со стаканами, блюдцами и сахарницей. За ней два дюжих парня волокли полутораведерный помятый и запущенный, пузатый, со старыми потемневшими потеками самовар. «Все равно изгадят», — рассуждали в людской и «князев» самовар никогда не чистили и не протирали.
Усаживаясь здесь надолго, Невельской и Катя учились у гостей и хозяина сельскому хозяйству и практической житейской мудрости. Робко спрашивали, не решаясь высказать свое мнение, а больше молчали.
Довольный удачным опытом посадки посланного на Амур картофеля, Сергей Григорьевич предлагал Невельскому отнестись к овощеводству всерьез, рекомендовал подходящие сорта капусты, моркови, огурцов. Вопросы овощеводства живо задевали гостей-сибиряков, и беседа подчас принимала оживленный характер спора.
Красотою Кати восхищались вслух, но не одобряли.
— С собою везешь? — спросил однажды Невельского почтенный и важный, стриженный в скобку, бородатый гость, прищурясь на хрупкую, стройную как тростинка Катю и, не дожидаясь ответа, решительно добавил: — Не бери, не прочно — обузою будет. Потому, — пояснил, — городская жена, красавица… Тебе не царевна-недотрога нужна, а баба-лошадь, во! — и он широко развел руками.
Невельской смутился, Катя вспыхнула и съежилась.
— Обиделась, — сказал снисходительно и добродушно старик, заметивший, как Катя стремительно выхватила из кармана платок и смахнула непрошеную слезу.
— На то воля божия, что сотворил тебя красавицей-недотрогою: тебя на руках носить, наряжать да любоваться в столице, на паркетах да на шелковых заморских коврах, а не мокрые зады детишкам подтирать, — пояснил он.
Слезы хлынули из глаз Кати. Она поднялась и вышла.
— Не хотел я обидеть, видит бог, не хотел, — примирительным тоном заговорил бородач, качая головой и обращаясь к Невельскому, собиравшемуся последовать за Катей. — Как не полюбить такую королевну! И ростом взяла и обличьем. Посади против себя и любуйся, наряжай в шелка да атласы. Это правильно… Ну, а там что будешь с ней, в Охотском, делать? Гиляки-то еще хуже наших якут!.. Да с детьми, как пойдут, как устроишь? Подумал об этом деле, ваше высокородие? В год враз загубишь красоту, а потом кручиниться будешь всю жизнь, что не сберег!
— Полно, Павел Секлетеич, пороть дурное, — вмешался хозяин, — посмотри на мою Марию Николаевну: и она жива, и дети, слава богу. И меня, как видишь, спасла. А такая же, поди, хрупкая была, как и эта барышня!
— Твоя-то княгинюшка горя немало с тобою нахлебалась, что и говорить, а лебедушкой-красавицей до сих пор осталась, верно. А как ты думаешь, ежели бы всего этого не пришлось пережить, неужто хуже бы стала? И первенца-то не потеряла бы, чай… Ну, а что бы ты сказал, ежели бы она да не выдержала?
Волконский нахмурился.
— А по-моему, так: с собой, как хочешь поступай, ты сам себе владыка, а жену тебе, богом данную, побереги.
Невельской вышел искать Катю. Нашел он ее на половине Марии Николаевны в тот момент, когда, не видя, что он вошел, она обнимала Волконскую, ласкалась к ней и взволнованно говорила:
— Все это хорошо, но ответьте мне, милая, голубушка, как всегда, прямо и честно: если бы для вас повторилось то же самое несчастье и вы знали бы о всех предстоящих мучениях, как бы вы поступили второй раз, теперь?
Мария Николаевна не отвечала.
— Ну, милая, ну, скажите! — просила Катя, уже заметившая Невельского, стоявшего в напряженном ожидании ответа Марии Николаевны.
— Я поступила бы так же, — тихо, но твердо ответила Мария Николаевна, уже отбиваясь от напавшей на нее сияющей Кати.
— Вы слышали, милостивый государь? — притворно строго спросила Катя, нахмурив брови и оборачиваясь. — Ну вот!
Положение Геннадия Ивановича, твердо решившего оставить Катю в Иркутске, стало затруднительным, тем более что он вполне разделял рассуждения «гадкого старика», как окрестила его Катя, теперь почувствовавшая под ногами почву. Из женщин Невельского продолжала поддерживать одна генерал-губернаторша. На это скромная и всегда сдержанная Катя решилась сказать, что она рассуждает, как избалованная француженка, и что ее, по-видимому, напугало трудное путешествие на Камчатку и Аян, но что русские женщины рассуждают иначе и едут сюда теперь за ссыльными мужьями сотнями.
Эта новая тема — как именно должна поступить Катя — стала злободневной, перебросилась и в девичий институт. Неделикатная публика утомляла жениха и невесту расспросами. Институтская молодежь стояла на стороне Кати. Катя превратилась в героиню и тут же почувствовала на себе тернии славы: огласка заставила отказаться от тихой, скромной свадьбы.
Подходила страстная неделя. От Кати Невельской узнал, что к этому времени, как и ежегодно, в Иркутск съедутся окрестные декабристы под предлогом говения и встречи пасхи. Такой предлог для приезда действовал у властей безотказно. Катя смеялась, рассказывая, что в свое время получил разрешение на приезд и католик Лунин и атеист Петр Иванович Борисов.
— Зачем им эти съезды, могущие повредить им? — спросил Невельской.
— Они таким образом подводят итоги своей деятельности за год… Это очень важно, — добавила она, видя удивленное лицо Геннадия Ивановича, — так продолжается и даже крепнет между ними связь. Они проводят съезды в виде дружеской беседы, но к ней готовятся, и в зависимости от того, кто присутствует из посторонних случайно, домашняя беседа принимает тот или иной характер. Свои, домашние, в случае присутствия посторонних, стараются по возможности отвлекать их салонными разговорами.
— О чем же они говорят?
— А вот придешь сам невзначай, узнаешь, тебя они стесняться не будут… Ты после исполнения поручений на положении своего.
— Кого же ждут в гости?
— Немногих — ряды редеют на глазах: Борисовы, оба Поджио, Трубецкой, Муханов да Бесчаснов… Может, кто-нибудь еще пожалует неожиданно и издалека, это бывает.
Съезд состоялся в среду…
Мария Николаевна разрешила Невельскому прийти якобы случайно, а Катю просила в этот вечер разливать чай.
Сергей Григорьевич вошел в гостиную с обоими Борисовыми, ведя под руки и слегка подталкивая упирающегося больного Андрея Ивановича. Из братьев Геннадий Иванович знал до сих пор только Петра, так как Андрей в Иркутске никогда не бывал.
Мимоходом поздоровавшись с Невельским, Андрей тотчас же освободился из-под руки Волконского, отошел в сторону и одиноко уселся в уголке, уставивши в одну точку свой грустный неподвижный взгляд. Издали он казался угрюмым и даже злым. Кое-как подстриженные усы торчали, немного спускаясь к уголкам рта плотными щетками. Длинный черный сюртук делал Андрея похожим на провинциального лютеранского пастора, а отсутствующий взгляд и тоскующая поза невольно вызывали вздох сожаления об этой бессмысленно загубленной жизни: «механхолия», определил когда-то Вольф, врач-декабрист, неизлечима. И действительно, она заметно усиливалась.
Маленький сухощавый Петр Иванович Борисов был известен Невельскому, как один из творцов, организаторов «Общества славян», педагог и знаток забайкальской флоры. Прекрасный рисовальщик, он без устали зарисовывал ее представителей и составил выдающийся гербарий. Будучи убежденным демократом, он хорошо понимал важность объединения единомышленников независимо от их социального положения и заботился о сближении славян с Северным обществом. В Сибири он сначала дичился Волконских, потом подружился и стал неизменным почитателем и искренним другом их, а через них — и Трубецких.
Странно было видеть этого некрасивого, маленького и упорного атеиста, воспитанного на сочинениях Вольтера, Гельвеция, Гольбаха, рядом с великаном Волконским. Большие вдумчивые глаза его, искрившиеся безграничной добротой и прямодушием, не забывались. Нежная доверчивая улыбка, часто расцветавшая на лице, чудесно преображала его: он становился вдруг обаятельным и близким, а обиженная складка под короткими усами молодила.
В политике он отрицал пользу военных насильственных переворотов, доказывая, что они ничего не имеют общего с революциями.
— Как мало стало нас! — сказал он с грустью Волконскому, пожимая руку поднявшемуся при их приближении Невельскому.
Не успел он получить от Невельского ответа на вопрос о делах на Амуре и дальнейших его предположениях, как в гостиную вкатился жизнерадостный и шумливый Муханов, расправляя на ходу длинные, пушистые, когда-то огненно-рыжие, а теперь серые седые усы.
— А я ехал сюда и думал: а вдруг встречусь с Невельским? Я давно этого желал, но как-то не везло — уж очень быстро вы проскальзываете мимо наших мест, — любезно заговорил он густым басом, мало подходившим к его фигуре, и энергично тряс руку опешившего от неожиданной стремительности Невельского.
— Я, знаете, — сказал он, — что думаю? Вам, пожалуй, было бы неплохо взять нас к себе в поселенцы… Вам бы веселее было, а нам потеплее — у нас тут уж очень холодно.
— Полно запугивать, Петр Александрович, он от твоих поселенцев сбежит: что ему делать с такими курилками, как мы? — снова закартавил великан Волконский. — Мы ведь только «жив курилка, еще не умер», а ему люди нужны с огнем и верой в дело. Ты, Петр Александрович, — он опасливо оглянулся во все стороны и пояснил, — смотрю, нет ли дам — ты когда родился?
Муханов сверкнул своими карими живыми глазами, высоко поднял голову на Волконского, показывая свой круглый, смешно раздвоенный подбородок, и, приподнявшись на цыпочки, доверительно сказал, тоже оглядываясь:
— В тысяча восьмисотом…
— На целых пять лет наврал, — смеясь, объяснил Волконский Невельскому и, нахмурившись, приложил ко лбу указательный палец. — В этом что-то кроется.
А дело в том, что Муханов собирался жениться на иркутской классной даме Дороховой, и жениховство его для иркутян уже не составляло тайны.
За Мухановым появился редкий у Волконских гость, Бесчаснов, из близкого от Иркутска села Смоленщины. Он точно сорвался с картинки: щеголь времен восстания декабристов — модная прическа, бачки начесом, высокий снежной белизны воротничок и искусными складками расположенный большой галстук, покрывавший всю грудь. Хорошо схваченный в талии сюртук покроем напоминал пушкинский.
Подтянутый и холеный Бесчаснов крепко держал себя в руках и в свои сорок восемь лет казался совсем молодым.
Легкое замешательство, вызванное появлением Марии Николаевны, помешало Невельскому сразу заметить приезд особенно интересного для него Сергея Петровича Трубецкого, этого знаменитого диктатора восстания, устранившегося от командования войсками и своим поведением внесшего сумятицу в организацию. Невельского удивляло, как могли остальные простить это Трубецкому и не приписывать ему всей вины за провал дела…
Худой, высокий, сутуловатый, с неправильно вытянутым овалом лица, с высоко и узко посаженными глазами и длинным-предлинным носом, опущенным к широкому рту… Старость и седина — ему было лет шестьдесят — правда, как-то сглаживали эту некрасивость, но всей своей фигурой он выражал то, что менее всего подходило под представление об образе диктатора, — полное отсутствие признаков сильного характера и воли.
Осклабившись, он обнажил малокровные десны и некрасивые, кривые, хотя хорошо сохранившиеся длинные желтые зубы и холодно протянул руку Невельскому. Осведомившись, надолго ли прибыл он, Трубецкой тотчас же обратился к хозяйке, отвечая на ее вопросы о жене и дочерях.
Странные чувства обуревали Невельского, когда он смотрел на Трубецкого и перебирал в уме события 14 декабря: конечно, выбрав Трубецкого, Рылеев и другие декабристы совершили роковую ошибку. Они были введены в заблуждение проявленной им незаурядной личной храбростью в ряде кровопролитнейших боев и безукоризненным поведением во всех общественных делах. Никому не могло тогда прийти в голову, что этот же человек готов бежать куда угодно от одной мысли о возможном пролитии крови близких ему людей и что он скорее предпочтет смерть для себя. Приговорен он был к отсечению головы. «Помилование» каторжные работы и ссылку — принял безропотно и весь ушел в религию и мистицизм. От религиозного помешательства спасла его своей нравственной поддержкой приехавшая почти одновременно с Волконской жена.
Невельской смотрел на него с чувством какого-то сожаления и протеста здорового человека против нравственного калеки, которого почему-то считают нормальным и здоровым.
На приглашение Марии Николаевны к чаю Волконский спросил:
— А Поджио не подождем?
— Поджио давно в столовой и напропалую любезничает с Катей, усмехнулась она, лукаво сверкнув глазами в сторону Невельского, — этот старый итальянский любезник просто становится опасным.
Направились в столовую, Сергей Григорьевич подошел к Андрею Борисову и протянул руку. Андрей встал и беспрекословно пошел за Волконским, как автомат, ничего не видя перед собой широко открытыми немигающими глазами.
Длинные, спускающиеся книзу белые как снег волнистые волосы Поджио и холеная борода живописно оттеняли тонкие итальянские черты лица. Он был в ударе и вел оживленную беседу, стараясь вызвать улыбку на лице у Кати, смущением которой откровенно любовался. Видя это, Катя старалась укрыться за большим пыхтящим самоваром, но это удавалось плохо, и она застенчиво краснела. Поджио встал навстречу к подходящему к нему от Кати Невельскому, помахал рукой в сторону Петра Ивановича Борисова, подавая знак глазами на место около себя, протянул через стул левую руку усаживающемуся Волконскому. Мария Николаевна заняла место наискосок от Кати, против Поджио, и, взглянув на него, покачала укоризненно головой. Сесть около себя предложила Невельскому. Рядом с ним, по левую сторону, уселся больной и безразличный ко всему Борисов, дальше Муханов, а в конце стола против самовара занял место сумрачный Трубецкой.
Оглядывая гостей, Волконский сказал:
— Ну вот, еще один, двадцать пятый годик минул… Не знаю, как вы, я признал эту новую мать — Сибирь и думаю, что она, несмотря на строгость и суровость, проявила по отношению к нам во всей силе свое отзывчивое и доброе сердце. Я ее полюбил.
— Волконский, чего доброго, совсем не пожелает уехать отсюда, насмешливо прибавил Муханов, поглаживая усы.
— Вы изволите шутить, мосье, — возразил Поджио, — а перечтите-ка по пальцам, что она нам дала.
— Я вам перечту, что она у нас отняла, хотите? — предложил Петр Иванович и отогнул палец. — Во-первых…
— Положим, это не она, а кто-то другой, — мрачно изрек, ни к кому не обращаясь, Трубецкой, — но и тот только орудие в руках божьих. Вы мало об этом думаете, господа, а я, оглядываясь на прошлое, прямо скажу, что промысел божий оградил нас и наши души от пагубы той жизни и скверны, которая именуется «блестящей карьерой». Я благодарен провидению за сотворенную им для меня семейную жизнь, за моих прекрасных детей.
— Тем лучше для вас, — продолжал Борисов, — но не для всех нас. У нас отняли самое дорогое — наше святое дело. Этого не вернешь никакими провидениями.
Никто, кроме Невельского, не обратил внимания, как тихонько вошедшая горничная, близко наклонившись к Марии Николаевне, скороговоркой сказала ей несколько слов и удалилась. За ней быстро поднялась и вышла Мария Николаевна.
— Я думаю, — примирительно ввязался в разговор Волконский, что истина между нами где-то посредине. Мы охотно обвиняем других, а себя критикуем весьма редко. Никто ничего у нас не отнимал, мы сами уступили то драгоценное, что нас в жизни окрыляло. Но я не раз задавал и задаю себе вопрос: а как прожил бы я, если бы можно было начать жизнь снова? Да, наши убеждения привели всех, и меня в том числе, в верховный уголовный суд, на каторгу и пожизненное изгнание. Но клянусь, ни от одного слова своего и сейчас не откажусь!
Он замолчал и в изнеможении откинул назад голову на спинку стула.
— Волконский, успокойся, — раздалось со всех сторон, — мы те же, не изменились, ты не одинок.
Слова Волконского рассеяли опасения Невельского: декабристы сохранили себя. Как хорошо! Он забыл, а теперь вдруг вспомнил о Кате и поймал ее все еще восторженный взгляд, который она не сводила с Волконского.
По столовой бледная и явно взволнованная прошла Мария Николаевна и вполголоса сказала мужу:
— Выйди, там письмо от Лунина.
— От Лунина? — воскликнул Поджио, покачнувшись и тут же опустившись на пол.
— Жив? — вскочил Андрей Борисов.
Все бросились к Поджио — он был в обмороке, однако тут же очнулся и, виновато улыбнувшись, сказал:
— Извините, я так взволнован — ведь это голос с того света… Неужели он жив? Не может быть!
Столпились у входа в столовую. Впереди — поддерживаемый под руки Поджио. Навстречу быстро шагал Волконский, разворачивая на ходу какую-то грязную длинную тряпицу и стараясь вынуть из нее бумажный, склеенный ржаным хлебом пакет. На пол высыпались крошки хлеба.
— Вот, — сказал Волконский, торопливо занимая свое место за столом, и осторожно начал вскрывать столовым ножом пакет.
— Как? Откуда? — раздались нетерпеливые голоса.
— Каторжник-поселенец из Акатуя, — объяснил Волконский, — хранил письмо шесть лет… Потом расскажу подробнее. Выслушаем и его самого — он прислуживал Лунину последние два года. Я отправил его отдохнуть — он пробирался пешком.
Из разрезанного пакета на скатерть посыпались листки бумаги различного формата и цвета, исписанные карандашом, углем и чем-то бурым. Сгрудившиеся поближе гости невольно решили, что перед ними послание, писанное кровью.
Захвативши обеими руками опущенную над листками голову, Волконский старался вглядеться в кривые каракули знакомого почерка, но слезы застилали глаза.
— Нет, не могу, — выговорил он через силу, — разберись ты, — и осторожно передал листки Петру Ивановичу Борисову, а сам, уже не скрывая слез, продолжал всхлипывать, прикрывая глаза носовым платком. Впрочем, плакали все: плакала Мария Николаевна, смотря прямо перед собой глазами, полными слез, открыто плакала Катя, забывшая о самоваре, и громко сморкался Поджио, не замечая уже соседства Кати. Низко опустив головы, отворачивались от соседей остальные, кроме снова ставшего неподвижным Андрея. Невельской, сжав губы, тоже сидел, не шевелясь, потрясенный таким проявлением чувств присутствующих к давно ушедшему из мира другу.
Ближайший адъютант наместника в Польше Лунин пользовался и доверием и благоволением Константина. Последний, однако, хорошо знал нрав своего брата и, получив из Петербурга требование об аресте, вызвал Лунина и, вручая ему заграничный паспорт, сказал:
— Уезжай немедленно.
Лунин поблагодарил и, возвращая паспорт, твердо ответил:
— Я разделяю их убеждения, разделю и наказание.
Лунина хорошо знали все, но лучше всех Волконские — и старшие, и дети. Он являлся трибуном декабристов и строгим прокурором Николая и его опричников. Его бичующая сатира, преподносимая в самой безукоризненной форме в письмах к сестре, в правильном расчете, что прежде адресата их прочитают глава жандармов и царь, беспощадно хлестала непрошеных чтецов прямо в лицо. Но до того как письма попадали к ним, они размножались и ходили по рукам, поддерживая огонь непримиримости.
Афоризмы заучивались, как молитвы, наизусть… Не трудно было предвидеть конец: по личному повелению царя, после тщательнейшего обыска, лишенный решительно всех вещей и в первую голову книг, Лунин был переведен в Акатуйский рудник в «одиночку», без права встречаться с кем бы то ни было. Местопребывание его официально было объявлено неизвестным.
И тем не менее и оттуда он ухитрился переслать Волконским несколько писем, предназначенных, конечно, для всех…
«Государственный преступник Лунин умер скоропостижно 3 декабря 1845 года», — доносили царю.
Ни Борисов, ни Поджио, к которому перешли листки Лунина, не в состоянии были прочитать ни одного слова. Волконский взялся разобрать их понемногу… Разошлись молча. Так расходятся с кладбища родные, бросив последний взгляд на дорогую могилу.
18. Свадебное путешествие
Невельской в Иркутске зажился: в этот год пасха приходилась на 8 апреля, и венчаться можно было на «красной горке», не раньше 16-го. Стали навещать привычные тревожные мысли о вскрытии Амура, о начале навигации и брошенном в Петровском Орлове, об уехавшем по зимнему пути в Якутск Корсакове для подготовки заселения тракта Якутск — Аян.
Тяжело было смотреть на ссоры и дрязги заместителей отсутствующего Муравьева. Они распоясались еще во время его болезни, теперь же оспаривали друг у друга первенство.
Близость к дому Зариных поневоле вводила прямолинейного и брезгливого к интригам и подвохам Невельского в их атмосферу. Бедный Струве вертелся ужом между враждующими сторонами, улаживая их столкновения. Неугомонная кипучая натура Невельского требовала движения, дела — начало навигации было не за горами.
Чуткость Кати тотчас же заставила ее почувствовать перемену в настроении жениха, несмотря на все его усилия скрыть свои переживания. «Заскучала» и Катя…
Избранная Катей для венчания Крестовская церковь поражала своими громадными размерами. Здесь хоронили знатных иркутских горожан и крупных чиновников. Церковь стояла на отлете, в самом конце Заморской улицы, почти за городом.
— Что за выбор? — удивлялись знакомые.
— Люблю! Оттуда вид на окрестности красив, да поменьше народу будет не захотят тащиться за город, — смеясь, объясняла Катя Невельскому свою причуду.
Однако ни мороз, ни пронизывающий ветер и слепящий снег никого не остановили. Битком набитая церковь не вмещала народа. Толпы его, освещаемые колеблющимися кострами разбитых смоляных бочек, и бесчисленные возки и сани, наседающие друг на друга, беспокойные лошади, беготня осипших от крика кучеров и ямщиков — все это представляло кипящий клубок.
— Видишь, как хорошо! — показала счастливая и гордая Катя, глядя с паперти на волнующееся море людей у их ног.
— Ура-а!..
— Это тебе за Амур! — сказала она. — Теперь можешь понять, как к тебе относятся сибиряки! Ты для них легендарный богатырь, отвоевывающий у каких-то темных сил близкий их сердцу, овеянный темными сказаниями Амур… Я это знала… я предвидела… и этого так хотела! Как мне хоте…
Катя не успела кончить, как вместе с Невельским очутилась на руках толпы людей, которые донесли их и опустили у раскрытых дверец генерал-губернаторской кареты. Несмолкаемое «ура!» долго еще слышалось позади освещенной фантастическим заревом церкви.
Прием гостей у генерал-губернатора заставил принести поздравления молодым буквально все чиновничество и купечество. Генерал-губернаторша гордилась: и ужин и бал удались на славу, и только падающие от усталости музыканты заставили танцующих вспомнить об отдыхе. Разъехались уже при ярком солнце неожиданно погожего после бурной ночи утра.
Для молодых начались трудные дни: прием у Зариных, шумный бал с живыми картинками у Волконских, бал с ночевкой и бешеным катанием на лошадях, собаках и оленях за городом у Трубецких и, наконец, двухдневный бал у наследников покойного иркутского оригинала миллионера Ефима Андреевича Кузнецова, скоропостижно умершего и не успевшего насладиться ласкающим слух титулом «превосходительство»: запоздало производство. Этот оригинал и честолюбец в течение нескольких лет успел пожертвовать полтора миллиона рублей на создание и содержание учебных заведений, украшение любимого города и разные другие дела. Гордясь Россией, он болезненно переживал амурские и другие злоключения Невельского и Муравьева. Перед энергией Муравьева он преклонялся, а Невельского боготворил.
— Не сдавайся, Геннадий Иванович, — говаривал он Невельскому, когда тот сетовал, что на парусных судах трудно исследовать узкие и извилистые протоки лимана. — Пароходы нужны?.. Сто тысяч на первое время хватит? Не хватит, дам больше!
Наследники приуныли было, видя, как быстро тает ожидаемое ими наследство, а старик не унимался и с нетерпением ждал известия о благополучном окончании дела Невельского, чтобы достойно отметить успех, но, увы, не дожил. После его смерти наследству больше ничего не угрожало…
— Глубоко скорбя о преждевременной смерти любимого батюшки моего Ефима Андреевича, — говорил, всхлипывая, пьяненький, уже немолодой сын, дождавшийся, наконец, отцовских денег, — мы, дети незабвенного родителя, зная, как он уважал и любил капитана первого ранга и кавалера Геннадия Ивановича Невельского, почли за счастье пойти по стопам любезного папаши и свято выполняем его волю: мы оформили передачу на построение первого парохода на Амуре ста тысяч рублей и сверх сего еще пятидесяти тысяч на строительство малого, но мощного парохода для исследования протоков лимана… — Тут он вскрикнул: — Музыканты! Туш! — и торжественно передал Невельскому обязательство при громких рукоплесканиях публики.
Как оказалось на следующий день, обязательство было написано еще покойным Кузнецовым и составлено на имя Муравьева! Геннадий Иванович смеялся:
— Хорошо, что не скрыли письма, а ведь могли… Теперь же мы войдем в Амур на буксире двух пароходов! Ура! — И он, обнявши Катю, вальсировал по комнате и по-мальчишески вскрикивал: — Ого-го! Ура!
До Качуга, что в двухстах пятидесяти верстах от Иркутска, на Лене, приходилось ехать по тракту на лошадях. Геннадий Иванович с Катей часто выезжали из города верхом посмотреть, как подсыхает дорога, да, кстати, постепенно закаляться для предстоящего путешествия. Через неделю поездки в сорок-пятьдесят верст уже казались Кате прогулкой.
— Вот видишь, Геня, как хорошо вышло, — усмехаясь ему своей открытой улыбкой и блестя зубами, говорила она, — я окрепла, втянулась в верховую езду и теперь никакой дороги не боюсь, особенно с тобой. Подумай, как бы ты теперь волновался, если бы не было этих наших упражнений! Ведь вследствие грядущего переезда дяди в Курск мне все равно пришлось бы либо уехать с ними и видеться с тобой два-три дня в году, а то и в два года, либо прозябать одной-одинешенькой в Иркутске, думая дни и ночи о тебе и волнуясь. Такую ты готовил мне жизнь? И это по-твоему любовь?
Однако желанный день отъезда превратился в день слез. Не рассеяла их и веселая скачка вперегонки с провожавшими. Справиться с собой Катя не могла до самого Качуга. Отсюда предстояло плавание по течению тихой Лены до самого Якутска «в челноке». Так по крайней мере уверял ее муж.
«Челнок», однако, на самом деле оказался целым кораблем невиданной на Лене формы, с обширной каютой «для нашей семьи».
— Царствуй! — сказал Геннадий Иванович, вводя туда Катю.
— Когда же ты успел построить корабль? — удивилась Катя.
— Я не строил, а только чертил. Сегодня он получает имя «Катя».
Началось плавание.
Молча, пугливо прижавшись к мужу, Катя подолгу всматривалась в отвесные стены страшных черных обрывов, ронявших в воду громадные зазубренные каменные глыбы. Черные скалистые обрывы сменялись красными песчаными и желтыми известняковыми. Полные угрюмой красоты и таинственности, покрытые могучей спокойной лиственницей и боязливо трепещущей осиной, они пугали своим загадочным молчанием и безлюдьем. Временами казалось, что редкие скаты гор изрыты пещерами, таят в своем сумраке каких-то великанов.
Становилось все холоднее и ветренее. Сердитые волны разбушевавшейся реки бросали суденышко из стороны в сторону, то грозя вышвырнуть его с размаху на берег, то вдребезги разбить о хмурые мокрые отвесные скалы. Перемогая тошноту, Катя выходила на палубу и часами, не сводя глаз, любовалась ледяным спокойствием мужа, не сходившего с мостика, а подчас берущего в свои руки штурвал. Она уже не боялась проносящихся мимо, чуть не вплотную к бортам, каменных зубчатых загородивших реку «щек» и похожих на усеянную громадными булыжниками мостовую порогов, прикрытых бешеным бурлящим потоком ледяной воды. С таким, как ее Геня, не страшно!
А погода портилась и портилась, и сквозь завесу дождя и мокрого снега, при вое злобного и холодного ветра, с каким-то остервенением срывающего гребни с высоких волн и изо всех сил бросающего их пригоршнями то в лицо, то в спину рулевого, ничего не было видно: ни с палубы, ни в круглые иллюминаторы каюты. Ни писать, ни читать, ни спать… С палубы, куда Катя все же время от времени старалась пробраться, «он» стал гнать. И гонит как-то необычно повелительно, пожалуй, даже грубо. Оставалось молчать и плакать. Близкий уже Якутск казался каким-то желанным раем.
Лена была еще в разливе — море воды! А шли они почему-то крадучись, спустили все паруса, кроме маленького треугольного. Катя негодовала: почему «он» не торопится? Тут-то есть где разгуляться, а «он» становится все осторожнее и осторожнее и уж совсем перестал сидеть с нею: придет, посмотрит отсутствующими глазами, как-то рассеянно обнимет и опять на палубу, — тяжело и обидно… Решилась:
— Почему спустили паруса, когда ветер, кажется, верховой, попутный?
Невельской с удивлением посмотрел на Катю.
— Капитаны, когда им задают подобные вопросы, молчат — они считают их неделикатными, господин адмирал!
— Объяснитесь все-таки, капитан, — старается она попасть в тон, — перед вами слабая женщина, которая доверила вам свою жизнь!
— Вот это-то и заставляет капитана быть особенно осторожным. Наклонитесь над бортом и всмотритесь: мы несемся над затопленными кустами и лесами, и, если судно наскочит на что-нибудь, оно может пропороть днище или повернуться боком и опрокинуться. Мы мчимся не по руслу, а по бесчисленным протокам около Якутска, летом просыхающим и зловонным. Я ищу фарватера и пока не нахожу… Вы удовлетворены ответом, господин адмирал?
— Да.
Якутск насмешил Катю церемонными приемами, на которых пришлось играть роль солидной дамы, и тронул до слез заботливостью недавно приехавшего Миши Корсакова: он приготовил для Кати «качку» — гамак на длинных жердях, прикрепляемых к гуськом идущим лошадям.
Стало чувствоваться утомление, а впереди еще больше тысячи верст по горам и лесам! Утомился и Невельской и, устроивши дневные дела далеко растянувшегося каравана, спал в качке как убитый. Катю в ней укачивало, и она тряслась в седле.
Срывая ветки, Катя безнадежно щекотала сонного, но зато на привалах сама без чувств валилась на землю и, пригревшись у костра, засыпала без ужина до утра. Рассказы о ночных посещениях и проделках медведей были уже только любопытны и смешили: медведи стали как-то ближе — своими, и встреча с ними не пугала.
Прошло три недели — цель пути, Охотск, маячил перед сонными, усталыми глазами. Геннадий Иванович озабоченно поглядывал на небо, — во всю мочь развернулась весна: звенели ручьи, с зарей в туманах стонало, свистело, трещало и гулко хлопало крыльями пернатое царство. Днем немилосердно припекало солнце, ночью хрустел под ногами ледок. Катя покачивалась в седле и, крепко стиснув зубы, стараясь владеть собою, безучастно смотрела на оживающую природу. Наморщив лоб и насупив брови, она не могла прогнать неотвязно сверлившей мысли, выдержит ли она до конца пути. С отчаянием вспоминала уютный Иркутск и свое упрямство и раскаивалась и мучилась, видя, как озабочен муж, как притихли спутники. По ночам била их лихорадка приходилось сознаваться в том, что и она не только обессилела, но и захворала.
Со страшных крутых высот Джугджура ее, уже в бреду, спускали на руках. Геннадий Иванович растерялся и считал ее погибшей, а себя — виновником ее смерти. Перед ним живым укором вставал старик с сивой бородой, напророчивший ему несчастье. Караван еле двигался. Суровый и неуютный Охотск казался несбыточным счастьем…
Катю несли на качке люди, сами выбившиеся из сил. Несли, взбираясь по мокрым крутым скалам, и спускались по крутизнам, прислушиваясь иногда к бреду и стонам.
Последний привал пришлось сделать в виду Охотска, на открытом сухом месте. Тихо поставили люди расседланную качку на козлы и молча отошли, косясь на низко склонившегося над ней Геннадия Ивановича. Он осторожно снял наброшенное на мраморное лицо покрывало и дрожащими руками старался нащупать на крестообразно сложенных, как у покойника, руках пульс, но не сумел…
Неосторожное движение — и ослепительный горячий луч больно ударил по зажмуренным глазам. Ясно затрепетали синеватые прозрачные веки.
— Жива!..
Он схватил Катину голову и, пристально всматриваясь, приблизил к себе. Глаза открылись, и зашевелились губы. Бред?.. Нет, Геннадий Иванович ясно услышал:
— Геня, я для тебя оказалась обузой! Прости! — и поднявшиеся было веки опять сомкнулись.
Геннадий Иванович опустил голову. Да, жизнь, которую он создал для этой хрупкой женщины, оказалась ей не под силу, — он сгубил ее, любимую…
Но спустя три часа, когда усталые люди приостановились, чтобы смениться, не отходивший ни на шаг от качки Невельской неожиданно услышал вопрос:
— Неужели подходим к Охотску? — и протянувшаяся вверх рука легла на его волосы. Покрывая бледные холодные руки поцелуями, он старался согреть их, а она шептала, что не больна, а просто обессилела, и улыбнулась.
— Увидишь!
И Катя сдержала слово: через три дня на палубе любимого мужем «Байкала», легко опираясь на его руку, она хлопотала о том, как удобнее устроить прибывших на нем сюда жен пяти казаков, и следила за погрузкой случайно приобретенной в Охотске полной обстановки спальни, столовой и даже будуара, не хватало только клавикордов, без которых будет трудно записывать песни. Впрочем, было не до них: из Аяна не прибыл навстречу кораблю «Охотск». Он должен был доставить из Аяна в Петровское снаряжение для экспедиции и товары Российско-Американской компании для торговли и сближения с туземцами. Отсутствие «Охотска» тревожило. Невельской нервничал и снова раскаивался, что слишком рано бросил на произвол судьбы Дмитрия Ивановича Орлова.
Тревога росла. «Охотска» ее оказалось и в Аяне… Здесь распространились слухи, что Петровское зимовье разграблено, а люди убиты. Приходилось причислять к жертвам ограбления гиляков и «Охотск». Катя почему-то почувствовала себя виновницей всех этих несчастий, притихла и молча сидела в углу, прислушиваясь к гаданиям мужчин о злой участи неутомимого Орлова со всем семейством, людей только что открытого российского Николаевского поста, с трудом созданного Петровского зимовья и бесследно исчезнувшего корабля.
В Аяне было шумно и тесно, но не весело. Неприступный и молчаливый доктор Орлов, робевший перед Катей приказчик компании Березин, застенчивый штурман Воронин, топограф Штегер, безусый двадцатилетний лейтенант Бошняк, солдаты и казаки экспедиции с женами и детишками… Тщетно пыталась Катя разговорить мрачного доктора, вытянуть из него какие-нибудь предположения и планы о его будущей работе среди туземного населения.
— Не трудись, — смеялся Невельской, — он вроде каменного пограничного столба, выдуманного Миддендорфом: ничего не говорит. Займись остальными.
На Бошняка доктор поглядывал недружелюбно и косо:
— Петербургский, едва вылупившийся из яйца цыпленок!
Недоверчиво поглядывал на Бошняка и Невельской.
Решили обойтись как-нибудь без «Охотска».
Стоявший на якоре компанейский барк «Шелихов» помог кое-как разместиться по-новому и погрузить все годовое снабжение и компанейские товары. Невельской стал приглядываться к новым подчиненным.
19. На Петровской кошке
В непроницаемом тумане гремели невидимые цепи, хлюпала вода, откашливались и топали по звонкому настилу палубы невидимые люди. «Байкал» и «Шелихов» становились на якорь. Из предосторожности решили пока не давать о себе знать на берег. Разгадку исчезновения «Охотска» и мертвого молчания Петровского поселения откладывали до утра.
Плотный утренний туман по-прежнему не позволял осмотреться и определить, где именно находятся корабли, а проглоченный туманом пушечный выстрел, не подхваченный обычным звонким эхом, казался зловещим предзнаменованием. К полудню потянул холодный ветерок, туман поредел, но только стали подтягиваться шаг за шагом к берегу, чтобы предпринять рекогносцировку, как налетевший шквал поднял «Шелихова» и бросил на мель. Недобросовестно, кое-как сколоченный в Америке корабль тотчас потерял всю носовую обшивку и, раскачиваемый боковой волной, тут же стал тонуть.
Еще один выстрел разорвал тишину, но ответа по-прежнему не последовало. С «Байкала» и «Шелихова» торопливо спускали шлюпки: надо было спасать сбившихся в кучу людей, с ужасом взиравших, как вода подступала к самой палубе. Женщины молились, держа на руках ребят, и взывали о помощи. К берегу, к воде, спешили и махали руками какие-то звероподобные люди. Успокоительные слова моряков не действовали, «Байкал», не рискуя собой, не смог подойти поближе… Через минуту и он очутился на мели. Ветер крепчал, а перехлестывающие через палубу волны слизывали с нее и сбрасывали в воду сложенный под брезентами скарб…
Нелепо и медленно переваливаясь тонкими кривыми ножками с резными спинками, плыли стулья, кресла, нырял почему-то одним боком диван, из раскрывавшихся и снова захлопывавшихся дверок сыпались в воду безделушки, флаконы, портреты в рамках, белье, показывали мокрые блестящие спины свернутые ковры и тут же тонули…
Застывшими, непонимающими глазами смотрела Катя на гибель своей мечты устроить здесь, в лесах и болотах, культурный уголок… Потом как-то внезапно очнулась, встряхнула головой, поманила поближе к себе сгрудившихся неподалеку женщин и неожиданно спокойно сказала:
— Не бойтесь, я без вас, дорогие мои, не сойду! Сейчас подадут нам шлюпки.
Подбежавшие женщины обступили ее, обнимали колени, умоляли спасти детей.
— Я не сойду! — вскрикнула она в ответ офицерам, требовавшим сесть в шлюпку. — Вот! — и повелительным жестом она указала на женщин…
Смешавшиеся от неожиданного отпора офицеры повернули назад.
Погрузка людей с «Шелихова» на «Байкал» шла успешно, но волны работали над разрушением «Шелихова» еще успешнее: страшно было за судьбу годового продовольствия экспедиции…
— Ваша супруга сходить не хочет! — доложил Невельскому капитан «Шелихова» Мацкевич.
— Что-о! — заорал тот, как ужаленный, и, не прерывая распоряжений, приказал: — Возьмите силой!
Через минуту барахтавшаяся в сильных руках и оскорбленная насилием Катя была брошена в лодку. Она задыхалась от негодования, но скоро успокоилась, когда увидела спасенных женщин, теперь дрожавших уже за судьбу оставшихся на «Шелихове» мужей…
— Мой муж тоже там, вместе со всеми! — успокаивала Катя плачущих. — Там не опасно.
Люди на берегу оказались гиляками, соседями Петровского, до которого не дошли десяток верст.
Барк разгружали несколько дней. Значительная часть запасов погибла…
На Петровской кошке все оказалось благополучно — Орлов просто не слыхал выстрела. На якорях на рейде, стоял русский корвет «Оливуца», командир которого Сущев бросил тотчас на спасение «Шелихова» весь свой экипаж…
Изогнувшаяся длинной дугой, нырнула в море песчаная унылая кошка. Три бревенчатых домика для нескольких десятков человек команды, офицеров и семьи Орлова. Ни кустика кругом, ни травинки. Кошку резко отрезала от остального мира плотная стена угрюмого и безмолвного векового леса.
— И это все?
Катя присела на невыкорчеванный мокрый пень, сгорбилась и поникла головой. Минут через десять, однако, справившись с собой, сосредоточенная, прямая, высокая и величественно красивая, она прошла в казарму устраивать семейных. Не выплакавшие всех слез женщины продолжали всхлипывать, уткнувшись носами в уцелевшие подушки, теперь уже о погибших в море кастрюльках и сковородках. Некормленые ребята пищали.
— Полно, душечки, плакать! Всем тяжело!.. Обживемся, да еще как! раздался бодрый голос Кати. — Давайте устраиваться как-нибудь. А прежде всего накормим ребят. Молоко не пропало? Давайте обсудим вместе, как и что делать дальше.
— Не чаяли мы никак, не гадали! — раздались голоса. — Мы думали, заживем на раздолье! А тут на тебе — ни кола, ни двора!
— Сами будем устраиваться, как захотим. Ну, давайте прежде всего молоко… У нас всего три коровы; потребуем по три кружки каждой матери на детку! Идет?
— А остальное?
— Остальное — больным, когда случится, и слабым. Правильно?
— Правильно, — повеселели женщины.
— Молочное хозяйство от мужчин отберем. Кто возьмется за молочное хозяйство?
— Аграфена Ивановна, — дружно заявили все.
— Теперь квартира. Где тут поставить перегородки и устроить кухню? Общей кухней будет ведать стряпуха, при ней кухонный мужик.
— А ты? — раздался чей-то робкий голос.
— Я?.. У меня тоже орава не малая: тут не то что накормить, это пустяки, тут одной штопки белья не оберешься.
Увлекшись своими разговорами, не видела, как тихонько подошел и в изумлении остановился Геннадий Иванович: вместо шаловливой Кати перед ним стояла зрелая женщина — хозяйка, умевшая, когда нужно, распорядиться, устроить. Вот она какая! И откуда у нее эти русские, простые слова?
— Я ненадолго, — сказала женщинам Екатерина Ивановна, поворачиваясь к мужу, — управляйтесь тут поживее. Ублажу своих, зайду еще, потолкуем об огороде.
— Вот что, — тотчас же заговорила она пораженному мужу, — пришли нам, голубчик, сегодня в казарму плотника поставить перегородки и засади его, и из солдат, кто умеет, делать столы, табуреты, кровати.
Невельской поморщился.
— Если будет возможно… Людей мало, Катя.
— Нам нужны мастера, взамен мы освободим двух, не нужных нам, — и она объяснила, каким образом.
— Хорошо, — сказал Невельской и запнулся.
— В чем дело? — спросила она спокойно.
— Я должен уехать: около Николаевского поста маньчжуры подстрекают против нас гиляков — не дали Орлову рубить лес. Пришлось приостановить строительство…
— Да, — немедленно согласилась Екатерина Ивановна и добавила: — И чем скорее, тем лучше: надо восстановить наш русский авторитет.
Это быстрое согласие, не сопровожденное ни одним словом сожаления о разлуке, больно кольнуло самолюбие влюбленного Невельского. Обида не прошла и тогда, когда с Катиной стороны последовал полный беспокойства вопрос:
— Надолго ли?
Кое-как устроившись на ночь в одной из двух комнаток Орлова, Екатерина Ивановна долго не могла сомкнуть глаз. Амур встречал их рядом неприятных сюрпризов: потерей продовольствия и имущества, гибелью «Шелихова» и «Охотска», выброшенного, как оказалось, бурей на берег, визитом каких-то американских кораблей и возмущением гиляков… «Что это, скверное предзнаменование или просто вызов на борьбу? Надо держать себя в руках… Завтра же напишу письмо Марии Николаевне Волконской».
И, успокоившись, она крепко заснула.
С утра закипела работа: в Петровском завизжали пилы и застучали молотки. Поливали огород, разбитый Орловым; разбивали площадь под новый большой; толковали насчет устройства парников, сруба для колодца… Невельской решился ехать, не ожидая разгрузки «Шелихова».
Бошняк, Березин, двадцать пять солдат на байдарке и вельботе составили отряд для разведки.
Не оставил Невельской в покое и остальных членов экспедиции: мичман Чихачев с «Оливуцы» и топограф принялись за съемку южной части амурского лимана.
Оставшийся пока в Петровском Орлов приготовлял материалы для постройки дома — начальнику экспедиции и второго, для казарм, — запасался на зиму топливом и готовился к далекому походу на шлюпке для обследования реки Амгунь и Хинганского хребта. Высказанное Невельским неудовольствие нерешительными действиями Орлова в Николаевском угнетало его, сделало необщительным и угрюмым.
Екатерина Ивановна почувствовала себя одинокой. Заходили, правда, изредка офицеры с «Оливуцы», она была им рада, но они как-то дичились.
Закончились работы по спасению грузов «Шелихова». Сущев охотно поделился своими запасами: к чаю и манной каше появился сахар. Немного повеселели, но долгое отсутствие Невельского смущало и беспокоило…
Вернулся он только через месяц. Чихачев и топограф, закончившие работу на лимане, тоже вернулись и, не отдохнувши, тотчас же отправились с Орловым на Амгунь и к Хингану.
— А где же Бошняк? — спросила Екатерина Ивановна.
— Бошняка я назначил командиром Николаевского поста. Березин — его помощник и уполномоченный Российско-Американской компании — торгует. Там уладилось все просто, и, что всего забавнее, гиляки теперь усердно помогают строиться — рубят и таскают лес, — пояснил Невельской. — Жаль, что сама не увидишь, как бойко идет с ними торговля у Березина.
Плохо устраивалось дело с почтовыми сношениями. Правда, взявшиеся за почту тунгусы принимали пакеты на Аян охотно, но внушить этим детям природы важность дела никак не удавалось — на «писку» они смотрели, как на нечто хотя и весьма таинственное, но несерьезное: письма пропадали или доходили до Аяна через случайные руки с таким опозданием, которое исключало возможность руководить действиями подчиненных. Эго раздражало обе стороны…
— А все же что ты думаешь о декабристах? — спросила мужа Катя на следующий день.
— Что я думаю? Да почти что ничего. Тогда дело прервалось неожиданным письмом Лунина «с того света», и все оборвалось: я только успел узнать, что они существуют и не изменились, но их сущности, чем они живы, так и не узнал.
— А если я вам, господин Невельской, преподнесу лунинский катехизис, что вы на это скажете? — Она помахала над головой какой-то тетрадкой, вынутой из ящика комода.
— Там увидишь, — обнял ее Невельской и ловким движением выхватил из ее рук тетрадку. Это было письмо Лунина, в котором он собрал то, что ему хотелось оставить в наследство друзьям-единомышленникам.
Письмо стало любимым чтением на прогулках Кати вдвоем с мужем в лесу; оно не только читалось, но и подолгу обсуждалось.
«Я хочу, — писал Лунин, — чтобы эти немногие, заветные мысли жили в ваших сердцах и сердцах ваших потомков до тех пор, пока они не обратятся в действительность. Умру с уверенностью в этом, и умирать мне будет легко…»
«Настоящее житейское поприще началось со вступлением нашим в Сибирь, где мы призваны словом и примером служить делу, которому себя посвятили…»
«Политические изгнанники образуют среду вне общества, следовательно, они должны быть выше или ниже его. Чтобы быть выше, они должны делать общее дело».
«Как человек — я только бедный ссыльный, как личность политическая представитель известного строя, которого легче изгнать, чем опровергнуть…»
«От людей можно отделаться, но от их идей нельзя…»
«Через несколько лет те мысли, за которые приговорили меня к политической смерти, будут необходимым условием гражданской жизни…»
«Плоды просвещения: возможность изучать основы управления и противопоставлять права подданных притязаниям государя…»
«Основы общественного порядка, безопасности и мира заключаются в народе, а не в правительстве, которое притязает на право распоряжаться этими благами. Вообще оно получает больше, чем дает, а круг его действия более ограничен, чем оно воображает…»
«Доказательством, что народ мыслит, служат миллионы, тратимые с целью подслушивать мнения, которые мешают ему выразить».
«Неусыпный надзор правительства над сподвижниками в пустынях Сибири свидетельствует о их политической важности, о симпатиях народа, которыми они постоянно пользуются, и о том, что конституционные понятия, оглашенные ими под угрозою смертною, усиливаются и распространяются в недрах нашей обширной державы».
— Катя, Катюша! Ведь это все то, что я хотел сам рассказать твоим декабристам, потому что то, о чем пишет Лунин, существует и крепнет на самом деле, а они, посмотри-ка, сами до этого добрались умозрительно, понимаешь, у-мо-зри-тельно, а?
Дома, вечерами, Невельские прилежно изучали привезенные материалы об Амуре. Катя недаром провела время в иркутском архиве, да и Невельской не зевал со своими офицерами. Кое-что извлек и в Якутске, не считая того, что привез из Петербурга.
Корвет «Оливуца» ушел, Невельской замкнулся в себе и вынашивал планы дальнейших действий.
Вопросов, собственно говоря, было только два — пограничный и морской, но ни для того, ни для другого не было ни людей, ни средств. Кроме того, связаны были руки прямыми запрещениями из Петербурга. Там распоряжались, ничего не понимая, представляли себе, что туземные племена являются каким-то организованным целым, вроде княжества, руководимого своими князьями, и присылали нелепые наставления о заключении договора с ними…
Во всяком случае, для разрешения этих вопросов необходима была предварительная рекогносцировка и на суше и на море: для первой надо было довольствоваться собственными ногами, в редких случаях собаками, оленями и лошадьми, для второй — шлюпками, гиляцкими лодками и, при исключительной удаче, разваливавшимися при первой же буре кораблями Российско-Американской компании.
Обескураживало недоброжелательство как петербургское, вдохновляемое Нессельроде и главным правлением Российско-Американской компании, так и местное. Невельской прекрасно понимал, что и несчастье с «Охотском», пусть буря выбросила его на берег в его отсутствие, и гибель сшитого на скорую руку «Шелихова» — все это будет поставлено в вину ему, Невельскому…
Бодрость и веру в свои силы поддерживала в нем заброшенная сюда судьбой экзальтированная, чистая душой и полная решимости до конца выполнить свой долг жены и подруги жизни хрупкая Екатерина Ивановна.
В своем, как ей казалось, маленьком царстве домашних забот о семействе, которым она считала всю экспедицию, и о детях, в числе которых были и гиляки, тунгусы, а несколько позже гольды и айны, она управляла приветливостью и лаской, и слава о необыкновенной жене русского «джангина» из уст в уста распространялась все дальше и вверх по Амуру, на юг — чуть не до самой Кореи, и на запад, за далекие хребты синеющих гор, и на восток — по обширному, таинственному и угрюмому Сахалину.
Она быстро приучила себя без омерзения выносить вонь нерпичьего жира, научилась говорить по-гиляцки, хорошо понимать по-тунгусски и легко разбиралась с орочонами, самогирами и даже редкими сахалинскими гостями айно. В глазах ближайших гиляков она была и снисходительной царицей-матерью и высшим судьей.
Заставая у себя расположившихся, как дома, грязных, но симпатичных и беззлобных гостей за чаем или чугуном каши и прислушиваясь к непритязательной веселой болтовне жены и этих детей природы, Невельской проникался чувством благоговения перед Екатериной Ивановной, умевшей не только заставить гостя или гостью помыться, но и расшевелить и развязать языки уместной шуткой. В гиляцких юртах она стала желанной гостьей.
Не прошло и двух лет, как эти люди сажали у себя на огородах овощи, бесстрашно ели хлеб, картофель, огурцы, горькую редьку и каждый день мыли своих опрятно одетых младенцев. Кое-где стали заводить русские бани.
Гитара заменила Екатерине Ивановне недостающее фортепьяно, и под ее аккомпанемент пелись хором заунывные и плясовые песни. Вдохновляемый Катей священник из Ситхи, отец Гавриил, по горло был занят составлением словарей, и оба мечтали о том, как бы завести школу несуществующей еще гиляцкой грамоты.
Невельской до одури упивался чтением архивных материалов, особенно «Сказанием о великой реке Амуре, которая разграничила русское селение с Китайцы» и «Отпиской стольнику и воеводе Федору Дементьевичу Воейкову от посланного в 1681 году для обозрения Амура сына боярского Игнатия Милозанова».
В них Невельской черпал не только уверенность в своем деле, но и в исконных правах русских на территории, простирающиеся до самых южных пределов нижнего течения Амура.
— Ты знаешь, Катюша, — говорил он жене, — ведь, оказывается, уже в 1644 году здесь, на Амуре, был наш Василий Поярков. А в сорок девятом Ерофей Хабаров. От Хабарова принял команду над казаками Онуфрий Степанов. Енисейский воевода Пашков требовал от Сибирского приказа, чтобы поскорей утвердиться на Шилке. В 1684 году учреждается Албазинское, или, по-другому, Приамурское, воеводство. Алексей Толбузин — воевода. Наши русские люди здесь два века тому назад жили. И не только на левом берегу, но и на правый захаживали… Мало того, что жили, еще и занимались крещением желавших его принять. Тунгус вроде Петрушки Оленного и даур Намоча, впоследствии Федор, даже подавали об этом челобитную великому государю, как люди, платившие ясак русским.
Поселившись в новых землях, русские тщательно исследовали и описали решительно все течение Амура до самого устья и заходили даже далеко к югу в Китай до сплошных китайских и маньчжурских селений. Захаживали и на остров Сахалин. Тяга к переселению на Амур временами была такова, что якутским и енисейским воеводам приходилось строить заставы. Конечно, жаль, что многое пришлось потом оставить, но кто же виноват, что правительство недостаточно поддерживало переселенцев?
«А ездил я, Игнашка, — писал Милованов воеводе, — вниз по Зее-реке и по Амуру для осмотру хлебородных земель… И если Великий государь позволит, на Зее быть большим пашням и заводам. Нашел железную руду… С усть Зеи по Амуру вниз ехать на коне половину дня все лугами и старыми пашнями до того города, а город земляной, иноземцы зовут его Айгун…»
Видишь, и море около устья исследовали!.. «В прошлых годах, тому будет лет 38, казаки даурские камышники зимовали многажды…» Ну, вот!.. «Только усть реки Амура по правой стороне еще русские не проведали…» Вот тебе и наши права! Неужто опять упустим?
Своим сотрудникам Невельской буквально не давал передохнуть. Не успели Орлов с Чихачевым вернуться с Амгуни, как опять очутились в пути: Орлов узнать правду о виденных Миддендорфом каменных столбах, принятых им за пограничные с Китаем, а Чихачев с Березиным и двумя казаками шествовали с нагруженными нартами к югу, до селения Кизи, где Амур почти вплотную подходит к берегу пролива и лодки перетаскивают волоком.
К концу декабря разосланные партии стянулись со всех сторон к Петровскому. Прибыл верхом на олене прямиком из Николаевского хоть и больной, но полный упрямой энергии Бошняк.
Итоги 1851 года показали, что на всем обследованном пространстве по Амуру и притокам туземные племена не имеют никакой власти и что из-за Амура приходят к ним маньчжуры только торговать, а иногда и обижают. Обещанию русских защищать их от обид очень радовались. А в последних числах декабря два гиляка и тунгус пришли издалека в Петровское и принесли жалобу на соседнее с ними гиляцкое селение, жители которого отняли у них имущество. Пришлось послать отряд из пяти вооруженных солдат во главе с Березиным.
Березин созвал жителей трех соседних селений, получил от насильников награбленное обратно, а потом, убедившись, что зачинщиками недоразумения являются приезжие маньчжуры, подстрекающие гиляков против русских, в присутствии всего народа заставил их в течение трех дней таскать бревна. Наказанные падали перед Березиным ниц и обещали на будущее время за разрешением споров с гиляками обращаться в Петровское. Это была большая победа!
Новый год в экспедиции встретили шумно и весело: как и в Иркутске, катались на салазках с гор и на собаках, ездили верхом на оленях. Наряжались в гиляцкие костюмы, а потом, убедившись в том, что их костюмы более приспособлены к местным условиям, стали носить их. Гиляки эту затею очень одобрили и гордились.
Безобразные мешковатые парки и громадные мягкие меховые сапоги портили фигуру — люди стали как-то приземистее, их походка, с перевалкой, живо напоминала медвежью, но зато опушенные мехом лица казались моложе и красивее.
— Катя, — признавался Геннадий Иванович, не сводя с нее, как бывало прежде, глаз, — ты нестерпимо красива!
— Какое странное определение! — смеялась Екатерина Ивановна, но была довольна.
И под его влюбленными взглядами, пригретая вниманием и ласками, она чувствовала себя юной, прелестной и счастливой.
Под этими впечатлениями летели, нет, не летели, только писались, а затем плелись черепашьими шагами письма к Марии Николаевне в Иркутск. И очень много времени спустя они все еще тяжело брели по горам и обрывам, через ручьи и речки к Аяну, месяцами терпеливо дожидаясь там оказии; плыли по воле ветров, на случайных парусниках, к Охотску или Петропавловску, болтались в тюках и сумках на спинах лошадей и оленей, на собачьих нартах. И только полгода спустя строгая и величавая Мария Николаевна, наплакавшись над ними у себя, говорила собравшимся за чаем:
— Катя поет мужу дифирамбы и счастлива!
— Огородом занимается? — неизменно спрашивал Сергей Григорьевич.
— Невельским не очень доволен Николай Николаевич, — небрежно ронял возмужавший Миша и пояснял: — Не корректен по отношению к Российско-Американской компании, может сорваться!
— Уж очень церемонится твой Николай Николаевич с этой компанией! — с сердцем возражала Мария Николаевна. — Ее давно бы надо «под башмак»!..
— Тут, голубчик, необходимо юлить. Петербург, понимаешь! — вмешивался Сергей Григорьевич и, досадливо махнувши рукой, уходил к себе, к книгам…
…Новый год ничего не изменил: Дмитрий Иванович Орлов с тунгусом-переводчиком на собаках уже в первых числах января направился к верховьям речек бассейна Амгуни. Бошняк с переводчиком гиляком Позвейном и казаком Парфентьевым готовились к походу на собаках на Сахалин — проверить, действительно ли есть там каменный уголь. Он нужен был для ожидаемых пароходов. Чихачев с тунгусом Афанасием, переваливши с реки Амгунь на реку Горин, старались добраться по ней до Амура и с весной по течению плыть до залива Нангмар, чтобы установить, не лаперузовское ли это «Де-Кастри». Березин с топографом Поповым выгребали Чихачеву навстречу, против течения Амура с севера. Попов должен был зимовать в Кизи и там с Чихачевым встречать ледоход и весну.
В разгар работы прибыла из Аяна почта. Петербург и Иркутск категорически требовали: не распространять исследований далее амурского лимана и окрестностей Николаевского и стараться завести через гиляков торговлю с соседними племенами.
— Они меня с ума сведут, — кричал Невельской, вскакивая и потрясая перед лицом лежавшей в постели Екатерины Ивановны листом. — Никак не хотят понять, что здесь промедление смерти подобно! Не буду я их слушать! Лучше быть разжалованным без вины, чем сознательно стать преступником!
И опять бежал к столу строчить донесение.
В азарте, не считаясь с соблюдением формы и приличий, раздраженный Невельской нанизывал чуть ли не целый алфавит «пунктов», сопровождая их резкими короткими требованиями — офицеров, солдат, шлюпок, пароходов, снабжения. Его на самом деле неопровержимые доказательства свидетельствовали о возбуждении и плавали в чернильных пятнах и кляксах — начиналась открытая война с холодным, безразличным Петербургом.
Екатерина Ивановна поддерживала негодование мужа, но не соглашалась с необходимостью обострять отношения, всячески смягчала места, испещренные особо изобильными чернильными пятнами, и требовала дополнить все же слишком резкие донесения пояснительными личными письмами. Однако и они выходили из-под пера Невельского раздражающими и малоприемлемыми.
«Долгом моим считаю предварить Вас, — писал он Муравьеву, — что, сознавая тяжкую, лежащую на мне нравственную ответственность за всякое с моей стороны упущение и отстранение могущей произойти потери для России этого края, я, во всяком случае, решил действовать сообразно обстоятельствам и тем сведениям, которые ожидаю получить от Чихачева и Бошняка».
А обстоятельства действительно требовали не переписки, а действий. Не прошло со времени отправки письма и трех недель, как вернулся с Сахалина Бошняк, про убогость снаряжения которого в течение обратного пути нельзя было сказать даже по сказке «взял краюху хлеба за пазуху — и айда в дорогу», так как краюха хлеба была несбыточной мечтой, а юкола досыта — роскошью!
Вернулся он с загнившими на ногах ранами, разбитый, полумертвый. Однако через день, сияя своими белоснежными зубами и смеясь, рассказывал об обнаруженных им в нескольких местах богатейших угольных месторождениях, выходящих на поверхность вблизи прекрасной, глубокой и защищенной от всех ветров бухты Дуэ. Он успел пройти с севера на юг весь Сахалин до Дуэ и обратно и хвастал драгоценными листками из православного часослова, на заглавном листе которого было написано каракулями по-русски: «Мы, Иван, Данила, Петр, Сергей и Василий, высажены в Аянском селении Тамари-Анива Хвостовым 17 августа 1807 года». Туземцы орочоны показывали, где жили русские, остатки изб и следы огородов.
— Как ваши ноги? — пытал Невельской.
— Аппетит уже вернулся, Геннадий Иванович, придут и ноги, — смеялся Бошняк.
Возвращения его ног, однако, Невельской не дождался: 12 апреля, на этот раз с «краюхой хлеба за пазухой», Геннадий Иванович шагал рядом с собачьей нартой по правому берегу Амура к югу, по направлению к Кизи, занимать Де-Кастри, высматривать места для зимовки судов, следить за иностранцами, за состоянием моря и вскрытием рек и, самое главное, освободить Чихачева, получившего новое задание — исследовать бассейны притоков Амура и Хинганский хребет…
Как сообщал «пиской» с нарочным Чихачев, Хинганский хребет направляется от северной своей точки вблизи реки Уды прямо к югу, пересекает Амур, затем реку Сунгари и выходит к морю против Сунгарского пролива.
Присланное Чихачевым известие взволновало Невельского: выходило так, что если правильно толковать Нерчинский трактат 1689 года и границу провести по Хинганскому хребту до моря, то она южной своей частью ограничит в пользу России весь Амур и дойдет до границ Кореи. Надо торопиться проверить и поскорее двигаться на юг в поисках незамерзающей гавани.
Радовали и успехи Екатерины Ивановны: гиляк Никован привез в Петровское с реки Амура свою молодую жену, «итальянку», как окрестил ее Чихачев (ее звали Сакони), укрыть от покушений соседей. Сакони вымыли, причесали, надели рубашку и поднесли ей зеркало.
Тут Сакони не только убедилась в своей красоте и привлекательности сама, но поражены были ее чудесным превращением все ее знакомые гилячки. Началось паломничество к Екатерине Ивановне женщин, жаждавших похорошеть.
— У нас теперь свой Иордан, — подсмеивались матросы, наблюдая издали, как в заливе, у ручья, жены их ставили гилячек в ряд и усердно терли и отмывали наросшую от рождения заскорузлую грязь.
Пришла почта. Генерал-губернатор сообщал о том, что он предписал начальнику Аянского порта Кашеварову и камчатскому губернатору Завойко усердно содействовать экспедиции и приказать всем казенным и компанейским судам, следующим из Аяна в Петропавловск и в американские колонии, заходить в Петровское.
Не так, однако, мыслило под крылышком Нессельроде петербургское правление компании: командиру порта Аяна Кашеварову предписывалось смотреть на экспедицию Невельского как на торговую экспедицию Аянской фактории, на офицеров — как на числящихся на службе компании, на приказчиков — как на своих подчиненных, никаких товаров и запасов сверх суммы, определенной на эту цель правительством, не отпускать и компанейских кораблей не посылать. Средства же на 1852 год считать исчерпанными.
Экспедиция обрекалась на голодную смерть.
20. У невельского на Амуре
Глубокой ночью, задыхаясь от ярости и негодования, Геннадий Иванович в сердцах ударил кулаком по столу и поднялся. Необычный грохот разбудил и встревожил спавшую Екатерину Ивановну: она привыкла к тому, что занимавшийся ночами муж ходит на цыпочках и не курит, всячески оберегая ее покой.
— Что случилось? — она села на постели, с испугом глядя на незнакомое ей, искаженное гневом лицо.
— Негодяи! — кричал Невельской, не отвечая на вопрос. — Изменники! Проклятые торгаши!
Его жидкие волосы были всклокочены, лицо исказила ненависть.
Екатерина Ивановка вскочила и босая бросилась к нему.
— Геня, милый! Приди в себя, успокойся, расскажи, что случилось! — И, обняв его, заплакала. — Я так плохо себя чувствую…
И тут же стала сползать к его ногам на пол…
Через полчаса домик был растревожен женскими криками. Начались роды. Геннадий Иванович пришел в себя и нервно шагал взад и вперед по тесной комнате. Около Екатерины Ивановны хлопотала растерявшаяся Орлова. Она осторожно похлопывала роженицу по плечу и успокаивала.
— Не выдержу! — стиснув зубы от невыносимых мук, шептала Екатерина Ивановна. — Умру!
Боязнь за жену потеснила все другие переживания Невельского. Он потерял представление о времени, продолжая шагать, и очнулся только под утро, когда радостная Ортова поднесла прямо к самому его лицу красный сморщенный комок и сказала:
— Поздравляю с дочерью Екатериной, первой русской женщиной, родившейся в этих краях…
Еле взглянув на младенца, Невельской бросился к бледной и обессиленной жене и, целуя холодные, бескровные руки, беспрестанно повторял:
— Катя… милая! Зачем ты сюда поехала?!
С утра до вечера пришлось защищаться от гилячек, требовавших повидать больную. Геннадий Иванович стойко отбивался, показывая знаками, что она больна, лежит и спит. Не показал он им и маленькой Кати, боясь проявления каких-либо неведомых ему, но, быть может, не совсем подходящих местных обычаев. Гилячки уходили не сразу, недовольные, долго о чем-то совещались и неодобрительно качали головами.
К вечеру Геннадий Иванович принялся за почту и опять нервно заскрипел пером.
«Получив ныне от г. Кашеварова уведомление о распоряжениях, сделанных ему главным правлением компании, — писал он Муравьеву, — я нахожу их не только оскорбительными для лиц, служащих в экспедиции, но и не соответствующими тем важным государственным целям, к достижению которых стремится экспедиция…»
К письму он приложил и свои категорические требования к Кашеварову — не стесняться распоряжениями главного правления и на каких угодно судах, но снабдить экспедицию товарами и запасами и помнить, что экспедиция действует по высочайшему повелению и по своим задачам она не похожа на прежнюю Аянскую компанейскую — для собственных выгод. «Орлову и Березину я не только приказал не исполнять ваших распоряжений, но даже и не отвечать вам на оные».
Для большей убедительности к донесению на имя генерал-губернатора Невельской приложил подлинную записку Чихачева из Кизи, подчеркнув в ней те места, где Чихачев упоминает о высадках на берег иностранных матросов с военных кораблей, о том, что они ведут прямую пропаганду среди жителей против русских, и о шпионах, появившихся там под видом миссионеров.
«Мне предстояло и ныне предстоит одно из двух: или, действуя согласно инструкции, потерять навсегда для России столь важные края, как Приамурский и Приуссурийский, или же действовать самостоятельно, приноравливаясь к местным обстоятельствам и не согласно с данными мне инструкциями. Я избрал последнее…»
Не останавливая ни единого из своих распоряжений, он, наоборот, ускорял закрепление на местах, не давая отдыха ни офицерам, ни солдатам. Для расширения же своих возможностей лихорадочно спешил с постройкой палубного бота и шестивесельного баркаса к близкой уже навигации.
Письма пошли с нарочным, не пройдя обычного просмотра Екатериной Ивановной.
Деловое оживление в Петровском взбудоражило ближайшие гиляцкие селения — стали приходить оттуда на работу: знающие туземные наречия нанимались в переводчики, проводники и почтальоны, легко втягивались в свои обязанности и приобщались к более культурной жизни. На маленькой Петровской верфи кипела работа, и шла она, по-видимому, весьма весело: оттуда то и дело доносились взрывы хохота, нарушавшие обычную тишину, оттеняемую однообразным шумом морского прибоя.
— Чего там так веселятся? Что их там смешит? — с любопытством не раз спрашивала Екатерина Ивановна, беспокоясь за сон малютки.
— Сходи узнай, — лукаво усмехаясь, не давал ответа Геннадий Иванович.
— Я уже раньше пробовала, — признавалась Екатерина Ивановна, подойду — дичатся и замолкают.
— Смешит «крепко крещенный» гиляк Матвей, которого по имени никто не хочет называть, а он требует. Матросы его все уверяют, что он сам себя окрестил не Матвеем, а «крепко крещенным».
Екатерина Ивановна засмеялась.
— Понимаю. А как он работает?
— Старается изо всех сил, но ему всерьез никто ничего не показывает, а если покажет, то не так, как надо. Ну, и смеются.
— Ты бы их урезонил как-нибудь!
— Пробовал, ничего не выходит. А есть и польза: пусть не повторяет попыток дважды креститься.
А дело было в том, что Матвей попытался второй раз креститься, чтобы получить рубашку и платок. Совершал обряд крещения обычно доктор Орлов. Он узнал Матвея и потребовал от всех крещеных гиляков, чтобы они сами определили наказание. Те постановили «высечь», что и было исполнено, по-видимому, с большим усердием. Его раздели, как для крещения, но на этот раз окрестили розгой, смеялись — «крестили крепко». После этого он решил искупить свой грех усердной работой.
— Надо прекратить издевательства, — решила Екатерина Ивановна и на следующий день держала на верфи русско-гиляцкую речь.
Речь выслушали чинно и молча. Крепко крещенного дразнить перестали, но, проходя мимо, отворачивались от него и фыркали.
Залив Счастья очистился ото льда только к 20 июня, а уже через два дня на воду спустили построенный бот и чествовали обедом его командира Чихачева. К этому времени амурская семья Невельских была в сборе — вернулись Чихачев, Бошняк и Березин, не хватало только Орлова и оставленного в Нангмаре для съемки берега Попова.
Приехавший только что Чихачев рассказывал, как он увлекся путешествием вдоль реки Гирин и брел босой по колено в воде и грязи, питаясь юколой, прошлогодними ягодами и нерпичьим жиром.
— И было это, клянусь, — закончил он, — преневкусно!
— Поверим и без клятв, — с удовольствием глядя на этого белозубого, покрытого легким пушком и персиковым загаром неутомимого юнца, поощряла его к дальнейшему рассказу Екатерина Ивановна.
— И все враки: я прошел нейдальцев, чукчагиров, самогиров, гольдов кругом великолепные кедровые и еловые леса, дубняки и клен, и все эти племена не признают никакой власти, не платят никому никаких податей. Знают о приходе русских, повторяют о них легенды и буквально не могут дождаться. Мало того, я встретился около Кизи с маньчжурскими купцами, прожил с ними несколько дней, и, во-первых, как видите, не съели, а во-вторых, выяснил, что они приходили торговать и что, в свою очередь, им надо… Все это пространство по Амуру не считается китайским, а границей Маньчжурии и Даурии служит Хинганский хребет. Причем местные жители очень обеспокоены тем, что русские медлят и вместо них могут прийти длиннозубые иностранцы. «И тогда прощай, торговля!..»
— А с чего ты взял, что залив Нангмар — это лаперузовский Де-Кастри? спросил Невельской.
Чихачев ухмыльнулся и полез в боковой карман, вытащил оттуда пакет, завернутый в истлевший носовой платок, из которого выпало засиженное мухами зеркальце в деревянной рамке. На рамке была вырезана надпись «1787 г. Лаперуз». Рамку вырвал из рук Бошняк, внимательно осмотрел и вернул:
— Нож был с тобой? Когда сделал?
— Я тебя заставлю прогуляться со мной в залив, и там увидишь еще высеченную надпись на скалах!
«Неужто топором сделал?» — продолжал сомневаться Бошняк, потом вскочил с места, обнял Чихачева, стал его целовать и, обратившись к хозяйке, сказал:
— Екатерина Ивановна, сей мичман стал знаменитым — он первый из русских моряков побывал в этих дальних краях и смотрелся в зеркало Лаперуза. В следующий раз, чего доброго, привезет и его самого, живого или мертвого.
— Лейтенант Бошняк, — вмешался Геннадий Иванович, — а ведь тебе и в самом деле придется проверить надпись на скалах в Де-Кастри. Для того чтобы поглазеть на надпись, конечно, ездить не стоит, но вот что действительно надо: поставить там и на другом берегу, на Сахалине, посты, такие же нужны в устье Уссури и в верховьях таких рек, как Гирин, Амгунь. Надо подыскать подходящее место и занять их охраной, как только у нас будут люди.
— Сейчас прикажете, Геннадий Иванович? — спросит, вставая, Бошняк.
— Нет, сначала придется тебе уладить непорядки в твоем Николаевске там началось дезертирство.
Через несколько дней все рассыпались, кто куда, оставив Невельского с его думами в одиночестве.
А думы были действительно тяжкие: ненадежной команды всего шестьдесят человек, а людей, на которых можно положиться, с ним вместе — шесть человек, из коих четверо все время в разгоне; защита — три пугачевки, сорок исправных кремневых ружей да два пуда пороху; флотилия — шестивесельный бот, шлюпка, две гиляцкие лодки, байдарка, да то, что построено своими силами, — палубный бот и шестивесельный баркас.
— Вот и все! Вот и все! Вот и все!.. — нервно барабанил он по столу пальцами.
— Ты меня, Геня? — спросила, входя, Екатерина Ивановна.
— Нет, я так, рассуждаю сам с собой, не знаю, как выкручиваться дальше… — Взглянул на жену и заметил на ее лице огорчение. — А ты? Что с тобою?
— Я не хотела тебя беспокоить, но уже второй день хворает Катюша: по ночам в жару.
— А доктор?
— Говорит, зубки… пища…
— Да, пища! — и он опять машинально забарабанил по столу. «Шестьдесят человек!.. И на тысячи километров отрезаны от мира! Одна корова на всех малышей. Мать кормить не может: от соленой рыбы сама тоже не станешь молочной… Хлеба хватит до октября, белой муки давно нет в помине, сахар и чай — до августа».
Пришлось снять с пришедшего с почтой, но без провизии корвета «Оливуца» двух мичманов, Разградского и Петрова, и обоих отправить в Николаевск: Разградского — в помощь Бошняку, Петрова — с баркасом и остатками продовольствия для экспедиции, иначе все сбегут. Привезли тяжко больного Березина, за которым два месяца заботливо ухаживали мангуны, варили для него уху из свежих карасей и окуней и научились заваривать по-русски чай. Очень просили передать русским, чтобы поскорее селились у них. Отвезли по просьбе Березина «писку» к Бошняку, а Чихачеву — сухари и просо и наотрез отказались от вознаграждения: «больному надо помогать так, бесплатно…»
Почта уже не волновала: заранее можно было сказать, что, кроме неприятностей, она ничего не даст.
И действительно, камчатский губернатор писал, что казенное довольствие будет доставлено осенью, если только сумеет вернуться из Гижиги и Тигиля бот «Кадьяк», и что казенных судов в Петровское в эту навигацию больше не будет. Даже довольно оптимистический расчет приводил к заключению, что не будет и «Кадьяка».
Кашеваров писал из Аяна, что он не может отпустить с корветом «Оливуца» того количества, которое прежде было определено правительством, так как не имеет права посылать в Петровское компанейское судно.
Муравьев отказывал в офицерах, но не прислал на корвете и обещанной полсотни солдат. О них он отдал распоряжение губернатору Завойко, но и Завойко их не послал.
«О требованиях Невельского прислать из Петербурга паровое судно сделано представление, а о снабжении предписано в Аян Кашеварову, вот и все…» Выходило так: снабжение экспедиции на бумаге вполне обеспечено, но судов в текущем году не будет, значит продовольствия нельзя ожидать до конца будущего года!
Но рекорд неприятностей все же побило петербургское главное правление компании. «Распространение круга действий экспедиции за пределы высочайшего повеления, — сообщало правление, явно издеваясь над беспомощным, им же брошенным на произвол судьбы Невельским, — не сходствует намерениям главного правления, тем более что, включая убытки, понесенные уже компанией по случаю затонувшего барка «Шелихов», простирающиеся до тридцати шести тысяч рублей, вместе с отправленными товарами достигли уже суммы, определенной на экспедицию до 1854 года. Поэтому представление ваше об увеличении средств экспедиции товарами и жизненными запасами правление не признает ныне своевременным, впредь до получения от торговли прибылей, могущих покрыть издержки компании. Но, однако, останавливаясь ныне исполнением ваших требований, главное правление представляет оно на благоусмотрение генерал-губернатора…»
Геннадий Иванович прочитал письмо трижды, хотя весь яд, которым оно было пропитано, подействовал на него сразу. Возмущало не только гнусное издевательство, не только гнусные намеки на вину Невельского в гибели негодного корабля компании, не только оценка всей предпринятой экспедиции, как глупой, не оправдывающей себя затеи, но и преступное и сознательное намерение обречь ее на верную гибель. Он старался сосредоточить всю волю, всю энергию, чтобы найти исход, — и не мог…
Вошла с поникшей головой Екатерина Ивановна, вошла, чтобы сказать, что маленькой Кате хуже, чтобы выплакать свое горе на груди понимавшего ее человека, и остановилась в дверях, пораженная видом мужа… Он молча ткнул пальцем в дрожавший в его руках листок и протянул ей.
Переживания Невельского стали ей понятны с первого же слова, незаслуженное оскорбление покрыло багровыми пятнами матовое смуглое лицо. Быстро наклонившись к мужу, она поцеловала его в открытый, широкий лоб, такой родной и давно любимый, и, уронивши два слова: «Надо бороться!» выпрямилась, подняла высоко голову и гордой походкой вышла, унося свое невысказанное материнское горе. «Мое горе, — думала она, — личное, маленькое, а он страдает за всех, надо его пощадить…»
И все продолжалось по-прежнему: командир корвета «Оливуца» при энергичной помощи Струве чуть не силой вынудил Кашеварова поделиться с экспедицией продовольствием и вернулся из Аяна довольный, сияющий: теперь Невельской мог кое-как обеспечить питание своей многочисленной колонии.
В Николаевском продолжали строиться, на Сахалине обследовали уголь и искали гавани для судов, в горах и по течениям рек объезжали селения и, заявляя всюду о приходе русских, оставляли письменные объявления о принадлежности объезжаемых мест России, выбирали из местных жителей старшин и оставляли им полномочия гнать иностранные суда, закладывали фактории и, забрасывая туда жалкие остатки компанейских товаров, вели обменную торговлю и всячески пополняли свои скудные запасы продовольствия, наконец, тщательно обследовали Де-Кастри и выбрали места для постов здесь и в Кизи.
В Де-Кастри и Кизи действовал Бошняк, который оставил объявления на русском и французском языках о принадлежности этих мест России и назначил старосту Ничкуна для показа объявлений иностранным судам. В конце зимы обещал здесь поселиться и сам.
Давно уже выли над заброшенным поселком вьюги, засыпали его снегом. Появился грозный спутник недоедания — скорбут. Бродил как в воду опущенный доктор Орлов, заставляя людей побольше двигаться, и занимал их всякой не особенно нужной легкой работой.
Волны торопливо слизывали белевший на припае снежок — припай темнел, но, крепко уцепившись за берег, уже не ломался и не отрывался.
Снег подступал к окнам и поднимался все выше и выше. Света в комнатах становилось все меньше, и в конце концов уединенный командирский домик замело до трубы. Окна зияли черными дырами длинных снежных траншей, выходить приходилось через слуховое окно. Изобретательный доктор устроил оттуда спуск-горку. С горки скатывались на лыжах, на них же и взбирались обратно. Так ходили в гости.
Геннадий Иванович в начале ноября уехал «горою» в Николаевск и долго не возвращался Екатерина Ивановна оставалась одна. Тунгус-почтальон привез на собаках из Аяна почту, а его все нет!
Трудно передать, что пережила одинокая, так недавно покинувшая общество женщина, заживо погребенная в этой снежной могиле, куда не долетал ни один звук, а если долетал, то это само по себе наводило страх…
Геннадий Иванович приехал только в начале декабря. И сразу стало легко на душе и спокойно: он здесь, ничто не страшно. Одно печалило — малютка: она отказывалась от рыбной пищи. Катюшенька таяла на глазах, таяла, а так далеко еще до весны!
На неубедительные петербургские и иркутские приказы перестали обращать внимание. Меньшиков сообщил Муравьеву, что он докладывал царю об успехах экспедиции, но тот продолжает требовать от экспедиции ограничить свои сношения только близко лежащими около устья Амура гиляцкими поселениями, не утвердил занятия селения Кизи и не разрешил дальнейшего обследования берегов Татарского пролива к югу.
Это известие было неприятно, причины такого отношения были ясны — все дело в Нессельроде. Однако дальше поражало поведение уже самого Муравьева, который обещал поспешить лично в Петербург, где собирается отстаивать мнение, что наша граница должна идти по левому берегу Амура и что главным нашим портом на востоке должен являться Петропавловск, для которого, собственно, и полезно обладание Амуром!
Ясно было, что Муравьев продолжает упрямиться, отстаивая Петропавловск, и не верит в возможность владеть на востоке незамерзающим портом. Значит, намеченные действия экспедиции надо либо совсем отменить, либо решительно пойти против подсказанных канцлером Нессельроде царских повелений и, что еще тяжелее, против самого Муравьева.
И опять к Новому году, несмотря ни на что, в неуютном, заброшенном Петровском гостеприимно горели огни. Готовилась к встрече вся большая семья Невельских.
Было непринужденно весело: скатывались на лыжах и на санях на этот раз с крыши, ездили в облаках снежной пыли на собаках, обкладывали в лесу медведя. Медвежатине радовались не менее, чем гиляки, и она честно служила во всех видах, включая н весьма невкусные колбасы. Получая, однако, хорошие порции свежего мяса, повеселели больные Орлова.
Невельской раскрыл перед своими друзьями затруднительность положения и высказал свое личное мнение: с весны энергично продолжать дело, как шло до сих пор. Признали, что нельзя стать подлецами, изменниками и предать интересы родины из-за того, что Россию опутали разные Нессельроде. Пусть дрогнул Муравьев, но они не дрогнут.
— В Петербурге никогда не поймут, — говорил Невельской, — что здесь нет и не может быть каких-либо земель или владений гиляков, мангунов, нейдальцев и других народов в территориальном и государственном смысле. Эти народы не имеют ни малейшего представления о территориальном разграничении, но хуже всего, что они могут стать английскими или американскими подданными, а это назрело.
И в 1853 году, как и в прошедшем, тысячеверстные пространства продолжали покрываться сеткой замысловатых, составленных Невельским маршрутов. Не помешала и зима. Ночевали в снегу при тридцатиградусном морозе, отсиживались в лесах, в сугробах, коченели на ветру, не имея возможности согреться. Забредали в места, где не ступала нога даже самого отчаянного и алчного европейца-авантюриота. И, что важнее всего, где бы ни обитали люди, они слышали о русских только хорошее, дивились появлению их и встречали по-родственному гостеприимно. Это особенно радовало Невельского очевидно, тут не придется ни воевать, ни покорять, ни даже быть строгими… Справедливость и уважение к чужим обычаям и ненавязывание своих — вот что надо. Таковы были основные внушения Невельского сотрудникам, которые в конце концов прониклись ими не меньше, чем и сам Геннадий Иванович.
Еще стояли морозы даже на юге, еще не вскрылись реки и не очистился от льдов залив Де-Кастри, как там взвился российский военный флаг. Бошняк сообщал, что событие это произошло 4 марта и что тотчас же с помощью туземцев приступили к постройке флигеля для будущего гарнизона. Приказчик Березин основался со своей факторией и приступил к торговле в Кизи, по соседству.
И опять Екатерина Ивановна безропотно коротала длинные темные ночи и мутные серые сумерки одна, с больной, капризной, голодной малюткой. Геннадий Иванович в Николаевском ремонтировал флотилию, чтобы весной еще раз сделать попытку исследовать амурский лиман и его фарватеры. Рядом с ним доктор занимался больными. В Петровском подготовлялся к навигации бот. Бошняк в Де-Кастри строил лодку. Орлов с нартами удачно фуражировал в окрестностях. Разградский, утопая в сугробах, стремился доставить продовольствие Березину и Бошняку в Кизи, с тем чтобы тотчас же вернуться, еще по снегу, в Николаевское и принять участие в исследовании лимана.
В заливе Де-Кастри только ломало лед, а уже в море, на горизонте, появился большой корабль. Не успел залив очиститься ото льда, как появилась первая ласточка — китобой из Бремена. Он нисколько не удивился, что Де-Кастри занят русскими, и сообщил пренеприятное известие, что летом американцы, как он слышал на Сандвичевых островах, собираются целой эскадрой в Татарский пролив занимать для стояния китобоев какую-то бухту.
В селении Пуль маньчжуры избили и выгнали двух «миссионеров», возбуждавших их против русских.
Все это волновало и вызывало досаду на петербургскую спячку и на охлаждение Муравьева.
И вдруг встрепенулись в Петербурге. 15 мая нарочный из Аяна привез от генерал-адмирала, управляющего морским министерством, великого князя Константина Николаевича, того самого, которого Геннадий Иванович еще так недавно водил за ручку, предписание. Он писал, что Соединенные Штаты снарядили две экспедиции: одну под командой Перри для установления политических и торговых связей с Японией, другую, «ученую», под командой капитана Рингольда, для обозрения берегов Тихого океана до Берингова пролива. Первая — из десяти военных кораблей; вторая — из четырех; обе сопровождаются пароходами. В первую голову Перри исследует Китайское море и, будучи по соседству с нами, около середины лета навестит наши берега. Великий князь от имени государя предписывал принять экспедицию как дружескую, по морским правилам гостеприимства.
— Только этого недоставало! — не на шутку встревожился Геннадий Иванович. — Вот теперь-то и увидят, что у нас ничего нет ни на суше, ни на море. Ведь это проверка наших здесь действий: признают факт занятия территории нами — уйдут, не признают — займут сами!.. Что же потом, когда занимать придется нам силой, — война?.. Да лучше умереть, чем видеть преступление и участвовать в нем…
21. Паж его величества на Сахалине
всецело охваченный мыслью отстоять для России Приамурье, Уссурийский край вплоть до границ Кореи и остров Сахалин, Невельской проникал в происходящие политические и дипломатические маневры только чутьем, только силой своей всеобъемлющей любви к России и ее интересам. Следить за всеми изменениями и колебаниями общей неустойчивой политики и руководствоваться ими нельзя было: он узнавал случайные обрывки сведений из уст случайных людей, да еще с опозданием на год и больше, в то время как вопросы требовали немедленного решения на месте.
Самодержавный Петербург требовал беспрекословного подчинения своим запоздалым распоряжениям, держал свое служилое сословие на положении младенца спеленатым и учил его ходить «за ручку», а у младенца пробивался уже лихой ус. Доведенная до абсурда централизация распоряжений на самом деле являлась только призраком ее и создавала обширное поле для произвола, снимая ответственность с далеких и недосягаемых уполномоченных. Приходившие на места распоряжения походили на прокисшие блюда: без опасения отравиться есть их нельзя было.
Оторванный от мира и слишком прямолинейный, Невельской не видел, как опытные служаки подносили Петербургу собственные мысли и действия, давно и самостоятельно приведенные в исполнение, — под видом предвосхищенного Петербургом — и успешно упражнялись в канцелярских отписках. Невельской не подозревал, как тяжело достается и генерал-губернатору каждый шаг. Он не знал, в каких хитроумно сплетенных тенетах путается Муравьев с первого дня своего возвышения. Глухая и упорная война длилась уже пять лег, и враги, казалось, были сильны, как в первый год. Удачно пробитые то тут, то там бреши в нессельродовской стене тотчас забрасывались новыми камнями и закреплялись цементом круговой поруки его приятелей. Глухая стена непогрешимости петербургских приказов стояла по-прежнему стойко.
Три года назад Нессельроде провалил проект Муравьева о необходимости крейсерства в Охотском море военных судов.
Сотни китоловов всех наций, а под видом их и шпионы, распоряжались здесь, как у себя дома. Был даже случай, когда такой корабль под флагом Соединенных Штатов нагло вошел в Петропавловскую гавань. Однако достаточно было появиться портовой комиссии для проверки груза, как кораблем были предъявлены английские документы: пассажир Страстен оказался капитаном корабля, а шкипер Геджес — самозванцем. Исчез и флаг Соединенных Штатов, под которым пожаловал корабль, и заменен английским — пример поучительный. И что же, вместо необходимой эскадры крейсеров, по настоянию канцлера Нессельроде, послан был Муравьеву один корвет «Оливуца».
Англичане захватили торговлю всего Южного Китая, — ясно было, что они стремятся проникнуть на север Китая через не закрепленный еще за Россией Сахалин. Однако из Петербурга было предписано снять военный пост в Татарском проливе и запрещено отправить вниз по Амуру две роты солдат.
Невельской был оскорблен постоянным недоверием Петербурга, но еще более таким же недоверием был оскорблен Муравьев. Собравшись с силами, чтобы нанести решительный удар по гибельному для России самовластию канцлера и его азиатскому департаменту, Муравьев поставил на карту собственную карьеру.
— Лучше уйти, может быть, другому поверят! — говорил он близким людям, отправляясь в Петербург.
Он приехал в конце марта, а уже 11 апреля добился повеления занять остров Сахалин. Однако тотчас и тут руку приложил канцлер Нессельроде. Он предложил поправку: отдать Сахалин для заселения и заведования им Российско-Американской компании — и таким образом осложнил ее взаимоотношения с экспедицией Невельского.
И вдруг следующее совещание состоялось у императора с участием наследника, великого князя Константина, генерал-адмирала и военного министра Чернышева… Нессельроде приглашен не был, чем ясно было выражено неудовольствие царя.
Блестящий по форме и убедительный по существу доклад Муравьева о решительных действиях на Амуре произвел впечатление. Слова Муравьева о границах с Китаем подтверждались теперь уже не только изысканиями экспедиции Невельского, но и самостоятельными исследованиями экспедиции полковника Ахте.
Явное волнение охватило участников, когда Муравьев потребовал все материалы об отношениях с соседями обязательно пропускать через генерал-губернатора Восточной Сибири, ответственного за состояние своих границ… Это уже было явное покушение на суверенитет царства Нессельроде.
Царь поднялся, направился к развешанным картам Сибири и Амура и знаком пригласил Муравьева следовать за собой.
— Итак, это наше! — очертил он указательным пальцем Приамурье и, положив правую руку на плечо маленького Муравьева, левой указал на Амур, а затем на Кронштадт. — Но ведь я должен посылать защищать это отсюда?
— Кажется, нет надобности, ваше величество, так издалека, — ответил Муравьев, — можно подкрепить и ближе, — и, в свою очередь, указал на Забайкалье.
— Муравьев, ты, право, когда-нибудь сойдешь с ума от Амура, — сказал царь одобрительно.
— Государь! Сами обстоятельства указывают на этот путь!
— Ну так пусть же обстоятельства к этому сами и приведут: подождем, — и хлопнул Муравьева по плечу.
Казалось, дело разрешилось блистательно и можно было продолжать закрепляться в Кизи, Де-Кастри, на Сахалине: экспедиция стала особой самостоятельной государственной единицей, а начальник ее получал права губернатора.
Убаюканный счастливым окончанием дела, окрыленный пожалованием высокого ордена и вполне успокоенный, Муравьев уехал за границу лечиться. Предательский удар, в котором менее всего принимались во внимание интересы России, нанесен был тотчас же после его отъезда…
Ничего не зная обо всех этих событиях, Невельской продолжал выполнять намеченный им план. Успешно двигалось определение естественной границы с Китаем, обследование южной части Татарского пролива, закрепление намеченных в разных местах пунктов и строительство помещений для команд, но безнадежно плохо шли исследования амурского лимана. Стало совершенно ясно, что одолеть это дело возможно только, имея людей, пароходы и много транспортных судов. Попытки что-нибудь сделать своими средствами бесплодно растрачивали силы и энергию. Приходилось подумать и о близкой встрече американской эскадры… Хорошо бы ее встретить в проливе, где-нибудь еще южнее Де-Кастри, или на Сахалине — в заливе Анива.
Бошняк на гиляцкой лодке пошел от Де-Кастри на юг, добрался до громадной, с разветвлениями бухты Хаджи и назвал ее заливом императора Николая I, а разветвления — именами великих князей и княжон. Он собирался было проникнуть еще дальше на юг, но вовремя спохватился: вышли все продовольственные запасы. Пришлось вернуться.
Петербургские апрельские новости об успехах Муравьева на этот раз докатились до Петровского необычайно быстро. В начале июля транспорт «Байкал» доставил из Аяна немного людей и еще меньше продовольствия, но зато большую почту.
— Ура! — кричал Невельской, прочитывая ее и делясь вслух впечатлениями. — Разрешено занимать давно занятые и Кизи и Де-Кастри, а дальше на юг не сметь, ни-ни! Разрешено занимать Сахалин! Давно пора, я во сне вижу Аниву… Еще новое лицо… Майор Буссе… гвардеец… По-видимому, из разряда «чего изволите», пишет, что сидит в Аяне и ждет у моря оказии в Камчатку, откуда имеет поручение доставить десант для Сахалина… Имеет, каналья, у себя под носом «Иртыш», но, видишь ли, не хочет нарушить инструкцию — доставить его непременно на компанейском судне… Дурак!
Ну-с, Екатерина Ивановна! Итак, план: идем на «Байкале» к Сахалину осмотреть для начала южную часть острова, по пути займем военным постом Императорскую гавань, откуда и распространимся до корейской границы… Поставим пост на западном берегу Сахалина и, таким образом, займем пролив с обеих сторон, подкрепим Де-Кастри и Кизи… Там подготовим и оставим для прочтения горькую «писку»: «Пожалуйте вон!» — соглядатаям всех наций — пусть чувствуют… Довольно!
— Ты неисправим, Геня, — мягко заметила Екатерина Ивановна, — только что чудом избавился от грозившей опасности за Де-Кастри, еще не миновала опасность от ваших лазаний по Хинганскому хребту, а ты принимаешься за Хаджи, тут же, при самом получении высочайшего запрещения. Пожалел бы хоть Катюшу, повременил бы немного, — и она поднесла бывшую у нее на руках Катюшу.
Катюша потянулась к отцу и, гладя его по шершавой, небритой щеке, вскидывала на него большие, красивые и грустные глаза. Глаза материнские, но какие-то нездешние, потусторонние, тоскующие. Бледные щечки еще больше подчеркивали их величину и глубину.
Невельской вздрогнул, поднялся и, передавая девочку матери, сказал:
— Все еще худеет? — и тяжело вздохнул. — Буренка совсем перестала давать молоко. Когда-то еще доставят другую!
Надо было, однако, торопиться; надо показать любезным американским гостям, что все побережье уже в руках одного бдительного хозяина, — и тут же решил после плавания оставить «Байкал» для постоянного крейсирования.
Долго стояла на берегу Екатерина Ивановна с малюткой и Орловой, смотря вслед удаляющемуся «Байкалу», с которым было связано столько воспоминаний. Ветер неистово теребил полы легких пальто и вздымал пузырями широкие юбки. Стояли, не замечая, что корабль давно скрылся и перед ними пенится только пустынный залив и открытые ворота бухты…
— Вернутся ли?
— Пойдем, Катюшу сильно обдувает сырым ветром, — сказал запыхавшийся от ходьбы по песку доктор Орлов. Он был оставлен начальником Петровского. Не спрашивая, он взял себе на руки безмолвную, задумчивую девочку и зашагал домой.
Пытливо вглядываясь в угрюмые восточные берега Сахалина, Невельской обошел его с севера во всю длину, обогнул Лаперузовым проливом залив Анива, вошел в Татарский пролив и, поднявшись до сахалинской реки Нусиной, высадил на гиляцкой лодке шесть человек команды. Здесь был намечен пост Ильинский. В Де-Кастри, во внутренней гавани, появился пост Константиновский, а немного севернее, на берегу, — Александровский. На мысе, при выходе из озера Кизи, основан пост Мариинский. Так неожиданно Татарский пролив украсился русскими флагами.
После этого Геннадий Иванович оставил «Байкал» и на старой гиляцкой душегубке стал пробираться к Амуру. «Байкалу» отдано было распоряжение идти к Ильинскому посту, высадить там еще восемь человек под командою Орлова и помочь им строиться, а потом до сентября крейсировать в Татарском проливе.
До Петровского Невельской добрался только в конце августа и здесь застал новых членов своего многочисленного семейства: хорошо знакомого ему капитан-лейтенанта Бачманова и отца Гавриила, обоих с женами. Стало людно и еще теснее, но зато и веселее. Матушка отца Гавриила, жизнерадостная хохотушка, креолка из островных, с первого же дня принялась изучать под руководством Невельской и Бачмановой французский язык, и раскатистый смех способной ученицы, не смущавшейся неудачи первых шагов, то и дело раздавался в маленькой квартирке Невельских. Приступили к постройке дома для жилья и церковки.
Среди этой возни, в которой принимал деятельное участие, а иногда являлся даже и зачинщиком Невельской, никто и не заметил, как вошедший матрос тихонько сообщил командиру, что в бухту вошел корабль. Невельской отошел в сторону, поманил к себе матушку и вышел с нею по направлению к якорной стоянке кораблей. К берегу причалила шлюпка, из нее вышел высокий статный офицер в полной парадной форме Семеновского полка, с густыми эполетами штаб-офицера. Увидев, что эта блестящая фигура направляется к ним, матушка вскрикнула, освободила свою руку и изо всех сил побежала обратно к дому. Там она забилась в свободную комнату и притаилась.
Майор гвардии Буссе приветствовал Невельского. Он был разочарован: в этом маленьком сухощавом замухрышке, на котором потрепанный морской длинный сюртук, с давно потемневшими эполетами и почти черными пуговицами, трудно было признать могущественного «джангина», царившего над десятком туземных племен и заставлявшего их повиноваться одним своим именем.
Взглянув сощуренными глазами на петербургского щеголя, рапортовавшего о прибытии с десантом, Невельской досадливо отмахнулся и сказал:
— Поговорим потом, дома, — и повернул обратно.
За ним побежали сидевшие до сих пор на песке Петровской кошки гиляки.
— Тунгусы? — поморщился на их шкуры Буссе.
— Местные гиляки.
— Как, однако, они у вас бесцеремонны!
— Вы для них диво-дивное, как же им не гнаться за вами! — насмешливо сказал, блеснув глазами, Невельской.
Действительно, на фоне этой почти пустынной кошки и ее нескольких жалких бревенчатых домишек фигура «паркетного петербургского шаркуна» казалась странной даже и не для гиляков.
Компания продолжала шумно развлекаться, из дома разносился рыкающий по-львиному бас отца Гавриила, рокот гитары и звонкий женский смех.
«Что это у них за матросское веселье?» — брезгливо пожал плечами Буссе, входя в распахнутую Невельским дверь.
Навстречу с приветливой улыбкой шла Екатерина Ивановна, протягивая гостю руку. По комнате, заставленной некрашеными разнокалиберными стульями и табуретами, распространился аромат дорогих духов и помады.
«Хороша!» — оценил про себя хозяйку Буссе, давая такую же оценку и другой даме, Бачмановой.
Оставив Буссе с дамами, Невельской отправился на корабль, тем самым предупредив явку к нему капитана Фуругельма, повидался с приехавшим в состав экспедиции дельным и мрачным лейтенантом Рудановским, осмотрел команду и получил подробную справку о пришедшем на корабле грузе.
Вернулся он поздно ночью, когда все, кроме Екатерины Ивановны, занимавшей гостя, уже спали. Прошел к себе в кабинет, попросил подать туда чай и пригласил Буссе.
— Ну-с, Николай Васильевич, а теперь поговорим.
— Десант, который я доставил, состоит…
— Я все это, знаю. Меня интересует другое: что мы с вами будем делать дальше? — Он насмешливо посмотрел на вылощенного гвардейца.
— Мои инструкции, — доложил Буссе, — таковы: свести на берег десант, сдать его вам, разгрузить корабль и поспешить в Петропавловск.
— А как поступать дальше нам?
Буссе смутился:
— Вы просите совета?
— Нет, просто обоснованного мнения, а не инструкций.
— Дальше погрузите десант и запасы на зиму на другой корабль уже вы сюда придет корабль «Константин» или «Иртыш» — и под начальством привезенного мной лейтенанта Рудановского займете пост на западном берегу Сахалина, Занимать Аниву запрещено.
— А вы — Геннадий Иванович глубоко затянулся последней затяжкой и окружил себя синевато-серыми облаками трубочного табака.
— Я, по предписанию, возвращаюсь немедленно по разгрузке «Николая» в Аян, затем в Иркутск, и дальше — на спешную ревизию казачьего полка — в Якутск…
— Не выходит, Николай Васильевич, — выбивая трубку, спокойно сказал Геннадий Иванович. — Команду разгружать здесь некуда и незачем: через два месяца опять придется нагружаться, а тогда уж мешать будут сильные ветры. Да и устраиваться на новом месте не время. Те же бури. Тогда до зимы люди не обживутся и с непривычки начнут хворать… Я думаю иначе.
Буссе слушал и не верил ушам.
— Я думаю так, — продолжал Геннадий Иванович, — послезавтра снимаемся с якоря и плывем с вами в Аян. Там я вытяну от Кашеварова все его продовольствие, доставленное вами довольно для Сахалина, но не довольно для всех постов экспедиции… Вы вот, такой рьяный исполнитель инструкций, привезли около ста человек команды, а второго офицера и доктора не догадались!
Буссе часто заморгал и подумал: «Наверное, Рудановский наябедничал». Замечание пришлось не в бровь, а в глаз, так как Буссе сам отказался от доктора — ради экономии.
— Ну, так вот, из Аяна прямо с вами и пойдем занимать Аниву! — И, видя, что Буссе растерялся, добавил: — У вас для десанта только один офицер лейтенант Рудановский, а по уставу полагается не менее двух. У меня лишнего офицера нет.
— У меня, — возразил Буссе, — предписание генерал-губернатора, я не могу…
— Начальник здесь я. Я и ответствен за свои действия. — Невельской встал, прошелся по комнате, взглянул на часы, потом на смущенного Буссе и со словами: — Как поздно! Я вас задержал, прошу прощения, — протянул руку.
«Пусть очухается, завтра договорим», — подумал он и вслух сказал:
— Я провожу вас до шлюпки.
Качаясь на мягкой волне бухты, Буссе кипел негодованием. Его возмущало все: и то, что пришлось проститься с веселой зимой в Иркутске, где он рассчитывал красоваться перед дамами, ухаживать за миловидной генерал-губернаторшей, французить, дирижировать танцами, и вдруг… Сахалин… айны… черт знает что!.. И как он противен, этот Невельской: опустился, неряшлив, запанибрата со всей своей опростившейся до глубокого мещанства бандой, чуть не матросней, брр… «Муравьев надул», — решил он и пожалел, что попался и соблазнился карьерой. «Вы понимаете, Николай Васильевич, — вспомнил он слова Муравьева, — что через год вы — полковник, а через два — генерал и начальник области в два раза больше Франции». Вот тебе и Франция!
— Вы поздно вернулись и плохо спали? — спросил утром капитан «Николая» Фуругельм, каюта которого была рядом. — Я слышал, как вы ворочались с боку на бок и вздыхали.
— Завтра снимаемся, — не отвечая на вопрос, сказал Буссе, на всякий случай не сообщая о своей сахалинской командировке: авось «пронесет».
Но, увы, не пронесло…
Вечером 20 сентября при легком ветерке «Николай» уже подходил к Тамари-Анива. Из поселения не доносилось никаких звуков, но бегавшие по берегу и на возвышениях огни выдавали происшедший переполох. Часа через два беготня прекратилась. Спят или что-нибудь замышляют? Зарядили на всякий случай пушки картечью, поставили усиленный караул.
Яркое утро представило селение Тамари как только могло лучше: глубокий темно-синий залив отражал рассыпанные в беспорядке по возвышенному берегу веселые домики и какие-то неприглядные длинные сараи. На высоком восточном мысу, окруженный небольшими строениями, высился японский храм.
— Царит! — подмигнул Невельской Бошняку, случайно подхваченному им по пути, и указал рукой на храм.
Шлюпка причалила к берегу.
— Батарейка? — спросил понимающе Бошняк.
Невельской утвердительно кивнул.
— Я думаю, не лучше ли та сторона? — вмешался Буссе.
— Ну что ж, осмотрите, прогуляйтесь, — предложил Невельской, усаживаясь на борт вытянутой на берег шлюпки и уминая в трубке табак.
Обратно Буссе вернулся скоро: там оказалось междугорье.
— Не нравится мне что-то эта ваша Анива, — заявил Буссе. — Прямо в пасть японцам, и со всех сторон дикари… да и занимать запрещено.
— Запрещено-то запрещено, — сказал Невельской, — все корабли заходят именно сюда, и здесь-то наш русский флаг и наше объявление «убирайтесь подобру-поздорову» сыграет свою роль. Японцы не помешают — с нашим приходом нам же придется защищать их от айнов, и мы должны и будем их охранять.
— А торгуют и рыбу ловят пусть по-прежнему, — закончил Бошняк.
«До чего распущенны эти моряки! — подумал Буссе, косясь на Бошняка. Следовало бы одернуть этого молокососа!»
— Так завтра начинаем, — решил Невельской, махнувши гребцам.
Вечером на корабле прочли приказ начальника экспедиции: «Завтра мы занимаем Тамари-Анива, для чего к 8 часам утра вооружить баркас фальконетом и погрузить на него одно орудие со всеми принадлежностями. Приготовить к этому времени двадцать пять человек вооруженного десанта при лейтенанте Рудановском, который должен отправиться на берег на упомянутом баркасе. К этому же времени приготовить для меня шлюпку с вооруженными гребцами, на которой я в сопровождении господ Буссе и Бошняка последую вместе с десантом, и, наконец, кораблю «Николай» подойти сколь можно ближе к берегу и зарядить на всякий случай орудие, дабы под его прикрытием производилось занятие поста».
Когда утром шлюпка подошла к берегу, четыре японца во главе толпы айнов замахали с берега саблями, тем самым показывая, что выходить из шлюпки запрещают.
— Мы «лоча», — громко в рупор заявил Невельской, — по повелению нашего императора пришли защищать вас, японцев, и вас, айнов, от иностранных кораблей, которые вас часто обижают. С этими намерениями мы здесь поселимся.
Переводчик медленно переводил, и айны удовлетворенно кивали головами, а затем в знак гостеприимства и дружбы замахали над головами ивовыми метелочками. Японцы опустили обнаженные сабли.
С удивлением смотрел Буссе, как айны предупредительно и усердно помогали матросам высаживаться, таскали на берег багаж, фальконет и пушку, помогали устанавливать флагшток.
— На молитву! — скомандовал Невельской.
Все встали на колени. При пении «Спаси, господи», скинув шляпы, неуклюже вставали на колени и айны. Когда же Невельской и Буссе стали тянуть кверху флаг, а с корабля при матросах, картинно и дружно разбежавшихся по вахтам, грянул салют и раздалось дружное «ура!», закричали и развеселившиеся айны, подкидывая вверх метелки.
Торжественное собрание состоялось в большом сарае с бумажными окнами. Невельской повторил, что целью водворения русских являются защита и порядок, и изложил это, по просьбе японцев, письменно для отсылки на остров Матсмай, а затем пригласил трех японцев и двух айнов с собою на корабль. На берегу остался караул под командой Рудановского.
Ожидавшие расправы с японцами айны были разочарованы, стали шуметь, грозить кулаками.
— Они нас ограбят и растерзают, — шептали Невельскому японцы, кивая в сторону айнов.
— Не бойтесь, — пообещал Невельской и, обратившись к айнам, сказал:
— Мы пришли к вам с миром, а нарушителей порядка немедленно, тут же, на глазах у всех, накажем!
Это подействовало, толпа успокоилась и приняла участие в песнях и плясках матросов.
— Айны уверены, — сказал на обеде старший из японцев, — что вы им разрешите разграбить наши склады.
— Нет, этого не будет, — твердо заявил Невельской, — не позволим. Но и вам тоже не позволим обижать айнов.
Ночью японские склады охранялись русскими часовыми, а утром команда разместилась в уступленных японцами сухих помещениях.
Первый на Сахалине пост, Муравьевский — так назвал его Невельской — был снабжен своими и японскими товарами и припасами, как ни один пост на Амуре. На постройки японцы предложили купить у них несколько сот бревен. Один готовый сруб доставил на себе «Николай».
«Ну что же, — с горькой усмешкой думал о себе в третьем лице Буссе, семьдесят недисциплинированных русских мужиков, триста бородатых дикарей в собачьих шкурах, два десятка японцев с верованиями и обычаями пятнадцатого века, один невоспитанный и грубый моряк в офицерской форме да пьяница приказчик — вот и все общество, в котором придется вращаться пажу его величества долгие месяцы, а может быть, и годы!»
Он злобно ворошил ногами стружки и обрезки, покрикивая на складывающую дом команду.
«Надо было бы, конечно, отдаться работе… Но какой?..» Паж его величества вскоре убедился, что делать он ничего не умеет, и стал завидовать и Рудановскому, для которого открывалось широкое поле исследования берегов, заливов, бухт, нанесения их на карту, географическое изучение страны; и приказчику Самарину, который должен изучать торговые возможности и устроить и развить торговлю — тут и постоянное и близкое деловое общение с людьми и разнообразие впечатлений… Завидовал и японцам, которые проводили время в хлопотах о предстоящем сезоне — искали покладистых рыбаков, айно, которых живо приручали и держали на положении рабов, завидовал даже айнам, которые жили у себя дома…
Оставалась необученная команда, но эта команда считается морской! Неужели и ее уступить лейтенанту Рудановскому? Что же делать тогда ему, майору Буссе? Муштровать ее?
Буссе занялся строительством: строились три дома, хлебопекарня, редут, две батареи. Купленных у японцев бревен не хватало, рубили лес. За шесть верст люди таскали на себе тяжелые бревна. Собаки помогали плохо: мало было снега. Дорога — с горы на гору. Люди выбивались из сил.
Питание было неплохим — оно состояло из большого количества солонины, ячневой крупы и мучной болтушки. Но оно было лишено свеженины, зелени, овощей, кореньев. Буссе спохватился только, когда половина команды стала еле бродить, охваченная цингой, только тогда он вспомнил об охоте. А кругом были и медведи, и олени, и козы, и тучи пернатых!
От первого салюта сахалинской батареи, что на Муравьевском посту, 29 сентября 1859 года прошло всего три месяца. Приходил «Иртыш» с высланным на берег нетрезвым, по мнению Буссе, офицером. Буссе были противны «эти опустившиеся и грубые моряки», он постарался тотчас, не давая им сойти на берег, отправить их на зимовку в Императорскую гавань…
«И без того Рудановский не признает никакого подчинения, а тут мог бы получить товарищескую поддержку: эта морская банда держится дружно, да и славу пустят дурную…»
Прибыл Орлов, пройдя зигзагом с западного на восточный берег, вдоль почти всего Сахалина, и привез успокаивающие сведения о настроениях северных айно и неутешающие — о японских происках в ближайших селениях; Буссе отправил на «Иртыше» заодно и Орлова: зачем ему этот седеющий, обросший, как айно, какой-то поручик из штурманов, даже не из дворян? Ему, пажу его величества, гвардейцу, во всяком случае не пара.
Не веселило и окружающее общество. Приемы у японцев и айновских старшин — «праздник медведей», собрание старшин, с которыми японцы в сношениях, — скучно!.. Не веселили дальние бесцельные прогулки, да и опасно. С лейтенантом Рудановским, которого он лишил права распоряжаться людьми, лодками, права самостоятельно намеченных экспедиций, он вообще порвал всякие отношения, кроме службы, и бывал счастлив, когда Рудановский уходил в свои скитания надолго. «Двух хозяев в доме быть не должно!»
С беспокойством ожидал Буссе ранней весны: будет ярмарка в трехстах верстах к северу, в селении Нойоро, съедутся айно, японцы, маньчжуры и гиляки и даже дальние орочи. Придут за рыбой японские джонки… «Надо было основать пост севернее, на берегу Татарского пролива, вблизи к торговому узлу, и, таким образом, действительно показать свои миролюбивые цели, а не дразнить японцев и айно своим военным флагом над главным селением в заливе Тамари-Анива!» — Буссе решительно осуждал распоряжения Невельского.
А между тем благодаря штурманскому поручику Орлову — не из дворян, кипучему лейтенанту Бошняку и неспокойному, неуживчивому лейтенанту Рудановскому все яснее и яснее выступало лицо Сахалина: богат желанным углем высокого качества и легкодоступными металлами; есть даже золото, есть глубокие, хотя и небольшие, бухты, судоходные реки; изобилует лесами, особенно хвойными, пушным зверем; незанятые пространства годны для земледелия; несметно богат рыбой, а что важнее всего, мирное, доброе, никому не подчинявшееся население хорошо расположено к русским. Толковые карты и промеры дополняли рассказы. И все это сделали «несносные и грубые» Орловы, Бошняки, Рудановские!
Для зараженного снобизмом, только что покинувшего блестящий гвардейский полк, жаждущего беспечной жизни и крупной карьеры майора Буссе несколько опасное положение на Сахалине казалось тюрьмой. Он мечтал о появлении здесь эскадры графа Путятина, о которой слышал еще в Петербурге, но она не приходила. Муравьев обещал ему адъютантство при себе, но, конечно, забыл, уже давно взял себе другого.
22. Предательские удары
К началу навигации 1853 года в северной половине Тихого океана, как это бывало и раньше, корабли всех наций вдоль и поперек бороздили обширные его пространства. Картина, казалось, не изменилась: одни спешили к американским берегам, чтобы освободиться от груза и получить взамен новый, другие — за тем же самым бежали к китайским берегам, третьи — устремлялись на север, вдоль азиатских берегов, к Берингову проливу.
Приходили сюда из Европы, кратчайшим путем, огибая Америку с юга, вокруг мыса Горн, приходили старыми изъезженными путями, огибая Африку, и тянулись вдоль длинного и причудливо изрезанного побережья Азии, мимо многострадальных колониальных стран.
На самом деле эта, казалось, обычная картина теперь носила другой характер: трудовая, спокойная деловитость сменилась подозрительной, нервной, настороженной торопливостью: корабли меньше застаивались в гаванях, явно уклоняясь от встреч с другими. Шли ночами, шли крадучись, не привычными, хорошо изученными морскими путями, а новыми, случайными, подчас весьма странными и непонятными.
Неожиданно встречаясь в гаванях, обшаривали друг друга испытующими взглядами и следили за каждым движением. Наружно по-прежнему обменивались любезными визитами, салютовали и даже устраивали приемы, на которых подпаивали гостей, а подпоивши, старались узнать, откуда пришли, какими путями, надолго ли сюда, что слышно в Европе… Обманывали друг друга!
Поражало небывалое удвоенное и даже утроенное количество «китоловов» всех наций в Охотском море, поражало и большое количество военных и просто вооруженных судов, обращенных в военные: мирные купеческие флаги и ряды многочисленных пушек по их бортам как-то плохо гармонировали друг с другом. Шли под своими и под чужими флагами.
Вся эта суета вызывала смутную тревогу. Тревога охватила оба тихоокеанских побережья и со дня на день усиливалась: выяснилось, что блуждавшие по океану одиночки сговаривались, искали друг друга и находили. Тогда сбивались в эскадры и либо отстаивались и скучали в вынужденном бездействии, чего-то выжидая, либо спешили в море, чтобы, бесследно сгинув в нем, через некоторое время возвратиться… Далеко от гавани встречались пакетботы, чтобы первыми захватить почту, а прежде всего газеты.
Тревога охватила и Амурскую экспедицию, а с нею и управление сибирского генерал-губернатора уже давно, но теперь тревога превращалась в уверенность наступления близкой опасности, которую необходимо встретить во всеоружии.
Приближение опасности неотвязно маячило перед глазами каждого члена экспедиции, каждого чиновника Иркутской канцелярии, купцов, отправлявшихся в море за пушниной, перед экипажами нагруженных до отказа транспортов.
Однако полные тревоги и убедительности письма, личные доклады и ссылки на неопровержимые доказательства, что наступает расплата за благодушие, не доходили до ушей «троеверца» канцлера. Он с упоением по-прежнему предавался дипломатическим хитрым подсиживаниям и плохо разбирался в ходе как европейских, так и дальневосточных дел, скрывая от царя все, что могло его огорчить, и поддакивая его ошибкам. Крылатые слова об «иностранном министре русских дел» облетали столицы мира.
Понять, что дальневосточная политика, как часть целого, не отделима от европейской и творится теми же людьми, по-видимому, было не по силам Нессельроде. Россия все ближе и ближе скатывалась к краю бездны.
…Американская эскадра Перри состояла из десяти крупных военных кораблей. Для нее вынуждены были снять с островов Зеленого Мыса корвет и шхуну. К ней присоединялась и другая эскадра Рингольда — из четырех судов. Цель ее и направление были менее определенные: «с ученой целью на север».
Англичане насторожились. «На север!» Это могло означать: Сахалин, Татарский залив, Аян, изобиловавшее китами, прибыльное Охотское море и еще дальше… Что же за этим кроется? Ведь не поиски же погибшего англичанина Франклина гонят американцев в Северный Ледовитый океан?
Слышно, будто задумала и Россия попытаться открыть японские порты для себя. Уж не вместе ли? Русская эскадра Путятина в пути, правда, пока невелика — один фрегат «Паллада» да легкая паровая шхуна «Восток», но русские хитры: эскадра живо обрастет по дороге.
И она действительно по дороге стала обрастать: к ней присоединился корвет «Оливуца» — из Камчатской флотилии, затем барк российских колоний в Америке «Меньшиков» — из Ситхи.
Спешно стягивали свои рассеянные по всему Тихому океану корабли французы и англичане.
— Что-то ты стал часто задумываться, мой дорогой? — спрашивала, наклонясь к Геннадию Ивановичу, жена, любовно проводя по его волосам когда-то нежной, надушенной, мягкой, а теперь загрубелой ладонью.
— Да-с, Екатерина Ивановна, верно: чувствую, заваривается каша раньше времени — больше передышки, видимо, не получим… А ни в одном месте ничего еще не окончено, все начала, затеи, но ни людей, ни средств. Особенно беспокоит, конечно, Сахалин, на котором этот трусливый и ленивый тюфяк, да еще беспомощный, брошенный на произвол судьбы твой любимец Бошняк… Как он там изворачивается?..
— Извернется, — успокаивала Екатерина Ивановна. — Да он и не один, там «Николай».
— «Николай»-то хорош: он снабжен, а вот, если этот дурень отправил в Императорскую «Иртыш» в чем мать родила, что тогда? Соберется сто человек: где будут жить? Чем питаться? А с него станется.
— Не идет сюда, значит, зазимовал в Аниве, — успокаивала Екатерина Ивановна, но как-то без убеждения. Она тоже чувствовала неладное.
— Должны бы быть давно уже какие-нибудь известия о Путятине. И вот еще… Зима какая-то ранняя, и уж очень снежная.
Действительно, еще только половина октября, а домик начальника экспедиции занесен снегом, и уже за окном упражняются, набирая силу, ранние вьюги.
Морозная бесснежная погода распространялась к югу по всему проливу. Бошняк, звеня осколками тонкого пока ледяного припая, бросил исследование берегов и с превеликим трудом пробирался обратно.
Приходившая в Де-Кастри в начале октября из Нагасаки от Путятина винтовая шхуна «Восток» запаслась на Сахалине бошняковским углем и через несколько дней ушла, разминувшись с Невельским. Видал ее только зимовавший на посту мичман Разградский.
А в Императорской гавани события перебивали друг друга: еще не успел устроиться здесь «Николай», как гавань уже покрылась льдом. Вынужден был здесь бросить якорь и захваченный зимой «Иртыш», с обессиленной от трудных переходов командой, без продовольствия и без зимнего снаряжения. Предстояла длинная, холодная и голодная зима… Сообщение с Петровским до весны было прервано.
Сутолока устройства на месте и мелькнувший, как метеор, короткий визит путятинской шхуны «Восток» на момент отвлекли зимовщиков от тяжелых дум: казалось, навестили самые близкие родные. Да так оно и было. Бошняк встретился с Чихачевым, заразившим своей неисчерпаемой энергией и жизнерадостностью всю молодую, но уже видавшую виды компанию. Командир шхуны Римский-Корсаков сумел создать у себя сплоченную семью моряков, цепко державшихся друг за друга…
— Какой же может быть тут разговор? — сказал он, внимательно слушая доклад Чихачева о бедственном положении зимовщиков. — Рассчитайте, через сколько дней доберемся до первого населенного пункта, оставьте для нас самый скупой паек, спросите команду, согласны ли недельку поголодать, а все остальное — вам. Да, кстати, — добавил он после некоторого раздумья, — можно вынуть стекла из наших окошек и иллюминаторов, вы же строитесь. А нам только как-нибудь добраться, ведь на юг идем! — И вслед повернувшемуся Чихачеву: Отдать им все зимнее, кроме самого необходимого для нас.
И тут же сам подумал с негодованием: «Ну и дубина же этот самый Буссе!» — и покачал головой.
Проводив «Восток» с его дружной, спаянной семьей, Бошняк низко опустил голову и побрел домой. Положение его, как начальника Константиновского поста, угнетало. И впервые он почувствовал себя неудовлетворенным и работой и положением: сказались непосильные лишения, сказалась тоска по брошенному уюту и мирной жизни, сказались, наконец, его двадцать три года! Как назло, захворали еще двое людей…
А ведь зима еще впереди!
— Надо бороться до конца, — пытался подбадривать он себя.
Ехать в Петровское соседние маньжчуры отказались, отказались даже назначить плату: на нартах не поедешь — снегу нет, собак кормить в дороге нечем, не приготовлено, для лодки вместо воды — лед, пешком — замерзнешь… Словом, куда ни кинь, ничего не выходит. И, однако, как только выпал снежок, изгнанный майором Буссе с Муравьевского поста старый поручик Орлов не стерпел, нагрузился письмами и побрел в Петровское — все равно умирать… Побрел по еще недостаточно замерзшей тундре, по ломающемуся под ногой ледку на обширных лужах и стремительных, еще не замерзших холодных ручьях.
Цинга в Константиновском вспыхнула уже в ноябре, а в конце декабря на работу выходило только пять человек. Команда «Иртыша» скученно ютилась в построенной из свежесрубленного леса избенке, сырой и холодной, но все же это было лучше, чем давший течь корабль, не имеющий печей. Команда «Николая» отказалась покинуть корабль и устроилась в камбузе около печурки.
Стреляли ворон и с отвращением ели — все-таки свежатинка. Изредка удавалось поймать рыбу.
В январе стали умирать…
«У нас все благополучно, — с горькой иронией сообщал Невельскому Бошняк, — здоровых ни одного! Очень сожалею, что Н. В. Буссе не видит всех последствий своей эгоистической ошибки. Только надежда на бога да на скорую от вас помощь нас все еще воодушевляет и поддерживает…»
А в занесенном снегами Петровском жилось в эту зиму неплохо. Осенью приехал из Петропавловска через Аян брат Екатерины Ивановны, моряк. Удалось хорошо снабдить продовольствием и теплым платьем Николаевский и Мариинский посты. Люди были сыты, здоровы. Ходко шла стройка. Невельской мечтал с первыми днями навигации получить корабль и разбросать военные посты до самой Кореи: требовал от Муравьева винтовую шхуну для исследований лимана, наметил ряд новых экспедиций…
А в сердце было неспокойно: все ли благополучно в Императорской гавани, откуда известий все не было? Наконец не выдержал и 15 декабря послал туда мичмана Петрова, наказав ему на всякий случай вернуться в Мариинск, если встретит почту, и в Мариинске сменить Разградского.
К Новому году обычный семейный съезд на Петровской кошке не состоялся.
Полумертвый Орлов добрел до Петровского 10 января… Известия, им доставленные, ошеломили Невельского. Слушал он Орлова молча, оживившись лишь в момент, когда узнал о том, что шхуна испытала в походе сахалинский уголь и что он оказался прекрасного качества. Прослушал молча и рассказ о трагедии «Николая» и «Иртыша», только сжал кулаки и процедил сквозь стиснутые зубы: «Скотина!»
Через несколько дней к месту трагедии шагали предназначенные на убой олени, до отказа нагруженные продовольствием. Геннадий Иванович провожал, осматривал снаряжение, укладку… Высыпали на двор обитатели Петровского. И тут впервые в жизни Екатерина Ивановна увидела, как по обветренным морщинистым щекам мужа текут и падают на снег слезы… Заметивши, как он отворачивается, стараясь скрыть их, она повернулась и сама быстро пошла к дому — слезы душили ее. Не хотелось верить, что это мстительный, предательский удар когда-то оскорбившегося мелкого себялюбца… Столько жизней!
В начале февраля неожиданно явился к Невельскому чистенький, тщательно выбритый Дмитрий Иванович Орлов и как-то бочком, отвернувшись и не глядя ему в лицо, чем-то смущенный, сказал:
— Геннадий Иванович, я совсем оправился и чувствую себя очень хорошо.
— Ну что ж, прекрасно, — ответил Невельской. — Скоро весна, надо готовиться к дальнейшим исследованиям Сахалина. Пойдете вы так…
Невельской наклонился к столу и вынул из ящика карту Сахалина с новыми намеченными маршрутами.
— Я не о том, Геннадий Иванович, я хочу просить вас отправить меня сейчас.
— Вы что, с женой, что ли, поссорились? — вскинул голову Невельской.
— Нет, Геннадий Иванович, — и потупился, выдавливая из себя слова и заикаясь. — Подбодрить надо… Олени-то еще когда придут?
— Подбодрить, говоришь?.. Дмитрий Иванович, дорогой! Ведь я об этом самом все ночи напролет думаю. Да послать было некого. Ах ты, боже мой, как это хорошо ты надумал! Да хоть завтра выступай! Налегке-то скоро пройдешь… Да со словом утешения кое-чего подкинешь, ну хоть сахару там, что ли, чаю, медикаментов!..
И через пять дней с двумя легкими нартами, с лучшими собаками Орлов спешил на лыжах к Константиновскому порту. Он нес слова утешения, но с ними и распоряжения о весенних плаваниях «Николаю» и «Иртышу», сахалинские маршруты для самого себя и исследования берегов к югу до Кореи — для Бошняка.
В марте в Императорской гавани цинга забирала свою двадцатую жертву…
Еще в заливе ломало лед, как от адмирала Путятина пришел корвет с продовольствием для зимовщиков, доктором и медикаментами. Две чарки вина в день, чай с ромом, весенний воздух и свежатина — утки, гуси, лебеди произвели в несколько дней чудо. Больные стали поправляться. Бошняк просил командира забросить в Аниву Орлова и там помочь, если понадобится, Буссе и Рудановскому: как там команда? Сумели ли они справиться с зимовкой?.. Командир сделал больше — он захватил с собой на свой корвет всех больных, в том числе и капитана «Иртыша», а на «Иртыш» назначил Чихачева.
Олени из Петровского запоздали. Они пришли только в мае, но пригодились для снабжения готовящихся к навигации «Иртыша» и «Николая».
Ушли они, пришел из отряда Путятина компанейский барк «Меньшиков» предупредить, что за ним идет под адмиральским флагом фрегат «Паллада», что сюда соберется вскоре вся эскадра, что на борту «Паллады» находится известный писатель Гончаров и, наконец, что адмирал Путятин назначил рандеву и здесь будет поджидать генерал-губернатора Муравьева.
Невельской ждал от весны много: он знал, что Муравьев задумал провести по Амуру сплавную экспедицию воинских команд и что для этой цели на Шилке подготовляется большая флотилия, что в помощь ей строится пароход и что машину для него готовит Петровский завод… Все это хорошо… За дело взялись его старый друг Казакевич и инженер Дейхман, формирует команды для сплава Корсаков, все люди надежные, значит надо считать, что так и будет… Но что скажет Петербург? Что скажет господин Нессельроде?..
А в Петербурге в это время происходили ожесточенные схватки только что подлечившегося за границей Муравьева с азиатским департаментом и чуть ли не со всеми министерствами: департамент путал его политические карты, военное министерство не давало ни солдат, ни пушек, министерство финансов — денег, великодушно предоставляя право действовать на свои сибирские «остатки».
Тем не менее дела здесь пошли хорошо: Муравьев добился от царя права самостоятельно вести переговоры и переписку о границах, сформировать и сплавить войска и артиллерию по Амуру для укрепления Камчатки и доставки их затем через Аян в Петропавловск и, наконец, свободно распоряжаться остатками бюджетов по всем ведомствам по Восточно-Сибирскому генерал-губернаторству.
Российско-Американская компания в двадцатых годах вела оживленные сношения с Нессельроде и его азиатским департаментом. Ее высокопоставленные члены главного правления в Петербурге и управление на местах получали от Нессельроде специальные задания и инструкции, как себя вести в Русской Америке и на островах Тихого океана.
Такое положение подрывало авторитет генерал-губернатора Восточной Сибири, с которым управление в Ситхе могло и не считаться.
Суровые, не приукрашенные фиговым листком светской вежливости письма Невельского давно уже не нравились правителям Российско-Американской компании. Вместе с жалобой на бесцеремонное использование Невельским кораблей компании для своих нужд, на самостоятельное распоряжение товарами, запасами продовольствия и даже людьми правление представило Муравьеву «избранную переписку» Невельского, просило о «защите».
Муравьев вспыхнул: только этого недоставало! И тут же написал Геннадию Ивановичу:
«Я, к сожалению, должен заметить вашему высокоблагородию, что выражение и самый смысл этих бумаг выходит из границ приличия и, по моему мнению, содержание оных кроме вреда для общего дела ничего принести не могло… Неудовольствия ваши не должны были ни в коем случае давать вам право относиться неприлично в главное правление, место, признаваемое правительством наравне с высокими правительственными местами…
Не могу не повторить с сожалением, что неуместные бумаги ваши и неосновательные требования нарушили уже навсегда то доверие, которое бы главное правление для пользы службы должно было иметь к власти, поставленной на устьях Амура…»
23. Вниз по русскому Амуру
Муравьев спешил на Шилку приводить в исполнение свою давнишнюю мечту: снабдить войсками петропавловские и амурские посты. Впереди предстояло близкое свидание с Путятиным и с Невельским где-нибудь возле устья Амура. Путешествие шло по совершенно новому, небывалому пути.
Муравьев ехал окруженный большим числом спутников, шумно и быстро, так что оставаться наедине со своими мыслями приходилось мало. Тем не менее назойливо всплывала мысль о том, что его письмо к Невельскому вышло слишком резким и что вряд ли одобрила его прихворнувшая Екатерина Николаевна, как не одобрил его и Миша Корсаков. «Ведь на самом деле, — рассуждал Муравьев, то, что он сейчас поплывет с войском по Амуру и этим путем может спасти весь юг своего наместничества от какого бы то ни было вторжения иностранцев, да не только юг, но и Камчатку, все это сделано сверхчеловеческой настойчивостью и упорством маленького Невельского… И он, Невельской, вправе обидеться, уйти!.. Правда, многое сделано, но еще больше осталось. Кто сумеет взяться как следует за исследование амурского лимана, кто может решиться искать незамерзающий порт у границ Кореи? Кроме того, наверное, придется бить отбой и насчет Сахалина: компания не справится с его закреплением и заселением. А один Муравьевский да Ильинский посты не решают дела… Надо как-нибудь помириться с Невельским, обласкать. Конечно, надо сделать как-то так, чтобы связать его по рукам, но ровно настолько, чтобы он не смог впредь ссориться и путать карты…» Размышления Муравьева прервались — подъезжали к зароду.
Шилкинский завод встретил генерал-губернатора пышно, умело. Из Читы прибыл губернатор и наказной атаман казачьего войска генерал Запольский, из Верхне-Удинска — командир дивизии генерал Михайловский, из Нерчинска горный начальник заводов Разгильдяев с огромной свитой инженеров. Вышел навстречу соборный благочинный в облачении, со всем своим причтом и хором певчих, и тут же благословил Муравьева древней иконой, спасенной в Албазине во время пожара.
Шилкинский завод кишмя кишел встречавшими и похож был не то на шумный портовый город, не то на военный лагерь — всюду мелькали военные мундиры: флотские, армейские, артиллерийские, инженерные, казачьи.
На середине реки стоял на якоре построенный на средства покойного купца Кузнецова шестидесятисильный пароход «Аргунь», а у берега до самого горизонта тянулись баржи, плашкоуты, лодки, плоты, нагруженные хлебом, мясом, вином и множеством других припасов, необходимых для дальнего похода.
Арки, картины, триумфальные ворота, транспаранты, пирамиды украшали поселок. На одной из картин, изображавшей стрелку при слиянии Шилки и Аргуни, красовалась гигантская статуя рыцаря в доспехах. Статуя держала в одной руке щит, в другой меч и указывала на восток, где были видны пришедшие на поклонение монгольские племена, а дальше — нивы, церкви, сельские и горные работы, звери края и, наконец, вдали город на взморье, с кораблями, пароходами, лодками. Внизу надпись:
Туда, наш витязь полунощный, Туда, где царствовал Чингис, Как исполин Сибири мощный, Возьми Амур и укрепись!..«Шуткарь!» — улыбнулся Муравьев и искоса взглянул на толстого, тяжело дышавшего самодовольного хозяина встречи, инженер-полковника Разгильдяева. Муравьеву захотелось сбить надутое самодовольство, и он сказал:
— Кажется, совсем забыли о моих помощниках!
Неожиданно полковник стал еще самодовольнее и быстро направился в сторону. Там на большой картине плыла по реке лодка с тремя штаб-офицерами, а надпись гласила:
Хвала и вам, отважные пловцы, Корсаков, Невельской и Казакевич! Так встарь яицкие ходили удальцы, И так ходил Ермак наш Тимофеич…Взглядом торжествующего победителя посмотрел Разгильдяев на улыбающегося Муравьева и тут же широким жестом хлебосольного хозяина пригласил его «откушать».
За столом выяснилось, как живо откликнулось на сплав по Амуру население Сибири сотнями депеш, поздравлений и приветствий, а купцы и промышленники крупными денежными приношениями. Расходы по сплаву были покрыты с избытком… Всегда подозрительное в глазах Муравьева проявление казенного энтузиазма на этот раз казалось ему искренним, и уже не коробили бесчисленные тосты, речи, стихи, величания, кантаты…
На следующий день назначен был смотр войскам, осмотр флотилии и каравана и изучение плана сплавной экспедиции.
Утром 14 мая — тревога по лагерю. Торжественный молебен. Посадка на суда и плоты. Поднятие флага на генерал-губернаторском баркасе. И при мягком закатном косом освещении флотилия двинулась по быстрой Шилке вниз. Громкое «ура» населения завода далеко ее провожало. Взлетали высоко над головами шапки, и гулко салютовала единственная заводская пушка. Флотилия растянулась на две с лишним версты…
Амур встретил путников пасмурной погодой и проливными дождями и испортил рассчитанную на эффект церемонию встречи с ним. Однако церемония все же была проведена: Муравьев высоко поднял над головой стакан мутной амурской весенней воды и под звуки гимна выпил в знак единения с недовольным Амуром.
Парадом войск и молитвой почтили исторический Албазин. Взошли на холм, где когда-то стоял русский казачий острог. Ясно видна была линия покрытых травой валов старой крепости. С обнаженными головами выслушали речь о том, как двести лет назад горсть русских пионеров-казаков отбивалась от нескольких тысяч маньчжур.
Любопытные шарили в траве и подбирали уцелевшие старые кирпичи, обломки печей, обожженные пожаром зерна ячменя, кули, осколки глиняных горшков и даже куски окаменевшего хлеба, — очевидно, место это не посещалось даже птицами.
Торжественный похоронный «Коль славен»… и дальше!
Невельской деятельно готовился встречать весну и со дня на день поджидал ледохода и личных докладов разогнанных в разные стороны членов экспедиции. Екатерина Ивановна никак не могла поправиться после родов второй дочери Веры и тенью бродила по комнатам, заботливо поддерживаемая с двух сторон Бачмановой и матушкой Вельяминовой. Молока по-прежнему не было.
Маленькая Катя таяла на глазах и упорно отказывалась от пищи. Не вставая, лежала навзничь, уставясь неподвижно в потолок немигающими, потускневшими глазами…
— Не вынесет! — в отчаянии часто повторял Невельской и глубже зарывался в свои бумаги.
В апреле прибыло злое петербургское письмо от Муравьева, орден Владимира на шею за решительное занятие Сахалина и поздравление Муравьева из Иркутска — все это сошлось вместе… Ясно стало, что пора думать об уходе. Но до того ли?
Муравьев уведомлял о предстоящем в скором времени сплаве по Амуру: того и гляди нагрянут американцы… Что делать? В скупом сообщении Муравьева чувствовалось что-то недосказанное, по-видимому, разрыв между Россией, Англией и Францией свершился — надо готовиться к отпору.
Двадцать пять человек команды в Петровском, тридцать в Николаевском, восемь в Мариинском, десять в Де-Кастри… Вооружены кремневыми ружьями, выбранными когда-то из лома в охотском складе. Часть ружей не стреляет. Три трехфунтовые пушки и полтора пуда пороху! Невельской горько усмехнулся и погрузился в невеселые думы…
— Мичмана Разградского ко мне!
На следующий день мичман Разградский с двумя проводниками пробирался к устьям Уссури и Сунгари выбирать места для двух новых постов и принимать меры, чтобы были готовы проводники-лоцманы для сопровождения генерал-губернаторского каравана по бесчисленным протокам Амура. «Гарнизон из тридцати человек снять с каравана для Уссурийского и десять для Сунгарского постов. Самому вернуться с людьми в Мариинское и ждать». Таков был приказ Невельского.
Плавание Муравьева продолжалось при ясной погоде беспрерывно. Пышность и торжественность были нарушены только одним шквалом, разбросавшим суда и подмочившим запасы провианта.
4 мая в Петровское пришла из Аяна почта: генерал-губернатор уведомлял, что рассчитывает быть 20-го в Мариииском, откуда войска пошлет прямо в Де-Кастри. Камчатский губернатор Завойко доставит туда транспорты для перевозки их в Петропавловск. Оставалось, таким образом, недели две, не больше… Залив во льду…
Однако надо было во что бы то ни стало добраться до Мариинского, а это возможно было сделать только через Николаевск на оленях и то с большой опасностью, по невообразимой распутице. Но олени только что прошли несколько сот верст из Аяна по горам, их всего-то четыре — не выдержат.
Отдыхавшие три дня олени были все же так сильно изнурены, что по скользким горам, покрытым мокрым снегом долинам и подснежным ручьям Невельскому пришлось идти по колено в воде, пешком.
Из Николаевска, не останавливаясь, с двумя казаками, Невельской продрался на байдарке в Мариинское. Оттуда с Разградским — вверх по Амуру, к устью Сунгари, навстречу Муравьеву, по пути обеспечивая караван лоцманами. Срок прошел — Муравьева не было!
Здесь нашел Невельского нарочный из Мариинского с письмом от командира винтовой шхуны «Восток», бросившей якорь в Де-Кастри: в бухте уже ожидали Невельского транспорты «Иртыш» и «Двина» от адмирала Путятина и «Байкал» от Завойко… Невельскому пришлось спешить в Де-Кастри, а честь встречи Муравьева передать мичману Разградскому.
Еще тяжелее стало Невельскому, когда он узнал о разрыве с Англией и Францией и о предательстве Буссе: прикрываясь распоряжениями Путятина, Буссе снял Муравьевский пост, хотя Путятин свое распоряжение сделал условно: «Если оно не противоречит особым распоряжениям вашего начальства».
На юге, у корейских границ, как и предполагал Невельской, открыт Путятиным незамерзающий залив Посьет… Адмирал Путятин укреплял Константиновскую бухту, где сосредоточилась почти вся его эскадра, во главе с фрегатом «Паллада», да, кроме того, два корабля Российско-Американской компании.
Возвратившись в Мариинское, Невельской, наконец, встретился с Муравьевым.
Обласкал ли он, как хотел, Невельского? Да, он привез ему высочайшую благодарность, глубокую признательность от князя Меньшикова, браслет для Екатерины Ивановны от министра Перовского и сам выражал горячую признательность.
— Я должен вам сказать, Геннадий Иванович, что там, по Амуру, вместо деревень мы находили пустыни: жители разбегались при одном слухе о нашем приближении. Здесь же, в ваших краях, к нам выходили гольды в сопровождении своих старшин, кланялись, везде выставляли и посылали навстречу лоцманов. Здесь, ближе к вам, торговец маньчжур на коленях просил прощения за самовольную торговлю и умолял непременно дать ему русское разрешение. Нельзя не удивляться тому огромному влиянию, которое приобрела ваша экспедиция не только на туземцев, но и на маньчжур!
«Все это хорошо, — думал в это время Геннадий Иванович, — но зачем было уничтожать посты и портить дело сосредоточением войск вместо распыления!» и с ужасом думал о назначенной зимовке около тысячи человек.
В способах защиты новых владений Невельской резко разошелся с Муравьевым. Невельской предполагал возможную блокаду врагами побережья. Небольшие посты, разбросанные по всему берегу и по рекам, могли, по его мнению, предупредить вражеский десант и легко уйти в случае необходимости от противника.
— Ни один неприятель, — убеждал он Муравьева, — не решится при этих тревожных условиях преследовать то внезапно появляющихся, то исчезающих одиночек!
Иначе дело представлялось Муравьеву. Он распорядился подкрепить Мариинское еще сотней казаков, при четырех орудиях, и оставить полтораста в Николаевске, куда переселить все Петровское.
Мнение Невельского раздражало Муравьева, злило и собственное упрямство спасать Петропавловск, который он продолжал упорно усиливать.
Известие о смерти Кати и болезни Екатерины Ивановны застало Невельского в Мариинском. Он поспешил домой. Оба молча постояли у деревянного одинокого креста и крохотного, осыпанного цветами холмика:
«Младенец Екатерина Геннадиевна Невельская родилась 15 февраля 1851 года. Тихо скончалась 10 июня 1854 года…» Как тяжело будет через несколько дней расставаться с этим дорогим холмиком на песчаной, пустынной и далекой кошке!..
Губы матери дрожали и что-то беззвучно шептали. Мокрый ее платок, прижатый к покрасневшим, набухшим векам, договаривал остальное.
24. Упрямство сломлено
Полученные награды, приветствия, поздравления и подарки друзей трогали Геннадия Ивановича Невельского, но отнюдь не радовали. Это была не та благодарность за прошлое, которая таит в себе и поощрение к дальнейшим трудам, нет, на этот раз она не поощряла, она отмечала только заслуги прошлого и тут же заживо погребала творца, от которого уже ничего не ожидали.
Так оно и было на самом деле, но судьба еще раз дала Геннадию Ивановичу случай пережить сладкие минуты горделивого сознания недаром прожитой жизни и еще раз убедиться в правоте дела, за которое было заплачено дорогой ценой.
Адмирал Путятин без колебаний приютился под крылышком Невельского и избрал местом спасения своей эскадры Императорскую гавань и устье Амура.
Очередь Петропавловска спасаться еще не наступила, а Завойко, Корсаков и Буссе в обстановке пока вообще не разбирались.
Легче других разобралась совершенно беззащитная Российско-Американская компания, о спасении которой никто не подумал, а ей приходилось не только защищаться, но и помогать своим морским транспортом Петропавловску, Амуру и адмиралу Путятину.
Владения Российской компании на северо-востоке Аляски граничили с владениями английской компании «Гудзонбай», выход из которых к Тихому океану шел по русским рекам. По ним англичане сплавляли с нашего разрешения свои товары, по ним снабжались. Казалось, война предоставляла им удобный случай овладеть реками и русской территорией, примыкающей к ним, с ее естественными богатствами, но останавливало опасение, что русские запрут водные пути и вторгнутся к ним сами. Не лучше ли договориться?..
И вот две «частные» торгово-промышленные компании, конечно только прикрывающиеся фиговым листком частных, а на самом деле государственные, договорились о взаимном нейтралитете на время войны! Это было неслыханно, этому не верили… А они не только закрепили свой нейтралитет формальными актами, но заручились и подписями воюющих держав на нем! И как ни соблазнительным поэтому казалось шныряющим всюду каперам разграбить склады компании и смести до основания Ситху, им пришлось ограничиться малоприбыльной охотой за беззащитными купеческими судами, притаившимися в чужих гаванях. Нейтралитет с обеих сторон в течение войны ни разу не был нарушен!
Иначе представлялось дело на нашем азиатском побережье: на Сахалин, Амур, Охотское море и Петропавловский порт англичане и французы взирали алчными глазами.
Мирной, преследующей заключение торговых договоров с Японией и Китаем эскадре адмирала Путятина пришлось превратиться в воюющую.
Положение ее стало весьма затруднительным: ей пришлось заменить непригодный для дальнего плавания фрегат «Паллада» другим, «Дианой». Землетрясение в Симодо уничтожило «Диану»… Эскадре вместо нового фрегата осталась только обуза «Паллада» и заботы и хлопоты, как ее сберечь. Путятин решил принять «Палладу» в Татарском проливе и, если возможно, запрятать подальше, в Амур.
Само собой разумеется, что ввод «Паллады» в реку всей тяжестью лег на Невельского, в распоряжении которого на этот раз формально, но только формально, были люди, гребные суда и даже два парохода.
Сердитый Амур, однако, энергично противился исследованию своего лимана и бесцеремонно выбрасывал плоскодонные, слабосильные пароходы на берега своих извилистых и узких каналов. «Паллада», при осадке около двадцати футов, не могла пройти к Амуру с юга, где глубина канала была всего четырнадцать.
Надо было пробовать пройти с севера — там глубина достигала девятнадцати с половиной.
Опустела Петровская кошка; всех обитателей переселили в Николаевск и занялись его укреплением. Над одинокой могилкой Кати Невельской завыли штормы, то заливая ее дождями, то засыпая песком и снегами.
Шхуна «Восток», которая должна была помочь «Палладе», все не возвращалась. Оказалось, что начинавшиеся неприятельские действия заставили генерал-губернатора отправить ее из Азии не обратно на помощь фрегату «Паллада», а с экстренными депешами прямо в Петропавловск.
У самого входа в Авачинскую губу шхуну встретил русский бот, который сообщил, что в Петропавловске, по-видимому, уже находится неприятель, так как береговой караул в красных мундирах встретил их ружейным огнем. Шхуне пришлось взять курс на Большерецк, чтобы доставить депеши уже оттуда сухим путем. О появлении неприятеля шхуне удалось сообщить и идущему в Петропавловск «Байкалу», а «Байкал», в свою очередь, должен был принять меры, чтобы как-нибудь перехватить и предупредить шедший туда же «Иртыш»…
Англичане, а за ними и французы на этот раз уже не чувствовали себя в Тихом океане как дома. Враждебно-настороженно смотрели на них океанские берега, беспокоила неизвестность и со стороны Амура. Все шпионские экспедиции и Гиля, и Пима, и Остена и тайные высадки миссионеров, упорно продолжавшиеся целыми эскадрами поиски погибшего Франклина неизменно разбивались о бдительность Муравьева: эти берега для англичан по-прежнему оставались неразгаданной тайной.
В конце апреля команды английского пятидесятипушечного фрегата «Президент» и французского шестидесятипушечного «Ля Форт» во главе со своими адмиралами с любопытством наблюдали в перуанском порту Каллао за спешным уходом русского одинокого сорокапушечного фрегата «Аврора».
Еще накануне успевшие подружиться офицеры всех трех кораблей посещали друг друга, вместе бродили по городку — и вдруг… Уж не получили ли русские сведений об объявлении дойны? Надо, видимо, гнаться за «Авророй» или хотя бы проследить, куда она ушла!
Прошло десять дней. И вот известие о том, что война в Европе идет уже больше двух месяцев! Известие прекратило колебания, но сборы растянулись еще на десять дней. Выступили. Куда же направить путь? Конечно, прежде всего к Сандвичевым островам, к этому тихоокеанскому перекрестку морских путей, там можно узнать последние новости и решить.
Действительно, здесь ожидала союзников новость: стоявший на якоре русский фрегат «Диана» несколько дней тому назад ушел в неизвестном направлении…
Неприятно… Гнаться за ним? Поздновато, не нагонишь. Зато оба корабля можно надеяться почти наверное застать в Петропавловске, так как ведь деваться им больше некуда! Там, конечно, укрылась вся русская эскадра! Об Амуре и не подумали — закрыт.
Англо-французская армада осторожно приблизилась к Авачинской губе и выслала на разведку пароход с возглавлявшим разведку самим английским адмиралом Прейсом на борту.
Адмирал Прейс слыл старым морским волком. Припрятав английский флаг, он поднял американский, осторожно вошел в бухту и осмотрелся.
Да, англо-французы не ошиблись: здесь спокойно стояли выскользнувшие из рук «Аврора» и «Диаиа». Но где же остальные? Где до отказа нагруженные драгоценными алеутскими мехами корабли Российско-Американской компании?
Прейс был разочарован и смущен. Но в еще большее смущение его привели жерла пушек на нескольких батареях: «Когда же эти черти успели соорудить батарею? Откуда столько орудий?» Опытный глаз адмирала по достоинству оценил проделанную работу и расстановку батарей. Прейс быстро сообразил, что пушки сняты с бортов «Авроры» и «Дианы», и, заметив приближавшееся сторожевое судно русских, приказал дать пароходу задний ход…
В американский флаг никто из защитников Петропавловска не поверил. На следующий день, однако, ожидаемая атака не осуществилась. Прейс застрелился, предоставив расхлебывать заваренную кашу остальным, так как на совете еще накануне вечером он твердо поддерживал предложение участвовавших атаковать.
Растерянность и похороны, тревожные сведения, полученные от рабочих-американцев о том, что русская эскадра собирается в Петропавловск с большими войсками, — все это заставило с атакой более не медлить: она состоялась через три дня…
Крохотный отряд русских защитников, воодушевленных решением умереть, но не сдаваться, использовал свое преимущество — знание местности — и на выбор расстреливал участников французского десанта, а затем, прижавши французов штыковой атакой к отвесной стене обрывающейся здесь горы, опрокинул их. Французы бросались вниз и сотнями гибли у подножья утеса. Тем временем русские батареи громили растерявшиеся и приближавшиеся на выстрел английские и французские корабли. Беглый ружейный огонь беспощадно косил спешивших к лодкам и сгрудившихся около них людей.
Сильно подбитые метким артиллерийским огнем и накренившиеся на борт фрегаты — английский «Президент» и французский «Ля Форт» — с десятком пробоин в своих подводных и надводных частях бежали из бухты во главе союзной эскадры. Трупы погибших офицеров и солдат десятками выносились в море.
Напечатанное за границей сообщение о том, что взятие Петропавловска не являлось целью набега, подлило масла в огонь: пресса требовала и добилась военного суда и казней неспособных и обнаруживших трусость командиров.
Французский адмирал Депуант, унаследовавший командование союзной эскадрой, был смещен и умер через несколько месяцев… Лондон и Париж продолжали реагировать на позорный разгром очень болезненно.
«Это не несчастье, — вопила пресса, — это пятно, которое необходимо во что бы то ни стало изгладить из книги истории. Больше того, это вина, и даже — преступление».
В довершение, не стесняясь, пресса превозносила доселе неизвестные имена своих русских врагов, военного губернатора Завойко и капитана «Авроры» Изыльметьева, и требовала: «Они имеют право на то, что их имена будут сохранены навеки в летописях флота!»
Торжество горстки победителей было заслуженно и полно, однако было ясно, что враги не преминут вернуться и не остановятся ни перед чем, чтобы раздавить дерзкую горсть смельчаков и найти и уничтожить исчезнувший русский флот.
Тут-то во всем блеске представилось предвидение Невельского: ход событий требовал немедленного (и неосуществимого) усиления отрезанных от страны Петропавловска и Камчатки, такого, которое могло бы противостоять своей силой, снаряжением и запасами соединенному флоту союзников. Муравьев и Завойко воочию убедились, что российскую мощь в Тихом океане хранит не Камчатка, а Амур. Убедились, к сожалению, с опозданием.
Геннадия Ивановича не усыпили успехи петропавловских героев. Наоборот, тревога за их судьбу нарастала с каждым днем, и он стал набрасывать генерал-губернатору донесение.
— Прочти и благослови! — Геннадий Иванович положил перед Катей испачканный кляксами лист.
«Осмелюсь доложить вашему превосходительству, — писал Невельской, — что в случае продолжения войны и в 1855 году скорое сосредоточение в Николаевске всего, что находится ныне в Петропавловске и в Японии, должно, по моему мнению, составлять единственную и главную заботу, ибо если мы благовременно это сделаем, то неприятель, в каких бы то ни было превосходных силах здесь ни появился, нам никакого вреда сделать не может, потому что банки лимана, полная неизвестность здешнего моря, удаление его от сколько-нибудь цивилизованных портов не на одну тысячу миль, лесистые, гористые и бездорожные пустынные прибрежья Приамурского края составляют крепости, непреоборимые для самого сильного врага, пришедшего с моря… При сосредоточении в Николаевске судов, людей и всего имущества Петропавловского порта единственный неприятель для нас, с которым придется бороться, — это мороз и пустыня, но, чтобы победить его, необходимо, чтобы все наши силы были обращены на благовременное устройство просторных помещений и на полное обеспечение из Забайкалья по Амуру сосредоточенных здесь людей хорошим, и в избытке, продовольствием, медикаментами и теплой одеждой… Победивши болезни и смертность от скученности, внешний враг, пришедший с моря, для нас будет здесь уже ничтожен. Прежде чем доберется до нас, он очутится в совершенно безвыходном положении… и, таким образом, война здесь будет кончена со славой, хотя и без порохового дыма и свиста пуль и ядер…» В конце письма Геннадий Иванович просил уведомить его о решении заблаговременно, чтобы приготовиться принять несколько тысяч человек со всем их имуществом.
— Этим ты нанесешь окончательный удар своей карьере, но другого выхода нет, — твердо сказала Екатерина Ивановна.
Письмо пошло 26 октября.
Замалчивая получение этого письма, раздраженный самовольством генерала Запольского и взбешенный дерзким предложением и намеками Невельского, Муравьев пожаловался в письме к Корсакову, что Невельской строит в Николаевске батарею не там, где ему указано, и закончил словами: «Он, оказывается, так же вреден, как и Запольский, вот к чему ведет честных людей излишнее самолюбие и эгоизм!.. По газетам ты увидишь, что к нам собираются от пятнадцати до двадцати судов французских и английских. Фабрие де Пуант, атаковавший Камчатку, сменен, новый адмирал раньше конца июня к нам не поспеет, и мы все успеем приплыть и приготовиться…» — так писал Муравьев.
Итак, казалось, Муравьев в своем мнении насчет Петропавловска не поколеблен и собирается весной усилить его посредством второго сплава войск по Амуру! Даже последний вопль отчаяния Невельского не дошел до сознания Муравьева. Неожиданно сломил его упрямство приказ генерал-адмирала: «Петропавловск снять и использовать приготовленные к сплаву войска для укрепления Амура». Муравьев был взбешен: несомненно, это проделка Невельского.
Теперь Амуру грозило бедствие от неожиданного перенаселения, так как Невельской о сплаве предупрежден не был. На его бедные возможности с одной стороны наваливалась петропавловская эскадра, с другой — суда эскадры Путятина. В устье Амура скопились тысячи людей.
Адъютант Муравьева есаул Мартынов приехал в Петропавловск и начале марта. Обычно в это время город с трудом просыпался от долгой зимней спячки и мечтал о близкой весне, о приходе первого корабля с почтой и снабжением, о давно исчезнувшем из обихода сахаре, пшеничной муке, чае. Этим мечтам предавались и теперь, но городу не пришлось поспать — с осени он продолжал кипеть: кончались спешные работы по укреплению, по восстановлению домов и подбитых батарей и строительству новых, заканчивался ремонт уцелевших кораблей… К мечтам примешивалась тревога: весной ожидали англо-французскую армаду.
«Умереть, но не сдаваться, несмотря ни на что!» — такой девиз прочно укрепился в губернаторском доме Завойко, таким же он был и повсюду, вплоть до уборщиков снега с зимовавших судов. Измученные беспокойной зимовкой люди надеялись на краткую передышку до вскрытия льда.
Есаул привез щедрые награды за прошлогоднюю защиту порта и секретный, запечатанный пятью черными печатями пакет генерал-губернатора.
«Наверное, разные распоряжения насчет дальнейшего укрепления и боевого снаряжения», — подумал Завойко и принялся осторожно вскрывать пакет, чтобы не повредить печатей.
Зажатый в его коленях мальчуган, один из десяти его сыновей, нетерпеливо протянул к пакету руки… Нервное, неосторожное движение, колени разомкнулись, и мальчуган, не выпуская из рук конверта, упал на пол… Не обращая внимания на вопли сына, Завойко пробежал к жене и через минуту объявил в канцелярии:
— Немедленно снять Петропавловск, погрузить людей и имущество порта на суда и выйти в море!
Городом овладела паника: не так-то легко покидать давно насиженное место, бросить скарб, обжитые дома, коров, лошадей, любимых ездовых собак, разорять собственными руками по грошам скопленное хозяйство, рисковать здоровьем и жизнью детей! Последнее было самым главным. Юлия Фердинандовна, жена губернатора, совершенно растерялась: что же ей делать со своим десятком «мал мала меньше», при старшем больном тринадцатилетнем Жорже? Бури студеного моря, переполненные людьми и животными корабли без печей, ежеминутная возможность встречи с вражескими флотилиями… Какой ужас!
Есаул Мартынов подгонял: ждать некогда.
— Берите все, все до последней сковороды, до последней вьюшки… всему найду место!
Еще одно сверхчеловеческое напряжение — и 1 апреля «город на кораблях» вышел на рейд, к краю еще крепко приросшего к берегам льда. Пошли в ход ломы, топоры, совки, багры, и 5-го с интервалами, один за другим, корабли вышли в море…
Их было много, они рассыпались по широкому морскому простору. Встреча в гавани Де-Кастри…
Неприятельские крейсера, надеясь на невзломавшийся еще лед в устье Авачинской губы, проход судов прозевали… Уход флота под носом стерегущего неприятеля сам по себе был большим успехом, однако встречи с неприятельскими судами грозили со всех сторон. Враги часто появлялись на горизонте, подходили и ближе, повергая в трепет пассажиров, но ни разу не рискнули подойти вплотную и проверить, что за суда.
Бурное море позади… Однако на сердце не легче: каково будет устраиваться на новом месте?
25. Итоги
В конце июня в очищенный от жителей Петропавловск пожаловал английский фрегат «Амфитрида»; он уничтожил железные части разобранного парохода, а затем направился к устью Амура. Не найдя русского флота и здесь, он выслал на разведку гребные суда, которые прошли по Амуру верст пять, но не встретили ни русских, ни их укреплений, ни судов.
— Мы теряемся в предположениях: что сталось с русскими и их судами? докладывал командиру «Амфитриды», капитану Фредерику, вернувшийся с разведки офицер. — Если бар не позволил нашим военным судам войти в реку, то как же могли русские провести свои? Вероятно, они скрылись в какой-нибудь бухте Татарского залива! Не сожгли ли они свои суда и не удалились ли в какую-нибудь крепость в верховьях Амура или в сердце Сибири?
Храбрый английский офицер, однако, побоялся войти в Амур поглубже, продлить свою разведку и, наконец, сделать то, что в 1849 году сделал Невельской, — пересечь Амур, войдя в реку вдоль левого берега, а выйти из нее вдоль правого и пройти дальше к югу… Тогда бы он наткнулся на русскую эскадру, собравшуюся у мыса Лазарева, увидел суету разгрузки глубоко сидящих фрегатов и устройство укрепленного пункта, а пройди он еще верст двадцать, до Николаевска, у него захватило бы дух от необыкновенного зрелища рождающегося из хаоса города…
Но англичане поверили своему авторитету Бротону, французы своему божку Лаперузу и были за это жестоко наказаны. Геннадий Иванович Невельской не поверил ни иностранным богам, ни непререкаемому авторитету Крузенштерна, ни, наконец, экспедиции Гаврилова, ни Российско-Американской компании, и благодаря этому был спасен и флот и Петропавловск.
Николаевск два года назад представлял дикое, пустынное место на берегу таинственной, окруженной легендами реки. Невельской бесстрашно водрузил здесь российский флаг. И сегодня, как к земле обетованной, к нему спешили с севера — переселенцы из Петропавловска, с юга — эскадры, с запада — сплавом по Амуру — солдаты, баржи с различными грузами, артиллерией, провизией, скотом…
Для сохранения провизии понадобились магазины, для беспрерывно прибывающих людей — казармы, для семейств — дома, для офицеров — батареи, сигнальные посты, гребная флотилия. Николаевск должен был как-нибудь приютить больше шести тысяч человек!
Он теперь напоминал невиданный бескрайный цыганский табор; между поваленными деревьями с не отрубленными еще зелеными ветвями, в грязи, на грудах неприбранного мусора ютились не только солдаты, но находили пристанище и офицеры и их семьи. Между палатками — дымки походных кухонь и сбившиеся в группы люди, готовящие какое-то варево. Взад-вперед перебегают неумытые, неприбранные дети, суетятся хозяйки, снуют домашние животные шум, гам!
И тут же безмолвные, озабоченные гиляки в собачьих шкурах. Они наблюдают, не обмениваясь ни одним словом. Насупленные, угрюмые, по-видимому, хотят понять, что случилось. Оставит ли им местечко под луной эта только что прибывшая шумная орда? Кто и откуда ее согнал? Что-то будет зимою?
Этот же мучительный вопрос стоял и перед русскими пришельцами, обреченными на голодовку и болезни. Дороговизна на продукты питания была такова, что наесться досыта составляло недостижимую мечту даже для губернаторской семьи, правда, весьма многочисленной. Недостаточно продуманный план вызвал невообразимую сумятицу, которая в его глазах оправдывалась достижением цели, — во что бы то ни стало… На страдания людей он закрывал глаза.
Было, однако, среди множества бессловесных исполнителей приказаний зоркое око — оно принадлежало настоящему творцу так нелепо облекающейся теперь в плоть и кровь идеи. Это был Геннадий Иванович Невельской.
Генерал-губернаторская помпа, страдания людей, ненужная суета, все это было ему ненавистно, осуществление его идеи представлялось ему отнюдь не крикливым, а величавым, спокойным и обдуманным.
Чего стоила проводка тяжелых кораблей без исследования лимана и безумная затрата энергии и без того выбивающихся из сил команд!..
К чему отчаянная, рискованная вылазка петропавловцев и их флота с запозданием на год, перед носом неприятельских армад, риск жизнью женщин и детей, когда все это можно было сделать заблаговременно?
В груди подымался бушующий протест.
Муравьеву встреча с прямым и резким Невельским, по-видимому, оказалась не по силам, и, не доехав до Николаевска, он остановился в Мариинском и уже оттуда с нарочным тотчас отправил предписание, в котором объявлял, что главное командование над всеми сухопутными и морскими силами Восточного океана он принимает на себя.
«Амурская экспедиция, — гласило предписание, — заменяется управлением камчатского губернатора, контр-адмирала Завойко, местопребыванием которого назначается Николаевск. Вы назначаетесь начальником штаба при главнокомандующем всеми морскими и сухопутными силами, сосредоточенными в Приамурском крае. Все чины, состоящие в Амурской экспедиции, поступают под начальство контр-адмирала Завойко. Главной квартирой всех войск назначается Мариинсиий пост…»
Через два дня, покинув свою тесную избенку в Николаевске, Невельские выехали в еще более жалкое жилище в Мариинском. Екатерина Николаевна Муравьева, приехавшая в Мариинское вместе с мужем, тотчас принялась ласкать Катю Ельчанинову-Невельскую, неискусно внушая ей, что новое высокое положение Геннадия Ивановича вызвано особым к нему доверием генерал-губернатора. Катя не жаловалась, но, что было хуже, молчала…
Людская скученность не замедлила породить интриги. Окружение генерал-губернатора, от которого зависели повышения и награды, было уже не то: забыты были простота и доверие, воцарились лесть и подхалимство, и в этом болоте жить стало трудно.
А за побережьем, в море, продолжалась война… У обоих выходов из пролива, следя за ними день и ночь, крейсировали или отстаивались неприятельские суда и эскадры.
С трудом пробрался на Амур на крохотной парусной шхуне «Хеда» адмирал Путятин, спешивший вверх по Амуру, в Петербург. Один раз ему удалось уйти, пройдя под самой кормой английского корабля, в другой раз на виду целой эскадры пришлось притаиться у берега в глубине неизвестного заливчика. При выходе из Лаперузова пролива он едва ушел от трех гнавшихся за «Хедой» кораблей, осыпавших ее ядрами, — помогли избежать плена мореходные качества суденышка.
В Лондоне по-прежнему требовали от морских командиров энергичных действий и истребления русского флота до основания. А здесь, в Тихом океане, их командиры действовали непонятно, странно. Бросив в такое ответственное время эскадру на своего помощника командира Эллиота, адмирал Стерлинг проводил время по каким-то пустячным делам в Китае. Эллиот подходил по Татарскому проливу к месту расположения нескольких русских кораблей и даже обменялся выстрелами с ними, а затем уклонился от встречи и ушел в море. А когда вернулся, русских кораблей уже не застал… На родине недоумевали и негодовали.
Газеты писали, что «кавалер ордена Бани, командор Чарльз-Джильберт-Джон-Брайтон-Эллиот в Татарском проливе в бухте Де-Кастри открыл, наконец, Петропавловскую эскадру, имея под своим начальством сорокапушечный фрегат, семнадцатипушечный корвет и двенадцатипушечный бриг. Что же он сделал? Ослабил себя посылкой брига к адмиралу Стерлингу, а потом и сам ушел. Бежал в открытое море и лжет, что он таким образом «подманивал» неприятеля! Усилившись, вернулся и, конечно, никакой эскадры уже не застал…» «Это исчезновение целой эскадры на наших глазах, так дурно рекомендующее нашу бдительность, — кончает газета, — будет пятном на Британском флаге. Все воды океана не будут в состоянии смыть это гнусное бесчестье!..»
К сторожевым судам союзников у входа в Авачинскую бухту постепенно присоединились другие. Единственный в Петропавловске военный, хромой есаул Мартынов с любопытством следил, как в порт осторожно входила собравшаяся «эскадра мести». Он вносил в записную книжку прочитанные в подзорную трубу названия кораблей и считал пушки.
Еще больше был поражен есаул, когда увидел на корвете «Тринкомалай» парламентерский флаг.
«Уж не хотят ли сдаться мне всей эскадрой?» — шутя подумал он, приветствуя оказавшегося американцем парламентера. Предложение союзников было скромнее, чем думал есаул, оно оказалось предложением об обмене пленными… За одного англичанина и одного француза Мартынов получил трех русских матросов, захваченных год назад на безоружном плашкоуте.
В тот же день есаул Мартынов закончил рапорт генерал-губернатору и строчил в дополнение личное письмо:
«Ваше превосходительство, думал порадовать вас взятием в плен всей союзной эскадры с ее 426 пушками — не удалось. Вот это было рандеву так рандеву!»
Конечно, это было смешно! Но что сталось бы с Петропавловском, если бы не восторжествовала мысль Геннадия Ивановича Невельского! Ведь в Охотском море в это время собрано было неприятелями пятьдесят шесть военных кораблей!..
Угрюмо бродил Невельской с Екатериной Ивановной по окрестностям Мариинского, но тянуло все время к водной глади могущественной реки, на груди которой отдыхали после перенесенных трудов знакомые корабли.
— Посмотри, — предлагала Екатерина Ивановна, — здесь наш милый «Байкал»! Мы изменили было ему ради «Шелихова», но спас нас всех все-таки он, твой верный друг во всех твоих делах.
— Тут и старая «Аврора», — радовался Геннадий Иванович, — на ней я плавал девять лет, целых девять лет! С мальчиком и юношей генерал-адмиралом… Шесть лет я был на ней старшим лейтенантом и вахтенным лейтенантом… Она здесь, она спасена! Я хотел бы уйти отсюда на ней или на «Байкале»! Мне здесь невмоготу.
Не вывела Невельского из апатии даже сентябрьская сутолока из-за десанта, высаженного Эллиотом в долине Де-Кастри. Эллиот с большим опозданием рискнул здесь жизнью своих двухсот человек, чтобы взять хоть одного пленника и узнать, куда, в самом деле, девалась русская флотилия? Узнать эту тайну ему не удалось: легче оказалось при отпоре русских погубить своих солдат…
Глубокой осенью Муравьев уехал в Петербург. Невельской должен был перезимовать в Мариинском. Завойко оставался начальником края…
Известие о прекращении военных действий докатилось до Де-Кастри только в конце мая 1856 года. Из Забайкалья Буссе, уже полковник, готовился к сплаву третьего водного каравана в сто десять судов.
Трудности путешествия с семействами вверх по Амуру заставили Невельского и Завойко воспользоваться выводом флотилии из Амура и выйти на Аян на транспорте «Иртыш».
Предстояло трудное путешествие в четыре тысячи верст из Аяна в Иркутск, через страшный Джугджур. Беспокоились, как перенесут путешествие дети: стоял август, с переменной погодой, ветреными и дождливыми днями и холодными ночами… Сверх ожидания, вся детская компания, за исключением Жоржа Завойко, который ехал верхом самостоятельно, как взрослый, великолепно пристроилась в корзинках по бокам лошадей. Это было, правда, подчас страшновато, особенно когда переходили вброд реки и ручьи, но зато как интересно!.. Так проехали около трехсот верст, а дальше пошло еще интереснее — в лодках по Мае, Алдану и широкой Лене…
В Иркутске почти не останавливались, не пожелала Екатерина Ивановна, она торопилась до зимы попасть в Красноярск к сестре. Геннадий Иванович спешил в Петербург.
Гнусные сплетни о Невельском опередили его: в Петербурге держались слухи, что ни один фрегат из-за мелководья бара Амура выйти из него в море не может. Продолжали обвинять в гибели «Паллады».
Этим, по-видимому, и объяснялось, что молодой император, принимая Невельского, к ласковым словам о том, что Россия никогда не забудет заслуг Невельского, прибавил сожаление, что Амур мелок и не годится для плавания… Геннадий Иванович остался верен себе и тут же возразил императору, что, наверное, скоро станет официально известно, что это не так.
И действительно, вскоре приехал капитан-лейтенант Чихачев с известием, что все суда благополучно вышли в море. Постепенно стала подтверждаться и справедливость многих других мероприятий и мнений Невельского: пришлось восстановить закрытые и поставить новые посты, занять Приуссурийский край и гавани до самой Кореи…
Несмотря на все это, контр-адмирал Невельской был сдан в архив и в числе награжденных, по случаю заключения Муравьевым Айгунского договора с Китаем, значился чуть не последним: первым шел председатель правления Российско-Американской компании Политковский, ровно ничего не сделавший для России, затем шли два друга Геннадия Ивановича — генерал Корсаков и контр-адмирал Казакевич, совершивший с Невельским первые и самые трудные шаги для ускорения постройки «Байкала» и открытия устья Амура. За Невельским непосредственно следовал бывший адъютант Муравьева генерал-майор Буссе!
Прекрасная, воодушевленная идеей любви к родине и ее величию жизнь окончилась. Наступило скучное, не дающее удовлетворения прозябание.
Что могло поддерживать эту жизнь в дальнейшем? Признание. Увы, Геннадий Иванович Невельской был лишен и этого счастья: еще при жизни он видел и горько переживал свое забвение. Мало того, ему пришлось отстаивать шаг за шагом и то, что им так блестяще было совершено, доказывать свершенное. Ему старались мешать жить хотя бы горделивым сознанием содеянного, тем нравственным удовлетворением, что жизнь прожита не напрасно…
Глубоко страдала за мужа Екатерина Ивановна. Уединившись в своей маленькой квартирке, они жили детьми, их печалями и радостями и друг другом…
Эпилог
В 1864 году перед совершенно лысым, с седыми висками, тщательно выбритым вице-адмиралом, одетым в форменный сюртук, предстал свежеиспеченный мичман.
Он только что вошел в кабинет и еще не оправился от неожиданной встречи с молодой, красивой и обаятельной по простоте обращения женщиной… (Наверное, дочь?)
Лицо юноши было покрыто здоровым загаром, глаза блестели и искрились каким-то внутренним привлекательным светом, но язык… Язык не повиновался, юноша молчал…
Вице-адмирал Невельской, член морского ученого комитета, оторвался от чтения, медленно повернул голову, потом быстро встал навстречу незнакомому гостю и, подавая ему руку, повел его к столу, усадил в кресло, уселся сам и сказал:
— Ну-с, рассказывайте, — после чего внимательно посмотрел на все еще молчавшего юношу. — Я слушаю вас, мичман!
Мичман с шумом вздохнул:
— Ваше превосходительство, я назначен в амурскую флотилию, на транспорт «Байкал».
— Плохо окончили?.. — спросил Геннадий Иванович.
— Нет, ваше превосходительство, в числе первых, — смутился юноша.
— Так что же вас погнали на Амур, да еще на старичка «Байкал»?
— Там не все еще, по-моему, сделано, — окончательно смутился юноша.
— Ну, конечно, там, на Амуре, еще самой черной работы, я считаю, лет на двадцать!
— И я так думаю, — согласился юноша, — и вот… пришел к заключению, что прежде всего надо провести канал из озера Кизи в пролив…
Геннадий Иванович кивнул головой.
— Да-а… а еще что?
— Еще… другой канал, у левого берега, от устья через бар, образуя, таким образом, основное русло…
Опять кивок.
— Ну?
— Ну вот я и решил добраться как-нибудь туда, а там заняться этими вопросами… И для этого два года дополнительно гидрографией занимался, заторопился юноша, глотая слова, — и даже по здешним данным кое-что вычислил и набросал.
— Катерина Ивановна! — вскочил Невельской и, указывая ей на вставшего и смущенного мичмана, сказал: — Посмотри на этого чудака, захворавшего Амуром и твоим «Байкалом», и уговори его не делать глупостей.
Мичман стал оправдываться, стараясь доказать, что это отнюдь не глупость.
— Ну ладно, — согласился в конце концов Геннадий Иванович, — оставьте мне ваши вредные бредни и зайдите вечерком в субботу, посмотрю, потолкуем.
«Почему «бредни» да еще «вредные»? — думал мичман, шагая по улице домой. — Сказал как-то особенно ласково и поощрительно!»
И в субботу, после часовой беседы с глазу на глаз, пили втроем чай и непринужденно долго-долго беседовали.
Уходил юноша счастливый, обогащенный не только расчетами, но и чертежами обоих каналов, давно намеченных и продуманных Невельским.
Мичман недоумевал: как же говорили, что адмирал нелюдим, угрюм, резок, крикун? А оказался понимающим, внимательным и добрым; ведь работа, которую он ему подарил, — это труд нескольких лет!..
И не подозревал мичман, что его приход всколыхнул прошлое, разбередил незаживающую рану, что в вечер первого его посещения Невельские долго сидели вдвоем, вспоминали свое уже далекое, но по-прежнему незабываемое прошедшее.
Как хорошо, что работа многих бессонных ночей перейдет в руки верующего в свои силы, чистого сердцем, такого же, как и сам Невельской, «безумца»!
Примечания
1
Аманат — заложник.
(обратно)2
Годой (1767–1851) — любимец испанской королевы Луизы и короля Карла IV, временщик, предавшийся Наполеону.
(обратно)3
Схизматик — верующий, отпавший от церковного единства. Название, чаще всего католической церковью применяемое к православным.
(обратно)4
Симпсон. «Описание путешествия вокруг света в 1841 и 1842 гг.»
(обратно)

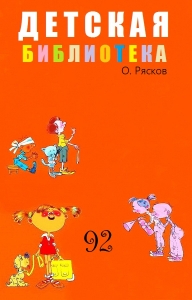
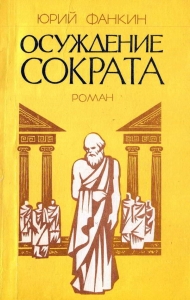
Комментарии к книге «К неведомым берегам», Георгий Прокофьевич Чиж
Всего 0 комментариев