Под ливнем багряным
Смочить багряным этим ливнем лоно зеленой, свежей Ричарда страны…
Уильям Шекспир. Трагедия о короле Ричарде IIГлава первая Пляска смерти
Повсюду, где они проходили, они совершали поджоги, убийства, грабежи и много других преступлений.
Григорий Турский. История франковОсклабясь, безносая утешительница играет куклой, дергая нитки. Стучат фаланги, как кастаньеты, и лихо пляшет марионетка, не замечая, что из могилы, из дальней дали времен прошедших ведет бечевка таких же кукол. Минувшего не помня, грядущего не прозревая, трясет башкой фигурка и прыгает коронка.
Перед самым отплытием из Портсмута в лето 1337-е Эдуард Третий, молодой и пылкий король англов, совершенно случайно подсмотрел кусочек представления, которое давали бродячие артисты перед таверной «Меч Артура». Скрытые ширмой искусные руки заставляли деревянных плясунов выделывать потешные антраша. Бренчали струны виолы. Под дружный хохот матросни разыгрывалась вечная мистерия, равно печальная и смешная.
Неотличимый в походном плаще от сопровождавших его рыцарей, король следил за ее перипетиями до той минуты, когда отыгравший свое чурбан в последний раз дернулся и вдруг исчез за черной занавеской, расшитой серебряными звездами. Рыцари засмеялись, а король помрачнел. Мысль об изначальной бессмыслице мирского шумного торжища холодной иглой кольнула перегруженный заботами мозг. И все, чем он жил последние до предела заполненные хлопотами ночи и дни, предстало в непривычном и странном свете. Но прихотливый колесный механизм, управлявший стрелкой, обегающей циферблат, не ведает остановки. Ждал архиепископ Кентерберийский с напутственным молебном, ждал получивший предписание адмирал. Ни повернуть вспять, ни задержаться в беге стрелка была не вольна.
Молодой король послушно шел предназначенным ему путем: казнил лорда Мортимера — фаворита матери и убийцу отца, перетасовал кабинет, заставил раскошелиться парламент.
Теперь он готовился начать войну, которой суждено было стать самой долгой в истории. Зубчатые колеса приведены во вращение, раскручивается барабан, качаются рычаги, бьют в колокола молоточки.
В портах Южной Англии полным ходом шла погрузка на зафрахтованные суда.
Когда поступает королевское поручение снарядить флот, английский адмирал немедленно назначает офицеров, хорошо знакомых с морскими законами и древними обычаями. Вместе с приказом ему вручается и поденная плата: четыре шиллинга, если он рыцарь, шесть шиллингов восемь пенсов, если барон, а коли граф, то восемь шиллингов и четыре пенса.
На выделенном тремя огнями самом большом корабле «Кристофер оф Тауэр» уже трепетало королевское знамя. Согласно артикулу «Черной книги адмиралтейства», судно с этой минуты надлежало именовать не иначе как «Королевской палатой». Каждый вечер, как только настанет пора зажигать фонари, адмиральский корабль, светя двумя огнями, будет подходить к ее борту, чтобы получить указание, какого курса придерживаться в течение следующих суток. Таков порядок, изменить который не властен даже король. Капитан вынужден поэтому неотрывно следить за флагманом, подлаживаясь под его эволюции и ход. Если потребуется собрать совет, адмирал выбросит на высоте полумачты вымпел, и на всех кораблях спустят на воду боты.
Впервые адмиралтейский церемониал провели по сокращенной программе. Герцоги, капитаны и даже самый последний корабельный плотник или сидящий на тесной палубе лучник — все от мала до велика были в деталях осведомлены о подробностях предстоящего похода. Он обещал быть коротким. Если не подкачает погода, еще до сумерек должны открыться топкие берега Фландрии. Именно здесь Эдуард намеревался сосредоточить необходимые для вторжения во Францию силы.
— Твой предок высадился вместе с Вильгельмом, — сказал король графу Бомонту, своему лейтенанту. — Настала и наша очередь.
— С той лишь разницей, что мы движемся в прямо противоположном направлении, — меланхолично заметил Бомонт.
— Зато под каким флагом! — Эдуард поднял руку, указывая на красно-синие квадраты объединенного герба Англии и Франции. Он определенно чувствовал, что от него ждут каких-то особенных слов, которые украсят анналы, запечатлевшие славные деяния предков.
— Я иду за своим наследством, как когда-то Вильгельм. Так распорядилась судьба.
— Однако ее не упрекнешь в чрезмерной поспешности, — улыбнулся легкомысленный вольнодумец.
Оба были слишком молоды и нетерпеливы, чтобы придавать значение словам.
Однако король попал в самую точку.
Воистину свойственно пытливому разуму человека выискивать миг, где завязались концы и начала.
О том же справедливо вопрошает ученейший Ричард де Бери, милостью божьей епископ Даремский, в одном из наиболее темных мест своего неподражаемого «Филобиблона»:
Scriptum est, boves arabant et pascebantur juxta eos. Quoanium discretorum interest praedicare, sinplicium vero per auditum sacri eloquii sub silento se cibare. Quol lapides mittitis in acervum Mercurii his diebus?[1]
Сии драгоценные строки, соединившие изречения из книги Иова с Меркурием, языческим божеством, пребывавшим, как то полагали и жрецы кельтов, в камнях, намекают на занятие хоть и трудоемкое, но бессмысленное.
Как бы там ни было, но именно завоевание англосаксонского королевства французским герцогом мертвым узлом связало судьбы обеих держав, а последующие века — без малого три — лишь добавляли к причудливому сплетению новые запутанные витки и петли. Вроде герцогства Гиень на юго-западе Франции, которое неожиданно унаследовали потомки Вильгельма, когда пресеклась прямая линия. Английские короли не упускали случая округлить наследственный домен на континенте, упрямо форсируя Канал[2] в обратном, как отметил лейтенант Бомонт, направлении. Тщетно: алчущие чужого своего не удержат. Нормандия как была ленным владением французской короны, так им и осталась. Правда, скорее на словах, чем на деле: и нормандские, и бретонские, и прочие герцоги вели себя, как суверенные государи, воюя с соседями и со своим королем. Судьба не бежит иронии, а ненасытность людская не знает пределов. Так было, так есть и так будет в подлунном мире, пока Солнце обращается вокруг нашей Земли, чему все мы каждодневные свидетели. Или не так? Все обстоит совершенно противоположно? Уклонимся, однако, от споров равно бессмысленных и опасных, а тем более от недоуменных восклицаний. Хоть и доносится изредка едва различимый ропот по части отдельных несовершенств небесного механизма, исчисленного Птолемеем и закрепленного непререкаемым авторитетом церковных соборов, придется примириться с очевидным фактом неподвижной Земли. Причем плоской, как тарелка, невзирая на то, что это противоречит опыту мореходов, которые все чаще и чаще решаются отдалиться от спасительной линии берегов. Матросы, конечно, видят, как закругляется горизонт, но умствовать по этому поводу предоставим оксфордским профессорам.
Семь планет — распорядителей судеб — обращаются по эпициклам, чьи центры вертятся вокруг нашего мира, увенчанного крестом спасения, где добро все еще сражается с силами ада. Он потому и зовется «подлунным», что владычица ночи — ближайшее к нам из светил.
Пора, пора возвратиться на историческую стезю, ибо там, где речь заходит об «астроломии»,[3] как выражается несравненный поэт Джеффри Чосер, недалеко и до «задометрии», то бишь геометрии, или, того хуже, алхимии с ее атанорами да алембиками,[4] вонючими уриналами для отстойки мочи, коими орудуют златоделы-фальшивомонетчики. А это уже не отхожим местом, извините, попахивает, а кое-чем похуже — пыточной камерой. Впрочем, отхожее место тоже далеко не везде сыщешь, поэтому, гуляя по городу, следует держать ухо востро. Не то так окатят, что и в бане, которая зачастую соединена с лупанарием,[5] не отмыться.
Не будем поэтому забираться в дебри и поспешим наверстать упущенное, вновь оттолкнувшись от нормандского завоевания Альбиона, прозванного так римлянами за белизну меловых утесов. Для Англии оно означало нечто неизмеримо большее, нежели очередное вторжение иноземцев или же простую смену династий. Глубочайшие последствия этого действительно поворотного события окончательно не изгладились по сей день, и потому позволительно расценить его как начало всех прочих начал. Недаром даже в девятнадцатом веке широко употреблялся юридический термин: «А temp. Reg. Will.», что означает «Законы со времен Вильгельма», вернее Уильяма, как вскоре стали именовать великого короля англичане. Его воинственным наследникам далеко не сразу удалось расширить континентальные владения и присоединить к Гиени (с портами Бордо и Байонна) графство Мен и часть графства Анжу. К началу рокового четырнадцатого века багряный щит с тройкой златых пантер, отмечающий Англию, сильно продвинулся к югу, теряя постепенно зверей. Пара длинных оскаленных кошек легла на Нормандию, одна — на Гиень.
Тесно французским лилиям на лазурном поле. Топчут цветок непорочной девы когтистые лапы, отжимают от северных вод на потраву императорскому бестиарию:[6] черным орлам всклокоченным, львам свирепо прямостоящим.
Противоборство между Лондиниумом и Лютецией, то бишь между Лондоном и Парижем, сосредоточилось вокруг постоянно тлеющих очагов: Гаскони, Фландрии и Шотландского королевства.
Разрубить гордиев узел ударом меча оказалось куда как трудно. Разрозненные вооруженные стычки, протекавшие с переменным успехом, лишь заострили вековые противоречия, укрепив сложившиеся союзы и коалиции. Франция теперь неизменно присутствовала на всех переговорах между Лондоном и Эдинбургом. Союз между Брюсами и Капетингами сделался долговременным фактором международной политики. Но были исчислены сроки обеих древних династий, хотя к этому моменту в руках общего их врага осталось лишь графство Понтье на севере и герцогство Гиень на юге.
Когда шотландцы одержали решительную победу в войне за независимость, был подписан Эдинбургский договор, закрепивший союзнические обязательства обеих стран на случай любого конфликта с Англией. Это было сделано удивительно ко времени, ибо в том же году пресеклась прямая линия Гуго Капета и на горизонте выплыл новый могущественный фактор — династический. Теперь в костер войны была брошена такая охапка хвороста, что жара угольев хватит на сто и более лет. Взывая кощунственно к прародительнице Мелузине, дщери дьявола, Эдуард Третий, внук последнего Капетинга со стороны матери, не замедлил предъявить права на французский престол. К давним притязаниям нормандских герцогов добавился очевидный аргумент близкородственной крови. Появился зыбкий шанс разом покончить с затянувшейся распрей под гербом единой империи.
Однако собрание пэров Франции отвергло домогательства заморского претендента на том простом основании, что передача короны по женской линии не имеет прецедента во французской истории. В качестве юридического подкрепления была использована даже порядком забытая «Салическая правда»,[7] запрещавшая женщинам любое наследование земли.
Как тут не спутаться временам, если какая-то патриархальная заповедь не только выплывает из небытия через восемь столетий, но и вновь обретает авторитет истины, причем высшей, непререкаемой, непогрешимой!
Колышутся призрачные туманы над истерзанной землей европейской, щедро удобренной человеческим мясом и углем пожарищ. Пустуют римские цирки за стенами городов. Уходят все дальше вглубь мощенные легионами дороги. Но след все равно остается. Неизгладимый след, необратимый. В деяниях, что звеньями причин и следствий замыкают цепи новых деяний. В имени изменчивом, подобно мифическому Протею, и неизменном, как вещий знак. Недаром сказано: «Nominis umbra» — «Тень имени». Хищные орлы по-прежнему осеняют знамена императоров Священной Римской империи, и чуткие тени витают в каменных лабиринтах, и кельтское слово живет по обоим берегам Канала.
В ожесточенной схватке вокруг короны предпочтение было отдано дому Валуа, состоявшему в родстве с Капетингами по боковой линии. В династическом споре Филипп Валуа победил бы, наверное, и без «Салической правды», но в том, что закрепленные в слове обычаи далеких варваров смогли сыграть свою роль, мнится смысл глубинный, более того — роковой. Не жди добра, когда оживают тени.
На королевском гербе появился гордый девиз: «Rege ab ovo sanguinem, nomenet lelia».[8] Звучит, что и говорить, сильно, только ведь и Эдуард, британский кузен, взывал к той же голубой крови, к тому же славному имени. И даже подвесил у себя в Виндзоре новый герб. Рассеченный на четыре поля щит с шахматным чередованием леопардовых троек и лилий. Не обретя заморского трона, англичане получили еще один формальный предлог для военных действий за морем. Причем долговременный, облаченный в непорочную белизну королевского горностая.
Обе стороны начали спешно готовиться к схватке. Дабы избежать изнурительной войны сразу в двух направлениях, Эдуард Третий, едва избавившийся от материнской опеки, перешел через реку Твид. Успешно тесня плохо вооруженное шотландское ополчение, он предпринял энергичное наступление и на дипломатическом фронте, наложив запрет на продажу английской шерсти во Фландрии. Гентские сукноделы взялись за оружие, вынудив тем самым тяготевшего к Франции графа Людовика Фландрского уступить британским домогательствам. Далее в ход пошли щедрые подарки и ленные пожалования, хитроумные династические браки, а также родственные связи со стороны Филиппы Геннегау, которую Эдуард Третий взял в жены не только из политических соображений, но и по непритворному влечению сердца.
Дочь могущественного сеньора Вильгельма Первого, графа Геннегау, Голландского и Зеландского, вместе с приданым принесла супругу благорасположение влиятельнейших феодалов Брабанта и Остревента. Мало этого, она подарила ему то, что вообще не имеет цены, — счастье. Можно ли позабыть, что именно Филиппа спасла трон, когда уже вовсю гремели битвы на континенте и взбунтовались, казалось бы, навсегда усмиренные ирландцы, и коварный шотландец, по подсказке Парижа, ударил в самое уязвимое место, погнав дрогнувших английских лучников вплоть до Дарема. Облачившись в панцирь, толстушка королева собрала новое войско и, атаковав одетых в клетчатые кильты овцепасов, одержала блистательную победу у Невильс-Кросса. Очередной шотландский король Давид Второй, не сумев вовремя унести ноги, оказался в плену. А затем с его смертью прервалась и славная династия Брюсов. Трон перешел к Стюартам.
Как сын Изабеллы, дочери Филиппа Красивого, и внук Маргариты, его ближайшей сестры, Эдуард, безусловно, имел формальное право наследования. И никакая казуистика не могла этого перечеркнуть. Тем более что ссылки оппонентов на «Салическую правду» выглядели грубой подтасовкой. Образованному человеку было понятно, что вульгарная латынь, отличающаяся крайней неясностью и расплывчатостью формулировок, не может быть положена в основу государственного закона. При желании было легко доказать, что выисканная сорбоннскими законоведами статья ничего общего не имеет с регламентом престолонаследия. Стоило лишь озадачить этим вопросом профессоров в Оксфорде или даже в Болонье.
Суть проблемы коренилась, однако, не в русле права, а в тех расположенных неизмеримо выше любых законов сферах, где решались судьбы народов и государств. Объединение обеих монархий было несбыточной мечтой. Самое большее, что мог извлечь английский король из создавшейся ситуации, это постоянно действующий casus belli — формальный повод к объявлению войны.
Для Европы, вопреки реальности все еще мнившей себя нераздельным христианским миром, это кое-что значило. В льстивых обращениях к папе, который хоть и рядился в одежды миротворца, но твердо поддерживал Францию, английский король постарался представить себя невинной жертвой вероломства. Французского кузена он иначе как узурпатором уже и не называл. Вернее «Филиппом Валуа, управляющим сейчас вместо короля». Когда христианский мир свыкся с дальненаправленной мыслью, что начавшаяся война будет не просто войной, но рыцарской битвой за справедливость, последовало официальное объявление.
Первые столкновения произошли, как и ожидалось, на щедро политых кровью просторах английских полуанклавов, а также во Фландрии, издавна служившей яблоком раздора. Именно здесь высаживались английские войска, пока французская армия пыталась овладеть гасконскими замками и штурмовала Бордо. Избегая глубоких рейдов, англичане опустошали прибрежные города, а французские моряки в отместку грабили Саутгемптон и Портсмут.
Только на второй год произошло первое внушительное вторжение англичан в Северную Францию через Нидерланды. Эдуарда, самолично ставшего во главе войска, сопровождали союзники: герцог Брабантский, граф Гельдернский, маркграф Юлихский. Все явились в сопровождении блестящей свиты, с фамильными гербами на плащах и лошадиных попонах. Над шатрами развевались хоругви и флаги. Многие рыцари надели турнирные доспехи с пестрыми геральдическими фигурами на коронованных шлемах. Погарцевав перед строем, сверкающим многоцветьем щитов и перьев, союзные государи не высказали особой воинственности. В полном соответствии с нравами эпохи они увели свои войска с поля брани, едва обозначился затяжной характер кампании. Немецкие же наемники, пропив полученное жалованье в Дордрехтском порту, вообще не явились к назначенному сроку. Потом стало известно, что их переманили вольные бретонские кондотьеры.
Особенно отличился тесть Эдуарда Вильгельм. В самое короткое время из преданного союзника он превратился в злейшего врага. Явившись в один прекрасный день во главе пятисот рыцарей в лагерь французов, владетельный граф предложил свои услуги Филиппу. Оба враждующих короля, разумеется каждый по-своему, но с одинаково кислой улыбкой, оценили свершившийся факт. Силы англичан быстро таяли, а мародерство и грабежи не возмещали и десятой части расходов.
О том чтобы развить вторжение вглубь, не могло быть и речи. После безуспешной месячной осады Камбре Эдуард ограничился тем, что, согласно свидетельству хрониста Уолсингема, «предал огню тысячу деревень и произвел большие опустошения». Как всегда, основные тяготы войны легли на плечи простого народа. И так будет на протяжении всех ее ста шестнадцати лет: убийства, насилие, вандализм.
Так начиналась эта война, принесшая неисчислимые бедствия обоим народам. Выросло и возмужало, ожесточась, целое поколение, не знавшее иной жизни, кроме войны, подрастало другое. Именно им, сиротам героев, сложивших головы у Кресси и Пуатье,[9] суждено было стать свидетелями крайних точек разлета маятника военной удачи.
— Почему все уходит как песок сквозь пальцы? — горестно разводил потом руками стареющий монарх. — И купленное золотом, и добытое кровью?
Золотистые кудри и курчавая голова правнука Мелузины совсем побелели.
— За миг до полной победы! — посетовал верный Бомонт.
Ушла молодость, а вместе с нею и силы, со смертью Филиппы угасла счастливая звезда. В Виндзоре всем заправляла теперь Алиса Перрерс. Она не только присвоила себе все драгоценности покойной королевы и вертела Эдуардом, как хотела, но и позволяла себе вмешиваться в государственные дела. Англичане, у которых была их «Великая хартия», едва терпели сумасбродные выходки фаворитки. Выскочку дружно ненавидели двор и страна.
Незаметно для главных действующих лиц война перестала быть куртуазной забавой феодальных властителей. Сметая барьеры рыцарского ристалища, она захватила в свою истребительную орбиту все слои населения: горожан, землепашцев и даже клириков, поднявшихся на защиту разоренных обителей и поруганных алтарей. Особую ненависть французов навлекли на себя орды бригандов, лишь отдаленно напоминавшие военные отряды. Эти шайки, возглавляемые разбойниками вроде отъявленного пирата Боба Кноллиса, вообще воевали без всяких правил. Встретив на пути богатый, но недостаточно укрепленный город, они выказывали явное намерение спалить его дотла, побуждая жителей в панике бросать дома. Далее следовал беззастенчивый грабеж, Кноллис, под началом которого собралось до тысячи головорезов, решился даже инсценировать осаду Авиньона. Перепуганный папа поспешил отделаться бочонком дукатов и индульгенцией, дающей отпущение любых грехов.
Крестьянину и ремесленнику нечем было откупиться от налетчиков. Разве что собственной жизнью. Естественное стремление уберечь свой кров и защитить семью заставило Жака Простака, как называет крестьянина неизвестный нам автор «Жалобной песни о битве при Паутье», заняться доселе непривычным делом. Собираясь в отряды, кое-как вооруженные простолюдины начали осознавать принадлежность к единому народу. Прежде всего они были французами, а уж потом башмачниками и хлебопеками, виноделами, пастухами, ткачами. Характер войны решительно изменился. Упоенные победами, англичане проглядели ее кульминационный момент, когда маятник, замерев на миг в высшей точке, отправился в обратный путь. Как обоюдоострая секира, не отличающая поражения от победы, своих от чужих.
А военное счастье, казалось, уже лежало в ладонях британца. Да, собственно, так оно и было. Плененный Иоанн, унаследовавший венец Капетингов, поставил свое имя под немыслимым договором, по которому к Англии отходила добрая половина страны. Подражая государям народных сказок, король-рыцарь с легким сердцем швырнул на игорный стол полцарства. Встречный отказ Эдуарда от претензий на французскую корону был оплачен непомерной ценой. Англия получала Аквитанию и Нормандию, Турень и Анжу, не говоря уже о таких «мелочах», как графство Мен, Пуату или Понтье. По лондонскому договору, к ней отходили еще и порт Кале с прилегающей областью, и ключевые острова вдоль фландрского побережья. И все это Эдуард принимал не как вассал, но как суверенный государь. Впервые в английской истории излюбленная идея централизованной империи обрела столь блестящее оформление. Дух Вильгельма Завоевателя вновь незримо витал под сумрачными сводами Вестминстерского замка. Потомок не посрамил железного герцога.
Тридцать лет провоевал Эдуард Третий, меняя ходуном ходящую палубу на кавалерийское седло, а войне не видно было конца и края. Пока чудовищные ее жернова перемалывали на бранных полях подраставшие всходы, подкралась с Востока чума и шутя выкосила чуть ли не половину Европы.
Но даже «Черная смерть» не загасила вселенский пожар, скорее масла в огонь подлила. Еще острее стала нужда в ловких руках, способных махать мечом и тянуть корабельные снасти. О спросе на крепкие руки для плуга и говорить не приходится. Зарастали истосковавшиеся нивы дикой травой, и хлеба, и молока не хватало для будущих солдат, и рук опять же, заботливых, нежных, чтоб качать колыбельки.
В деньгах, в золотых всемогущих ноблях[10] само собой, тоже ощущалась потребность острейшая. Откуда, спрашивается, возьмутся деньги, если нет урожая? А без денег какая война…
В отличие от прочих государей, полагавшихся на наемников, Эдуард Английский создал постоянную армию. Срока службы, вроде принятых согласно обычаю сорока пяти дней, для нее не существовало. Воевали, сколько понадобится: год, два, а прикажут — так и все тридцать. Лишь бы мошна не оскудела.
Перед каждым походом король заключал долговременный контракт с баронами и рыцарями, в котором была указана точная сумма вознаграждения. Она определялась в строгом соответствии с рангом феодального сеньора и величиной свиты, которую он приводил с собой.
Благодаря образцовому состоянию британских архивов мы располагаем весьма точными данными касательно армии, осаждавшей Кале (это было в самый разгар чумы), и соответственно платежных ведомостей. Известно и жалованье каждого воина: от принца Уэльского до простого пехотинца.
Упомянутый принц получал ежедневно фунт стерлингов, тринадцать графов и один епископ — по шесть шиллингов и восемь пенсов, сорок четыре барона и владетельные рыцари — по четыре шиллинга, тысяча сорок простых рыцарей — по два. Дальше шла конница и четыре с небольшим тысячи сквайров[11] и констеблей, воевавших за шиллинг. Три пенса стоил стрелок-пехотинец (всего их было 5480), конный стрелок (5104) получал вдвое. В состав кавалерии входили пятьсот легких всадников; пехоты — четыре с половиной тысячи валлийцев-копейщиков (по два пенса те и другие). Триста пушкарей и саперов завершали список. Это было невиданное по тем временам войско, значительно больше, чем то, что стяжало лавры при Пуатье и Кресси.
Но даже с этакой махиной не удавалось добиться решающего перелома.
— Я старею, старею, — жаловался в тяжелую минуту король и, как заклинание, повторял свое излюбленное: — Ну, ничего, ничего, ничего… Еще один удар! Сокрушительный, последний!
С последним ударом, однако, обстояло непросто. И это было тем обиднее, что Эдуард не видел реальной силы, способной на сколько-нибудь продолжительное сопротивление. Противник был обескровлен, почти изничтожен, но почему-то отказывался признать поражение. Вопреки очевидности, вопреки единодушным прогнозам опытнейших военных.
Последний налог, последний поход, последняя битва…
Для Франции, и без того искромсанной иноземными полуанклавами, потеря половины территории знаменовала погибель, постепенный распад на отдельные графства и герцогства, которые, как обрезки железа магнитом, будут неизбежно втянуты в силовое поле Британии. Перелом наметился в самый безнадежный момент. Произошло неожиданное, по крайней мере для англичан. Еще не высохли чернила на пергаментном свитке, как поступило известие, что дофин Карл возложил на себя титул регента. Страна не признала позорного договора. Под знамя дофина, где рядом с лилией был изображен веселый дельфин — геральдика любит играть словами, — собиралось народное ополчение. Феодальная схватка становилась народной войной. Таков был ответ на карательные экспедиции, грабеж бригандов и немыслимый договор, против которого, по словам беспристрастного хрониста Уолсингема, «возражали все французы».
«Возражение» это вскоре приняло такой характер, что англичане, уже привыкшие считать себя хозяевами положения, стали нести все большие потери в живой силе. Причем без крупных баталий и штурмов, поскольку немногочисленная армия дофина упорно уклонялась от боя. Смерть подстерегала чужеземных завоевателей на лесных дорогах, горных перевалах и песчаных дюнах, начинавшихся в каком-нибудь лье от гавани. Именно здесь, на севере, Эдуард впервые почувствовал, что увяз в песке. Война вышла из-под контроля, когда Жак Простак попытался взять судьбу родины в собственные руки. Нанося ощутимый урон иноземцам, он не щадил и собственных господ, раздиравших страну на окровавленные куски. Триста замков были взяты крестьянами и погибли в огне. Рыцарь, который не в пример пращурам был настолько закован в броню, что не мог сесть в седло без посторонней помощи, становился легкой добычей. Не разбирая, где свой, где чужой, латников забивали вилами и топорами.
Еще не заполучив французских миллионов, Эдуард принялся щедрой рукой рассыпать денежки, выжатые из собственного населения. Налоги поступали исправно, и если не всегда удавалось наскрести средств на солдатское жалованье, то заморские вина текли рекой. Драгоценная посуда из Италии, тончайшие французские материи, толедские доспехи и могучие кони, взращенные на фрисландских лугах, — всего было вволю. И все-таки первым делом Эдуард поспешил выкупить собственных лошадей, доставшихся в качестве приза врагу. А заодно с ними вызволил из полона и Джеффри Чосера, сквайра, умевшего слагать такие потешные истории, что весь двор заливался смехом. Забудутся непрочные деяния королей, но созданное Чосером не померкнет вовеки.
Лондонский договор оказался простым клочком пергамента. Он не имел ни реальной, ни юридической силы, потому как Франция фактически отреклась от своего короля. Разгневанный Эдуард поспешил высадиться в Кале с новой тридцатитысячной армией. На сей раз предназначенная для истории фраза звучала немного скромнее:
— Я их проучу!
О «наследстве» не было сказано ни полслова.
Целью похода был Реймс с его знаменитым собором, где по традиции короновались французские короли. Британец со свойственной ему смелостью решил собственноручно увенчать себя капетингской короной. Поначалу обстановка благоприятствовала дерзкому предприятию. Сметая все на своем пути, Эдуард через Пикардию и Шампань вторгся в пределы богатой и хлебной Бургундии. Две сучковатые скрещенные дубины на ее гербе, похожие на заколоченные ворота, словно закрывали путь вражеской армии. Но не тут-то было.
Опекуны молодого герцога Бургундского не только беспрепятственно пропустили неприятеля, но еще отвалили ему двести тысяч золотых экю выкупа за то, что Эдуард изъявил согласие «мирно пройти» страну. Лишь стойкость горожан не позволила лихому Плантагенету завладеть (в самом прямом смысле) французской короной. Ранние заморозки и нехватка продовольствия вскоре вынудили англичан снять осаду. Но желание покончить с противником одним завершающим ударом так и подмывало английского короля на новые авантюры. Вместо того чтобы отвести армию на зимние квартиры, он двинулся на Париж. Достигнув долгожданных предместий, англичане с демонстративной жестокостью обрушились на мирное население. Разрушенные крепости и пылающие дома словно давали знак парижанам не слишком усердствовать в обороне городских укреплений и, пока есть время, позаботиться о спасении.
Но Париж, переживший Жакерию,[12] когда народ недвусмысленно заявил о своих правах, не помышлял о капитуляции. Тем более что осаждающие были крепко потрепаны у Амьена и под Руаном, а действующий близ Компьеня крупный крестьянский отряд практически отрезал англичан от обозов с продовольствием, амуницией и фуражом. Отощавшие фрисландские лошади с трудом несли на своих хребтах закованных в броню рыцарей. Месяц прошел в бесполезных попытках овладеть оборонительным валом, сопровождавшихся взаимными попреками и оскорблениями.
Напрасно Эдуард вызывал дофина на рыцарский поединок. Трусоватый, но весьма изворотливый, Карл отсиживался в ледяном Лувре и не без успеха выдаивал у Генеральных штатов денежки на новые походы. Время как будто работало на него. Ему даже удалось достичь примирения с августейшим тезкой, королем Наварры. Отколов от англичан пусть не очень сильного, но поистине беспощадного сателлита, недаром прозванного Злым, молодой регент мог поздравить себя с первой победой. Когда он станет править под именем Карла Пятого, его не без основания нарекут Мудрым. Короля Эдуарда, действительно выдающегося воителя, чей трезвый разум, к сожалению, слишком часто затмевала непомерная алчность, он, безусловно, переиграл. Без горячих, скорых на расправу наваррцев наступление окончательно захлебнулось. Впору было вновь подумать о мирных переговорах. Но как не хотелось Эдуарду отпускать вожделенную птицу удачи, чей упоительный трепет еще хранили его ладони!
Собрав в Кале первых лиц королевства, Эдуард ознакомил их с военным положением. Алиса Перрерс, которой претил походный быт, склоняла короля к умеренности. Однако ни он сам, ни его сыновья, стоявшие теперь во главе крупных военных формирований, сперва даже думать не желали о мире. Но парламент, недовольный войной, которая перестала давать доход, все с большим скрипом голосовал за налог. После всевозможных оттяжек и проволочек переговоры все-таки начались.
Наследник престола Эдуард Уэльский, прозванный за цвет доспехов Черным Принцем, проявил крайнюю неуступчивость. Зарекомендовав себя доблестным рыцарем еще при Кресси, где отличился будучи шестнадцатилетним юнцом, он по мере возмужания становился все больше похожим на отца. Таким же ненасытным, упрямым и чадолюбивым.
— Нам не следует отказываться от статей Лондонского договора, — твердил Эдуарду-отцу Эдуард-сын.
И думал уже о собственном отпрыске, которому когда-нибудь отойдут завоеванные владения. Хотелось оставить побольше. Сделавшись наместником заморских территорий и получив титул герцога Аквитанского, Черный Принц на свой страх и риск предпринял новый карательный рейд. Пройдя от Гиени до Лангедока, он в который раз озарил заревом пожарищ истерзанную страну, но, столкнувшись с народным восстанием, вынужден был повернуть обратно. Добавив к своему гербу страусовые перья павшего на бранном поле чешского короля и его краткий девиз: «Служу»,[13] он не оправдал обязательства, сослужив своей стране дурную службу. И немудрено. Ведь Ян Люксембургский, несмотря на всю его славу, был поражен слепотой. Поводыри сопровождали его даже в бою. Черный Принц хоть и не страдал дефектом зрения, зато отличался слепотой нравственной. Храбрый рыцарь и талантливый полководец, церемонно вежливый и благородный в обращении с особами голубой крови, будь то друзья или враги, он всех прочих просто не считал людьми. Ни богатых горожан, ни тем паче крепостных крестьян. Его кровавые набеги и непомерные денежные поборы породили у французов такое ожесточение, что оно передавалось потом внукам и правнукам до четырнадцатого колена. Все его деяния шли прахом: административные меры, преследующие самую беззастенчивую корысть, и внешне респектабельные поступки, способные снискать рукоплескания дам. Стараясь во всем походить на Ричарда Львиное Сердце, он умел драться лишь в чистом поле и совершенно не понимал позиционной войны.
Осень 1368 года застала англичан вдали от неприступных валов Ла-Реоля, где можно было уютно перезимовать, чтобы с наступлением оттепели возобновить преследование скользкого как угорь неприятеля.
Остановившись в чудом уцелевшем замке Омер, построенном потомками знаменитого крестоносца, принц созвал военный совет.
— Меня волнует лишь одно, милорды: где противник? — Он с вымученной улыбкой взглянул на измотанных долгим походом сподвижников.
В полыхающем озарении смоляных факелов с особой рельефностью вырисовывались заросшие, влажные от испарины лица. Говорить не хотелось. Освобожденные от ненавистных лат, тела требовали немедленного отдыха. И то сказать: две ночи провели в седлах. Лошади и те не выдерживали. Сам принц успел сменить четырех, пятая пала под ним уже в воротах Омера.
Никто не знал, куда делось войско Карла, просочившееся через расставленные на всех дорогах посты, как песок сквозь пальцы. Даже думать об этом было противно, настолько слипались глаза и ныли кости. Но вопрос задан, и рыцарская вежливость не позволяла отделаться нечленораздельным мычанием.
Граф де Бомонт, грузный, состарившийся в походах, с мягкой укоризной покосился на Джона Чандоса. Главнокомандующий откровенно храпел, уронив на грудь налитую свинцом голову. Недаром ворчат старики, что война привела к огрублению нравов: молодежь совершенно отбилась от рук.
— Нам остается либо уверовать в колдовство, милорд герцог, — Бомонт счел себя обязанным поддержать разговор, — либо допустить, что французы пошли через лес. Первое нелепо, второе неслыханно, но все-таки более вероятно.
— Без дорог? Как звери? — Черный Принц только руками развел. — А как же обозы?
— Скорее всего, сожгли, а может, и схоронили в надежном месте.
— Так-так. — Принц размял занемевшие пальцы. Усталость как рукой сняло. Мысль обрела привычную четкость и быстроту. — Значит, кузен Карл снова хочет укрыться в Париже?
— Почему бы и нет? Как-никак зима на носу.
— Чандос! — гаркнул принц во весь голос.
— Милорд? — Коннетабль[14] перестал храпеть, но так и не оторвал подбородок от шнуровки колета.
— Выступишь с рассветом в направлении на Шартр.
— Выступлю, милорд, выступлю…
— Пока не поздно, нужно поджечь лес у Фонтенбло, граф Бомонт!
— Поздно, но я попробую. — Двужильный норманн с трудом отлепился от высокой спинки стула и с хрустом в суставах выпрямился. Пол уходил из-под ног, как палуба в шторм.
— Возьмешь кернов[15] и лучник. — Принц невольно отвел глаза. Как и король, он все еще верил, что одним молниеносным броском можно свершить чудо. И не щадил, как отец, ни себя, ни других.
Глава вторая Первая встреча
С ним йомен был — в кафтане с капюшоном. За кушаком, как и наряд, зеленым Торчала связка длинных, острых стрел, Чьи перья йомен сохранять умел, И слушалась стрела проворных рук. С ним был его большой могучий лук, Отполированный, как будто новый. Был йомен кряжистый, бритоголовый, Студеным ветром, солнцем опален, Лесной охоты ведал он закон. Наручень шитый стягивал запястье, А на дорогу из военной снасти Был меч, и щит, и на боку кинжал. На шее еле серебром мерцал, Зеленой перевязью скрыт от взора, Истертый лик святого Христофора… Джеффри Чосер. Кентерберийские рассказыБольше нигде в мире не встретишь таких широких дорог, как во Франции, проклятой и трижды благословенной. И приведут, куда надо, и места достанет, чтобы разъехаться с встречной повозкой. Метко подмечено: по королевской дороге невеста проедет, не зацепив воз с покойником.
Куда ни глянь, всюду трупы. По дороге на Шартр, по дороге на Орлеан.
Пять дней горел лес в Понтьерри. Фонтенбло и Эссон купались в густой удушливой пелене, а когда менялся ветер, едкая гарь заволакивала притихший Париж. Солнце едва проглядывало сквозь мглу бледным размытым пятном. Сбившись в стаи, волна за волной проплывали черные птицы. Всхлипывала и замирала усталая бронза колоколов. Тусклые зори остывали в угрюмой спешке, как вынутое из горна железо. Потом наползли тучи, и не стало ни утра, ни вечера. Но в канун дня усопших милосердное небо обрушило ледяной ливень. С короткими перерывами лило всю неделю, а перед праздником святого Мартена дождь сменился мокрым, липучим снегом. Изрядно попорченный огнем придорожный лес курился холодным туманом, словно преддверие адской бездны. В прелой листве, где совсем недавно рыли желуди вепри, ржавели пробитые латы. Тихо было в опустевших, разоренных домах. Ни грохота бочек, ни песен застольных:
A la Saint-Martin Bonde ton vin.[16]Если и уцелела непочатая бочка или забытый бурдюк, то бриганды-разбойнички осушили до капли. Чего сами не выпили, уплетая припасенные на зиму окорока, тем грязь напитали. Переловили птицу, распороли мешки с хлебом, унесли одежду и утварь. Известное дело: на войне как на войне. Считай, что легко отделался, если только ограбили подчистую. Кого с оружием застали, тех подвесили на просушку, кто за жену или дочку вступился — утопили в вине. Благодарную свечку поставьте перед девою непорочной, живые. И соседей не забудьте помянуть убиенных. Некому помолиться за души, погибшие без покаяния. Зачтется доброе дело на небесах. Гробовщики довольно потирали руки: товар пользовался бешеным спросом — не успевали сколачивать. Пока мороз не схватил землю, торопились отрыть могилы. Снежная морось оседает на вывороченные отвалы. Облетающие деревья, мглистое небо, тоска.
Выполнив поручение, Бомонт возвращался назад, уютно подремывая в седле. Могучий испанский жеребец уверенно месил белую глину. Противника англичане так и не обнаружили. По небольшому отряду могли ударить откуда угодно: спереди, сзади. Повсюду шныряли недобитые крестьянские шайки.
Обойдя Блуа стороной, граф выслал дозоры.
— Значит, так, Уот Тайлер, — он подозвал к себе коренастого бритоголового стрелка в насквозь промокшем зеленом кафтане вольного хлебопашца-йомена. — Надо хорошенько разведать дорогу. Если все тихо, подыщи подходящее место для отдыха. Я на тебя полагаюсь — ты парень смышленый. Только не очень забирайся вглубь.
— Разве на таком одре далеко ускачешь? — Лучник потрепал измученную лошадку по холке. — Сколько ребят взять, милорд?
— Трех-четырех, полагаю, будет достаточно. Выбери, кого хорошо знаешь, да смотри не зевай!
— Томас, Эндрю, Уил Хоукер, — позвал лучник. Поплотнее натянул капюшон и поскакал, обгоняя строй. Глинистая жижа так и брызнула из-под копыт.
На подходе к уютной, чистенькой деревеньке йомены наткнулись на монаха в обтрепанной, застиранной до рыжины сутане францисканского ордена. Стоя над мертвецом, он читал заупокойную молитву. Судя по латам и валявшемуся поодаль разбитому шлему с куцым плюмажем, убитый был бедным шатленом,[17] а может, и вовсе простым рыцарем. Хрупкое, почти детское личико закоченело в оскале, золотистые кудри прилипли к глазницам, раздолбанным вороньем.
Как отвратительна смерть, подумал лучник, особенно такая — в дорожной грязи.
— Gentilhomme![18] — невесело усмехнулся Тайлер, склонясь к монаху, и суеверно прикоснулся к оловянному образку под перевязью.
— Whanne Adam dalfe and Eve span who was rhanne a gentillman?[19] — скороговоркой бросил францисканец, продолжая бормотать по молитвеннику.
— Англичанин? — несказанно удивился Тайлер. — Что ты делаешь здесь один, когда кругом война? Каким ветром тебя занесло?
— Я божий человек. — Монах осенил павшего крестом и спрятал молитвенник. — По божьим делам иду в Авиньон к святому престолу.
— Пешком? В одиночку?.. Да ты просто рехнулся! Тебя выпотрошат, как цыпленка; хорошо, если не убьют.
— А меня уже выпотрошили. — Скорчив веселую рожу, монах развел руками. — Больше нечего взять.
— Далеко ли твоя обитель? — Тайлер спешился и дал знак товарищам продолжать путь.
— Я священник церкви святой Марии в Йорке, может, слыхал?
— Не бывал я на севере, божий странник. Кто же тебя обобрал? Небось воры-французы?
— Может, французы, а может, свои.
— Ну нет, англичанин вряд ли пойдет на такое.
— Ты не знаешь англичан, йомен. Вернее — не знаешь людей, потому что все мы дети Адама и Евы.
— Наверное, ты прав, отец, — согласно кивнул Тайлер. — Взять хоть этого, — ударом ноги он отбросил в сторону изрубленный шлем. — Одно слово что благородный. Виллан или лорд — всех черви сгложут. Прими его душу, господь. Он не виноват, что родился французом.
— Теперь он уже не француз. Там все говорят на одном языке.
— Почем ты знаешь, монах? Оттуда никто еще не возвращался. — Тайлер еще раз взглянул на убитого. Он видел множество мертвецов, целые поля костей, деревья, увешанные телами, но почему-то именно эта одинокая смерть пробудила в душе заунывные струны. — Скажи откровенно, отец, что ты думаешь насчет ада? Он есть?
— Есть, — с уверенностью ответил францисканец. — Здесь, на этой земле. Посмотри вокруг, и ты убедишься.
— А там?
— Не задавай глупых вопросов. Или тебе недостаточно мук и страданий людских? Мир стонет от крови и слез, переполнивших реки. Не ищи дьяволов в пекле, они среди нас.
— Ты говоришь про людей?
— Про злых и подлых, присосавшихся к жилам народа.
— Чудные речи для служителя церкви!
— Я не церкви служу, йомен. Нынче церковь — обитель греха и обмана.
— Да веруешь ли ты в бога?! — воскликнул пораженный стрелок.
— В правду я верую и правде единой служу, а правда и есть бог.
— Как же, слыхал я подобные песни! — Тайлер разочарованно усмехнулся. — Кто только не болтает о правде! Не заслоняется ею, как щитом… Уж не за правдой ли ты отправился на поклон к папе?
— А ты не дурак, йомен.
— Я-то не дурак, но вот кто ты, святой отец?.. Хотелось бы знать.
— Зачем, добрый лучник? Сведешь к начальнику, а может, сразу покончишь ударом меча?
— За кого ты меня принимаешь? Я не шериф, не палач. Всего лишь стрелок.
— Слишком любопытный стрелок. Тебе не кажется?
— А вдруг ты лазутчик? Военное время, монах…
— Ты хоть помнишь, когда оно было мирным? Эта война такая же мерзкая глупость, как походы в Святую землю. И уверяю тебя, она будет тянуться до скончания времен. Удобный способ вытягивать денежки придумали короли, ничего не скажешь. А Джон Простак знай себе платит. Ты давно не был на родине?
— Давно, отец. А что?
— Так, ничего… Получая шесть пенсов в день, можно не торопиться.
— Шесть пенсов? — осклабился Уот Тайлер. — Их забирает лорд, который взял меня под свое знамя. Мне достается немного поменьше.
— Все равно неплохой заработок. Небось лучше, чем надрываться на пахоте?
— Повоюй с мое, узнаешь.
— Воевать стоит за правое дело. Не под знаменем лорда.
— А твой архиепископ разве не лорд?
— Хуже. Он грабит, прикрываясь именем божьим. Лорды-епископы осквернили чистоту евангельского учения. Подумай об этом как-нибудь на досуге.
— Чего ж тут долго думать! Встречал я одного такого. Он сейчас в Бордо со своими людьми. Надел латы, перепоясался мечом и пошел на войну. И неплохой, скажу тебе, воин. Не знаю, каков он по вашей части, но рыцарь хоть куда. Клянусь святым Христофором! И скачет, и рубит, и хлещет вино. Я хоть и не шибко жалую попов, но этот мне пришелся по нраву. Мы вместе брали Лимож.
— Не богу, но противнику его служат подобные пастыри.
— А ты, часом, не из еретиков ли, блаженный странник? Сказывают, будто среди вашего брата их особенно много? Один так и вовсе колдун — сделал медную голову, которая отвечает на все вопросы.
— Веришь в глупые сказки?
— Пожалуй, не очень, мало ли о чем болтают в народе… Скажу тебе как на духу: ты мне нравишься, фриар.[20] Не знаю чем, но честного человека я чую за милю. Нужна ли тебе какая помощь?
— Спасибо, йомен, но мне ничего не надо.
— Все же лишнее пенни в дороге не помешает? — Тайлер потянулся к висевшему на поясе кошельку.
— Денег не надо, — францисканец решительно покачал головой. — Если есть хлеб и немного вина — поделись.
— Будь по-твоему, — лучник полез в притороченную к седлу суму. — Хочешь, могу подвезти, пока не разойдутся дороги?
— Вот за это спасибо. Мне ведь шагать и шагать…
— Да, до Авиньона неблизко. Говорят, это второй Вавилон?
— Язык без костей. Но ты держи уши открытыми, а главное, думай. Не надейся на медную голову.
— Метко сказано! — засмеялся Уолтер, помогая монаху взобраться на круп. — Так вот о правде, отец: ты действительно думаешь, что папа — наместник господень?
— Кто из нас еретик? — в свою очередь улыбнулся монах. — Ты мне тоже понравился, парень… Поэтому насчет Авиньона скажу тебе так: рыба тухнет с головы. Приглядись хорошенько к хвосту.
— И где этот хвост?
— Да хотя бы у нас в Кентербери. Ты мне про сладкую жизнь, обжорство, разврат, а я тебе про тюрьмы и пытки. Свободных людей клеймят, как скот, только за то, что они не хотят быть рабами. А в Авиньон я послан по делам прихода. Мне нужен кардинал-камерленго, чтобы уладить тяжбу о наследовании земель, принадлежащих ордену кармелитов… Теперь ты доволен?
— Мне сразу показалось, что ты не из тех людей, кому доставляет удовольствие лобызать чужую обувь. Даже если она расшита жемчугом.
Стрелки поджидали своего вожака у покосившейся придорожной часовенки, утопающей в прелой листве.
— Сдается мне, Уот, что там орудуют люди Боба Кноллиса, — Том Крайтон кивнул на деревню. — Потеха в самом разгаре. Их там человек двадцать, не меньше.
Уолтер из-под руки оглядел деревеньку. Разбросанные домики под соломенной кровлей казались вымершими. Лишь возле самого большого и дальнего от дороги деловито сновали несколько черных фигур. Их хаотичное, внешне бессмысленное мельтешение удивительно напоминало муравьев, тщащихся завладеть слишком крупной добычей.
— Ловят свинью, — усмехнулся Уолтер, разглядев подробности. — Мы рискуем остаться без обеда.
— Я бы не стал мешать чужой охоте, — предостерег Том.
— А мне нравится это местечко. Слыхал приказ? Ребята чертовски устали.
Подъехав к крайнему двору, Тайлер спрыгнул и, передав повод товарищу, ссадил невозмутимого монаха.
— Побудьте пока тут, я сейчас…
Пружинистым шагом он осторожно обежал дом сзади, но только успел высунуться из-за угла, как с грохотом распахнулась дверь и на мокрую землю руками вперед вылетела отчаянно голосящая молодуха в разодранной короткой тунике. За нею с кинжалом в поднятой руке выскочил рослый огненно-рыжий бриганд. Едва удержавшись на ногах, он грубо схватил ее за косу и попытался втащить обратно.
— Эй, приятель, — негромко окликнул его Тайлер. — Может, лучше оставить ее в покое? — И с расчетливой медлительностью поднял могучий лук.
Грабитель уставился на непрошеного защитника сумасшедшими, налитыми кровью глазами, туго соображая, кто он и зачем вдруг здесь очутился. Потом, собравшись с силами, приподнял девицу и пинком загнал ее внутрь. Перебросив кинжал в другую руку, он схватился за филенку и, не глядя, метнул оружие.
Тайлер едва успел отклониться и в то же мгновение пустил стрелу. Она вонзилась в самую середину ладони, намертво пришив ее к дверной рамке. Рыжеволосый истошно взвыл, дернулся и с протяжным стоном привалился к стене. Йомен свистом окликнул своих, неторопливо приблизился и взялся за рукоятку меча. Близкий к обмороку, бандит с ужасом следил за ним, забыв про боль, не замечая крови. Фыркали, нервно переступая копытами, кони, позвякивала сбруя, из дома доносились прерывистые рыдания. Но он не слышал ничего, загипнотизированный зеркальным блеском клинка.
Все так же размеренно и степенно йомен ступил на крыльцо, сжал пригвожденную руку повыше запястья и коротким ударом срубил наконечник. Последовал резкий рывок и окровавленное древко отлетело в сторону. Бриганд согнулся, зажимая рану, и сполз на колени.
— Скажи остальным, чтоб убирались отсюда как можно быстрее, — склонившись над ним, процедил Тайлер. — Войска занимают деревню именем короля.
Тот скатился со стоном с крыльца и, бормоча глухие проклятия, поплелся в гору. Его шатало, как пьяного, а может, он и взаправду был одурманен вином.
Йомены проводили незадачливого налетчика беззлобным смехом.
— Ловко ты его, — облегченно вздохнул францисканец. — Я даже испугался, когда ты взмахнул мечом. Подумал — зарубишь.
— Зачем? — пожал плечами йомен. — Ведь мы не враги.
— Не враги? — Монах лукаво прищурился. — Слишком осторожно сказано. Враг моего врага — мой друг… Ты спас француженку, ранив при этом англичанина.
— Он ирландец, — заметил Том Крайтон. — Я знаю этого парня.
— Мы не воюем с женщинами, — собравшись с мыслями, молвил Уолтер. — Мне вообще не по душе, когда убивают и грабят невинных людей. Война войной, но должна же быть справедливость?
— А что вы думаете, парни, насчет крестьян, атакующих наши обозы? Слыхали про Жака Простака? — Монах явно старался втянуть в разговор остальных.
— Думать особенно нечего, — твердо сказал Том. — Есть приказ вешать всякого, кто будет пойман с оружием.
— Оружие оружию рознь. Серп или те же вилы?
— Кто он такой? — тихо спросил Уил Хоукер. — Чего ему надо?
— На смутьяна из этих «бедных проповедников» смахивает, — подал голос Эндрю. — Много их нынче бродит.
— Французскому Жаку не легче, чем английскому Джону, — продолжал гнуть свою линию францисканец. — Нам ли его осуждать? И за что? Уж не за то ли, что мочи не стало терпеть?..
— Переночуешь с нами или пойдешь дальше? — с ощутимой сухостью в голосе спросил Тайлер. Он устал от разговоров. Граф Бомонт на подходе. Самое время готовить квартиры.
— Я пойду. — Монах улыбнулся каким-то своим мыслям. — Не проводишь меня до часовни?
Йомен подумал и согласно опустил веки.
— Тогда прощайте, добрые лучники. Храни вас господь. Будете в Йорке, спросите Джона Болла. Вам каждый укажет.
— Желаю тебе поскорее отыскать свою правду, отец, — кивнул Тайлер, когда показались голые платаны королевской дороги.
— Правда — она одна на всех, йомен. Как родина. Как земля-кормилица. Опустись в глубины моря житейского, затаись там до срока, и тогда ты на многое взглянешь иными глазами. Будь здоров, храбрый Джон.
— Я не Джон, ты меня с кем-то спутал.
— Все мы дети одного великого Джона. Правдивого Джона, которого терзают крючья палачей-дармоедов. Больно ему, ох, как же больно! Что рука, что нога — все едино. Откликается сердце на всякую боль. Сегодня твоего брата забили в колодки, завтра тебя… Ты правильно сделал, заступившись за эту француженку… Жена есть?
— Нет, — односложно ответил йомен.
— Значит, будет… Мы еще встретимся на этой земле, когда Темза потечет кровью и в лесах запылают дубы.
Глава третья Три Педро
Ты, Педро, лучший цвет испанской славы, Был милостями рока так богат! Те, что теперь тебя жалеют, — правы, Тебя из края выгнал кровный брат, Потом, подвергнув злейшей из осад, К себе в палатку заманил обманом И заколол своей рукою, кат, Чтоб завладеть добром твоим и саном Джеффри Чосер Кентерберийские рассказыПосле роскошной Венеции с ее розовыми чудо-дворцами, отраженными в зеленом зеркале лагуны, с ее фантастическим ночным фейерверком и таинственными каналами, по которым денно и нощно скользят гондолы, Вальядолид произвел на Джеффри Чосера гнетущее впечатление. Построенный готтами на месте римского города, он так и остался сонной дырой. Подписав в Палаццо Дукале договор от имени короля на аренду галер для пехоты и кавалерии, Чосер не без основания рассчитывал на быстрое восхождение. И действительно, не успел он вернуться из Италии, как получил новое предписание отправиться в Португалию, а затем — в Кастилию и Леон.
В надежде еще сильнее укрепить традиционные связи, Англия все глубже увязала в пиренейской трясине. Доходов с Гиени не хватало даже на то, чтобы заткнуть первоочередные прорехи. Аппетиты союзников росли день ото дня, ситуация постоянно менялась, а французское противодействие неуклонно сводило на нет с таким трудом достигнутые успехи. Одним словом, требовалось во что бы то ни стало дополнить ненадежные золотые цепи звеньями кровных уз.
Эдуард Третий осторожно изучал идею династического брака, надеясь обвенчать одного из сыновей с кастильской принцессой, вернее — с одной из принцесс, ибо у короля Педро тоже было несколько предложений. Кого с кем поженить, Эдуард еще точно не знал. Выдвигались разные варианты.
Деликатность доверенной Чосеру миссии в том и состояла, что он, ничего прямо не предлагая, должен был прощупать почву. Помимо чисто политических аспектов задуманной операции она имела нюансы и галантного, даже несколько романтического характера. Принцы-антагонисты Джон Гентский, попросту Гонт, и Эдмунд Ленгли втайне друг от друга уполномочили Чосера составить точную характеристику как внешних, так и внутренних достоинств испанок. И хотя пока речь могла идти лишь об одном браке, каждый принц, что было естественно, надеялся вытянуть счастливый билет и составить лучшую партию. Шансы Гонта были предпочтительнее.
Проскучав десять дней в разрушенном землетрясением Лиссабоне, Чосер направил свои стопы к Педро Жестокому. Королевский дворец, построенный в классическом мавританском стиле, не поражал особыми красотами, но был хорошо приспособлен для местных условий. Внутренний дворик с фонтанами дарил отдохновение и прохладу в знойные часы сиесты. Наполненные тонким благоуханием жасмина ночи оглашала соловьиная трель. Постоянно затевались охоты, прогулки, пиры, на которых подавали всевозможные экзотические плоды: померанцы, финики, смоквы, рожки. После почти аскетического регламента Лиссабона, где неумеренно предавались постам и молитвам, вальядолидская нега приятно разнообразила жизнь.
Не обманули ожидания и принцессы, особенно старшая. Чосер искренне огорчился, вызнав, что она уже просватана. Впрочем, и обе младшие оказались весьма и весьма пригожи. Под внешним смирением и напускной скукой таился такой огонь, что становилось чуточку страшно за будущего счастливца. Особенно пикантна была Констанция. Кажется, она первая раскусила истинную подоплеку секретной миссии.
Если бы не Педро, Чосер, наверное, совсем бы растаял под обаянием королевских дочек. Но в том-то и суть, что Педро был настоящим исчадием ада. С ним следовало держать ухо востро.
В настоящий момент он, дабы сохранить изрядно пошатнувшийся трон, всячески домогался военной поддержки Черного Принца и не скупился на обещания. Тягучий мед сладкоречия так и обволакивал англичанина, но сладость ощутимо отдавала ложью.
— Не надо ничего! — вкрадчиво повторял он. — Ни финансовой помощи, ни внушительных контингентов. Стоит только принцу Уэльскому появиться в Испании, и наши враги расточатся. Дракон заранее трепещет перед ликом святого Георгия.
Лестное сравнение было тщательно продумано и нацелено по точному адресу.
Чосер понимал, что такому человеку нельзя верить ни в большом, ни в малом. Слова ничего не значили для него, он лгал даже без особой надобности, просто так, из любви к импровизации. Ну и репутация у него была соответствующая. Иначе как убийцей, клятвопреступником и тираном его не называли. Он был способен, как то случилось в Толедо, утопить в крови целый город. Умерщвляя знатнейших грандов, в том числе самых близких родственников, он зачастую входил в такой раж, что не гнушался палаческим ремеслом. Воспылав вожделением к жене сводного брата Хуана, этот необузданный монстр не постеснялся начать штурм обители, где укрылась беглянка. Лишь обезобразив себе лицо стилетом, несчастная женщина спаслась от домогательств порочного злодея. Рассказывают, что, умирая, она прокляла его. Узнав об этом, Педро развеселился.
— Вот дурочка! — ласково помянул он усопшую.
Адских мук, как это явствует из его поступков, Педро ничуть не страшился. Одного аббата он зарезал только за то, что тот возвестил о явлении святого Дионисия, другого монаха велел умертвить за пиршественным столом великого магистра военного ордена Калатравы. И все же справедливости ради Чосер вынужден был признать, что кастильский душегуб навряд ли существенно отличался от ближайших соседей — властелинов Португалии и Арагона.
По иронии судьбы оба они тоже носили имя святого апостола Петра, что ничуть не препятствовало им творить всевозможные гнусности. Разумеется, каждый выделялся сугубо индивидуальными особенностями. Если король Кастилии и Леона открыто смеялся над папским отлучением, то Педро Португальский, напротив, славился ханжеской набожностью. Он, в частности, завещал похоронить себя возле жены и детей в убогом отшельническом одеянии. Столь похвальное смирение не помешало ему в один прекрасный день разрыть могилу любовницы и учинить непотребное представление. Обрядив извлеченный из гроба труп в королевские регалии, он распорядился водрузить смердящий прах в тронное кресло и заставил придворных воздать покойнице надлежащие почести. С целованием руки и подола, с обязательными верноподданническими заявлениями.
В чем-то они были очень похожи, Педро Кастильский и Педро Португальский, и, состоя в союзе, охотно выдавали друг другу политических противников. Англия была кровно заинтересована в дружбе с примыкающей к Риени страной, но цена, которую требовалось за это уплатить, могла перевесить сомнительные выгоды. Последующие события целиком подтвердили опасения Джеффри Чосера. Он оказался провидцем, за что и подвергся опале. Вопреки рекомендациям королевского посланника, Черный Принц с присущей ему скоропалительной решимостью поддержал Педро Жестокого. Как и ожидалось, это окончательно превратило Арагон в союзника Франции.
С королем Педро Четвертым Арагонским король Кастилии пребывал в перманентной распре. Не случайно, что именно в Арагоне получили прибежище его сводный брат Энрике, граф Трастамарский, и единственный законный наследник Кастильской короны дон Фернандо, приходившийся сводным братом арагонскому королю. В интересах Педро Жестокого было ликвидировать обоих соперников, на что он и подбивал коронованного соседа. Но, пройдя ту же школу низости и коварства, Педро Четвертый играл в свои игры. Для него опасность представлял один Фернандо. Обсудив несколько способов его устранения на совете министров, он остановился на самом простом. Роль наемных убийц сыграли люди Трастамары. Столь хладнокровное братоубийство поставило пиренейских соседей в один ряд. Да и Трастамара недалеко ушел от остальных. Недаром чувствовал себя в этом клубке змей как рыба в воде. Его спас лишь внушительный эскорт из восьми сотен кастильцев. Когда в обмен на голову высокородного графа был выдвинут приз в виде нескольких пограничных городов, которые Жестокий пообещал уступить Арагону, Педро Четвертый дрогнул. Остановила его малоприятная перспектива серьезной стычки. А тут, как нарочно, наваррский король подоспел, Карл Злой, и наметился новый альянс. Вместе с Энрике Трастамарским против Кастилии и Леона. В случае успеха добычу предстояло поделить поровну. В качестве ударной силы Карл Злой предложил наемников. Этих отчаянных сорвиголов, не боящихся ни черта ни бога, он обещал привести самолично. Разумеется, за надлежащую мзду, поскольку их предводитель Бертран Дюгеклен вновь сидел в плену у Черного Принца. Требовалось как можно скорее собрать выкуп.
Об искусстве бретонского кондотьера Карл Злой мог судить по собственному опыту. Дюгеклен, чье воинство состояло из французских рыцарей, а также волонтеров, набранных во Фландрии, Брабанте и немецких землях, чувствительно пощипал владения наваррского короля. Теперь, когда у Наварры вновь установился мир с Францией, а наемники Дюгеклена находились у Карла Злого на жалованье, можно было забыть старые счеты. Тем более что Дюгеклен, как никто другой, устраивал и Трастамару. Неотесанный и невзрачный, но удивительно прямодушный и целеустремленный, бретонец уже однажды помог графу в его борьбе за кастильскую золотую башню и лазурного льва.[21] Дело едва не сладилось. Педро Жестокий чуть ли не в ночной рубашке бежал морем в Гиень к Черному Принцу, который за пятьсот тысяч флоринов и Бискайю в придачу обещал ему возвратить трон. Верные заключенным ранее договорам, англичане послали союзнику подкрепления через прославленное еще Роландом Ронсевальское ущелье. В сражении при Нарехе Черный Принц оказался победителем. Педро получил назад свое несчастное королевство и тут же беззастенчиво надул благодетеля. Он не только не заплатил обещанного вознаграждения, но даже не возвратил денег, одолженных у британского наследника под честное слово.
Едва ли Эдуарду, принцу Уэльскому, задолжавшему по его милости всем ростовщикам христианского мира, захочется вновь окунуться в испанские дрязги.
Узнав, что англичане отвернулись от Педро Жестокого, граф Трастамара приободрился. Определенно стоило попытать судьбу еще разок. Зная, с кем придется иметь дело, Энрике потребовал надлежащих гарантий. Кроме священных клятв, которые вместе со своими сюзеренами должны были принести высшие сановники обоих королевств, он настаивал главным образом на заложниках. В их числе оказался наследный принц Арагонский. Как-никак временная резиденция Трастамары находилась в этом государстве, и именно здесь следовало заручиться наиболее весомым залогом. А цену клятвам и всяким красивым словам он знал.
К новой коалиции удалось привлечь даже римского первосвященника, который обещал предприятию всяческое содействие, видя в войне против Педро Жестокого чуть ли не новый крестовый поход. Кто знает, может быть, впервые за тысячу лет политические устремления римско-католической церкви совпали с ее прокламированными представлениями о морали.
Великого понтифика не пришлось долго уговаривать. Ему ведь тоже довелось однажды столкнуться с бретонским рыцарем. Идя первым походом на Кастилию, Дюгеклен нарочно завернул к Авиньону, чем привел в трепет тамошних кардиналов, разжиревших на дармовых французских хлебах. Банды наемников расположились табором у самой стены города. Кондотьер, чей путь даже через союзные земли был отмечен разбоем, в весьма энергичных выражениях потребовал денег. Взойдя на стену в широкополой архипастырской шляпе, тихий, ласковый папа предложил взамен отпущение всех прошлых и будущих грехов.
— Этого мало, — со свойственной ему прямолинейностью ответил Дюгеклен.
Сообразив, с кем имеет дело, утонченный Урбан Пятый заговорил на более понятном для бретонского мужлана языке:
— Но с разрешением церкви ты сможешь делать все, что захочешь, сын мой! К твоим услугам будут все сокровища мира.
— Сейчас мне нужно двести тысяч флоринов, чтобы заплатить моим людям. Право, будет хуже, если они возьмут их сами.
Пришлось отсчитать, проклиная в душе северного урода.
Перспектива новой встречи с кондотьером не слишком вдохновляла Урбана, но выбирать не приходилось.
Глава четвертая Черный принц
Пусть знает каждый в Англии сеньор, В Анжу, в Гаскони, словом, весь мой двор, Что я их безотказный кредитор, Что мой тюремный отперт бы запор И нищим был, скажу им не в укор, — А я еще в плену. Бертран де Борн. Ричард Львиное СердцеПронзительной сыростью дохнули зимние мистрали. Древняя Бурдигала — городище кельтского племени битуритов — съежилась от холода и беспросветной тоски. Завиваясь воронкой на выщербленной мозаике, летели колючие пески Гаронны в Бискайский залив. Мимо галльских развалин, крипт базилики Сен-Сёрен, через кладбища и арки водопровода. А когда ветры с берега пересилило дыхание океана, крупные градины защелкали по мраморным скамьям амфитеатра.
Руины дворцов, акведуков и терм, воспетых лирой Авзония,[22] обращались в эту гнилую пору в прибежище бродячих собак. С наступлением темноты люди боялись выйти на улицу. Стаи зверей, презирающих человека, кидались даже на ирландских копейщиков, несших ночную стражу. Беззвучно и стремительно, словно тени, собаки обшаривали все клоаки и закоулки Бордо. Дразнящий чад скворчащей в оливковом масле макрели доводил их до исступления. Относительно безопасно было лишь на соборной площади, окруженной узкими, льнущими друг к другу фасадами. После того как досужие лучники открыли стрельбу по живым мишеням, умные животные стали держаться подальше от сумрачных аркад готического портала.
В церкви святого Андрея епископ служил вечернюю мессу. Жалостно вздыхал простуженный псалтирион. Облитые голубоватым свечением, неумолимо и строго чернели на двух островерхих башнях кресты. Свирепый, иссушающий мозги ветер разносил оборванные клочки мелодии.
Дюгеклен, которому в такие вечера было особенно тягостно сносить унизительный плен, метался из крайности в крайность. От разудалой гульбы его тянуло к угрюмому одиночеству, звон кубков пробуждал неясное стремление к бесстрастному аскетическому покою. Обескровленная недугом чернокудрая дева пощипывала прозрачными пальчиками струны арфы. Она пела о томящемся в неволе Ричарде Львиное Сердце. Голосок звенел хрустальной чистотой и скукой:
…еще в плену-у-у-у!Дюгеклен отпустил ее нетерпеливым взмахом руки, когда додрожала струна. Он не мог знать, что долгожданная свобода стоит уже на пороге, стучится в дверь.
Когда в Вальядолиде пришли к согласию в главном, приступили к обсуждению отдельных деталей. Прежде всего требовалось вытащить кондотьера из бордосского плена. Для начала был пущен умело подхваченный слух, что Черный Принц потому так долго держит Дюгеклена в плену, что ревнует к его боевой славе, более того — боится бретонского рыцаря.
— Клевета! — взревел аквитанский наместник, когда до него дошла обидная молва. — Подлая и низкая ложь.
Коннетабль Джон Чандос, лично полонивший буйного храбреца, и ухом не повел, что привело герцога в еще большее раздражение. Подхватив в Испании какую-то изнурительную лихорадку, Черный Принц никак не мог оправиться после болезни. При малейшем неудовольствии у него разливалась желчь.
— Я боюсь? — надменно воскликнул он. — Да никого под луной! Тем более француза, которого дважды побил. Едем к нему, милорд.
Он тут же распорядился подать коня и вместе с Чандосом отправился в особняк, где в обществе веселых девиц и разбитных кавалеров коротал вынужденный досуг знаменитый пленник. Застигнутые врасплох, гуляки, побросав кубки и кости, смущенно поднялись из-за столов.
— Прошу великодушно простить меня за внезапное вторжение, господа, — не снимая горностаевой шапочки, принц сопроводил изысканную французскую речь галантным поклоном, — но бывают в жизни случаи, когда единственным проявлением неучтивости становится промедление… Мессир, — он с улыбкой подошел к Дюгеклену, — отныне вы вольны располагать собой по собственному благоусмотрению.
— Как? — изумился рыцарь. — Удалось столковаться? Неужели мой король все-таки вспомнил обо мне?
— Ничуть не бывало, шевалье… Я отпускаю вас по собственной воле. С этого момента вы просто мой гость.
— Но это против всех правил куртуазии! — Ужасное, иссеченное в схватках лицо Дюгеклена побагровело, отчего лишь отчетливее обозначились шрамы. — Неужели моя рука уже не стоит даже обрезанного шиллинга?.. Притом я пленник милорда, — поклонился он Чандосу, — и мне бы было вдвойне неприятно, если бы пострадали его интересы.
— Во сколько вы оцениваете нашего гостя, сэр Джон? — играя мертвенной улыбкой, спросил Черный Принц.
— Вы сами только что произнесли слово «гость», — бесстрастно заметил Чандос. — Этим все сказано.
Возражать было поздно. Принц, как всегда, все решил сам, не посоветовавшись со своим коннетаблем. Стойкий солдат и великолепный стратег, Чандос хорошо понимал, насколько неблагоразумно отпускать такого бойца, как Дюгеклен. Особенно теперь, когда в любую минуту могла возобновиться война. Очередной мирный договор оказался еще одной фикцией. Он не принес ни мира, ни ощутимых выгод. Удержать добытое оказалось не под силу даже ему, Чандосу, шутя разбившему неприятеля и в Нормандии, и на испанском театре. Победы обернулись банкротством. Неблагодарный кастильский король не возвратил даже тех денег, которые одолжил на пропитание. Не заплатил он и солдатам, пролившим за него кровь. Как всегда, за все расплатился принц. Налог, с таким трудом собранный в Гаскони, улетел в трубу. Коннетабль от души сочувствовал своему герцогу. Потерял первенца, прокутил миллионы да еще подхватил какую-то болезнь. И, главное, всюду опять неспокойно: гасконское рыцарство точит мечи, ширится недовольство, союзники предают, армия разлагается. Неутешительные итоги. Однако, в отличие от злополучного Чосера, Чандос не лез с советами. Пусть сильные мира сего сами выпутываются. Вместе с Дюгекленом он терпеливо ждал разрешения спора. Поглощенный заботами, Эдуард, принц Уэльский, казалось, позабыл, где он находится и зачем пришел.
Воцарилась неловкая пауза. Несколько сконфуженные гости поспешно отвели глаза. Всем, не исключая, разумеется, главных действующих лиц этого откровенно фанфаронского, но в чем-то и трогательного действа, было отлично известно, что Джон Чандос, запросив за своего пленника пятьдесят тысяч парижских ливров, отнюдь не торопится с ним расстаться.
Дюгеклена обуревали противоположные чувства. С одной стороны, томясь вынужденным бездельем, он стремился поскорее обрести свободу, с другой — тайно страдал от уязвленного самолюбия. Великодушие англичанина, окружившего его, поверженного противника, поистине королевской роскошью, задевало почти столь же глубоко, как и унизительная «забывчивость» скупого святоши Карла Пятого, непростительно задержавшего выкуп.
Сделав над собой усилие, Черный Принц поймал ускользнувшую нить:
— Вы слышали, шевалье? — Он нетерпеливо притопнул сапожком. — Ваша свобода в ваших руках. Решайтесь же поскорее!
Как всегда, он не терпел безвыходных ситуаций и требовал, чтобы все исполнялось в мгновение ока.
— Я предпочту честно дождаться выкупа, — преодолев соблазн, угрюмо процедил Дюгеклен.
— Тогда сами его и назовите, — в тон ему молвил Эдуард, запоздало понимая, что собственной поспешностью уничтожил ранее назначенную сумму.
Вновь перед Дюгекленом замаячила перспектива скорого освобождения. Одним лишь словом, точно клинком, он мог разрубить опутавшую его липкую паутину клеветнических наговоров, едкой зависти и недостойного торга. Он уже знал, что друзья в Бретани собрали сорок тысяч золотом. В нынешней ситуации этого хватило б с лихвой. Но гордыня прочно владела его бесхитростным сердцем.
— Ну чтобы не слишком обременять друзей… Сто тысяч, я думаю, будет достаточно?
Невозмутимый Чандос краем глаза глянул на принца.
— Быть по сему, — небрежно бросил принц Уэльский и, придвинув табурет, потянулся к стаканчику с костями. — Сыграем?
Играть ему не хотелось, но стоять было трудно. За последний год он сильно исхудал. Лицо и белки глаз пожелтели.
— Вы оказали нам слишком высокую честь, милорд. — Дюгеклен занял место напротив. У него были все основания полагать, что теперь он останется в Бордо до могилы. Если во Франции не сумели набрать даже пятидесяти тысяч ливров, то теперь и вовсе на это дело махнут рукой.
Однако вышло иначе. Хотя цена выросла ровно вдвое, деньги поступили с поразительной быстротой. Две трети заплатили король Франции и Энрике Трастамара, оставшуюся треть — римский папа.
Ступив на борт генуэзского корабля, который сразу же поднял паруса, рыцарь Бертран уже знал, как и с кем будет расплачиваться. Свидание с родной Бретанью вновь откладывалось на неопределенный срок.
Прежде чем высадиться в Испании, он поступил на службу к герцогу Анжуйскому, замыслившему отнять у Иоанны Неаполитанской солнечный и щедрый Прованс. По независящим от Дюгеклена причинам затея сорвалась, и Людовик Анжуйский, чтобы поскорее выпроводить слишком беспокойных удальцов из Лангедока, оплатил им напрасное беспокойство. Теперь уже ничто не мешало бретонцу очертя голову, ринуться в кастильскую неразбериху. Это произошло в тот самый момент, когда Педро Жестокий готовился нанести сокрушительный удар по войскам Трастамары, штурмовавшим многострадальный Толедо. Узнав, что на военном театре появился старый знакомый, король Кастилии тут же попытался переманить доблестного кондотьера на свою сторону посредством маленькой операции, которая оказала столь магическое воздействие на его итальянских собратьев. Педро и мысли не допускал, что может найтись человек, а тем более наемник, который не клюнет на золотую приманку. И эта ошибка стоила ему жизни. Прожженный клятвопреступник сам вырыл себе яму.
Упрямый бретонец, продававший направо и налево свои деликатные услуги, оказывается, — вот смешной парадокс! — очень серьезно относился к данному слову. Вернее, к заключенным контрактам, потому что во всех остальных случаях он, как и прочие, охотно прибегал к обману. Верность данному обещанию — это ли не искусство перехитрить противника? Жалок, хоть и не совсем безнадежен, мирской балаган, если честность свивает гнездышко в дебрях ада.
Сделав вид, что готов переметнуться на сторону противника, Дюгеклен сразу же поставил в известность Трастамару. Тогда и созрел план завлечь кастильского монстра в ловушку.
Как было условленно, Дюгеклен пригласил Педро на тайное ночное свидание к себе в шатер, который специально перенесли на одинокий холм, огибаемый каменистым руслом, где бормотали мутные ручьи обмелевшего русла Эбро. Вероломный тиран, проявив поразительную доверчивость, явился к назначенному часу. Дюгеклен, не желая пачкать руки, позвал Трастамару и покинул шатер. Граф, тоже человек своего времени, без дальних околичностей нанес удар кинжалом в лицо.
— Madrе de Dios! — прохрипел старый грешник, обагрив кровью шатер. — Madlita sea la noche…[23]
Тут же бархатная толедская мгла озарилась огнем факелов, и Трастамара был провозглашен королем. Правя под именем Энрике Второго, он делал все, чтобы изгладить память о вынужденном братоубийстве. Удар кинжала, превративший Кастилию из союзницы Англии в союзницу Франции, ничего, в сущности, не разрешил, но лишь окончательно запутал и без того сложную обстановку, бросив зубы дракона в распаханную борозду грядущего. Старшая дочь Педро умерла сразу же после того, как расстроился ее брак с наследным принцем Арагона. Две другие — Констанца и Изабелла — были оставлены отцом заложницами в Гиени. Поскольку Педро так и не расплатился с Черным Принцем, их отправили в Англию. По прошествии некоторого времени Констанца стала женой Джона Гентского, получившего титул Ланкастера, а Изабелла вышла замуж за его брата-соперника Эдмунда. Белая роза (Йорки) ни в чем не хотела отстать от алой (Ланкастеры). Оба принца получили тем самым определенные права на престол Кастилии и Леона, который за отсутствием наследников мужского пола должен был перейти по женской линии. Испанцы, будучи восприемниками готтов, не следовали в этом вопросе «Салической правде».
Первым о своих претензиях на трон возвестил, конечно же, Джон Ланкастер. И это наложило неизгладимую печать на всю дальнейшую историю Англии. Поэтому мы вскоре встретимся с предприимчивым герцогом на наших страницах. Молодая герцогиня не забыла остроумного поэта-посланника и, как сумела, пригрела его при дворе.
Рыцаря же Бертрана, делателя королей, ожидала на родине торжественная встреча. Карл Пятый всячески обласкал его, осыпав почетными титулами, одарив богатыми феодами в Бретани и прочих землях. Напрасно шипели завистники, изнемогая от собственного яда, зря плелись изощреннейшие интриги. Король, столь же субтильный и низкорослый, даже отдаленно непохожий на рыцарей Валуа, слепо доверился своему выбору. Даже когда Бертран отказался идти походом на усмирение родимой Бретани, Карл не изменил своего отношения. Ценя столь редкое качество, как прямота, он и впрямь обнаружил зачатки мудрости. Истовые моления и посты, подражание в мелочах Людовику Святому — это было второстепенным в его характере, напускным. Таясь даже от самых близких, он твердо шел к намеченной цели, пока не отдал господу душу, отравленный, как и прочие потомки Филиппа Красивого — палача тамплиеров.
Назначив Бертрана Дюгеклена коннетаблем и главнокомандующим всеми войсками Франции, он сделал безошибочный выбор.
— Я только бедный рыцарь, сир, — сделал попытку отклонить маршальский жезл Дюгеклен. — Не по плечу мне такая ноша.
Но Карлу, собиравшему разрозненные земли, было виднее. Звезда героя воссияла над Францией, еще не достигнув зенита. Став главнокомандующим, Дюгеклен одержал свои главные победы: взял Ларошель, очистил от врага Пуату, восстановил французский суверенитет над множеством городов, отошедших по договору в Бретиньи к Эдуарду Английскому. Он был похоронен в могиле, которую отрыли для умирающего Карла Пятого. Эти две почти одновременные кончины явились заключительным аккордом в пляске смерти, которая crescendo[24] расчищала сцену для нового представления. За каких-нибудь два-три года незатупляемая коса существенно обновила мир.
За несколько месяцев до кончины французского короля, убитого лошадиной порцией яда, скоропостижно скончался Энрике Трастамара, вполне искренне оплакиваемый кастильцами. Так и не став королем, после мучительных страданий опочил в Ричмонде Черный Принц. Вскоре за ним последовал и Эдуард Третий, всеми покинутый, переживший и сына-наследника, и собственную былую славу. Алиса Перрерс стащила с его еще теплых пальцев драгоценные перстни. В краткую минуту последнего просветления бедный король вспомнил куклу на нитках, плясавшую в Портсмуте перед самым отходом судов. Но прежде чем он успел связать концы и начала, все заволокло белым туманом. Ему показалось, что это Филиппа слетела за ним с запредельных высот. Ведь белое — траурный цвет королев, она, а не Алиса была и навеки осталась его королевой. Вместе с монархами, отплясавшими свое перед ширмой, отошли в лучший мир десятки других, менее знаменитых персонажей, чьими усилиями раздувались угли изнурительно безысходной войны.
Но сцена никогда не пустует. Великим коннетаблем Франции был назначен верный сподвижник Дюгеклена Оливье дю Клиссон. К концу семидесятых годов произошла замена и в английском лагере. Вместо Черного Принца и Чандоса пришли младший сын покойного короля Эдуарда Томас Бекингэм и в качестве главнокомандующего рыцарь Роберт Нолз, вернувший в Нормандию беглеца де Монфора. Нет, не пустуют подмостки. На смену королям подрастали принцы, которым, тасуя одну и ту же колоду фамильных карт, слепая судьба подбирала свиту. Впрочем, не настолько уж и слепая, ибо в скоропалительном хаосе, характеризующем смену поколений, проглядывала некая закономерность.
Почти в одно и то же время во Франции родились два младенца: один — в Бордо, столице английских владений, другой — в Париже. Парижанину было уготовано имя Карл и титул дофина; рожденного в Бордо нарекли Ричардом. Ему, внуку Эдуарда Третьего и второму сыну Черного Принца, предстояло унаследовать сразу две короны — английскую и французскую, от которой так и не отказались.
Сколь похожи окажутся их судьбы, накрепко сплетенные еще до рождения, и как сами они будут похожи один на другого, бессильные побеги некогда могучего корня!
Глава пятая Госпитальер
Мой перечень пусть рыцарь открывает. Тот рыцарь был достойный человек, С тех пор как в первый свой ушел набег, Не посрамил он рыцарского рода; Любил он честь, учтивость и свободу: Усердный был и ревностный вассал, И редко кто в стольких краях бывал. Крещеные и даже бусурмане Признали доблести его во брани. Он с королем Александрию брал; На орденских пирах он восседал Вверху стола; был гостем в замках прусских… Джеффери Чосер. Кентерберийские рассказыЧетыре готически заостренные цифры предваряли шероховатую латынь в стиле святого Иеронима, переводчика Библии, изысканный французский, грубый нормандский диалект и тот новый язык, которому предстояло стать бродильной закваской единой английской нации. Великий язык народа, поглотившего и римских легионеров, и воинственных нормандцев, и поверженных англосаксов. Равно корчились и исчезали в жарких языках пламени строки разноплеменной речи, начертанные каллиграфами-переписчиками, когда вместе с подушными списками и перечнем недоимок летели в костер свидетельства очевидцев: францисканцев, кармелитов, доминиканцев, бенедиктинцев — редких в ту пору грамотеев, насмерть перепуганных взрывом народного гнева. Вместе с ними и то прошлое, что мы именуем историей. Быть может, бремя ее оказалось непосильным для нации, которая еще не успела сложиться и, дабы не сгинуть в небытие, вынуждена расстаться с частью бесценного груза.
Не будем же бесполезно печалиться о том, что превратилось в дым, давным-давно растворившийся в небе, что навсегда ушло в землю с дождями и кровью. Осталась дата, словно верстовой столб мирового процесса.
Anno 1381… Отметив зарубку на скрижалях времен, приступали к описанию страшных событий.
Крупно и жирно, не пожалев алой краски, обозначили роковой год терпеливые летописцы сент-олбанского аббатства, безымянный мемсберийский инок и столь же анонимный переписчик из обители святой Марии в Йорке, и француз Фруассар, и Генри Найтон, каноник лестерский, и хронист Джон Малверн, и монах Кентерберийского аббатства Уильям Торн, и много других, нам неизвестных уж вовсе, чьи драгоценные записи погибли в огне.
Война, которую вели Валуа и Плантагенеты, стала наследственной бедой обоих народов. С ней свыклись, как с непреложной реальностью, с этой бессмысленной бойней, которую потомки назовут «столетним безумством». Напрасно дряхлые ветераны живописали внукам подвиги лучников-йоменов, что, поражая на дальней дистанции закованных в латы рыцарей, решали исход баталий. У юности своя память и гордость своя. Как льдины, несомые половодьем, таяли английские владения за морем, и все призрачней становились надежды на избавление от тяжкого бремени. Новобранцев забрасывали гнилой редькой, за спиной искалеченных стариков корчили рожи. Никого уже не согревали чужие огни. Даже маленьких королей, которыми играли опекуны-дяди. За ширмой в Лондоне прятались Джон Ланкастер, Эдмунд Кембридж и Томас Бекингэм, за ширмой в Париже — Людовик Анжуйский, Жан Беррийский, Филипп Бургундский и самый рассудительный среди всех — герцог Бурбон. Вернее, не столько прятались, сколько изо всех сил лезли на передний план. Ричарда Второго короновали как властелина обоих королевств, и это определило судьбу народов еще на три поколения. Но опять, как уже было когда-то, в монаршие игры вмешался народ. На сей раз англичане.
Мы вольны начать хронику с безмятежных дней рождества или с первого белоснежного утра месяца января, когда отдыхающая земля дышала миром и небесным покоем. Налог был собран до последнего пенни, работы в манорах[25] шли по привычному сезонному кругу, хоть и не хватало рабочих рук, а моровые поветрия вот уже пять лет обходили Британию стороной. Казалось, что отныне так будет всегда. Память о бубонной чуме, которую принесли крестоносцы, все реже тревожила лордов, свободных хлебопашцев и подневольных вилланов. Что же касается нового поголовного налога, принятого в ноябре 1380 года парламентом в Нортгемптоне, то на то и поставлен над своими подданными помазанник божий, чтобы всеми возможными способами выжимать из них золото на войну — излюбленную забаву. Ничто, таким образом, не было нарушено в привычном феодальном универсуме, где обязанности, права и сам строй жизни каждого сословия строго канонизированы и освящены церковной традицией.
Ни юный Ричард, вступивший в четвертый год своего жестко ограниченного опекунским советом правления, ни старший из дядюшек Джон Ланкастер, ни королева-мать, ни канцлер, ни даже сам лорд-казначей не ждали тех разрушительных потрясений, которые столь внезапно изменили веками устоявшееся течение бытия. Налог, третий по счету за последние четыре года, конечно, был слишком высок, если не сказать непомерен. Каждый мирянин, достигший пятнадцати лет, будь то мужчина или женщина, обязан был внести в казну три грота,[26] что втрое превышало налоговое обложение 1377 года. По сметам казначея Роберта Хелза, только таким путем можно было собрать требуемую для успешного продолжения заморской кампании сумму в сто тысяч фунтов стерлингов. Командующий экспедиционными войсками в Бретани сэр Нолз буквально бомбардировал парламент депешами, требуя немедленной доставки денег. Немалые средства требовались и на защиту королевства со стороны моря, откуда каждый день можно было ожидать пиратских вторжений.
Подсчитав все до последнего пенни, королевский совет постановил собрать две трети необходимого капитала к празднику святого Гилярия, то есть к тринадцатому дню января. Оставшаяся часть ожидалась не позднее второго июня, в самый канун пятидесятницы.
Очевидно, именно между этими двумя датами и следует искать день, когда на грозовом небосклоне Британского королевства молнией вспыхнули древние письмена. Словно во времена оны на валтасаровом пиру: «Исчислен и взвешен»…
Вглядываясь в бездонную воронку столетий, в темный, без единого проблеска, омут закрученной в бешеный штопор Леты, можно думать о разном. Вспоминать, забегая вперед, или, напротив, повинуясь мгновенному озарению, выхватывать из небытия тени минувшего. Быть может, случайные, а то и вовсе не сбывшиеся, быть может, единственно судьбоносные.
Кто рискнет назвать день и час, когда все окончательно завязалось и, притаившись до срока, стало реальностью, скрытой, однако, для большинства, прозреваемой избранными, смутно угадываемой безумными духовидцами? Кто угадает, какое деяние и кем оброненное словно явилось толчком, разбудившим лавину, подтолкнувшим назревшую неизбежность?
Любое мгновение жизни бесценно, и каждый миг круговорота небесных сфер несет в себе несказанную тайну, колебля незримо струну, соединяющую нас с мирозданием. Как заунывно дрожит она, как восторженно откликается в душе, когда следим мы за вечным ходом светил. Все мы и все вокруг нас лишь частицы единого целого, и мнится, что животворное солнышко — это пылающее огнем любви неземной сердце наше. Так было, есть и так будет. От сотворения мира до страшного суда. И хотелось бы яснее сказать летописцу, да не вспомнишь никак подходящей фигуры. Ученейшие теологи, хитроумные мужи древности обломали тут свои перья, ибо изначально неопределима сокровенная суть миропорядка. Вот если бы в стиле «Фигур красноречия»[27] что-нибудь, вроде анакласиса:
Вот оборот: когда речь в обратном толкуется смысле. Сын говорит: «Отец, я вовсе не жду твоей смерти!» Тот в ответ: «А лучше бы ждал, чем травить меня ядом!»Утрачена ясность высокой латыни!
Недаром мудрый Джеффри Чосер, отец английской поэзии, предпочитает астрономические иносказания. Так короче и, главное, спокойнее. Ведь не пером добывает он хлеб насущный, а неустанным бдением в Лондонском порту, куда милостью в бозе почившего короля посажен таможенным надсмотрщиком по шерсти, мехам и коже.
Итак, близился канун святого Валентина, покровителя всех влюбленных. Перефразируя достопочтенного Чосера, позволительно заметить, что солнце юное в своем пути знак Водолея торопилось обойти.
По всей старой доброй Англии, а также в Шотландии и Уэльсе, на острове Мен, на острове Сарк и Аркнейских затерянных островах парни и девушки тянули жребий на валентиновых женихов и невест. Юдоль земная неистовым светом наполнилась, души человеческие — надеждой. Пройдет зима с ее промозглой стужей и голодным оцепенением. Лиловой и желтоватой дымкой подернутся леса, зазеленеют холмы на южных склонах, и птички небесные райским многоголосьем встретят весну.
Нетерпеливые девы, как водится, в гадания ударились. Одни коноплю сеяли ночью на церковном дворе, чтоб суженый подобрал, другие листья лавра прятали в изголовье, чая во сне подсмотреть долгожданный образ. Все светилось, благоухало, кружилось в сладком предчувствии. Наполненные любовным томлением, изливались в ночи песни бродяг-менестрелей.
Повсюду шумные толпы гоняли разукрашенный разноцветными лентами мяч. Под протяжные стоны волынки и хриплый рев рогов сбивались в барахтающиеся кучи крестьяне и подмастерья, матросы, купцы и рыцарская молодежь. Даже монахи, подобрав рясу, бросались в потасовку, где каждый старался хоть на мгновение завладеть тяжелым кожаным шаром. Расстояние между воротами измерялось милями, и путь игроков, не стесненных никакими правилами, пролегал через улицы и закоулки, базарные площади и церковные дворы. Жители одного села выступали против другого, отцы семейств — против холостяков, соревновались соседние улицы и цеховые братства. Повальное это безумие, еще оставаясь исконным обрядом, обретало черты излюбленной потехи, которая через века покорит мир. Недаром свидетельствует на пергаменте летописец: «…считалось религиозным долгом каждого играть в футбол в определенные праздничные дни, и духовенство принимало участие в игре, иногда даже внутри священных зданий».
Ах, не все то правда, что оставил после себя монах на много раз выскобленном пергаменте. Не было это ни игрой, ни обрядом, а скорее испытанием божьим, молитвой, претворенной в борьбу и бег, где воля небес хоть как-то зависела от смертного человека. Отсюда фанатичная страсть и неистовство, нечувствительность к боли, сверхчеловеческая быстрота и упоение схваткой. Скорее вырвать счастливый жребий для себя, для своих, быстрее умилостивить отвагой сердца и проворством ног притаившееся неведомое, что подстерегает каждый твой шаг, и забыть, и забыть обо всем. О «Черной смерти», опустошившей страну, о безнадежно затянувшейся потасовке там, за Ла-Маншем, о новой, вконец разорительной подати, о всегда возможном недороде и падеже скота. Не думать о карах небесных и притеснениях земных владык, оторваться душой от забот, отвлечься от тяжких воздыханий о близком конце света, от леденящих кровь видений загробных мук.
С бесшабашным гоготом и выкриками неслась толпа. Прыгал по кочковатому, прошлогодней травой поросшему лугу тяжелый, словно литой, мяч. Прыгал, прыгал и докатился до ворот. Только не до тех, что нужно. Однако стражи в старинном кольчужном уборе поспешно подняли решетку, разняли скрещенные копья и пропустили под арку, осененную восьмиконечным крестом.
Замок Роберта де Хелза, магистра ордена госпитальеров святого Иоанна Иерусалимского, был возведен по классическим образцам французской готики, но вследствие многочисленных перестроек приобрел характерные черты английского «перпендикулярного» стиля. Шестигранные башни Крессингтемпла и мощные стены с прямоугольными зубцами грозно высились над окрестными дубравами и бескрайней вересковой пустошью, где сэр Роберт, исполнявший высокие обязанности королевского казначея, с увлечением травил лис. Укрепленный по всем канонам фортификации, замок мог, случись такая напасть, выдержать многомесячную осаду. Его подвалы были доверху наполнены солониной, копчеными окороками, залитыми жиром жареными гусиными полотками и прочей снедью, как-то: бычьими языками, печеночными паштетами. Амбары ломились от мешков с отборной пшеницей и ячменем, в глубоких погребах выдерживались в умеренном холоде бочки с мальвазией и вернейским. Запечатанные орденским знаком погребцы хранили вековые глиняные сосуды с непревзойденным ликером, сваренным по рецептам иоаннитов кипрского командорства.
Древнейший в христианском мире духовно-рыцарский орден, расставшись с безумными мечтаниями о новом походе в Святую землю, спешно укреплял свои владения по обоим берегам Канала. Печальная участь былых соперников — тамплиеров многому научила иоаннитов. «Преимущественные величества» — так официально именовали себя великие магистры — старались теперь ладить с королями, в чьих владениях пускали корни, и держались подальше от запутанных интриг папского двора. Благо, ныне это давалось им много проще, нежели раньше. После великого раскола 1378 года один великий понтифик — Урбан Шестой сидел в Риме, другой — Климент Седьмой окопался в Авиньоне. Выбранный французскими кардиналами, успевшими свыкнуться со сладким бездельем пленения, он осыпал конкурента непотребными поношениями. Урбан, разумеется, не оставался в долгу. Нарекши один другого «антихристами» и отлучив друг дружку от церкви, оба папы всячески стремились заручиться поддержкой коронованных властителей, к великой скорби и смущению всех правоверных католиков. Церковная война, в которой враждующие стороны не брезговали ничем, лишь подливала масла в огонь феодальной распри королей.
Не оставляя попечением вверенный ему рыцарский капитул, сэр Роберт ни на минуту не забывал о собственных интересах, чему немало способствовала королевская служба. После того как папа Климент Пятый и французский король Филипп Красивый сожгли на кострах вожаков тамплиеров, а затем под давлением Парижа и Рима Эдуард Второй вынужден был после десятилетней проволочки объявить о закрытии ордена в Британии, иоанниты сумели прибрать к рукам солидную долю тамплиерского наследства. В первую очередь лондонский Темпл с его секретными подземельями и запутанными переходами, где хранились сундуки с золотом и бесценные сокровища, вывезенные с Востока. Теперь большая часть этого богатства находилась в полном распоряжении Хелза, ставшего третьим, после Гонта и архиепископа Кентерберийского, магнатом Англии. Он и сам немало вывез из-за морей. Побывав и в Святой земле, и на Кипре, и в Александрии, сэр Роберт участвовал во многих сражениях и не пренебрегал военной добычей. Его хорошо знали и в немецком ордене, и на Родосе. Сиживал он за столами польских королей и венецианского дожа. Одним словом, понимал, в чем соль жизни, превыше всего ценя презренный металл.
Введенный в действие поголовный налог сулил Хелзу очередное прибавление казны. Пользуясь близостью Кроссингтемпла к столице, госпитальерский магистр все чаще вершил дела казначейства в собственной резиденции. Копаясь в цифири, он подносил к глазам чудесные стекла, вывезенные из Роттердама. Соединенные дужкой, они удобно сидели на кончике носа, возвращая утраченную зоркость. Стекла были предметом зависти всего Лондона.
В день святого Валентина Хелз принимал у себя в скриптории[28] обоих главных судей королевства — Джона Кавендиша и Роберта Белкнапа. Первый возглавлял суд Королевской скамьи, второй — Палату общих тяжб.
Сидя, как на троне, в резном кресле с высокой прямой спинкой возле оконной ниши, Хелз придирчиво сличал податные списки с ведомостью налогов, поступивших в казну. Цветные итальянские витражи причудливо пятнали его изможденный аскетический лик, снежной пылью воспламеняя ворсинки отороченной беличьим мехом суконной мантии. Белый крест на ее гробовом фоне горел и переливался в витражном озарении, словно напитанный живой кровью.
Оба государственных мужа в тяжком ожидании замерли возле пюпитров, к которым на железных цепях были прикованы переплетенные в шагрень тяжеленные книги. Скрипторий, примыкавший к библиотеке, где хранилось более сотни рукописей, казался им вместилищем вековой мудрости всего человечества, а его хозяин — высшим судией, наделенным сверхъестественным даром угадывать потаенные мысли. По крайней мере, именно такое впечатление надеялся произвести казначей, попеременно сверля невозмутимые физиономии сподвижников. Жирные коты знали себе цену, держались с достоинством. Потаенное не проступало сквозь привычные маски, и речь лилась гладко. Но доверять слову, имеющему лишь ритуальный смысл, было смешно и наивно. Красиво говорить обучились еще при Эдуарде, когда явное поражение превозносилось как радостная победа, а молчаливо узаконенное разграбление казны приобрело респектабельный вид некой феодальной привилегии.
— Должен признаться, милорды, что коллекторский отчет поверг меня в изумление, — нарушив убаюкивающее журчание, Хелз сухо откашлялся и вновь поочередно кольнул судейских недоверчивым, мгновенно все примечающим взором. — Исходя из налоговых списков прошлых лет, мы рассчитывали получить значительно больше. Право. Если верить этим бумагам, — он брезгливо отстранил от себя тут же свернувшиеся свитки, — то я должен прийти к заключению, что за последние четыре года население Англии уменьшилось чуть ли не на целую треть. Отчего бы это?.. Или, может, нас вновь навестила страшная гостья? Но, насколько мне помнится, мы не располагаем сведениями о каких бы то ни было вспышках заразы.
Сэр Джон внушительно поправил цепь, сплетенную из мелких золотых колец.
— Ни мора, ни голода, ни мало-мальски серьезных вторжений врага страна, милостью всевышнего, не пережила. Злостное уклонение от налогообложения.
— Я целиком согласен с достопочтенным судьей Королевской скамьи, — с важностью поддержал Белкнап.
— Прекрасно, сэр Роберт, прекрасно, — одобрительно закивал Хелз. — Ваши выводы, милорды, делают вам честь. Однако это не избавляет нас от вопроса, как стало возможным подобное своеволие? Столь дерзкий вызов, брошенный баронам королевства и общинам! Я усматриваю здесь не только небрежение своими обязанностями, но и прямое попустительство. Благополучие государства достопочтенные коллекторы принесли в жертву собственным интересам. В погоне за популярностью в своих графствах они по личному усмотрению не внесли в списки сотни, да что там сотни — тысячи налогоплательщиков! Одних преднамеренно, других по небрежности, третьих, не исключу и такое, из низкой корысти. В результате король и страна остались внакладе. Все это вынуждает меня обратиться к парламенту с предложением учредить в графствах комиссии из заслуживающих доверия лиц. Надлежит обойти каждый дом и проверить податные списки, представленные в Палату шахматной доски[29] коллекторами, которым было поручено взыскать налог в три грота. Всех уклонившихся следует неукоснительно призвать к ответу. Причем без всяких исключений! Отказ от уплаты повлечет за собой арест и тюремное заключение. Надеюсь, милорды, что судебная власть поддержит мое предложение.
Судьи удивленно переглянулись, но тут же поспешно потупились, словно уличенные в шалости школяры.
— Ты хочешь что-то сказать, сэр Джон? — Хелз нахмурился, отчего его ястребиный нос еще более заострился, и выжидательно уставился на тучного судью Королевской скамьи. Кажется, он все-таки допек этих лицемеров.
— Только одно, милорд, — Кавендиш с досадой отер увлажненный испариной лоб. — Мы не можем подозревать всех своих коллекторов. В подавляющем большинстве это весьма достойные люди, и я не склонен в досадных упущениях, столь зорко подмеченных тобой, видеть корыстный умысел.
— Досадных! — сдержанно негодуя, хмыкнул королевский казначей. — Бекингэму нечем платить войскам, а ты позволяешь себе благодушествовать.
— Одному коллектору и в самом деле трудно самому углядеть за всем в целом графстве, — пробормотал Кавендиш, отводя глаза.
— Значит, нужно придать каждому из них субколлектора, добавить других необходимых помощников!
— А средства, милорд? — поинтересовался судья Палаты общих тяжб.
— Казна отпустит, — Хелз пренебрежительно раздвинул бескровные тонкие губы. — Но каждый затраченный фартинг[30] должен возвратиться назад вместе с недоимками.
— Налог и без того тяжеловат, — Роберт Белкнап встретил ледяной оскал старого госпитальера примирительной улыбкой. — Люди отдают последнее. Я точно знаю.
— Так и я это знаю. Однако в положенный срок даже у наголо остриженной овцы отрастает шерсть. Молодая, нежная… — Хелз отрицательно покачал головой. — Я не принимаю твоих возражений.
— Так разве я возражаю, милорд?
— Значит, мы обо всем условились, — удовлетворенно кивнул казначей. — Мэры и бейлифы[31] городов, равно как и деревенские констебли, обязаны всемерно помогать комиссарам в выявлении уклоняющихся. Налог должно взыскать полностью, и он будет взыскан ко дню пятидесятницы чего бы ни стоило… Господи, что это? — нервно вздрогнув, он обернулся к окну, которое, содрогнувшись под гулким ударом, брызнуло осколками драгоценного цветного стекла. Сквозь дыры в свинцовом прогнутом плетении кинжально бил хмельной ветер. В тишину библиотеки ворвался гомон толпы.
— Мяч! — обрадованно вскрикнул Кавендиш, подскочив с неожиданной живостью. — Клянусь святым Элуа, это мяч!.. Славный, однако, ударец!
— Давно бы пора покончить с этими языческими игрищами, — проворчал Хелз, с сожалением глядя на изуродованное окно. — Пока доставят из Венеции новые стекла, придется заклеиваться промасленной бумагой или, того хуже, бычьим пузырем. Черт бы побрал эту чернь! — Он раздраженно потряс колокольчиком. — Разогнать всех до единого, — бросил бесшумно возникшему секретарю в долгополой орденской мантии.
— Не следует дразнить народ без крайней нужды, — пробормотал Джон Кавендиш.
— Леос,[32] — презрительно протянул Хелз. — Когда я наказываю своих псов, они скулят, но лижут палку, — Отпуская секретаря, он взмахом руки дал понять, что не настаивает на данном приказании. — Тупые, грубые дети, что с них взять? — пробормотал с принужденной улыбкой.
Проводив судей, казначей вновь позвонил в колокольчик.
— Есть ли вести из Кастилии? — спросил он выскользнувшего из-за неприметной двери секретаря.
— Ничего существенного, милорд. Положение устойчиво.
— Свяжитесь с ломбардцами, — он указал на разбитое окно. — Пусть поскорее доставят стекла.
— Но в Лондоне тоже есть мастерские… — нерешительно заикнулся секретарь.
— Лет через сто мы, пожалуй, научимся делать не хуже венецианцев… Каково настроение в графствах?
— Эссексцы, как я уже докладывал, окончательно распустились.
— Не желают платить? Надо уметь заставить. Губка никогда не бывает достаточно сухой. Стоит хорошенько отжать, и потекут золотые струйки. Потом она с удвоенной силой начнет вбирать питательную влагу.
— Губка? — секретарь многозначительно поджал губы. — Возможно, монсеньор. Особенно привезенная из Рагузы… Но вилланы и вся эта мелкота из свободных держателей просто-напросто не желают работать. По вашему указанию я проверил налоговые списки графства Эссекс. Здесь, как вы знаете, все считают себя свободными: кто — наследственным сокменом,[33] кто — привилегированным держателем коронных земель. Картина поистине удручающая. В Колчестерских сотнях чуть ли не треть пашни оказалась заброшенной. Они, вы не поверите, монсеньор, отказываются обрабатывать землю!
— Причины? — Скрывая зевоту, Хелз передернул плечами.
— Всякий раз разные и всегда одни и те же. То падеж среди тяглового скота, то недостаток общинных угодий, которые якобы незаконно распахал местный лорд.
— Бывает и такое. В практике наших судов часты подобные конфликты.
— Конечно, бывает. Но все мы прекрасно знаем, в чем суть. После уплаты налогов и возмещения феодальных повинностей у хлебопашца не остается почти ничего. Работа теряет для него всякий смысл. Они слишком темные люди, монсеньор, чтобы подняться до понимания высшей истины.
— Какую истину вы имеете в виду?
— Разве наше земное существование не является лишь подготовкой к рождению в жизнь вечную?.. Нет, плебсу никогда не возвыситься до осознания долга.
— Не все так мрачно, мой друг. К счастью, мы располагаем некоторыми средствами убеждения. Плеть, например, колодки… Само собой разумеется, что поступать следует в соответствии с буквой закона. Статья двадцать первая Второго Вестминстерского статута в добавление к статуту Глостерскому определяет: «Если кто-нибудь в течение двух лет не выполняет службы и обычные повинности, которые он обещал выполнять в пользу своего лорда, то лорд имеет также право на иск о возвращении земли…» Или я ошибаюсь?
— О, у монсеньора завидная память.
— Тогда в чем дело?
— В практике исполнения законов, смею полагать. — Секретарь раскрыл пергаментный конверт с бумагами. — Вот характерный случай… Некто Уолтер Тайлер, получив от своего лорда, графа Бомонта, полную виргату[34] с годовым доходом в восемьдесят шиллингов, привел держание в совершенный упадок. Вот уже скоро пять лет, как он ни лично, ни через арендаторов не занимался хозяйством.
— Граф Бомонт, кажется, почил в бозе?
— Совершенно справедливо, монсеньор. Его наследник, сквайр господина нашего короля, сдал манор в аренду местному аббату.
— И аббат до сих пор не вчинил иска этому молодцу? Никогда не поверю!
— Увы, нерадивый Черепичник — простите, что оскорбляю ваш слух столь низменной кличкой, — не является в суд. Эссекский шериф объявил розыск, но так и не смог достать негодяя. Ссылаясь на отправление воинской повинности, он постоянно отсутствует.
— Ну, если он действительно состоит в войске…
— Не состоит, монсеньор. Что было, то было: служил когда-то у принца Эдуарда и графа Бекингэма, но чем ныне занимается, одному богу известно. Налогов, само собой разумеется, не платит. И вообще есть подозрения, что связался с дубинщиками[35] и промышляет разбоем.
— Подготовьте запрос в Палату шахматной доски. Пусть как следует приструнят молодца. И взыскать все до последнего пенни! Если не желает копаться в земле, пусть латает крыши в аббатстве… Все-таки поближе к небу.
Секретарь угодливо осклабился и сделал пометку на вощеной табличке.
— Что-нибудь еще?
— Опять этот Джон Болл.
— Разве он еще не в тюрьме? Я сам составил приказ и передал на подпись архиепископу.
— Однако человек, которого вы приказали заключить под стражу как упорствующего отлученного, по-прежнему смущает народ своими богомерзкими проповедями. Он не только выступает против поголовного налога, но и призывает не платить церковную десятину. Пожалуй, это уж слишком, даже для бывшего священнослужителя.
— Возмутительное благодушие, — осуждающе покачал головой Хелз. — Сколько можно нянчиться? — Он сделал вид, что не помнит подробностей, и нетерпеливо прищелкнул пальцами. — По-моему, делом этого пакостника наш добрый канцлер и архиепископ занимаются уже не первый год?
— Не только он, высокий магистр. Покойный Симон Ислип тоже отлучал Болла от церкви. И тоже собирался отправить его в монастырскую тюрьму. Затем архиепископ Ленгам вызвал Болла на суд и пригрозил отлучением каждому, кто впредь будет распространять писания, порочащие духовных пастырей и дворянство. Но с того как с гуся вода. На второй год архиепископского служения Симона Седбери уже сам король отдал приказ об аресте смутьяна.
— Однако он до сих пор на свободе и продолжает поносить всех и вся… В том числе и меня лично! Разумеется, обличение пороков сильных мира сего, проповедь бедности и презрения к роскоши в традиции церкви, но ведь должны же быть какие-то границы! «Разбойник Хоб», видите ли! За эту кличку я проучу наглеца!
— Вас он особенно ненавидит, — секретарь не без злорадства подсыпал соли на рану. — Налоги и прочее…
— Он мне заплатит за все.
— Давно пора, а то что же получается? Три примаса не смогли обуздать вшивого самозванца?
— Бешеного пса! — взорвался обыкновенно сдержанный казначей. — Если архиепископу безразлично, как честят его на всех площадях, то подстрекательства насчет церковной десятины он едва ли потерпит. Это больно ударяет по самому чувствительному месту — по мошне. Подготовьте меморандум на имя его милости короля Ричарда. Я намерен выступить на тайном совете. Посмотрим, как повертится наш примас на горячей сковородке!
Глава шестая Оскверненная булла
Торговец индульгенций ходит с буллой, На булле той епископа печать. Хоть нету у плута святого сана, Но отпустить грехи он всем сулит. И люд мирской, колени преклоняя, Целует с верой буллу продавца. Ему кто брошкой платит, кто кольцом. Так золотом мирян обжоры сыты И, как святой, у них в почете плут. Уильям Ленгленд. Видение о Петре ПахареЛишь единожды в году бушует ярмарка, в полном соответствии с исконным значением веселого слова — «базар года». На берегу реки Кольн, у Колчестера, возле древнеримской стены, сколотили ряды, возвели всевозможные балаганы, помосты, врыли столбы для плясунов на канате. До открытия торговли, приуроченной к празднику святого Порфирия, покровителя близлежащего аббатства, оставалась еще добрая неделя, но свежеоструганное, в смоляных слезках дерево уже увили пестрыми лентами, обили льняным полотном, украсили еловыми ветками и венками из остролиста. Местные зеваки, будто завороженные, следили за тем, как растет городок из волшебной сказки.
В цыганском таборе рычали дрессированные медведи, фокусники и глотатели огня собирали медяки, демонстрируя свое крамольное искусство.
На огороженном пустыре, где обычно торговали скотом, колесо к колесу сгрудились повозки крестьян и ремесленников, съехавшихся со всего Эссекса и соседних графств. Для многих, особенно бедняков, грядущий праздник становился чуть ли не главным событием в примелькавшейся веренице праздников и постов. Жили от ярмарки до ярмарки, когда удавалось, если, конечно, везло, сбыть нехитрые плоды терпеливого труда и выручить горсточку серебра. Конкуренция, само собой, ожидалась жестокая. Чуть ли не в каждой второй подводе лежали бережно укутанные рогожей тюки шерсти — главного богатства страны, оберегаемой ради славы мира копьем святого Георгия. Не ощущалось недостатка и в штуках занозистого сукна. Грубая материя, понятно, уступала «судейскому сукну» и тем более не шла ни в какое сравнение с тонкой тканью фламандских мастеров, но ведь и цена на каждый товар своя, и свой покупатель. Спрос на простую одежду никогда не падал среди малоимущего люда с той поры, как отбушевала чума. Заморские купцы хоть и бились за каждый пенс, но брали все подряд, сколько хватало места в трюмах.
Одним словом, каждый хранил надежду на выгодную сделку. Оружейники, шорники, обувщики, гончары, плужники — все с замиранием ждали вожделенной минуты. С не меньшим нетерпением следили за ходом подготовительных работ бравые парни и девицы на выданье, если даже не было в кошельке завалящей монетки. Кому просто повеселиться хотелось, а кому, чем черт не шутит, встретить судьбу.
Уже катили бочонки с элем в сколоченную на скорую руку таверну, коптили туши, и прямо на палубе из рук в руки ходила мерка с аквитанским вином. И трепетали разноцветные вымпелы на мачтах кастильских галионов, и хрупали под ногами скорлупки прославленных устриц Остенде.
Наконец настал долгожданный день. Приор отслужил молебен, нищенствующая братия, бряцая запечатанными кружками, собрала доброхотные пожертвования, и степенные олдермены,[36] облачившиеся по такому случаю в тяжелые отороченные белкой мантии, приступили к обходу купеческих владений. Напрасно заезжие новички пригибались за дощатой оградой или укрывались под тяжелыми складками драпировок. Даже самым скупым пришлось уплатить и положенный сбор, и особый налог, вроде весового для шерсти или мерного, коим облагалась каждая дюжина винных бочек.
В Англии искони уважают учет и порядок. Специально учрежденный торговый суд без проволочек разрешал любые тяжбы, безжалостно пресекая вроде бы хитроумные, но на поверку смешные коммерческие уловки. Опытные люди следовали мудрому правилу: платить загодя и не скупиться на подношения. Так оно было вернее и, главное, много дешевле. Особенно для постоянных гостей, удостоенных привилегий: разряженных в пух и прах негоциантов из итальянских республик, суровых ганзейцев в меховых беретах, задиристых гасконцев и пикардийцев, невозмутимых фламандцев, ласкательным касанием оглаживавших рулоны малинового и кубового бархата. Уж они-то, тертые калачи, знали, что не останутся внакладе. Недаром славный город Колчестер вырос вокруг знаменитого Комолодунума, ставшего едва ли не первой стоянкой на завоеванном римскими легионами острове.
Одно на другое замыкались чугунные звенья долговременных следствий. Мертвый хватал живого, как на церковной фреске, изображавшей Последний суд.
Уот Тайлер добрался до города на угольной барке и, поджидая Уила Хоукера, коротал времечко за кружкой эля в темной харчевне на берегу. Все столы были заняты. Дым от кухонного очага щипал глаза.
У ил заявился в сопровождении пожилого крестьянина с изъеденным оспой лицом, когда в городе отзвонили к обедне. Пододвинув ногой бочонок, он молча уселся за стол. Затем ослабил зашнурованный ворот.
— Это Том Эндрюсон, — представил рябого спутника. — Сокмен из Суэфхемской сотни.
— Был сокменом, — горько усмехнулся крестьянин, — да превратился в раба. Наш лорд и сенешаль из поместной курии сумели доказать, что моя землица находится в вилланском держании. Законники так окрутили, что вышло, будто еще дед, царство ему небесное, платил гарнет, талью[37] и отрабатывал барщину. Только мы испокон веков считаемся лично-свободными, а если что и делали для лорда, то по доброму согласию и уважая обычаи старины. Теперь мне и хода нет в королевский суд.
— Уж это так, на вилланов не распространяется общее право, — сочувственно подтвердил Тайлер. — Да много ли проку в тяжбах? Я что-то не припомню, чтобы суды решали дела не в пользу лордов. Если раньше и случалось такое, то нынче только и слышишь про наглый обман. Вот и тебя опутали по рукам и ногам, братец Том. Уж теперь-то лорд выжмет все до последней капли.
— А что делать? В поместную курию за правдой идти? Так барон там — полный хозяин.
— За правдой в суды не ходят, сокмен, за нее бьются.
— Значит, остается одно: в лес к вольным братьям? Но у меня детей пятеро душ, мать-старуха. Их-то куда?
— Трудно тебе, Том, понимаю. Да только ты не один такой. Вся Англия стонет в кровавом бреду. Терпи, пока можешь.
— Доколе, спрашивается, терпеть? — сокмен удрученно опустил голову. — Живем как скоты, без надежды на облегчение… В прошлом году, как раз на Иоаннов день, лорд общинный выгон огородил. Наши люди подали жалобу коронному судье, и, хочешь верь, хочешь нет, он разрешил по совести. Даже бейлифа прислал, чтоб урезонить барона. Только бейлифа того в усадьбу не допустили. Лорд выслал сенешаля сказать, что он единственный господин в своих суверенных владениях и никакого вмешательства не потерпит. Бейлиф потоптался, да и ушел ни с чем. Еще на нас накричал напоследок.
— Тем и кончилось?
— Тем и кончилось. Сколь жалоб потом ни писали, никто не приезжал. Своих же законов не соблюдают! Верь после этого господам.
— И вы что, примирились?
— Ничуть не бывало. Раз закон на нашей стороне, думаем, то, стало быть, мы и сами вправе его исполнить.
Так?.. Словом, дождавшись безлунной ночи, разобрали проклятую огородку, будто ее и не было никогда.
— Вот это молодцы! — обрадовался Тайлер. — Только таким языком и надо с ними разговаривать. Другого они не понимают… Славная у тебя община, братец Том.
— Может, и славная, добрый человек, только лорд все равно верх взял. Новые жерди срубить — плевое дело. Он и загородку на место поставил, и весь наш тягловый скот позагонял в свои хлева. В качестве штрафа, что ли… Скоро всем нам голодная смерть. Если, конечно, не покоримся, не отступимся от выгона.
— М-да, ничего не скажешь, отъявленный мерзавец ваш суверенный барон! Такого и проучить не грех… Как полагаешь, Уил?
— С тем он и пришел к тебе от общины Суэфхема, — подал голос молчаливый Хоукер. — Мне тоже их жалко до слез, но ты не должен вмешиваться, Уот.
— Он прав, — помрачнев, кивнул Тайлер. — Я качаюсь на волоске, братец Том, со всех концов обложили. Если я влезу в это дело, мне придется уйти из Эссекса. А вся беда в том, что мне этого никак нельзя. Не могу я сейчас оставить свой дом, понимаешь?.. Не ради себя, сокмен. Будь иначе, я бы охотно помог вам, а после подался в дубинщики. Но именно теперь я привязан к месту. Как гвоздями к кресту прибит. И на Уила особенно рассчитывать не приходится. Он всегда в дороге, наш неустанный Уил, и тоже себе не принадлежит. Смешно и печально: один упрямый домосед, другой вечный странник.
— Выходит, не остается у нас даже последней надежды? — обреченно вымолвил Том. Он не просил, не жаловался, придавленный непомерной тяжестью англичанин, а только смотрел, и Тайлер навсегда запомнил и этот взгляд, и эти слова о последней надежде.
— Не отчаивайся, я все же подумаю, что можно сделать. А пока прощай, Том. Мне еще надо побывать на ярмарке. — Бросив на стол позеленевший фартинг, он коснулся плеча Хоукера. — Найдешь меня на барке, Уил. — И крикнул в дымную полумглу: — Эй, хозяйка! По кружке эля моим друзьям.
Визгливый напев рожка ввинтился в гомон разноплеменной речи. Замерли на миг бражники, не донеся до губ пенного кубка, застыли объедалы, позабыв про поросячьи ножки. Даже торговые споры и те пресеклись, а меняла оторвался от своих обрезанных гротов. Все взгляды, как по команде, устремились на помост, где из-за клетчатой желто-зеленой занавеси выскочил прелестный разбитной менестрель. Дав пинка кувыркавшемуся на ковре жонглеру в облегающем черном трико, он поклонился публике и запел на англо-нормандском наречии, которое все еще было в ходу.
De sai juglere de viele, Si sai de muse et de frestele. Et de la harpe, et de chipohonie, De la gigue, de larmonie, El et saltiere et en la rote[38].Пока певец изощрялся в перечислении своих музыкальных способностей, юркий жонглер, похожий на чертика, корчил немыслимые рожи, вызывая поощрительный смех. Не прерывая зазывной песни, бродячий виртуоз отпустил ему звонкую затрещину, отчего проказник подскочил, сделал забавное сальто и с грохотом растянулся на упругих досках, изобразив бездыханное тело.
Теперь хохотала добрая половина ярмарки. С разных концов спешили на представление все, кого не занимал в данную минуту барыш. Двинувшись в общем потоке, Уот Тайлер перекинул с плеча на плечо неизменный упленд и осторожно протиснулся в первые ряды. На помосте продолжалось забавное действо. Жонглер, оживший при первых звуках виолы, жалобно зарыдал и выкатился со сцены. Предстояла повсеместно любимая народом баллада «De Karlemaine et de Roland», о Карле Великом и Роланде, верном из верных.
Прислушиваясь скорее к собственным мыслям, нежели словам, Тайлер не спускал с юного певца пристального ждущего взгляда. Когда же их глаза наконец встретились, он все так же осторожно, стараясь никого не задеть, выбрался из толпы. Обогнув конный ряд, где храпели и ржали, вздымая пыль, тощие вилланские кобылы, он негаданно оказался перед паланкином, в котором, словно в меняльной конторе, расположился продавец индульгенций, благообразный и моложавый фриар-кармелит.
Под защитой буллы, прошитой трехцветной тесьмой с красной печатью примаса Седбери, он весело распродавал блага потустороннего мира. С ловкостью, которой мог позавидовать любой ломбардец, бряцал на счетах, артистически взвешивал принесенные доверчивыми мирянами кольца и серьги, пробовал на зуб серебро. Носильщики из того же кармелитского ордена следили за бойкой торговлей. В оплату за спасение милосердная мать-церковь принимала все без разбору: мешочки с пряностями и благовония, китовую амбру и слоновую кость, шелковые материи и даже оружие с золотой насечкой. Сходные цены устанавливались быстро под скабрезные прибаутки ловкача-фриара и гогот охочей на дармовую потеху матросни. Впрочем, и просоленные волки морские не оставались равнодушными к столь деликатной теме, как загробные муки. Испанские идальго, не брезговавшие при случае пиратством, и поднаторевшие в своем деле флорентийские финансисты тоже не упускали возможности заручиться пропуском в рай.
Невзирая на то, что в каких-нибудь двух шагах от монашеского паланкина собрал кружок единомышленников бедный проповедник, метавший громы и молнии против обманщиков в сутанах, торговля вечностью шла бойко. Все уживалось под единым небом, все умещалось в одном человеческом сердце: правда и ложь, сомнение и надежда, отвага и трусость. Многие из тех, кто только что приобрел папскую индульгенцию, внимали обличителю с чистой верой в глазах и кивали сочувственно, вздыхая в нужных местах. Столь рабского двоемыслия вынести было никак нельзя. Сколько раз Тайлер давал себе слово не размениваться на мелочи. Бесцельно рубить змеиные головы гидре вселенского зла. Они тут же отрастают, шипя и прыская ядом. Значит, нужно смирить себя, затаиться до срока и нанести удар в самое сердце. Но он не святой Георгий, чтобы в одиночку схватиться с драконом. Нужны сотни, тысячи смелых бойцов, готовых на смерть ради Правды. Так учит Джон Болл, так думает и сам Тайлер, ожидая уготованного ему часа.
Но торжище в храме — не мелочь. И глумливое поношение Правды — совсем не пустяк. Купивший место в раю не полезет в огонь. Жертвенность не в ладу с двоемыслием покорных и жалких.
Досадуя не столько на сытого наглеца в закапанной жиром сутане, сколько на слепую переменчивую толпу, Уот Тайлер дождался своего череда и просунулся в оконце с буллой, чья кровяная печать жгла, как язва.
— Удели и мне малую толику благодати, святой отец, — потребовал он с неловкой усмешкой.
— Сразу видно, что ты не дурак, йомен! — одобрительно кивнул кармелит. — Первым делом нужно позаботиться о душе, а уж потом обо всем прочем. Преходящи блага этого мира. Вспомни также о своих кровных, которые, быть может, стонут в эту минуту среди адских огней. Они взывают к тебе из непроглядной ночи чистилища: «Помоги, сын, протяни руку спасения». Не жалей денег, парень. Они стократ окупятся в краю блаженных.
— Моих родных унесла «Черная смерть», — сдерживая негодующую дрожь, процедил Тайлер. — Им уже ничем не поможешь. Они-то выстрадали свое право на вечное блаженство.
— Как знать, добрый англичанин, как знать! — белый фриар вздохнул с наигранным сочувствием. — Разве не за грехи наши посылает тяжкие испытания господь? Может быть, именно сейчас от тебя зависит, как сложатся их судьбы там, где больше нет горя и слез и все тайны открыты освобожденным от бренных оков душам? Щедрым воздастся.
Наглое вымогательство, как ни странно, успокоило Тайлера, и он ловко подстроился под откровенно торгашеский стиль.
— Я не постою за ценой, если ты поможешь мне искупить всего лишь один незначительный грех, даже не грех, а так, проступок, — затаив насмешку, посулил он. — Останешься доволен.
— А это смотря по тому, о чем идет речь. Ведь то, что ты, сын мой, по темноте или неразумению считаешь мелким прегрешением, может оказаться в глазах церкви смертным грехом.
— И что тогда? — прошептал в притворном ужасе Тайлер. — Все пропало?
— Не будем отчаиваться. Милость господа беспредельна.
— Значит, ты мне все-таки оставляешь надежду? — спросил Тайлер словами Тома.
— Надежда всегда есть. Надейся. Само небо привело тебя, куда надо. Посему, не тратя лишних слов, поведай мне, что тяготит твою душу, а я подумаю, чем тебе можно помочь. Власть этих чудесных реликвий так велика, что и вообразить трудно, — фриар любовно коснулся тонкими женственными пальцами индульгенций. — Они не только способны покрыть уже совершенное, но и распространяются на будущие поступки.
— Вот это как раз для меня! — Тайлер по-приятельски подмигнул монаху. — Я если и совершил какой грех, то пока лишь в мыслях. Главное впереди. Мне просто-таки не терпится приступить к делу.
— Твои речи граничат со святотатством, а намерения и того хуже, — строго предупредил кармелит. — Боюсь, что единственным грехом дело не кончится.
— Видно, придется уплатить и за скверный умысел тоже. Но совладать с собой я не в силах. Тем паче что мое тайное желание не столь уж и скверно, святой отец, если как следует приглядеться. Дело в том, что у меня чешутся руки хорошенько отделать одного отъявленного мошенника. Мочи нет.
— О, суета сует, — снисходительно попенял фриар. — Недостойная страсть едва ли приблизит тебя к райским вратам, — словно бы в тяжком раздумье, он развел руками. — Впрочем, и спасению души она как будто не угрожает. Конечно, едва ли приятно томиться в чистилище лишнюю тысячу лет, но я постараюсь избавить тебя от слишком долгого ожидания. Плати два грота, и можешь с легким сердцем поквитаться со своим недругом… Кто он?
— В том-то и дело, что проходимец принадлежит к духовному ордену, святой отец.
— Как? И ты осмеливаешься вести подобные речи перед лицом служителя церкви?! Да знаешь ли ты, богохульник, что черти уже ликуют в аду, поджидая столь лакомую поживу?! Прочь с глаз моих, исчадие сатаны!
Вопреки резкому смыслу речей, монах изъяснялся медоточивым тоном, сохраняя добродушное выражение лица. Ловец душ, он знал, что жирная дичь не покинет приманки. Стоит проявить немножечко терпения, и денежки простака будут звенеть в ящике с монастырским гербом.
Ведал бы он, что этот неотесанный простофиля и не думал расставаться с последними ноблями, заработанными на заморской войне!
Тайлер спокойно выдержал бранную отповедь.
— Разве я не сказал, что этот клирик отъявленный плут? Форменный нечестивец. Я перед ним просто агнец. — Теперь и он улыбался, глядя в глаза кармелиту. И, вспомнив опять Тома из сотни Суэфхем, разом потух: — Неужели не отыщется достойного выхода?
— Нечестивец, говоришь? — всем своим видом фриар изобразил внутреннюю борьбу. — Нет, все равно ничего не получится. Духовный сан делает человека неприкосновенным. Но бог осудит его за скверну.
— Так почему бы мне слегка не помочь господу? Он-то знает, какая ехидна скрывается под смиренной сутаной? Разве так уж плохо уподобиться карающей деснице провидения? Пусть мои слова отдают гордыней, но, клянусь святым Христофором, это не стоит вечных мук.
— Ты действительно так думаешь? — кармелит помимо воли втянулся в богословский диспут. — Цель не всегда оправдывает средства. Я прозреваю целый сонм больших и малых грехов, — по привычке он перекинул костяшки. — Дрожь охватывает при одной лишь мысли об ожидающих гордецов муках. Даже за пять гротов я не смогу спасти тебя от кипящей смолы.
— Пять гротов! — проигнорировав устрашающую аранжировку, Тайлер заговорил языком рынка. — Два полновесных золотых нобля за такой пустяк! Что ж, будь по-твоему, я согласен. — Он принялся неторопливо развязывать кошелек.
— Одного твоего согласия мало, йомен! — сладко зажмурившись, как кот, играющий мышью, монах чуть придвинул к себе бумажную кипу. — Надо, чтобы я еще согласился.
— Разве ты не назвал цену? — в поисках сочувствия Тайлер обернулся к очереди, что, затаив дыхание, следила за диковинной сделкой. — Пять гротов!
— Ты неправильно понял. Я сказал: не смогу!
— Шесть! — для пущей убедительности Уот потряс кошельком. Мелодичный звон золота поставил последнюю точку в споре.
— Ты избрал неправедный путь, сын мой, — с видимой неохотой белый фриар отделил от кучи одну индульгенцию. — Но я вижу, что ты добрый христианин, достойный спасения.
— Ага! — Тайлер азартно хлопнул себя по колену. — Слышали, люди? Теперь я могу, ничуть не тревожась за душу, как следует отделать этого гнусного надувалу! — Он погрозил побледневшему фриару увесистым кулаком. — За деньги они не только господа готовы продать, но и собственную шкуру!.. Хотел бы я знать, во сколько встанет порка господина нашего архиепископа? — И, щелкнув по оттиснутому на красном воске гербу, втесался в толпу. Его проводили благодарными возгласами и смехом.
— Неисповедимы пути справедливости! — наставительно изрек бедный проповедник, ощущая себя победителем. — В Английском королевстве нет места гнусной торговле греховным товаром!
В образовавшейся веселой свалке как-то так получилось, что носилки опрокинулись вместе с визжащим сидельцем и по ним изрядно прошлись подошвами.
Червленая печать пристала к чьему-то каблуку и слетела с тесьмы. Разом утратив всю святость, зацелованная булла была втоптана в грязь. Но разлетевшиеся вокруг индульгенции тайком подобрали.
Так закончилось забавное происшествие, о котором потом долго, может быть лет сто, а то и все двести, судачили в Колчестере.
Но и оно забылось в конце концов.
Кудрявый, хорошенький, как девушка, менестрель отыскал героя дня на стрельбище, где лучшие лучники со всей округи пробовали свое искусство.
— Тебе нельзя возвращаться домой, Уолтер, — шепнул он, улучив подходящий момент. — Нагрянул шериф из Лондона и констебли. Лучше вообще не появляйся в Колчестере, где тебя чуть ли не каждый знает в лицо.
«Вот и пришел твой час, Том, — в третий раз за день болезненно встрепенулось сердце. — Значит, так тому и быть. Теперь уже все едино».
Глава седьмая Тайный совет
Он эмпиреи узнал, сферу огнистых небес, И к серафимам взошел, и подъялся к святым херувимам, И к престолам небес, где Элохим воссидит; И воссияли ему начала, силы и власти… Иоанн Скотт Эриугена. На Дионисия АреопагитаВ «пепельную среду», что приходилась на первый день великого поста, торжественный траур нисходит в мир. День размышления о прожитой жизни, неизбежных грехах и покаянии. Отерев с губ жир масленичных излишеств, люди одевались в черное, спеша к утренней мессе. Пылали свечи, клубился туман в синеватых, наклонно бьющих из окон струях, печально вздыхал орган. Напоминая о близком часе расставания с бренным миром, священник осыпал головы прихожан пеплом. Покайся, грешник, пока не поздно. Преклонив колени, возопи в сердце своем: «Меа culpa, mea maxima culpa».[39]
Золотились в дымке ладана подновленные венцы, в уголках глаз скорбящей мадонны поблескивали слезы, повсюду слышались растроганные всхлипы. Одни сдержанно шмыгали носом, другие рыдали, истово целуя деревянные ступни ярко раскрашенных апостолов.
По улицам таскали наряженное в лохмотья соломенное чучело и всякий, кому не лень, швырял в него каменьями и грязью. В затерянных деревеньках и на городских площадях, вроде лондонского Чипсайда, обосновался привязанный к шесту Джек-о-Лент, «Джек-пост» — олицетворение голода и мрака небытия. Он простоит, поносимый толпой, до понедельника вербной недели. Затем его оттащат за городскую черту и бросят в костер либо утопят в воде. Да сгорит, да сгинет зима и развеется по ветру вместе с горящей соломой призрак безносой старухи.
Но не помогут прыжки и заклинания. Неумолимым истребительным знаком сойдутся звезды грядущего лета. Уже занесена над затылками, пеплом осыпанными, безжалостная коса. Красноречивый Лука де Юэль, королевский астролог, расписывая по двенадцати домам планетные сочетания, не чует несчастья. Послушать его, так Англию ждут сплошные победы на бранном поле, щедрый урожай и всеобщее благоденствие. Что же касается герцогов да баронов, то, хотя почти у каждого и отмечен атизар,[40] милостью божьей дурные оппозиции удастся преодолеть и достойный возрадуется награде. Юношей ожидает наследство и выгодный брак, зрелых мужей — приращение ленных владений, подагрой терзаемых старцев — доходы с маноров и нежданные приключения в царстве игривой Венеры.
Великопостную пору двор встретил в Виндзоре, укрепленном замке английских королей, заложенном еще Вильгельмом Завоевателем. Свирепый нормандский герцог, мечом добывший заморское королевство, заложил эту крепость, чтобы держать под контролем столицу. На высоком холме, которому придали очертания правильной полусферы, возвели просторную мощную башню по образцу замка святого Ангела в Риме. Затем окружили ее высокой стеной, насыпали длинные земляные валы и протянули вдоль них добавочные ярусы укреплений, уступами спадающих в речную долину.
За три века мало что изменилось за этими стенами, сложенными из желтовато-серых камней. Быть может, и вообще не стоило вспоминать о седой старине, если бы и по сей день не стояли на своем месте зубчатые башни Виндзора, королевской резиденции, овеянной мрачной славой веков.
Покойный Эдуард, дед юного Ричарда, правда, попытался внести кое-какие изменения в планировку нормандской твердыни. Грезя о легендарной доблести рыцарей «круглого стола», он, особенно после победы при Кресси, возомнил себя новым Артуром и велел соорудить внутри исполинской рондели круглый стол из цельного камня. Торопясь воплотить в жизнь столь благородное начинание, он ассигновал на него сто фунтов стерлингов в неделю, однако из-за военных нужд смету пришлось урезать до двадцати, и башню, которую предполагалось расширить, оставили в покое.
Зато в честь упомянутой победы Эдуард основал первый в Европе светский рыцарский орден с престранным, надо признать, орденским знаком в виде голубой подвязки, носимой поверх белого трико над коленом левой ноги. Подвязка была снабжена застежкой и вышитым золотом девизом на французском, официальном при дворе, языке: «Да будет стыдно тому, кто дурно об этом подумает». И в самом деле, пусть будет ему стыдно, ибо героическая легенда уверяет, что снятой с ноги ленточкой король дал знак начать историческую баталию. Святой Георгий Победоносец, покровитель Англии, помог британцам опрокинуть исконного врага и был увековечен в орденском статуте.
Не менее серьезного отношения заслуживает и другая легенда, романтическая, даже несколько гривуазная. При дворе Ричарда еще доживали свой век участники бала, который Эдуард дал в честь все той же виктории при Кресси в круглой зале Виндзора. Призывая в свидетели святого Элуа, старые пэры клялись, что сами видели, как в разгар танцев с ноги королевской пассии слетела прехорошенькая голубая лента. Это маленькое происшествие было встречено взрывом смеха и скабрезными намеками, что страшно рассердило влюбленного короля. Он собственноручно поднял подвязку и, демонстративно укрепив ее в положенном месте, пристыдил шутников. Как это часто бывает, брошенная по случаю фраза стала исторической. Ведь от смешного до великого так же близко, как от великого до смешного.
Маленький король, скучающий на троне со знаками августейшей власти в руках, был не только смешон, но и жалок. Дабы удержать длинный скипетр и державу с удлиненным в той же готической манере крестом, он вынужден был почти по локоть засучить нелепые разрезные рукава. Справа от трона сидела королева-мать, демонстративно одетая в траур по Черному Принцу, слева — королевские дядья: Джон, герцог Ланкастерский, за ним Эдмунд, граф Кембриджский, и Томас, граф Бекингэмский, самый младший из сыновей Эдуарда Третьего.
Прочие члены тайного совета расположились за каменным столом, покрытым фламандскими гобеленами. С потолка, разделенного дубовыми балками на широкие кессоны, срывались порой мутные капли. Сочившийся из амбразур чахлый свет придавал пылавшим по стенам факелам мрачноватый оттенок. Колюче посверкивало шитье знамен: святой Георгий, поражающий чудище, червленые георгиевские кресты, львы и лилии, крылатый дракон Уэльса. Над тронным балдахином новенькой позолотой сиял картуш с личным гербом нового короля: олень с ошейником в виде короны. Корона была прикована цепью к земле, а глаз оленя слезился грустью.
Лица людей казались изможденными и неживыми, словно бы припорошенными пеплом траурного дня.
Симон де Седбери с желчной обстоятельностью отражал выпады нетерпеливого Гонта. Речь шла о церковных бенефициях на английской земле, которые римский папа Урбан Шестой с непомерной щедростью раздавал своим клевретам и прихлебателям. Обсуждение финансового отчета, по существу, закончилось, вылившись в язвительную пикировку между противоборствующими силами. Духовные и светские князья, отбросив куртуазность и не обращая внимания на короля, сводили давние счеты. Раздраженный подковырками брата Эдмунда Джон Ланкастер не пощадил даже канцлера, скорее союзника, чем противника, но человека гордого и независимого. В церковных вопросах они почти всегда противостояли друг другу.
— Странная позиция, сэр, — Гонт игнорировал доводы примаса. — Еще при блаженной памяти короле Эдуарде парламент отказался признавать постановления римской курии, задевающие интересы страны. Теперь же, когда христианский мир расколот по причине непотребной свары и оба первосвященника обливают друг друга хулой, вы пытаетесь встать на защиту итальянцев, разъевшихся на британских хлебах.
— Опомнись, сэр, речь идет о служителях божьих, — предостерег архиепископ, методично перебирая агатовые четки.
— …которые сидят на сундуках с золотом! — поспешно выпалил Гонт. — Мы же вынуждены считать каждый обрезанный пенни, чтобы снабдить армию всем необходимым для победы над врагом.
— Нужно было лучше считать полновесные марки, тогда бы не дошло дело до порченых монет, — заметил Седбери, безучастно глядя перед собой. — Что же поделать, если раньше не снисходили до счета, а теперь научились считать слишком хорошо?
Эдмунд и Томас обменялись многозначительными улыбками. Намек был яснее ясного. Полученные в виде выкупов по договору в Бретиньи миллионы, в том числе три миллиона за взятого в плен французского короля, Эдуард благополучно пустил по ветру. Казне достались жалкие объедки с круглого пиршественного стола. Да и те оказались в конце концов в кармане Джона Ланкастера. Спикер палаты общин Питер де ла Мер открыто обвинял его в пособничестве лорду Латимеру, который вкупе с лондонскими купцами крепко нагрел руки на военных спекуляциях и взятках на экспорте шерсти. Предпринятый Гонтом неудачный поход тоже дорого обошелся Англии. Спросить тогда было некому: король находился в старческом маразме, Черный Принц лежал на смертном одре. Алиса Перрерс закрыла судебное расследование, и воры отделались легким испугом. Пришлось отложить сведение счетов до нового царствования. Время между тем текло, множа грехи и обиды.
Инстинктивно угадывая, что настал его черед бросить веское, истинно королевское слово, Ричард метнул затравленный взгляд на мать, затем искательно покосился на Генриха Дерби, старшего сына Гонта, и графа Уорика. Его тянуло к молодым, уверенным в себе людям, которые открыто поносили порядки, установленные веками, издевались над старцами, дразнили связанных круговой порукой казнокрадов. Дядюшек, что постоянно шпыняли друг друга, он боялся и ненавидел.
Ричард так и не решился высказаться. Все, что приходило на ум, казалось беспросветной глупостью. Выглядеть смешным он, конечно же, не хотел, но и постоянное молчание на совете не сулило особых лавров. Озабоченно нахмурив лобик, король сделал вид, что внимательно прислушивается к спору между обновленцами и консерваторами.
— Зачем ворошить прошлое? — Роберт Хелз пытался примирить обе стороны.
Как казначей и магистр духовно-рыцарского ордена, он был вынужден, пусть чисто внешне, поддержать примаса-канцлера, хотя личные интересы раз и навсегда приковывали его к колеснице Гонта. И немудрено: за Ланкастером стояла внушительная сила. Постоянная свита старшего принца крови насчитывала двести двадцать семь рыцарей и сквайров, носивших ливрею[41] Алой розы. Эти благородные лорды, имевшие собственных вассалов, были ядром могучей армии, с которой приходилось считаться. Это понимали все, в том числе и король. И еще острее ненавидели Гонта, и с удовольствием жалили его, где могли, зная, сколь ограничен он в своих действиях клиром и дворянской оппозицией. Враждебную Гонту партию баронов, усиленно поддерживаемую Ленгли, возглавлял эрл[42] Марч. Его управляющим и был тот самый спикер, который столь смело обличил казнокрадов в Палате общин. «Наворовались, так уступите место другим, — комментировали смысл его речи парламентские остряки. — Нам тоже хочется».
— Интересы короны превыше всего, — с ядовитой улыбкой изрекла королева-опекунша, ни к кому прямо не адресуясь. Она не желала наживать новых врагов, стремясь оставить все как есть, но позволяла себе иронизировать. Словно бы давала намек на будущее: «Все знаю и вижу, но молчу, пока меня не задевают».
— Именно так, милорды, — поспешно повторил Ричард. — Интересы короны! За Англию бог и святой Георгий.
— Первейшая обязанность правительства стоять на страже интересов короля и его верных общин, — канцлер ловко переадресовал улыбку Гонту, выказав тем свою нераздельность с короной. — Вмешательства иноземцев в наши внутренние дела мы, разумеется, не допустим. Кто бы они ни были, чью бы волю ни выражали. Но не следует забывать о нерушимом единении мирской и духовной власти. Подкоп под одну из сфер этого двуединства неизбежно вызовет ослабление другой. Отнимите у народа веру в царство небесное, он забудет о своей священной обязанности почитать царей земных. Я вынужден напомнить об этом лишь потому, что под тем или иным соусом все чаще высказываются разрушительные идеи об ущемлении прав матери-церкви. Некоторые, не убоясь ада, совершенно открыто призывают к секуляризации церковных владений. Не торопитесь, милорды, подпиливать дуб, на котором свили свое гнездо!
— Адресуйте ваши упреки бормотунам, которые расплодились, как кролики! — нервно огладив бороду, выкрикнул Гонт. — Давно пора переловить эту сволочь.
— И переловили бы, если бы не заступничество влиятельных особ, — елейным голосом заверил канцлер. — Бормотунов-подстрекателей не только подкармливают, но и искусно науськивают против преданных слуг господних. Да разве их одних? Даже внутрицерковные диспуты мы не можем вести, сообразуясь с богословской премудростью и собственным разумением. Светские князья и тут норовят вмешаться. Они не только поддерживают всяческое инакомыслие, но, как могут, защищают от справедливой критики заблудших, принуждая их упорствовать в ереси.
— Дай вам волю, так вы всех запишете в еретики! — издевательски засмеялся герцог. — Каждый, извини, милорд канцлер, мыслит по-своему.
Намекая на крамольного богослова Уиклифа, которого Ланкастер чудом спас от формального осуждения оксфордской коллегии, примас явно превысил пределы дозволенного. Следовало быть настороже.
— Я? — архиепископ благостно улыбнулся. — Да я и пальцем никого не тронул. Даже этого вшивого Болла.
— И очень жаль, — посетовал казначей, щеголяя магическими стеклами.
Гонт не принял поддержки, дабы лишний раз не раздражать примаса — делателя королей. Спор, даже самый ожесточенный, не должен перерастать во вражду.
— Я не ваше высокопреосвященство имею в виду, а тех не в меру ретивых клириков, которые готовы живьем съесть более талантливого собрата, — он примирительно улыбнулся. — Короли всегда покровительствовали наукам и свободным искусствам.
— Так то короли! — многозначительно ухмыльнулся Эдмунд Кембридж.
— Кастилии и Леона! — шепнул ему на ухо Томас Бекингэм.
— Посягать на церковное достояние не только смертный грех, но и пустая затея. — Симон Седбери пренебрежительно взмахнул четками. Он понял, что поле битвы остается за ним. — Многие наши знатные лорды, владельцы крупных маноров, имеют патронат над церквами и монастырями. Разве они не заинтересованы в процветании приходов и общин, кои основаны их предками, зиждителями которых являются сами? Абсурдно и оскорбительно думать так. Спросите себя, милорды! — Он выдержал эффектную паузу. — Ergo,[43] вся болтовня о конфискации сводится к иноземным, французским, в первую очередь церковным владениям на английской земле. Стоит ли пустячная выгода опасного прецедента? Ведь церковь наша и вселенская, и вечная!
Наделенный редким даром зачаровывать слушателей, архиепископ производил сильное впечатление даже на недругов. Его безупречный французский, казалось, проникал прямо в душу, журчащим ручьем обтекая плотины, воздвигаемые разумом.
Не найдя слов для возражений, Гонт промолчал, тая застарелую зависть, к которой примешивались и страх, и невольное преклонение. С таким умом трудно было тягаться.
— Ваша милость, милорды, — казначей Хелз вновь попытался завладеть общим вниманием. Он поклонился королю и королеве-матери, искательно кивнул епископу Томасу Аронделу. Никого не забыл обогреть взором. — Казначейство и мысли не допускает о том, чтобы недобор податей был покрыт из других источников. Позвольте заверить вас, что комиссии уже образованы и все будет взыскано до последнего фартинга. Армия получит и новые суда, и новые пушки.
— Мы выражаем вам нашу благодарность, милорд, — важно кивнул Ричард.
Наконец-то и он сподобился ввернуть подходящее слово.
— О чем мы спорим между собой? — в разговор вступил эрл Солсбери. — Обсуждая представленный на наше благоусмотрение отчет казначейства, мы упустили главное. Вопрос не в том, где сыскать средства для покрытия недостающей части налога. И даже не в мерах, которые здесь намечены и одобрены, дабы взыскать все в полном размере, определенном парламентом. Прежде всего нам следует отдать себе трезвый отчет в создавшемся положении. Причем до того, как учрежденные королем комиссии проверят все до тонкости на местах. Ведь речь идет либо о бессилии верховной власти, либо, что еще хуже, о распаде государства. Как могло случиться, что в списках не значатся тысячи, многие тысячи лиц? Почему так медленно выполняются распоряжения парламента, а то и вовсе не выполняются? В чем, наконец, причины всеобщего неудовлетворения, которое пронизывает Англию снизу доверху?.. Здесь говорилось о бормотунах, и правильно говорилось. Но разве в них корень зла? В них одних?.. А что вы, милорды, каждый из вас, можете сказать о так называемом «Большом обществе»? Или до вас не доходили подобные толки? Между тем об этом где только не судачат — в харчевнях, пивных, банях, у цирюльников и на мукомольнях. Может быть, кто-нибудь из вас объяснит мне, что это за общество? Какие цели ставит? Из кого состоит? Когда намерено выступить и потребовать причитающуюся ему долю?
Темпераментная речь Солсбери была выслушана с настороженным вниманием, но должного впечатления не произвела. Никто не сумел охватить мастерски набросанную картину в ее угрожающей целостности. Останавливались только на фрагментах. По реакции Гонта эрл понял, что говорил совершенно впустую.
— Это какую еще долю? — настороженно спросил герцог.
— А я не знаю! Может, половину земли, а может, и всю целиком. — Солсбери безразлично махнул рукой. — Вы не читали послания, которые распространяются среди вилланов и плебса?
— С каких это пор вилланы обучились грамоте? — удивился Эдмунд, вызвав дружный смех.
— Не беспокойтесь, сэр, найдется кому прочитать, — вздохнул огорченный общим благодушием эрл.
— Чепуха! Какое там еще общество? — Гонт презрительно фыркнул. — Кто его возглавляет? Уж не Петр ли Пахарь?.. Детские сказки.
— Не сказки, сэр, — терпеливо возразил Солсбери. — Это поэма, которую сочинил некто Уильям Ленгленд. Я, не постояв перед затратами, велел сделать с нее список. Ничего существенно нового, но весьма энергично и едко.
— А в чем суть? — поинтересовался Седбери. — В двух словах.
— В двух словах? — В голосе Солсбери проскользнула укоризна. — Суть в том, что хлебопашцы и работники — соль земли, а мы, дворяне и клирики, — паразиты.
— Кто он такой, этот Ленгленд? — робко поинтересовался король.
— Он уже умер, ваша милость, — печально улыбнулся Солсбери.
— Очень уместно с его стороны, — сдержанно прокомментировал Уорик.
— Превосходно сказано, милорд, — Ричард Арондел одобрительно улыбнулся. Он давно метил в канцлеры и не скупился на комплименты.
— Я тоже взял на себя труд прочесть этого смутьяна, — устало зевнул Томас Арондел. — Унылые рифмованные обличения в стиле нищенствующих монахов. Не вижу здесь связи с уклонением от уплаты налогов… Может быть, какой-нибудь проходимец решил выдать себя за Петра Пахаря и мутит воду?
— Не думаю, ваше преосвященство, — покачал головой Солсбери.
— Тогда и толковать не о чем, — заключил Гонт. — Пока твое «Большое общество», милорд, не обзавелось главарем, оно не представляет опасности. Да и где оно проявило себя? Можно ли видеть единую направляющую руку в том, что во всех графствах разом объявились мерзавцы, которые не желают платить? Вздор! Они были, есть и будут. Родились от негодяев и плодят негодяев. Нужно строже следить и беспощадней карать.
— Карать, — повторил епископ Арондел. — Скажем лучше — спасать души для вечной жизни. Как это у Ленгленда: «В день Страшного Суда их всех, наверное, Христос, прокляв, низринет прямо в ад».
— Муки существуют на земле! — захохотал Гонт. — Особенно для злонамеренных бездельников, которые подстрекают к бунту. Работники совершенно отбились от рук. Вместо того чтобы честно трудиться в манорах, шляются по всей стране. Вечно всем недовольны, спорят из-за каждого пенни и вообще только и ищут, где бы побольше урвать.
— Они разоряют Англию, — сурово бросил Уорик. — Ужели некому положить предел наглым вымогательствам?
— Особенно туго приходится в страдную пору, когда каждая пара рук на вес золота, — граф Ноттингамский сокрушенно вздохнул. — Несмотря на законы, цены непрерывно растут… Эти проклятые возчики, погонщики — дьявол их разберет! — уже требуют по три пенни в день!
— Это еще по-божески, — шепнул ему Солсбери. — Каменщикам по пяти подавай!
— А как же закон? — требовательно возвысила голос королева-мать.
— Законы достаточно строги, — успокоительно кивнул канцлер. — И к работникам, которые дерзают спрашивать за свой труд свыше установленного, и к хозяевам, если они из-за корысти потворствуют наглым притязаниям. Всякий, кто даст сверх положенной платы, подлежит немедленному наказанию. Всем это хорошо известно.
— Однако работники, я слышал, бегут? — Ричард наклонился к матери. — И наши маноры совсем опустели?
— Бегут, потому что их переманивают, — королева-мать метнула выразительный взгляд в сторону Гонта. — Находятся лорды, которые не только готовы потворствовать грабительским требованиям, но сами же их провоцируют.
— Назовите мне имена, ваша милость, — ласково попросил канцлер. — За каждый лишний пенни, выплаченный работникам, им придется внести в казну десять фунтов.
— А что, если главарь все-таки есть? Кто такой Джон Правдивый, о котором распространяется этот бастард Болл? — осенился внезапной догадкой Хелз. — Простите, милорды, но герцог Ланкастерский затронул больной нерв. Определенно должны быть главные подстрекатели! По меньшей мере в графствах. В Эссексе, например, объявился некий Уолтер. И это помимо Болла!
— Болл? — удивился Томас Арондел. — Йоркский пресвитер? Разве его до сих пор не поймали?
— Давно в тюрьме, — небрежно махнул рукой примас.
— Нет, не в тюрьме, ваше высокопреосвященство, — закусив губу, словно бы нехотя процедил Хелз и замолк на полуслове. Как подмывало его сейчас, перед баронами и королем, посадить в лужу самодовольного гордеца канцлера, который не знает, да и не желает знать, что творится у него под самым носом. Но что-то изменилось в магистре-иоанните за эти мгновения. Наполненные ненавистью писания Болла, особенно личные выпады против «разбойника Хоба», неожиданно обрели новый тревожный смысл. Беспокойная настойчивость Солсбери заразила неизъяснимой тревогой. Хелз ощутил это со всей остротой. Нет, умница Солсбери определенно прав. Еще неясная, но оттого и скребущая душу угроза явно имела под собой почву. И виноват тут не только этот вонючий Болл, не только Ленгленд или Уиклиф, насчет которого прохаживался примас. Виноваты все, ничтожный королек, его алчные родичи во главе с Гонтом, близорукий канцлер — все, кто не желает ничего видеть, радея только о собственной корысти. Эта мимолетная мысль, сжавшая сердце неумолимым предчувствием близкой беды, еще не вполне завладела сознанием Роберта Хелза, но и первого дуновения оказалось достаточно, чтобы изменить первоначальное намерение. Хелз молча протянул канцлеру свиток, в котором содержался подробный меморандум по делу Болла и Уолтера Тайлера.
— Вы что-то хотели сказать, эминенция?[44] — Седбери удивленно взглянул в разом потухшее и даже как бы постаревшее лицо казначея.
— Сказать? Нет, более ничего… Здесь все написано, — Хелз умолк, пытаясь привести в порядок взбудораженные мысли, и вдруг неожиданно для себя самого спросил, ни к кому лично не обращаясь: — Как вы думаете, кого у нас больше всего ненавидят?.. Меня, ваша милость. — Он поклонился трону. — А вслед за мной вас, герцог Ланкастер, и вас, высокопреосвященный примас. А мы… Вместо того чтобы быть всем заодно, мы… Ах, милорды, почему у нас вечно все идет не так, как надо?!
Удалившись в покои, отведенные в Виндзоре для канцлера и его свиты, Симон Седбери первым делом прочитал врученный ему документ. Долго размышлял над мотивами странного поведения лорда-казначея, но так и не понял, какую тот затеял игру. Поношения Болла не произвели особого впечатления. Впрочем, безумец становился чересчур докучливым, его следовало унять.
Примас велел позвать отца Бенедикта, исполнявшего должность письмоводителя при кентерберийской кафедре.
Явился тучный цистерцианец[45] в белой рясе с пеналом и чернильницей на боку. Он пребывал слегка под хмельком и шумно отдувался, отирая пот с отечного лица.
— Вот, прочти, — примас передал свиток.
— Еще один бешеный схизматик, — констатировал монах, ознакомясь с перечнем прегрешений.
— Нас нельзя обвинить в недостатке терпения, не так ли?
— Напротив. По моему ничтожному разумению, вы были слишком терпеливы.
— Вот видишь! Но как можно гневаться на заблудшего, ежели мы с полным сочувствием воспринимаем поучения святого Франциска, даже резкие памфлеты достопочтенного Уиклифа, ректора в Луттерворте? Конечно, он не без крайностей, у него много путаного, особенно в трактовке таинства евхаристии, но это серьезный ученый, достигший вершин схоластики.
— Жаль лишь, что достопочтенный Уиклиф предпочитает последние годы изысканной латыни грубый язык простонародья, — угодливо заметил отец Бенедикт, знавший об истинном отношении примаса к оксфордскому проповеднику. — Это роняет престиж университета. И что уж такого нового в его доктрине? Повторяет зады еретика Марсилия Падуанского.
— Не о нем речь, — поморщился Седбери. — Я понимаю, что черни необходима разрядка, если угодно, отдушина. Вот почему вполне терпимо отношусь к деятельности так называемых «Бедных проповедников», смердящих бормотунов-лоллардов, бог с ними. Во все времена находились невежественные фанатики, которым казалось, что лишь им одним открыта боговдохновенная истина… Наш век не исключение. Он не хуже и не лучше прошлых. Но с этим скандалистом действительно пора кончать. Я говорю это как архиепископ. Прошу тебя подготовить предписание настоятелям нашего диоцеза.[46]
Письмоводитель вынул из пенала вощеную костяную табличку, серебряный стиль и приготовился записывать.
— Вначале следует изложить суть прежних постановлений… Затем прямо и от нашего имени указать, что упомянутый Болл, вопреки предшествующим указам об отлучении, не только не исправился, но, напротив, усугубил свой тяжкий грех перед церковью и королем. Как волк, обманувший охотников, он прокрался в наш диоцез и принялся шнырять по церквам и погостам, а также рынкам и другим местам, обольщая слух мирян непростительными речами. В своих предосудительных проповедях он позорит как нашу персону, так и других прелатов и духовных лиц и — что хуже всего — о самом верховном первосвященнике дерзает высказываться таким языком, который является оскорблением для всех благочестивых христиан.
Отец Бенедикт подправил погрешности и добавил несколько энергичных фраз.
«Не желая, чтобы порок тайно прокрадывался под видом добродетели, — приписал он в самом конце, — и желая обуздать несказанную дерзость этого посягателя, архиепископ приказывает названным выше лицам, чтобы они в своих церквах и других местах торжественно и всенародно провозглашали Джона Болла, скорее схизматика и отступника, чем пресвитера, отлученным от церкви. Архиепископ грозит отлучением тем из своих пасомых, кто вздумает оказывать Боллу какое-нибудь содействие советом, помощью или благорасположением или станет слушать его проповеди».
— По-моему, он давно отлучен? — поморщился примас, дойдя до означенного места.
— Речь идет о публичном провозглашении.
— Ах, так… Тогда все правильно. По крайней мере, вполне ясно, что дело это сугубо церковное и нет необходимости вмешивать светскую власть, которая живо сделает из расстриги великомученика. Significavit nobis venerabilis pater,[47] — уточнил примас.
— Но вполне достаточно, чтобы упрятать его в какую-нибудь монастырскую тюрьму, — угодливо улыбнулся отец Бенедикт.
— Прежде чем рассылать, покажи Вильяму Кортнею, епископу Лондонскому, — устало взмахнул рукой Седбери, клацнув агатовыми зернами четок.
Черновик отдали переписчику, а когда все было готово, Симон Седбери скрепил документ личной подписью и приложил архиепископскую печать. В качестве канцлера он не желал иметь к столь скандальному делу никакого касательства.
Глава восьмая Поэт и богослов
Когда Апрель обильными дождями Разрыхлил землю, взрытую ростками, И, мартовскую жажду утоля, От корня до зеленого стебля Набухли жилки той весенней силой, Что в каждой роще почки распустила, А солнце юное в своем пути Весь Овна знак успело обойти[48]. Джеффри Чосер. Кентерберийские рассказыПокидая созвездие Рыб, солнце окрасило веселую Англию в ее изумрудный геральдический цвет. Где-то там, под вещими звездами, далеко-далеко за частоколом крыш и шпилей, дремотно шумели леса, схоронившие последние тайны земли, а вместе с ними и неизжитые детские страхи. Мешая быль с небылью, прихотливая память, как потайной фонарь, высвечивала смутные, ускользающие образы. Сливаясь в безмолвный скачущий хоровод, метались волшебники и разбойники, сменяя друг друга, всплывали обрывки сказочных сновидений и вечно милые сердцу воспоминания. Сочно трещали под башмаком прошлогодние желуди. Проказники-эльфы танцевали на веерах папоротника, кружились средь золотых венчиков мать-и-мачехи и розовых первоцветов. В тиши укромных полян набирались мощью зеленые травы. Чуткие лозоходцы срезали рогульки орешника, едва увлажненного глянцем новой луны, и, вытянув руки, искали схороненные клады. Тревогой и смутной надеждой повеял ветер, пролетевший над Темзой, над сумрачным нагромождением островерхих домов древнего моста. Проникаясь знобкой дрожью зовущих далей, Джеффри Чосер бережно вытер бронзовую астролябию, уже тронутую влажной дымкой, и закрыл зарешеченные оконные створки. В каменном доме возле Олдгейта таился неизбывный холод, с которым так и не совладало гудящее в очаге пламя. Опасаясь за книги — единственное свое достояние, Чосер подбросил еще немного хворосту. Его библиотека, одна из самых значительных, насчитывала шестьдесят любовно переплетенных в свиную кожу томов. За каждый из них можно было купить земельный надел. Этого вполне хватило бы на прокормление на все оставшиеся годы. Но расстаться с Данте, с Вергилием или с несравненным Овидием казалось немыслимым сорокалетнему стареющему поэту. Не он владел сокровищами духа, это они повелевали его душой. Он был только хранителем, а не собственником. Строки Боккаччо, Петрарки и Стация не подлежали размену на серебро. Перед этим стоическим убеждением был бессилен даже неотвязный призрак долговой тюрьмы.
Немного погревшись у открытого огня, Чосер записал на вощеной табличке констелляции планет. Не веруя в астрологическую премудрость, он тем не менее неизменно сверял обыденный календарь с движением светил, а затем подчинял стихотворные строки неподвластному ничьей воле ходу звездного времени.
Услышав цокот копыт и позвякивание сбруи, Чосер вновь приблизился к окну и прижался к холодной решетке настороженным ухом. Всадник явно остановился возле башни и, тяжело спрыгнув, повел на поводу коня или, скорее, мула, судя по шагу. Чосер облегченно перевел дух. Одинокий гость, хоть и столь поздний, все же внушал меньше опасений, чем вооруженная кавалькада.
Конечно, дом англичанина — его крепость. Существует «Великая хартия вольностей», и парламент стоит на страже народных прав. Да время уж больно тревожное. Невольно прислушиваешься к каждому стуку, к каждому скрипу. Крепнет, ширится зависть и злоба людская. Козни врагов, наветы ложных друзей, коварные происки кредиторов — всего вынужден опасаться бедный человек.
Осторожный стук, шарканье проснувшегося слуги, скрежет засовов. Потом приглушенное бормотание.
Тонкая жалоба рассохшихся ступенек подсказала, что гость в годах и с трудом, притом пришаркивая, одолевает подъем. Не иначе переписчик Козьма, которому Чосер задолжал за «Роман о Розе», пожаловал востребовать свои шиллинги. Но почему на ночь глядя? А что, если это Питер, портной, вздумал вдруг расквитаться за новинку парижской моды — сюрко[49] из лилового бархата с разрезами по бокам? Мошенник заломил полтора грота! А что поделать? Ведь приходится бывать при дворе: супруга, благодарение богу, фрейлина герцогини Ланкастерской! Значит, изволь и ты быть как все. Облачись в двуцветные шосс — одна нога красная, другая зеленая, увешайся цепочками и плащ подбей драгоценным мехом. Чистое разорение для неимущего поэта. Если бы не служба в порту, где иной раз перепадает то штука сукна, то рулон кожи… Может, не отворять грабителю? Пусть не шляется по ночам, когда все добрые люди покоятся на сонном ложе.
Но поздно раздумывать. Незваный гость уже у дверей. К тому же предательский дым и искры над крышей еще издали подсказали ему, что хозяин дома и вовсе не спит, а бодрствует над листом испанской бумаги, понапрасну сжигая дрова и свечи. За бумагу и хворост, кстати, тоже не плачено…
— Вас ли это я вижу, учитель? — изумленно обрадовался Чосер, впуская прославленного схоласта и диалектика Джона Уиклифа. — Какая честь!
Он почтительно принял плащ, отяжелевший от влаги, и проводил луттервортского ректора в кабинет. Невзирая на свои шестьдесят лет, Уиклиф выглядел бодрым и держался, по обыкновению, прямо. Расправив черную мантию оксфордского профессора, он подсел поближе к огню.
— Я выехал в минувший четверг и надеялся быть в Лондоне ante meridiem,[50] но превратности дороги смешали мои планы. Едва успел до закрытия ворот.
— Мыслимое ли дело! — всплеснул руками Чосер. — Проделать такой путь, да еще в одиночку!
— «Если гора не идет к Магомету, то Магомет идет к горе», — рекут мудрые мавры. Вы получили мое письмо?
— Как раз в канун Валентинова дня, достопочтенный, и, клянусь святым Дунстаном, я буквально на днях собирался к вам в Оксфорд. Но вы же знаете мое положение, — Чосер горько усмехнулся. — Проклятая должность не оставляет времени не то что для путешествий, но даже для простого письма. Это далеко не синекура. Волею покойного короля я обязан писать все счета и отчеты собственной рукой и неотлучно находиться на месте. Целый день на ногах. От мехов и материй рябит в глазах. До тошноты, до головной боли. Сочиняю урывками, в основном за счет сна. Даже обедаю, не выпуская пера… Вы, наверное, проголодались? Не угодно ли холодной баранины и кубок подогретого вина с ароматными пряностями Востока?
— Absens heres non erit,[51] — решительно отказался Уиклиф, огладив красиво седеющие волосы. — К тому же я ничего не ем после заката. Истинно сказано: ангелы вкушают пищу единожды в день, люди — дважды, только звери — три раза.
— Вам, верно, смешны мои жалкие оправдания, — посетовал Чосер, снимая свечной нагар. — Конечно же, мне надлежало опередить вас с визитом.
— Не будем считаться. Мы — люди долга, и труд для нас, каким бы тяжким он ни был, превыше всего. И вообще, не мучайтесь угрызениями совести. Я прибыл сюда с главной целью — повидать нашего общего покровителя герцога Джона.
— И поспели к сроку! — оживился Чосер. — Ибо днями он собирался выехать на шотландскую границу.
— Не знаете случайно, с какой целью? — осторожно поинтересовался проповедник.
— Говорят, там опять неспокойно, возможно новое вторжение.
— Значит, снова война?
— Не думаю. Стюарт настроен весьма осторожно. Скорее всего, понадобилось показать когти в связи с дальними планами.
— Испанские дела?
— Думаю, что так оно и есть. Уж на что умный человек наш герцог, но ведет себя, как младенец. Неужели он не понимает, что притязания, не подкрепленные внушительной силой, просто смешны? — Чосер на мгновение смешался, вспомнив, с каким пиететом только что титуловал принципала Уиклиф. — В самом деле! — упрямо набычившись, продолжил он свою мысль. — Разве кому-нибудь удалось добыть корону с помощью одних только грамот? Как бы они не распались от древности прямо в руках. Мне искренне жаль и герцога, и донну Изабеллу.
— Я думаю, вы не совсем правы. Кастильский трон тут на втором, даже на третьем плане. Сдается мне, что наш хитрый лис, — тонкой улыбкой Уиклиф дал понять, что от него не укрылось минутное колебание собеседника, — наш добрый герцог нечто такое пронюхал и хочет убраться подальше от схватки. Следить, за кем останется победа, всегда удобнее издали.
— Схватка? Вы имеете в виду Бекингэма и Ленгли, которые оспаривают у нашего лорда переменчивое сердце юного короля? Если так, то тем более рискованно оставлять их без присмотра. Ричард склонен быстро забывать старых друзей. Такова, впрочем, особенность всех королей.
— Вижу, вы неплохо знаете венценосцев.
— Как-никак мне довелось служить сквайром у покойного Эдуарда! Добрый был государь. Когда я по собственной дурости угодил в лапы к французам, он выкупил меня за шестнадцать ливров. Это не столь накладно, нежели может показаться, потому что пара верховых лошадей, которых тоже пришлось вызволять вместе со мной из плена, обошлась раз в пять дороже. Все в мире имеет свою цену.
— А язычок у вас, надо признать, ядовитый!
— Вы только теперь это заметили, достопочтенный?.. Право, я не держу зла на покойного сюзерена. Он дважды посылал вашего покорного слугу в Италию и на Пиренеи с довольно щекотливыми поручениями, и если монаршие милости обошли меня стороной, то сами путешествия эти уже явились щедрым подарком судьбы. Ведь я узнал, учитель, что такое настоящая поэзия!
— И тайный союз певцов Розы? — то ли спросил, то ли просто невзначай уронил Уиклиф.
— Откуда вы знаете? — слегка побледнев, вздрогнул Чосер. Он никак не предполагал, что Уиклифу известно о тайном ордене поэтов.
— Если удачливый дипломат и блестящий придворный неожиданно становится портовым надсмотрщиком, невольно начинаешь искать причину. Когда семь лет назад я узнал о вашем назначении…
— За этим ничего не стоит! — поспешно оборвал Чосер. — Ни разу за все эти годы я не пожалел о милости моего короля! — объяснил он с несколько излишней запальчивостью. — Впервые в жизни вместо подачек я обрел твердый доход. Пусть невеликий, но постоянный. А сколько раз заступничество и милость короля спасали меня от долговой тюрьмы?
— Хорошо, хорошо, — успокоительно улыбнулся Уиклиф. — Ведь мы рассуждали с вами о поездке Гонта, но вы сами перевели беседу на скользкую почву. Заговорили о навязшей у всех в зубах распре между братьями, да еще покойника Эдуарда зачем-то помянули… Бог с ними, с принцами, но неужели вы не чувствуете, как содрогается под нами земля? Никогда не поверю.
— Вот уж новость так новость! — Уловив в голосе проповедника не только добродушное подтрунивание, но и глубоко запрятанную озабоченность, Чосер немного успокоился и обрел обычную живость. — Я и во сне чую потаенные толчки, — проворчал он с улыбкой. — Мы живем в эпоху великого шатания.
— Верно сказано!
— Только что толку? Разве для матроса, у которого уходит палуба из-под ног, шторм не привычное дело? Таков наш мир. Прожить бы уж как-нибудь, и все тут.
— А жизнь на небесах?
— Пусть поучают клирики, что смерть — это рождение в жизнь вечную, я подожду судить, пока не увижу собственными глазами.
— Вдруг то окажутся ярусы ада?
— Уж, наверное, не страшнее, чем тюрьма Маршалси? Я как-то видел несчастного, которого сперва четвертовали, затем, вспоров живот, выпустили у бедняги внутренности, швырнули их в огонь и уж только потом отсекли ему голову. Сам сатана не выдумает более ужасной казни. Фантазии несравненного Данте бледнеют.
— Безмерны муки людские, и трудно остаться человеком на этой земле.
— А ведь хочется, мой добрый учитель.
— Великое мужество требуется и великое терпение. Пусть ехидны и звери алчущие неистовствуют вокруг и пожирают друг друга. Нельзя нам участвовать в их грызне, но духом вознестись над нею.
— Позвольте задать вам вопрос, достопочтенный, если уж завязался у нас такой разговор. Только ответить прошу с полной искренностью.
— А я и не лгал никогда, добрый друг, разве к умолчанию прибегал иной раз из осторожности или по слабости человеческой.
— Знаю, и многое знаю, — кивнул Чосер, прислушиваясь к плывущему над городом звону. — Скоро светать начнет… Я читал вашу знаменитую «De Dominio Divino»,[52] другие латинские сочинения. Скажу даже больше: храню как сокровище, как символ подвига высочайшего переведенное вами на наш убогий язык Священное писание… Знаю и проповеди, которые разносят по всем уголкам лолларды.
— Не мои — божьи. Я за них не в ответе.
— Пусть так, — досадливо отмахнулся Чосер. — Я совсем о другом хочу спросить… Я хочу спросить вас, домине,[53] вот о чем… Скажите мне, не тая и не играя искусно словесами, что общего может быть между таким человеком, как вы, и Гонтом?
— А себя вы никогда не спрашивали об этом?
— Стократно! — выдохнул Чосер, страдальчески морща лицо. — Но обо мне после, теперь речь только о вас, домине. Что взять с меня, с клиента, придворного прихлебателя, не накопившего за всю жизнь ни денег, ни славы? Кроме войны, кроме моей золотой Италии, мне и вспомнить-то нечего. Ну, развлекал забавными историями покойную королеву, ублажал двор стишками, которые сочинял от случая к случаю… Что еще? Когда преставилась первая герцогиня Ланкастерская, поднес принципалу поэму «На смерть герцогини Бланш». Видимо, угодил — был приближен. Мы не в Италии, у нас поэты в шутах ходят… Но вы, вы, домине, властитель дум, надежда и совесть нации! Что вам Гонт, если даже архиепископ Кентерберийский вашего слова страшится? Когда сам наместник бога управу на вас не может найти?
— Вы какого папу в виду имеете, — спокойно спросил Уиклиф, — французского или же италийского?
— Поскольку мы с французами все никак воевать не кончим, авиньонский сиделец в моих глазах анти-папа, сообщник врага, — Чосер укрыл за лукавой насмешкой против воли прорвавшуюся страстность. — Как добрый англичанин, я признаю только одного местоблюстителя, апостола Петра-римского.
— А если мы замиримся с французами и высадимся в Италии?
— Браво, домине, только это не ответ.
— Разве? — Уиклиф недоверчиво приподнял брови.
— Вы хотите сказать, что не видите существенной разницы между обоими понтификами?
— Я сказал то, что сказал. Если вы действительно внимательно читали мое скромное сочинение, то должны были усвоить основную мысль, Иисус и его святые апостолы завещали нам, говоря языком теологии, доктрину евангельской бедности. Насколько нынешняя церковная иерархия соблюдает эту заповедь, судите сами. Отсюда все мои расхождения с примасом и римской курией. Власть и служение, сын мой, взаимозависимые понятия. Одно не может существовать без другого. Человек обладает властью лишь постольку, поскольку ему есть кем управлять. Лорд без вилланов — не лорд. Пышный герб сам по себе еще не дает власти. Даже господь является властелином лишь с того времени, когда посредством акта творения создал себе слуг. Но власть бога существенно отлична от всякой иной. Она распространяется на все созданное им, притом на равных для всех условиях служения, ибо бог диктует волю свою не через служащих ему вассалов, как это делают короли, а непосредственно и сам собой создает, сохраняет и управляет всем, чем обладает, помогая каждому совершать свое дело.
— Так нас и в церквах учат, что все люди равны перед богом.
— Долдонить — одно, а действительно жить по законам божьим — совсем другое. Ранг, занимаемый перед ликом всевышнего, единственно определяет наше положение на земле, перед лицом людей. Если в силу своей греховности человек утрачивает ранг перед богом, он с необходимостью теряет и свое место в миру. Власть как таковая, духовная или же светская, основана только на милости. Вот то главное, что надлежит прочувствовать. «Грехи есть ничто, и люди, когда грешат, становятся ничем», — учит святой Августин. Зло является отрицанием, и те, кто подчиняются ему, не имеют положительного существования. Поэтому они не могут обладать чем бы то ни было, и властью прежде всего.
— Скажите это Гонту, учитель. Я его, конечно, очень люблю, но второго такого хищника надо еще поискать в нашем королевстве. Полагаете, он способен хоть что-нибудь выпустить из когтей? А наш примас и канцлер-архиепископ Седбери?
— Кажущаяся их власть не есть реальное, она не настоящее обладание. Она представляет собой лишь неправедное владение, которое они должны будут когда-нибудь передать в руки справедливых.
— Интересно, кто сумеет подвигнуть их на такую жертву?
— Справедливые. Кто же еще? Как злой не имеет ничего, так справедливый, напротив, есть господин всего. На то, чем справедливый пока не обладает фактически, он имеет нравственное право, а значит, и власть. Отсюда с неизбежностью вытекает, что все имущество должно быть общим.
— Знакомый мотив! Народные проповедники заморочили этим вздором вилланов и подмастерий, которые только и ждут случая, чтобы разграбить маноры и аббатства. Я был во Франции в самый разгар Жакерии и знаю, какая страшная сила — гнев обездоленных. Но чем все закончилось, домине? Разве хоть что-нибудь изменилось в мире?
— Оставим это, — одухотворенное лицо проповедника разом померкло. — Ведь я толкую об идеале. О том идеале, который прежде всего должен составлять главное достояние церкви. Вот почему, следуя достопочтенному Оккаму, я неустанно твержу о том, что церковь не должна иметь собственности. Собственность составляет препятствие для ее подлинной миссии. Клир, включая папство, надлежит ограничить строго духовной сферой. Управление светскими владениями, завоевание королевств и требование дани — прерогативы мирской власти. Папе подобные притязания никак не приличествуют. Если же он обходит свои обязанности духовного управления и занимается вещами совсем его сану неподобающими, то такая деятельность не только излишня, но и противна Священному писанию.
— Смело, домине, очень смело.
— Доказательно, сын мой, вот что важно: логически и юридически. Отсюда вытекает неизбежный вывод. Если церковь захватывает функции, принадлежащие государству, обязанность последнего — отстаивать свое право на ведение собственных дел. В таком случае государство правомочно отнять земли и доходы у церкви.
— Теперь я понимаю, что объединяет вас с антиклерикальной партией. Джон Гонт спит и видит прибрать к рукам жирные владения аббатств и епископств. Подумайте хорошенько, кому на руку ваши антицерковные проповеди. Лоллардам, сервам[54], бездомным портняжкам и нищим менестрелям? Ничуть не бывало. Они как были голыми, так с кукишем и останутся. Если вместо двух великих хищников окажется только один, будет еще хуже. От драки императора с папой все же горожане выигрывают. А так? Полный произвол пэров. Что Белая роза, что Алая — все едино. Разница между ними не больше, чем между папой в Авиньоне и папой в Риме, хоть я, как британец, склоняюсь к последнему.
— Только как британец? — тонко улыбнулся Уиклиф. — По-моему, более пламенного поклонника прекрасной Италии нет в целом свете. Друг Боккаччо, собеседник Петрарки… Неудивительно, что вы отдали предпочтение Риму.
— Вам бы все шутить, домине!
— Вы считаете, что мне следовало бы порвать с Ланкастером? — выжидательно прищурился Уиклиф.
— Отнюдь! — покачал головой Чосер, признанный мастер недомолвок и элегантных иносказаний. Теперь, когда позиция проповедника несколько прояснилась, можно было позволить себе большую откровенность. — Эдмунд Ленгли ничуть не лучше, разве моложе немного. Я привык к Гонту, он привык ко мне и даже слегка потакает моим слабостям. Надо же ведь кому-то служить, за кого-то держаться мытарю-поэту?
— Я никому не служу, кроме бога, — не принимая шутки, сурово ответил схоласт. — Просто нам пока по пути с партией Гонта. Конечно, в глазах иных союз между ученым богословом и насквозь развращенным неправедной властью пэром выглядит достаточно странно. Но что поделать, если все мы, создания божьи, как-то зависим друг от друга? Я защищал Гонта в суде, когда его люди ворвались в собор и совершили убийство, он же вместе с герцогиней Уэльской помог мне избежать открытого осуждения перед епископатом в Ламбете.
— Полагаете, вас выручили принцы? А я, признаться, думал, что лондонцы. Они явились в сопровождении целой толпы буйной черни и поклялись разнести все в пух и прах, если с головы их любимца упадет хоть единый волос. По-моему, так было дело.
— Какая, в сущности, разница? Ведь кто-то должен был привести эти толпы в движение?.. Но вы действительно многое знаете; во всяком случае, больше, чем хотите показать.
— От вас, учитель, у меня нет тайн. Я бывший оруженосец и совершенно не разбираюсь в таких заковыристых штуках, как таинство святого причастия. Во всяком случае, чудо, посредством которого облатка и вино превращаются в тело Христово и кровь, выше моего разумения. Поэтому мне доподлинно неизвестно, чем вы так уж досадили его великолепию канцлеру университета Вильяму Бертону и прочим профессорам. Однако я слышал, что они решительно осудили ваше учение?
— Я немедленно апеллировал к королю, — Уиклиф вновь пробудившимся интересом взглянул на поэта. Похоже, только теперь начинался между ними настоящий разговор.
— К какому королю? — проникновенно понизив голос, Чосер наклонился к оксфордскому мудрецу. — К испорченному мальчику, что боится оторваться от материнской юбки? Единственное, в чем он разбирается, так это в новомодных рукавах, которые настолько длинны, что волочатся по полу… Да, апеллировали вы к королю, но забеспокоился почему-то Джон Гентский и даже отправил в Оксфорд доверенного человека, чтобы уладить столь деликатное дело тишком, без ненужной огласки… Как по-вашему, посол справился с возложенным на него поручением?
— Неужели это были вы? — Уиклиф с улыбкой развел руками. — И даже не потрудились зайти!
— Что вы, домине, как можно? Непростая ведь миссия, обоюдоострая, можно сказать.
— Понимаю, — сосредоточенно кивнул седовласый проповедник, проникаясь все большим доверием к человеку, которого давно наметил себе в помощники. Жаль, конечно, что поэт оказался намного умнее и тоньше, чем это виделось издали. С такими всегда трудно. И все же сподвижником он будет надежным, хоть никогда не заболеет душой о том, что для него, Уиклифа, стало единственным смыслом существования. — Значит, вы полагаете, — он решительно возвратился к началу беседы, — что Джон Гентский ничуть не озабочен назревающими событиями?
— Помилуйте, домине, да ему, извините, плевать и на новый налог, и на «Рабочие законы». Бедняки всегда чем-нибудь недовольны, это их свойство. Даже больше — их право. Для Гонта куда важнее интриги в Королевском совете. Там ведь тоже царит постоянная неудовлетворенность. Рвут куски, позабыв о приличиях, отбросив даже фиговый листок лицемерия. Жрут в три горла, но все недовольны: кто местом за королевским столом, кто подачкой, а кто любовницей. И вообще, скажите мне положа руку на сердце, кого устраивает нынешнее положение дел? Купцов, горожан, мореходов? Ничуть не бывало. Рук не хватает, а когда людей заставляют работать насильно, платя вместо пенни жалкий фартинг, то ведь и работа получается на фартинг. Кому нужна такая работа? Сукноделы стонут, оружейники плачут, невзирая на то что заказов полно. А уж лорды маноров озабочены в первую голову. Труд дорожает, работать некому, за исполнение феодальных повинностей положено кормить, а кормить нечем. Замкнутый круг. Вот и приходится сдавать земли в аренду.
— Коммутация — явление повсеместное.
— А кто этому рад? Богатый йомен найдет чем расплатиться с лордом, а бедняк, у которого, кроме рук, ничего нет?.. Коммутация — не панацея. Она одним концом бьет по беднейшему хлебопашцу, другим — по сеньору. Дармоедам-монахам, людоморам-лекарям да всевозможным обманщикам, вроде чародея-алхимика и обиралы-мельника, — тем, конечно, все равно. Уж они-то свое возьмут при любых обстоятельствах.
— Когда весь мир недоволен, значит, что-то в нем неизбежно должно измениться. Вы очень верно сказали: «Эпоха великого шатания». Пошатается, пошатается и упадет.
— Упадет? Допустим, ну а дальше что? Какая эпоха придет на смену эре зятьков и племянников?
— Есть здоровые силы в народе, есть. Непотизм[55] еще не самое страшное, это было и было. Вот когда исчезает нравственное чувство, тогда действительно надеяться не на что.
— А кто это понимает? Ну, допустим, вы, умудренный философ, кто еще?
— Вы разве не в счет?
— Разумеется, нет. Сколько я себя помню, всегда было скверно. Жили грезами перемен. При Эдуарде мечтали о Черном Принце, этом сумасброде и моте, а когда он отошел в лучший мир, начали молиться на малолетнего Ричарда. Между тем дела идут все хуже и хуже. Предела для дурости нет, поэтому никаких существенных перемен в будущем я не предвижу. Гонт — еще лучше многих, он пребывает в прекрасном возрасте и вообще баловень судьбы. Если ему чего-нибудь и не хватает, так это какой-нибудь завалящей короны. И денег, конечно, их ведь постоянно недостает. Поскольку других надежд, кроме Кастилии и Леона, не предвидится, вот он и ударился во все тяжкие. Собирает грандиозный смотр вассалов в Ланкастере. Король без трона играет в большую политику. С глазу на глаз могу сообщить, что будут даже шотландцы.
— Невзирая на войну?
— Формально у нас с ними мир. Гонт делает определенную ставку на шотландских баронов.
— На что он надеется?
— Думаю, пытается раздобыть деньги. Польстит одним, намекнет другим, пообещав в будущем кому лен, кому титул. Шотландцы не меньше прочих падки на лакомую приманку. Притом они легковерны и скоро загораются. Когда перед носом маячит добыча, как-то не хочется думать, что во Франции по-прежнему идет война, а испанский трон еще надо добыть.
— Вы правы, теперь я все понимаю… Я как-то не подумал об этом…
— Вижу, домине, что вы огорчены, — доверительно наклонясь к проповеднику, молвил Чосер. — Поездка Гонта чем-то нарушила ваши планы?
— Я ехал к нему с надеждой на помощь одному достойному человеку, несчастному пастырю, которому угрожает тюрьма.
— Это кто же такой? Уж не Джон Болл ли, бывший священник церкви святой Марии в Йорке?
— Он самый, бескорыстный подвижник, самоотверженный защитник обиженных и обездоленных.
— Я-то слышал о нем совсем иные отзывы. Безумный смутьян, окаянный клеветник, преступный подстрекатель. Уж не знаю, кому и верить… Бормотуны, что расползлись по всем дорогам, смущая покой мирных тружеников, — невинные агнцы рядом с этим попом. Не любовь евангельскую он проповедует, но ненависть и насилие, жакерию, вселенский разбой. Едва ли Гонт захочет ввязаться в столь сомнительную историю. И вам это повредит. Всегда находятся молодцы, готовые претворить слово в дело. Некий Тайлер из Колчестера угнал у барона Марша весь скот и отдал его вилланам.
— Я не разделяю безумных устремлений, но всегда сочувствую участи несчастного человека.
— Он сам причина своих несчастий. Те же бормотуны разносят по всем общинам его поджигательские призывы. И ведь кто-то переписывает, причем многократно, дерзкие письма. Кстати, заодно с вашими английскими проповедями, достопочтенный.
— Я отвечаю только за собственное слово.
— Мой вам совет: не просите за Болла. Мне, как, возможно, и вам, домине, импонирует, что он дразнит Роберта Хелза «разбойником Хобом», но, когда вилланы возьмутся за топоры, всем нам придется худо. Городская чернь тоже не останется сидеть сложа руки, смею уверить.
— Так, понимаю. — Уиклиф надолго задумался. — Я благодарен вам за искренность и добрые побуждения. Многое теперь для меня прояснилось. Не буду скрывать, что шел с надеждой заручиться вашим посредничеством. В силу обстоятельств мне несколько затруднительно лично ходатайствовать за несчастного Болла. Ведь его враги — это и мои недруги. Но, видимо, другого выхода нет. — Он решительно поднялся.
— Куда же вы, домине! — попытался удержать проповедника Чосер. — Дождитесь утра. Скоро третья стража.
— Нельзя медлить, когда над человеком нависла угроза тюрьмы и, как я опасаюсь, смерти. Скоротаю остаток ночи в отеле[56] герцога Ланкастерского на Стрэнде. Мне надо говорить с ним до утреннего приема. Надеюсь, подробности нашей беседы останутся тайной?
— Это я могу обещать вам со всей определенностью, домине.
Проводив гостя, Чосер подвинул пюпитр поближе к свету. «Мысль растревожена, сон бежит», — подумал он и полез искать «Песнь землепашца». Не давало покоя одно место в поэме.
Народ находится в такой нужде, что он ничего больше не может дать. Я думаю, что, если бы у него был вождь, народ восстал бы.«В этом все дело, — успокоенно улыбнулся поэт. — Пока не определится вождь, жакерия нам на угрожает. К счастью или к несчастью?..»
Было смутно на душе, и годы шершавой накипью осели на сердце, а все-таки оно волновалось ожиданием перемен и даже как будто радовалось.
«Увидеть прежде, чем умереть?.. Все же увидеть?»
Глава девятая Под пологом вольного леса
«Не знаешь ли ты одного святого, Чье имя Правда? Где его жилище? И не укажешь ли к нему дорогу?» И им тогда ответил пилигрим: «Свидетель бог, я не встречал доныне Ни разу странника, чтоб вопрошал Меня о Правде. Ныне — в первый раз». Но здесь заговорил смиренный Пахарь: «Клянусь святым Петром, я Правду знаю, Как знает книгу мудрый грамотей! Благоразумие и Совесть часто Меня к жилищу Правды провожали, А я себя связал обетом твердым, Что буду Правде с верностью служить». Уильям Ленгленд. Видение о Петре ПахареПо весне потянуло с лесистых склонов щекочущим запахом костра. То ли валлийцы принялись жечь майские огни в честь своего языческого Белтана, то ли разбойничьи шайки подались с наступлением тепла в лесные чащобы подальше от королевских судей и палачей. Последнее, впрочем, навряд ли, поскольку самые лихие набеги и грабежи приходились обычно на летнюю пору, когда в лесах полно дичи и неразборчивая природа каждому готова предоставить гостеприимный кров.
Коронеры[57] и бейлифы не терзались долгими раздумьями. И простаку было ясно, что под сенью вековых буков, обросших лишайником и плющом, прячутся, скорее всего, злостные неплательщики, всякого рода беглецы и главным образом уклоняющиеся от труда безземельные батраки. Закон предписывал изловить и сурово наказать бездельников, но о том, чтобы прочесать лесные массивы от Монмута до Ланкастера, не могло быть и речи. Во-первых, небезопасно, потому что загнанные в угол крысы имеют обыкновение кусаться, а во-вторых, бесполезно, ибо, пока беглецов станут теснить в Вустере или, скажем, в Херефорде, они перебегут в валлийские графства вроде Брекнока, где сплошные трясины. В конце концов выигрывает тот, у кого есть время ждать. Чуть раньше, чуть позже, но холода выгонят негодяев из лесных берлог прямо в объятия констеблей сотен и деревень.
Но о том, что еще грядет за непроницаемой завесой времен, не знает никто. Пока же для удалых молодцов, кому и разбойник — брат, и черт — кум, наступили желанные денечки. Красавцы олени трубят на полянах, выкликая соперников на рыцарский поединок. Клыкастые вепри с треском ломятся сквозь можжевельник, в ручьях играет золотая форель. Самые разные люди нашли пристанище под сводами зеленой храмины. Недаром, знать, под действие «Билля о рабочих» подпадали и неприкаянные школяры, и разоренные подмастерья, и обнищавшие искатели магистериума, и бродячие менестрели, а порой и деревенские капелланы. Привольно, легко человеку наедине с буйным празднеством обновленной земли. В голове созревали безумные планы, вспыхивали головокружительные надежды, рождались пламенные, вдохновенные строки.
Да и как было не проникнуться восхищением перед гениальным замыслом творца и совершенством его творения среди осененных шумящими кронами диких скал, поющих родников, стремительных водопадов? И радостно становилось на сердце, и жутко, когда мнилась близость боговдохновенного озарения, за которым одним мерещились райские кущи, другим — чудесная власть над вещами и явлениями, которую таит в себе магистериум — философский камень.
Сыростью склепа веет от вещих замшелых камней.
Теряясь в извивах и трещинах, стекают струйки со скальных отвесов, бормочут в таинственном сумраке папоротников, словно ищут забытые клады. И гудят над россыпью ландышей молодые шмели, и веет покоем, и нежит прохладой еловый подлесок, то вспыхивая в сквозном луче, то потухая под мимолетной облачной тенью.
Чьи духи таятся в заросших лещиной оврагах? Кого стерегут и зачем, посылая протяжное эхо? Чьи призраки витают в лунном тумане над каменными плитами, обсыпанными слежавшейся хвоей? Над этими исполинскими глыбами, высунувшимися на свет божий из самой преисподней…
И нет ответа, и всюду — в каждой песчинке, искрящейся в струйках ручья, в каждом листике и цветке — таится намек на непостижимое уму человеческому единение всего со всем.
Огибая вершину, где приносили кровавые жертвы друиды[58], все выше взбирается неприметная тропка. Оседает тревожная настороженность, не дающая беглецу забыться ни днем ни ночью, глубину и размеренность обретает дыхание, и неизбывный привкус тления почти не слышен в благоухании майского чародейства.
Бушуют грозы, трепещут радуги, трубят охотничьи рога. Волей судьбы буковые леса между Стаффордом и Уэльсом стали прибежищем беглого люда. Не только закрепощенные поселяне, но и вольные хлебопашцы бросали наделы и уходили подальше от родных мест. Кто вконец отчаявшись, кто уповая на близкое избавление, о котором повсюду твердили бормотуны — вездесущие искатели Правды. Сторонясь проезжих дорог, где днем и ночью рыскали королевские чиновники и отряды баронской челяди, пробирались в безлюдные валлийские просторы обнищавшие йомены, разорившиеся ремесленники, вилланы и праздношатающаяся голытьба неведомого рода и состояния. Ни тюремный тюфяк, ни тяжелые колодки, ни даже позорное клеймо, выжженное раскаленным железом на лбу, не могли остановить беглецов. Общая участь уравняла и йомена, и виллана. Земельное держание не оставляло крестьянину даже тени надежды вырваться из долговой кабалы. Земля перестала быть кормилицей-матерью. Обратившись в стальной ошейник, она превратила свободного арендатора в подневольного серва. Невзирая на то, что арендная плата оставалась прежней — четыре пенса за акр, мало кому удавалось свести концы с концами. Королевское обложение отнимало последние крохи. А тут еще церковь забирала свою непременную десятину, и лорды, чьи угодья из-за нехватки рабочих рук оставались неухоженными, требовали все больше денег взамен отработки феодальных повинностей. Крестьянская работа потеряла всякий смысл. Стонала, жаловалась земля, исстрадавшись без плуга, серпа и косы. Напрасно лорды переманивали друг у друга работников или, самовольно вторгшись в чужое владение, силой уводили двуногий скот. Проку от новоявленного пленения вавилонского было мало. «Билль о рабочих» сковывал руки и хозяевам, и батракам. Разорялись, терпя убыток, обе стороны.
Цены на труд в стране, пораженной чумой, росли год от года, но королевский ордонанс под угрозой тюремного заключения запрещал повышать их сверх уровня, существовавшего еще до «Черной смерти». Строгость закона обернулась его бессилием. Каждый, кто не сидел на своем земельном наделе, фактически превращался в крепостного, обязанного безотказно работать в любом маноре, где только требовался наемный труд. Но одно дело — впрячь в ярем бессловесную скотину, иное — свободнорожденного англичанина. И пошла охота по всей стране на двуногого зверя, кровавая ловитва по деревням, кабакам и дорогам. Результаты ее не оправдали ожиданий. Даже маноры, принадлежащие королю, охватило повальное бегство. Зверь уходил от улюлюкающих загонщиков, как и свойственно лесной твари. Люди снимались с насиженных мест целыми деревнями и отправлялись в неведомые странствия, разбредались по городам, таились в пещерах и чащах лесных, укрывались в болотах.
Нельзя заставить из-под палки надрываться на чужой ниве. Без заботы и ласки не прорастает зерно в борозде, не дают приплода стада и даже вечная труженица пчела не собирает с цветка нектар. Сохнут травы, не дождавшись покоса, с жалобным стуком падают просверленные червем плоды, в труху превращается хворост лесной.
На горе у Трех крестов, поставленных безымянным отшельником, сошлись двенадцать грешных апостолов: Джон Цирюльник из Кента, Джон Каменщик из Нортгемптона, капеллан Джек эт Ли из Сомерсета, лондонский оборванец, йомены из Эссекса и Суффолка, ремесленники и вилланы из разных графств. Кто прилег на травку, кто сбросил котту и грелся на солнышке, сидя на пеньке. Лишь один виллан, одноглазый, зачем-то забрался на ветку старого дуба и укрылся в листве, уныло качая длинными худыми ногами, обутыми в остроносые башмаки.
Тень от воткнутого в землю посоха медленно укорачивалась. В ожидании прошло более часа, прежде чем где-то внизу раздался условный свист. Люди, и без того не слишком разговорчивые, сразу подобрались, насторожились.
— Вот человек, который хотел говорить с вами, — йомен Уильям Хоукер вывел на поляну широкоплечего, коренастого молодца, закутанного в зеленый с зубцами по низу упленд. Тот сбросил свою потрепанную накидку, прожженную летучими искрами лесных ночевок, и широкими натруженными ладонями пригладил схваченные ремешком волосы. Капелька солнца вспыхнула на потемневшем от времени образке. Затем вышел на середину, подбоченился, тронув пояс, на котором рядом с охотничьим рогом висел французский стилет, и неторопливо обвел собравшихся хмурым, все примечающим взглядом. Одним он напомнил деревенского кузнеца, другим показался похожим на вольного стрелка, а капеллан заподозрил в нем лесного брата. Незнакомец широко расставил крепкие ноги. На каждом задержался холодным, уверенным взглядом из-под насупленных кустистых бровей.
— Я давно просил кума Уила собрать вас в каком-нибудь тихом местечке, где бы мы могли спокойно потолковать, — хрипловатый, суровый голос незнакомца оказался под стать всему его облику. — Долгонько пришлось мне ждать, ну да ничего — всякая большая работа требует подготовки. Это-то нам знакомо…
— Беда у всех одна, а бедствуем в одиночку, — словно оправдываясь, подтвердил Хоукер. — Пришлось порядком побегать за вами, братья. Спасибо Джону Каменщику. Без него мы бы вряд ли смогли собраться.
— Так-так, верно говоришь, Уил, — одобрительно кивнул незнакомец. — Беда хоть и общая, но каждый борется с ней, как умеет. Лишь за себя, за свою семью, за свою общину. Один только бог за всех. Справедливо ли это?.. Как тут не похвалить Джона Каменщика за добрую помощь? У них, каменщиков, дело поставлено крепко. Общество заботится обо всех вместе и о каждом в отдельности. Неважно, где ты живешь — в Лондоне, Станфорде или Тонбридже, — всюду тебя встретят как родного, накормят и обогреют, помогут советом. Скажи-ка нам, Джон, смог бы ты без помощи братьев по цеху разыскать всех этих достойных людей?
— И думать нечего! Англия велика, — привстал Джон Каменщик. Его воспаленный лоб был обезображен свежим клеймом.
— Ни ног не хватит, ни сил… Нипочем бы нам не встретиться, если бы не подсобили добрые мастера. От графства к графству, от сотни к сотне, от деревни к деревне выводили на верный след. Да и то сказать, раньше мы бы куда быстрее спроворили. Теперь же настали такие черные дни, что и словами не высказать. Наше общество понесло особо тяжелый урон. Хватают всех без разбору. За то, что стоим друг за дружку, за нашу общую клятву, за тайные знаки, по которым узнаем братьев. Поэтому мне особенно приятно, что удалось все-таки сделать доброе дело. Теперь бы мне с ним уж не справиться. Куда я денусь с этой дьявольской меткой? На первом же перекрестке схватят. Вот и таюсь в чаще, как вор. Уж как нам, каменщикам, досталось, не приведи господь никому…
— Брат Уил верно сказал: беда у нас общая, — соболезнуя, но как бы с насмешкой покачал головой незнакомец. — Каменщики первыми добились повышения платы за труд, вот и терпят больше других. Но не за клятву, не за цеховые тайны, а за один-единственный пенни, который сумели вырвать у грабителей. Взгляните все на нашего Джона, — он повелительно поднял руку. — Вот она, расплата за прибавку. Горит буква позора, взывает к отмщению.
— Как будто одних каменщиков клеймят! — проворчал кто-то из вилланов. — Попробуй уйди из манора, так тебя живо в башню упрячут.
— Правильно, — одобрил незнакомец. — Всем плохо. Ни виллан, ни хлебопашец-хозяин не вольны искать лучшей жизни в нашей свободной стране. Нам нужно кормить детей, и мы готовы обойти полсвета ради лишнего пенса, а нас сажают за это в тюрьму. Сначала на сорок дней, потом на полгода, а ежели словят в третий раз, то не взыщи — волокут к палачу. За что, спрашивается? За недобросовестность! Это нас-то, жнецов и сеятелей, свинопасов и кузнецов, косарей и плотников? Мы трудимся до седьмого пота на нашего лорда, на церковь, на короля, и нам некогда думать про совесть. У нас ее действительно нет. Вот у сборщика налогов, готового вырвать последний кусок хлеба из нашего рта, этого добра в избытке. Словом, сиди на одном месте и не ропщи. Ты не смеешь даже мечтать о том, чтобы улучшить свое жалкое существование. Как мы дошли до такого положения, братья? Свободные англичане! На нашей стороне закон. Разве он защищает только дворян? А нас с вами — нет?
— Свободные! Ишь, нашел чем гордиться. А мы кто? — яростно выкрикнул одноглазый виллан, упруго спрыгнув с ветки. — Сервы? Тягловый скот?
— Ты не горячись, брат, — охладил его Уильям Хоукер. — Лучше расскажи про себя людям. Пусть узнают, кто ты и откуда, а там сообща и решим, как с тобой быть.
— Чего тут решать? Я такой же человек, как и все!
— Неужели кто-нибудь оспаривает это? — незнакомец удивленно огляделся. — Почему ты сидишь в стороне от всех? Здесь твои братья, такие же обездоленные, — он кивнул на старика в залатанной котте, сидевшего рядом с двумя бородатыми шропширцами. — Уверяю, что они встретят тебя как доброго друга.
— А другие? Ты сам, например? — с вызовом бросил одноглазый.
— Ты, кажется, откуда-то с юга? — спросил незнакомец.
— Я тот самый корнуэллец, который убил своего хозяина.
— Знаю твою историю, Дирк, — участливо кивнул Хоукер. — Расскажи ее людям.
— Чего уж тут, — Дирк с недовольной гримасой дернул плечом. — Мне двадцать лет, и в моей проклятой жизни нет ничего примечательного. Мой отец держал виргату в аббатстве, и за это ему полагалось работать на лорда три дня в неделю. Я говорю про обычную пору. В страду у нас трудятся по пяти дней.
— Как везде, — вздохнул старик.
— Да, как везде. И, конечно, еще дней пятнадцать в году уходят на всякие помочи. На свое хозяйство, как видите, времени остается негусто, но все же как-то справлялись.
— Еще бы! — вновь вмешался старик. — Только проку мало. Ведь раньше на барщине работали только до полудня. Зато нынче, когда за каждую отработку с тебя требуют денег, платить приходится на полный день.
— В деньгах все зло, — согласился Дирк. — Аббату, нашему лорду, мы платили безропотно. И десятину отдавали, и королевский налог… Но после Доброго парламента[59] последнее терпение лопнуло. Где взять серебро, будь оно проклято?! Видно, так уж назначено богом: одни и работают, и платят, другие только берут.
— Говоришь, богом назначено? Как бы не так! Когда Адам пахал, а Ева пряла, кто был дворянином? — гневно спросил незнакомец. — Разве ты не знаешь слова святой правды, Дирк? Вот единственная истина, на которой стоит мир.
— Все же раньше полегче было. Община жила заодно с лордом. Мы платили ему за его землю, пока могли. Когда же сверх всего с нас потребовали еще и эти три грота, жить стало невмоготу. Отец зачах от непосильной работы, сестренка и два младших брата умерли в голодную зиму, потом и матушку прибрал господь… Я ушел, потому что не захотел брать землю. Когда меня призвали на собрание курии, я сказал, что отказываюсь.
— Это твое право, — поддержал старик.
— Хозяин и не оспаривал, но уйти из манора не разрешил. Оставил лесничим, без земли, на одних кормовых. Платья тоже не полагалось. Я родился свободным, но лорд сумел доказать, что мой прадед был сервом. Ведь слово лорда — закон.
— За это ты и убил его? — удивленно спросил Хоукер.
— Нет, не за это… Однажды он застал меня за ловлей перепелов и ударом хлыста выбил мне вот этот глаз, — Дирк пальцами раздвинул воспаленную рану. — Потом он подстерег меня, когда мы ловили раков. Я не стал ждать, пока совсем ослепну. Огрел аббата дубинкой… и ноги в руки. В лесах пряталось много наших, но они не приняли меня.
— Никак убоялись, что ты совершил смертный грех? — понимающе подмигнул незнакомец. — Как звали твоего хозяина, Дирк?
— Генрих Рамси. Он арендовал манор герцога Ланкастерского.
— Я слыхал про этого кровопийцу, — усмехнулся незнакомец. — Ты поступил правильно. Жаль только, что сам Гонт не повстречался с тобой на лесной дорожке. Но ничего, придет и его час. Властью, данной мне Джеком Возчиком, я отпускаю твой грех. Займи свое место среди братьев, мужественный англичанин.
— Ты знаешь его?! — недоверчиво воскликнул одноглазый. — Какой он, Джек Возчик?
— Такой же, как мы с тобой: с руками и ногами. Наш проповедник томится теперь в мейдстонской тюрьме, но будь уверен, Дирк, что слово правды нельзя запереть на замок. Оно летит по свету вольной птицей.
— А ты действительно отпускаешь грехи? Тебя рукоположили?
— Твоя совесть может быть спокойна, бывший лесник, — успокоительно махнул рукой незнакомец, — но, если ты хочешь получить отпущение по всем правилам, я берусь замолвить словечко нашему капеллану… Ты-то хоть настоящий капеллан? — он повернулся к Джеку эт Ли, чья порядком изодранная ряса была облеплена шариками репейника и всякими колючими семенами… — Где ты так вывалялся, святой отец?
— Затравил косулю, которую сейчас поджаривают на обед наши люди, — дерзко улыбнулся Джек, поддержанный веселым смехом. — Небось и ты не откажешься попробовать?
— Не откажусь, будь уверен!.. Можешь облегчить душу этого достойного грешника?
— Есть одна маленькая заковыка, бывалый человек. Дело в том, что я отлучен от церкви. Но если нашего друга это не остановит, берусь обделать в два счета. За мной дело не станет. Отпускаю тебе грехи твои, сын мой! Amen.
Кое-кто рассмеялся, а старый шропширец поежился.
— Отлучен от церкви? Как Джек Возчик? Это делает тебе честь.
— До Джона Болла мне далеко. Я, слава богу, не схизматик. Мой случай скорее схож с судьбой грешника Дирка, хотя я и не покушался на жизнь князя церкви.
— Что же ты сделал, несчастный? — заинтересованно спросил незнакомец. — Не томи нас, поведай.
— Ничего из ряда вон выходящего, право… Просто потребовал у лорда два пенни прибавки за обедню. Он мне, естественно, отказал, и я стал подыскивать приход побогаче. Да не тут-то было! Лорд подал в суд, и на основании «Билля» меня принудили остаться на месте. Как свободнорожденный англичанин и слуга господень, я счел такое обращение оскорбительным и, подобно нашему бедному виллану, дал деру. Все кончилось интердиктом.
— Вот она, наша жизнь! — незнакомец назидательно погрозил пальцем. — Есть ли силы терпеть, когда так нагло и глумливо попираются все законы — человеческие и божеские? Смиряется только раб, свободный борется за свои права… Я говорю это всем вам, и прежде всего тебе, Дирк. Ты должен понять, что нет никакого различия между вилланом и йоменом. И того и другого цепью приковали к земле. Ты не виргату свою отверг, но вериги тяжкие сбросил. Надел, который дается на таких кабальных условиях, сам собой обращает человека в раба. Кем бы он ни был, хоть принцем крови. Усвой это на будущее, Дирк. И не надейся на то, что где-то живется легче. У нас, например, в Кенте и Эссексе, давно нет вилланства. Вроде бы все лично-свободны, а на деле по рукам и ногам повязаны держанием.
— Tenentum non mutat statum, — глубокомысленно изрек капеллан и тут же растолковал латинскую премудрость: — «Держание не меняет личного состояния…» Так гласит закон, и никуда от этого не денешься. Раз земля зависима, значит, и ты зависим.
— Хорошо иметь своего законника, — одобрил незнакомец. — Я не забуду тебя, капеллан.
— Боюсь, что лично тебе закон мало поможет, удалец, — хитро ухмыльнулся Джек эт Ли. — При твоем-то ремесле…
— Что знаешь ты обо мне, отлученный законник?..
— Да мы все о тебе ничего не знаем, — неожиданно вскинулся старик из Шропшира. — Откуда ты взялся такой? Всех учишь, а сам-то кто? Может, лесной брат?
— Во-во! — поддержали его остальные.
— Чего это вы все так всполошились? Словно нет у нас больших врагов, чем разбойники! — фыркнул бродяга из Лондона. — Ну до чего же дикие эти крестьяне! По мне так лучше рыцарь с большой дороги, чем королевский сержант или бейлиф.
— Я не разбойник, честные люди, — выждав, пока уляжется суматоха, сказал незнакомец. — Не беспокойтесь.
— Сдается мне, что я уже видел его в наших краях, — шепнул эссексец, сидевший рядом с Джоном Цирюльником. — Не то в Колчестере, не то в Уолтеме.
— Ну и помалкивай! — проворчал Джон.
— А все же расскажи про себя, — не отставали шропширцы. — Хотим знать, что ты за птица. Имя-то как?
— Зовите меня Уолтером Тайлером, — после минутного колебания ответил незнакомец.
— Ты что, вправду кровельщик?[60] — обрадовался бродяга. — Знал я одного кровельщика! Вот уж ловок был залезать через крышу в чужие дома… Повесили его на Чипсайде.
— И правильно сделали, — жестко отрезал Уолтер. — С ворами и прочими любителями легкой наживы нам не по дороге. Человек обязан честно трудиться и жить по законам справедливости.
— Так я чего? — сконфузился бродяга. — Я ведь только спросил…
— Действительно ли я черепичник?.. Да я и сам точно не знаю, кто я теперь. Слишком много перемен произошло за последние годы. Не только со мной… Был я лучником у Черного Принца, и с Бекингэмом пересекал Канал. Кое-что позабыл, но еще большему научился. Но если кому-нибудь из вас нужна хорошая крыша из черепицы, соломы или же папоротника, можно попробовать. Думаю, что сумею покрыть не хуже иных прочих.
— Дикий лес — наша крыша, звериная нора — наш дом. — Лондонец с треском переломил о колено сухую ветку и зашвырнул обломки в кусты. — Всю Англию разворошили, как муравейник. Даже нищим не стало житья. Без бумаги с печатью шагу не смей ступить.
— Вам, безземельным, легче, — вздохнул шропширец с желтым, изрытым оспой лицом. — Никаких тебе забот, летай божьей пташкой.
— А у нас какое-никакое хозяйство, — поддакнул другой, тонкоголосый и тучный. — В уборку или в сенокос разве кого докличешься? Все ловчите, чтобы побольше урвать. Прошлый год совсем без рабочих остались. Эрл Уорик переманил…
— Послушать вас, так все зло от работяг. От жадности их и коварства, как вещает повсюду «разбойник Хоб». — Уолтер подтянул упленд и подсел к костру. — Налоги и всякие поборы магнатов нипочем, а лишний пенс косарю заплатить — чистое разорение. Белый свет застит. Не так, что ли?
— Так или не так, а только каждый норовит отнять последнее, — недовольно фыркнул толстяк. — Чего не хватает, спрашивается? И кормим, и поим, и даем по справедливости. Как деды, как отцы наши — по два пенса с акра. Больше даже, чем по закону положено.
— Ах, по закону! Зачем же вы сюда пожаловали, если на закон молитесь? Тогда вам, ребята, к королевскому судье надо. Он будет премного доволен. Заодно и недоимки проверит. Если чего не так, не миновать вам тюрьмы.
— Все вы одним миром мазаны, которые без земли, — огрызнулся рябой. — Где бедному хлебопашцу с вами тягаться?.. Нету ее нигде, правды этой. Так и скажем своим.
— Это кому же — своим?
— Общине, — рябой пожал плечами. — Известно…
— Их община послала? — Уолтер покосился на Уильяма Хоукера. — Сам-то ты знаешь этих людей?
— Пол Кузнец поручился.
— Враль он первостатейный, Пол этот. Обещал, что сам Джон Правдивый будет, — пожаловался толстяк. — Душу свою раскрыть шел, а вышло вон как… Одно вранье.
— Не торопись судить, — предостерег Уолтер. — Давай сперва разберемся, зачем вам понадобился Джон Правдивый. Чего вы хотите от жизни, шропширские хлебопашцы? На что жалуетесь?
— Мы как все, — переглянувшись с напарником, сказал рябой.
— Значит, перво-наперво — налог, — понимающе кивнул Уолтер. — Или все-таки сезонные рабочие? За полпенни сердце щемит?
— Полпенни здесь, полпенни там — глядишь, и шиллинг набегает, — глубокомысленно заметил толстяк.
— Справедливо, — уступчиво кивнул Уолтер. — Только все же?
— Налог, конечно, на первом месте, — признал старый шропширец. — Поденщики уж потом…
— И на том спасибо!.. Это все ваши беды?
— Как же! — запротестовал тонкоголосый толстяк, подперев кулачком румяную щеку. — Про лорда забыл? — он сердито подтолкнул товарища. — Общинный выгон у нас запахал прошлой весной. Деревьями огородил и запахал, никого не спросясь.
— Вот ловкач! И главное, умудрился найти работников.
— У самой королевы-матери отбил, — не без гордости пояснил рябой. — Ни с кем не посчитался. Всю общину оставил без выпаса… Такой у нас лорд.
— Да знаю я Уорика, довелось повстречаться. У него чуть ли не в каждом графстве манор… К судье вы, конечно, не обращались?
— Это с лордом судиться? — Толстяк изумленно раскрыл глаза. — Ты в своем уме, Черепичник?
— Разве закон не один для всех? Или, может, дело неправое?
— Правое, неправое, — рябой досадливо поморщился. — Годы ведь на тяжбу уйдут… А денег сколько?
— И где их взять? — поддакнул толстяк.
— Пусть будет по-вашему, — кивнул Уолтер. — Судиться с лордом и вправду пустая затея. Скажите лучше, что вы вообще намерены делать? Как собираетесь жить дальше? С лордом-грабителем вам не совладать, с парламентом, готовым спустить последнюю шкуру, тем паче. Что же остается? Воевать с бедняками поденщиками?
— Воевать мы ни с кем не желаем, — твердо заявил рябой. — Джек Возчик наказал стойко держаться во имя божье. Нас послали узнать, когда ударит колокол.
— Тогда вы плохо поняли проповедь Джека Возчика, братцы! Стойко держаться — это одно, а терпеливо сносить несправедливые притеснения и смиренно ждать, что кто-то за вас заступится, — совсем другое. Ты как понимаешь, Джон Каменщик?
— Это значит стойко держаться друг за дружку, значит быть заодно со всеми, — важно прокашлявшись в кулак, пояснил клейменый.
— И мы всей общиной точно так порешили, — одобрительно закивал рябой.
— Всей общиной? — Словно прислушиваясь к чему-то, Уолтер склонил голову к плечу. — Это хорошо, коли всей общиной… А как обстоят дела у ваших ближайших соседей, знаете? Во всем вашем графстве? Еще дальше: в Стаффорде, Вустере?.. Джек Возчик не к вам одним обращался, ко всем. И за всех страдает сейчас в монастырской тюрьме. «Большое общество» потому и называется так, что стоит за всех тружеников. Для честного человека нет ничего дороже справедливости. Без нее трудно дышать, нельзя смеяться. Кусок и тот застревает в горле. Подумайте об этом, вилланы Шропшира. Всем найдется место в нашей свободной стране. И вам, и вашим безземельным сезонникам, в которых вы должны видеть братьев, а не врагов, законнику-капеллану, ловкачу лондонцу и тебе, Джон Каменщик, оскверненный клеймом палача… Стоит только постараться и зажить по справедливости.
— Разве возможно такое? — грустно вздохнул отлученный от церкви капеллан. — Когда прародитель Адам пахал землю, а Ева пряла, не было ни рыцарей, ни священников, ни ремесленников, ни судейских крючков — никого. Нынче, невзирая на «Черную смерть», вон сколько всякого люда расплодилось. И каждый норовит ухватить другого за горло, и никому дела нет до чужого горя… Скажешь, я не прав, Черепичник?
— Ты прав, потому что так есть, но это не значит, что так будет вечно. Или мы не равны перед богом?.. А коли равны, то нужно помнить не только о себе. Пусть забота соседа станет вашей заботой, и ваши соседи пусть помогут вам в свой черед. Вы сразу поймете друг друга, когда осознаете, что хотите одного и того же. Погрузитесь в море житейское, в страдания и мечты народа. Главная наша беда в том, что мы привыкли сидеть в своих норах. Глаза закрыты, уши заткнуты, рот запечатан. Все заняты только собой. — Уолтер поманил Джона Каменщика. — Ты сейчас поведал нам, доблестный брат, о жестоких гонениях, которые обрушились на твой славный цех. Но разве ты не знаешь про то, как расправились с плотниками? С какой жестокостью покарали каждого, кто принадлежал к их союзу? Такова природа человека, что своя боль заставляет забыть чужую. Я это вполне понимаю, Джон. Я сам был таким, пока мне не раскрыли глаза. Но не будет для нас чужого горя, ежели проникнемся братской любовью друг к другу. Все станет общим: и боль, и радость. — Он обнял Каменщика и вновь обратился к шропширским вилланам: — Теперь о вас, мои возлюбленные, мои упрямые братья… Вы по-прежнему сетуете на коварство поденщиков, которые, бросив вас, пошли в манор Уорика?
— А то как же? — не слишком уверенно встрепенулся толстяк. — Во-первых, сено перестоялось, во-вторых…
— Да знаю я ваши горести! — Уолтер устало махнул рукой. — Ведь и у меня был свой клочок, политый потом дедов, да не о том речь… Вы когда-нибудь задумывались о тех, кто живет без земли, одним только заработком от случая к случаю? Три пенса, не спорю, большие деньги. Но страдные деньки пролетают быстро, а есть нужно круглый год, и детей кормить, и налоги платить… С каких доходов, спрашивается? По закону косцу лугового сена нельзя платить свыше пенни за акр. Столько же полагается на день за выполку сорных трав и уборку. Ну-ка, попробуй обернись!
— Но почему за мой счет? — с мрачным ожесточением упорствовал рябой. — У меня тоже дети. На всех не хватит. Каждому свое.
— Если покорно склониться под ярмом, то твоя правда: каждому свое. Но не лучше ли забрать назад все то, что отняли у тебя грабители? Тогда и себе останется, и найдется чем справедливо расплатиться с братом.
— Легко сказать. Можно подумать, что я выбирал свою долю. Может, я тоже хотел в город податься? Но меня принудили остаться. Заставили взять землю против воли. Покойный лорд так удивился моему упрямству, что даже вступительной платы не потребовал. Только черного быка в качестве гернета…[61] Я его после назад откупил за одиннадцать шиллингов и пять пенсов.
— Вижу, ты человек с достатком.
— Потрудись с мое, вот и будешь с достатком… Все-таки девятнадцать акров пахотной земли, — ухмыльнулся рябой. — Свиньи опять же… За право выпаса в лесу лорд раньше брал одну из семи, теперь одну из шести.
— Хуже, значит, стало?
— Еще бы не хуже!
— Вот и батрак так же считает! Как думаешь, почему цена на рабочие руки растет? Да потому, что хлеб дорожает чуть ли не ежегодно. Все связано в этом неправедном мире, где мертвый хватает живого.
— Я как продавал откупщику по гроту за четверть, так и продаю! — вконец разъярился рябой виллан. — Закон запрещает повышать цены на съестные припасы!
— Закон? — лондонский мастеровой поспешно вмешался в спор. — Ты бы пожил в городе, дядя! Нет в мире больших мошенников, чем наши торговцы. Особенно рыбники, пекари и виноделы. Они не только вздувают цены, но вообще всячески обманывают народ: продают тухлятину, подмешивают всякую дрянь. Я потому и сбежал, что в городе, того и гляди, ноги протянешь…
— Это неправильно, — не сдавался шропширец. — Я сам слышал, как наш бейлиф читал.
— Значит, плохо слышал, — поддел его капеллан. — В «Билле» буквально сказано, что продовольствие должно продаваться по разумной цене. Уяснил? А уж какую цену считать разумной, решает торговец. Бродяга прав.
— Я не бродяга! — обиделся лондонец. — Ты меня бродягой не обзывай, беглый поп!
— Прости, брат, но я не хотел тебя оскорбить. Быть бродягой и нищим вовсе не позор. «Блаженны нищие духом…»
— Кто теперь живет по писанию? Не скажу, чтобы прежде так уж охотно подавали, а нынче и вовсе обходят сторонкой. Из-за страха перед тюрьмой, думаю. Виданное ли дело, чтобы богоугодную жертву назвать потворством бездельникам? Воистину последние времена наступают…
— Выходит, что ты все-таки был нищим, — удовлетворенно заметил капеллан.
— Принимал доброхотное подношение, коли давали. Зато у меня был свой угол, свой очаг, где я мог приготовить еду, свое ложе. Нищий — да, но не бродяга! Выпадали деньки, когда я зарабатывал побольше иного седельного мастера или вонючего скорняка.
— Значит, иногда ты все же работал? — спросил Тайлер.
— Почему «иногда»? В славном цехе лодочников и корабельных дел мастеров Томас Фарингдон слыл далеко не последним. Но как только меня попытались превратить в раба, я, не раздумывая, оставил верфь. Это же надо придумать, чтобы свободного умельца посадили на цепь! Запретить искать работу получше или требовать прибавку за свой труд! Ну уж нет! Не на такого напали… Вот и начал я подрабатывать то одним, то другим, — лондонец загадочно ухмыльнулся. — На свой риск и страх.
— Тебе хорошо, — гнул свое рябой шропширец. — Свободному, одинокому. Сам себе голова. Можно и не работать.
— Не завидуй, виллан! Лучше послушай этого бывалого человека. — Уолтер похлопал лондонца по плечу. — Он не меньше других горя хлебнул… Тебя когда-нибудь травили собаками? Охотились за тобой на дорогах?
— И тюрьмы ты не нюхал, и в колодках не сидел, — подхватил Джон Каменщик. — Даром что серв! Верно сказал брат Уолтер: на всех надели ярмо.
Резким порывом прошелестел в листве холодный ветер. Круто замешанные облака сливались в клубящуюся беспросветную массу.
— Того и гляди, хлынет, — закинув голову, пробормотал рябой. — Бог, он все видит. Давно следовало приструнить городских. Все зло на земле от города. Легко живете, не по заветам.
— Попробуй втолкуй дуралею! — осерчал Джон Цирюльник. — Не желает слушать, и все тут! А еще за правдой пожаловал!
— Шли-то мы шли, да не туда попали, — кряхтя, поднялся рябой. — Собирайся, кум, — растормошил он задремавшего толстяка. — Не пристало нам искать у городских справедливости. Сами пойдем к его милости королю, всем миром… Прощайте, добрые люди.
— Предупреждали меня, Уолтер, что тяжелый подобрался народец, — смущенно вздохнул Уильям Хоукер, проводив уходящих тоскующим взглядом. — Но такого исхода, признаюсь, никак не ожидал. Ничего понимать не желают. А я еще у них хлеба хотел просить для беглых… Монмутцы уже кору в мякину подмешивают.
— Всему свой срок, — властно одернул Уолтер. — Запасись терпением. Лучше сам попробуй понять этих людей. Жизнь отучила их от излишней доверчивости. Когда каждый только и норовит вырвать у тебя последний фартинг, поневоле озлобишься.
— Мы можем поделиться с монмутцами, — подал голос молчаливый йомен из Уорика. — Сберегли про черный день немного ячменной муки.
— Слыхал? — Уолтер локтем толкнул Хоукера.
— Благослови вас господь, — Джон Цирюльник осенил себя крестным знамением. — Когда на твоих глазах умирают люди, недостает терпения дождаться подходящей луны.[62]
— Не стоит и нам задерживаться, — Уолтер отдал благодарный поклон. — Спасибо вам, добрые люди… Не знаю, когда зазвонит колокол справедливости, но думаю, что ждать осталось недолго. Что-то обязательно должно перемениться.
— Хорошо бы скорее, — вздохнул молчаливый. — Многие ли из нас переживут эту зиму?
— Все передохнем в лесах, — печально отозвался одноглазый.
— Благослови тебя пречистая богоматерь и святой Джордж, брат Черепичник, — вразнобой отозвались вилланы. — Передай Джеку Возчику, что мы будем молиться за него… И за Джона Правдивого…
— Ждите и готовьтесь, — Уолтер прощально взмахнул рукой. — Проводишь, Уил?
— Я рад, что ты меня нашел, Уот, — сказал Хоукер, когда они вышли к оврагу. — Нашел и позвал.
— Жизнь позвала, боль окликнула.
— Ты действительно знаешь Джека Возчика?
— Так ведь и ты его знаешь… Помнишь францисканца, которого мы встретили на дороге у Фонтенбло?
Глава десятая Искра
Еще я видел там в нарядных шапках Судейских стряпчих целую толпу. Они закон отстаивать готовы За фунт иль пенсы, а не ради правды. Измеришь ты мальнвернские туманы Скорей, чем их заставишь рот раскрыть, Не посулив вперед хорошей платы. Уильям Ленгленд. Видение о Петре ПахареГородок Брентвуд, приютившийся на границе Эссекса с Хартфордширом, еще жил впечатлениями от веселых обрядов праздника вознесения. После торжественного крестного хода и чинной литургии, которую отслужили прямо посреди зеленого поля, все от мала до велика отправились бить межи. Во главе процессии важно шествовало духовенство, окруженное галдящей гурьбой принаряженных подростков. С незапамятных лет римского владычества, когда над нивами Альбиона властвовал ныне забытый бог полей и межевых знаков Терминус, детворе в этот день отводилась едва ли не главная роль. Передавалось поле, передавалась память, воскрешалось неизбывное чувство личной причастности к вечному круговороту жизни.
Прорастает зерно, умножаясь в колосе, и поколение следует за поколением, как набегающий вал. Обозначенный камнем надел определяет нерушимый черед в веренице предков-хранителей, чьи кости истлели в земле, а души вознеслись в горние выси. И как вечность противостоит бренности, так небо отрицает землю с ее юдолью и преходящими радостями. Церковь стремится оторвать душу христианина от суетного мира, напоминая о неизбежности рокового мгновения, которое одни называют смертью, другие — рождением в вечность. Но хоть дух устремляется к свету, грешное тело тянет назад. Не отпускает почва, где сквозь родительские гробы прорастают побеги грядущих всходов. Только через нее, тяжелую, влажную, теплую, дано прочувствовать сердцу соединяющие его с природой-праматерью таинственные нити. С первых шагов тщится грешный человек разгадать их вечно изменчивый узор и не поспевает. Распятый на кресте страстей между верхом и низом, так и уходит с вопросом на устах, искаженных страданием.
Крестьянский дом, сгорбившийся под посеревшей соломой, колосья в поле и животные, мирно пасущиеся в лугах, — лишь часть космоса, среди которого пролегают дороги планет. В свой черед обрушится кровля, и пламя пожрет сгнившие балки, в копченый окорок и колбасы превратится свинья, тюки шерсти и мешки с пшеницей уплывут под парусами куда-нибудь в Бордо или Байонну, но в веках пребудет помеченный камнем надел. Разделенный потомками, безжалостно исчетвертованный, но единственно неподвластный всеобщему уничтожению.
Обходя границы прихода, старики указывали мальчишкам вещие знаки:
— Вот ручей, где вы любите плескаться в жару, а вот замшелый валун на краю болота. Все, что лежит по сю сторону, принадлежит нашей общине, а значит, и вам, ее младшим членам и будущим хранителям.
И дабы наука вернее закрепилась в юных головках, наследников колотили палкой по мягкому месту и безжалостно хлестали кнутом. Но это была сладостная боль приобщения к манящему миру зрелых мужчин. Детишки знали, что она вскоре утихнет, а в награду за терпение каждый получит по горсти изюма и медному фартингу.
— Видите зеленый склон, на котором белеет контур огромного быка? Говорят, что его начертали одноглазые великаны, жившие тут задолго до пришествия нормандцев. Бегите вон к тому развесистому дубу. Оттуда виднее.
— А там источник, из которого пил Симон Монфор. Во всем графстве нет более чистой и вкусной воды, чем в нашем источнике.
— Наша нижняя граница[63] проходит за лесом, где однажды переночевал Робин Гуд. В прошлом году вы ободрали там всю малину и ежевику, хотя знаете, что ягоды можно собирать только с разрешения нашего лорда. Ну-ка, братцы, вжарьте им хорошенько, чтобы впредь было неповадно! Пусть запомнят проказники, где находится запад.
Хор затянул псалом, священник, благословив поля и источники, вознес молитву о щедром урожае. Изредка всхлипывая, ангельскими голосками подпевали выпоротые мальчишки. Небеса изливали тепло и свет. Ветер играл лентами на майском шесте, оставленном до праздника троицы. Мир и благоволение воцарились в душах. Мясники свежевали быка, трактирщики катили бочонки с элем.
Праздничное благодушие было нарушено быстро распространившейся вестью о приезде королевской комиссии во главе с сэром Томасом Бамптоном, который остановился в доме брентвудского бейлифа. Вскоре уже весь городок знал, что комиссар располагает точным списком лиц, уклонившихся от поголовного налога. Для начала было приказано собрать на площади зарекомендовавших себя самыми упорными неплательщиками жителей деревень Фоббинг, Коринхем и Стенфорд-ле-Гоп.
Получив от комиссара надлежащие полномочия, бейлиф оседлал коня и, втайне кляня службу, отправился на другой конец графства, к берегу моря. Его путь пролегал через леса и холмы, через реки, где нужно было искать брода, заболоченные луга и пески. Надежда на перемену лошадей была слабовата, и бейлиф наметил постоялые дворы для ночевок и на всякий случай велел приторочить к седлу торбу со снедью. Полагал, что доберется дня за два, в крайнем случае — за три. Человек он был добрый, простосердечный и весьма склонный к застолью. Сидя с оловянной кружкой у огонька, он и не думал делать тайны из возложенной на него миссии. Больше того, разделяя возмущение случайных сотрапезников, как мог, честил наглеца комиссара и заодно с ним преосвященного канцлера. Досталось, само собой, и картавому «разбойнику Хобу» — Хелзу.
Неудивительно поэтому, что про Томаса Бамптона, который прибыл в сопровождении четырех столичных молодчиков в немыслимой, расшитой бубенцами одежде, заговорили по всему графству Эссекс. Тревожное известие далеко обогнало гонца. Жалея коня, он неторопливо тащился от трактира к трактиру, останавливаясь у каждого ивового венка.[64]
В рыбацком городишке Фоббинг, затерянном на изрезанном укромными заливчиками побережье, вознесение господне отпраздновали на свой лад. Запекли свежих мидий, вдоволь нажарили рыбы и устроились пировать прямо в лодках, которые загодя оттащили подальше от рокочущей кромки прибоя. Просоленный киппер,[65] имеющий власть пробуждать совершенно немыслимую жажду, скоро настроил общество на веселый лад. По неписаной традиции остряки состязались с каменными лицами, без тени улыбки. Только по блеску глаз и прихлынувшей к вискам крови можно было оценить меткость шутки.
Как всегда, первой жертвой подтрунивания сделался Гольфрид Краттон, лучший в деревне рыбак, способный в два счета перевалить через борт самую большую акулу. Его вызывающе длинный нос так и напрашивался на комплименты.
— У тебя капля на самом кончике, — с невинным видом начал чернобородый хлебопек Томас Бекер, опуская взгляд в оловянную кружку. — Дотянешься?
— Ну так сними ее, — бесстрастно парировал Гольфрид. — К тебе она ближе, чем ко мне.
Беседа текла без спешки, причем подчеркнуто вежливо, с многозначительными паузами, позволявшими по достоинству оценить чужую шутку и приготовить надлежащий ответ.
К сожалению, на сей раз фоббингцам не довелось насладиться единоборством признанных острословов. Посыпалась сухая глина с обрыва, и на грохочущую гальку сбежал солевар из соседней деревни Тилбери.
— Вы еще ничего не знаете? — выкрикнул тилбериец, задыхаясь на бегу. — Ну, тогда я вас так огорошу, что мигом попадаете!.. — И он со всеми подробностями поведал о скором прибытии брентвудского бейлифа, который, несмотря на частые задержки, неумолимо приближался к Фоббингу. — Своими ушами слышал в трактире у Веселого Гарри, разрази меня гром! — чертыхнулся напоследок неугомонный солевар.
Все, как по команде, уставились на Томаса Бекера, уполномоченного нести налоговую субколлекторскую службу. Привычное ругательство едва не сорвалось с его острого языка, но, интуитивно ощутив значительность момента, он решил, что сперва следует хорошенько обмозговать неприятную новость. Было бы преувеличением посчитать ее полной неожиданностью. Между собой рыбаки постоянно толковали о последнем налоге, от которого им вроде бы удалось отвертеться. Стараясь не выказать тайного страха, они не раз перебирали возможные последствия. Но, несмотря ни на что, весть о приезде комиссии поразила их словно гром среди ясного неба. Возмездие казалось неотвратимым. Все планы, взлелеянные у домашнего камелька, разлетелись в пух и прах. Ни о ремонте лодки, ни о приобретении новых парусов или сетей нечего было и мечтать. Едва-едва достанет расплатиться, чтобы избегнуть тюрьмы.
Задавленная, ограбленная, обманутая своими правителями, страна притаилась в молчаливом ожидании еще больших утеснений, приправленных новой порцией лжи. Народное долготерпение могло взорваться в любой час и в любом месте. Ничто не способно длиться вечно, и никому не дано вечных сроков. Неподвластный ничьей воле, но, напротив, стоящий над всеми великий закон перемен уже подыскивал достойного глашатая. Само время, уставшее от бесконечного повторения одних и тех же подлостей, уготовило для избранника то ли лавры, то ли терновый венец. Ни Том Бекер, ни его встревоженные соседи еще не догадывались, что волей судьбы или просто слепого случая уже произведен безошибочный выбор.
— Не знаю, как насчет бейлифа. — Том глубокомысленно пощипал бороду. — Бейлифа всегда можно в бочку с рассолом посадить, верно?.. Зато насчет комиссара у меня твердое мнение. Я бы сначала хорошенько отстегал его, а после спровадил обратно в Лондон. Им уже недостаточно того, что было собрано в прошлый раз. Они хотят обобрать нас подчистую, не дав даже маленькой передышки. И конца этому не будет. Если не дадим отпора, нас разденут догола. Будь моя воля, я бы нашел достойный ответ.
— Вот и ответь, Томас! — выпрыгнув из лодок, сомкнулись вокруг хлебопека рыбаки и ремесленники. — Кому же, как не тебе?
— Чтобы его тут же забили в колодки? — криво усмехнулся Гольфрид. — Нет, уважаемые, так не годится. Надо всем миром идти.
— Оповестим соседей! — посыпалось с разных сторон. — Я слетаю в Коринхем!
— А я в Стенфорд!
— Тилбери не останется в стороне! — пообещал солевар, готовясь бежать дальше. — Молодец, Томас!
— Может, обойдемся без шума? — послышался осторожный голос. — Мы ведь решили не платить? И не будем. По-тихому оно всегда лучше, спокойнее.
— Поздно по-тихому! — поддав ногой пустую бочку, вскочил Гольфрид. — Настала пора высказаться. Пусть знают, что больше не получат ни единого пенни.
— Значит, так и сделаем, — подытожил Том. — Дождемся соседей и выступим в Брентвуд. У кого есть оружие, возьмите с собой.
— Какое у нас оружие? Луки без стрел? Заржавленные ножи?
— Что подвернется под руку, то и берите: луки, ножи, топоры.
— Багры?
— И багры.
— Вилы? Серпы?
— И молоты, и бердыши, и мечи, которые приберегли наши деды для охраны от пиратских набегов. — Томас Бекер твердо встал на банку, возвысясь над толпой. — Гольфрид, Билли и ты, Уолтер Джекоб, поведете людей. Все, кто сражался во Франции и знает, как это делается, пойдут впереди.
— С оружием против короля? — вновь попытался остановить осторожный. — Одумайтесь, братья!
— Не против, а за короля и верные ему общины, — переглянувшись с Гольфридом, быстро нашелся Томас. — Пришел час спасти Англию от грабителей, которые куда хуже французов или датчан. Но если уж идти, так всем. Кто останется, пусть пеняет на себя. Жизни ему среди нас не будет.
По дороге на Стенфорд уже спешили гонцы. Останавливая каждого встречного, они открыто кричали о том, что еще вчера доверяли лишь самым близким. Из уст в уста передавались невероятные слухи о «Большом обществе», которое решилось наконец выйти на белый свет и призвало народ к оружию во имя короля и его верных общин.
Притихшие было лолларды роем шмелей разлетелись по соседним графствам, жаля уснувшую совесть целительным ядом косноязычных проповедей и евангельских притч. В Кенте, где с вилланством было покончено еще в прошлом царствовании, и в Саффолке, где исстари поровну делили земельный надел между всеми сыновьями, заговорили о полном равенстве людей и сословий.
Верили любому слуху, и чем невероятнее, тем вернее. Множились пророчества, всевозможные видения, ширился темный ужас. Безумная Гвенделон, дочь колдуньи, упала посреди ячменного поля и забормотала грубым мужским голосом нечто маловразумительное. Девушки, которые случились рядом, смогли припомнить лишь одну-единственную фразу: «Белую розу от алой не отличаю под ливнем багряным…»
Сведущие люди истолковали предсказание в том смысле, что королевские дяди снова передерутся, а это плохо, ибо, когда лорды воюют, у вилланов ребра трещат.
Но страху вопреки, беспокойной хмельной надеждой дышали морские ветры в эту последнюю неделю веселого месяца мая.
Все вместе пришли мы в этот приятный вечер, Когда зеленые ветки Столь свежи в весеннем цвету. Мы расскажем вам о почках и цветках на каждом дереве, Распустившихся в веселый месяц май.Казалось, что наивные, с детства родные слова простенькой деревенской песенки наполняются новым, ранее неизведанным смыслом. Горячая от солнца дорожная пыль пьянила тревожной горечью полыни и звала, торопила сердце, которое и без того нетерпеливо колотилось в груди. Рвалось наружу, ликуя, предчувствуя и скорбя.
Скоро — так скоро, что не успеть ни одуматься, ни остановиться, — станет ясно, какими цветами чреваты тугие майские почки, источавшие сладостный клей.
Да, да, мы расскажем вам, мы непременно все вам расскажем, И пусть благословит господь ваш дом, это убежище, Все ваше богатство и ваши запасы, Потому что весенние ветки такие свежие, такие цветущие и зеленые.Всю ночь чадил дельфиний жир в светильнике Томаса Бекера, перешибая соленое дыхание бриза и аромат шиповника под окном.
— Не знаю, верно ли рассказывают про Джона Правдивого, — признался он Гольфриду под утро, когда уже все было обговорено. — И живет ли вообще этот парень на свете? Но в одном я твердо уверен. Он бы на нашем месте тоже не стал молчать. Гонт и «разбойник Хоб» не оставили нам другого выбора: либо пойти по миру, либо заживо сгнить в тюрьме.
— По миру? — усмехнулся Гольфрид. — Не успеешь моргнуть, как тебя словит констебль.
— Тем более! — Том ударил кулаком по грубо оструганной столешнице. — Ты хоть знаешь, куда идут наши денежки? Один матрос рассказывал, что Бекингэм превратил свои корабли в плавучие бордели. Плевать я хотел на такую войну.
— Лишь бы соседи не подкачали, — думая о своем, откликнулся Гольфрид. — Одним нам, пожалуй, не устоять.
Над бледным, как молочная сыворотка, заливом занимался ранний рассвет. И так тихо, так настороженно было в затаившемся мире, что даже петухи захлебнулись собственным криком.
В четырех милях от Фоббинга брентвудский бейлиф досматривал последние сны. Переев с вечера рыбы, он спал тяжело и беспокойно. Снились ему перегруженные столы, которые наползали на него, загоняя куда-то в угол, сбивали с ног и, угрожающе кренясь, роняли блюда с жареными поросятами, птицей, змеиные кольца жирных колбас, всевозможные паштеты и пирожки. И некуда деться от непрошеного изобилия, и не хватает дыхания, и все теснее сжимается грудь.
Добравшись на четвертые сутки до Фоббинга, бейлиф заподозрил, что опоздал. В деревне остались лишь старики, дети и женщины. Все мужчины ушли в неизвестном направлении. На вопросы жители отвечали уклончиво. Так и не удалось дознаться, куда и зачем направились рыбаки, даже не выделив сторожей для охраны берегов от стремительных датских кнорров.[66] Не оставалось ничего иного, как направить коня в сторону Стенфорда.
Появление кое-как вооруженной толпы приморских голодранцев на улицах Брентвуда застало сэра Томаса врасплох. Уютно устроившись в лучшей комнате просторного бейлифского дома с нависающими один над другим эркерами и дубовыми балками, крестообразно вмурованными в фасад, он спокойно занимался делами. Секретари деловито сверяли списки; бряцая на счетах, выискивали недополученные гроты. Кто бы мог подумать, что злостные неплательщики проявят столь воинственную прыть? И наглость в придачу? Вместо слезливых униженных просьб, к чему Бамптон давным-давно успел притерпеться, пропахшая ворванью чернь посмела обрушиться на него, королевского комиссара, с угрозами.
Сэр Томас был настолько ошарашен доносившейся с улицы бранью, что впервые в жизни растерялся. Да и кто бы был лучше на его месте?
Ревущие толпы запрудили тесную улицу, сомкнувшись вокруг дома в сплошное кольцо. Сверху было хорошо видно, что и на рыночной площади, и возле церкви беснуется все та же взбунтовавшаяся орда. Потрясая допотопными мечами, цеховыми значками и прокопченными от дыма очагов луками, она заполнила город, сжимаясь в клокочущую массу, готовую разнести все в клочки.
— Чего им надо? — с трудом шевеля неповинующимися губами, промямлил Бамптон, оборачиваясь к перепуганной свите. Отшатнувшись от оконца, он захлопнул затянутую промасленной тканью раму. — Кто их собрал?
— Согласно вашему повелению, — пролепетал клерк.
— Но ведь их тысячи и тысячи! Откуда столько народу? Бейлиф отбыл совсем недавно, а они уже здесь… Прилетели, словно на крыльях… Мне, наверное, следует выйти? — Комиссар еще не чувствовал страха, но странная нерешительность уже завладела его волей, проявляясь дрожью голоса и непонятной слабостью в ногах.
Он так и не дождался ответа от своих вылощенных помощников, которые смущенно жались к стенам, натыкаясь на острые углы резных ларей. Кто-то неловко задел плечом полку с оловянной посудой, и на устланный сеном пол с глухим стуком посыпались тарелки и кубки. Жалобно звякнули бубенцы на парчовой перевязи.
— Что ж, я выйду к ним, если это необходимо.
Бамптон облачился в красную мантию, слепо схватил угодливо протянутые свитки и зашаркал по ступеням, винтом сбегающим вниз.
В уши с новой силой ударил еще более грозный, чем прежде, рев. Шериф и констебли с трудом сдерживали натиск расхристанных людей, на шеях которых болтались всевозможные ладанки, амулеты и крестики. В глазах рябило от оскаленных лиц.
Появление королевского комиссара несколько охладило передних. Они приумолкли и даже как бы ослабили натиск. Но общий неразличимый ор нисколько не утих, и над головами все так же угрожающе колыхались цепы и двузубые вилы. Бамптону показалось, что минула вечность, прежде чем начали прорисовываться отдельные голоса. Он повелительно поднял руку, призывая к вниманию, но шум никак не спадал, и снова потянулись напряженные растянутые мгновения. Приходилось, стыдясь собственного бессилия, изображать снисходительность и терпение. Не только зазубренные мечи, но и простые серпы, мелькавшие в такой опасной близости, уже не казались сэру Томасу достойным осмеяния хламом.
Он видел, как дрожали тесно зажатые бунтовщиками констебли, и мало-помалу его потрясенным до основания разумом овладевал смертельный холод. Тело больше не повиновалось приказам заледенелого мозга. Чувствуя, что, невзирая ни на что, не способен пошевелиться, комиссар неподвижно замер с воздетой дланью.
Может быть, со стороны и казалось, что он терпеливо ждет, когда ему позволят открыть рот. Краем сознания, где еще теплилась жизнь, Бамптон понимал, что в сложившейся ситуации слова бесполезны. Основное он уяснил едва ли не сразу: они не будут платить. Из отдельных выкриков, грозного рева и, главное, возбуждения, соединявшего в единое существо эту беснующуюся ораву, сложилось абсолютное, почти противоестественное понимание, которое не нуждалось в языке и поясняющих жестах.
То, что эти люди не желают отдать свои деньги, удивления не вызывало. Страшно было другое. Они не пытались объясниться, не молили, как везде, о снисхождении либо отсрочке, выталкивая вперед золотушных детей с недетскими, изъеденными трахомой глазами. Они явились сюда не просить, но требовать, хотя смысл их претензий так и остался непонятным для королевского комиссара.
Выбрав из множества лиц одно, сэр Томас воззрился на высокого бородача в синей безрукавке, надетой поверх желтой котты, и в кожаных брэ[67] на тоненьком пояске. Этот не размахивал мечом, крестообразная рукоятка которого выглядывала из глубокого выреза, не горлопанил, как другие, а лишь стоял, слегка возвышаясь над прочими, словно выжидал подходящей минуты.
— Кто вы такие? — обращаясь прямо к нему, выкрикнул Бамптон, когда приутихли волны, раскачивающие мора людское.
— Жители Фоббинга, — молниеносно откликнулся бородач, будто только и дожидался вопроса. Раздвинув толпу, он протиснулся в передний ряд.
— Насколько я понял, вы отказываетесь платить поголовный налог? — Сэр Томас старательно продемонстрировал участие и даже попытался улыбнуться.
— Не только отказываемся, но и вообще не желаем иметь с тобой дела, — спокойно объяснил бородатый. — Мы расплатились с короной сполна. Так и передай королевскому казначею, сэр. И поголовный налог давным-давно уплатили. Потом с нас еще взыскали по гроту, и мы безропотно отдали деньги в казну. Казалось бы, все, баста, но не прошло и года, а вы требуете уже в троекратном размере. На каком основании?
— Похоже, ты человек здравомыслящий и, верно, уполномочен выступать от лица всей общины?.. Как тебя зовут?
— Я Томас, хлебопек, назначенный субколлектором. То, что ты слышал, наше общее решение.
— И такие речи ведет сборщик налогов! Это неслыханно, хлебопек Томас… Ты хоть понимаешь, что я обязан арестовать тебя и под стражей препроводить в тюрьму? — Бамптон сердцем услышал мгновенно установившуюся тишину, успев подумать, что это вряд ли к добру, и пожалел о недвусмысленно высказанной угрозе. Долг долгом, но реальной возможности привести ее в действие не было.
— А ты попробуй, достопочтенный сэр, — рядом с Томасом вдруг оказался худой длинноносый моряк с китовым гарпуном. — Боюсь, что тебе сначала придется связать каждого из нас. Только едва ли мы, фоббингцы, такое позволим, — он угрожающе наклонил трехгранный наконечник, нацелив его прямо в грудь комиссару.
— Мы, стенфордцы, тоже! — толпа вновь забурлила. — И мы, жители Коринхема!.. И все побережье!..
— Именем короля я приказываю вам арестовать этого человека! — почти помимо воли выкрикнул Бамптон и указал на Томаса Бекера. Отыскав взглядом прячущихся за чужие спины констеблей, он попятился к двери.
Ответом был возмущенный вопль, издевательские свистки и совершенно глумливый хохот. И сразу же со всех сторон полетели камни. Раненный в голову и дважды в плечо, комиссар закрылся руками и нырнул под защиту свиты. Королевская комиссия едва успела укрыться за стенами дома. Прислушиваясь к ударам, сотрясавшим его до самого основания, перепуганные клерки, яростно отталкивая друг друга, кинулись к погребу. Оставшись в одиночестве, сэр Томас отер кровоточащую царапину и затравленно огляделся. Дубовая дверь трещала под натиском преследователей.
Внезапно, как по команде, все стихло: крики, угрозы, каменный град. Только глухой рокот людского прибоя еще долетал снаружи. Словно преследующее дыхание неумолимой стихии, которая вышла из берегов.
Потом раздался требовательный стук в дверь.
— Уезжай, пока не поздно, достопочтенный сэр! — отчетливо прозвучал чей-то голос. — Лучше прямо сейчас, если не хочешь, чтобы тебя посадили лицом к хвосту…
Близился к концу последний день мая.
Глава одиннадцатая Олдермены
Красильщик, плотник, шапочник и ткач, Обойщик с ними — не пускались вскачь, Но с важностью, с сознанием богатства, В одежде пышной цехового братства Могучего, молясь все время богу, Особняком держались всю дорогу. Сукно добротное, ножи в оправе — Не медной, а серебряной. Кто равен Богатством, мудростью таким мужам Совета и почтенным старшинам, Привыкнувшим к труду, довольству, холе? Они не тщетно заседать в Гилдхолле Надеялись — порукой был доход, Заслуги, возраст, честность и почет. И жены помогали в том мужьям, Чтоб величали их самих «мадам», Давали в церкви место повидней И разрешали шлейф носить длинней. Джеффри Чосер. Кентерберийские рассказыОтзвонили колокола в церкви Беркинг, у Мартина Великого и святого Лаврентия. В кабаках и пивных по обоим берегам Малой реки, пересекающей шумную Флит-стрит, гасили фонари, запирали двери и ставни. Матросы и мелкий торговый люд возвращались на свои барки. По темным улочкам и закоулкам разбредались подмастерья, бродяги и прочие подозрительные личности, которым встреча с ночной стражей не сулила добра.
Страшен вечерний город, погруженный в наползающий с Темзы туман. Еще смутно прорисовывается громада Вестминстера и древний Тауэр с остроконечными башнями, где на ясеневых древках раскачиваются расклеванные вороньем останки казненных. Растворяясь в багровой мгле, догорающими угольями еще перемигиваются Чипсайд и Корнхилл, Грэсчерч и Темзстрит. Не успеет закрыться последняя таверна в порту, и они потонут в испарениях преисподней, словно блуждающие болотные огоньки.
Как и прочие отцы города, оптовый торговец рыбой Джон Хорн заканчивал наполненный многотрудными усилиями день. Первый день лета, ничем особенным неотличимый от прочих, что пролетели в заботах и хлопотах.
С утра он обошел лавки на всех двадцати арках каменного моста. Здесь тон задавали мясники, торговцы домашней птицей и собратья-рыбники. Хорн благополучно миновал лотки, где всеми цветами радуги горели дары морей и рек. В дубовых чанах плавали лососи и щуки, в проволочных садках извивались угри. Обложенные колотым льдом, громоздились стальные тунцы, ивовые корзины были полны камбалой и треской, в бочках с рассолом мокла жирная сельдь. Здесь же продавались красные, как кардинальская мантия, морские раки, перламутровые лобстеры, остендские устрицы и мидии из Бретани. Олдермен жадно втянул неповторимый запах морской соли и водорослей. Закончив инспекцию, он придирчиво измерил новые вывески, которые, дабы не затруднять верховых, должны были отстоять не ниже девяти футов от земли, собственноручно проконтролировал винную посуду, меру и вес, не поленился вскарабкаться к шесту над входом в таверну «Чертополох». Глазомер не подвел советника. Шест оказался на шесть дюймов длиннее, чем следует. Затем Хорн побывал у рыбаков и строго напомнил им, что ячейки в сетях должны быть не менее двух дюймов, а бредни, садки и крючья категорически запрещены.
Отобедав в харчевне «Золотой фазан» на Лиденхелл-стрит, он наведался к тамошним пекарям, о чьих махинациях уже давно ходила дурная слава. В который раз Хорну пришлось убедиться в том, что нет дыма без огня. Легкий хлеб, в просторечии именуемый «пуфом», не соответствовал ассизам, разнясь по закваске и весу от обычного. Легче положенного оказался и господень хлеб с изображением спасителя. Убедившись в недобросовестности пекарей, Хорн проигнорировал прозрачный намек насчет благодарности и наложил штраф в полтора фунта.
Вечерние сумерки застали его уже в пивоварнях Сити. Здесь, как и повсюду в Англии, эль варили исключительно женщины. На их счастье, вкус напитка, его густота и цвет вполне удовлетворили придирчивого советника. В противном случае пивоваркам, которых уже не раз штрафовали, грозил позорный столб у Вестчепа. А что может быть хуже для женщины, чем очутиться в окружении вечно пьяной вестчепской черни?
Джон Хорн, чья личная честность и беспристрастность не вызывали сомнений, был не столь уж свободен в своих действиях, как это могло показаться со стороны. Ассизы ассизами, но приходилось считаться с интересами влиятельных партий, расколовших Гилдхолл[68] на два враждебных лагеря.
Рыбники, мясники, бакалейщики и виноторговцы, богатевшие со сказочной быстротой, заняли наиболее важные посты в магистрате. Самые влиятельные все смелее пускали корни в наиболее прибыльных отраслях: в шерстяном импорте, в виноторговле, в оловянном экспорте, от которого во многом зависело благосостояние страны. Они постоянно вздували цены, чинили всяческие препятствия иностранным купцам. Когда королевский маршал в Саусуарке[69] разрешил, в обход монополии, ввоз рыбы, на него скопом ополчились все торговцы съестными товарами.
Зато суконщики, которых на первых порах поддерживал мелкий ремесленный люд, яростно боролись за свободу торговли и вольные цены. Симпатии бедняков были целиком на их стороне. Примкнув к главной партии знати, возглавляемой Гонтом, они в конце концов выступили с требованием реформировать городской совет. Был брошен заманчивый клич: «Цехи, а не кварталы!» Вожди гильдий, которым не терпелось надеть олдерменское ожерелье, тут же пошли за сукноделами.
Джон Хорн был достаточно проницателен. За внешней простотой полярного противостояния ему виделось неисчислимое множество противоречивых течений. Обе партии были по-своему уязвимы.
Мелкие ремесленники и подмастерья, которым был заказан путь в мастера, вполне справедливо видели в цеховых старшинах безжалостных угнетателей. Не способствовал популярности и такой маневр суконщиков, как приглашение фландрских ткачей. Непрошеная конкуренция подстегнула извечную неприязнь к иностранцам. Честя заодно с фламандцами ломбардских банкиров, лондонские ткачи откололись от сукноделов и примкнули к рыбникам. Союз с ненавистным Гонтом тоже не принес суконщикам славы.
В какой-то момент, не слишком того желая, оба лагеря как бы поменялись местами. Оттягав у соперников переменчивое сердце толпы, вожди продовольственной монополии незаметно утратили влияние в городском совете. Суконщики же хотя и потеряли поддержку черни, зато пролезли в верхи. Не вмешайся Гонт, они бы дорвались до полной власти в городе. Только не таков был Ланкастер, чтобы подложить все яйца под одну курицу. Осторожно поддержав гильдию рыбников и в первую очередь мэра, он одним махом обрел новых союзников, не потеряв прежних, которым уже некуда было деться.
Гонт, кроме всего, рвался заполучить кастильскую корону, а экспортеры шерсти, представлявшие теперь продовольственную монополию, противились планам испанского похода. Их куда больше устраивало новое вторжение во Францию со стороны Фландрии, поскольку только таким путем можно держать в руках нидерландские склады. Не зная всех нюансов этой хитрой механики, легко было угодить впросак. Нажмешь в одном месте, а отзовется совсем в другом, причем самым неожиданным образом и очень болезненно.
Джон Хорн на своей шкуре изведал, чем может обернуться излишняя скрупулезность по части хлебных, рыбных и прочих ассизов. Если уж действовать, то только наверняка. Поэтому к Олдгейту, где торговали мясом и домашней птицей, он даже не завернул. Разумную осторожность проявил он и в отношении противного стана, обойдя стороной портовые склады, где в поте лица трудился Джеффри Чосер, клиент Джона Гонта. Сам всемогущий герцог не внушал особых опасений. От дворца Савой до скромного советника было куда как далеко. Зато напрямую столкнуться с мэром Уолуорсом никак не улыбалось. К этому мерзкому выскочке, невзирая на его принадлежность к верхушке рыбников, Джон Хорн питал особо жгучую ненависть. Не гнушаясь самыми грязными спекуляциями, Уолуорс нажил солидный капитал на лупанариях в Саусуарке. Торговля живым товаром принесла настолько густой навар, что он поспешил открыть заведения по всему Лондону. Сидя с ним за одним столом, Хорн всякий раз ловил себя на соблазне демонстративно зажать нос, что было, конечно, немыслимо. Приходилось крепиться.
С такими примерно мыслями возвращался советник в район моста, где жил в двухэтажном кирпичном доме, построенном, согласно специальной привилегии, на месте одноэтажного деревянного. Здесь его и перехватили Уолтер Сайбил и Уильям Тонг.
— Прибыл гонец с побережья, — оглядевшись по сторонам, прошептал Тонг. — Заварилась хорошая каша.
Хорн приложил палец к губам, сделав знак обождать. Сняв с пояса ключи, он осторожно отомкнул дверь и скрылся во мраке подворотни. Затем вернулся с масляной лампой и поманил друзей за собой.
Совещание состоялось не в доме — там уже спали, а в каморке при лавке, где нашелся всего лишь один табурет. На нем и устроился грузный Сайбил. Тонг, как самый младший, присел на окованный железом сундук, а хозяин остался стоять возле своей конторки, куда и водрузил светильник.
Выслушав пространный рассказ о событиях в Брентвуде, Хорн долго не раскрывал рта и лишь рассеянно следил, как скользят по стенам и потолку густые тени.
— Что ж, когда-то это должно было случиться, — глубокомысленно изрек он, скрестив на груди руки. — Чуть раньше, чуть позже, какая разница?.. Скорее позже, чем раньше.
— Неужели ты не понимаешь, что сейчас самое время? — вспыхнул подвижный, юркий как угорь Тонг. — Армия завязла на континенте, Гонт вместе со всей свитой засел в Ланкастере. Я не вижу силы, способной подавить восстание. Их уже тридцать тысяч, и они разослали своих людей по всему Эссексу.
— Кентцев не забыли оповестить? — Хорн ловко снял нагар с фитиля и приложил пальцы к мочке.
— Думаю, это выйдет само собой. — Сайбил внушительно прочистил голос. — Эссекс есть Эссекс. Недаром говорят, что канат лопается в самом тонком месте.
— Я завтра поговорю со своими, — предложил Тонг. — И к мясникам заверну. У них крепкие связи с Кентом. Особенно в Рочестере.
— A y нас в Кентербери, — подсказал Хорн.
— Послать, конечно, можно, — согласился Сайбил, — хотя я уверен, что все и без нас устроится. Вы же знаете парней с побережья.
— Главное — это дать им понять, что лондонцы, в случае чего, поддержат. — Тонг соскочил с ларя и заметался по комнате. — Раз начали, нужно стоять до конца. Если они хорошенько пугнут дворцовую шайку, всем полегчает. Гонту будет не до Кастилии и Леона.
— Молодцы эти фоббингцы, — Хорн согласно опустил веки. — Но я бы пока не стал вмешиваться, обождал. Поглядим, как будут развиваться события. Если мясники захотят, то пусть их…
— Мудро, — одобрил Сайбил. — И вообще не мешает проверить. Вдруг их не тридцать тысяч, а только десять или же пять? Откуда сразу такая сила взялась?
— Ты сам слышал, что рассказывал человек из Брентвуда?
— Слышать-то я слышал, да не всякому слуху можно доверять. Я и про Джона Правдивого слышал, и про Джека Возчика, и про «Большое общество»… Только где они все, я вас спрашиваю? Не пора ли дать знать о себе?
— Джон Болл, мне точно говорили, в тюрьме, — сообщил Хорн.
— Вот видите! — поежился Сайбил. — Лучше не торопиться. Но к мясникам ты, само собой, загляни, — кивнул он Тонгу.
— А хорошо бы! — мечтательно вздохнул молодой Тонг. — Ведь стоит только начать, а там покатится, как снежный ком. Лондон давно кипит… Нет, нет, братья, мы себя еще покажем!.. У правительства просто не хватит сил. Что там ни говори, а французы крепко пощипали Бекингэма. И шотландцы не дремлют. Думаете, Гонт просто так перебрался поближе к Твиду? Для собственного удовольствия? Как бы не так! Чует вепрь, что пахнет паленым. Договориться спешит.
— Не понимаю, чему ты радуешься? Хочешь, чтобы мы окончательно потеряли Гасконь? И все надежды на Фландрию? — Сайбил негодующе фыркнул. — Сбить спесь с баронской своры очень даже не мешает, но Англия должна оставаться Англией. Нам бы чуточку побольше воли, и мы завалим зерном и шерстью весь мир. Тогда и посмотрим, кто настоящий хозяин. В конечном счете приказывает тот, у кого больше золота в кошельке. Помяните мое слово, скоро нашему королю понадобятся советники поумнее.
— Но надо же что-то делать? — Тонг никак не хотел успокоиться. — Сколько было говорено? И вот теперь, когда это наконец случилось…
— Случилось, и слава богу. Поглядим, во что оно выльется. Да пойми ты, упрямец, что как бы ни обернулось дело, мы внакладе не останемся.
— Верно, — поддержал старейшину Хорн. — Независимости лондонского совета давно завидуют на континенте. Тот же ганзейский Любек или Нюрнберг, к примеру, да и имперские города… Им и не снились наши привилегии. Не канцлер и даже не гильдии, а мы регулируем промыслы и ремесла. Или взять армию. Мы, и только мы, выделяем помещения для зимних квартир. Попробуй кто-нибудь выгнать из города королевскую конницу! А мы это сделали, не убоявшись покойного короля. И суд оправдал нашего шерифа. Так что достопочтенный Уолтер прав, нам действительно есть что терять. Но, с другой стороны, — эффектным ораторским жестом он обратился к Тонгу, — я не могу не согласиться и с твоими доводами, Уильям. На побережье действительно заварилась знатная каша, и будет очень жаль, если эссексцы дадут слабину. Я от всей души желаю им полного успеха.
— Я тоже! — воскликнул Сайбил. — Но если к ним присоединятся и другие общины, чтобы всем вместе заявить о своих правах, Гонту, канцлеру и казначею конец. Страна обретет долгожданную свободу, объединившись вокруг молодого, прекрасного короля.
— Дай-то бог! — Хорн осенил себя крестным знамением. — С ним мы уж как-нибудь договоримся. Разве дело в трех гротах? Мы можем дать и больше. Но, разоряя непосильными налогами страну, наших в конечном итоге покупателей, правительство грабит нас с вами.
— А пока следует выждать, — категорически заявил Сайбил. — Я ничуть не сомневался, достопочтенный Джон, что встречу в твоем лице полное понимание и поддержку. Мне приятно сознавать, что в главном мы, все трое, едины и желаем славным эссексцам полной победы.
— Ce sera admirable,[70] — пробормотал по-французски Джон Хорн, тяготевший в душе к аристократическим выкрутасам.
Глава двенадцатая «Королевский изменник»
Имел патент он на свои права
И ширилась о нем в судах молва.
Наследство от казны он ограждал,
В руках семьи именье сохранял
Клиенты с «мантией»[71] к нему стекались,
Его богатства быстро умножались,
Не видел свет стяжателя такого,
И все ж о нем не слышали дурного.
Ведь сколько б взяток ни дал виноватый —
Он оправдать умел любую плату
Работник ревностный пред светом целым —
Не столько был им, сколько слыть умел им.
Джеффри Чосер. Кентерберийские рассказыОбщий упадок и вырождение, которыми были отмечены последние годы правления покойного короля, самым пагубным образом сказались и на судьбах флота. Нареченный придворными льстецами «властителем моря», Эдуард в кратчайший срок разрушил все то, что создавалось десятилетиями. Слава, добытая кровью английских моряков, почти целиком уничтоживших французскую эскадру в битве при Слюи, а затем крепко потрепавших испанцев, оказалась столь же непрочной, как и обветшалые лавры сухопутных побед. Ни здесь, ни там успех не был закреплен. Зато, наученные горьким уроком, французы не теряли времени даром. Продолжая теснить неприятеля на побережье, они построили новые корабли, оснастили их по последнему слову морской науки и вооружили поворотными пушками. Вскоре английские порты стали настолько уязвимы, что Эдуард ударился в панику. Прослышав, что французы вновь замечены в Ла-Манше, он отдал позорнейший в истории Англии приказ вытащить флот на берег, дабы его не сожгли или тем паче не захватили пираты. Пока суда волокли по скачущим бревнам все дальше от моря, враг безнаказанно разорял портовые города. Набеги следовали с регулярностью сезонных ветров. Страх перед тем, что рано или поздно французы окончательно завоюют остров, обратился чуть ли не в наследственную манию.
При юном Ричарде оскудение флота, которым продолжали постыдно пренебрегать, усилилось до последних пределов. Дисциплина упала настолько, что не представлялось возможным вести какие бы то ни было боевые действия. Томас Бекингэм дошел до того, что атаковал лорда Фиц-Уолтера, с которым должен был действовать против французов в Бресте. Строптивых военачальников, погубивших добрую половину эскадры, чуть ли не силой принудили к примирению. Но, пока длились переговоры, взбунтовались матросы.
Своеволие, буйство воистину не знали границ. Когда корабли Джона Арондел а застиг вдали от берега шторм, доблестный граф, ничтоже сумняшеся, приказал вместе с балластом сбросить в море и находившихся на борту женщин. Всех до единой, независимо от того, следовали ли они за рыцарями по доброй воле или были увезены насильно. В адмиралтействе потом долго смаковали подробности маневра, проведенного «находчивым» флотоводцем. Не прошло, однако, и нескольких месяцев, как успевшие оправиться испанцы под самым носом графа беспрепятственно вошли в устье Темзы и дотла спалили Гревзенд. Чудом сбереженные от бури суда мирно дремали в это время на портсмутском рейде. И вновь не было сделано должных выводов, и, как всегда, остались безнаказанными подлинные виновники катастрофы.
Правительство, упрямо полагавшееся на прочность цепей, замыкавших гавани, куда более волновала возня с церковными бенефициями, соперничество партий и не в последнюю очередь туго поступавший в казну налог.
Адмиральский суд, правда, провел формальное разбирательство по делу об испанском рейде, но никаких карательных мер не последовало. Лишь одного несчастного присяжного, который за кружкой эля в таверне поделился праведным возмущением, подвергли экзекуции. Обвиненный в том, что «открыл совет короля», «совет своих товарищей присяжных», он был предан палачу, который рассек ему глотку и вырезал под самый корень язык.
Только кастильские притязания вездесущего Гонта, готового своротить горы ради своих честолюбивых прихотей, принудили канцлера заняться насущными нуждами флота. С крайней неохотой приступил Симон Седбери к изучению доклада, представленного верховным адмиралом. Одолев длинный список поставки судов (от Фовея ожидалось сорок семь, от Ярмута — сорок три, от Дортмута — тридцать одно, от Плимута, Лондона и Бристоля — по двадцати пяти), канцлер благополучно переключился на выкладки по части артиллерии. От чтения бесконечного перечня пушек — больших и малых, ручных, железных, бронзовых, медных — клонило в сон. Не было никакой возможности разобраться в устройстве зарядных камер и бесконечных столбцах, суммирующих фунты пороха, селитры и серы. Зануда адмирал скрупулезно перечислил каждую латунную форму, каждую ложку для отливки пуль, не оставив без внимания даже блюда для сушки пороха, кожаные мешки для его хранения, весы, пестики, ступки, бочонки, горшки. И под каждой статьей красовался итог, который приходилось принимать на веру. Сотни, тысячи фунтов пороха, именовавшегося в докладе «крейксом», равно как и потребные для расплава свинцовых чушек дрова, выливались в золотые полновесные нобли.
В самостоятельный раздел были выделены расходы по фрахту. Канцлер не вчера народился на свет и не хуже других знал о том, что судовладельцы неуклонно вздувают расценки. Если еще десять лет назад транспорт из Дувра в Кале на тридцати девяти кораблях обходился в двести фунтов стерлингов, то ныне провоз такого же по численности отряда в пятьсот солдат и тысячу двести лошадей обещал потянуть в полтора раза дороже.
Не было таких денег в казне ни на пушки, ни на суда. Попытка удержать цены на прежнем уровне (два шиллинга с всадника и шесть пенсов с пехотинца) лопнула еще в прошлом царствовании. Все вокруг дорожало: шерсть, зерно, рабочие руки. Глупо было бы ожидать, что судовладельцы станут действовать себе в убыток. Тем более что на одних и тех же кораблях перевозили и армию, и товар.
Вялая, прерываемая сонным забытьем мысль, совершив полный круг, вернулась к исходным началам: деньги, налог. Вновь пререкаться по этому поводу с казначеем не имело смысла. Седбери заранее знал все, что скажет или только подумает скользкий госпитальер.
Отчет Томаса Бамптона о событиях в городке Брентвуд, доставленный придворным скороходом, пал, таким образом, на вполне подготовленную почву. Из велеречивых излияний по поводу имевшего место столкновения канцлер твердо усвоил две истины: «эти», как он привык называть народ, не платят, а комиссар просто-напросто струсил. Нечего сказать, достойных людишек подбирает себе в помощники лорд-казначей! Солсбери был полностью прав, выступая на Королевском совете. Государственный механизм определенно разладился. При таком отношении к приказам свыше не то что на армию, на собственную канцелярию скоро денег не наскребешь.
Симон Седбери с отвращением задвинул адмиралтейские бумаги в самый дальний угол. Наконец-то можно было выбросить из головы эти дурацкие пятикамерные орудия. Словно без них Англия не просуществует и года. Сразу почувствовав облегчение, канцлер велел послать за главным судьей Белкнапом.
— Необходимо восстановить порядок и закон, — дал он твердый наказ, коротко обрисовав ситуацию. — Дело, на мой взгляд, довольно обыденное, сэр Роберт. Ну придется, конечно, для острастки вздернуть зачинщиков… Одного, двоих — это уж как получится. Главное, чтобы смутьяны утихомирились и поскорее погасили задолженность.
Роберт Белкнап послушно откланялся и, сопровождаемый чиновниками и отрядом алебардистов, без промедления выступил по большой дороге на Уолсингем, берущей начало от восточных ворот Сити. Поход обещал быть коротким и не слишком обременительным. Алебардистов эскортировала довольно хорошенькая маркитантка, а молодые люди, уже побывавшие в Брентвуде с комиссаром, на все лады высмеивали мужланов с побережья. Выходило очень смешно.
Второго июня, то есть уже на следующий день, воины под барабанную дробь и заунывный вой волынок вступили в мятежный город. У придорожного распятия их встретила стая гогочущих гусей, которых пас малолетний оборвыш. Главный судья Общей скамьи, ожидавший увидеть растревоженный улей, был приятно разочарован. Городок выглядел до тошноты тихим, почти вымершим. И он сам, и все в нем казалось настолько обыденным, заурядным, что зевота сводила скулы. Церквушка нормандских времен, покосившийся столб со святым покровителем, глинобитные дома, изукрашенные пересечением балок, да сонные улочки, сходившиеся к площади, где в пыли и соломе возились беспризорные свиньи. Вот и весь Брентвуд. Не верилось, что тут могли разыграться такие страсти. Но клерки подтвердили: да, на этом самом месте.
— Дикари, — покачал головой судья, переключив внимание на свиней. — Нет на них нашего славного мэра! — он невольно улыбнулся. — Только б они и видели своих чушек…
И в самом деле. Согласно закону, первый встречный мог подстрелить и оставить в свою пользу гуляющее без присмотра животное. Несмотря на то что владельцу предоставлялось преимущественное право откупа за четыре шиллинга, эта разумная мера живо очистила лондонские улицы. По крайней мере от свиней, беспристрастно отметил судья, потому что кучи навоза и гниющих отбросов остались в первозданной целости.
Решив действовать с разумной осмотрительностью, сэр Роберт занял пустующее помещение общинного совета, расставил посты и послал за присяжными, чтобы, не привлекая внимания, выявить зачинщиков смуты. Дабы усыпить бдительность обывателей, он скрыл истинную причину своего прибытия под благовидным предлогом разбора тяжб. Точнее — проверки решений, вынесенных по ним коронным судьей.
Таких дел оказалось всего два. По первому к суду привлекался некий Уилфрид Смит, отказавшийся от работы в маноре рыцаря Роджера де Буи. В свое оправдание ответчик заявил, что он держит землю от лондонского епископа. Коронный судья отвел возражение на том основании, что Смит является держателем всего лишь шести акров, за которые полагается отработка шести повинностей, а это нельзя посчитать достаточным занятием. По мнению судьи, краткосрочная работа на неделю, от силы на две, не давала права считаться работающим. На это юристы со стороны ответчика выдвинули веский довод о разновременности отработок, которые могут растянуться на целый год. Ведь ответчик обязан исполнять повинности не в какой-либо определенный срок, а лишь тогда, когда это угодно его сеньору. Поступив в рабочие к истцу, он тем самым неизбежно ущемит интересы своего землевладетеля. Ссылаясь на ничтожность отработного ценза, коронный судья отстаивал свое толкование. В поведении ответчика он усмотрел попытку увильнуть от настоящей работы и потребовал вынести соответствующее решение.
«С точки зрения сеньориального права судья совершил ошибку, — констатировал сэр Роберт. — «Статут о рабочих» издан для пользы сеньоров, дабы они не ощущали недостатка в слугах. Ради обеспечения необходимых служб владелец манора сдает часть своей земли, и если арендатор исполняет все требуемые службы, то он вполне занят и не подлежит принудительному трудоустройству. Однако закон должен быть выше любых интересов, в том числа и феодальных. При всем желании мне не в чем упрекнуть коллегу. Вопреки букве он следует духу закона».
Другая тяжба имела быть между брентвудским приходским священником и Джоном эт Ли. Священник предъявил капеллану иск после того, как тот в нарушение заключенного договора оставил, причем без достаточных оснований, место. Ответчик возразил, что вовсе не нанимался служить капелланом и сенешалем одновременно. Более того, он настаивал на безусловном праве единолично распоряжаться своей судьбой. «Я не работник и не ремесленник, которых одних имеет в виду статут. Но слуга божий, стоящий на совершенно иной ступени, — заявил он. — Работники, если они сильны и здоровы, могут трудиться ежедневно, я же, отдавая отчет лишь одному богу и собственной совести, сам решаю, когда следует петь службу. Если душа неспокойна, то капеллан не только смеет, но и обязан сделать перерыв. На день, на неделю, на месяц. Он может вообще покинуть приход и отправиться на поиски истины». — «Какой такой истины? — возражал истец, — В отличие от капеллана, у приходского священника гораздо больше обязанностей перед господом и паствой. Кроме пения он должен служить мессу и отправлять таинства. Со всем этим настоятель прихода никак не способен управиться в одиночку. Для того-то он и нанимает себе в помощники капелланов. Чем же отличаются эти наемные служители от обычных работников? Ничем! Следовательно, они полностью подпадают под рабочий статут».
Сэр Роберт не без удовольствия ознакомился и с этим, весьма необычным, делом, в котором зорко разглядел зерно далеко идущего юридического прецедента. По счастью, у прямолинейного и, надо полагать, достаточно жесткого судьи хватило ума решить дело в пользу ответчика. «Конечно же, «Статут о рабочих» не имеет в виду капелланов, — целиком и полностью согласился Роберт Белкнап. — Можно лишь сожалеть, что находятся люди, готовые довести до абсурда даже самый разумный закон. Внешне они как будто бы со всей рьяностью встают на защиту власти от малейших посягательств, но на поверку их кипучая деятельность сеет в народе ярость и возмущение».
За привычными хитросплетениями юриспруденции незаметно отступила на задний план главная и единственная забота, принудившая сэра Роберта нагрянуть в эссексское захолустье. И только приход встревоженных присяжных вернул его к рутинным обязанностям. Почтенные горожане вели себя далеко не одинаково. Одни на вопрос о закоперщиках притворились абсолютно несведущими и хранили настороженное молчание, другие, напротив, с величайшей охотой дали необходимые показания. Искусно построив перекрестный допрос, судья Белкнап довольно скоро сумел восстановить истинную картину. Нужные имена возникали как бы сами собой, в ходе доверительных разговоров, где заковыристые ловушки перемежались лестью и недвусмысленными угрозами. Каждое слово немедленно заносилось в протокол. Клерки, не поднимая головы, скрипели перьями.
Выяснилось, например, что в беспорядках приняли участие не одни брентвудцы, но и обитатели других общин, расположенных в достаточном отдалении от города, преимущественно на побережье. Согласованность и одновременность выступления невольно заставляли предполагать предварительный сговор. Присяжные и представители местной власти почувствовали себя неуютно. Кто бледнел и трясся от ужаса, кто, напротив, багровел, истекая потом, но большинство с поразившим Белкнапа безразличием смирилось с судьбой. Выложив все, что знали, эти примитивно организованные создания тут же успокоились, словно вообще не сознавали нависшей над ними угрозы. Над всеми вместе и каждым в отдельности, ибо любой неплательщик мог быть объявлен бунтовщиком.
Теперь лишь от него, главного судьи, зависел роковой выбор. Но разве он господь бог, чтобы решать, кому жить, а кому болтаться на виселице? Когда виновны многие, чуть ли не все, не столь уж существенно, кто именно угодит в петлю. Важен пример. По опыту Белкнап знал, что казнь заведомого преступника производит куда меньшее впечатление, чем необъяснимое в глазах толпы осуждение случайно подвернувшегося под руку бедолаги. Каждый невольно соизмеряет с ним себя, единственного, постигая ошарашивающую бессмысленность случая. «И я, и я, — шепчут с запоздалым раскаянием губы, — мог оказаться на его месте». Бегло проглядев списки, Белкнап отметил крестиком несколько первых попавшихся имен.
— Где сейчас эти люди? — спросил он с нарочитым безразличием.
— Не знаю, ваша честь, — захлопал глазами перепуганный мэр и покосился на бейлифа.
— Немедленно разыскать и доставить под конвоем, — судья не отказал себе в пренебрежительной ухмылке. — Допрос покажет, кому завтра висеть на столбе.
И давно позабытое ощущение собственной избранности обдало душу холодным щекочущим ветерком, и власть, воплощенная в примелькавшемся багрянце одежды, предстала перед внутренним оком радужной лестницей, уходящей за облака. Захотелось досягнуть до самых отдаленных ступеней. Но и измерить самую темную бездну.
Верно, верно, шептали бормотуны, что одинаково ничтожны люди — ив смирении, и в гордыне. Никому не дано знать своей участи — ни жертве, ни палачу.
Прежде чем измученные присяжные получили свободу, опустевший, палимый полуденным зноем город начал с непостижимой быстротой наполняться народом. Из каких-то укромных нор опять повыныривали подмастерья с дубинками. И угрюмые коттеры,[72] и дюжие рыбаки, которые вроде бы сразу после разгона комиссии покинули Брентвуд, тоже вновь очутились на улице.
Пока упоенный судья предавался возвышенным мечтам, они преспокойно переловили злополучных присяжных и в свой черед подвергли их пристрастному допросу. Разумеется, на собственный лад, без крючкотворства, сладких посул и запугивания. Напирающая со всех сторон толпа и суровые лица сограждан и без того оказали должное воздействие. В грозовой атмосфере всеобщего нетерпения и лихорадочной спешки языки развязывались словно помимо воли. И откуда ей было взяться, воле, среди истерических выкриков, плача и торопливого бреда? Не за что было задержаться мыслью. Обвинительный возглас откликался либо негодующим выкриком, либо мольбой. Кто управлял этим стихийным судом, кто следил за соблюдением хотя бы минимальной процедуры? Пожалуй, никто. Суд вершился по иным, недоступным человеческому разумению законам, словно божье испытание водой либо каленым железом. Пучина гнева людского, пылающее горнило его сродни стихиям мироздания. Тут и огонь, который испепеляет, и вода, готовая сомкнуться над головой. Отделив козлищ от агнцев, доносчиков поволокли в какой-то подвал, а остальных отпустили. Опаленные молнией, очищенные грозой, они влились в общий поток, который, накопив необходимый напор, выкатился на базарную площадь.
И как прежде комиссар Бамптон, сэр Роберт, не успев опомниться от изумления, оказался лицом к лицу с разъяренными дикарями, с «этими», которые не желают платить. Театральное представление продолжалось. Он сам, его клерки, побросавшие перья, равно как и пятившиеся под натиском солдаты с алебардами, — все они уподобились куклам, которых дергала за ниточки неведомая рука, принуждая корчиться и плясать. До мелочей повторялась уже сыгранная однажды сцена. Не хватало лишь зрителей, которые могли бы это заметить. Все были участниками, осажденные и нападающие, всех кружило в воронке текущего мига. Оцепенев от ужаса, начисто потеряв память, злосчастные писцы без малейшего сопротивления были вынесены на площадь.
Белкнап еще пытался образумить толпу, взывал к рассудку и требовал тишины, но только сорвал голос в бесплодных потугах. Его не слушали, да и он не особенно прислушивался к орущим в самое ухо глоткам, неотчетливо сознавая, что с ним происходит нечто настолько ужасное, чему и названия нет. Он не заметил, как вслед за клерками очутился на площади, да еще с книгой в руках. Все далее оттесняемый от помощников и охраны, сэр Роберт безуспешно пытался собраться с мыслями. Судя по искаженным лицам и угрожающим жестам, от него чего-то требовали, но заторможенное сознание не позволяло сосредоточиться, а глаза не могли оторваться от несчастных юношей, плывущих поверх толпы. С болезненной четкостью прорисовывались сквозь весь этот ужас и бред их восковые, маскам подобные лица. Остальное было словно бы смазано или прикрыто вуалью.
Положение клерков и в самом деле было незавидное. Распознав в них тех самых унизанных бубенцами франтов, что были здесь в прошлый раз, горожане почувствовали себя глубоко оскорбленными. «Разбойник Хоб» совершенно не желал с ними считаться. Что ж, тем хуже для него и этих разряженных вертопрахов. Если предупреждение не подействовало, пусть теперь не обижаются.
Казнь совершилась на пустыре, где уже дожидались связанные одной веревкой доносчики. Едва ли это было единодушным решением. Из-за общего столпотворения никто толком не ведал, что творится даже в непосредственной близости.
Когда же рядом с хоругвями и знаменами закачались насаженные на копья головы, площадь огласилась коротким леденящим кровь визгом и тут же умолкла, словно завороженная безмятежным покоем неба. Солнце стояло еще высоко над крышами, и короткими были тени вознесенных древков.
Сэр Роберт ощутил, как у него лопнули в ушах какие-то пробки, и услышал густую, напряженную тишину. Обратив наконец внимание на книгу в руках и распознав Священное писание, он сразу же догадался, чего добивались от него вдохновители бунта.
— Да-да, я клянусь, — воспроизвел он с тупой покорностью чужие слова. — Клянусь, что никогда больше не буду принимать участие…
В чем именно ему не должно участвовать, судья так до конца и не разобрался, но Библию должным образом поднял и повторил по подсказке:
— Клянусь также, что до скончания дней своих не переступлю границу общины Бентвуд…
Уж это-то он обещал вполне осознанно и с предельной искренностью. И она дошла и даже встретила сочувственный отклик. Кто-то неуверенно рассмеялся, его сразу же поддержали в разных местах, и вскоре вся площадь дрожала от хохота. Так смеются, торопясь поскорее облегчить сердце, когда удается чудом спастись от беды и хочется заключить в объятия весь мир, а сама жизнь отзывается в красках и звуках. Но, перекрывая непрошеное веселье, ударом бича хлестнул негодующий окрик:
— Королевский изменник!
«Господи, что за нелепость? — подумал Белкнап, чувствуя, как спадает сковавшее его напряжение, уступая место расслабляющей дурноте. — Изменник не может быть королевским, ведь он не повар, не лейб-лекарь и не судья».
Но кличка сразу же привилась. Переменчивая толпа повторила ее, прислушиваясь к звучанию, и закачала, словно любимое дитя, самоутверждаясь в негаданно обретенной правоте. Казалось, что люди нашли нечто давно искомое, целиком и полностью отвечающее их представлениям и тайным надеждам.
— Королевский изменник! Королевский изменник!
Это было под стать визгу, взвинтившему небо с мертвыми головами. Впервые судья Белкнап по-настоящему испугался за собственную жизнь. Его чуть было не стошнило от запаха крови, которым успели пропитаться и устланная соломой земля, и безоблачное летнее небо.
— Королевский изменник!
Даже в слове ощущался солоноватый железистый привкус, непримиримый и безнадежный, как смерть. Но вопреки мрачным опасениям сэра Роберта, все кончилось для него вполне благополучно. Вместе с отрядом, свитой, в которой недосчитывалось троих, и красавицей маркитанткой он был выпущен за городскую черту.
И длился бесконечно томительный день, и не спадала жара.
Глава тринадцатая Ломбардская улица
Он курс экю высчитывать умел И знатно на размене наживался, И богател, а то и разорялся, Но ото всех долги свои скрывал. Охотно деньги в рост купец давал, Но так искусно вел свои расчеты, Что пользовался ото всех почетом. Не знаю, право, как его зовут. Джеффри Чосер. Кентерберийские рассказыКвартал, где исстари селились итальянцы, метко окрестили Ломбардской улицей. Воистину глас народа — глас божий. Выходцы из Ломбардии составляли здесь подавляющее большинство. Именно им, а не лорду-казначею принадлежала ключевая роль во всех мало-мальски значительных финансовых операциях. Незримая власть ломбардских банкиров распространялась на всю Европу — от Гибралтара до Кипрского королевства, от земель Тевтонского гроссмейстера до Кастилии и Леона. Само слово «банк», то есть скамья или, точнее, стол, за которым сидел меняла, сделалось нарицательным. В Лондоне так называли любую принадлежащую итальянцам контору. Кроме, разумеется, закладных лавок. За ними давно и прочно укрепилось наименование «ломбард».
Богачей, а тем более иноземцев всегда недолюбливают. Особенно ростовщиков. Когда же приходит срок платить долги и проценты или выкупить заложенную в ломбард фамильную драгоценность, неприязнь перерастает в ненависть. Погромы на Ломбардской улице случались не так уж и редко. Порой это происходило стихийно, когда доведенный до отчаяния плебс, не смея поднять руку на подлинных виновников бед, искал на ком выместить зло. Но, как правило, закулисными вдохновителями разбоя выступали коронованные должники. Слишком велик был соблазн рассчитаться с кредитором единым махом, чтобы потом начать все сначала. Предлог не приходилось долго искать. Обвинение в ереси или измене служило достаточным оправданием для любых крайностей, вплоть до убийства.
Впрочем, в Англии, где преклонение перед законом впитывалось с молоком матери, подобные акции были сопряжены с немалыми трудностями и риском. Тем более что менялы, за редким исключением, состояли на государственной службе. Королевскими были и конторы, обладавшие монополией на куплю и продажу благородных металлов. Здесь вывешивались таблицы с обменным курсом, выдавались и принимались к оплате векселя — тоже итальянское изобретение, значительно облегчавшее путешествия и торговлю. В обязанность меняльных контор входил и контроль за монетной чеканкой. И вообще должности главного королевского монетчика и главного королевского менялы частенько сочетались в одном лице. Тут уже не принималось во внимание ломбардское или иное какое происхождение. При всем желании король не мог ограбить самого себя. Не только закон, но и простой здравый смысл связывал ему руки. Корона всюду остается короной, будь то августейшее чело или всего только вывеска.
Иное дело — конторы, представлявшие интересы частных банкирских домов. Эдуард, чьи первоначальные успехи на французском театре войны были целиком и полностью оплачены флорентийским золотом, нашел самый простой и верный способ выйти из финансовых трудностей.
Задолжав колоссальную сумму флорентийскому дому Барди и Перуцци, он в один прекрасный день вообще отказался платить по векселям. Просто и мило. Не нужно собирать погромщиков по грязным кабакам или устраивать шумные процессы вроде тамплиерского, с кострами, пытками, вселенским скандалом. И невинная кровь не пролилась, и мебель осталась целехонькой. По крайней мере, в прямом смысле, потому что в переносном сакраментальная скамеечка все-таки пострадала. Барди и Перуцци разорились, потерпев полное банкротство. Слово происходит от banka rotta — расколоченная скамья. Так выражались еще при Вильяме Завоевателе, когда, уличив рыночного менялу в обмане, переворачивали, а затем ломали его стол и скамейку.
И хоть на сей раз обманщиком был король, банк лопнул во всех смыслах слова. Нет, прошлое не умирает, оно остается с нами, таясь в глубокой тени, пока жив наш язык.
Получив любезное приглашение Балдуччо Пеголотти-младшего посетить его дом на Ломбардской улице, Джеффри Чосер настолько взволновался, что пришлось звать цирюльника, дабы тот поскорее отворил кровь.
Знакомый с писаниями величайших медицинских авторитетов от Гиппократа до Авиценны, включая курьезный трактат Джона Гатисдена «Rosa Anglica», Чосер сам избирал методы лечения. Согласно науке, прихлынувший к голове жар мог вызвать тяжелое расстройство всего организма. Недаром же, влияя на мокрое и холодное, он поражает флегму флегматика; влияя на горячее и мокрое — кровь сангвиника; на горячее и сухое — желчь холерика и черную желчь меланхолика, влияя на холодное и сухое. Вполне резонно причисляя себя к сангвиническому типу, высокоученый таможенник сразу же остановился на кровопускании. Это могло облегчить и прохождение других жизненно важных соков, поскольку в каждом человеке понемногу перемешаны все темпераменты. Как поэт и восторженный почитатель Данте, Чосер понимал это лучше любого врача. Поднаторев в астрологических вычислениях, он заранее расписал свою генитуру, чтобы не затруднять цирюльника в длительных изысканиях. Визит к представителю флорентийского торгового дома пришлось отсрочить. В ожидании тазика и ножа Чосер на безупречном итальянском языке написал извинительную записку, не скупясь на сожаления и всяческие благопожелания.
Он действительно питал к молодому итальянцу самые теплые чувства. Лишь вексель на умопомрачительную сумму в пятнадцать фунтов стерлингов несколько замутнял их искренность и чистоту. Вернее — мысли об этом векселе и процентах, которые следовало внести еще к мясному понедельнику. Но, как нарочно, жене понадобилось новое платье для бала в Савое, а книгопродавец предложил роскошно оформленный трактат папы Иннокентия Третьего «De contemptu! mundi»[73] со скабрезными заставками и затейливо закрученными буквицами. Устоять было совершенно немыслимо.
После операции состояние больного нисколько не улучшилось, хотя кровь ударила длинной дугой.
— Я же говорил тебе, достопочтенный, что следовало повременить до утра! — попенял нетерпеливому пациенту цирюльник. — Ведь даже детям известно, что шесть часов до полуночи господствует флегма, а уж после кровь.
— Ты, как всегда, прав. — Чосер со вздохом перевернулся на другой бок, отворачивая лицо от забрызганного передника. — К великому сожалению, меня терзает не столько переизбыток крови, сколько совести.
— Ну, совесть не по моей части.
— В самом деле? Значит, это я все перепутал и, вместо того чтобы обратиться к ломбардцу, вызвал тебя. Недаром сказано: отдай нуждающемуся.
— Первый раз слышу, чтобы ломбардцы принимали кровь. Высосать все до последней капли они, конечно, могут. Кто спорит? Только сдается мне, что кровь не слишком ходкий товар.
— А чем еще расплатиться бедному человеку? Стихами? Но это та же кровь, подвергнутая тончайшей сублимации в перегонном кубе сердца. Впрочем, ты снова прав, стихами еще никто не погасил долгов. Скорее напротив.
Поздно вечером принесли ответное послание. В свою очередь и в еще более выспренних фразах Пеголотти заверял в неизменности дружеских чувств. Соболезнуя по поводу недомогания, он приносил множество извинений за то, что обстоятельства все же принуждают его настаивать на неотложном свидании.
«Если бы это было связано с такими досадными и скучными мелочами, как деловые операции, — писал проницательнейший знаток человеческих душ, — я бы скорее отрубил себе руку, нежели осмелился обеспокоить друга в трудный для него час. К сожалению, а может быть и к счастью, существуют проблемы если не вовсе возвышенные, то, по крайней мере, вознесенные над житейской суетой».
Из всей этой высокопарной витиеватости поэт твердо усвоил главное. Итальянцу сейчас не до каких-то там жалких процентов. Он имеет нужду лично в нем, бывшем дипломате Джеффри Чосере, причем нужду настолько безотлагательную, что было бы непростительной ошибкой уклониться от встречи. Да и с какой стати, если речь идет не о деньгах?
Мессира Пеголотти-младшего он знал лет восемь, а сблизились они и вовсе недавно, когда Чосер прибыл в Милан к герцогу Висконти, чтобы заключить от имени короля договор о дружбе. Помощь тонкого и обходительного флорентийца оказалась как нельзя более кстати. Пожалуй, можно даже сказать, что без нее последняя дипломатическая миссия Чосера могла потерпеть фиаско. Не случайно же герцога за крутой и вздорный нрав прозвали «бичом Ломбардии». Советы Балдуччо, а главное, его связи существенно облегчили переговоры по наиболее трудным статьям. Ведь основным камнем преткновения были финансы! А в Ломбардии еще не изгладилась память о крахе дома Барди и Перуцци, и на королевского сквайра взирали довольно косо. Но благодаря Пеголотти, поручившемуся за «земляка», все препятствия удалось благополучно обойти, и сэр Джеффри мог принять первые поздравления. А затем был торжественный обряд посвящения в тайный орден под сводами крипты миланского собора. Пылали факелы, звенели торжественные аккорды псалтириона, все были в масках, а он, Чосер, с завязанными глазами стоял на коленях перед алтарем. Когда отзвучали слова клятвы, повязка была сорвана и неофита, «приведенного к свету», заключили в объятия новообретенные братья. Белые гвельфы[74], наследники трубадуррв Прованса, правнуки тамплиеров — все, соединившись в цепь, сомкнулись вокруг священной чаши, которую избрали в качестве символа единства и чистоты помыслов. Пусть ничего путного так и не вышло из этой затеи, но благородный замысел собрать под единое знамя антипапистски настроенных поэтов и менестрелей был великолепен. До сих пор при воспоминании взволнованно кружится голова.
Вот и сейчас Джеффри Чосер ощущает, как неровно колотится сердце и окна плывут перед глазами, искажаются и дрожат на свету. То ли от волнений, то ли от кровопускания, а скорее всего — от того и другого.
Восстав поутру, он почувствовал себя совершенно здоровым и, заглянув на часок в складские помещения, отправился на Ломбардскую улицу.
Флорентиец приветствовал его словами Данте:
— «Se tu segui tua Stella…»[75]
В верхней светелке, отделенной от конторы длинным коридором и винтовой лесенкой, несмотря на солнечный день, горела свеча. Слишком уж мало было зарешеченное оконце в глубокой конической амбразуре. Сумрачные блики, отражаясь в эбеновых плоскостях бюро, походившего на этрусский саркофаг, глянцевито отблескивали на испанской коже, которой были обиты кресла. На каменных стенах висели драгоценные ковры Востока, привезенные, надо думать, из крестовых походов. Дымились благовонные курильницы, тяжелым блеском переливались грани венецианских кубков. Балдуччо Пеголотти был одет под стать окружающей роскоши. Его вышитый шелком зеленый камзол с фестонами и прорезями напоминал цветущий луг, бархатная шапочка была оторочена горностаем, а тонкие пальцы сплошь унизаны перстнями с античными геммами.
«Пожалуй, не следует так уж напоказ выставлять богатство в столь неспокойные времена», — подумал Чосер, устраиваясь поудобнее.
— Как вам нравятся последние события? — спросил Пеголотти, словно уловив промелькнувшую мысль, когда от традиционных приветствий перешли к делу. — Или вы тоже полагаете, что лично вас они не затронут ни с какого боку?
— Почему «тоже»? — Чосер благодушно приподнял брови. — И вообще, мессир, что вы имеете в виду? — Певучая итальянская речь доставляла ему истинное наслаждение. Он упивался ее звучанием и непередаваемой прелестью оборотов.
— Вы не догадываетесь, мой добрый друг? Per Вассо![76] Мне трудно поверить, будто и вы с вашей мудростью и проницательностью разделяете всеобщее ослепление. Не пора ли очнуться? Уже катятся головы, льется невинная кровь.
— Так было, так есть и так будет, — осторожно заметил Чосер. — На том стоит мир… Откровенно говоря, я не склонен преувеличивать значение инцидента. Во всяком случае, до жакерии нам еще далеко.
— Жакерия? То, что случилось в Эссексе, а теперь, разрастаясь подобно лесному пожару в засушливое лето, захватывает соседние графства, будет куда пострашнее. Жаждой мести охвачены отнюдь не одни крестьяне. Вы даже не представляете себе, как далеко простираются связи и устремления недовольных. Не побоюсь признаться, что мне по-настоящему страшно, мессир, хотя, как вы знаете, я не из пугливых… Нет, это не крестьянский бунт. Если уж вам пришла охота сравнивать, то куда уместнее взять в пример восстание чомпи.[77] Я был тогда во Флоренции и собственными глазами видел весь этот ужас.
— Ишь куда хватили! — Чосер успокоительно ухмыльнулся. — Сразу восстание, бунт… Обычные местные беспорядки. Только полнейшая неспособность администрации придала им несколько агрессивный характер. Увы, не приходится ожидать здравых решений от тупых, разжиревших котов, погрязших в праздности и пороках. Но дайте срок, и в правительстве наконец поймут, что необходимы разумные перемены. Нельзя только требовать и требовать, ничего не давая взамен. Не сердитесь, мессир, но мои симпатии целиком на стороне эссексцев. Несмотря на отдельные крайности, нельзя не признать, что в конечном счете правота на их стороне.
— Вы говорите так, словно речь идет о богословском диспуте. — Пеголотти обреченно опустил руки. — Впрочем, иного я и не ждал. И вообще мне было бы куда приятнее не начинать этого разговора. Но что поделать, если я действительно опасаюсь? За своих детей, за своих соплеменников, за собственную жизнь, наконец… О, я слишком хорошо знаю вас, англосаксов, чтобы питать хоть малейшие иллюзии! Нас ожидает кровавая баня. В Лондоне только и ждут сигнала начать потеху. Вы бы прислушались к разговорам в кабаках и на рынках. А ваши друзья-рыбники, которые только тем и заняты, что подзуживают чернь?
— Они не друзья мне.
— Нет?.. Разве герцог Ланкастерский не пригрел у себя под крылышком всех этих горлопанов? Впрочем, что я болтаю, безумец? Гонт и сам под угрозой. Он очень вовремя убрался в Ланкастерское графство.
— Убрался? Вы просто не знаете истинных мотивов его отъезда. На севере вот-вот вспыхнет война.
— Знаю, мессир, и гораздо лучше, чем вы предполагаете… Собственно, именно об этом я и намеревался поговорить. Сожалею, что не сумел сдержать своих чувств. Извините великодушно.
— Вам ли извиняться передо мной, добрый друг! Если уж кому и пристало просить прощения, то никак не вам… Но мои дела так расстроены…
— Ах, пустое, мессир, пустое! При чем тут дела? Ведь речь идет о жизни и смерти!
— Право, вы слишком преувеличиваете. Нет причины так убиваться. В Лондоне пока, слава богу, все спокойно, а что касается крикунов-рыбников, то не стоит обращать на них внимания. Тем более что они вовсе не вас имеют в виду, а фламандских ткачей.
— Какая, в сущности, разница? — На тонких, изящно очерченных губах флорентийца промелькнула горестная улыбка. — Ведь стоит начать… Погром неизбежен хотя бы только потому, что мы живем с вами бок о бок. Нас не нужно долго искать, мы всегда рядом, всегда готовы покорно подставить голову под топор. А эти постоянные разговоры о войне, которая, дескать, давно бы закончилась, не будь ломбардского золота?.. Ничто, ничто не проходит бесследно.
— Не надо принимать близко к сердцу пустую болтовню. Все образуется. — Чосер постарался придать себе беззаботный вид. Однако в душе он в полной мере разделял тревоги флорентийца.
— Стоит выглянуть на улицу, и я теряю веру в будущее, — признался Балдуччо. — Всюду мерещится тайно созревающее злодейство.
— Вера, которую так легко потерять, плохая опора. «Достаточно взглянуть на Рим, чтобы утратить веру в бога», — обмолвился как-то Петрарка.
— Что вы хотите этим сказать?
— Самые худшие наши опасения далеко не всегда оправдываются. Реальная жизнь и проще, и мягче, и, главное, разнообразнее.
Восстание — теперь, когда численность народной армии достигла пятидесяти тысяч, говорить о «беспорядках» было равносильно обману — развивалось с поразительной быстротой. Не дожидаясь новой комиссии, подкрепленной внушительной воинской силой, о чем уже поговаривали при дворе, жители Эссекса перешли в наступление. Если прежде они вербовали сторонников под покровом тайны, то ныне их тактика претерпела крутые перемены. Рассылая во все концы графства доверенных лиц, анонимные пока вожаки во всеуслышание призывали народ к оружию.
Согласно донесениям шерифов, наблюдались случаи, когда подстрекатели даже грозили колеблющимся смертью, разрушали и жгли их дома. Если подобное действительно имело место, то это было, скорее, исключением, нежели правилом. Подавляющее большинство присоединялось к движению не только по доброй воле, но и с величайшим душевным подъемом.
Крестьяне бросали полевые работы и целыми толпами следовали за повстанцами. Было ли это военным походом, как о том сообщали депеши? Навряд ли. Скорее, паломничеством во имя вечной святыни, перед которой с восторгом и мукой неустанно склоняется род людской. Колено за коленом, страстотерпец за страстотерпцем. Она всегда далеко впереди, всегда маняще недостижима. И бредут очарованные странники на ее путеводный огонь, и умирают во имя ее с восторгом в безумных очах. Можно целые жизни прожить и оставить потомство, даже единожды о ней не помыслив. И так живут, и так умирают, кто в довольстве покоя, кто в мытарстве страданий. Но мгновения бывает достаточно, чтобы все поменялось местами. И не будет иной заботы, иных вожделений и грез, кроме горнего сияния твоего, Справедливость. Больная, обманчивая мечта…
Успехи повстанцев почти в одинаковой мере и радовали, и тревожили Чосера. Опьяняющая надежда, которой он, слава богу, переболел, вновь ожила в его умудренном, порядком уставшем сердце, и манила в недоступные дали, и понуждала к какому-то действию. Словом, толкала на явную глупость. Ему ли, успевшему познать изначальную тщету и ничтожество жизни, тешить себя несбыточными иллюзиями? Но было приятно сознавать, что кто-то принимает их всерьез и пытается претворить в реальность, даже как будто не без успеха. Хотелось дождаться благополучного завершения, посмотреть, как оно выйдет на деле. Таковы были чаяния, не всегда отчетливые, зачастую противоречивые, тайные.
Тревоги осознавались много яснее, черпая конкретность в самом развороте событий. Отовсюду приходили вести о разоренных усадьбах, сгоревших домах, уже назывались имена людей, ставших первыми жертвами самосуда. И это были знакомые имена. На улицах все чаще встречались беженцы, бросившие на произвол судьбы не только имущество, но и семьи. Они приводили ужасные подробности. Конечно, не всему следовало безоглядно верить, но в целом вырисовывалась довольно мрачная картина. Праведный гнев изливался не только на головы знатных сеньоров и причастных к налогообложению чиновников. Это в общем-то ожидалось и было понятно. В ряде мест толпа громила все без разбору, сжигая вместе с податными списками и прочими юридическими документами книги и карты. Опасно было иметь при себе любую бумагу, чернильницу, даже просто перо. Нет, не таким рисовалось торжество справедливости Джеффри Чосеру, кавалеру Святого Грааля.
Глядя в темные тоскующие глаза собеседника, он вдруг подумал, что флорентиец действительно куда более осведомлен о происходящем, чем это могло показаться. Когда над твоей головой нависает опасность, то поневоле мысль упирается в точку. Слышишь только свое, жадно впитывая малейшие слухи, по крупицам воссоздавая масштабы и очертания. В такие минуты, Чосер знал по себе, человеческий разум обретает пророческую прозорливость. И чем меньше известно ему, тем грознее рисуется призрак, днем и ночью сосущий истерзанный мозг. Поэт устыдился за свое равнодушие и слепоту. Он понял, в каком безысходном круге пребывал Пеголотти, как хватался в надежде на спасение за любую соломинку. Рушился привычный миропорядок, и неизведанное будущее подступало взбаламученным половодьем. Но каждый по-своему отзывался на его запахи и дуновения. Философу не пристало бояться. Все повидав и всему познавши цену, он перевалил роковой сорокалетний рубеж и давно смирился с лукавым обманом природы. Приневолил себя к бесстрастию. Memento mon.[78] В холодной ясности мысли обрел стоическое спокойствие. Жизнь человека — тяжелые цепи потерь, и не стоит жалеть об отдельных звеньях. Даже о книгах. Недаром так невозмутим и крепок духом Уиклиф. Не может народ, жаждущий слова господа на родном языке, убить это слово. Ни один волос не упадет с головы, которую он увенчает венком поэта. А если затянет случайную щепку в водоворот, то никто и не вспомнит таможенника в ливрее Гонта.
— О чем вы столь глубоко задумались, мессир? — прервал затянувшееся молчание Пеголотти.
— Задумался? — встрепенулся Чосер. — Попробуй догнать упорхнувшую мысль… Когда речь служит прикрытием умолчания, невольно уходишь в себя. Наверное, нам обоим следовало проявить большую откровенность. Вам не кажется?
— В такое время становишься осторожным вдвойне.
— Тем приятнее будет доверие. Позвольте мне сделать первый шаг. Я старше вас, и мое положение не внушает серьезных опасений. Я не знаю, чем и как могу быть вам полезен, мессир, поэтому располагайте мной по своему усмотрению. Вот и все, что я хочу вам сказать. Пожалуй, с этого следовало начать.
— Я действительно серьезно рассчитываю на вашу помощь. — Пеголотти благодарно прижал руку к груди. — Скажу больше: это единственная моя надежда на сегодняшний день.
— Я сделаю все, что только в моих силах.
— Вы поддерживаете связь с вашим покровителем?
— Вы шутите, любезный друг! Кто я и кто он?.. О положении в стране Гонта информируют куда более значительные лица. Лорд-казначей, например, мэр Уолсуорс, сам канцлер.
— Тем лучше, мессир. В таком случае не возьмете ли вы на себя смелость сообщить герцогу новость, о которой пока не знает ни канцлер, ни казначей, хотя его она касается в первую очередь?
— С величайшей охотой, — с готовностью откликнулся не на шутку заинтригованный Чосер. — Надеюсь, это заслуживает внимания?
— Не извольте сомневаться. Новость убийственная. В настоящую минуту бунтовщики приняли решение напасть на Крессингтемпл и, наверное, уже собирают силы для похода.
— Атаковать имение лорда-казначея! — От неожиданности у Чосера перехватило дыхание.
— И резиденцию госпитальеров, — усугубил флорентиец, довольный произведенным впечатлением. — Но чему вы, собственно, так удивляетесь? Имя Роберта Хелза окружено проклятиями.
— «Разбойник Хоб», — кивком подтвердил Чосер. — Удивляться тут действительно не приходится. Меня поражает другое — целеустремленность и дерзость. Клянусь святым Дунстаном, я не ожидал от них подобной прыти.
— Крестьян обучают военному искусству бывшие стрелки с Уолтером Тайлером во главе.
— Тайлер из Колчестера! Как же, я уже слышал это имя.
— Пожалуй, его уместнее называть Тайлером из Эссекса. За ним стоит целое графство. Теперь вы, надеюсь, понимаете, что это самое доподлинное восстание?.. Если Крессингтемпл будет окружен, оттуда и голубь не вылетит. Как по-вашему, стоит поторопиться с таким известием?
— Еще бы, разрази меня гром! А вы… откуда у вас эти сведения?
— Нашему брату приходится держать ухо востро, — промолвил Пеголотти с загадочным видом. — Иначе не выжить.
Чосер понимающе опустил глаза. Он ни на минуту не усомнился в точности сведений. Ломбардцы, имевшие повсюду свои конторы и отделения, постоянно держали руку на пульсе событий и не жалели денег на лошадей. От осведомленности и быстроты и вправду нередко зависела если не жизнь как таковая, то успех финансовых операций, что, в сущности, не менее важно.
— А где сейчас сам казначей? — только теперь спохватился Чосер. — Мерзавец, конечно, заслуживает самой суровой участи, но, видит бог, я не желаю ему зла.
— Я тем более, — флорентиец не удержался от вздоха. — Думаю, он должен быть в Тауэре, где соберется Королевский совет.
— Уж не волшебник ли вы, мессир?
— Нет, не волшебник. — Пеголотти не поддержал шутки. — Мы просто стараемся как можно раньше узнавать о том, что так или иначе нас коснется. Вполне естественное желание, вы согласны?.. Вернемся, однако, к Крессингу. Вам это, возможно, покажется невероятным, но мысль напасть на маноры Хелза подал не кто иной, как местный бейлиф. Он возглавляет жителей трех поселков, составляющих Ганнингфилдскую сотню. Как видите, дело обстоит гораздо серьезнее, чем думают наши милорды пэры. От Крессинга до Лондона рукой подать.
— Ну надо еще, чтобы они взяли Крессинг. — Чосер озабоченно покачал головой. — Но, ваша правда, обстановка сложная… Наверное, стоит уведомить канцлера?
— В свое время. — Пеголотти раздраженно взмахнул рукой. — В свое время. Пока же надлежит без промедления составить депешу герцогу.
— Если я правильно понял, вы желаете, чтобы я отписал ему собственноручно?
— Вы правильно поняли, мессир.
— У вас, конечно, есть наготове доверенный человек?
— Абсолютно доверенный, — на губах флорентийца промелькнула нервная улыбка. — С вашего позволения, роль гонца я беру на себя.
— Интересный поворот, — оценил Чосер. — Могу ли я полюбопытствовать почему?
— В силу ряда весьма запутанных обстоятельств я не могу сейчас покинуть Англию. — Пеголотти нервно поежился, но тут же доверительно наклонился к поэту: — Но отсидеться за Твидом мне бы, говоря откровенно, хотелось. Разумеется, вместе с женой и детьми. Не скрою, дорогой и великодушный друг, ваше письмо необходимо мне в качестве предлога, чтобы просить Гонта о гостеприимстве.
— Но почему его? Я уверен, что Роберт Шотландский охотно окажет вам свое покровительство.
— Не сомневаюсь, но мне нужен именно Гонт. Наш дом имел неосторожность отказать ему в очередном займе. Поймите меня правильно, но герцог и без того задолжал нам значительную сумму.
— Обстоятельства, как я понимаю, переменились?
— Самым решительным образом. Молодой король здесь, в Лондоне, и скоро окажется в осаде, а Гонт вместе со всеми вассалами там, вблизи Шотландии, и неизвестно, как обернется дело.
— Все возможно… Но зачем такие ухищрения? Вам достаточно сказать герцогу, что отныне он вновь может рассчитывать на ссуду, и, уверяю, маленькое недоразумение будет тотчас забыто.
— Вы рассуждаете, как англосакс, милый друг. — Пеголотти не сумел скрыть раздраженной гримасы. — Откровенно, прямо и, прошу прощения, глупо. Я же предпочитаю действовать как представитель одряхлевшей латинской расы. Мне нужен предлог для встречи, и лучше письма тут ничего не придумаешь. Дальнейшее проистечет естественным порядком. Гонт снова попросит, я слегка поломаюсь, но дам. Мелочь, скажете? Однако очень важная для нас мелочь. Пусть попросит первым.
— Надеюсь, ваши денежки заставят его образумиться, — проворчал Чосер. — Вернее, не деньги, а перспектива английской короны. Вероятность успеха, надо признать, мизерная, но, как говорят, чем черт не шутит?
— Черт не шутит огнем.
— Люди не столь умудрены. Стремясь покрепче насолить соседу, они рискуют поджечь собственный дом. Гэлы[79] давно стакнулись с французами. Бели Ланкастеру не удастся расстроить это, Англию вновь ждут тяжелые испытания.
— Вы лучше меня знаете герцога. Ради короны он пойдет на все. Ради любой короны, — многозначительно подчеркнул флорентиец.
— Вот я и говорю, что лучше ничтожные шансы, чем никакие. Кастилия — это фантом. Да, Гонт был женат на дочери Педро Жестокого, ну и что с того? Педро поджаривается в аду или дохнет от скуки в чистилище, герцогиню, да будет с ней милость господня, давно позабыли в Вальядолиде. При чем здесь Гонт?
— Я тоже думаю, что Трастамарский дом не уступит трона Ланкастерам, иначе бедняге Энрике не стоило пачкать руки в крови Педро… — Нервное напряжение не отпускало Пеголотти. Он поминутно дергался, словно порывался куда-то бежать. — Но оставим в покое мертвых, мессир. Даже самая сногсшибательная новость хороша только в свежем виде. Не угодно ли вам взяться за перо? — Он раскрыл бюро, где уже все было подготовлено для письма.
— К вашим услугам, — поднялся Чосер.
Когда работа была закончена, флорентиец раскрыл секретное отделение и вынул из ящика изящно переплетенный томик.
— А это я припас специально для вас, — в бархатистом голосе Балдуччо прозвучали снисходительные нотки. — «Золотой осел» божественного Апулея. Как нам понравится? — Он упер руку в бедро, наслаждаясь эффектом.
— Простите, но я не могу, — через силу вымолвил поэт. — Я грешен, как все: принимаю подарки, занимаю направо и налево и не плачу по векселям, — он старался быть мягким. — Но взяток я не беру. Кто из нас в более стесненном положении — вы или я, мессир? Может быть, после когда-нибудь, но не теперь, ради бога, не в эту минуту…
По дороге через Сити к Олдгейту Чосер окончательно поверил в то, что и для него вновь протрубили рога судьбы. Он поклялся себе, что начнет собирать зашифрованную летопись «эпохи шатаний». Прежде всего следовало дать оценку знаменательным переменам, которым сам был вольным или невольным свидетелем. Прошлое — великий учитель и садовод. Оно готовит тот перегной, из которого произрастают все сегодняшние побеги.
Со слов жены, фрейлины кастильской принцессы, Чосер знал о подробностях убийства Педро Жестокого, Педро-монстра, о ком, однако, следовало официально скорбеть, ибо он был союзником, а Энрике, теперь уже тоже покойник, — неприятелем.
К числу безусловных врагов следовало отнести и Бертрана Дюгеклена, также благополучно преставившегося, но уж очень не хотелось бросать камень в саркофаг доблестного солдата.
Прельщенный сложностью задачи, поэт решил оттолкнуться от герба Дюгекленов: черный орел на серебряном поле с красной балкой, похожей на ветку:
На сук багровый пойманный орел, Чернеющий на белоснежном поле, — Вот кто владыку к гибели привел. «Гнездовье зла» в его повинно доле.Получилось изящно, на манер шарад, которые так любили при дворе герцогини Констанции.
Уже добредя до своих ворот, сэр Джеффри свернул по направлению к мосту. Лунатизм вдохновения вел его в Саусуарк к Гарри Бейли, содержавшему таверну «Табард». Там хорошо писалось и думалось. Завсегдатаи порой рассказывали занимательнейшие истории, и, что прельщало далеко не в последнюю очередь, Гарри до краев наливал кубки. Глазами лесных зверей горели в английском олове лозы Брюсселя и Мааса.
Глава четырнадцатая Брошенное гнездо
Плачьте же все о кукушке, кукушку в слезах поминая, — Весел ее был отлет, будет плачевен возврат. Но и плачевная пусть к друзьям возвратится кукушка — Слезы ее разделить каждый из нас поспешит. Так не жалей же ты слез, оплачь, дорогой, свою долю Так, как плачешь сейчас где-то в глубинах души! Ты ведь не камнем рожден бездушным — излейся же в плаче: Припоминая себя, трудно сдержаться от слез. Сладкая к детям любовь источает у матери слезы… Алкуин. Стих о кукушкеДеревня под Фоббингом, куда в надежде найти посланца «Большого общества» во весь опор прискакал Тайлер, оказалась покинутой. Повторялось неизбывное видение детства: запертые ставни, заколоченные двери, пустые дворы. Словно «Черная смерть» вновь прошлась по знакомым дорогам и выкосила все на корню: людей, скот, домашнюю птицу. Даже самого ободранного петуха не осталось, чтобы прокричать привет встающему над соломенными крышами солнцу. Встревоженно кружила вокруг гнезда чета аистов, и лишь вороны, не чуя беды, деловито разгребали отбросы. Гнетущая тишина и неподвижность брошенного жилья навевали такую тоску, что подступали слезы.
Тайлер примерно догадывался, куда скрылись здешние жители, изнемогшие от постоянного страха перед мечом королевского правосудия. С того достопамятного дня, когда он вместе со своими неразлучными йоменами нагрянул к барону Маргиу и под угрозой смерти заставил перепуганного лорда вернуть крестьянский скот, здесь не знали покоя. Каждый вечер, наверное, собирались всем миром и спорили до хрипоты, когда и, главное, куда уходить. Тайлеру приходилось бывать на подобных сходах, и он легко мог представить себе, как, проговорив до полуночи, но так ни на чем и не столковавшись, разбредались по домам удрученные безысходной заботой отцы семейств. А на следующий день все начиналось сначала, пока тяжкая мысль о том, что ничего другого не остается, как только уйти с насиженных мест, не завладела сознанием последнего сомневающегося. Скорее всего, именно восстание в Брентвуде и подтолкнуло общину к действию. Теперь приход карателей выглядел неминучим. Никто, а уж фоббингцы меньше всех, не мог надеяться на пощаду. Послав вешателей, правительство не оставило путей отступления ни себе, ни общинам. Рачительный хозяин не приступает к стрижке овец, пока не отрастет новая шерсть. Эти же, уподобившись волкам, вознамерились разом содрать всю шкуру. Само небо, желая наказать хищников, лишило их последних остатков разума. Что ж, пусть теперь пеняют на себя. Они сами подожгли дом. Пусть же шире разлетаются жгучие звезды, пусть все, что может гореть, запылает. Никак нельзя проиграть первую схватку. Если эссексцы останутся одинокими и захлебнутся в собственной крови, Англию ждут тяжкие испытания. Пройдут долгие годы, прежде чем она вновь пробудится от могильного сна.
Уот Тайлер лучше, чем кто бы то ни было, знал, сколь многое еще предстояло сделать, до того как решиться на открытую схватку с правительством. Даже здесь, в Эссексе, где переполнилась горькая чаша долготерпения. В соседних графствах, за исключением Кента, пожалуй, дела обстояли намного хуже. В сущности, никто не был готов к решительной схватке. Понадобится не менее трех недель, чтобы собрать «Большое общество» — секретный совет избранных на тайных сходках представителей общин и гильдий. И это теперь, когда один день, возможно даже час, мог оказаться решающим. Любое промедление было равносильно самоубийству. Недаром мятежные брентвудцы первым делом поспешили разослать гонцов с просьбой о помощи.
Перед Тайлером встал трудный выбор. Уполномоченный «Большого общества» в графстве Эссекс, он по воле небес должен был на свой страх и риск дать сигнал к восстанию. И он сделал это без колебаний и отправил Уильяма Хоукера поднимать Кент.
Осталось только уведомить обо всем «Большое общество», вернее, Джона Шерли, который единственный знал, в какие адреса и какими путями переправить сообщение дальше. Но хижина Тома Эндрюсона была крест-накрест заколочена досками, как, впрочем, и остальные дома.
Тайлер повел лошадь на поводу вдоль скотопрогона, напрасно выискивая хоть какие-нибудь признаки жизни. Проплутав задами, он вновь выбрался на дорогу и уже собирался сесть в седло, как ему показалось, что где-то плачет ребенок. Бросив узду и чуть пригнувшись, как бывало когда-то в разведке, Уот осторожно двинулся на звук. Белая кобылка с золотистым хвостом послушно осталась на месте.
Обследуя ближние дворы, он то прижимался ухом к ставням, то надолго замирал у дверей, но там все было тихо, а слабые прерывистые всхлипы долетали то с одной, то с другой стороны, увлекая все дальше и дальше. Уловив наконец верное направление, Тайлер добрался до скромной часовенки, где прямо на паперти изнывало спеленатое дитя. В два прыжка оказавшись у двери, обитой узорным железом, ожесточенно затряс кольцо. Но, как и все вокруг, часовня была заперта, и, судя по паутине, давно. Тайлер, обдирая костяшки пальцев, неистово заколотил кулаками по ржавому железу.
Обычай подбрасывать плод запретной любви господу богу столь же нов, как и подлунный мир, но какое же сердце нужно иметь, чтоб оставить малютку в заброшенном селении! Впрочем, для новорожденного младенец выглядел довольно крупным. На первый взгляд ему было месяцев пять, не меньше, хоть Уот Тайлер не слишком поднаторел в этих тонкостях. За первой вспышкой гнева пришло горестное раздумье. Как же нужно скрутить человека, вывернуть его наизнанку, чтобы вынудить на такое? Лучше б прямо на кладбище бросили, на могильной плите. Там хоть птицы и жабы, и есть надежда, что кто-нибудь заглянет навестить своих мертвых…
И опять перед глазами встал рябой Том с его молчаливой мольбой о надежде. Все шло вкривь и вкось. Помощь и та выходила боком.
«Уж не Эндрюсонов ли это меньшой, которого не решились взять в путь неведомый и опасный? — опалила догадка. — И заживо оторвали от материнского тела…»
Тайлер постоял, свесив голову, над орущим, страдальчески сморщенным человечком, затем свистом подозвал лошадь и, подхватив нежданный подарок, вспрыгнул в седло.
Проскакав по дороге на побережье шесть миль без отдыха, он завернул в придорожный трактир «Белая роза». Руку, на которой покоилось дитя, словно гипсом сковало — не разогнуть.
Захолустное заведение, откуда час назад съехали последние постояльцы, не страдало от обилия посетителей. Лишь в общей комнате с низким, перекрещенным балками потолком дремал за стаканом грога одинокий старик с медной серьгой матроса.
Уот выбрал угловой стол, скрытый высоким очагом, облицованным плитками сланца.
— Баранью похлебку, кружку и молока для этого смельчака, — потребовал он с несказанным облегчением, вручая сухопарой хозяйке ребеночка.
— Боже мой, — она приняла его на вытянутых руках, — с нами, кажется, случилось маленькое происшествие! — и принялась распеленывать прямо посреди недопитых кружек и мисок с объедками.
— Но ведь это же девочка, добрый господин! — изумилась достойная женщина, обнаружив неоспоримый признак.
— Я разве утверждал обратное? — Уот ощутил жар прихлынувшей к щекам крови. — Просто в седле она вела себя, как положено лучнику-йомену.
Проглотив ложку обжигающего густого варева, обильно приправленного молодым чесноком, Уот почувствовал, как безмерно устал за этот немыслимый день, чреватый всякими неожиданностями. Долго засиживаться, однако, не приходилось.
Во имя всего, что дорого душе на проклятой и трижды благословенной земле, до наступления ночи нужно было добраться до Эрита. Только там могли знать, где сыскать человека, связанного с «Большим обществом».
Тайлер покосился на девочку, которая, шевеля ножками, довольно гукала в умелых руках хозяйки. Неведомый найденыш оказался сопричастным с судьбой целого народа. Какое странное стечение взаимозависимых обстоятельств! Благословенна свобода, рожденная под безгрешной звездой.
Отодвинув миску, Уот допил эль и вытряхнул на стол последние золотые. Всего оказалось пять ноблей: три больших майля и два ферлинга поменьше. На них был отчеканен боевой корабль под флагом святого Георгия и Эдуард Третий, гордо стоящий на палубе со щитом в левой руке. «Божьей милостью король Англии, Франции и повелитель Ирландии», — отчетливо читались крохотные буквы. Лишь на одном ферлинге, выпущенном после мира в Бретиньи, слово «Франция» было заменено «Аквитанией». Отделив монетку для себя, Тайлер подвинул остальные на край стола.
— Добрая женщина, — позвал он хозяйку, — не согласишься ли ты оставить на какое-то время девочку? Мне предстоит долгий путь, а она и без того устала. Да и где я найду молоко, особенно на ночь глядя?..
— Охотно окажу тебе услугу, путник. — Она покосилась на золото. — Когда ты предполагаешь вернуться?
— Точно не знаю, в дороге ведь всякое может приключиться, но, как бы там ни было, я обязательно кого-нибудь пришлю за ней. Хватит тебе этих денег, чтобы малютка ни в чем не знала нужды, ну, скажем, на два-три месяца?
— Здесь много больше, чем нужно, — поджав губы, сказала женщина. — Вполне достаточно одного нобля.
— На всякий случай возьми… Вдруг я задержусь или вообще не смогу возвратиться? Главное, чтобы моя девочка была пристроена. Ухаживай за ней, как за родной, и тебе не придется жалеть. Так или иначе, но я сумею расплатиться за твою заботу.
— Это твоя дочь?
— Считай, что так.
— А где ее мать?
— Если бы я знал, мне бы не пришлось подвергать испытанию твою доброту, — принужденно улыбнулся Уот. Даже вынужденная ложь давалась ему с немалой натугой. — Надеюсь, ты добрая христианка? — Вот и сейчас он не сумел себя приневолить. — Тогда не задавай лишних вопросов, исполняя богоугодное дело.
— Оно, конечно, так. — Хозяйка с сомнением пощипала кончик длинного носа. — Но мне бы не хотелось остаться с чужим ребенком на руках. Наконец, что я должна сказать соседям?
— Мало ли? Допустим, ее родители — знатные люди, которых превратности судьбы принудили покинуть родные места.
— Но я тут при чем? «Белая роза», слава богу, честный трактир, а не какой-то приют.
— Разве они не могли случайно остановиться в твоем заведении? Как я, например? Неужели ты не сможешь найти подходящее объяснение? Ты же умная женщина! — Он нетерпеливо выдернул свой образок. — Клянусь святым Христофором, что ты имеешь дело с честным человеком.
Обеим сторонам было понятно, что договор благополучно заключен, но легкие препирательства насчет отдельных неясностей грозили затянуться. Предел положил приход тройки новых гостей: бейлифа и сопровождавших его алебардистов-констеблей.
Покосившись на похрапывающего пьяницу, бейлиф направился к столу, за которым сидел Тайлер.
— Добрый день, бравый йомен, — приветливо поздоровался служитель закона. — Откуда будешь?
— Из Эрита, начальник, — сделав над собой усилие, выдавил Тайлер. — Возвращаюсь назад в Эрит, — добавил он уже с большей долей уверенности. Перед лицом врага ложь превращалась в военную хитрость.
— И куда ездил?
— По делам, — сдвинув брови, хмуро бросил Уот.
— Твоя лошадь? — бейлиф кивнул на затянутое пузырем окошко.
— Моя, а в чем дело?
— В чем дело, хочешь знать? Я отвечу тебе, йомен, но сперва назови свое имя.
— В честь Иоанна Крестителя наречен Джоном.
— Кто-нибудь может удостоверить, что ты говоришь правду?
— Я могу, — неожиданно подала голос хозяйка.
— Ты действительно знаешь этого человека, Катарина? — бейлиф строго взглянул на трактирщицу.
— Как не знать? — фыркнула она, независимо вскинув подбородок. — Он не первый раз останавливается здесь. Вот и сейчас погостить приехал и дочурку привез… Гляди, какая хорошенькая! Трудно ему одному. Пока был на войне, жена спуталась с каким-то купцом. Известное дело. Если в доме нет женской руки, считай, что и дома нет. А ребеночку каково?
— Ладно-ладно, — с досадой прервал бейлиф. — У меня нет претензий к твоему гостю… А впрочем, послушай, Джон, ты случайно не заглядывал в Колчестер?
— Бывал, — односложно ответил Уот.
— Тогда, может быть, ты знаешь некоего Уолтера по прозванию Кровельщик? Он, как и ты, служил вольным стрелком.
— Может, где-то и встречал, но точно не помню.
— Жаль… Но ничего не поделаешь, будь здоров.
— Будь здоров и ты.
Дождавшись ухода властей, Тайлер доел остывшую похлебку и нарочито неторопливо начал собираться в дорогу.
— Куда ты теперь? — с печалью в голосе спросила хозяйка.
— В Эрит, ты же слышала, добрая женщина. Спасибо тебе за все.
— Доброго пути, Джон, — молвила она еле слышно. — Твое лицо мне сразу показалось знакомым. Но я никак не могла вспомнить, где тебя видела.
— Вспомнила все же?
— Да, как только ты достал своего святого. Там ты тоже так клялся.
— Где это «там»?
— Моя родня живет в Эрите. Брат содержит таверну «Три лилии». Я гостила у них на прошлую пасху.
— Получается, что твои родичи товарищи мне?
— «Когда Адам пахал землю, а Ева пряла, кто был дворянином?..» Храни тебя бог!
— Теперь я спокоен за девочку, — кивнул Тайлер и, пригнув голову, переступил порог.
Глава пятнадцатая Поход
1. Пипин. Что такое буква? — Алкуин, Страж истории.
2. Пипин, Что такое слово? — Алкуин. Изменник души.
3. Пипин, Как рождается слово? — Алкуин. Язык.
4. Пипин. Что такое язык? — Алкуин. Бич воздуха.
5. Пипин. Что такое воздух? — Алкуин. Хранитель жизни.
6. Пипин. Что такое жизнь? — Алкуин. Счастливым радость, несчастным горе, ожидание смерти.
7. Пипин. Что такое смерть? — Алкуин. Неизбежный исход, неизвестный путь, живущих рыдание, завещаний исполнение, хищник человеков.
Алкуин, Словопрение высокороднейшего юноши Пипина с Альбином схоластиком.Перемены — вот единственный закон, управляющий судьбами народов и государств, утверждает китайская книга «И-цзин». Монахи-путешественники уже проложили дороги в «Срединное государство», и дальние отголоски чужой иероглифической мудрости запечатлелись латинской скорописью на пропахших воском и ладаном пергаментах.
Год за годом смыкают свои круги, век за веком, но по-разному течет время, сообразуясь с глубиной и скоростью перемен. Раздираемое бесконечной войной, прореженное чумой и пришпоренное восстаниями на островах и на континенте, почало последнюю четверть четырнадцатое столетие. Подлинно революционное, ибо впервые в истории народ громогласно заявил о себе и своих правах, оно прославилось открытиями, подстегнувшими время.
Корабельные мастера стали прокладывать курс по морским картам. Это явилось невиданным новшеством, потому что доселе употреблявшиеся Пейтингеровы таблицы представляли собой лишь списки береговых населенных пунктов. Вошел в употребление компас, хотя куда более известная астролябия так и не попала в арсенал навигации, оставшись достоянием чернокнижных астрологов. Книжные страницы начали нумероваться именно с четырнадцатого века, которому суждено было стать источником великого множества перемен, больших и малых, имевших роковые последствия или оставшихся бесследными.
К концу века Оксфордский университет, который, как и Кембридж, управлялся епархией, полностью освободился от епископской власти. Это не только обеспечило расцвет математических и естественных наук, но и сделало возможной деятельность Джона Уиклифа.
Все в мире теснейшим образом связано: Оксфорд, навигация, математика. Вызов, брошенный Англией Риму. Вызов, брошенный англичанами королю. Ничем нельзя пренебречь, даже вещью совершенно обыкновенной, а то и вовсе пустячным курьезом. Ведь то, что стало обыкновенным после, в свое время вызывало всеобщее восхищение, а курьез, если он не потерялся в круговороте столетий, и вовсе не был пустяком.
Стали выращивать капусту, латук, шпинат и свеклу. Стойло — излюбленная новинка века — порождало споры в хижинах и дворцах. Не менее бурно было встречено появление стальных лат, сменивших древнюю кольчугу, а также бархата, равно прельстительного для рыцарей и дам. Разве это пустяки — бархат и латы? Последствия были глубоки, поистине неисчислимы и сверх меры оплачены кровью. Мода на фамильные гербы, девизы, символы, ас ней и наука геральдика тоже не составили исключения.
Все объемлет круг из шестидесяти четырех гексаграмм — знаков «Книги перемен».[80] Небесные сферы и земные судьбы. Весь бархат двора, все просвистевшие на поле брани стрелы.
Полутораметровая стрела, выпущенная из английского лука, легко прошибала любую кольчугу, но отбивалась стальной пластинкой. Поэтому приходилось бить в прорези шлема или целить в коня, которого невозможно было полностью заковать в железо. Судьбу битвы решала скорострельность. Большой лук из испанского тиса позволял делать двенадцать выстрелов в минуту, против четырех из французского арбалета. Это и определяло исход сражений.
Разумеется, бархат не чета латам. Но из-за бархата, который не дозволялось носить горожанкам, даже лондонским олдерменшам, разыгрывались не менее ожесточенные бои. Во всяком случае, их политические итоги были куда более значительны.
Солнце, совершая ежегодный обход созвездий, не поспевало за нарастающим ходом событий. «Беспорядки», как по-прежнему значилось в депешах, адресованных королю, распространились на соседние с Эссексом Суффолк и Кент. «Худородные люди» зашевелились и в других графствах. Вскоре брожение охватило добрых две трети Англии: от Девона и Сассекса на юге до Йорка на севере.
В графстве Кент первыми присоединились к движению жители пограничного с Эссексом городка Эрит. Уже второго июня, когда по случаю воскресного дня базарную площадь заполнили крестьяне, съехавшиеся из близлежащих деревень, объявились посланцы Брентвудской общины. Их призыв к объединению встретил настолько сочувственный отклик, что решено было всем вместе без промедления отправиться в Лиснис, чтобы принудить тамошнего аббата к совместным действиям с верными королю общинами. Танцуя на ходу под веселое пиликанье роты,[81] шествие устремилось к аббатству. Вожаки определились по дороге. Жители Эрита избрали угольщика Абеля Кера, его подручного Джона Эйлуорда и сапожника Джона Янга, крестьяне — лиснисского уроженца Ричарда эт Фрайта.
Перепуганный аббат безоговорочно принес требуемую присягу и тут же скрылся вместе со всем капитулом в неизвестном направлении. Встал вопрос, что делать дальше.
— Перво-наперво уничтожим налоговые списки! — предложил Кер, лучше всех осведомленный о подвигах брентвудцев. — Пусть огонь, в котором рождается хлеб, освободит нас от нужды и позора.
— Ты разве не знаешь, что дом коронера охраняют констебли? — предостерег Янг.
Перспектива вооруженного столкновения несколько охладила пыл горожан. Не только оружия, но даже приличной косы или грабель ни у кого с собой не было. Так и не договорившись ни до чего определенного, уставшие от непривычных волнений люди разошлись по домам. Однако уже на следующее утро неугомонный Кер одолжил у рыбаков лодку и вместе с наиболее решительными сподвижниками отправился вверх по Темзе в мятежный Эссекс.
Пятого июня Кер и его соратники возвратились в родные края. Но не одни, а в сопровождении внушительного отряда эссексцев, успевших побывать уже не в одной переделке. Бравые парни не стали дожидаться, когда соберутся участники славного лиснисского марша, и прямиком двинулись в Дартфорду. Увидев столь представительную военную мощь, ликующие горожане высыпали на улицу и по собственному почину бросились к дому Томаса де Шердлоу, главного коронера графства. Штурмом руководил местный булочник Роберт Кейв.
— Я знаю тебя, Том Бекер, — приветствовал он фоббингского хлебопека. — Знатную порку вы задали судье Белкнапу! Вот уж была потеха так потеха!
— Вы тоже недурно постарались, — командир эссексцев с одобрением глянул на гигантский костер, в котором, исходя удушливым дымом, корчились плотные груды бумаги. Черные хлопья кружили в небе, как потревоженная стая галок. — Вижу, что нам тут делать нечего.
Смешавшись с дартфордцами, эссексские ополченцы довершили разгром канцелярии. Жаркое пламя с треском пожирало пергаментные портфели, набитые протоколами поместных курий, всевозможные свитки с описями, отчеты и ведомости. Многим казалось, что вместе с перечнем долгов и повинностей навеки исчезнет и породивший их порядок. Захватывало дух от небывалого чувства освобождения. Но минутное опьянение вскоре сменилось растерянностью. Никто не знал, каким должен быть следующий шаг в новую жизнь, в которой не будет места бесправию, где человек уже не сможет унижать человека.
Огонь словно вновь обрел свой древний священный смысл. От него ждали полного обновления, чуть ли не волшебного преображения, как будто и впрямь можно избавиться от груза прожитых лет, от самой памяти о нем и возродиться в ином, ослепительно прекрасном, как в детских мечтах, облике.
Гори, рабство. Рассыпайся в пепел, насилие. Исчезни с дымом, позор.
Но не отпускала истерзанная, кровоточащая память, и опасение, что едва ли возможно с такой легкостью и быстротой разрушить вековые устои, едкой кислотой подступало к глазам. Вопли восторга и лихорадочный смех уже заглушали рыдания. Падали, одурев от дыма, женщины и катались посреди улицы, суча ногами, изрыгали хулу, посылая куда-то в неведомое страстный призыв, и бились и бились в горячем бреду.
Гори, не затухай, магическое пламя!
И потому хотелось любой ценой продлить, растянуть, как только возможно, текущий миг. То, что с самого начала подлежало уничтожению, давно сгорело, а костру все не давали угаснуть, подбрасывая то охапку хвороста, то табурет из коронерской кухни.
— Погоди, не спеши, — Том Бекер схватил за шиворот не в меру ретивого мастерового, выскочившего из разоренного дома с большущей, скрепленной медными застежками книгой. — Отнеси-ка лучше назад. Попы и так болтают про нас всякие глупости.
— Ишь чего испугался! — Парень ловко вывернулся из-под руки и швырнул тяжелый том в самое пекло. — Сгинь, господское бесовство, развейся по ветру!
— Дурак! — Рискуя опалить бороду, Том прыгнул в огонь. — Не трогайте книги, братья! — воззвал он, бережно отряхнув с переплета жгучие угольки. — Это не я говорю вам, неграмотный пекарь из Фоббинга. Вас просит об этом Джон Правдивый! Стоящие у власти изменники обзывают нас диким сбродом. Но разве мы виноваты в том, что не ведаем грамоты? Седбери, этот антихрист в образе канцлера, строго-настрого запретил монахам обучать крестьянских детей. Отбирая последнюю корку хлеба, враги отказывают нам и в премудрости божьей, а потом сами же клевещут на нас, обливая помоями. Не доставим им такого удовольствия, честные кентцы. Докажем, что мы не скоты.
Вечером город облетело известие, что прибыл Тайлер. Одни божились, что из Эссекса, другие клялись, будто вождь восстания все это время скрывался где-то неподалеку, в Кенте. Теперь, когда совершилось первое объединение сил, он счел необходимым отметить знаменательное событие личным присутствием. При этом ссылались на Роберта Кейва, в доме которого остановился таинственный гость. По крайней мере, так говорили, но достоверно никто ничего не знал. Горожане до наступления тьмы проторчали перед запертой подворотней, пытаясь разглядеть сквозь щели в ставнях хоть отблеск огня. Секретность, с которой был сопряжен нежданный визит, нисколько их не обидела и не разочаровала. Напротив, они преисполнились еще большей гордостью за родной Дартфорд, отмеченный щедрым перстом судьбы. Стояли и ждали, храня молчание.
Томительно долго не гасли легкие облачка, застывшие в зеленоватой, медленно тускнеющей бездне. Прибывающий серп наливался холодным сиянием, нежно мерцала Пастушья звезда над полынной далью полей. Как всегда, возле булочной пахло теплом опары. И было так тихо, что явственно слышался шелест ангельских крыл. Совсем близко, совсем рядом решалась судьба. Вскрикнула и словно поперхнулась с испугу ночная птица. Протяжно отзвонили колокола.
Булочник действительно принимал у себя долгожданных гостей: Уота Тайлера, лондонца Томаса Фарингдона и посланца «Большого общества» Джона Шерли. Были тут и Том Бекер, и рыбак Гольфрид Краттон, и угольщик Абель Кер, ставший героем дня. В комнате, где земляной пол устлали по такому случаю ароматным сеном, теплилась крошечная лампада. Было жарко и душно. Потные лица смутно вырисовывались в густой, окрашенной ржавыми отсветами тени. Джону Шерли предоставили парадный стул, выточенный местным столяром на станке. Остальные устроились, где смогли: на табуретах, мучном ларе, прикрытой доской бочке из-под молока. Сам хозяин притулился возле бадьи.
Красноречивый Фарингдон уговаривал без промедления ударить по Лондону.
— Стоит нам появиться, как город сам отворит ворота, — он упрямо отводил любые возражения. — Воевать вообще не придется. Лондонцы ждут лишь сигнала. Нужно нанести один-единственный удар, и победа будет за нами. Всего один, но зато в самое сердце. Почти все гильдии на нашей стороне. Я бы мог назвать многих весьма почтенных людей… Олдерменов!
— Тогда почему бы вам не начать самим? — Абель Кер недоуменно пожал плечами. — Мы не ждали понуканий. Без всякого сигнала пошли воевать аббатство.
— Без сигнала? Возможно, — парировал Фарингдон. — Но и без оружия! Когда же запахло жареным, пришлось обратиться к соседям. Или не так? Чтобы пушка выстрелила, необходимо хорошенько накалить прут. Ничего не поделаешь, мои земляки не отличаются доверчивостью. Им важно знать, что они не одни. Если они своими глазами увидят наше войско, то их не удержишь. Уж вы поверьте!
— Может, и в самом деле? — подал голос застенчивый булочник. — Взять хотя бы нас, дартфордцев. Или мы не знали, какая буча началась в Эссексе? Да я сам только позавчера вернулся из Брентвуда! Брат из Лондона верно заметил: знать — это одно, а увидеть — другое. Стоило Тому из Фоббинга и тебе, Абель, войти в город, как наши тут же выскочили из теплых постелей. Даже уговаривать не пришлось. А прежде все только перешептывались да перемигивались.
— Пример и подмога значат немало, — подтвердил Джон Шерли. — Но не о Лондоне сейчас речь. Если каждый станет надеяться лишь на соседа, то мы далеко не уйдем. Нужно решительнее действовать и закрепляться на местах. Вчера Эссекс, сегодня Кент, завтра Суффолк и Норфолк. Без крепкого тыла бессмысленно идти в дальний поход. Даже с большой армией.
— Пока мы доберемся до Лондона, наши ряды умножатся. Нас будет уже сто, двести тысяч, — уверенно заявил Фарингдон. — Присоединятся все города и сотни. Вы согласны со мной, храбрые фоббингцы?
— Мы готовы выступить хоть завтра, — заверил Том Бекер.
— Всюду, куда бы мы ни пришли, нас поддержал народ, — Гольфрид Краттон был настроен столь же решительно.
— Ну, что я говорил? — торжествовал Фарингдон. — Скоро весь Кент будет нашим, и тогда мы зажмем Лондон в клещи.
— Предоставим решать обществу, — Шерли уклонился от дальнейшего спора. — Главное, в самом начале не сбиться с ноги. Насколько я догадываюсь, общество ожидает встречи с олдерменами из Гилдхолла, — он обратил лицо к лондонцу, сверкнув во тьме белозубой улыбкой. — Наверное, тогда все и решится? Не будем забегать вперед, брат. Пусть сперва договорятся начальники. Шутка сказать — Лондон! Столица как-никак! Одни валы чего стоят. А гарнизон? Пушки?
— Но люди жаждут действовать! — Фарингдон вскочил, оттолкнув ногой табурет, и вытащил на середину комнаты булочника Кейва. — Должны же они знать ближайшие цели. Я и сам не прочь понять, куда мы пойдем? На Крессинг, как хотят одни, в Мейдстон, как того требуют другие, или все же на Лондон? Разброд нам не на пользу! Кстати, Уот, кого из этих молодцов ты поставишь над войском?
— Пусть сами выберут. Правда, войска я у них пока не заметил.
— Какое войско без оружия? — посетовал булочник.
— Захотите — найдете, — умудренно хмыкнул Кер. — Мы же нашли.
— Значит, тебе и командовать, — самовластно распорядился Фарингдон.
— Мне?! — не на шутку перепугался Кер. — Да что я в этом смыслю? Пусть лучше Бекер. Он боевой.
— Все мы из одного теста, — откликнулся пекарь. — Рыбаки, кузнецы, хлебопеки… Ты неплохо показал себя, Абель Кер.
— Бобби Кейв тоже парень не промах, — угольщик указал на хозяина дома.
— Не будем спешить, — рассудил Тайлер. — Пусть Кейв укрепится здесь, в Дартфорде, а ты, Абель, возвращайся к себе в Эрит. Смелее беритесь за дело, ребята, собирайте народ и готовьтесь к походу. Пока добрые кентские кузнецы накуют вам мечей, положение определится. Я почти уверен… Лондон, Кентербери — неважно, что будет первым. Что же касается доблестного Тома, то он уже получил приказ. Общество постановило, что каждый, кто живет не далее двенадцати миль от моря, останется на своем месте. Мы не можем бросить берега без защиты. Это попам и баронам все равно, какому королю служить, а мы, простые люди, рождены на английской земле.
— И не уступим ее врагу! — не удержался от восклицания Краттон.
— Правильно, Гольфрид. Умрем, а не уступим. Ни лягушатникам-французам, ни шотландцам — никому, — заключил Шерли.
За окном пропели петухи. Восточный берег первым встречал рассвет.
Небесные сферы — согласно сочинению ученого монаха Госсуина «Образ мира», таковых было три — и впрямь проворачивались в ускоренном темпе.
Восстание в Грейвзенде, расположенном в устье Темзы, почти напротив мятежной Тилбери, вспыхнуло совершенно независимо от событий, разыгравшихся в Эрите. Понадобился легкий толчок, чтобы готовая обрушиться лавина пришла в движение.
Третьего июня в город прибыл в сопровождении двух королевских сержантов рыцарь Симон Берли, причисленный ко двору. Явившись в ратушу, он потребовал выдачи беглого виллана по имени Роберт Беллинг, которого якобы незаконно укрывали городские власти.
— Мы знаем Беллинга как свободного и, смею уверить, достойного человека, — смущенный мэр сделал попытку отклонить требование.
— Тебе недостаточно моего слова? — заносчиво спросил Берли, демонстративно положив руку на рукоятку меча.
— Уверяю тебя, сэр рыцарь, что городской совет самым внимательным образом изучит твои притязания. Смею заметить, однако, что вилланство не в традициях графства Кент.
— Мне нет дела до ваших традиций. Если вы не вернете мне беглого, я возьму его силой.
Мэр спешно созвал городской совет. На заседании было решено просить рыцаря не настаивать на требовании, позорящем Грейвзенд, и ограничиться выкупом.
— Будь по-вашему, — милостиво согласился придворный. — В таком случае вы заплатите мне триста фунтов.
Советники во главе с мэром от неожиданности утратили дар речи. При всем желании город не мог заплатить столько.
Симон Берли тут же послал сержантов за вилланом. Не тратя слов понапрасну, он велел связать несчастного Беллинга по рукам и ногам и увез его в Рочестерский замок.
Этот, в сущности, рядовой инцидент послужил поводом для всеобщего возмущения. И не то чтобы грейвзендцы безумно любили Беллинга или уж слишком пеклись о добром имени города. В другое время подобный случай не вызвал бы особых волнений. Ну пошумели бы немного, побранились, а затем успокоились и забыли. Мало ли беглых вилланов шатается по стране? Да и рыцарь, коль скоро к нему обратились, был волен назначить любой выкуп. Не на кого и сетовать, раз не сошлись в цене.
Но иные ветры гуляли нынче над Темзой. Грозовой ураган вольно шатался вдоль побережья, выметая застарелый сор из щелей, продувая насквозь тела и души. И такой заразительной удалью дохнул насыщенный электричеством порыв, что невозможно стало противиться его властному зову.
О беспорядках в Грейвзенде сразу же стало известно Лондону. Действуя испытанным методом, король Ричард не нашел ничего лучше, как снарядить судебную комиссию, которая должна была заседать в Кентербери. Урок Брентвуда не прошел даром. Но судьям пришлось воротиться с полдороги. Кентское графство было практически отрезано от столицы. Пути подхода, включая водные, контролировались повстанцами.
Казалось бы, что могут значить каких-нибудь пять или шесть дней? Но когда исполнятся сроки, опыт столетий спрессовывается в часы. На подмогу грейвзендцам уже спешил из Дартфорда булочник Роберт Кейв. На пиках, отнятых у королевской стражи, дерзко развевались флажки Кента. Власть еще действовала по-старому, а повстанцы постигали в бою азы самозащиты. Под лозунгом «Одна страна — один король» соединенное воинство двух городов двинулось в направлении Кентербери.
Глава шестнадцатая Неистовый пресвитер
Джон Болл, священник церкви св. Марии, приветствует всякого звания людей и просит их именем троицы — отца, сына и святого духа — мужественно стоять за правду и помогать правде, и правда поможет им.
Теперь в мире господствует гордость,
Жадность считается мудростью,
Разврат не знает стыда,
Чревоугодие не вызывает никакого осуждения, Зависть царствует, как будто так и надо, Леность в полном почете.
Боже, накажи их: теперь время.
Письмо Джона БоллаЛюди, тайно похитившие Болла, скрыли лица за капюшонами погребального братства. Еще не светало, когда они прокрались в хижину свинопаса Гольфрида, набросили на мирно спавшего проповедника пропахшую конским потом попону и выволокли его во двор. Здесь ему умело забили рот кляпом, крепко связали и бросили поперек седла. Все свершилось молниеносно и в полном молчании. Если бы не резь от впившейся в запястья веревки, Болл мог принять происшедшее за продолжение сна. Такое находит временами на человека незадолго до пробуждения, когда, вырываясь из тенет сновидений, дух уже готовится возвратиться в неподвижное тело, но внезапно проваливается в неизбывный кошмар. Не хватает дыхания, болезненно трепещет переполненное дурной кровью сердце, и нельзя шевельнуться, и рвется безмолвный вопль сквозь стиснутые зубы. Хочешь кричать, а не можешь, вопишь и не слышишь себя.
С трудом приподняв налитую свинцом голову, Болл конвульсивно содрогнулся, попытавшись вытолкнуть языком мерзкую тряпку, но, изнемогши от усилий, вновь повис неподвижной поклажей. На краткий миг, едва осознаваемый, приоткрылись неверные осколки пространства: луг, курившийся клочковатым туманом, дальний лес, стога сена, темные от дождя. Давясь густой и горькой слюной, душившей его, Болл зашелся в приступе кашля, не находившего выхода, разрывающего грудь и глаза. Тошнотворно близко возникла мокрая травка, измазанное навозом копыто, а затем откуда-то со стороны — пульсирующая темная жила, извилистая, словно река. Все пошло дрожью, съежилось под лошадиной утробой и вдруг померкло, погасив боль.
Очнулся он в луже, под холодным водопадом, низвергнутым из осклизлой бадьи. Со всех сторон нависали островерхие колпаки, стерегущие, словно лемуры загробного мира, малейший трепет грешной души. Над зубчатой стеной всплывало нездешнее бледное солнце. Кровь болезненными толчками била в самое темя, в ушах стоял заунывный звон, точно бряцал колокольчик впереди похоронной телеги. Потом даже стук колес чумного возка как будто бы различился и пение жалобное, прощальное: «Dies irae».[82] Словом, ничто не напоминало о возвращении к жизни, совсем напротив.
Болла грубо оторвали от мокрого булыжника, встряхнули и попробовали поставить на ноги, но он тут же обрушился вниз, едва не разбив колени. Занемевшие пальцы не двигались, разбухший язык омертвел. Он не помнил, как его вновь принудили подняться, освободили от пут и потащили куда-то, царапая пятками брусчатку двора. Ненароком оглянувшись, он успел заметить неподвижного всадника в мантии госпитальера и синевший далеко за ним шпиль собора. Характерные меридиальные ребра и недостроенная колокольня подсказали, что это Мейдстон. Незабвенное место! Шесть лет назад здешний шериф схватил Болла, когда тот проповедовал возле церкви святого Эдуарда Исповедника.
Архиепископская тюрьма не шла ни в какое сравнение с королевскими узилищами, вроде Маршалси или Флит, не говоря уже про омерзительные колодцы с решетчатым люком, где заживо гнили узники замков. По крайней мере, одиночные камеры с охапкой соломы в каменной нише мало чем отличались от обычного монастырского карцера. Тут можно было не только стоять в полный рост, но даже ходить от стены до стены. Восемь футов свободного пространства узник воспринял как улыбку фортуны. Порадовала и подвешенная к высокому потолку лампа. Ведь в Ситтингборне ему пришлось провести десять месяцев вообще без света.
— Я выйду отсюда, причем очень скоро, — усмехнулся он через силу, окинув оком свое вынужденное пристанище. — Двадцать тысяч придут за мной, когда прозвонит колокол.
Похитители лишь воззрились на него непроницаемой чернотой глазных прорезей и все так же в зловещем молчании покинули келью. Не обмолвился словечком и чахоточный старичок тюремщик, затворивший окованную железом дверь.
«Воистину безумен, — определил опытный страж, не без труда задвигая ржавый засов. — Кругом одни помешанные. Тут и сам чего доброго спятишь».
Уж он-то знал, что этот заключенный даже после смерти не выйдет на волю. Недаром же его поместили именно сюда, в бастион Гризельды, предназначенный для самых закоренелых и нераскаянных еретиков. Таких хоронили потом на маленьком кладбище, за оградой церковной часовни.
Старик зашелся в приступе кашля и, крестясь на ходу, побрел за цепью, чтобы утихомирить не в меру веселого постояльца, если тот надумает удариться в буйство. Такое частенько случалось с осужденными на вечное заточение. Престарелый прелат, который с вербного воскресенья был прикован к стене, тоже сперва угрожал, а потом вообразил себя конем святого Георгия и принялся жрать солому. Вот и пришлось его заковать, дабы уберечь от тяжкого греха самоубийства.
Не успел Болл устроиться на убогой лежанке, как его начали донимать полчища насекомых. Это оказалось пострашнее, нежели скачка вниз головой. Поневоле вспомнилась пытка раскаленным железом, которую пришлось наблюдать однажды в Нортгемптоне. Вконец измученный, проповедник достал неразлучную склянку и, раздевшись догола, натерся чудодейственной мазью, сваренной из медвежьего жира, змеиных головок и бальзамических трав. Нестерпимый зуд вскоре утих. Завороженно глядя на трепетный язычок, Болл попытался собраться с мыслями, но так и не смог сосредоточиться на чем-то определенном. Переживая и вновь обдумывая случившееся, он пришел к единственно верному умозаключению. Его заточили не иначе как по прямому повелению архиепископа Седбери. Ни Гонт, ни король не могли распоряжаться тюрьмой, находившейся в подчинении Кентерберийского диоцеза. В их власти было арестовать, передать коронному суду, наконец, просто убить, подвергнуть публичной казни, чтобы выставить потом голову на Лондонском мосту, а то и подослать тайного убийцу. Двор Джона Ланкастера не испытывал недостатка в отравителях, прошедших курс наук в нечестивом Париже, где поднаторели без лишнего шума спроваживать на тот свет даже собственных королей. Нет, тут явственно ощущалась рука матери-церкви.
Вскоре Боллу пришлось убедиться в правильности своих рассуждений.
Исповедник, обходивший арестантские кельи в праздник святого Мартина, оказался по счастливой случайности францисканцем. Собратья по ордену сразу же нашли общий язык. С того дня положение архиепископского узника заметно улучшилось. Вдобавок к скудному пайку он стал получать то ячменную лепешку, то кусок ветчины, а то и крылышко дичи. Его чаще, чем прочих, водили на молитву в капеллу, откуда он возвращался с вожделенным клочком бумаги, украдкой переданным кем-нибудь из монашеской братии. Убогое тюремное существование вновь наполнилось возвышенным смыслом. Джон Болл возобновил сочинение проповедей, пробуждающих уснувшую совесть, зовущих на бой за восстановление поруганной правды божьей. Тайно переписанные затем монахами, они отправлялись в бесконечное странствие по волнам моря житейского. Удалось наладить и личную переписку. В разгар событий в Брентвуде он уже регулярно получал вести от Джона Уиклифа и его верных сподвижников Николая Херфорда и Джона Перви, разделивших с учителем великий труд по переводу Священного писания на язык простого народа.
Сам Болл с грехом пополам читал по-латыни псалмы и молитвы. Ученые же изыскания, а тем более диспуты были и вовсе ему недоступны. Поэтому для него, как и для подавляющего числа нищих братьев, английская Библия стала подлинным откровением. В ней обрел он не только источник вдохновения, но и неисчерпаемый кладезь изречений, коими усердно оснащал свои скромные сочинения. Рукой, не приученной с детства к письму, выводил он свой стих, литера за литерой, сообразуясь только с собственной совестью и даром провидческим. С кем он мог разделить бремя тяжкой своей страды? Вознесенный над суетой, учитель Уиклиф соблюдал в переписке величайшую осторожность и вообще подчеркнуто отстранялся от практических дел, а Джон Правдивый пребывал где-то в неведомом далеке.
В недобрые минуты отчаяния погребенному заживо, сжигаемому тайным пламенем узнику вдруг начинало казаться, что он слишком поторопился придумать Правдивого и, вознеся до небес, возвестить о нем миру. Кляня себя за слабость, он припадал разгоряченной щекой к стене, слезящейся гнилостной влагой. И долго вслушивался в могильную глухоту, царапая кожу об известковые блоки.
И день ото дня, от строки к строке крепла его чистая вера, воспламенявшая других.
Но однажды ночью, страдая от бессонницы и распаленный поступающими с разных сторон сведениями о народных волнениях, Болл окончательно решил, что время пришло. И, невзирая на кромешную тьму, написал на последнем клочке бумаги:
Джон Болл приветствует всех вас И уведомляет, что он уже прозвонил в свой колокол, А теперь бог торопит каждого действовать, Применяя право и силу, волю и умКрестьяне, из рук в руки передававшие его будоражащие дух послания, поговаривали, что великий подвижник перебрался куда-то в соседние графства и бродит по деревням и погостам, будя уснувшую совесть. Как пришел он нежданно из далекого Йорка в Колчестер, так и ушел, ни с кем не простившись; может быть, в Суффолк, а скорей всего, в Миддлсекс, где, сказывают, уже жгут долговые расписки. Одни божились, будто своими глазами видели его рядом с самим Джоном Правдивым, другие тайно нашептывали, что надо быть наготове, ибо колокол вот-вот прозвонит. И люди охотно верили всему, переполняясь тревогой и ожиданием, и согревали себя надеждой, гоня прочь призрак голодной зимы. Скоро все переменится, может быть, уже завтра воцарится в миру долгожданная правда. Суровые, будто из грубого камня вытесанные строфы и сами напоминали удары колокола, раскачиваемого сильной, но не слишком умелой рукой. Так звонят на пожаре или в виду неприятеля, подступившего к стенам города, — гулко, неровно, протяжно. Экстатическая вера, пронизывающая стихи, мистическая дымка, влекущая к запредельным высотам, стократно увеличивали их воздействие. Казалось, вернулись легендарные дни библейских пророков, чьими устами возвещал свою волю сам бог.
Впрочем, далеко не все подпадали под завораживающее воздействие летучих писем. Местные власти, привыкшие к нищенствующим монахам, воспринимали очередного витию как неизбежное зло, в глазах клириков, потративших годы и годы на изучение священных текстов, он выглядел законченным сумасшедшим, в лучшем случае наглым выскочкой. Такого человека не стоило принимать слишком всерьез. Какой от него, в сущности, вред? Костит на все корки надменного госпитальера и разбойника-герцога? Так они того вполне заслужили. В Англии каждый может высказывать свои мысли. В том числе и в форме писем. Люди образованные и утонченные лишь пожимали плечами, отмечая их очевидное невежество и дурной стиль. Что же касается знатных лордов, не обременявших себя книжной премудростью, то они вообще не замечали существенной разницы между секретными посланиями и набившими оскомину церковными проповедями. Ну еще один обманщик проповедует бедность, угрожая сильным мира сего страшным судом… Эко диво.
О нынешнем местопребывании Болла был осведомлен лишь ограниченный круг лиц. Не только упорные гонители, но и сторонники не торопились на первых порах распространить весть о его аресте, который, как это обычно бывает, никак не повлиял на течение событий.
Письма, терпеливо размноженные, продолжали совершать свое удивительное воздействие, и едва ли кому могла закрасться мысль, что они всего только свет погасшей звезды. Ничего, в сущности, не изменилось: свободный или же скованный по рукам и ногам, подвижник справедливости продолжал свой подвиг. Больше того! От заинтересованного ока не укрылось появление новой серии писем, посланных, очевидно, уже из самой тюрьмы. Поползли слухи один другого нелепее. Чем дальше, тем страннее рисовалось и само происшествие: арест, о котором никто не знал, неведомая тюрьма, откуда по всему королевству разлетались призывы к восстанию…
Глава семнадцатая Алая роза
Тогда служителей своих призвав И членов челяди своей придворной, Пир подготовить им велел маркграф, Его обставив роскошью отборной. Джеффри Чосер. Кентерберийские рассказыЗамок, возведенный при покойном отце Джона Ланкастера, короле Эдуарде, несмотря на новизну постройки и расцвечивающие его флаги, казался сумрачным и холодным. Сырое дыхание Ирландского моря обрызгало потемневший камень бледными пятнами лишайников. Кованые решетки шелушились от ржавчины, по комнатам гуляли сквозняки, а в каминах сиротливо завывал неприкаянный ветер. Но другого подходящего помещения не было на всем северо-западе. Приходилось терпеть.
Топили беспрерывно, день и ночь. Сладковатый удушливый запашок горелого торфа назойливо лез в ноздри, щипал глаза. Веки у герцога с непривычки припухли и покраснели.
Джон Гонт не торопился развернуть войска на шотландской границе. Вместо того чтобы мерзнуть ночами в походном шатре, он предпочитал отсидеться в замке, окруженном широким рвом. Выжидал, как развернутся события, засылал разведчиков, вел оживленную дипломатическую переписку с владетельными домами христианской Европы. И не только христианской, потому что в числе его корреспондентов значился и халиф Гранады Мухаммад Пятый. В борьбе за Кастилию, чье знамя дерзко реяло над угрюмыми бастионами ланкастерского гнезда, королю без королевства необходимо было заручиться хотя бы нейтралитетом халифа, поддержавшего Трастамару против Педро. Мухаммад зарекомендовал себя щедрым государем, доблестным воином и куртуазным кавалером. Завоевать его расположение можно было только очень богатым подарком: и дорогим и редкостным одновременно. Флирт с врагом истинной веры и даже перспектива территориальных уступок ничуть не смущали Гонта. Не он первый, не он последний. Тем более что Англия отнюдь не стремилась к полному освобождению Иберийского полуострова из-под власти мавров. Завершение реконкисты неизбежно привело бы к созданию еще одного централизованного государства — в исторической перспективе сильного и, следовательно, враждебного. Династические устремления Гонта удачно совпадали, таким образом, с национальными. Три года назад Гонту уже пришлось защищать северные границы от объединенного франко-кастильского воинства, оказавшего существенную помощь шотландцам. Очевидно, с подобным альянсом придется столкнуться и ныне. Засланные во вражеские ряды лазутчики уже доносят о появлении рыцарей в белых плащах с огненным равноконечным крестом на серебряном поле. Вместо того чтобы сражаться с неверными, как того требует устав, орден Калатравы пустился в заморские авантюры. Тем лучше, достойные доны, тем лучше. Гонт приложит все силы, чтобы вбить клин между халифом и домом Трастамары. Любопытно будет взглянуть, как поведут себя доблестные идальго, когда мавританская конница прогуляется по их виноградникам.
Перекидной мост над замковым рвом не поднимали даже на ночь. Герольды с вышитой на табарде алой розой сновали туда и обратно. Особых успехов подобная горячка, сказать по правде, не принесла, но Гонт упрямо держался выжидательной тактики. Вторгнутся шотландцы или же побоятся, судить с достаточной уверенностью было трудно, зато в самой Англии погода определенно портилась. Мудрость подсказывала не проявлять особой активности, предоставив Ричарда, дорогого племянничка, его судьбе. Кто знает, быть может, ошейник с золотыми зубцами и удушит олененка. Тогда ой как понадобятся преданные люди.
Лагерь герцога постоянно увеличивался. Дня не проходило, чтобы рога не возвещали о прибытии кого-нибудь из баронов ланкастерской партии. Сообщая в Лондон о росте военной силы, Гонт все меньше стремился бросить верных вассалов под стрелы Стюарта. Приз, куда более желанный, чем кастильская башня, рисовался в мечтах. Сладчайшей оглушительной музыкой звучали слова: король Англии, король Франции, король Кастилии и Леона. Ветры на континенте, попеременно дующие то в паруса англичан, то способствующие противнику, были на диво благоприятны для смелых надежд. Сами того не желая, французы способствовали возвышению Гонта. Действуя у берегов Бретани и Фландрии, а также совершая регулярные набеги на Южную Англию, объединенный франко-кастильский флот словно бы принуждал англичан поддерживать династические надежды Джона Ланкастерского. Ведь любое действие порождает противодействие. Появились и недурные шансы на возобновление прежних союзов, расстроенных Дюгекленом и Трастамарой. Наваррский король вновь рассорился с Парижем и, примкнув к англичанам, продал им важный порт Шербур.
Чтобы заварить новую кашу, недоставало лишь самого главного — металлических кругляшей.
Неожиданный приезд представителя дома Барди и Перуцци Гонт расценил как знак свыше. Решающее слово, как всегда, принадлежало ломбардцам. Без золота были равно бессильны и клинки, и луки, и громоголосые жерла.
Свидание должника с кредитором произошло в самый кульминационный момент состязания лучников, когда какой-то франклин из свиты герцога расщепил пополам чужую стрелу, застрявшую в центре мишени. То ли Гонт сумел так подгадать, то ли капризное счастье распорядилось, но более подходящую ситуацию для возобновления деловых переговоров и вообразить было трудно. Не успело остыть от дрожи черное оперение, как Балдуччо Пеголотти уже все должным образом разложил по полочкам и подсчитал. Когда герцог поднялся с кресла, чтобы вручить победителю серебряный кубок, Пеголотти, изобразив порыв восторга, швырнул на траву кошелек с цехинами, чем снискал шумное одобрение зрителей, Гонт тут же выставил тушу быка и дюжину бочек эля. Пока челядь и простой народ предавались чревоугодию на зеленом лугу, под сводами замка накрывали столы для высокородных сеньоров и дам. Протрубили «на воду» — сигнал для омовения рук. Рассаживались в строгом соответствии с титулом. На каждую пару — даму и кавалера — полагалась одна оловянная миска для супа. Мясо разделывали на хлебном ломте. Когда мякиш, пропитавшись соком, начинал расползаться, его скармливали собакам, снующим у самых ног. По случаю празднества стол сервировали пасхальными ножами с белой костяной ручкой, а каменные, источавшие могильный холод полы обильно усыпали душистыми травами. Преклонив колено, паж поочередно обнес гостей чашей для полоскания. Потом капеллан прочел краткую молитву.
После пира за господским столом, где блюда с веприной сменялись жареными лебедями, которых вновь обрядили в перья и подали под кисло-сладкой подливкой, состоялась столь желанная для обеих сторон беседа.
— Mon cher, vous êtes un héros,[83] — польстил упоенный собой герцог.
Отяжелев от обильной еды и приправленного пряностями вина, он ощущал разнеженное блаженство и полнейшее согласие с волей провидения. Сознавал себя счастливым избранником, излучал обаяние на все стороны света. Он жаждал всеобщего преклонения, стараясь казаться великодушным и щедрым. Разве он не облагодетельствовал жалкого итальянского ростовщика, которого усадил на почетное место рядом с первыми баронами графства? Не раздавил его пышностью геральдического зала, знававшего многих государей? Не осчастливил дружеским комплиментом? Чего ж он застыл, как надгробная статуя? Неужели осмелился напомнить о долге?
— Настоящий герой, — слегка подбавив показного восторга, повторил герцог, с трудом удерживая в разомлевшем от винных паров мозгу занимавшую его мысль. От верного решения зависел доступ к денежным сундукам. Подарок Мухаммаду он уже мысленно выбрал. Золотое гранатовое яблоко — символ Гранады, с рубинами в виде зерен.
— В чем вы усматриваете мое геройство, милорд? — по-английски спросил Пеголотти, сразу переведя беседу в деловое русло. — Я всего лишь бедный банкир.
— Бедный банкир? — весело фыркнул Гонт, облизывая чувственные губы. — Разве такое возможно?.. Да вы просто шутник, mon cher, — не нашел он английского эквивалента (dear[84] годилось для обращения с равным). — И отважны, отважны, как маленький Давид, вне всякого сомнения… Пуститься в дорогу, притом без всякого сопровождения… Я бы, знаете, не решился.
— Но я не герцог Ланкастерский, чье имя у всех на устах, — флорентиец разрешил себе легкую двусмысленную улыбку. Логичный и четкий язык оказался удивительно гибким. Он позволял, никак не нарушая границы дозволенного, беседовать на равных даже с самим королем. Особенно с таким, как этот, обделенным и троном, и людским уважением.
— Что привело вас к нам? — Гонт понял намек, но скрыл раздражение за высокомерно-замкнутой маской.
— Во всяком случае, не надежда на возврат ссуды, хотя это было бы куда как кстати именно теперь, когда никто не платит, а слепая, озлобленная чернь только и ждет сигнала, чтобы разнести наши конторы.
— Значит, вы просите защиты? — Пунцовая губа герцога пренебрежительно дрогнула. — Что ж, мы дадим вам приют.
— Лично за себя я спокоен, милорд. — Тонкие пальцы флорентийского патриция скользнули вдоль золоченых ножен стилета. — Но жена, мои сыновья… За них, признаюсь, я порядком поволновался. Особенно в первые дни, пока мы не добрались до Оксфорда.
— Вы привезли с собой семью? Так-так. — Герцог задумчиво повернул браслет на левом запястье. — И что, волнения действительно распространяются?
— В Остере, Уорике, Стаффорде — всюду нам приходилось опасаться за свою жизнь. Я не поручусь за то, что через неделю-другую восстание не достигнет границ графства Ланкастер.
— В моем Ланкастере я совершенно уверен, — отмахнулся Гонт. — И вообще, не стоит преувеличивать. До «восстания», как вы изволили выразиться, нам далеко… Так, отдельные беспорядки. Рабский бунт. Перебесятся и успокоятся.
— Вам, конечно, виднее, милорд, — Пеголотти дал понять, что не слишком полагается на утешительные прогнозы.
— Вернемся, однако, к вашим проблемам, cher ami! — снисходительно улыбнулся герцог, намеренно снижая дружелюбное обращение до уничижительного «любезный». — Я постараюсь, чтобы ваше семейство ни в чем не терпело нужды. Можете на меня рассчитывать.
— Trеs beau, mon prince,[85] — Балдуччо тоже продемонстрировал мастерство словесной игры. Французская непринужденность позволила безнаказанно употребить низший из княжеских предикатов. К таким вещам несостоявшийся король был куда как чувствителен. — Только нам ничего не надо. Через своих поверенных я приобрел дом в Камберленде… Надеюсь, что «беспорядки», — он многозначительно покачал головой, — не распространятся столь далеко? В крайнем случае можно перебраться в Шотландию. Не правда ли? Мы мирные иностранцы и не принимаем участия в ваших войнах.
— Как? Получается, что вы отправили…
— Совершенно верно, милорд, — с полуслова понял банкир. — Моя семья в настоящий момент, причем под весьма надежным эскортом, продвигается дальше на север. — Он мысленно поздравил себя с тем, что не поддался первоначальному импульсу и, по зрелому размышлению, переменил планы. В противном случае его дорогие малютки остались бы заложниками у Гонта.
— Что неподвластно золоту? — умело маскируя разочарование, развел руками герцог. — Однако я сгораю от любопытства, dear, — он все-таки произнес это уравнивающее обоих слово. — Чем обязан радости видеть вас у себя?
— Единственно, что повелевало мною, так это чувство долга, — принимая протянутую руку, почтительно ответил Балдуччо. Однако он ни в чем не желал уступать Гонту, даже в велеречивости. — Я принужден был сделать изрядный крюк, дабы доставить послание Джеффри Чосера, эсквайра.
— Чосера? — вяло удивился герцог. — Что у него за дело ко мне?
— Насколько мне известно, эсквайр торопился проинформировать вас о весьма тревожных событиях, угрожающих имуществу и самой жизни первых лордов королевства.
— Вот как?.. Но я чуть ли не ежедневно получаю из Лондона сообщения. Боюсь, что он понапрасну злоупотребил вашей любезностью.
— Сведения, о которых идет речь, поступили к лорду-канцлеру с запозданием на два дня. Кроме того, мне еще в Уорике удалось обогнать гонца с вашим гербом. Так что разница составится весьма существенная. Впрочем, сами судите, насколько это спешно. — Пеголотти на кончиках пальцев поднес костяной футлярчик.
— Поглядим, поглядим, — заинтересованно пробормотал Гонт, извлекая опечатанный свиток. — Надеюсь, это не баллада о битве под Вальядолидом, которую давно обещал мне наш милый надсмотрщик?
— И не накладные на сукно, что постоянно отвлекают поэта от вдохновения? — в тон ему подсказал Балдуччо.
Но герцогу было уже не до завуалированной пикировки.
— Положение и впрямь осложнилось. — пробежав глазами послание, он отер кружевным платком выступивший на лбу пот. Обильный обед напоминал о себе легкой одышкой. — Но я так и не понял, куда же они все-таки направляются — в Лондон или Кентербери?
— Видимо, сначала все-таки в Кентербери, чтобы дать урок его высокопреосвященству лорду-канцлеру. Но будьте уверены, что вскоре за этим последует Крессинг и, простите, милорд, ваш прелестный Савой.
— Не посмеют. — Мясистая щека Гонта раздраженно дернулась. Сжав волосатые, унизанные перстнями пальцы, он скомкал платок. — Они еще не знают меня! Я велю перевешать всю эту сволочь.
— Если в Англии хватит деревьев, милорд.
— Что вы сказали?
— Я сказал, что лучше начать сейчас, не дожидаясь, пока их армия перевалит за сотню тысяч.
— Армия! — герцог пренебрежительно фыркнул, брызнув слюной. — Сброд с вилами.
— Однако вилы легко пробивают стальные нагрудники, а цепы крушат шлемы. Конный латник практически беспомощен, если его окружает беснующаяся толпа. Поверьте моему опыту, герцог, вы еще не знаете, что такое восставший плебс.
— Я не знаю? Да в Пикардии и Гаскони мы давили их, как клопов! Сотнями, тысячами… Выкуривали огнем из щелей.
— А в итоге? — Пеголотти выдержал красноречивую паузу. — Ваши гарнизоны сидят в нескольких крепостях, тогда как французы преспокойно возвратили назад почти все свои земли. Они хозяева положения. Подумайте, во что превратится Англия, если не на шутку разгорится внутренняя война. Лондон, который давно сгнил изнутри, не вынесет и недели осады. Городская чернь с радостью откроет ворота сельскому сброду. Поймите, милорд, у них все общее: земля, язык, обычаи, предки.
— Предки? — Гонт гадливо поежился. — У вилланов? У городских нищих, которые отлынивают от работы?.. Ничего, мы дадим им острастку!
— Так дайте, если действительно можете! — Пеголотти истово устремил к герцогу руки. — Колодки, плеть, виселицу — все что угодно. Раб, посягнувший на своего короля, способен на все. Это страшнее «Черной смерти».
— Канцлер пишет, что контролирует положение.
— Он заблуждается. К тому же сведения устарели. «Большое общество» вышло из тени. У них есть вожаки, которые отлично знают свое дело. И, главное, ни перед чем не останавливаются. Ни перед чем! Иначе бы они не посмели разграбить королевские маноры. Подумайте о своих детях, милорд, о внуках, если не дорожите собственной жизнью.
— Не могу же я увести войско с границы! — герцог едва сдерживался. Слишком буйное воображение латинянина, сопровождаемое неумеренной жестикуляцией, оказали явно обратное воздействие. Чем страшнее звучали мрачные пророчества, больше похожие на угрозы, тем слабее в них верилось. Ломбардец просто-напросто торговался, пытаясь сыграть на естественном чувстве самосохранения. Главное было — как можно скорее понять, что он надеется выторговать для себя лично. — Попробуйте встать на мое место, — предложил Джон Ланкастер, зажмурив глаз, как при стрельбе. — Что предпримете вы, полководец золотых ноблей, коннетабль стерлингов и серебряных грошей? Отзовете армию из Франции? Откроете шотландцам дорогу внутрь страны?.. Так-то вот, mon cher.
— Дайте срок, и мы попробуем договориться с Робертом Стюартом. Это не пустые слова, милорд. Я говорю от имени всех банкирских контор Флоренции. Война — вот главная причина нынешнего опасного положения. Перед лицом взбунтовавшегося плебса короли обязаны действовать заодно.
— Превосходная мысль! Мы не хотим осложнений на севере. Как только Стюарт отведет своих гэлов от Твида, я всей мощью ударю по сброду, что самовольно расползается по нашим дорогам… К сожалению, повесить придется только зачинщиков. Иначе кто станет работать в манорах? Загнать свиней обратно в хлев — вот наша задача.
— Вы позволите мне довести ваши слова до его милости короля Роберта?
— Считайте себя моим личным послом. Как только они уберутся в свои горы, мы займемся наведением порядка. Порукой — мое королевское слово.
«Королевское слово, — мысленно повторил Пеголотти, — много ли стоит оно без королевства? Все идет прахом. Кастильцы и французы в союзе с Шотландией. Пока британцам снятся чужие венцы, они не успокоятся. Никто не желает слушать самозваных пророков, никогда и нигде».
Осязаемая близость страшной развязки томила кровоточащее сердце. Можно было попытаться оградить близких, спастись самому, но как быть, если весь мир упрямо катится в пропасть? Дрожит, расползается земля под ногами, ликует ад в языках пламени и клубах смрадного дыма. В своих заверениях он, видно, зашел слишком далеко, обещая поддержку флорентийских банкиров. Пораженные всеобщей слепотой, его умудренные соплеменники были не лучше прочих. Проглядели грядущее светопреставление в сваре за лишний процент. Сражающиеся коалиции черпали золото из одного мешка, питая обескровленного, готового испустить дух дракона. Ослепительное многообразие жизни обернулось нежданно полнейшей бессмыслицей. Не было выхода из заколдованного круга.
— Благодарю за доверие, милорд, и позвольте откланяться, — Балдуччо Пеголотти разом утратил интерес к дальнейшим словопрениям.
— Э, нет, mon cher, нам предстоит еще о многом до говориться, — забеспокоился герцог, так и не приблизившись к сокровенной цели. Спешно выискивая, чем прижать кредитора, он ощутил внезапную растерянность, которая сразу же сменилась досадой. — Мы обмозговываем грандиозное предприятие, а вы вдруг срываетесь с места. Для успешного похода требуются…
— Средства? — подсказал Пеголотти. — У нас найдется возможность обсудить подробности, когда вы примете окончательное решение.
— Но я уже принял! Какую-то часть сил можно перебросить к Лондону, чтобы создать нечто вроде заслона. Вы понимаете, о чем я говорю?.. Но мне необходимо снаряжение, лошади и прочее… В поддержании порядка в столице мы оба достаточно заинтересованы. Хотя мэр Уолуорс и мой человек, но лишние усилия не помешают. Фламандцы жалуются на участившиеся случаи грабежа, да и у вас, на Ломбардской улице, по-моему, не все благополучно?
— У вас верные сведения, — признал Балдуччо. — Но меня лично тревожат сейчас не столько лондонские конторы, сколько семья. Когда мы обоснуемся и пустим корни на новом месте, я с радостью предложу вам свои услуги. Сейчас я практически гол. Все состояние мы заблаговременно перевели за границу.
— Но я бы мог послать доверенных лиц с вашим векселем.
— Едва ли его согласятся оплатить, ваша милость, — Пеголотти дерзко улыбнулся. — Если я и коннетабль, то без ноблей. На сегодняшний день, разумеется. Мы оба живем надеждами. — Он церемонно поклонился несостоявшемуся королю и с гордо поднятой головой покинул увешанный знаменами зал, скупо поблескивающий стершейся позолотой.
По расчетам банкира, донна Лаура и оба маленьких Пеголотти уже переправились через Твид.
«Никогда не следует класть яйца в одну корзину», — вспомнил он английскую поговорку.
Йоркские нотабли уже около года вели необъявленную войну против правительства. Город был наводнен летучими письмами.
Джек Правдивый дает вам понять: Ложь и обман царствовали слишком долго, Правда была заперта на замок, А ложь царила в каждой пастве, Человек не мог добраться до правды. …И потому грех распространяется широким потоком, Правдивой любви, которая была так хороша, не стало совсем, Боже, дай удачу, ибо пришло время.Глава восемнадцатая К Фоме Бекету
Паломников бессчетных вереницы Мощам заморским снова поклониться Стремились истово; и многих влек Фома Бекет, святой, что им помог В беде иль исцелил недуг старинный, Сам смерть приняв, как мученик безвинный. Джеффри Чосер. Кентерберийские рассказыПо случаю краткого замирения с Францией архиепископ Кентерберийский разрешил заморским богомольцам совершить паломничество к мощам Фомы Бекета. Примас и канцлер отнюдь не был уверен, что в нынешней обстановке странники вообще сумеют добраться до Кентербери. По имеющимся сведениям, все графство Кент было совершенно отрезано от столицы. Не ощущая повседневно направляющей руки Гонта, он пребывал в суетливой растерянности. Гоняя без особой надобности сержантов и герольдов, он устраивал мелочные разносы секретарю, вызывая еще большую панику и неразбериху. Истинное положение в мятежных графствах по сей день оставалось неясным. Рассказы беженцев были полны преувеличений и отличались крайней противоречивостью. Дальше собственных маноров, разоренных якобы прямо у них на глазах, перепуганные лорды ничего не желали видеть. Они даже не могли указать, где находятся в настоящее время главные силы повстанцев, по каким дорогам и куда именно направляются. Назывались разные пункты: Крессинг, Кентербери и, как ни странно, Лондон. Очевидно, это отвечало скорее дальним стратегическим планам бунтовщиков, нежели их ближайшим тактическим целям. Нетрудно понять, что за названиями скрываются конкретные имена, в том числе и его, канцлера, особо выделяемые в поджигательских проповедях.
Здравый смысл подсказывал успокоительные аргументы. Между затасканными молвой лозунгами и конкретной действительностью зачастую возникают непреодолимые барьеры. Чувства чувствами, а жизнь жизнью. Чуть раньше, чуть позже, но половодье спадает и разлившиеся реки возвращаются в свои берега. По-прежнему оставались в неизвестности главари мифического «Большого общества». А без военачальников, как известно, армии не бывает. Восставших парижан возглавлял Этьен Марсель, Жакерию, если не изменяет память, — Гильом Каль, фландрских суконщиков — несносные Артевельде, а этих кто? Люцифер? Велиал? Астарот?.. Очевидно, нет у них ни общего для всех главаря, ни единой цели. В одной общине устраивают вселенский содом, а в соседних сотнях тишь да гладь: вилланы исправно платят подати, усердно трудятся в манорах на своих лордов, которые даже не помышляют о бегстве. Куда и зачем? У них абсолютно спокойно. Что же все-таки происходит в стране? Факты неповиновения и даже открытого бунта налицо? Налицо. Разбой опять же, самосуд, грабежи, поджоги. Но даже тут не без странностей.
Что касается разоренных вилл и аббатств, то пока не удалось точно установить, чьих это рук дело: вооруженных повстанцев или же просто бандитских шаек, которые никогда не переводились в английских лесах. Не исключено, что к вандализму причастны и неорганизованные местные сервы, не желающие платить положенные законом подати. Печальные события в рыбацких поселках и небольших городах никак не стоило возводить в абсолют. Досадные вспышки могли быть вызваны общей атмосферой в стране, а не какой-то целенаправленной деятельностью. Подтверждение тому — мейдстонский инцидент, о котором правительство проинформировали достаточно подробно и, главное, быстро. Согласно докладу бейлифа, в город заявилась ватага горлопанов из Дартфорда. Сама собой напрашивалась мысль, что подобный маневр мог быть предпринят с единственным намерением освободить из архиепископской тюрьмы Джона Болла. Застигнутый врасплох гарнизон кое-как подготовился к осаде и возможному штурму. Однако на поверку ничего подобного не случилось. Смутьяны ограничились тем, что разрушили дом Уильяма Топклайва, сборщика налогов, и роздали окрестным крестьянам обнаруженные в подвале бочонки с деньгами. Ворюга, осмелившийся утаить от казны столь значительный капитал, явно драл не по чину. О нем Седбери нисколько не сожалел. Потом под горячую руку повстанцам попался какой-то Стонхилд, тоже, надо думать, знатный мошенник, после чего орда покинула город, не причинив ни малейшего беспокойства гарнизону замка, где сидел клочестерский расстрига. Почему кентцы не попытались извлечь из узилища этого безумца схизматика — бог знает. Разумно ли после подобной промашки всерьез говорить о какой-то организации, о каких-то далеко идущих планах и прочее? Досадная чепуха, дурной сон в стиле Петра Пахаря, и только.
Вся беда Англии в том, что у нее скверные слуги: либо воры, как Топклайв, либо напыщенные идиоты, вроде судьи Белкнапа, которому почему-то покровительствует лорд-казначей.
Примерно так выстраивалась картина восстания в голове канцлера и высокопреосвященного архиепископа. Однако безумие, как скажет спустя столетия Шекспир, обнаруживает определенную систему. Утратившее здравый рассудок правительство, заблуждаясь в основе, подметило и правильно оценило отдельные частности. В стихийном, едва оформившемся движении, еще не набравшем достаточной силы, и впрямь превалировал сиюминутный порыв. Зачастую и вовсе течение событий определяла случайность.
С головой погрузившись в налоговые неурядицы, канцлер не только гнал от себя всякие мысли о бунте, но даже запретил упоминать само это слово. Когда мать-опекунша пожелала в самый разгар брентвудских событий навестить свой манор, он и не подумал предостеречь ее о грозящей опасности. Земля уходила из-под ног, а в Виндзоре беспечно музицировали и танцевали. Менестрели пели о розах и лилиях, о рыцарской чести. Королевский шут комично изображал прижимистых олдерменов и лодырей-подмастерий.
К исходу седьмого дня июня — он, как известно, пришелся на пятницу, когда дартфордцы проучили мейдстонских казнокрадов, — отряд, предводительствуемый булочником Кейвом, подошел к расположенному по соседству Рочестеру. Здесь уже находились воинственные уроженцы Эссекса, которые по всем правилам осады обложили замок. Тот самый, где томился Роберт Беллинг, свободный гражданин города Грейвзенда, увезенный рыцарем де Берли.
Не так уж случайны стихийные проявления гнева и воли народной, если целая армия спешит на выручку одного-единственного неправедно осужденного человека. В том, что имя доселе безвестного Беллинга не затерялось в бурлящем потоке времен, видится определенная закономерность. Ее смысл благороден и чист. Военачальники вроде Клиссона и рыцаря Нолза никогда бы не свернули с намеченного пути, чтобы выпустить из клетки столь неавантажную пташку. По всем законам батального искусства это выглядело непозволительной роскошью, причудой, глупостью даже, которая могла стать роковой. Застрять за здорово живешь у какого-то малозначительного замка, когда дорог каждый день и главные силы беспрепятственно идут в направлении Кентербери? Это, по меньшей мере, рискованная авантюра. Но тем и отлична народная война от войн королей, что главная цель ее не от мира сего. Не земли, не бочки с монетой, но только Правда — святая, единственная. Равно милостивая ко всем и суровая одинаково, участливая к великим и малым. И ясная, как на заре человечества, когда Адам ковырял землю мотыгой.
Другим назначено было распахнуть двери архиепископской тюрьмы, и нет в том вины славного булочника. Ни сном ни духом не ведал мастер Кейв, что был так близок от Болла, когда рассыпал серебро, наделяя бездомных и сирых, когда крушил остервенело сундуки и лари. Никто и не догадывался, что клочестерский проповедник томится так близко и сквозь железные прутья пускает в вольный полет голубков.
На белых крыльях летела правда по миру. И не давала покоя, и жгла неутолимой жаждой. Никто об этом не говорил, но каждый смутно угадывал, что перед ее судом высочайшим и капли крови единой достаточно, и слезинки невинной, чтобы вырвать из ножен меч.
От расположившихся бивуаком эссексцев отделилась знакомая фигура в порыжевшем от солнца плаще. Уот Тайлер поспешно оседлал белоснежную с золотистым хвостом лошадь и устремился наперерез запоздавшему воинству.
— Ты когда должен был прибыть сюда, Боб Кейв? — гневно бросил он, осадив коня, и руку в перчатке до самого локтя положил на рукоять кинжала.
— К полудню, — захлопал припухшими веками еще хмельной от мейдстонской забавы булочник. — А что случилось?
— Взгляни, — Тайлер указал на пунцовый диск, клонящийся к лесистым холмам. — Эдак и до утра не управиться, а ведь ночь мы должны были встретить в дороге.
— Брат Уот! — взмолился великан мастер. — Ты даже вообразить не можешь, какие молодцы наши парни! Хочешь, мы с ходу перемахнем через стены и разнесем все в мелкие щепки? Только скажи. Все будет кончено до первой звезды.
Ремесленники из скромного Дартфорда оживленно загалдели. Сгрудившись вокруг вожака и размахивая дубинками, они огласили воздух воинственными кликами и божбой. Победный восторг заодно с бочонком кентского эля, который хоть и дешевле на целый пенс лондонского, но зато крепче, наполнил их бесхитростные сердца непривычной отвагой. Они готовы были помериться силой со всеми рыцарями Английского королевства.
— Только скажи, брат. Уж мы не подкачаем, всыпем как полагается! Англия и святой Георгий!
— Да здравствует король и его верные общины! — взвивались возгласы в золотое, как нимбы святителей, небо, где блистали невесомые облака.
Дали немыслимые раскрывались за поворотом дороги, и казалось, так близко до желанного, невыразимого в слове предела, что сладкая боль разливалась внутри.
Но был молчалив и строг всадник, и складки плаща, упадая до звездочек шпор, одевали его как сияющий мрамор. Схлынуло веселое оживление, сами собой умолкли хвастливые шутки.
— Теперь послушайте меня, вы все, — едва размыкая пересохшие губы, молвил Уот. — Ты, Кейв, займешь вон то местечко на левом крыле, — не оборачиваясь, он указал на ложбину, где вспыхивали чешуйки заросшей кустами реки. — Атака начнется по моему сигналу. Твоя задача оставаться на месте и никого не выпускать из крепости. — И пояснил, помолчав: — Не забудь, что река уходит за стену. Там есть подъемная решетка. Ты хорошо понял, Боб Кейв? А вы, молодцы, встаньте, как положено людям военным. Не жмитесь друг к другу, будто овцы вокруг пастуха. Не то на всю вашу бравую команду хватит одного метко выпущенного ядра.
— Разве в Рочестере пушки? — послышался юношеский насмешливый голос. — Откуда?
— Почем я знаю? — Тайлер отыскал взглядом спросившего. — Настоящий воин должен быть готов к любой неожиданности… Что отличает воина?
— Отвага, брат Джон, — весело оскалился молодой подмастерье.
— А разве лесной брат не отважен?.. Воина делает строй. Каждый должен знать свое место. Что бы ни случилось, в любой передряге. Понятно?.. Однако это еще не все. Настоящий вояка беспрекословно и без промедления выполняет приказ. А я ведь уже отдал команду? — Тайлер внезапно преобразился. — Ну-ка, парнишка! — Дав лошади шпоры, он выхватил у любознательного ученика дубинку и принялся выравнивать строй. Может, кого и задело в сутолоке, зато бесформенная орда вскоре приобрела приятные для глаза очертания походной колонны. Ошеломленные дартфордцы опомнились уже в шеренгах, послышались запоздалые проклятия и угрозы.
— Спокойно, братья, не петушитесь. — Тайлер перебросил дубинку владельцу. — Этот маленький урок преподан для вашей же пользы. Надеюсь, вы усвоили азы военной дисциплины? Возможно, однажды это спасет кому-то из вас жизнь… А теперь, брат Роберт, веди отряд… Запомните крепко, ребята, только став настоящими бойцами, мы сможем добиться победы.
Он кивнул на прощание и ускакал, вздымая фонтанчики пыли. Вытянутая тень всадника и коня, слегка приотстав, летела к осажденному замку. Как темная туча, низринутая с лучезарных высот. Юркие ласточки неслись перед напруженной конской грудью, подобно дельфинам, направляющим путь корабля. Сухо, знойно стрекотали кузнечики в пшеничных полях по обе стороны от дороги.
Еще не засветилась в полную мощь нежно мерцающая в светло-зеленом небе Венера, как пала обреченная цитадель. Ее немногочисленный гарнизон, которым командовал доблестный рыцарь Джон Ньютон, сражался с достойной твердостью, но превосходство нападающих было слишком очевидным. Понеся незначительные потери, повстанцы овладели сначала барбиканом, затем внутренним двором. Защитники последней башни, видя бесполезность дальнейшего сопротивления, сложили оружие.
Победители проявили великодушие. Принудив пленных поклясться в верности королю и общинам, они отпустили их на все четыре стороны. Злополучного Беллинга извлекли на свет божий из каменного колодца и, подняв над ликующей толпой, пронесли на руках до внешних ворот. Справедливость восторжествовала: свободный горожанин был возвращен Грейвзенду. С этого момента имя его, прогремевшее на всю Англию, ни разу не упомянуто в хрониках. Для славы, как и для жизни, отведен скупо отмеренный срок.
Верный себе Уот Тайлер не дал людям даже короткой передышки. Ловя последние отблески отгоревшего дня, до предела наполненного волнующими событиями, он вывел войско на кентерберийскую дорогу. Задержал коня возле покосившегося распятия, пропуская вперед кентцев, эссексцев и матросов из Суффолка, ненароком ввязавшихся в жаркое дело. Вровень со звездой наливался оранжевым светом пребывавший в первой четверти месяц, и ржавая полоска еще не остыла над холмами лесистыми и мрачным замком, канувшим в забытье. Мелькающие лица едва угадывались, неровно качались копья над черной змеей, растянувшейся на добрую милю, значки и флаги смазала мгла. Скупо посверкивала сталь нагрудников, скрипела кожа, бряцали, задевая друг друга, добытые в бою алебарды.
За колонной, чьи дозоры давно поглотила непроглядная синева, громыхали колеса трофейных фургонов. Оттуда доносился нарочито визгливый смех. За войском всегда следует обоз, а с обозом — удалые подруги солдата. Близость смерти особый вкус придает торопливой и жадной ласке. Она как легкая горчинка в черном испанском вине, как запах полыни, влекущий, тревожный, которым наполнен остывающий воздух.
Бивуаком расположились в стороне от дороги, на опушке дубравы, когда в полный голос запели сверчки и козодой отозвался испуганным всхлипом. Солнце почти достигло высшей точки, и поход возобновился. В городках и замках, прихотливо разбросанных по равнине, призывно наигрывали колокола. Все чаще встречались паломники, идущие поклониться мощам Фомы Бекета. Постукивая посохом, вереницей проходили слепые, ковыляли увечные и хромые, подскакивая на костылях. Печальный ослик катил тележку с паралитиком. За ней скакал, глотая пыль, гримасничающий идиот с незаживающей язвой на подбородке.
И каждый лелеял надежду на чудо, терпеливо снося все тяготы пути. Губы шептали молитву, скорбные, наполненные слезами глаза светились экстазом.
Одни слепые, не веруя уже в чудо прозрения, брели своей непостижимой стезей.
Богатые богомольцы в сопровождении слуг трусили на мулах, лаская взоры яркими красками дорожных блио, обшитых волнообразной каймой фестонов. На дамах были соркени, подчеркивавшие округлые груди, и контрастные по цвету платья из тонкого камплина. Лишь драгоценностей недоставало по понятным причинам. Затейливые цепочки, тяжелые, усыпанные блескучими камешками браслеты, ажурные серьги венецианские, перстни с камеями — все эти приманчивые безделушки остались дома за семью замками, а то и в кувшине, зарытом где-нибудь под заветным деревцем.
Крестьяне и подмастерья тащились пешком, шаркая остроносыми башмаками с короткими, спущенными на манер чулка голенищами. У них и сукно было погрубее, все больше зеленое или коричневое, и свое добро они несли на себе. Бесконечные узелки, привязанные на конце посоха, сумы из дерюги и сыромятной кожи, корзинки из лыка.
И всякий раз кто-нибудь выскакивал из рядов, останавливал богомольцев, и прямо средь дорожного гама и пыли начинались расспросы: кто, куда и зачем? Выяснение личности заканчивалось обычно повторением чуть ли не по слогам присяги на верность. Кто с испугу, но большая часть с чистой душой обещали хранить верность королю Ричарду и общинам и не признавать королем ненавистного Гонта. Постепенно требования возрастали, ибо по мере приближения к Кентербери ряды повстанцев пополнялись все новыми и новыми волонтерами. В каждом селе, в каждой сотне, мимо которых следовало народное войско, объявлялись борцы за правду. Положив руку на Библию, они клялись встать под ее святое знамя по первому зову и привлечь к общему делу друзей и соседей. И еще они давали твердый обет, что не допустят в королевстве никакого другого налога, кроме пятнадцатой деньги, которую только и знали отцы и деды. Присягу принимали вожди: Тайлер, Шерли, Боб Кейв. В походном строю мужала и крепла народная воля. Свободные йомены сами указывали повстанцам дома, где засели изменники: коллекторы «разбойника Хоба», лихоимцы-законники, доносчики-присяжные. И вновь приходилось задерживаться, творя скорый и праведный суд. Ползущая по дороге колонна все вытягивалась и вытягивалась, одни ждали, другие догоняли, возникали заторы, путалась упряжь, сталкивались арбы. Джон Шерли едва не загнал своего жеребца, перелетая от авангарда к хвосту, от арьергарда назад к голове. Конь был весь в мыле, предводитель сорвал голос, но положение ничуть не улучшилось. Скорее напротив: чем дальше вытягивалась походная колонна, тем медленнее становилась ее неторопливая поступь.
Между тем пронеслась в горячке суббота, незаметно пришло воскресенье, а до гроба святого Фомы было далековато. Но ширилось очистительное пламя, захватывая глухие углы и богом забытые норы.
Крестьяне Четэмской сотни, предводительствуемые Томом Берчстедом, напали на усадьбу присяжного Бедемантона, жители Фавершема с портным Джоном Гарднером во главе навели порядок в своей общине, Томас эт Равен из Рочестера захватил несколько кентских рыцарей и под угрозой тюрьмы заставил их присягнуть на верность народу.
И так было повсюду: деревни, сотни, города — длинный перечень дерзких подвигов и имен.
В понедельник, одиннадцатого, стали подниматься жители Бленгетской, Тенгемской, Уингемской, Кингемфордской, Кренбрукской, Тендерденской, Лонгбриджской сотен. И, как везде, выше крыш взлетала черная копоть. Вместе с податными списками трещали в огне протоколы судов и ренталии. Только книги уже не швыряли в костры. Повсеместно распространился строгий наказ «Большого общества»: оберегать от уничтожения и порчи запечатленную в буквах премудрость господню, нравоучения седой старины, героические сказания ближних и дальних народов. Взирая с прискорбием на разорение милых желудку и сердцу аббатств, изобильных вином, пшеницей и шерстью, прилежные летописцы не уставали повторять, что первым делом гнев озверелой невежественной толпы обрушивался на священные манускрипты. Память, травмированная пережитым страхом, явно подвела почтенных хронистов. Пергаментные портфели с денежными документами — единственное, что искала на полках либрариев вооруженная беднота. Ветхих рукописей, переплетенных в отполированную до блеска кожу, не коснулась злонамеренная рука. Там и остались они, где стояли, благополучно пережив все превратности долгих столетий. Уцелели и хроники, без коих едва ли можно было воссоздать удивительные метаморфозы тех незабываемых дней.
— Быстрее, быстрее! — понукал побледневший от бессонницы Тайлер.
Его губы потрескались, запеклись коркой, покраснели окаймленные свинцовой тенью глаза. Даже конь его и тот до того отощал, что выступили полукружия ребер.
Когда с возвышенности вдруг распахнулась долина Стаура с каменным мостом и купами ив, отливающих серебром, Уот сомкнул воспаленные веки. Поля цветущей горчицы, уступами нисходящий к реке виноградник, могучие башни в радужной дымке — все было как сон среди бела дня.
Глава девятнадцатая Джон Правдивый
Джон Пастух, некогда священник церкви св. Марии в Йорке, а ныне в Колчестере, приветствует Джона Безымянного, и Джона Мельника, и Джона Возчика и просит их, чтобы они помнили о коварстве, господствующем в городе, и стойко держались во имя божие, и просит Петра Пахаря приняться за дело и наказать разбойника Хоба и взять с собой Джона Правдивого и всех его товарищей и больше никого — и зорко смотреть на одну только голову и ни на какую больше.
Письмо Джона БоллаИ сбылось по слову его: двадцать, если не более, тысяч собрались в Мейдстоне, и явились к тюрьме, и распахнули перед узником двери. Стража, едва прознав о приближении такой силы, поспешно бежала. Ворота и те остались незапертыми. Мечи, протазаны валялись в дикой траве, вымахавшей в рост человека, под зубчатой стеной.
Двор опустевший, солнечным жаром облитый, песня жаворонка невидимого и тишина, вдруг воцарившаяся после лязга и гомона, пронзительная, тугая, как натянутая для выстрела тетива. Рядом с колодезным срубом сталью поблескивал чертополох. Скромный цветочек алел запекшейся каплей. И белое облако, словно вестник желанный, парило в слепящей голубизне.
Джона Болла, а за ним и других заключенных бережно вынесли на середину двора. Заросший, босой, закрываясь рукой от непривычного света, он приготовился к проповеди, но не сумел преодолеть волнения. Растроганно, как патриарх на внуков и правнуков, взирал на обнаживших головы вооруженных людей. Строги и сосредоточенны были их лица, но радостны и беспечны доверчивые глаза.
— Братья мои, — начал Болл, и собственный голос показался ему чужим и далеким. — Добрые мои англичане!.. Прошу вас лишь об одном. Доведите до благополучного конца начатое дело. Не бросайте его на полдороге. Вас так легко обмануть фальшивой улыбкой и лживыми обещаниями. Не доверяйтесь никому, кроме Джона Правдивого и верных друзей его… Тернист и долог путь к правде, не раз и не два вам захочется остановиться, передохнуть, а то и вовсе вернуться назад, когда покажется, что цель достигнута, враги отступили, победа, как спелое яблочко, сама готова упасть в ваши руки. Сохрани нас, боже, от такого соблазна! Не отдохновение, но лютую смерть обретете вы под кровлей родного дома. Смерть и рабство, а рабство хуже, чем смерть, подстерегают вас под каждым кустом, принимая соблазнительные обличья. Не обольщайтесь! Крепитесь! Только свободными вы сможете возвратиться к вашим женам и детям. Добыв свободу для них, вы и сами почувствуете, что значит свобода… Теперь идите, я все сказал.
— Благослови, отец! — послышался откуда-то из задних рядов зычный, уверенный голос.
Людская масса зашевелилась, пришла в движение, неохотно раздавшись, образовала проход, и Джон Болл увидел, как от ворот прямо к нему направился широкоплечий, ладно скроенный человек с оловянным образком святого Христофора поверх кольчуги.
— Уот Тайлер! — послышались восклицания, и вскоре это имя было у всех на устах. Его повторяли, словно пробуя на разные лады, то здесь, то там, прислушиваясь к звучанию, передавали дальше, пока нарастающий рокот не поглотил отдельные возгласы. Этот короткий путь от ворот до середины тюремного двора был подобен восхождению на самую высшую ступень признания, которую дарует единодушный выбор народа.
Тайлер еще шел к проповеднику, а в толпе уже говорили, что он и есть легендарный Джон Правдивый — воин, защитник, вождь. Откуда пришла весть, какими путями распространилась? Едва ли кто-то успел произнести членораздельные звуки, и уж тем более не могли они разлететься так скоро от одного уха к другому. Не так это было, не так. Помимо слуха и речи люди словно бы обрели дар прозрения. Неподвластная пространству и времени нервная сила пронзила всех и каждого, подчиняя единому ритму. И не было радости светлее и шире, чем это удивительное ощущение высочайшего взлета, в общем биении слившего удары тысяч сердец.
Экстатические видения, восторг и ужас, упование на небесные блага и леденящий трепет загробных мук — все это было с детства знакомо. Века прошли в напряженнейшем ожидании: то ли скорого освобождения гроба господня, то ли еще более скорого конца света. «Черная смерть» опустошала города и веси, безумные чудотворцы брели по дорогам в толпе калек и слепцов, падали и бились визионерки, узревшие божью матерь, и выступали кровавые стигматы на руках и на лбу, и выли на разные голоса дьяволы, завладевшие телом.
Народ лелеял, вынашивал в себе эту способность воспламениться. Всасывая ее с молоком матерей, заражали далеких потомков. Но помимо этой поразительной готовности к душевному единению людей, пришедших освободить Болла, связывали узы иной природы — осознанные, выстраданные, обретенные в общей борьбе.
Каждому не терпелось в ту же секунду увидеть вождя, дотронуться до него рукой, еще раз услышать грубоватый и зычный голос — властный голос, земной. Отмеченный знаком избранника, Тайлер был частицей их плоти и крови, еще таким же, как все, как любой. И уже не таким, уже осененным легендой. Предугаданный, завещанный, долгожданный, Джон Правдивый крепко ступал по земле. Это было больше чем чудо. К чудесам привыкли сызмальства. И ангелы являлись, и демоны, а вот путей к правде не ведал никто. Теперь пришел тот, кто мог повести за собой по верной дороге. Одним своим зримым присутствием он каждого возвышал до себя. Даже самый недоверчивый и осторожный безоглядно уверовал в общее дело. Все выходило по слову Болла: весть о предсказанном освобождении тоже распространилась. И как поучал проповедник, смотрели теперь на одну только голову и ни на какую больше. На такого парня можно было положиться с первого взгляда. Уот Тайлер воистину вышел из глубин народных, из темного омута страданий и бед. Никто не знал, где его дом, где и как он жил эти годы. И никто не узнает, ибо он унесет свою тайну с собой.
Приблизившись к проповеднику, Тайлер преклонил колено и опустил голову.
— Прими клятву на верность стране и богу, отец, — он ткнулся губами в жилистую ладонь. Избранный тут же, в Мейдстоне, на совете командиров отрядов главнокомандующим, он с достойным смирением ждал завершающего жеста.
— Это ты? — тихо спросил Болл и, словно слепой, осторожно коснулся руками коротко остриженных волос. Узловатые пальцы невесомо перебежали на круто выструганный затылок. — Поднимись, я благословляю тебя.
Тайлер выпрямился и, став рядом с проповедником, громогласно объявил, разом присвоив себе прерогативы и папы и короля.
— Вот вам новый архиепископ Кентерберийский, братья!
Ему ответили восторженным гулом. Люди обменивались счастливыми улыбками.
— Благословляю и вас, дети мои, — дождавшись успокоения, Болл начертал в воздухе крест.
Все казалось достижимым в эти удивительные минуты. Как легко, как буднично-просто сбывались самые безумные мечты.
— Да здравствует король и его верные общины! — прозвучал знакомый клич. Его тут же подхватили во всю силу легких и принялись скандировать, потрясая оружием. Один за другим вышли командиры отрядов и стали полукругом позади обоих вождей. Уот Тайлер взмахнул рукой, призывая к вниманию.
— Вы слышали, что сказал наш учитель? Час ликования еще не пробил. Поход продолжается, — он обернулся к командирам отрядов. — Постройте колонны.
— Повремени, — шепнул проповедник. — Пусть люди знают, за что им придется пролить свою кровь.
— Люди знают все наши требования, — так же тихо ответил Тайлер. — Минувшей ночью мы обсудили и приняли их во всех отрядах. Прости, отец, но нам действительно дорога каждая минута… Ты, наверное, нуждаешься в отдыхе?
— Я пойду с тобой.
— Все же дождись нас здесь. К Мейдстону должен подойти отряд из Миддлсекса. Да и в городе нужно как следует закрепиться. Мы скоро вернемся.
К полудню сборы были закончены, и тридцатитысячная армия двинулась на Кентербери. В обозе везли даже три схваченные железными ободами пушки. К сожалению, не нашлось никого, кто бы умел с ними обращаться. Закрепленные на неподвижных лафетах стволы внушали суеверный страх. На всякий случай от них старались держаться подальше. Пороха, впрочем, не было.
Уот Тайлер, сопровождаемый небольшим кавалерийским отрядом, вырвался далеко вперед и вскоре нагнал головной дозор. Разведчики безмятежно расположились под сенью придорожных лип, а поодаль, возле отдельно стоящего дуба, затевалась какая-то подозрительная возня.
— Вы чего тут прохлаждаетесь? — спросил он длинноносого и черного, как грач, кентца по прозвищу Джек Строу.
— Самозванца поймали! — радостно усмехнулся Джек. — Понимаешь, Уот, наглец осмелился назваться твоим именем.
— Любопытно, — Тайлер озадаченно мотнул головой. — И чего же он хочет?
— Воевать, как все, говорит, но я сразу понял: шпион Хоба. Думал нас провести, да не на такого нарвался. Я велел его вздернуть. Жаль, ребята чего-то замешкались, наверное, не знают, как это делается.
— А ну-ка верни их, Джек Строу!
— Кто ты? — спросил Тайлер, когда перед ним поставили связанного детину лет тридцати, красного от злости и пережитого унижения.
— А ты кто? — вызывающе вскинулся тот, затравленно косясь на своих обидчиков. — Сначала вешаете, а потом спрашиваете, умники… Чертовы бастарды! Еще немного, и я бы болтался на ветке! Так-то вы обращаетесь со своими! Вас самих надо повесить за такие шутки.
— Выходит, ты свой? — Тайлер с любопытством оглядел дерзкого смельчака. — Тогда ответь нам, сэр Ругатель, за кого ты стоишь?
— За короля и верные общины, — не моргнув глазом, выпалил пленник, тяжело ворочая могучими плечами. — Да развяжите мне руки наконец! — взмолился он, закусив губу.
— Еще чего? — лягнул его один из конвоиров, худосочный и, судя по всему, трусоватый. — Он и без рук сущий дьявол! Не подступись. Попробуй вздерни такого! Руку вон прокусил чуть не до кости, — он озабоченно потрогал предплечье и сердито поморщился.
— Твое имя, удалец? — скрывая улыбку, спросил Тайлер.
— Гарри Рыбник, — обнажив гнилые зубы, буркнул худосочный и зачем-то поправил ремешок на лбу.
— Я не тебя спрашиваю, — Тайлер ободряюще кивнул пленнику. — Как звать?
— Ну Джон Тайлер! — парень вновь обнаружил признаки гнева. — Сколько можно долбить одно и то же?
— Не знаю, кому и чего ты долбил, но мы с тобой, кажется, видимся впервые. Или я ошибаюсь?
— Черт вас знает, дураков-свинопасов. Когда тебя собираются вешать, не до знакомств. Все на одно лицо.
— Верное замечание, братец, — весело усмехнулся Тайлер. — Развяжите его.
— Но послушай, Уот, — заикнулся было Строу. — Ты же сам слышал…
— Что этого достойного человека зовут Джоном Тайлером? Не вижу в том ничего дурного. Достойное имя. С чего ты решил, что он самозванец? Шпион? Я — Уолтер, он — Джон.
— Джон Правдивый! — со значением подчеркнул Строу. — Хитро закручено.
— Все мы — Джоны: ты, он, я. Мы — это народ, а где народ, там и правда. — Тайлер упрямо сдвинул брови. — Немедленно освободите этого человека, а не то живо очутитесь на его месте… Откуда ты, брат Джон? — Он участливо наклонился, удерживая нетерпеливо переступавшую лошадь. — Что привело тебя к нам?
— Значит, ты тоже Тайлер? — освобожденный от веревок, Джон принялся растирать запястья. — Из наших? — Он с любопытством глянул на всадника, ловко сидящего на белой лошадке с золотистой гривой и пышным хвостом. — Из кровельщиков?
— Ты хоть знаешь, с кем говоришь? — презрительно усмехнулся Строу.
— Оставь, Джек! — оборвал Уот Тайлер. — Рассказывай, кровельный мастер Джон. Откуда ты?
— Можно и рассказать, если по-хорошему просят, — упрямый кровельщик демонстративно уселся на траву и поджал под себя ноги. — Сам я отсюда, из Кента. Город Дартфорд знаешь небось?
— Слыхал. Славная была заварушка.
— Еще какая! Но это уже после… Понимаешь, Уолтер? Все, пожалуй, с меня-то и началось… Явился к нам, значит, этот сборщик налогов. Я сам на дворе у кума работал, черепицу подновлял, поэтому с ним хозяйка моя беседу вела, Анна. Он, как у них положено, разложил бумаги и начал требовать, чтобы мы тут же все уплатили. За всех домочадцев и слуг. Надо так надо — налог. Жена согласилась, даже пошла за деньгами и только сказала, что список неправильный. Дочка у нас ведь еще ребенок, не взрослая женщина, и за нее, мол, рано платить. Пусть сперва подрастет. И что ты думаешь выкинул этот бастард? Схватил девчонку за руку и поволок в кладовую. «Сейчас проверим, орет мерзавец, какая она у вас девочка». Ты понимаешь?.. Жена в крик. Соседи сбежались. Мальчишка ихний за мной полетел. Я как только услышал, так с крыши чуть не свалился. Как был с молотком, так и вбежал… Словом, успокоил негодяя навеки. А что делать, брат мастер? Испугался-то я уже после, когда поостыл малость, да что толку? Пришлось уносить ноги…
— Теперь понятно, откуда у наших дартфордцев такой пыл… Булочника Кейва знаешь?
— Так это ж мой кум и есть! Ему я и ладил крышу.
— Горячий мужчина. В командирах у нас ходит.
— Во как…
— Хочешь быть моим сквайром, Джон Тайлер?
— Сквайром? Ты разве граф?
— Я, конечно, не граф и даже не рыцарь, но такой парень, как ты, мне, право, не помешает.
— Коня дадите?
— Дай ему лошадь, Джек Строу.
— Свою?
— Нет, лучше вот его, — Тайлер показал на грузного краснолицего коротышку. — Сдается мне, он не слишком удалый кавалерист. Палач, во всяком случае, никудышный. И это единственное, что говорит в его пользу. Пусть сегодняшний случай послужит всем хорошим уроком, — он укоризненно глянул на угрюмо потупившихся дозорных. — Прежде всего тебе, Джек… За мной, храбрый Джон!
Джек Строу проводил ускакавших всадников долгим, задумчивым взглядом. Они скрылись из глаз за пригорком, словно растворились в полуденном зное, оба Тайлера Черепичника, которых зыбкая память преданий сольет воедино.
— Ишь ты! — криво усмехнулся обиженный толстяк. — Новый король.
— Не надо про короля, — предостерег желтолицый рыбник. — Король — помазанник божий.
— Поповские басни, — досадливо оборвал Джек Строу. — Слышал с пеленок и повторяешь теперь без толку. Не будет у нас короля. Ясно?.. Только не болтайте об этом покуда.
— Вообще? — Рыбник даже присел от неожиданности. — Разве такое возможно?
— Коли говорю, значит, знаю. И нечего зря трепать языком.
— А как же будет? — в свою очередь недоуменно заморгал краснолицый мясник. — Кто-то ведь должен быть над всеми?
— Над всеми один только бог, а без королей как-нибудь обойдемся. Сами будем править. В каждом графстве — свой государь. Понял, Пол Бучер?
— Это дело! — одобрил мясник. — Наши кентцы, конечно, тебя поставят, Джек Строу?
— Уж как водится, — с принужденной улыбкой кивнул тонбриджский рыбник. Его потрясенное воображение продолжал точить червь сомнения. — А как же он, Тайлер?
— А он из Эссекса, — быстро ответил Строу. — Вот и будет сидеть там, если пожелает народ.
— Что же тогда получится? Англии тоже не будет? — Тесно связанный с лондонским рыбным цехом, тонбриджец изо всех сил тщился уразуметь сущность грядущего переустройства. — Что ни графство, то отдельное королевство?
— Будет Англия, успокойся! Я пошутил. — Джек Строу уже и сам был не рад, что раскрылся. Слишком грандиозны, слишком зажигательны были взлелеянные в тайных мечтаниях планы. Неудивительно, что захотелось поделиться, проверить на слух, раскрыть душу перед самыми проверенными сподвижниками. И зря. Приземленные алчные торгаши явно перетрусили.
— Странные шутки, — покачал головой рыбник. — Опасные. Имя короля должно остаться священным, иначе никакого порядка не будет. Даже в мыслях нельзя посягать на трон.
— Я согласен с тобой, — думая о своем, Бучер принялся сосредоточенно обгрызать ногти. — Такого, как этот Тайлер, я бы не посадил и на графство. Ничем не лучше нашего герцога, даже хуже, выскочка и грубиян.
— Ты про какого Тайлера говоришь? — рыбник ехидно захихикал. — Небось про нашего дружка Джона, что во весь дух умчался на твоем скакуне?
— Не успели повесить паршивца, — дернув щекой, процедил Пол Бучер. — А жаль…
Глава двадцатая Император
Она держалась чинно за столом: Не поперхнется крепкою наливкой, Чуть окуная пальчики в подливку, Не оботрет их о рукав иль ворот, Ни пятнышка вокруг ее прибора. Она так часто обтирала губки, Что жира не было следов на кубке. С достоинством черед свой выжидала, Без жадности кусочек выбирала. Сидеть с ней рядом было всем приятно — Так вежлива была и так опрятна. Джеффри Чосер. Кентерберийские рассказыВ Лондоне с лихорадочной поспешностью проворачивалась исконная идея укрепить позиции выгодным династическим браком. Разведку провели сразу в нескольких направлениях, взяв на учет потенциальных невест от Польши до Португалии. Наиболее предпочтительным представлялся богемский вариант, потому что союз с императором был не только почетен, но и сулил определенные политические выгоды. В известной мере это знаменовало возврат к широким альянсам молодого Эдуарда Третьего, которые прямым путем привели к войне.
Под прицелом Лондона оказалась далекая Прага, ставшая при императоре Карле Четвертом, или Кареле Первом, как по-прежнему именовали своего короля чехи, имперской столицей.
Прага, милая Прага! Сколько очарования в имени твоем, дивный город. И свечи каштанов, и музыка, и полет. Искрится белый песчаник сквозь арки двухшпильных башен. Звенят мостовые. Горят золотые шары. Игра зеркал между небом и Влтавой, аккорды лестниц, фиоритура домов и улиц.
От Стара Мяста до Нова Мяста по королевской дороге несутся кони — четыре в ряд. Плащи, попоны, щиты, знамена, рога трубят.
Еще в лесах собор святого Вита, еще свежа аранжировка гербов старинных и камень юн, как алебастр. Но гениальный замысел звучит органом площади (фасады — трубы), арфой медленных струй, минорной флейтой чудо-моста.
Позлащены венцы святителей, бьют часы на Ратушной башне, торжественно шествует время над тенью косою креста.
Карел, скончавшийся всего через несколько месяцев после Эдуарда, вероятно, был скверным императором, но недурным королем. Выжимая германские города, как губку, и стравливая друг с другом князей, он не жалел сил и средств на украшение любимой столицы. Пусть и самим чехам это влетало в немалый грош, но зато процветали науки, ремесла, семь свободных искусств увенчали красавицу Прагу плодами своего вдохновения.
Отличаясь от прочих владык дальновидностью и непритворно любя родную кровь, Карел перед самым уходом сложил с себя императорский сан, дабы передать его восемнадцатилетнему сыну Вацлаву. Немецкие князья поворчали, но под умелым нажимом отдали свои голоса. Отличаясь обостренным чутьем, мудрый подагрик, видно, знал цену последним минутам и сумел обеспечить всю родню.
Вацлаву кроме парадного скипетра досталась коронная Богемия, а вместе с ней Силезия и Оберпфальц; Сигизмунд получил Бранденбург и титул курфюрста, а самый младший сын — Ян унаследовал лужицкие земли. Никого не обидел. Расставаясь с миром, человек ничего не уносит с собою. Поняв, что настала пора сбросить поклажу, Карел распорядился без напрасных вздохов и проволочек. Отдал все разом, постаравшись явить пример благородства и справедливости.
Брат Венцеслав (Вацлав по-новочешски) остался сидеть на семейном Люксембургском феоде, сыновья Яна Люксембургского приняли Моравскую марку.
Ничего сколь-нибудь существенного не перепало лишь дочери Анне. Обрести корону она могла только в супружестве. Среди возможных претендентов фигурировали Карл Французский и Ричард Английский. Обе партии считались завидными, несмотря на личные достоинства и младенческий возраст инфантов.
Незадолго до смерти император, превозмогая подагрические боли, посетил Париж. Ему показали тщедушного, запуганного дофина. Мальчик с первого взгляда не понравился великому старцу. Из уважения к умирающему французскому королю Карел согласился с тем, что в раздирающей Европу войне больше повинна английская сторона, но от каких бы то ни было конкретных шагов в пользу Парижа воздержался. Более того, вернувшись в любимый град над звонкоструйной Влтавой, он официально признал законным папой английского ставленника Урбана Шестого.
Сей акт политической прозорливости не остался без отрадных последствий. Римский первосвященник, выбив из замка святого Ангела ненавистного конкурента и окончательно загнав его в Авиньон, принял самое деятельное участие в сватовстве.
Аккредитованный при императорском дворе легат предложил Вацлаву единственную кандидатуру. В награду за посредничество великий понтифик требовал немногого: полной свободы распространения индульгенций. В имперских землях торговля талонами, гарантировавшими избавление от мук ада, не встречала особых препятствий. Большая часть ландтага была за Урбана. Зато в Англии она натолкнулась на неожиданное сопротивление.
Первыми возвысили голос протеста Уиклиф и его проповедники — неподкупные обличители клерикальной коррупции и мошенничества. Отпор оказался настолько яростным, что папа заколебался в своих симпатиях. Однако поздно было менять лошадей. Ожесточенная схватка с антипапой Климентом Седьмым — этим зверем в образе человеческом — не позволяла ссориться с испытанными союзниками.
Папа настаивал на своем праве распространять индульгенции и требовал казни Уиклифа, а свадебная колесница продолжала катиться по накатанной колее.
Дело оставалось за малым. Вацлав требовал три миллиона серебряных марок. В качестве выкупа за невесту столь значительная сумма была непомерной роскошью. Но вполне приемлема в виде безвозвратного государственного займа союзнику. Эдуард ведь платил императорам. Под таким соусом можно было выторговать у парламента новый налог. Когда король женится, народ ликует и платит.
Для налаживания деликатных нюансов брачного контракта в Прагу был послан епископ Лондонский Куртней. Подавленный роскошью имперской столицы, перед которой хмурый Лондон выглядел нищей побирушкой, он две недели промаялся в ожидании приема. Ревностный папист, а значит, недруг Гонта и лютый враг Уиклифа, епископ был премного наслышан о богохульных выходках императора и ожидал аудиенции с тяжелым сердцем.
Пока он страдал, Вацлав предавался радостям оленьей охоты. Носясь со сворой собак по богемским лесам, он опустошал винные подвалы вассалов, гостя попеременно в Конопиште и Штернберке, Бергштейне и Кривокляте. Менялись неприступные замки, заваленные рогами и шкурами, отпадали лихие собутыльники. А двужильный охотник, которому шел уже двадцать третий год, все не мог угомониться.
Остроумный, веселый, находчивый в начале пира, король постепенно терял человеческий облик. Как-то в состоянии тяжкого похмелья он позвал палача и, подставив голову, велел рубить. Не смея ослушаться, заплечных дел мастер почтил царственную шею нежнейшим прикосновением и был подвергнут казни за ослушание. Даже если это всего лишь анекдот, он удивительно верно характеризует нрав молодого императора и его злые причуды. То он хладнокровно пронзил стрелой монаха, неосторожно выскочившего на охотничью тропу, то отколошматил самого архиепископа, чем привел в изумление богомольных курфюрстов. А в один далеко не прекрасный день случилась трагедия и пострашнее. Собаки, которых государь не то что обожал, но прямо боготворил, насмерть загрызли его молодую жену — ее величество королеву. И это, к сожалению, быль.
Злата Прага между тем переживала пору расцвета. По проектам лучших зодчих застраивалось основанное Карелом Ново Място, росли грандиозные контрфорсы собора в граде, благодаря мягчайшей влтавской воде не знало себе равных знаменитое пиво. Невзирая на гнет феодалов и поборы двора, коронная земля богатела. Зато нищали окружающие владения. Особенно города.
Набирал силу и Пражский университет, тоже детище блаженной памяти императора. Разделенный по четырем языкам — чешский, саксонский, баварский, польский, — он вскоре сделался признанным очагом свободомыслия. Его кафедры, взрастившие чешскую реформацию, станут ревностно распространять учение Джона Уиклифа.
Как причудливы, неожиданны и в то же время закономерны исторические преемственности!
Куртней, у которого Уиклиф и без того сидел в печенках, совсем приуныл. Родину он оставил в тревожный момент и мучился отсутствием достоверных вестей. Затянувшаяся оленья забава грозила осложнить переговоры, поскольку французы, не брезгуя ничем, продолжали интриговать.
Чужое видимое благополучие будило зависть. И тревожила непривычная легкость, что носилась в самом этом воздухе, и резала слух ласковая, как переплеск Влтавы, славянская речь, густо перемешанная с немецким рокотом.
По вечерам долетало из градчанских лесов:
Jano, Jano, Vkjano, Priletela holubička rano…[86]Хорошо хоть невесту удалось повидать на званом обеде у пфальцграфа Адальберта. В полном соответствии с библейским значением своего имени, черноглазая Анна действительно оказалась весьма миловидной.
Куртней украдкой следил за тем, как она держится, говорит, ведет себя с кавалерами. В общем и целом первое впечатление сложилось благоприятное. Ее французский, правда, был ужасающим, но в остальном принцесса была достойна похвал. Скромна, приветлива, набожна, ест, едва окуная пальчики в подливку. Епископ, улучив удобный момент, подарил ей маленький золотой трезубец, который вывез из Рима. Здесь, как и в Англии, вещица оказалась в диковинку и вызвала оживленные пересуды.
Куртней сам попытался продемонстрировать королевне, как удобнее есть, ухватив с блюда чуть не полседла серны, которое тут же шмякнулось в соус. Она мило смеялась.
Наконец настал долгожданный день, когда перед послом предстал скороход: император вернулся и приглашает на скромный дружеский ужин.
Вацлав покорил епископа с первого взгляда. Высокий, стройный, с молодецкими плечами, он был похож на короля-рыцаря древних легенд. И пахло от него по-мужски: дымом, можжевельником, звериной кровью. Держался он непринужденно, говорил с улыбкой, хотя без слов было ясно, что перечить такому молодцу, как говорится, себе дороже. Он считался только с собственной волей, добивался всегда своего, но умел делать это с известным изяществом, не задевая чужого самолюбия. Если ему так хотелось, конечно; потому что Куртней, не терявший времени даром, уже кое-что прослышал о привычках императора и короля.
Говорить, в сущности, было не о чем. Послу Анна понравилась, и ее коронованный брат сумел это понять. Брак устраивал обе стороны и мог быть заключен хоть сейчас, по представительству. Меркантильная сторона не затрагивалась. Легат ясно предупредил: без денег не будет свадьбы, а о том, что торговаться не только неуместно, но и опасно, посол, слава богу, догадался сам.
Вацлава интересовало иное. Не называя вещи своими именами, он попытался вызнать, насколько прочно положение Ричарда и намеревается ли он начать править самостоятельно.
Куртней пустился в пространные рассуждения о британских традициях, парламенте и Королевском совете, существенно ограничивающих своеволие монарха.
К своему ужасу, он заподозрил, что чех ровно ничего не понял.
— По-моему, мы короновались с братом Ричардом в один и тот же год? — Вацлав решил вдруг заняться кабалистическими выкладками. — Смотрите сами: один, три, семь, восемь… В сумме это дает девятнадцать, но один и девять составляют десять, и, следовательно, снова единица. Знак свыше! Все предопределено. Пусть он не робеет.
— Наш король еще так молод, — напомнил с улыбкой посол, благоразумно умалчивая о том, что Ричард принял державу и скипетр годом раньше. — У него все впереди.
— Я в восемнадцать стал императором, — напомнил Вацлав.
— Когда ему будет столько же, он постарается не отстать, хотя, конечно, едва ли сможет стать императором, — Куртней всячески старался дать понять, что шутит. Ему все меньше нравилось направление беседы.
— Да, императором может стать только один, — самодовольно кивнул Вацлав, все принимая всерьез. — Зато у нас целых два папы! Как вам это нравится? Я склоняюсь к тому, что не стоит поддерживать ни того, ни другого. Они слишком мешают правителям.
— О-о! — только и нашелся протянуть англичанин.
— Рано или поздно я скажу об этом на ландтаге. Денежки, что они выкачивают из нас, можно использовать с большим толком.
— Полагаете, курфюрсты поддержат? — Епископ уже начинал испытывать сильное беспокойство.
— Попробуем убедить. — Император принялся поочередно сжимать кулаки. — Князья ссорятся с городами, городские власти враждуют с князьями. Тут важно соблюсти равновесие. Сначала одних, затем других, — по обыкновению, он рассмеялся собственной шутке. — Чтоб не дремали.
Так он и объяснялся жестами, избегая компрометирующих заявлений. Куртней впервые сталкивался с подобной дипломатией. Постепенно в нем крепло предчувствие, что этот лесной великан далеко пойдет, но плохо кончит.
Надо признать, что английский посол оказался прав в своих опасениях. Восстановив против себя курфюрстов, немецкие города и вольнолюбивых чешских панов, Вацлав потерял все точки опоры. Сначала его низложили в ландтаге как императора, затем лишили богемской короны. Но это опять-таки произойдет в отдаленном будущем и поэтому не помешает Ричарду обрести семейное счастье.
Куртней высказал робкое пожелание назначить свадьбу на осень, хотя и не испытывал твердой уверенности в том, что удастся собрать необходимые миллионы.
— Лучше в будущем году, — отклонил предложение Вацлав. — Дадим брату Ричарду время с честью выйти из затруднительного положения. Анне не слишком приятно будет любоваться на виселицы, — он весело подмигнул послу. — Вы согласны со мной, эминенция?.. Легче пьется, когда знаешь, что твои враги давно поданы червям на закуску. Новая королева должна въехать в мирную и счастливую страну, какой всегда была Англия.
— Вы глубоко правы, ваше величество, — вынужден был согласиться посол. — Я уверен, что так оно и будет вскоре.
— У меня нет другой сестры, и я ничего не пожалею ради того, чтобы торжество удалось на загляденье. Мы заставим плясать весь христианский мир. Вот было бы славно, если бы на венчании могли присутствовать оба папы! Я бы дорого дал, чтобы увидеть, как они схватят друг друга за горло.
Куртней обратил внимание на то, что в смехе сестра и брат становились очень похожими. Улыбка красила короля.
Глава двадцать первая Кентербери
Джон Мельник просит помочь ему как следует поставить его мельницу. Он смолол зерно мелко-мелко, Сын царя небесного за все заплатит. Смотрите, чтобы мельница шла хорошо со своими четырьмя нарядными крыльями — С правом и силой, с уменьем и волей, И пусть столб стоит крепко. Когда сила будет помогать праву, а ум идти впереди воли, Тогда наша мельница пойдет полным ходом. Но если сила идет впереди права, а воля впереди уменья, Тогда наша мельница будет плоха. Остерегайтесь попасть в беду, Отличайте ваших друзей от ваших врагов, Скажите «довольно» и кричите: «Эй, сюда!» — И делайте хорошо и еще лучше, и бегите греха, И ищите мира, и держитесь в нем. Об этом просит вас Джон Правдивый и все его товарищи. Письмо Джона БоллаСоединившись у Кентербери, отряды кентцев и эссексцев торжественно вступали в священный город. Вождя повстанческого войска встречали, как короля. Изукрашенные коврами и гобеленами улицы были запружены оживленными толпами, девушки бросали цветы, трепетали пестрые флаги.
Древний Дирвернум падал к ногам победителей, как созревший плод. Насмерть перепуганный Уильям Сентванс, шериф графства Кент, поспешил принести клятву верности. Кентерберийцы по собственному почину заняли мэрию и принудили к присяге весь городской совет вместе с бейлифом. Никто не ожидал, что резиденция архиепископа Симона Седбери станет первым городом, целиком примкнувшим к движению. Тюремщики сами отпирали замки и выпускали заключенных. Гарнизон, включая рыцарей, братался с освободителями. Лишь трое наиболее ненавистных коллекторов пали жертвами народного гнева. Горожане сами расправились с прислужниками «разбойника Хоба». У Джона Каменщика, разбившего кувалдой герб Седбери, сразу нашлись десятки добровольных помощников.
Пока длилось народное ликование с колокольным трезвоном и сбегающей через край пивной пеной, Джон Шерли окружил замок, а всадники Уила Хоукера поскакали к кафедральному собору. Массивная башня в позднем бенедиктинском стиле и две готические колокольни служили надежными ориентирами. Они первыми вставали на горизонте перед паломниками, бредущими ко гробу Фомы Бекета. Грандиозный собор, построенный в виде двойного архипастырского креста на том самом месте, где стояла когда-то первая в Англии христианская церковь, по праву считался одной из главных святынь католицизма. Именно сюда перевезли из Ричмонда останки Черного Принца.
Повстанцы и примкнувшие к ним горожане вошли в храм через главный неф и боковые приделы. Оборвалось пение, нерешительно приумолк орган. Пышно разодетое духовенство и прихожане со страхом и любопытством взирали на оборванцев, запрудивших проходы.
Тайлер взошел по ступенькам на кафедру и, опершись на балюстраду, с любопытством оглядел замерший в ожидании клир. С непривычной высоты резного балдахина во всем своем великолепии открылась строгая и величественная геометрия: арочные проемы, ряды колонн, органные трубы, венец капелл. Разделенные проходами скамьи заполняла монашеская братия в белых, коричневых и черных сутанах. Главный алтарь переливался шитыми золотой нитью епитрахилями епископов и аббатов. Озаренная теплым сиянием восковых свечей сцена слепила глаза обилием драгоценной утвари и расписных досок. Самодовольная роскошь и аскетическая нищета представали в органичном, гениальным глазом художника выверенном единстве. Тайлер испытывал непривычное смущение. Головокружительная легкость первых побед была опаснейшим самообманом. Именно здесь, сейчас предстоит ему совершить самый ответственный шаг, когда окончательно определится единственный и бесповоротный путь. Лицом к лицу с церковью, с непостижимым тысячелетним могуществом духа и воли. Сейчас, здесь… Смятенный взгляд, не задерживаясь, скользнул по статуям и саркофагам, кабинкам для исповеди, каменной чаше со святой водой.
Места, предназначенные для знати и городского патрициата, зияли черной пустотой. Лишь несколько кресел было занято матерями семейств, окруженными многочисленным потомством, и богомольными стариками.
Наглядный отклик на злобу дня! Наиболее дальновидные загодя перебрались в Лондон. Одни укрылись в отдаленных манорах, другие за монастырской стеной. Остались только недалекие гордецы или самоуверенные пройдохи. Всяк стремится примкнуть к победителю, да не каждому можно верить. Сколько их объявилось повсюду, краснобаев-попов, рыцарей-оборотней! Гораздых на пламенные речи, скорых на расправу со вчерашними единомышленниками. Где-то они окажутся, если вдруг переменится ветер?
Шуршало в ушах настороженное эхо. Каждый скрип, каждый вздох многократно усиливался под звездчатым сводом. Так шумит бескрайнее море, притихшее перед бурей. Обманчивое, притворно-спокойное, вечное.
Нащупав ногой что-то мягкое, Тайлер отшвырнул в сторону соскользнувшую, должно быть, с кресла Симона Седбери парчовую подушечку. Народ сказал свое слово, и не имеет значения, в каком месте и кто персонально огласит приговор.
— Святые отцы и досточтимые господа! — Голос Тайлера гремел громовым раскатом. — Я вынужден прервать мессу, да простит мне господь, чтобы огласить важное сообщение. Верные королю общины объявляют Симона Седбери изменником. Вам следует избрать другого примаса, потому что Седбери будет казнен.
Он спустился с лесенки, обвившей колонну, и затерялся в толпе.
В архиепископских покоях в самом разгаре была развеселая потеха. Молодцы Джека Строу выбрасывали из окон драгоценную мебель, доставленную на генуэзских галерах. Вся Англия знала, что это было сделано за счет казны. Полный гарнитур из красного дерева обошелся Седбери в смехотворную, чисто символическую сумму. Мраморный фонтан из Палермо и бассейн из неаполитанского оникса вообще не стоили ему ни фартинга.
— Вот куда делись доходы страны за прошлый год! — вопил Строу, круша поставцы с золотой посудой и хрусталем. — Вот денежки, что отняли у нас якобы на коронацию.
Вздымая тучи пыли, с грохотом обрушивались тяжелые балдахины с изрубленных в щепки столбов, раскалывались лари и конторки, вдребезги разлеталось венецианское стекло, трещали яростно раздираемые кружева из Брабанта и подбитые горностаем бархатные плащи.
— Давай-давай! — покрикивал Джек. — Не жалей вора!
Вора никто не жалел, хотя многие тайно вздыхали по красивым вещам, превращавшимся в бесформенные осколки. Это лишь усиливало ожесточение.
Из подвалов между тем уже выкатывали винные бочки. Каждый черпал, сколько хотел, но больше выливали на мостовую. В терпкой крови бордоских лоз тонули клочья мехов и обрывки гобеленов.
Когда кого-то уличили в попытке припрятать золотой кубок, суд был беспощаден и короток. Взвился пронзительный крик, от которого у многих обмерло сердце, и голова скатилась в винный ручей.
— Мы не грабители! — Строу появлялся то тут, то там. Приплясывая от нетерпения, он без устали метался по двору, исчезал ненадолго и вновь возникал в самом неожиданном месте. — Это расплата! Праведная, священная месть! Ничего не жалей!
Его видели то возле сбитых с петель ворот аббатства святого Винцента, то перед домом Уильяма Мендлема, коронера, где жарко пылали костры. Разгрому подверглись дворцы рыцарей Ричарда Хоу и Томаса Фога, заподозренных в пособничестве ненавистному казначею.
При всем своем желании Тайлер не мог уследить за всем. Обнаружив мертвецки пьяного мясника Бучера, уснувшего возле расколоченной бочки, он велел немедленно разыскать командира.
— Скажи своим приятелям, Джек, что нам не нужны пьяницы и дебоширы, — гневно процедил сквозь зубы. — Через час мы выступаем.
— Как, разве мы не имеем права малость отдохнуть и развлечься?!
— Ни отдыха, ни веселья. Плохо же ты понимаешь войну за справедливость… Даю тебе час на сборы, Джек Строу. Пьяниц, пока не проспятся, в погреб. За разбой спрошу с тебя. Помни об этом.
— Разбой? — клокоча от гнева, переспросил Строу. — А это ты видел? — указал он на обезглавленное тело.
— Правильно поступили, — помедлив, словно бы нехотя одобрил Тайлер. — Ворам нет среди нас места. И с пьяным разбоем надо кончать. Это наша земля, и здесь живут наши люди. Ты их защитник, Джек, а не кондотьер, ворвавшийся в неприятельский город.
— Уил! — считая, что разговор закончен, Тайлер подозвал молчаливого Хоукера. — Поставь здесь охрану. Деньги пересчитать. Муку и продовольствие в обоз, Пшеницу продать крестьянам по самой низкой цене.
— А деньги куда?
— Сдашь на хранение мэру.
— Пусти лису в виноградник! — Хоукер разочарованно присвистнул. — Магистратским крысам только того и надо.
— Они принесли присягу, Уил, — напомнил Тайлер. — Кентербери теперь наш город, — он смущенно улыбнулся. — Ты хоть понимаешь, что это значит?.. Все графство в наших руках!
— Не верю я королевским чиновникам, Уот, хоть убей!
— За короля и общины, — строго напомнил Тайлер. — Ступай.
Перед тем как протрубить поход, Тайлер собрал командиров.
— Все готовы? — Он каждому глянул в лицо: — Ты, булочник Кейв?.. Ты, Джон Цирюльник? Добрый Каменщик? Твои люди, Джек Строу?
Все подтвердили готовность.
— Теперь на Лондон! — Он выдержал паузу, давая прочувствовать важность момента. — Прошу не задерживаться по пустякам. Чем скорее овладеем столицей, тем вернее добьемся своего. У кого есть вопросы?
— Какой дорогой, Уот? — спросил Джон Шерли.
— Как сюда шли: через Мейдстон и Рочестер.
— А как быть с изменниками королевства? — запальчиво выкрикнул Строу. — Прикажешь обойти Крессинг? Маноры Гонта?
— Если ты не понял, Джек, я еще раз повторю: Лондон прежде всего. Изменники окажутся там, как в мышеловке. Кара их не минует… А с челядью или там семьями воевать негоже. Помните, братья, идем мы через родную страну.
В тот же день — первый после троицы понедельник — восставшие жители Эссекса штурмом овладели крепостью Крессингтемпл. Логово «разбойника Хоба», где хранилось оружие госпитальерского капитула и годовой запас продовольствия, было обращено в руины.
Разгромом руководил Ричард Дин, бейлиф Ганнингфилдской сотни. Он начал с того, что собрал под страхом смерти всех мировых судей в церкви, где заставил их на Евангелии принести священную клятву. О верности королю и общинам в ней, однако, почему-то не упоминалось. Напротив, Ричард Дин со всей ясностью заявил, что идет войной на короля:
— Сначала возьмем Крессинг, — объявил он свой план. — Потом ударим на Бекингэм. Перебьем всех лордов и спалим их замки, а уж после отправимся в Лондон. Там уже нас дожидаются верные люди.
Напуганные событиями в Брентвуде, судьи не посмели возразить и послушно присоединились к ополченцам и вольным братьям из Ретингдонского леса.
Крепость сдалась без боя. По такому случаю было выпито три бочки вина. В разгар пира, который длился всю ночь, судейские дали деру.
Особых ценностей в усадьбе не обнаружили. Все, что только можно, лорд-казначей увез с собой. Оружие и сорок тысяч локтей сукна из Арраса крестьяне честно разделили между собой.
Опустошив подчистую погреба и подвалы, Дин, как намеревался, сжег усадьбу королевского дяди и взял прицел на столицу. Страшная весть о приближении дикой орды, которая уничтожает все на своем пути, оставляя мертвое, выжженное пространство, разнеслась с быстротой урагана. И хотя никто не мог перечислить имена жертв или хотя бы назвать их приблизительное число, паника овладела всеми, от мала до велика. Не только лорды и причастные к налогообложению лица, но и самые незначительные чиновники спешили убраться куда подальше. Одни опасались за жизнь и имущество, другие боялись оказаться втянутыми в преступную авантюру.
— Идти войной на богом данного короля? — перешептывались, пугливо озираясь. — Да это хуже, чем бунтовать против бога.
Но Ричард Дин уже не настаивал на первоначальном намерении. По мере продвижения к Темзе к ополчению присоединялись беглые работники, вечные подмастерья, странствующие рыцари, у которых не было за душой ничего, кроме заржавленного меча. Большинство видело в Ганнингфилдском бейлифе важного посланца «Большого общества», а некоторые божились, что он-то и есть тот самый вождь, о котором возвестил знаменитый колчестерский проповедник, — Джон Правдивый.
Дин не открещивался, но и не подтверждал слухов, чем лишь способствовал их распространению.
Глава двадцать вторая Безумная Гвен
Что за странное явление! Откуда оно и в чем его причина? Озари меня твоим милосердием, чтобы я мог вопросить об этом! Быть может, ответ дадут тайники страданий человеческих и самые непроницаемые глубины мук сынов Адама? Что за странное явление! Откуда оно и в чем его причина? Когда дух приказывает телу, оно повинуется тотчас же, а когда приказывает самому себе, то сам же противится.
Августин. ИсповедьЛетели ночи к вершине лета, хмельные ветры ласкали вереск. Каждую былинку, каждый листок пронизывал ток планетных вихрей. Убыстрялся круговорот живительных соков. Зелейные травы и корешки запасали чудодейную силу.
За старой Эстрильдой, что жила в границах манора эрла Уорика, поблизости от дороги на Блекхиз, давно утвердилась репутация доброй колдуньи. Лестные слухи насчет тайного искусства ее ходили по всему графству Серри. Были у нее благодарные пациенты и в самом Лондоне.
В Саусуарке, где обреталась Безумная Гвенделон, внучатая племянница знаменитой знахарки, многое могли бы порассказать про целебные отвары и порошки, которыми старуха пользовала свою весьма разношерстную клиентуру. Местные волоокие жрицы в тонких туниках с соблазнительными разрезами и знаком ремесла на плече не чаяли в ней души, чуть что, сломя голову кидались со своими секретами. И не было случая, чтобы Эстрильда кому-то отказала, не помогла.
Помимо врачевания плоти она щедро отпускала склянки с любовным эликсиром, гадала на далекое и близкое, отыскивала пропажу. Ведомо было ей и чуткое ремесло водознайства, и всякие иные таинства, вроде птичьего языка и магнетизма камней. При всем при том никто из честных людей не посмел бы упрекнуть Эстрильду в служении темным силам. Она не торговала отравой, не наводила порчу. Даже речи о таких вещах не могло быть. Точно так же никакие уговоры не могли заставить ее войти в горницу, где уже побывали важные господа в беретах и замшевых рукавицах. Дипломированных медиков, чьи наветы убивали вернее хирургической пилы, она страшилась пуще черта и не бралась исправлять чужие грехи.
Впрочем, никто б не посмел, положа руку на сердце, засвидетельствовать подлинное отношение старой Эстрильды к князю мира сего. Вполне возможно поэтому, что как раз черта, в отличие от эскулапов, она-то и не боялась. Во всяком случае, в церкви ее не видели. Уж это-то абсолютно точно и уж наверное неспроста.
Всему, однако, рано или поздно приходит конец. Эстрильда, поднимавшая мертвых из гроба и возвращавшая молодость, состарилась. Сначала ей стало невмоготу обрабатывать свои восемь акров, и она за гроши сдала землю в аренду соседям, потом сделались обременительными и далекие прогулки по лесам и болотам.
Стояли роскошные длинные дни, всюду, куда ни глянь, кивали головками душистые цветики, а труженица Эстрильда безвылазно сидела в своей пропахшей сушеными ароматами берлоге. Ломило поясницу, подкашивались ноги, тряслись распухшие в суставах пальцы. Безотказные бальзамы действовали с каждым разом слабее, не помогали ни притирки из белладонны, ни мазь из пчелиного молочка.
Пришла, видно, пора завершить блуждание по земному кругу.
Прежде всего Эстрильда подумала о племяннице. Готовясь к уходу, она начала с того, что продала свою четвертушку виргаты, оставив себе лишь усадьбу, иными словами, хижину, дабы по-человечески встретить в родных стенах последний час. И этот шаг, который она сделала по собственному разумению, не посоветовавшись со знатоками consuetudo manerrii — манориального права, оказался ошибочным. Утратив надел, бедная старуха угодила под действие рабочих законов. Теперь правила об обязательности работы распространялись и на нее.
Закон слеп не по слабости зрения, но по силе его. Устремленный к дальним пределам, он слишком дальнозорок, чтобы различить копошение ничтожных тварей. Что молотобоец-силач, что выжившая из ума деревенская ведьма — все едино. Земля определяет состояние держателя, а не природа его преходящей и бренной плоти.
Над старой женщиной нависла гнуснейшая угроза остаться без крыши над головой. И хоть слабые руки ее не нужны были ни управляющему, ни лорду его, в законе и для них отыскалась мудро предусмотренная ячейка. Мысль о том, что предстоит испустить дух в маноре, где нет и для смерти покоя и негде спрятаться от чужих подгоняющих глаз, повергла Эстрильду в отчаяние. Все отторгала судьба: движение, память. Хоть бы духа достало под вольной звездой околеть!
Конрад Лопил, управляющий лорда, начал действовать с ошеломительной быстротой, предъявив претензии через курию. Запоздало кляня свою опрометчивую поспешность, Эстрильда окончательно занемогла. В этот тяжелый, наполненный тревожным ожиданием момент и навестила ее Безумная Гвенделон.
Напевая песенку про юных героев, сгинувших в крестовом походе, она в два счета навела порядок: согрела воду, вычистила из углов застарелую паутину, вымела мусор, разбросала зеленую травку. Старуха невольно залюбовалась племянницей, порхавшей по комнате, словно солнечный зайчик. Невесомая, бледная, тонкая, она излучала неяркий успокоительный свет. Вкусно побулькивала на огне чечевичная похлебка с укрепляющими кореньями, успокоительной прохладой веяла мята с душицей. Эстрильда поела горяченького, испила горькой настойки из целительных трав, потом подремала до вечера, а после побаловалась отваром болотных ягод на диком меду. Когда сгустились поздние сумерки и пришлось зажечь фитилек в сухой тыкве, подвешенной под низеньким потолком, больная почувствовала себя настолько приободренной, что даже смогла разговаривать.
— Благослови тебя господь, моя девочка… Одна ты у меня на целом свете.
— И ты у меня одна, тетушка. Больше никого у нас нет.
— Как же я оставлю тебя, сиротку? Хоть бы дал господь жениха, порадоваться напоследок. Видно, не будет покоя моей неприкаянной душе.
— Кто возьмет меня, тетенька? — тихим смехом залилась Гвенделон. — Ведь я же безумна! — Она закружилась, как эльф над цветком, мурлыкая все ту же песенку без конца и начала про бедных рыцарей, схороненных в аравийских песках.
— Ничего-то я не накопила за свою злосчастную жизнь! — продолжала сокрушаться Эстрильда. — Думала, хоть горсточку серебра оставить, так и его растащили железные когти…
— Не плачь, тетенька, плакать нельзя. — Гвенделон самозабвенно кружилась и пела, не ощущая ни радости, ни тоски. — От слез вздуваются реки, выходят из берегов. Три родничка певучих, три бурливых ручья. А небо все плачет и плачет, того гляди, переполнится Темза…
— Что ты еще видишь, моя девочка?
— Ничего не различаю под ливнем багряным. Летние листья, как осенние листья. Лепесток белый, как лепесток красный.
— И это все?
— Еще желуди вижу на липках.
— Бедное дитя, — вздохнула Эстрильда и попробовала спустить ноги с лежанки. Вопреки ожиданию она чувствовала себя довольно бодро.
— Вот ты и пошла, тетенька! — захлопала в ладоши Безумная Гвен. — Ах, как бы я хотела заглянуть подальше за Темзу! Радуга и река одного цвета…
— Давай поглядим, не спешит ли жених из далей вечерних? — внезапно изменившимся голосом, утробным и низким, произнесла колдунья. Ее немощное тело наполнилось буйной энергией, седые волосы взлохматились и начали потрескивать, словно в грозу.
— Жених? Какой жених? — забормотала Гвенделон, послушно смыкая ресницы. — Он сгинул в крестовом походе, лежит он в зыбучих песках, и клонится пальма сухая над высохшим прахом его. Он там, за морями, мой милый жених. Над ним белый лебедь кружится…
Гвенделон сползла на пол, вытянулась, как плоская досточка, и вдруг задергалась, вороша скрюченными пальчиками вянущую траву. Ее потемневшие губки покрылись лиловой пеной, развилась и заплясала, как хвост рассерженной кошки, уложенная короной льняная коса.
— Нет силы противиться мертвому сну, — прокричала она преображенным и тоже изнутри вещающим голосом. — Ему не вернуться в родную страну! — и замолкла, неподвижная, потерявшая вес.
Не помня себя, Эстрильда раздела девочку и с ног до головы натерла ее кипящей на холоду мазью. Остро запахло гнилой трясиной, когда сквозь немочь застойных вод пробулькиваются мутные пузыри. Затем к запаху примешался чесночный привкус, вскоре сменившийся затхлым, чуть сладковатым душком опавшей листвы. Но и его словно сдуло порывом могильного ветра. Заглушая привычные примеси очага и развешанных повсюду сушеных метелок, откуда-то из подполья распространилось тончайшее сумеречно-прохладное дыхание ночной фиалки. Мраморное, без малейшей родинки, без единого лишнего волоска тельце облекла тлеющая зеленоватым вечерним свечением воздушная оболочка. Щеки Гвен окрасились жизнью, бедра и нежный живот напряглись, и она медленно приподнялась над земляным полом, усыпанным листьями мяты и розовыми соцветиями душицы.
Задрожали сомкнутые ресницы, едва сдерживая хлынувшее изнутри волчье неистовое сияние. Фитилек в тыкве зачадил и погас, но от этого стало только светлее. Совершив вокруг очага плавный оборот, все так же плоско витавшее тело приняло вертикальное положение, и в то мгновение, когда ее босые пальцы коснулись земли, девушка проснулась.
В руках у нее очутилось с шелестом прошмыгнувшее через всю комнату помело. Гвен крепко зажала его между колен, испустила горловой призыв, напоенный сумрачной страстью, и, перекувырнувшись в воздухе, ногами вверх вылетела через печную трубу.
— А сейчас что ты видишь? — успела спросить Эстрильда, тщательно запирая деревянные заслонки окна.
Восходящий поток возносил Безумную Гвен все выше и выше. Она уже не различала ни позеленевшую крышу, ни трубу, из которой вылетела, а дорога на Лондон утоньшилась до тонкого волоска. Зеркальным клинком блеснула река, прочерченная скобою моста, опрокинулись в беспросветную пропасть стены, валы, колокольни церквей. Она неслась в пространстве, не отличая верха от низа. Где-то сбоку сверкнули хрустальные грани небесной тверди, на которой полыхали косматые звезды. Чем дальше летела она, тем больнее ей было туда глядеть. Совсем в другом конце, где клубилась сумеречная бездна, осталась покинутая земля. Всматриваясь во мглу, Гвенделон неожиданно увидала могучую великаншу, скованную погибельным сном. Разметавшись на ложе морей, она бесстыдно обнажила мускулистое тело. Накренились венцы широколистных лесов, соскользнула с кудрей корона из шпилей и башен. Над отвесными скалами локтя, развернутого на запад, во всю мочь светила полная луна. Обращенный к востоку оголившийся бок игриво ласкала зоревая полоска. Великанша храпела, открывая округлости гор, и жалкое рубище, все в заплатках черного пара и колосящихся нив, сползало с ее исполинского торса. Жилы рек трепетали на крепких ногах, окаймленных прибоем. Шрамы оврагов и язвы могил избороздили нахмуренное чело. Пленка тумана прильнула к опустошенному чреву льняным полотном.
— Что ты видишь? — звал издалека голос старухи.
— Вижу Англию, — отвечала потрясенная Гвен. — Она стонет в объятиях ночного кошмара, но уже близится день, разгоняя инкубов.[87]
— Так лети же навстречу лучезарному Солнцу!
Вновь приблизилась земля, потеряв очертания женского тела. Облачная завеса скрывала подробности. Лишь изредка мелькали в разрывах бездонные скважины, наполненные синей водой. Гвенделон попробовала нырнуть туда, как в полынью, но ее отбросила назад непонятная сила. Облака словно обрели упругость натянутого каната, на котором подпрыгивал уличный шут.
— Только не бойся, девочка! — предупредила заботливая Эстрильда. — Это с тобой играют духи стихий. Побалуй их немножко.
Гвенделон несколько раз перекувыркнулась в облаках, едва не выпустив спасительное помело, и, сделав несколько обманных движений, решительно ухнула в самую глубину. На нее надвинулась косо повернутая равнина, испещренная клиньями полей и чересполосиц. Тут было почти светло. Ночь пролетела, и бледная сыворотка рассвета заливала кочковатую луговину, за которой смутно проступала лесная гряда.
Гвен захотелось узнать, что там, за дремучими ярусами вековых елей. Она было попробовала снова взлететь, но растущее притяжение болотистой почвы уже не давало прежней легкости и свободы. Ощущая собственную скованность и прибывающий вес, усталая дева с трудом пересекла лесную полосу. Гибкие прутья ее летательного снаряда то и дело царапали верхушки деревьев.
Стремительно шарахались в стороны летучие мыши. Бесшумные совы замирали в полете, изумленно тараща умудренные очи. Они узнавали ее, ночные охотники, и приветствовали трепетом бархатных крыл.
Вновь показалась река и незнакомый город за нею, досматривающий последний сон. Гвен едва не наткнулась на виселицу в самом центре овальной площади и с бьющимся сердцем взмыла над сизою черепицей.
— Что там? — Тетка Эстрильда чутко держала ее на невидимой привязи.
— Как везде и повсюду, люди живут здесь — рядом со смертью, — отвечала она с печалью. — Кичатся могуществом и накликают беду.
— Следуй дальше, — велела Эстрильда.
Теплел и разгорался нежный разлитый повсюду свет. Заклубилась пыль над дорогой, и Гвенделон узрела большое войско, растянувшееся на добрую милю. Она нисколько не испугалась, хотя всегда пряталась при виде железной амуниции. Шлемы, забрала, тяжелые копья, арбалеты с винтами — ужас. Олицетворение слепой безжалостной силы, как сама смерть, напялившая стальную личину. Невыспавшиеся, плохо одетые крестьяне меньше всего походили на прислужников смерти. Латы и щит встречались у одного на целую сотню, да и оружие их большей частью предназначалось для работы на мирных полях.
Где-то в середине колонны она заметила всадника на белой лошадке. Запрокинув голову, он жадно пил воду из большой оловянной кружки.
«Зеленые дубочки в ряд, — подумала девушка. — Лесной и зеленый, как лето, наряд».
— Почему ты молчишь? — понукала Эстрильда.
— Погоди, тетенька. — Не решаясь подлететь поближе, Гвен терпеливо ждала, когда воин утолит жажду. Она узнала его за мгновение до того, как он, отведя руку, открыл лицо.
— Ой, тетенька, воздух не держит меня! — вскрикнула девушка, теряя высоту.
— Не бойся, не смейся, взвейся! — выручила старуха. — Что с тобой, девонька?
— Я узнала его, — пролепетала Гвенделон, возносясь над пуховой белизной облаков. — Мой милый вернулся в город родной, никем не узнан, для всех чужой. Суровый и гордый, как снег волоса, и время его изменило глаза… Мне страшно, тетенька!
— Не бойся, глупышка, иначе духи воздуха защекочут тебя. Возвращайся ко мне.
Гвенделон из последних сил рванулась к зениту, но не удержалась в полете и канула камнем на дно…
Когда она очнулась на земляном полу хижины, сквозь щели в оконце струился горячий солнечный луч. Тетушка Эстрильда лежала на лавке с широко раскрытыми глазами. Она умерла, пока Безумную Гвенделон носило в воздушном пространстве. Умерла в родных стенах, чувствуя рядом биение любящего сердечка.
Управляющий Конрад Лопил рассказывал потом, что в поместную курию, куда он заглянул спозаранку, влетела седая тощая чайка. Долбанув клювом подвешенный над дверью апотропей,[88] она полетела в сторону Темзы.
Глава двадцать третья Сделка
…Король и маршалы его На холм поднялись высоко, Оттуда Стирлинг виден был, Но фронт шотландцев заслонил Пол неба, — храбрые сыны Гористой, маленькой страны — Они, казалося, смирились, Все на колени опустились, Знамена, копья и щиты Склонили до сырой земли… Король английский ликовал: «Они сдаются, сенешаль, Они раскаялись, и мы Охотно их простим…» — «Но вы Неверно оценили их, О, мой король, на тех двоих Босых монахов посмотрите, Свое вы мненье измените. Аббат Морис с своим слугой Молебен служат там простой, Он патриотов вдохновляет, На подвиг их благословляет, Они клянутся победить Иль умереть, но честь добыть…» Джон Барбор. БрюсЗелена Англия летом, а Шотландия еще зеленее, и вереск ее медвяный дурманит почище старого вина. Шестого июня горцы отпраздновали день святого Колумба — покровителя пастухов. На холмах Мурфут, прославленных изобильными пастбищами, купали, стригли, клеймили овец. Хозяйки оделяли детей овсяным пирогом. Растите большими и храбрыми, учитесь у старших, как нужно пасти и выхаживать беззащитных ягнят. Молоко утренней дойки свозили в манор, чтобы лорд или его управитель, по древнему обычаю, благословил каждый дом. Кипело мясо в котлах, в горных ручьях охлаждались бочонки вина, которому смола верескового торфа придала дымный привкус и оттенок золотого топаза. Впереди было шесть голодных недель. Наедались впрок, чтоб сберечь силы до нового урожая.
Заунывные трели волынки разносились над пустошью Петлендхиллс, тревожа эхо ущелья Уотер-оф-Лир, где ночуют мертвые всадники, обращенные в тучи.
Нынешний праздник был особенно радостным для бородатых горцев в клетчатых кильтах. Король Роберт и надменный английский герцог встретились у Твида, как родные братья. Значит, не будет войны в это лето. Можно спокойно вырастить приплод и собрать урожай. Когда амбары полны зерном, а чердаки забиты тюками шерсти, радуется сама природа. Что может быть прекраснее, чем эти изумрудные склоны, где так безмятежно пасутся стада и вкусно дымят пастушьи костры?
И звенел веселый колокол в церкви святого Джильса, и во дворце Голируд пировали буйные гости Роберта Стюарта.
Ломбардец не бросал слов на ветер, ибо слово банкира звенит серебром. Шотландский король отвел войска от границы. В ответ на такую любезность Джон Гонт без промедления отправил своих вассалов обратно в Ланкастер. Пираты Морсера продолжали грабить прибрежные города, но угроза вторжения миновала. По крайней мере, была отодвинута на неопределенный срок. Теперь уже ничто не мешало герцогу перебросить армию на помощь Бордоскому олененку, загнанному босоногими охотниками в последнее лондонское прибежище на Картер-Лейн. Но Гонт принудил себя смириться и ждать. Превозмог даже жажду праведной мести. Пусть головешки Савоя и горячие угли разоренных маноров испепелили душу, лишь бы мозг остался холодным и ясным. Воля остудит кипящую кровь. Гонт, которому уже однажды пришлось бежать от лондонских бунтарей, не желал воевать за чужой престол. Если суждено погибнуть Английскому королевству, пусть все сгорает дотла. Легче строить вновь, чем перестраивать, на удобренном пеплом поле вырастает могучий колос. Сохранить войско, чтобы ударить в самый последний момент, и прежде всего сберечь голову для короны Вильгельма, когда она свалится в грязь. Для отсрочки похода требовалось выдумать благовидный предлог. О том, чтобы перехитрить ломбардца, не могло быть и речи. Все, таким образом, упиралось в презренный металл. Не приходилось мудрствовать лукаво: Ланкастер был действительно разорен. Удара в спину герцог опасался меньше всего. В жилах Стюарта течет родственная англо-нормандская кровь. Он так же остро нуждается в деньгах и не нарушит слова, коль скоро это прямо связано с его интересами.
Балдуччо купил Англии мир, пусть теперь хорошенько тряхнет мошной, чтобы оплатить войну с обнаглевшим плебсом.
Гонт принял финансиста в походном шатре, пронизанном утренним светом.
— Пока все идет как надо, — без дальних околичностей приступил Пеголотти. — Теперь дело за вами.
— Нет слов, чтобы выразить вам мою благодарность, — рассыпался в любезностях герцог. — Англия никогда не забудет вашей услуги. Отныне Ланкастеры у вас в неоплатном долгу. По возвращении в Лондон я поднесу вам золотые шпоры, а если судьбе будет угодно вернуть мне Кастилию, вы станете первым грандом.
— Зачем мне титулы, милорд? Наш род не менее древен, чем Капетинги, но мы никогда не гнались за внешним блеском, сберегая его в сундуках… Каковы ваши дальнейшие планы?
— Как было условленно, готовлюсь к походу, — не моргнув глазом, ответил Гонт.
— Ваши благородные намерения, к сожалению, слегка запоздали. Лондон окружен и с минуты на минуту может пасть. Можно не сомневаться, что повторится кентерберийская история. Моих собратьев с Ломбардской улицы ожидают тяжкие испытания. Как видите, подтвердились самые худшие опасения. Бунтовщики вместе с городской чернью произвели хорошенькое кровопускание в наших конторах. Рыбники, герцог, старались, увы, не зря. Теперь мы нескоро оправимся, могу вас уверить. — Пеголотти говорил со сдержанным гневом, но французская речь его лилась учтиво и плавно, как всегда.
— Сожалею об этих диких выходках, мессир, и уверяю, что виновных постигнет суровая кара… Я сам в безумной тревоге за жену и детей. Но что можно поделать сейчас? Здесь? На таком отдалении! Запасемся мужеством и терпением. Час возмездия близок. — Гонт сопроводил восклицание патетическим жестом, но тут же перешел на доверительный тон: — Все мы жестоко пострадали, любезный друг. Они сровняли с землей мои дворцы и замки, подчистую разграбили почти все маноры. Сокровища, которые хранятся в Савое, вывезти невозможно. Все будет разбито, распорото, сожжено. Вы не поверите, мессир, но даже золото спекается в бесформенные слитки. Я еще могу понять, когда просто грабят, но чтобы так… Нет, на человеческом языке для подобного разбоя не существует подходящих названий. Дикое, бессмысленное, безумное истребление! Я нищ. Вы можете не верить, но отныне у меня нет за душой даже корки хлеба!
— Не верить вам? — В голосе флорентийца проскользнула легкая нотка иронии. — Помилуйте, герцог… Я, который понес такие убытки, понимаю вас, как никто… Эта злосчастная война с Венецией тоже, знаете ли, крепко ударила по кошельку. Сплошные расходы.
— Но ведь Генуя одержала победу? А победитель внакладе не останется. Насколько я знаю, Флоренция поддержала генуэзцев.
— Полностью вознаградить может лишь полная победа, а она, будем смотреть правде в глаза, недостижима. Венецианцы потопили генуэзский флот. Хорошо, если удастся свести концы с концами.
— Удастся, мессир, непременно удастся, — герцог беспечно отмахнулся. — Скажите мне лучше другое. Почему вы, я имею в виду ваших соплеменников, не сумели предотвратить этот злосчастный конфликт? Вам же подвластно все на морях и на суше! Неужели не нашлось подходящего средства уладить мирным путем? Или ваш успех в Шотландии не более чем случайность? Признайтесь, мой друг, я сгораю от любопытства.
Пеголотти выжидательно покрутил перстенек с античной камеей. Вопрос герцога был далеко не так прост, как это могло показаться.
— Как вам сказать? — он решил обезоружить партнера предельным цинизмом. — Дож схватил генуэзцев за горло и на морях, как вы изволили выразиться, и на суше. Повсюду ставились палки в колеса. Даже на побережье Эвксинского понта, где мы собирались на паях с Генуей построить укрепленные фактории… Короче говоря, мир не всегда выгоднее войны. Бывают случаи, когда Марс оказывается лучшим финансистом, чем Меркурий.
— Значит, вы все-таки рассчитываете на кое-какую прибыль? — смекнул Ланкастер.
— Увы, только в будущем, а пока приходится платить наличными.
Гонт задумчиво встряхнул стаканчик и выбросил кости. Выпало пять шестерок.
— У вас счастливая рука, мой принц, — подхватил Балдуччо. — Такое я видел только однажды в жизни. Это было в Ливорно, в портовой таверне.
— Жаль, что не предложил вам сыграть, — протянул герцог, лихорадочно соображая, с какой стороны подступиться. Пока его намеки и сетования не произвели должного впечатления. Но игра уже шла, причем куда более сложная, нежели кости. Ставки, которые подразумевались, не могли и присниться средиземноморским пиратам.
— А вы не боитесь опоздать, милорд? — флорентиец сделал неожиданный выпад. — Пока вы наслаждаетесь ароматом сосен и вереска, в Лондоне может быть достигнут modus vivendi,[89] причем без всякого вашего участия. Надо бы поспеть к дележу.
— Вы имеете в виду соглашение между голодранцами и двором?
— Временное соглашение, — подчеркнул Балдуччо. — Между Уолтером Тайлером и молодым королем.
— Такое возможно, по вашему мнению? — герцог не скрыл беспокойства.
— Определенные шаги уже сделаны, причем немалые. Полагаю, что двор пойдет на значительные уступки.
— Я давно раскусил старого лиса Солсбери! Это его работа. Но ничего путного не получится. Договориться с ними невозможно.
— Как знать. Если восставшие не ослабят напора, власть просто вынуждена будет сдавать позиции. Это наверняка приведет к необратимым изменениям в основе государства… Найдете ли вы себе место в новой Англии, мой принц?
— Я не верю в подобную перспективу.
— Седбери и Хелз тоже не верили. Но завтра, быть может, их тела повиснут на стенах Тауэра. А ведь это ваши люди, милорд, ваше правительство.
— Будет другое.
— Несомненно, но, пожалуйста, верно поймите — без вас!.. И вообще, как ни прикидывай, вы остаетесь в проигрыше при любом исходе. Одолеет король — рядом окажется сэр Эдмунд или сэр Томас, победит Тайлер — вам тем более придется покинуть страну… Я буду безутешен в обоих случаях, ибо мне останутся одни долговые расписки. Вероятно, мне придется их вам подарить. Вот тогда вы действительно поймете, что значит последняя корка. Я говорю это не как кредитор, но в качестве преданного союзника и, надеюсь, давнего друга.
— Куда вы меня толкаете? — Словно борясь с накатившим удушьем, герцог рванул зашнурованный ворот. — Повторяю, мессир, я нищ и должен наскрести хоть какие-то крохи для похода. Вы же не беретесь, насколько я догадываюсь, снабдить меня необходимой экипировкой? У меня всего восемь тысяч пехоты и кавалерии. Что я могу поделать с такими силами?
— Ничего или очень много. Все зависит от образа действий и, разумеется, быстроты.
— Так вы дадите мне деньги?.. Ведь даже то немногое, что удалось спасти от погрома, не находится в безопасности. Управляющие доносят, что вассальные монастыри отказались принять на хранение наши семейные ценности. Вам могло прийти в голову что-нибудь подобное? Светопреставление, да и только!
— Соблаговолите вызвать писца, милорд, и я продиктую необходимые письма. Ваши капиталы окажутся в надежных руках.
— И вместо денег я получу расписки?
— А что имел я от вас взамен золота? Тоже бумаги. Поверьте, герцог, подпись флорентийского банкира значит не меньше, чем небрежный росчерк владетельного сеньора… Притом мы платим по первому требованию.
— Иначе говоря, вы вынуждаете меня покрыть векселя, пользуясь моим затруднительным положением? И это называется дружбой?
— Это называется взаимовыгодной сделкой. Или вы действительно хотите, чтобы и эти сокровища сгорели в огне?
— Вы правы, — Гонт сокрушенно пожал плечами. — Правы всегда и везде. Вместо того чтобы спорить, мне следовало бы благодарить, но, мессир, именно сейчас я, как никогда, нуждаюсь в средствах… Стюарту вы ведь заплатили за мир?
— О, не наличными, мой принц, будьте спокойны!.. Кроме того, учтите, что мир нужен вам, не ему. Теперь у вас развязаны руки. — Пеголотти рассеянно сгреб кости. — Вы сделаете отличную ставку, если окажетесь вместе со своими вассалами в нужном месте и в нужный момент.
— Чем я заплачу им? Векселями?
— Это уже другой разговор. Кто мешает нам обсудить условия нового займа?
— Давайте, давайте! — повеселел Гонт. — Ничто так не ласкает слух солдата, как бряцание металла.
— Если вы имеете в виду булат, то это не в моей компетенции, — пошутил Балдуччо. — Зато во всяких ажио и дизажио я как рыба в воде.
— Что за тарабарщина? — не понял герцог.
— Скорее архимедов рычаг, способный перевернуть землю вверх дном.
— Ваш Тайлер ухитрился сделать это без Архимеда.
— Тем более пора навести порядок… Коль скоро мы заговорили о финансах, точнее, о балансе рыночного курса монет и их номинальной стоимости, я бы хотел узнать ваше мнение.
— О чем, мессир? — Гонт окончательно запутался. — Чего вы хотите?
— В вашем парламенте, который привнес столько хаоса в денежные операции, обсуждается новый дурацкий закон. Вы могли бы вмешаться? Сколькими голосами вы реально располагаете?
— Неужели у нас нет более важных дел, мессир? — Герцог укоризненно поцокал языком. — Давайте сперва закончим с одним, а потом поболтаем о пустяках.
— Одно с другим связано, герцог. Пока ваши путаники не оставят в покое баланс, нам не вырваться из хаоса. Взять, например, тот же займ. — Балдуччо вкрадчиво понизил голос. — Вы бы хотели получить серебром или золотом?
— Безразлично. — Герцог не скупился на улыбки. — Лишь бы хватило расплатиться. Меня легко уговорить.
— Это полдела, герцог. Подскажите, как уговорить наших кассиров. Они требуют точного курса.
— Если б я понимал, о чем вы говорите! Разве что-нибудь изменилось со времен покойного брата? И курс теперь не один к девяти?
— Это весьма сложная материя, герцог, но, если позволите, я объясню.
— Только, бога ради, скорее, а то я от таких разговоров впадаю в спячку.
— А у меня, напротив, бессонница. Так что каждому свое, герцог… Суть дела в том, что ваши золотые монеты действительно находились по отношению к серебряным пенсам в указанной пропорции. Но рынок непостоянен, и курс испытывает значительные колебания в ту или иную сторону.
— Это как раз понятно.
— Но столь же понятно и желание правительства сыграть на таких колебаниях. Покойный король в таких случаях тут же изымал вздорожавшую монету из обращения.
— И правильно делал.
— Это с вашей точки зрения. А население, напротив, спешило зарыть ее до лучших времен под любимой яблоней. Где же выход?
— Я никак не соображу, где затронуты ваши интересы? — насторожился Гонт, заподозрив подвох. Он готовился стать королем и превосходно разбирался в играх по части благородных металлов. Тут пахло миллионными барышами. — Или вы никогда не переливали монету в слитки?
— Разумеется, переливали, если, скажем, в Антверпене за то же количество золота можно было купить больше серебряных монет, чем в Лондоне. Это азы ремесла… Но я недаром говорю, что вы, англичане, большие дети. Так часто и произвольно запрещать вывоз, как это делаете вы, немыслимо. Вместо того чтобы получать барыши, мы несем одни убытки.
— Зато обогащается казна.
— Если бы! Ваш парламент слишком жаден и тороплив. Он спешит выкопать и сожрать коренья до того, как они умножатся урожаем. Давайте действовать рука об руку. Роберт де Хелз этого не понимал, иначе бы ни за что не остался в городе.
— Меня не интересует его судьба.
— А судьба коронера Медемгема, которого обезглавили в Кентербери, вас тоже не волнует, герцог?.. Легко же вы забываете ваших друзей!
— Пусть мертвые хоронят своих мертвецов. — Гонт суеверно переплел пальцы. — Посмотрим, что будет дальше. — Герцог великодушно выбросил руку.
— Тогда мы почти обо всем договорились. Остался сущий пустяк, милорд. — Пеголотти намеренно затянул рукопожатие. — Вы бы могли отрядить, скажем, сто рыцарей? Разумеется, за плату, но только немедленно?
— Куда и зачем? — деловито осведомился Гонт.
— В Лондон, в личное распоряжение эрла Уорика. Если Ричард не удержится, пусть хоть трон уцелеет.
К вечеру контракт был согласован по всем пунктам, подписан и скреплен печатями.
— Благополучие Ланкастеров в твоих руках, сэр Генри, — вручив сыну векселя и письма для управляющих, Гонт обнял его за плечи. — Мне некому довериться, кроме тебя. Люди уже в седлах, скачи. От твоей ловкости и быстроты, возможно, зависит корона.
— Спасибо за доверие, милорд отец! — стараясь сохранить твердость, обещал юный эрл Дерби, прозванный Болинброком.
Едва ли кто-нибудь в ту пору догадывался, что именно ему и предстояло надеть английскую корону. Он станет править под именем Генриха Четвертого, но случится это еще очень и очень нескоро. Вне временных рамок нашей правдивой хроники.
— Если сумеешь, проникни в Савой, — сказал герцог уже напоследок, — действуя сообразно с обстоятельствами.
Глава двадцать четвертая Возвышенность Блекхиз
«Друзья, — сказал он, — утро на исходе, И я скажу при всем честном народе, Что времени не следует терять, Оно имеет свойство уплывать, И в час ночной, когда мы сладко спим, И днем, когда не знаем, как нам с ним Управиться. Оно ручью подобно, Что с гор течет, дробясь о камни злобно. Сенеке довелось не раз писать, Что времени потеря горше смерти, А этому философу вы верьте». Джеффри Чосер. Кентерберийские рассказыЮный Патрик Бомонт, паж, сверстник Ричарда, смущенно топтался на лужайке Виндзора, окруженный самыми знатными дамами королевства. Пунцовый и чуточку нескладный от счастья, он стыдливо ежился под приторными, тягучими, как ленивая струйка меда, взорами придворных красавиц. Словно спадали последние покровы, распахивая неизведанную влекущую даль.
Патрика облегала белая ненадеванная рубаха, поверх которой пылало алое сюрко; коричневый грубошерстный шосс поддерживал белоснежный пояс. Цвета олицетворяли немудреную символику: чистоту помыслов, постоянную готовность пролить кровь во имя церкви, землю, куда рано или поздно сойдет человек, и «незапятнанность чресел». С последним пунктом, правда, не все обстояло гладко, но в остальном королевский наперсник полностью отвечал рыцарскому идеалу.
Отвесив пощечину, как того требовал древний ритуал, Ричард в одно мгновение превратил товарища детских игр в мужчину. Поистине королевский дар, перед которым бледнеют даже более весомые знаки монаршей милости: титул, земли — всем этим наследник Бомонтов обладал по праву рождения.
Он сам боялся признаться себе, что испытывает нечто похожее на разочарование. Так же ярко светило утреннее солнце и сверкала свежескошенная трава. И в птичьем щебете не прибавилось звонкости, и благоухание роз — красных и белых — не стало слышней.
По три дамы с каждой руки куда-то тащили свежеиспеченного найта,[90] который так и не почувствовал свершившейся перемены.
Был тринадцатый день июня, праздник тела Христова, лучезарное росное утро…
— Нам бы только играть! Забавляемся, пляшем, — проворчал Солсбери. — А они уже в трех милях от Лондона, и со стороны Олдгейта подходит орава. Не пора ли на что-то решиться?
Сидя рядом с матерью-опекуншей, он постепенно повышал голос в расчете на канцлера, безмятежно дремлющего на правом крыле.
— Опомнись, милорд, — осадила его королева. — В такую минуту!
— Сколько мы упустили минут, ваша милость! — сокрушенно вздохнул эрл. — Часов, дней…
Королева промолчала. Она своими глазами видела несметные полчища, неотвратимо приближающиеся к столице. Эрл прав. Бездействие было равносильно самоубийству. Застигнутая врасплох на своей вилле, она пережила все прелести осады. Вместе со «свитками зеленого воска», то есть податными списками с зеленой печатью, чуть было не сгорел целый манор.
На счастье, главарь сервов, какой-то кровельщик, оказался сговорчивым, даже обходительным малым. Он не только постарался оградить королеву от оскорбительных притеснений, но даже выделил особый конвой для беспрепятственного проезда. Мужланы, следует воздать должное, превосходно держались в седле. Они сопроводили ее до самого моста, всячески стремясь выказать преданность королю. При всей опасности это определенно обнадеживало. Королева уже готова была подать голос за разумную договоренность. Все равно каких-то уступок не избежать. Прояви они хоть чуточку понимания, можно было бы, пусть временно, пока не спадет напряженность, бросить кусок. По крайней мере на словах, потому что обещания, тем более вынужденные, ни к чему не обязывают. Но весь ужас положения как раз в том и заключался, что в своих непомерных требованиях взбунтовавшийся плебс перешагнул все мыслимые пределы. Они жаждали крови, эти хищные звери в образе человека. Без малейшего стыда и душевного трепета называли имена первых пэров Англии, даже принцев крови. При всей неприязни к Ланкастеру королева и помыслить не могла о подобной жертве. Брат покойного мужа, дядя Ричарда, сам кастильский король почти!
Основы для компромисса не было. Чего же хочет от нее этот назойливый Солсбери, куда подталкивает?
— Что у тебя на уме, милорд? Только не так громко, ради всего святого, — прошептала она, чтобы поскорее отделаться от надоедливого жужжания.
— Надо послать доверенного и, что особенно важно, здравомыслящего человека.
— Мэр Уолуорс обещал подобрать подходящего олдермена.
— У Гилдхолла свои интересы, а тут совсем другой посол требуется, от двора. И, главное, сейчас, сию минуту.
— Есть кто-нибудь на примете? — все так же тихо, не повернув головы, спросила королева.
— Может, Чосер?
— Клиент Ланкастера? Ты здоров ли, милорд?
— Да, верно, верно, — сконфузился Солсбери. — А что, если я?
— Поезжай, — одними губами молвила королева и, уже сияя улыбкой, поднялась со скамьи, чтобы вручить посвященному золотые шпоры.
— Поедешь со мной, сэр рыцарь. Будет тебе первое испытание, — важно распорядился эрл, отзывая Бомонта в сторонку.
Повстанческое войско расположилось у подножия лесистой возвышенности, именуемой Блекхиз. С развернутыми большими и малыми знаменами, оно по-военному четко держало линию. Меньше недели понадобилось Тайлеру и его командирам, чтобы создать могучую, невиданную по тем временам военную силу, насчитывающую от пятидесяти до ста тысяч бойцов. Пусть на всех не хватало настоящего боевого оружия, но кузнецы без устали ковали новые мечи, а беглые матросы и мастера с верфей обучали новобранцев артиллерийской науке.
Пушки опробовались по другую сторону леса. Перед каждым залпом прислуга, заткнув уши, бросалась ничком в траву. Иногда все ограничивалось шипением и смрадным угаром, но бывало и так, что стволы разрывало.
— Ничего, успокаивал однорукий седой ветеран. — Помню, в Лa-Реоле и не такое случалось. Голова цела, и на том спасибо. В нашем деле самое важное — точность. К празднику святого Джона будете стрелять, как из лука.
До midsummer day[91] оставалось чуть поболе недели, но человек не властен над собственным завтра. Нет у них этого завтра, у пушкарей-новобранцев, нет впереди недели. Сжимается время событий — рассказа сжимается время. Как газы пороховые в пушечном грозном жерле. Шел счет на века, потом на десятилетия, годы, теперь — на часы.
Праздничную обедню прямо посреди поля служил Джон Болл. Лейтмотивом проповеди послужил излюбленный вопрос насчет Адама и Евы.
— Вначале, — объяснял неистовый пресвитер, — все люди были равны. Такими изваял их господь из глины скудельной. И так было веками, пока не явились на свет нечестивцы, которые начали несправедливо угнетать своих ближних. Человечество разделилось на господ и рабов. Теперь рассудите-ка сами, братья, угодно ли это богу? Если бы он хотел создать рабов, то еще в начале мира определил, кому стать лордом, кому вилланом. Что из этого следует, братья? А следует то, что нынешние законы — порождение зла. И потому настал назначенный господом час сбросить рабское иго, в справедливой борьбе завоевать давно желанную свободу. Вы должны действовать не только смело, но и мудро, уподобляясь рачительному хозяину, вырывающему плевелы на ниве своей, дабы они не заглушили пшеницы. Первым делом необходимо уничтожить магнатов, которые сосут нашу кровь, затем их верных прислужников — законоведов и судей, наконец, всех тех, кто приносит вред общинам. Мир и безопасность лишь тогда воцарятся в нашем мире страданий и притеснений, когда у всех будет одинаковая свобода, одинаковая знатность и одинаковая власть.
Он умел доводить мысль до логического конца, несгибаемый проповедник. Никто не говорил с людьми таким языком, побуждая работать мысль и самостоятельно находить единственное решение. И каждый принял окончательный вывод как из сердца исторгнутый крик.
Подобной проповеди не знала церковь за все тринадцать веков. Последние слова Болла заглушил вопль, прокатившийся над лесом Блекхиза и долетевший до серой Темзы, до неприступных валов Лондона.
— Вот кто воистину достоин носить архиепископский сан! — потрясая копьями, кричали одни. — Пусть Болл будет примасом и канцлером королевства! — со слезами радости на глазах вторили им другие. — Казнить изменника Седбери! — гневно скандировали все вместе.
Что и говорить, не лучшее время выбрал эрл Солсбери для поездки в повстанческий лагерь. Он, конечно, слыхал, что народ призывает на голову канцлера все громы небесные, но то, что довелось ему здесь увидеть и услышать собственными ушами, превзошло самые страшные опасения.
— Нам с ними не договориться, Бомонт, — бросил он юному рыцарю, разом утратившему нежный румянец. — Они уничтожат и нас, и наших детей. Несчастная Англия! Она обратится в пустыню… Единственное, что остается, это оттягивать, обещать и тянуть.
Вождь повстанцев — близкий к обмороку, лорд не знал даже его имени — на принял посла.
— Мы хотим говорить с королем, — передал ответ Тайлера Джон Шерли. — Ты знаешь, чего мы требуем, вот и доложи его милости.
— У короля сейчас множество дел, и поэтому придется запастись терпением…
— Терпение давно лопнуло, — был окончательный ответ. — Народ будет ждать короля. Возле Ротерхайта. Завтра.
— Я приложу все силы, чтобы убедить короля, — мертвым голосом заверил эрл, вцепившись в конскую гриву.
Рыцарь Бомонт смотрел, молча слушал и, ненавидя, запоминал.
Вересковое поле, королевские флаги, и лица, лица, сумрачно-одинаковые, как потемневшие пенни.
Уолтер Тайлер, даже если бы захотел, не мог принять члена тайного совета.
С рассвета в походной палатке вождя расположились другие высокие гости: олдермены Джон Хорн, Адам Карлайль и Джон Фреш. Они прибыли по поручению Уильяма Уолуорса и от имени короля. Неожиданный визит Солсбери бросал, таким образом, тень на обе миссии. Закрадывалось подозрение, что затевалась какая-то сомнительная интрига.
Как бы там ни было, но послам не стоит мозолить друг другу глаза. Такого же мнения держались и Шерли, и Томас Фарингдон, до тонкости изучившие хитросплетения Гилдхолла.
Вскоре стало ясно, что олдермены тоже не следуют единой позиции.
Фреш начал с того, что принялся читать по бумаге:
— «Нам поручено довести до твоего сведения, почтенный господин Уолтер Тайлер, чтобы ты не приближался более к Лондону, не приводил в страх и замешательство короля и других сеньоров, а также жителей названного города. От тебя и твоих людей ожидают безусловного повиновения королю, которому все подданные обязаны оказывать должное уважение…»
— Кем подписано обращение, которое ты только что огласил, почтенный олдермен? — спросил Тайлер, терпеливо выслушав длинный перечень рекомендаций.
— Никем. — Фреш беспомощно захлопал белыми ресницами. — Это вовсе не обращение, а вообще так… для памяти.
— Но вы заявили, почтенные бордарии,[92] что уполномочены королем. Я верно вас понял?
— Так оно и есть. — Фреш слегка приосанился. — От имени короля и всего города.
— Всего города? — На бронзовом лице Тайлера промелькнула лукавая усмешка. — А его вы спросили? — кивнул он в сторону Фарингдона. — Между тем это вполне достойный лондонский уроженец. Твоим мнением кто-нибудь поинтересовался, брат Томас?
— Нет, — односложно отозвался Фарингдон.
— Насколько мне известно, ты не то что советуешь войти в Лондон, а даже настаиваешь на этом?
Фарингдон с улыбкой пожал плечами.
— Вот видите, господа олдермены. Выходит, не от имени жителей Лондона вы пришли. Тогда от чьего же?
— Всего городского совета и мэра, — уточнил Карлайль.
— Зачем же вы приплели сюда короля? Кто-нибудь из вас говорил с его милостью?
Достойные отцы города, потупясь, молчали. Только один Хорн, делая время от времени какие-то непонятные знаки, всячески старался привлечь внимание вождя повстанцев. Он то подмигивал украдкой, то, закрывшись ладонью, красноречиво гримасничал через растопыренные пальцы.
Тайлер было подумал, что человек не в себе, и даже хотел посоветовать ему сходить к Фоме Бекету.
Переговоры зашли в тупик.
Но когда Фреш сокрушенно развел руками и приподнялся с места, запахнув подбитый зимней белкой плащ, выяснилось, что Хорн старался не зря.
— Что, если я еще немного тут задержусь, друзья? — обращаясь к своим, он подмигивал уже совершенно открыто. — Вдруг до чего-нибудь договоримся?
— Я категорически против, — брызнув слюной, вспылил Фреш. — Ты рискуешь превысить полномочия, почтенный мастер Джон.
— Ничуть, — ответствовал Хорн.
— По мне, так пускай остается, — махнул рукой Карлайль.
Хорн выждал, пока коллеги по «круглому столу» гильдейского дома отъедут подальше, и, распахнув объятия, словно и впрямь готовился прижать собеседников к сердцу, доверительно прошептал:
— А теперь, ребята, послушайте, что скажу вам я, Джон Хорн. — Он сладко зажмурился и, набрав побольше воздуха, заявил: — Не слушайте никого! Вас ждут не дождутся в Лондоне. Можете верить, хоть говорю я не от имени короля и уж тем более не от имени презренного Уолуорса, зато от лица всех лондонцев. Они с вами заодно. Вас встретят с исключительным радушием, как не всякий отец встречает сына и не всякий приятель приятеля. Вам отведут удобное жилье и снабдят всеми необходимыми припасами. В неограниченном количестве! Подтверди мои слова, брат Джон.
— Верно, — кивнул Фарингдон. — Мы не раз толковали об этом с братом олдерменом и другими нашими друзьями и доброжелателями… Я тебе рассказывал, Уот Тайлер.
— Дайте мне надежных парней, и я незаметно проведу их в город, — предложил Хорн.
— Превосходная мысль! — поддержал его Фарингдон.
— Спасибо за доброе слово, брат. — Тайлер кивнул Хорну и крепко задумался. Многое зависело теперь от того, как поведет себя король.
Многое, но, к счастью, не все.
Весы справедливости качнулись в сторону народа. Проповедь Болла сместила шаткое равновесие чаш. Он звал к свободе, но ныне до нее оставался последний шаг. Звал всем миром пойти к королю — и народ пришел.
— Выступаем до полудня, — сказал Тайлер на совете. — Лондонцы ждут сигнала? Мы дадим им такой сигнал, что и слепые прозреют. Дойдем до самого моста. Слева от дороги тюрьма Королевской скамьи, справа — Маршалси. Пусть пламя взлетит до небес. Это и будет сигналом.
— В Ламбесе дворец изменника Седбери, — напомнил Джек Строу.
— Правильно, — поблагодарил кивком Уот Тайлер. — После Саусуарка ударим по Ламбесу, чтоб дотемна разбить лагерь у Ротерхайта. Я хочу, чтобы его милость король застал нас выспавшимися и веселыми.
— Можешь положиться на моих кентцев, Уот! — заверил Строу.
— У тебя, Джек, другая задача, — Тайлер склонился над планом. — Смотри, — он провел иглой пунктория[93] вдоль дороги. — Со стороны Майл-Энда к Лондону подходят люди из Эссекса. Сколько их? Кто командует?.. Мы ничего не знаем. Из наших там только брентвудцы. Одним словом, тебе я поручаю навести там порядок и первым войти в город через Олдгейт. Тебя встретит Фарингдон, а то ненароком заблудишься.
— Тогда дай мне его, вместе и поедем.
— Вместе не выйдет, Джек. Он уже небось в Лондоне. Задача понятна?
— Спасибо, Уот!.. Как ты думаешь, король приедет? Я бы его захватил, ей-богу! С таким заложником можно гору свернуть.
— Мы не воры, Джек, не бандиты, а честные англичане. Слово — великая сила. Ты слушал Болла?
— Брось, Джон Правдивый, я пошутил.
— Я так и понял тебя, Джек Строу. — Тайлер бережно свернул план. — Кстати, о заложниках. Ты, говорят, захватил какого-то важного рыцаря?
— Хочу взять с него выкуп.
— Отдай лучше мне. Мы пошлем его к королю.
Глава двадцать пятая Огненное кольцо
Сказал: «Ты молод чересчур. Но славный наш король Артур Возводит в рыцарское званье Всех, кем заслужено признанье И покровительство его. Кто не страшится ничего, Кого геройство не покинет, Тот при дворе Артура принят. Спеши припасть к его стопам, И рыцарем ты станешь сам!..» Вольфрам фон Эшенбах ПарцифальТот же праздничный день, но уже пополудни. Свинцовое падение тяжких, спрессованных до предела минут. Та же Темза возле Лондона, палимого солнечным жаром. Не серый, как утром, но блистательно-голубой, в ослепительных вспышках.
Вод размеренное течение мимо города на восток… Сквозь века. От истока до устья.
Ричард бродил по растревоженным галереям Виндзора. Жадно внимал молве, загорался жаждой деятельности, но уставал вскоре и впадал в уныние. Непрошеные подсказчики выдвигали фантастические планы и тут же от них отказывались. Сплошные метания из крайности в крайность. Непреклонная мать, стоик-канцлер, Солсбери, казначей — все они оказались не из железа. Разъедало сомнение, на каждое «за» находилось свое «против», сквозь фальшивую позолоту мудрости просвечивала застарелая чиновничья тупость.
Болтовню о «сплетнях», о «ложных слухах» как ветром сдуло. Но продолжалось комариное мельтешение, по-прежнему застил глаза малярийный туман. От того, что «беспорядки» именовались сегодня «бунтом», легче не стало. Бунты были всегда, и всегда с ними как-то справлялись. Лихорадочное бездействие, словно в бреду. Ни дельного совета, ни хотя бы трезвого взгляда. Сплошной дурман.
Король любил помечтать о том времени, когда раскидает опекунские подпорки и начнет править один. Но дальше увеселений и кричащих обновок его упования не простирались. Даже на забавы с молоденькими фрейлинами он решался с превеликой опаской. Предприимчивому Бомонту приходилось тащить его чуть ли не силой. На тайном совете он только и делал, что повторял чужие фразы. Ни разу не произнес: «Я так хочу!» Или хотя бы: «Я так считаю». И в мыслях подобного не держал.
Теперь от него, пай-мальчика, застенчивого молчуна, ждали монаршего волеизъявления. А он не умел, не решался и изнемогал от непосильного бремени личной ответственности. Понимал он ее, ответственность, довольно смутно, никак с собственной особой не связывая. Отвечали всегда другие, он представительствовал. Все устремления сводились к нарядам и жестам, чтобы эффектней оформить роль.
Ричард позвал валета[94] и велел облачить себя в новый костюм с «любовными бантами» и застежками, усыпанными алмазами. Не жаль было тридцати тысяч фунтов, хоть и скрипел прижимистый казначей. Вещица того стоила. Увидят — ахнут!
Сразу вернулось хорошее настроение. Ричард успокоился и выбросил тревожные мысли из головы. Как будет, так будет. Он же король! Сам Солсбери говорил, что «они» почитают своего короля.
Бомонт, которому была оказана честь первым полюбоваться творением портняжного гения, обнаружил, не в пример хилому отпрыску Плантагенетов, большую политическую зрелость. Рыцарь без страха и упрека, он нашел, оказывается, свое средство покончить с бесчинствами черни. Единым ударом, само собой разумеется.
— Я убью их коннетабля, — поклялся Бомонт без тени сомнения.
Приободренный решительным видом соучастника детских игр, король окончательно развеселился и тоже сделал попытку продемонстрировать волю. В качестве некой аранжировки к наряду, на который ухлопали доходы целого графства.
— Двору следует переехать в Тауэр, — объявил он пораженной матери.
Тайный совет нашел, что это весьма своевременно.
Переезд, на который раньше могли уйти недели, совершился с быстротой батальной ретирады. У ворот столицы короля встретил мэр Уолуорс. Спешившись и обнажив голову, он пропустил кортеж и присоединился к замыкающему отряду охраны. За ним следовали наиболее именитые олдермены, магнаты и судьи, пожелавшие укрыться за стенами цитадели. Пунцовое, искаженное жаркой зыбью светило еще не коснулось верхушек квадратных башен, как кортиры и девицы чести[95] уже устраивались на новых местах.
Несмотря на теплынь, в необжитых покоях таилась вековая сырость. Старые печи безбожно дымили, сладко воняло торфом, сердито каркали вещие вороны, потревоженные переполохом.
Не успели как следует разместиться, как герольд доложил о рыцаре Роджере Ролсби, прибывшем прямо из лагеря бунтовщиков. Тайный совет собрался в узком составе. Сообразуясь с чрезвычайностью обстановки, разрешили присутствовать Уолуорсу. На скорую руку проветрили зал и зажгли факелы. Стало еще неуютнее. Столы и кресла покрывал толстый слой пыли и копоти.
На заложника было стыдно смотреть. Заикаясь от страха, он понес совершеннейший вздор, моля о прощении и поминая без надобности такие слова, как «честь» и «верность».
— Я ничего не могу разобрать! — первым не выдержал канцлер. — Можешь ты объясниться толком?
— Если бы я не попал к ним в плен, то никогда бы не взял на себя такого поручения! Клянусь, ваша милость! — Он упал перед королем на колени и размашисто перекрестился.
Ричард тряхнул в ответ золотыми кудряшками и выжидательно заморгал.
— Поручение? — Седбери постепенно добирался до сути. — Расскажи, что тебе поручено, и ты будешь прощен!.. Встань, сэр рыцарь, ты не в церкви.
Ролсби воспрянул духом и принялся излагать, благоразумно умалчивая о том, что, мягко говоря, не доставит удовольствия ни королю, ни тем более канцлеру.
— Они не хотят иметь королем никого, кроме вас, — частил он на одном дыхании. — И вам нечего опасаться за себя, ибо они не намерены причинить вам ни малейшего вреда; они всегда почитали вас как своего короля и впредь будут поступать так же; но они хотят сказать вам много вещей, которые, как они утверждают, вам необходимо выслушать…
— «Они, они, они!» — передразнил канцлер. — Ишь раззуделся!.. Это все?
— Все, ваше высокопреосвященство.
— Ты что-нибудь понял, милорд? — Седбери выжидательно уставился на Солсбери, задумчиво чертившего какие-то вензеля на пыльной столешнице. Время от времени эрл старательно обдувал палец.
— Чего же тут не понять, милорд канцлер? Все совершенно ясно.
— Тогда ступай, — с гадливой гримасой Седбери покосился на рыцаря. — Ступай, тебе говорят.
— Куда, ваше преосвященство?
— А куда хочешь…
Сообщение Ролсби немного разрядило гнетущую атмосферу. Даже Солсбери, выкликавший одно дурное пророчество за другим, заметно повеселел.
— На сей раз приглашение звучит значительно лучше, ваша милость, — поклонился он королю. — Вы не уроните своего достоинства, если соизволите выслушать их… претензии.
— Ты хотел сказать «требования», милорд? — поддел Седбери, нервно перебирая четки.
— Что хотел, то и сказал.
— Во всяком случае, это согласуется с теми заверениями, которые были даны мне в Элтаме, — заметила королева.
— Пока народ чтит своих королей, он не окончательно безнадежен, — осторожно высказался лорд-казначей.
— Твое мнение, Уолуорс? — облизав сухие желчные губы, спросил Седбери.
— Я бы всыпал им хорошенько, милорд! — Мэр непроизвольно сжал мясистые волосатые пальцы в кулак и ударил в растопыренную ладонь. — Перевешать всех до единого, и будет тихо!
— Все? — как и рыцаря-труса, спросил его канцлер.
— Все, эминенция. — Польщенного оказанной честью мэра так и распирало от гордости. Он просто не находил слов для выражения преданности.
— «Перевешал», — уничижительно хмыкнул Солсбери. — Какими силами, спрашивается? Вздор, опаснейший вздор!
— Вздор, — согласно кивнул канцлер. — Я предлагаю немедленно отозвать герцога Ланкастерского и сэра Нолза… Чего бы это ни стоило.
— Пока они прибудут, от нас останется мокрое место… Прошу прощения, — Солсбери отдал поклон королеве.
— Значит, будем тянуть, сколько сможем, — канцлер устало опустил веки. — Я согласен с тобой, милорд. Его милости королю следует принять приглашение.
— Боюсь, что так легко мы от них не отделаемся, отрицательно покачал головой Солсбери. — Это ведь не просто речная прогулка. Требования бунтовщиков известны… Чем-то придется и поступиться.
— Чем именно? — быстро спросил внимательно слушавший Эдмунд Йорк.
Солсбери благочестиво сложил ладони, но от ответа уклонился.
— Без уступок не обойтись, — жестко молвила королева. — Нужно на что-то решиться. Король должен знать, чем можно пожертвовать… В самом крайнем случае. — Она постепенно сдавала позиции. — Как ни толкуй, но лучше отделаться малым, чем потерять все.
— Чего мы ходим вокруг да около? — Эдмунд Ленгли издал хриплый смешок. — Всем давно ясно, что необходим козел отпущения. Я бы кинул им кость пожирнее.
Все безмолвно потупились, старательно избегая встретиться взглядом с канцлером и казначеем.
Роберт Хелз помрачнел, но Седбери сохранял полнейшую невозмутимость. Лишь резче подергивал агатовые шарики четок.
— Милорд, по всей видимости, намекает на своего брата? — спросил он недрогнувшим голосом. — Если же я ошибаюсь и речь идет о моей скромной особе, то сегодня же вечером я надеюсь иметь честь возвратить его милости королю большую государственную печать. Полагаю, что в сложившихся обстоятельствах у нас нет другого выбора. В Ротерхайт нужно ехать с чем-то конкретным.
— Я поеду, если вы так считаете, — через силу выдавил Ричард.
Он привык, что в нужный момент чья-нибудь направляющая рука выталкивала его на авансцену, и потому не очень боялся.
Когда зашло солнце, на правом берегу Темзы вспыхнуло зарево. Горели обе тюрьмы, взятые с боем. Всех заключенных, по обыкновению, сытно накормили, дали им еды на дорогу и отпустили с добрым напутствием. Некогда было разбираться, кто и за что сидит. Вместе с осужденными по Рабочим законам батраками и подмастерьями на волю вышли убийцы, воры, фальшивомонетчики и рыцари с большой дороги. Среди них оказался и душитель мальчиков Гугон Щелкунчик, неизлечимый маньяк, которого ожидало колесование.
Великодушен и легковерен победивший народ. Милостива революция к униженным и оскорбленным.
Вскоре запылал и величественный дворец примаса. Как и в кентерберийских покоях, здесь были собраны редкие безделушки со всех трех частей света: гностические геммы на драгоценных камнях из Александрии, бесценные русские соболя, флорентийская мозаика, золотой потир базилевсов,[96] чеканная утварь армянских царей.
Погибла и библиотека, в которой были собраны богословские сочинения, еретические манускрипты Гермеса Трисмегиста,[97] географические карты, астрологические таблицы и наставления по медицине. Немало раритетов собрал Седбери. Можно только гадать о том, какие сокровища мысли хранились в его сундуках, чьи вещие письмена улетели с дымом.
Никто и крупинки не вынес под сюрко или коттой из хором изменника, приговоренного к смерти. Пусть полюбуется напоследок сквозь узоры решеток Тауэра на пламя возмездия. Не те же ли знаки огненные увидел Валтазар нечестивый на последнем пиру?
Никто, никто не избегнет расплаты.
Во внутреннем дворе Маршалси, похожем на смрадный колодец, нашли кошмарные орудия пыток. Джон Каменщик с выжженной буквой на лбу давал пояснения:
— Вот, братья, две доски из тяжелого дуба. Между ними засовывают такого, как я или ты, а сверху укладывают валуны один на другой, пока не раздавят ребра. А это крест святого Андрея, к нему привязывают приговоренных к четвертованию. А тут доски для вытягивания сухожилий, — переходя от машины к машине, он подробно, чуть ли не с удовольствием пояснял их устройство и предназначение. — В этот пресс зажимают ногу и кости дробят поворотом винта… Постой-ка, а где же корона стальная?.. Ага, завалилась, голубушка, за меха! Эту штуку, ребята, надевают на умную голову. Сначала, конечно, раскалят докрасна в горне, как кардинальскую шапку, а после наденут…
Наиболее чувствительных и сердобольных эти пояснения, сопровождаемые шутками висельника, бросали в дрожь. Но таких, по правде, нашлось немного. Изуверские пытки и лютые казни были в порядке вещей. Почти такой же суровой повседневностью, как «Черная смерть» или голод. Страшен, мучителен переход к вечному свету. И так короток, что не поймешь, где испытание духа, ниспосланное благою силой, а где козни дьявола. Ада боялись не меньше, чем тюрьмы с палачами. Кровь застывала в жилах при одной лишь мысли о муках вечных. В пыточный застенок не каждый заглядывал, зато насчет удовольствий, уготованных в преисподней, знали сызмальства. Церковные живописцы не скупились на красочные подробности. А уж фантазия играла безудержно.
Не пытки как таковые, не смертоубийство кровавое и казни смущали умы, а то, что казнят да пытают невинных. Поэтому почти каждый примеривал, как бы поудобнее разместить на всех этих досках изменника-примаса, «Хоба-разбойника» и прочих людоедов.
Перво-наперво кинулись разыскивать смотрителя тюрьмы — королевского маршала Имуорса, но того, понятно, и след простыл. Может, спрятался где или в Тауэре вместе с другими укрылся.
Жаль. По всему выходило, что ему первому сюда лечь надо. Одни считали — на дыбу, другие — на колесо.
Дом Ричарда Имуорса, конечно, разрушили, а заодно и жилища самых ненавистных судейских, стряпчих, присяжных.
В Саусуарке расколотили в щепки и лупанарии Уолуорса. Впрочем, не все. Обитательницы не дали. В чем были, в том и повыскакивали на улицу. Чего-чего, а драться эти раскормленные фландрские девки умели. С визгом, ором и такой затейливой бранью, что даже беглые матросы падали прямо посреди улицы, обессилев не столько от побоев, сколько от хохота.
Юный Бомонт угодил в самый разгар ночного сражения в квартале Красных Фонарей. Остановив первого встречного, он вежливо спросил, где можно найти предводителя.
— А тебе зачем, петушок?
— Я с поручением от его милости короля.
— Еще один! Дела, братцы… А ну-ка проваливай отсюда, сопляк, пока цел.
Лошадь у него отняли.
Хитроумно задуманный план потерпел фиаско. Не добираться же до Ротерхайта пешком, да еще в темноте. О переезде двора рыцарь не знал. До Виндзора было далеко. Пришлось искать приюта в одном из уцелевших лупанариев.
Глава двадцать шестая Вступление в Лондон
…Я Правде верно издавна служу И расскажу ему, кто здесь трудился, А кто здесь жил плодом трудов чужих. И Правда вас тогда труду научит, Не то — ячменным хлебом вам питаться Да воду ключевую только пить! Слепой, хромой, закованный в колодки Пускай со мной пшеничный хлеб вкусят, Пока господь не дал им исцеленья. А вы, притворщики, работать в силах: Пасти ли скот иль охранять посевы, Копать ли рвы иль молотить на гумнах, Месить известку и возить навоз. Но вы погрязли в лени и обмане, И лишь по милости вас терпит бог!.. Уильям Ленгленд Видение о Петре ПахареДвенадцать пар весел одновременно легли на воду, гребцы сделали энергичный взмах, и королевская лодка отошла от причалов Тауэра. До Ротерхайта, расположенного на другом берегу, чуть ниже по течению, было рукой подать. Река сама несла, куда надо.
Сопровождать Ричарда вызвались граф Арондел, только что назначенный временным хранителем печати, эрл Солсбери и Бомонт. Примас и казначей присоединились в самую последнюю минуту, рассудив, что присутствие короля может оказаться куда более верной защитой, чем пушки Тауэра. Заранее договорившись, они поджидали его возле лодок. Продуманы были не только словесные аргументы, но даже наряд. Отставленный канцлер облачился в золоченую митру и епископскую далматику, а Ричард Хелз зябко кутался в черную мантию госпитальера.
Солсбери сперва заартачился, но примас весьма кстати напомнил ему, что на переговорах неизбежно будут затронуты интересы церкви.
— Я готов отказаться от Кентерберийского диоцеза, — брезгливо швырнул он наиболее веский довод. — Но митру епископа властен отнять у меня только папа.
— Или меч, — словно бы про себя, но достаточно громко сказал Арондел. — Вместе с головой.
Над водой курился туман, и противоположный берег скрывала непроницаемая завеса. Но уже явственно различался бьющий по нервам многоголосый гул. «Босоногая голытьба», как презрительно выразился верный себе Симон Седбери, загодя спустилась с холмов Блекхиза и заполнила всю прибрежную полосу королевского манора. Ее ощутимое с каждым гребком нарастающее давление леденило кровь.
Словно сквозь промасленную бумагу выступили неясные очертания известковой осыпи, лужок, прохудившиеся мостки причала. Ни отдельных голов, ни тем более лиц еще нельзя было различить. Плотно сомкнутая толпа казалась грозовой тучей, упавшей с небес.
С берега заметили и узнали ярко-синюю, расписанную золотом лодку. Разноголосый гомон пронзили ликующие крики, приветственные возгласы, смех.
Однако в ушах Хелза и Седбери они прозвучали как вопли угрозы и ненависти. Даже имя свое, сопряженное с глухим и коротким, как последний вздох, словом, явственно различил чуткий госпитальер.
— Слышите, ваша милость? — казначей уже не владел собой. — Словно все дьяволы вырвались разом из преисподней! Они убьют вас!
— Не приставать! — не выдержал и стойкий как кремень примас. — Королю угрожает опасность! Не дай господь нам попасть в их руки…
— Назад! — взвизгнул фальцетом Ричард.
Паническая дрожь передалась остальным, захватив даже матросов. Весла врезались в воду, взорвавшуюся фонтанами брызг. Лодка описала волнистую дугу и полетела к Тауэру.
— Измена! Измена! — яростно откликнулся уходящий берег.
— Ты жестоко поплатишься! — злобно бросил примасу Ричард Арондел.
— Теперь все погибло, — поник головой Солсбери. — Какой позор!
Набиравшее высоту солнце растопило туман. Стало заметно, что не только в лугах Ротерхайта, но и на северном берегу, вдали за холмом святой Екатерины, на котором возвышался четырехугольник Тауэра, копошатся люди. Осыпая проклятиями изменников, они возмущенно перекликались через Темзу.
— Зачем ты увозишь от нас короля, «разбойник Хоб»? — отчетливо долетали отдельные возгласы. — Смерть архиепископу! Мы хотим видеть нашего короля! Хо-тим-видеть-ашего-о-о-ля!
Лодка, словно в нерешительности, закачалась на середине реки.
— Король обязательно выслушает вас! — сложив руки рупором, прокричал находчивый Солсбери. — А сейчас расходитесь, вы одеты неподобающим образом, чтобы говорить с его милостью.
Сидевшим в лодке казалось, что он с блеском вышел из положения. В их глазах соблюдение придворного этикета было достаточно веским доводом.
Но кентцы на южном берегу и эссексцы на северном, очевидно, полагали иначе.
Как и давеча, короля первым встретил лондонский мэр. Его верноподданническая бодрость и оптимизм действовали успокоительно. Доложив об успешной миссии олдерменов, он окончательно запутал правительство. Уильяму Уолуорсу действительно казалось, что столица превосходно подготовлена к обороне. Весь город был разбит на кварталы, подчиненные одному из олдерменов. На самые ответственные посты мэр расставил либо представителей собственной гильдии, либо тесно связанной с ней продовольственной мафии. Называлась она, разумеется, более благозвучно — Союз цехов. Он объединял мясников, рыбников, пекарей и виноделов. Но и древнее сицилианское название прочно вошло в лондонский сленг. По крайней мере, на Ломбард-стрит оно было в большом ходу.
За внешним благополучием скрывались, однако, подводные течения, о которых грубый, признающий только голую силу Уолуорс едва ли догадывался. Слишком уж упоен он был собственным процветанием, чтобы отвлекаться на какие-то нюансы. Он и слова такого не знал, что ничуть не помешало ему достичь завидных высот. Полновластный хозяин Лондона, богатей, того и гляди, достанутся золотые шпоры. О чем еще можно мечтать? На пирах знати сидит на высоком конце, жена давно «мадам» и носит шлейф на целый локоть длиннее, чем у самой королевы.
Даже крах заведений, отданных на откуп фламандкам, не обескуражил главу городского совета. Уж он свое наверстает, дай срок.
О том, что все подмастерья города образовали нечто вроде гильдии, противостоящей мастерам, он в общих чертах был осведомлен. Доходили до него и слухи про то, что эти самые подмастерья готовятся атаковать ворота с внутренней стороны, едва начнется штурм. Но олдермены рапортовали, что на вверенных им участках никаких тревожных признаков не наблюдается, и Уолуорс сразу же успокоился. Он был смел, самоуверен и глубоко презирал оборванцев.
За охрану главных ворот несли ответственность такие почтенные советники, как Уолтер Сайбил, Уильям Тонг, Джон Хорн. И вообще все кварталы, примыкающие к Олдгейту и мосту, находились под полным контролем мясников и торговцев домашней птицей. Эти парни не подкачают, на них мэр мог положиться, как на себя самого.
Пройдоха Хорн сумел обвести вокруг пальца даже главаря босоногих. Так застращал артиллерией, что они едва ли решатся подойти на расстояние выстрела. Громить заведения куда легче, чем карабкаться по лестнице под огнем бомбард. Будет жаль, если наглому сброду так и не придется отведать пороха! Уолуорс прямо так и заявил на тайном совете, не обращая внимания на фырканье Солсбери, трусишки и чистоплюя. Верным до гробовой доски хотел выглядеть лондонский мэр в глазах магнатов, пусть излишне запальчивым и немножечко ограниченным, но зато безусловно преданным и отважным. Таковым он и выглядел, но этим одним далеко не исчерпывалась многогранность его натуры.
На тот случай, если Лондон все же придется сдать, предусмотрительный отец города разработал проект секретной договоренности, определяющей отношения Гилдхолла с повстанческой армией. Оставшись наедине с вождями, Хорн, следуя прямому указанию Уолуорса, огласил все пункты этого хитрого документа. Уолтер Тайлер принял их без оговорок, о чем Уолуорс узнал в тот же вечер. В одном только дал маху прожженный хитрец. Он и мысли не допускал о том, что почтенные олдермены добровольно откроют врагу городские ворота.
Пока Уолуорс отирал бока в лабиринтах Тауэра, восставшие вошли в непосредственное соприкосновение с передовыми постами.
— Опустить цепи! — скомандовал олдермен Сайбил, как только показались копья с алыми георгиевскими крестами. — Эти люди из Кента — друзья короля.
Охрана была заранее снята — капитан и его солдаты получили три фунта и бочонок эля в придачу, — замки на цепях разомкнуты. Увидев такое, торговцы в мясном ряду подняли галдеж.
— Ты что, рехнулся, мастер? — орали они, размахивая острыми как бритва ножами. — Или не знаешь, что натворили вчера твои кентцы?
— Разбили тюрьму! — потрясал кулаками здоровенный детина, обвешанный плетенками с гогочущими гусями.
— Повыпускали злодеев! — торопились подсказать соседи.
— Сожгли заведения лорда-мэра!
— Зарезали!
— Ограбили!
Гам стоял несусветный.
— Ну что ж, — пожал плечами достойный олдермен, выждав, пока собратья из родственной гильдии слегка поостынут. — Все это следовало сделать еще лет двадцать назад. Тогда бы нам не пришлось переживать нынешних неурядиц.
— Все растащат!
— Поубивают!
— Сожрут!
— Успокойтесь, почтенные, — увещевал Сайбил. — Не вмешивайтесь, пожалуйста, не в свое дело. Все обговорено. Убытки будут возмещены до последнего фартинга. Вы еще получите изрядный барыш. Отбоя не будет от покупателей, смею вас уверить.
Кентское ополчение уже растекалось по тесно застроенным закоулкам, вознесенным на шестьдесят футов над урезом воды. Колыхалась пена у подножия каменных арок, стучали копыта, скрипели разболтанные оси телег.
— Привет тебе, Джон Шерли! — Сайбил едва отбился от наседающих скандалистов. — Добро пожаловать в Лондон.
— Я провожу тебя в Сити, — неизвестно откуда вынырнул Уил Хоукер, проникший в город еще накануне.
— С кем, с кем обговорено? — не отставал от олдермена продавец гусей.
— С мэром, дуралей, отвяжись от меня, ради бога!
Джон Фарингдон, которого вместе с Уилом Хоукером тайно приютил у себя советник Хорн, встречал эссексцев, подступавших к Олдгейту. Вопреки строжайшему приказу Уолуорса, ворота были гостеприимно распахнуты. От лица Гилдхолла восставших радушно приветствовал олдермен Тонг. Солдат и тут на месте не оказалось. Позвякивая новеньким серебром в кошельках, они объедались в таверне «Лебедь» гентскими колбасами, которые щедро заливали пивом, сваренным по рецепту древнего фландрского короля Гамбривиниса.
Фарингдон, не терявший времени даром, имел при себе план города, на котором крестиками были отмечены дома изменников, подлежащих казни.
— Рад тебя видеть живым и здоровым, Джек! — бросившись наперерез, он вцепился в узду и завернул лошадь. — Нам с тобой не сюда.
— А куда же? — удивился Строу, отирая локтем копоть со лба.
— В Хайберн, к «разбойнику Хобу»! Пора рассчитаться.
— Он свое получит, — ухмыльнулся Строу, — можешь не волноваться. А пока я должен разместить народ.
— Тебе виднее, Джек, работы и тут хватает! Были бы руки.
Фарингдон проводил глазами большой отряд ополченцев из Биллерикея.
— Как идут!.. Это все твои люди?
— Теперь мои. Им заморочил голову какой-то прощелыга бейлиф, но едва я появился в лагере, он поспешил дать деру. Казну прихватил, подлец! Поймаю — повешу.
С двух сторон вступали в столицу отряды, отчетливо разделенные значками сотен и городов на небольшие группы.
Подмастерья, ученики, матросы, угольщики, рыбаки, землекопы, побросав работу, выбежали на улицу. Сорокатысячный Лондон, далеко уступавший Парижу, Генуе и многим другим городам континента, никогда не видел такого людоворота. Беднота ликовала, что пришла долгожданная Правда на землю, а мелкие торговцы уже смекали, какой из этого может выйти навар.
По-своему они тоже были рады почти до беспамятства, потому что вместе со всеми страдали от притеснений, ненавидели магнатов-изменников и своего мэра.
Прислуга не успевала таскать снедь. Трактирщики и владельцы таверн из кожи вон лезли, стараясь угодить клиентам и прижать нос сопернику. Отрадная весть о том, что гости расплачиваются полновесным серебром, передавалась из уст в уста. Шипела приправленная петрушкой яичница, бурлили котлы с увесистыми кусками мяса, румянилась птица на вертелах. Красные от жара печей, выскакивали остудиться пирожники. Фландрские мастера предлагали связки колбас — вареных, копченых, с кровью, ливером, мозгом, щедро нашпигованных жиром, благоухающих мускатом и майораном.
Торговля, хиревшая день ото дня, обещала обернуться солидной прибылью. Только успевай поворачиваться: за едоками дело не станет — не счесть.
Олдермены, ответственные за свои кварталы, разводили по трактирам и странноприимным домам. Лондон проявил себя гостеприимным городом.
Но недосуг было пировать да залеживаться на сене. Перехватив кусок-другой и прохладившись глоточком пива, повстанцы спешили занять место в строю. Перед каждым отрядом стояла своя задача.
Большая часть армии в сопровождении всадников направилась к Стрэнду, где находился дворец Джона Гонта — знаменитый Савой. Кентские маноры герцога уже лежали в развалинах. Его табуны чистокровных коней, рогатый скот и немалые запасы пшеницы были проданы по самой дешевой цене батракам и крестьянам.
Обо всем об этом герцогу, роняя слезы, отписал управляющий Томас Газельден. Но Ланкастер, чьи войска заняли позиции вдоль реки Твид, не торопился с походом на Лондон. Ждал, какой оборот приобретут события. Оборот получился крутой, даже ошеломляющий. Гонт еще сокрушался над письмом Газельдена, а самый роскошный в Европе, новенький, с непросохшей штукатуркой дворец уже обратился в дымящиеся руины.
Известие о разгроме Савоя он получит не через герольда, а непосредственно от потерпевших, из их искаженных страданием уст. Впрочем, страданием сугубо морального свойства. Семье Гонта не только не причинили ни малейшего вреда, но и позволили беспрепятственно покинуть город.
— Истребить магнатов, — разъяснял Джон Болл, — это значит уничтожить саму возможность неравенства божьих созданий. Смерть заслужили изменники и палачи, а дети и матери тут ни при чем.
— Чтобы истребить сорняки, надо выполоть корни, — не соглашался Джек Строу.
Но на военном совете он и его подручные остались в меньшинстве.
— Мы взяли оружие, чтобы вернуть на землю справедливость, честь и милосердие, — Тайлер пресек ожесточенные споры. — Народ назвал своих притеснителей, и они получат по заслугам. Но ни один волос не должен упасть с головы неповинного. Справедливость для всех — это и мир для всех.
— Так не бывает, — Строу сопротивлялся до последнего. — Разве дети не станут мстить за отцов, когда мы покараем всех изменников? Срубить голову Гонту, чтобы погибнуть от руки его сына? Ты этого хочешь?
— Я хочу мира и правды. Карать человека должно по деяниям его, но не намерениям.
Ненависть к герцогу выместили на его джекке, геральдическом наряде, сплошь унизанном бесценными самоцветами. Вонзив в землю копье, брентвудские крестьяне повесили сверху этот ослепительный джекк и открыли стрельбу по пугалу с розами из рубинов. Выпустив с десяток стрел, изрубили все топором на мелкие кусочки.
Автор «Английской хроники» и прочие летописцы наперебой расхваливали непревзойденное изящество и роскошь ланкастерского отеля, причисленного чуть ли не к чудесам света. Хайбернский палас казначея, прозванный «Вторым парадизом», не шел ни в какое сравнение с благородным Савоем, соединившим в себе архитектурный гений Италии, изысканный вкус Парижа и непомерное тщеславие, присущее самому Гонту. Дом словно уподобился зеркалу, в котором отражался хозяин, вернее, олицетворяемая им власть — надменная, пышно-громоздкая и духовно пустая. Зодчий, сумевший воплотить в камне столь многозначный комплекс, был не только гением, но и безумцем. Его творение поражало эклектичным сочетанием ордеров, тяжеловесной избыточностью всяческой лепнины и арабесок, математической чистотой пропорций. Могучие подпружные арки, резные квадрифолии окон, витые пинкали на болезненно суживающихся контрфорсах — все по отдельности казалось чужим, с торопливой жадностью выхваченным из разных рук, но обретшим величие в случайном слиянии.
Под стать было и внутреннее убранство дворца, хранившего несметные сокровища в монете, золотой посуде, драгоценных камнях и знаменитом герцогском гардеробе, ставшем притчей во языцех. По части шика и умения пустить пыль в глаза кастильский претендент далеко обогнал прочих властителей христианского мира, включая самого императора.
Для «Бедных проповедников», и прежде всего Джона Болла, Савой был воплощенным царством Сатаны, с его глумливой наглостью, кичливостью, развратом.
На совете командиров разработали специальную инструкцию:
«Никто, под страхом смерти, не должен пытаться присвоить себе что-либо из имеющегося или могущего быть найденным имущества, но следует разбивать на мелкие кусочки имеющиеся в изобилии в этом доме золотые и серебряные блюда и посуду; бросать их в Темзу или в клоаки. Одежды из золотой и серебряной парчи, из шелка или бархата следует разрывать, а кольца и украшения, усеянные драгоценными камнями, должны быть истолчены в ступках, чтобы ими нельзя было больше пользоваться».
Новая власть еще не успела пустить корни и, как любая власть, остро нуждалась в средствах. Но восстание, взлетая на гребень волны, хотело сохранить незапятнанными знамена. Правда была превыше всего.
Из двадцати с лишним тысяч крестьян и ремесленников, окруживших Савой, нашелся только один, кто не устоял перед искушением. Незадачливого воришку, польстившегося на обломок серебряного подноса, бросили в пламя. Та же участь постигла и пьяниц, забравшихся в винные погреба. Свалившись замертво возле бочек, они так и остались там, погребенные под рухнувшим сводом.
Как пылало капище златого тельца, подожженное с четырех сторон! Как рвались бочонки пороха и падали балки! Слезы счастья текли по щекам. И белоснежное покрывало Правды некасаемо проплывало в дыму.
От Савоя повстанцы направились к Темплу. После истребления ордена тамплиеров храм-крепость достался иоаннитам, а затем перешел в личную собственность «разбойника Хоба». Казначей, умевший из всего извлекать доход, сдавал помещение корпорации адвокатов. Этого было вполне достаточно, чтобы сровнять с землей обитель грабежа и обмана. Меньше всего пострадал средний храм, Миддл-Темпл, как его называли лондонцы, где Джеффри Чосер постигал азы наук.
— Как крысы и злые духи, затаились тут хищники в тогах, — указывал пальцем Джон Болл. — Они скребут пером и копят бумаги, разоряя честных людей.
Как поступать с такими бумагами, не приходилось учить.
«In sequente noctis crepusculo» («Летнее солнце клонилось к закату»), — отмечал летописец. Последняя неделя оставалась до летнего солнцестояния, но каким долгим казался этот удивительный день торжества и возмездия. Самым долгим из всех.
В Клеркенуэлле был осажден и взят после ожесточенной схватки приорат рыцарей-иоаннитов: монастырские постройки и капелла горели потом ровно семь дней и ночей. До самого Иоанна.
На соседней с Темплом Флит-стрит повстанцы уничтожили дома присяжных и тюрьму Флит. Та же участь постигла застенки в Вестминстере и Ньюгейте. Узники, как обычно, тут же смешались с толпой. Хотелось верить, что никогда больше не будет ни решеток, ни пыток. Тюремные цепи отнесли в церковь святого Франциска и положили к ногам скорбящей мадонны. Тихие звездочки мерцали на ее проволочном венце.
Наконец Джек Строу и Томас Фарингдон поставили последнюю точку в Хайберне, обратив в пепел Второй парадиз. В Лондоне и прилегающих графствах щупальца Хоба были обрублены. Оставалось поразить самое тело спрута.
Люди Строу провозились всю ночь. Не пришлось выспаться и другим участникам победного марша. Враг затаился в королевском замке, и было рискованно распылять силы по городским кварталам.
Всю конницу Уот Тайлер вывел за стены на поле Майл-Энда. Уил Хоукер радовался: ночи стоят теплые, свежего сена хватает. Сладкий воздух. Простор. По армейскому обыкновению, выставил часовых.
Оставленный в Лондоне гарнизон сосредоточился возле Тауэра, на площади святой Екатерины.
Фактически это означало осаду.
Глава двадцать седьмая Ночь
Шли в Уолсингем на поклоненье Деве Паломники, а с ними — девки их, Работать лень болванам долговязым; Куда вольготней, в рясы нарядившись, Бездельников блаженных жизнью жить! Всех орденов бродячие монахи Народу там Писанье толковали: И вкривь и вкось евангельскую правду Они вертели, только бы щедрей Им заплатил доверчивый мирянин. …Когда не станут церковь и монахи строже, Великих бедствий ждать нам на земле! Уильям Ленгленд. Видение о Петре ПахареСтрашен Лондон в ночи, и страхами наполнены его свинцовые с тускло-багряным отливом ночи. Над западной стеной колыхались ржавые отсветы. Разметавшись в полнеба, мутное зарево поглотило Ладгейт, обгорелые коробки на улице Флит, бессонный госпиталь святого Варфоломея. Что сулили затаившемуся разворошенному городу полуночные зори? О каких переменах вещали? В сполохах дальних пожарищ еще плотнее сгустилась тьма, накрывшая Тауэр, мост и его жуткую башню. Палаты ненавистных народу магнатов дотлевали в золе и пепле, сами они били покаянные поклоны у алтарей, а истерзанные жертвы королевского правосудия так и остались висеть на ясеневых древках.
В соборе святого Мартина, где по давней традиции находили защиту преследуемые и отчаявшиеся, всю ночь горели лампады. Неф и все боковые приделы были заполнены молящимися. В основном тут скопились сержанты, коронеры, констебли — словом, все те, кто не смел и мечтать о прибежище в Тауэре. Охотники за двуногой дичью слезно молили великомученика о спасении. Едва облегчив душу, искали утешения в слухах, наперебой браня вероломное правительство и предателей-олдерменов. Новости, впрочем, поступали неутешительные. Из уст в уста передавались подробности казни стряпчего Лиджета, взятого прямо здесь, в заповедной церкви. Не убоявшись нарушить неприкосновенность священного места, какие-то эссексские крестьяне ворвались в главную капеллу, выволокли обезумевшего судейского из алтаря и потащили на Чипсайд.
— Подумать только, — шепотом повторял очевидец. — Отрубить человеку голову без судебного разбирательства!
— Ужасно, ужасно, — лепетали потрясенные правоведы. — Неужели так сразу? Без исповеди?
Не успел очевидец и рта раскрыть, чтобы в который раз пересказать подробности казни, как прозвучал чей-то голос:
— Сразу!
— Сразу! Сразу! — отразившись под куполом, донеслось из-за решеток исповедальни. — Ему не обрубили руки и ноги, не распороли живот, чтобы сжечь внутренности, достопочтенные господа, и не дробили кости в тюрьме, и не жгли раскаленным железом. Чем же вы недовольны? Или на Чипсайде никогда не рубили голов?.. Рубили, еще как рубили! Только то были наши головы и рубили их вы… Так молитесь, трусливые палачи!
Прокричали первые петухи, чуя близкий рассвет, а страхи ночные все никак не могли расточиться. Клубился пар, отравленный отрыжкой клоак, царапался в ставни взвихренный коротким порывом песок. Его хрусткие зерна, принесенные на подошвах, опавшие с залепленных илом копыт, словно рвались обратно к далекому морю, в русла рек, на просторы пустынь.
— Кто-то зовет? — настороженно прислушался Тайлер.
— Это ветер, — встрепенувшись, пробормотал Хоукер. — Тебе показалось.
Тайлер пальцами снял нагар с фитиля и поднял коптящий жирник. Длинные тени скользнули по стенам, сломавшись на потолке, промелькнули сосредоточенные, изможденные лица. Забытье подкрадывалось из темных углов и било наотмашь.
Второй час продолжался совет вождей, а до главного так и не успели добраться. Только теперь, на исходе ночи, люди ощутили, что выложились сполна. Речь обрывалась на полуслове, закаменевший подбородок соскальзывал с подпиравших ладоней, опаленные бессонницей веки обволакивало тягучей смолой.
— Уил! — Тайлер растормошил окончательно задремавшего Хоукера. — Сходи-ка ополоснись… Найдется бочонок холодной воды, Джон? — Он подтолкнул локтем хозяина дома.
— Чего? — не понял Фарингдон. — Ты что-то спросил, Уот?
— Воды, Джон, холодной воды! Нам всем не мешает немного взбодриться. Того и гляди, настанет день, а у нас еще ничего не готово… Напрягитесь, братья, прошу; еще один, самый важный рывок!
Ни сердца, ни разума не хватало осмыслить случившееся. Победа далась неожиданно, ошеломительно быстро, как-то слишком легко. Ни долгой осады, к которой готовились, ни сколько-нибудь значительного сопротивления. Она не слетела с высот в лязге стали и грохоте битвы, а словно бы тихо окликнула из-за угла. И ее не узнали, в нее не решились поверить, даже понять не успели, что это она.
Тайлер так и не сумел, сколько ни силился, вспомнить, как это произошло. В памяти осталось только столпотворение на мосту, которое внесло его в распахнувшийся город.
Рассвет торопил, подталкивал, щекоча ледяной струей. Подойдя к окну, он широко распахнул скрипучие створки.
— Мы слишком долго спорили о том, чего не хотим, — сказал он, когда приободренные соратники возвратились на свои места. — Пора, наконец, сосредоточиться на том, что нам нужно как воздух. Может, скажешь, Джек Возчик? Ты здесь единственный грамотей.
— Не единственный, Уот.
— Ах да, есть еще наш капеллан!
— Все у нас давно обговорено и решено. — Джон Болл придвинулся к огоньку и расправил свиток. — С рабством и вилланской зависимостью должно быть покончено раз и навсегда!
— Это самое важное. — Тайлер наискось рубанул воздух ребром ладони. — Ни рабов, ни вилланов.
— Ни рабов, ни вилланов, — взволнованно повторил Болл. — Всем своим подданным король дарует право свободной торговли во всех графствах, городах и деревнях, а также на ярмарках и в любом предназначенном для этого месте в пределах Англии.
— Все согласны? — спросил Тайлер.
— Не рановато ли заговорил о торговле? — Словно принюхиваясь, Джон Каменщик зашевелил ноздрями. — Я бы сперва о виселице побеспокоился, а уж потом о весах.
— Ты прав, брат, — одобрительно закивал Болл. — У меня так и было записано. Сам не знаю, как перескочили глаза.
— Света мало, — посочувствовал кто-то.
— Да уж, наверно, не меньше, чем в архиепископской яме! — бодро откликнулся гораздый на шутки проповедник. — Видно, очи стали сдавать, а волшебным стеклом, как у «разбойника Хоба», я, бедный мытарь, не обзавелся.
— Будут у тебя стекла, отец! — решительно пообещал Джек Строу.
— Никогда в жизни! Нужны они мне, как нищему Дирку тобард с гербом или Уоту корона… Слушай, однако, дальше, брат Каменщик, не понаслышке знакомый с каленым железом. Подумаем, как нам с тобой увильнуть от петли. — Болл замолк, затем начал читать, останавливаясь после каждого слова, как бы прислушиваясь к звучанию: — «Король прощает всякого рода совершенные против него преступления, как-то: восстания, измену, убийства, грабеж, захват чужих прав, вымогательства и так далее и дарует всем и каждому безопасность и мир».
— Лихо! — недобро осклабился Строу. — Если мы сами о себе так судим, что же тогда скажет король? С каких это пор борцы за справедливость превратились в убийц и грабителей?
По скрипу табуретов и неловкому покашливанию Уот Тайлер понял, что слова Строу задели вождей за живое. Ему и самому не слишком нравился подробный поминальник грехов и это высокомерно-снисходительное «прощает». Можно было подумать, что перепуганный олененок одержал полную победу и теперь решает, кого казнить, кого миловать. Но законники вроде Джека эт Ли сумели убедить, что все изложено в полном соответствии с правилами и только в такой форме может обрести силу закона.
— Ты слегка недопонял. — Тайлер невольно покосился на светлеющее окно: мгновения утекали, как кровь из отворенной вены.
— И чего же это я недопонял? — о вызовом спросил Строу.
— То, что ты слышал, говорится от имени короля. Это будет вписано в специальную грамоту и скреплено большой королевской печатью.
— А как-нибудь иначе разве нельзя? Без обиды для нас?
— Говорят, что нельзя, — не слишком уверенно ответил Тайлер. — Король олицетворяет закон, хотя и сам подчиняется законам королевства Англии. Ты не найдешь в них подходящего названия для нашего святого и правого дела. Восстание, бунт, беспорядки — это все, Джек.
— У кого сила, тот и пишет законы. Нам нужны совсем другие порядки, Уот. Я давно предупреждал, что властью могут распоряжаться только общины. Англия должна стать союзом свободных графств.
— А на графства кого посадишь? — поддел Джон Каменщик. — Небось сам задумал напялить корону? Знаю я твоих прихвостней, Строу. Сам ты парень хоть куда, надежный, но имей в виду, что тебя толкают на дурное дело.
— Кто управляет Венецией, Уот, Генуей? — Строу не обратил внимания на выпад. — Зачем нам вообще нужен король?
— Ты не был в Европе, Джек, и не знаешь Италии. Всюду простой народ стонет под ярмом тиранов. Я видел, как магнаты во Франции расправились с Жаком Простаком, и буду помнить об этом до последнего часа. Мы замахнулись дальше французов. С нами работники и горожане. Они оставили землю, работу, что кормит семью, и пошли на смерть за короля и общины. Что ты им скажешь теперь, Джек Строу? Долой короля и да здравствуют свободные графства?.. Не стоит спешить, братья. Мы только военный совет, и не нам кроить по новой мерке законы. Подождем, пока в Лондоне соберутся посланцы «Большого общества». А пока не будем отклоняться от мейдстонского плана. Люди ждут королевских грамот, и, клянусь вам, они их получат. Подписавшись под ними, Ричард сам как бы встанет в наши ряды.
— Тем самым он признает наше движение, — подсказал Джон эт Ли, беглый капеллан.
— Или вы не видели, как повел себя олененок? — вскипел Строу. — Им вертят изменники! Я им не верю!
— Они не уйдут от расплаты. — Тайлер медленно поднялся и, сжав кулаки, навис над столом. — Никто не уйдет.
— Джон Ланкастерский! — выкрикнул Фарингдон. — Седбери, Хоб, епископ Куртней, Томас Бамптон, Белкнап, Джон Легг…
— Все, — сурово подтвердил Тайлер.
— Боже, дай удачу, ибо пришло время! — Джон Болл встал рядом с Тайлером. — Еще Блаженный Августин говорил, что дух не живет в согласии с телом, но худо, коли одна рука не понимает другую. Брат Уот и брат Джек, вы — руки Правды, сжимающие оружие. Ложь и обман царствовали слишком долго, Правда была заперта на замок. Меч сразит ложь, а молот отворит дверь. Без согласия рук не будет помола.
— Огласи последний пункт, отец, — сказал Тайлер и опять взглянул на окно.
Тауэр на холме уже серел размытой громадой.
— «Четыре стороны света, четыре конца креста: сила и право, воля и ум. Первый пункт — сила, второй — право, третий — воля, четвертый — ум… Землю, которую раньше держали на вилланском праве за службу, впредь должно держать за деньги, причем с акра следует брать не больше четырех пенсов; в тех же случаях, когда за акр взимали меньше, плата не должна повышаться».
— Верно, — удовлетворенно вздохнули вожди.
— Четыре конца, как промолвил наш отец Болл. — Уот Тайлер расправил плечи и, обнажив неразлучный стилет, поднял его за острие. — Вот они, братья: освобождение от вилланства, правосудие для всех, свобода торговли и земля-кормилица. Пусть это станет законом… А теперь все к Тауэру!
По дороге от Чипсайда к Олдгейту в торжественном молчании шло черное и белое духовенство. С горящими свечами в чинном строю, точно армия, разделенная на отряды, шествовали монашеские братства и ордена. Прелаты в раздвоенных митрах и аббаты в широкополых шляпах с кистями замыкали процессию.
— Вот еще войско, о котором нельзя забывать, — придержав коня, наклонился к Боллу Уот Тайлер.
— Алчные гиены и попрошайки-шакалы! — с гадливой гримасой отозвался отлученный пресвитер. — Будь крепок духом, Уот! Вкусив евангельскую правду, народ не вернется в объятия лживого спрута. Их царство прошло!
Во всех церквах почти одновременно ударили в колокола. Послушницы в белых, черных и серых уборах печальными голосками затянули псалом. Узорные завитки епископских посохов закачались в такт мелодии, заглушаемой протяжным трезвоном.
— Симон Седбери пытается запугать, — определил Тайлер, провожая взглядом строгие ряды золотых огоньков. — Не иначе.
— Опомнились наутро, обманщики, да поздно! — презрительно прищурился Джон Болл. — Только ничего-то у них не выйдет. Крестьянин давно уж не тот. Учитель Уиклиф и славные пчелки-лолларды не зря потрудились, не зря.
Глава двадцать восьмая Париж и Оксфорд
И улыбнулся король, и молвил любезное слово, Доброго обнял слугу, облобызал и гласит: «Благодаренье тебе от меня и родителя Карла! Я к увещаньям твоим, к обещаньям твоим благосклонен; Не сомневайся же, франк: скоро приду воевать!» Эрмольд Нигелл. Прославление Людовика, христианнейшего кесаряПрирода не замечает людей. С улыбкой мудрой и тихой она проскальзывает сквозь железо решеток, врачуя язвы земли. Лебеда, репейник и жимолость проросли сквозь щебень и пепел, цепкий плющ обвил могильные камни. Гниют пробитые шлемы, рассыпаются дряхлые кости, а поля зеленеют. В Иль-де-Франс, Бурбонне, Оверни — всюду дивное лето.
Ясным было небо в день святого Медара, жарой порадовал и святой Барнабе. По всем приметам выходило, что можно надеяться на осеннее изобилие.
Beau temps en juin — Abondance de grain.[98]А погода стояла отменная. Париж пропах резедой и глициниями. Унылые морды химер Нотр-Дама были сплошь заляпаны гнездами ласточек. Жирные кладбищенские улитки грелись на стенах собора, белого-белого, как лепестки лилий.
Тринадцатилетний отрок, прятавшийся по темным закуткам Лувра, не хотел быть королем. Короли умирали в судорогах рвоты и кровавом поту. И они знали, от чего умирают, и были обречены видеть убийц, почтительно склонившихся к изголовью.
Еще и года не прошло с похорон Карла Пятого, поделившего тело и внутренности между усыпальницами самых знаменитых церквей. Мальчик помнил глаза отца, когда тот диктовал свое жуткое завещание, но еще острее запечатлелись в его надломленной с детства душе алчно озабоченные зрачки пэров. Они и мгновения не стояли на месте и словно подгоняли: «Скорей, скорей…» День за днем, терзаемый пыткой, король вынужден был терпеть и это публичное издевательство. Он все знал и все понимал, бедный папенька, недаром его прозывали Мудрым. От монархов не принято скрывать горькую правду. Ему объявили, что он умрет, как только закроется фистула, искусно дренированная лейб-медиком Карла Четвертого, тоже ставшего жертвой яда.
Пышную и тягостную церемонию коронования маленький Карл Шестой пережил, как похоронный обряд. В его смятенном воображении она предстала ритуальной прелюдией неизбежной агонии. Все повторится: оскверненное рвотой ложе под балдахином, завещание и утренние приемы под перекрестным огнем этих взглядов, сладковато-чесночных, как жгучий мышьяк.
Страдая падучей и ночным недержанием, мальчик таился людей. Он еще ничем не проявил себя как монарх, а его уже открыто называли Карлом Безумным. Он не замедлит оправдать не столь уж и редкую в королевских фамилиях кличку. Поистине грандиозный пример помешательства будет явлен при подписании договора в Труа, где Карл Безумный признает английского короля наследником французской короны. Жанне д’Арк в тот год исполнится восемь лет.
Но не будем загадывать. Впереди у нас не десятилетия и даже не годы…
Согласно завещанию опекунский совет, в котором были представлены все сословия, состоял из сорока одного человека. Юридические хитросплетения не позволяли дядюшкам-принцам и шагу ступить без согласия большинства представителей. Но слова, продиктованные умирающим королем, как и следовало ожидать, остались мертвой буквой на бледно-зеленоватой, как трупные пятна, бумаге. Ни разу за целый год совет так и не собрался. Будучи не в состоянии разделить власть между собой, принцы отнюдь не были расположены делить ее неведомо с кем.
— Король — голова, дворяне — руки, клир — сердце, крестьяне — ноги, — герцог Бурбон воспроизвел расхожую формулу. — Но уж больно запах от них дурной, а рук и без того много, и все загребущие.
Про то, что слишком слаба головенка, он благоразумно умолчал. Во-первых, секрет полишинеля, а во-вторых, есть вещи, которыми не шутят, особенно если сам надеешься вознестись над толпой.
Корона могла достаться лишь одному из принцев, но, пока этого не случилось, они торопливо глотали доходные куски. Если в Виндзоре воровали, то в Лувре грабили. Пир во время чумы бледнел перед оргией в канун светопреставления. Минут столетия, и один из бесславных потомков Бурбонов подарит миру отточенную формулировку: «После нас хоть потоп».
Чезаре Барди, капитан банкиров, обосновавшихся на парижской Рю де Ломбард (Ломбардской улице), долго размышлял, к которому из герцогов обратиться. Получив подробное письмо из Эдинбурга, где нашел приют Балдуччо Пеголотти, родственник и компаньон, дон Чезаре первым делом распорядился поднять счета. Жан, герцог Беррийский задолжал более всех и, пожалуй, пользовался наибольшим влиянием. По всему выходило, что именно к нему и надлежит направить стопы. Но поведение герцога было совершенно непредсказуемо. То он впадал в меланхолию, и тогда из него можно было вить веревки, то предавался безудержному разгулу, превращаясь в злобного, недоверчивого брюзгу. Гораздо приятнее было бы войти в отношения с хитрым Бурбоном, но выгода редко сочетается с удовольствием. За удовольствие обычно платят, а Чезаре надеялся получить. Возможности Бурбона были не столь широки, а слово ненадежно. Скользкий и увертливый, как угорь, он не хуже ломбардцев мог обвести вокруг пальца. Остальные не в счет, потому что по уши завязли в войне. Ставить следовало только на миротворцев, пусть даже таких тупиц, как Жан де Берри.
Дон Чезаре начал день с моста Менял. Осведомившись насчет курса благородных металлов в монетах и слитках, он в разговорах со сведущими людьми попытался изучить обстановку. На первую прикидку выходило, что можно будет заработать миллионов семь-восемь в парижских ливрах. При том условии, разумеется, если удастся обратить весь капитал в золото, чтобы затем обменять его на английское серебро в отношении один к десяти с тремя четвертями.
Носильщики сбились с ног, таская портшез капитана по торговым галереям Пале-Рояля и глухим переулкам Ситэ, где за невзрачным фасадом скрывались роскошные палаты ростовщиков и прочих дельцов без роду и племени, поднаторевших на всякого рода сомнительных сделках.
Дон Чезаре продавал, пока, разумеется, на бумаге, литые обеденные сервизы, античные светильники, вазы — все серебряное и все на вес. Также на фунты шли английские стерлинги, отлично вычеканенные пражские гроши короля Вацлава, дейцская монета кельнского архиепископа Вальрама, ломаные швейцарские ангстеры и тончайшие, как фольга, бранденбургские нуммусы.
В обмен ему были обещаны горы новеньких франков и боннских гульденов, цехины дожей Венеции, нобли Эдуарда Английского, родные флорины и даже редкостные александринеры Клеопатры. В жарком тигле предстояло слиться стертым ликам монархов, их гербам и коронам, эпохам, материкам. В огне, в огне обновляется природа, в алхимическом солнце!
Багряные отсветы уже легли на булыжники Нельской башни, и шпиль Сен-Шапеля горел раскаленной иглой, когда портшез ломбардца опустился перед воротами Лувра.
Капитану повезло. Он застал принца в превосходном настроении.
— Вам это не будет стоить ни единого ливра, — заверил его дон Чезаре, в самых общих чертах обрисовав предстоящую сделку. — А получите вы… двести, нет, скажем, двести пятьдесят тысяч. Наши конторы помогут вам приобрести необходимое количество золота. Единственное условие: полная тайна. Иначе ничего не получится. Спекулянты мигом пронюхают и насторожатся.
— О, это я вам могу обещать с чистой совестью. Однако не хотите ли вы сказать, что от меня ничего не потребуется, кроме молчания? Первый раз слышу, чтобы деньги могли свалиться с неба. Да вы просто благодетель, мессир. Чем я обязан такому подарку?
— Питая к вашему высочеству чувство глубокой признательности, я позволил себе…
— Сколько я вам должен на сегодняшний день? — герцог бесцеремонно пресек сладкоречивые излияния финансиста.
— С процентами? — неторопливо развязав кожаную суму, Чезаре вынул дощечку и углубился в расчеты, хотя еще дома подбил окончательные итоги. — Сто восемьдесят семь тысяч триста пять, ваше высочество.
— Значит, мне еще перепадет кое-какая мелочишка наличными?
— О, мы не потребуем мгновенного погашения долга! Мы можем позволить себе подождать, если, конечно, сделка состоится.
— А если нет?
— Мы понесем убытки, а вы ничего не потеряете.
— Это справедливо. Не вложив в дело ни единого денье, нельзя прогореть. Тем более удивительной кажется возможность нажиться. Скажите прямо, мессир, что от меня требуется? Ведь, по-моему, я никогда вам ни в чем не отказывал.
— Нужно очень немногое, герцог, — тучный флорентиец тяжко вздохнул, словно готовясь нырнуть в ледяную воду. — Свобода финансовых операций для наших представителей. В частности, в Лондоне. Для этого необходимо сделать небольшую передышку в войне… Месяца на два желательно.
— Легко сказать! — криво усмехнулся герцог. — Здесь мои возможности весьма ограниченны.
— Вы не знаете своих возможностей, герцог! — жарко зашептал дон Чезаре. — Подумаешь, два месяца! Сущий пустяк… Тем более что военные действия сейчас вообще не ведутся. Так, легкие стычки от случая к случаю.
— Тогда о чем вы просите?
— Но ведь нужны гарантии! Мы только-только развернемся, а тут с новой силой возобновятся бои, англичане наложат запрет на вывоз… Мы не желаем, чтобы наше золото досталось врагу.
— Зато пытаетесь спасти его от верной гибели, — довольный собственной проницательностью, герцог расхохотался. — Маленькому Ричарду сейчас не до французской короны, лишь бы свою удержать. Самое время подпалить ему пятки в Гиени.
— Вы уже забыли Жакерию, герцог? Чернь вновь обнаглеет, если узнает, что английские братья добились успеха. Мало вам уничтоженных замков, убитых дворян? Не забудьте, что мы, ломбардцы, первыми страдаем от потрясений. Дав передышку Ричарду, Франция только выиграет, Англия выйдет из неурядиц ослабленной, а значит, сговорчивой.
— Нет, ничего не получится из вашей затеи. Роберт Шотландский все равно ударит по Лондону.
— Вот пусть он и ударяет, если настолько глуп, — дон Чезаре показал, что начинает сердиться. — А я так считаю, что глупо отказываться от денег, если они сами просятся в руки… Хотите добить британца? Сколько угодно! Но сперва заработаем свой миллион.
— Вы сказали — миллион?
— Да, миллион. — Банкир нахмурился и махнул рукой, словно допустил непростительную оплошность. — Но помилуйте, герцог, ведь я не один. — Он украдкой перевел дух. Только теперь начинался настоящий торг.
— Так ведь и я не один! — вновь разразившись хохотом, развел руками герцог. — Кроме меня есть Людовик Анжуйский, Бурбон, коннетабль Клиссон, наконец. Я уж не говорю про Генеральные Штаты.
— И с ними со всеми нужно договориться? — В притворном ужасе Чезаре закрыл лицо. — Вы советуете доверить тайну стольким языкам?
— Я вам ничего не советую и ничего не обещаю… Только напоминаю, мессир, что я не один.
— Не знаю пока, — с сомнением протянул флорентиец. — Но если будут получены твердые гарантии, что дальше незначительных столкновений не пойдет, можно подумать и об увеличении прибылей… Вы сами понимаете, герцог, что свобода маневра позволяет идти на оправданный риск.
— Что вы подразумеваете под гарантиями?
— Твердую уверенность, что в войне наступит двухмесячный перерыв, — жестко отчеканил Чезаре. — Никаких бумаг, само собой, не требуется. Нужна лишь уверенность, повторяю, ибо без нее не заработаешь и фартинга на фунт серебра.
Герцог обещал серьезно подумать.
Пока курьер с письмом дона Чезаре, не жалея лошадей, мчался в Кале, Ричард Арондел остановился перед особняком из темно-бордового кирпича, с трех сторон окруженным яблоневыми и вишневыми деревцами. Щит на фронтоне изображал три короны и раскрытую книгу. «Господи, просвети меня», — значилось в ней по-латыни. Точно такие же гербы были и на соседних, хаотично разбросанных по саду домиках, которые Оксфордский университет пожизненно предоставил своим профессорам. Все выглядело достойно и скромно, но до ужаса одинаково.
Арондел растерялся, не зная, в какую дверь постучать. Он впервые вступил на автономную территорию, где заботливо пестовали мудрецов грядущего века, а характер его миссии не терпел лишней огласки. Все же пришлось зайти в первый попавшийся дом и справиться, где живет достопочтенный Уиклиф.
Канцлер Николай Гертфорд, а именно он и жил в ближайшем от ворот коттедже, великодушно вызвался проводить высокого гостя.
— Примите глубочайшую благодарность, ваше великолепие, — поклонился эрл до самой земли, как не кланялся никому при дворе.
Джон Уиклиф принял его у камина, где дотлевали, невзирая на теплынь, звонкие угольки. Усадив лорда возле экрана, он предложил португальского вина, которое сам и разлил по оловянным стаканчикам.
— Вы знаете, что творится в Лондоне, достопочтенный профессор? — спросил Арондел, ощущая непривычную стесненность речи. — Англия гибнет.
— Англия не может погибнуть, милорд. Король, династия — это я допускаю, но не Англия, сэр… Я сожалею о мертвых, но то, что произошло, было неизбежно.
— Я оставил Лондон, когда начались первые казни. Нас ожидает ужасное… Думаю, что в своей кровожадности они пойдут до конца.
— Вы подразумеваете Симона Седбери и других, осужденных народом?
— Боюсь, что их не спасти, — глядя в сторону, молвил Арондел. Он знал, что при дворе уже молчаливо пожертвовали «изменниками», но ему не понравилось, как отозвался о них проповедник. Вернее, не о них, а о тупой беспощадной силе, за которой признал право на высший суд. — Вас интересуют последние новости? — спросил, стараясь скрыть отчуждение.
— Я не любитель смаковать такие подробности. Однако, если вы скажете мне, что вслед за примасом могут последовать и другие епископы, я не удивлюсь. Церковная иерархия изжила себя, как, наверное, и прочие формы насильственной власти. Если бы это вовремя осознали, мы были бы избавлены от кровопролития.
— Как я вас понимаю! Но никто и никогда не желал слушать пророков. Я сам был тому свидетелем. Солсбери как в воду глядел, но ему не вняли. Теперь мы пожинаем горькие плоды неверия и слепоты.
— У вас ко мне дело, милорд? — отбросив церемонии, спросил Уиклиф, болезненно переживая каждую минуту, потраченную на праздные разговоры. Мыслями он всегда был в любимой работе.
— Чем, по вашему мнению, должна закончиться переживаемая нами трагедия? — Арондел уклонился от прямого ответа.
— Должна или может? — словно бритвой Оккама, Уиклиф отсекал все лишнее, обнажая главную мысль. — Должна — установлением гармонии, а может — еще более великими потрясениями.
— Если так, то всему конец. Пока я вижу лишь хаос и разрушение. Можно обратить цветущие города в пустыню, но она так и останется морем бесплодного праха и пепла. Из ничего способно родиться только ничто.
Великий схоласт и диалектик мыслил отвлеченными категориями и предпочел обойти стороной больной вопрос о грядущем переустройстве:
— От того, который не имеет, возьмется и то, чем он, по-видимому, обладает.
— Вы хотите сказать, что вилланы и вечные подмастерья рано или поздно потребуют свою долю? Но откуда она возьмется, если все будет уничтожено?.. Деньги, золото, замки, дворцы…
— Я говорил и продолжаю говорить о равенстве людей перед богом. В основе всего должна лежать общность имущества.
— Но как достичь этого? Всеобщим разорением?
Уиклиф вновь отказался от уточнения, заговорив о вопиющей порочности духовных владык. Под самый конец оксфордский профессор с беспощадной ясностью заявил:
— Монашеские ордена, а равно и епископства, обладающие собственностью, должно распустить.
Основной источник мирового зла он по-прежнему видел в церкви.
— Достопочтенный профессор, я прибыл к вам с личным поручением от его королевской милости, — признался Арондел, так и не услышав ничего утешительного. — Вы, конечно, знаете отлученного от церкви пресвитера Джона Болла?
— Знаю о нем, — подчеркнул Уиклиф, — ибо просил за него многих высокопоставленных лиц. Но его лично не знаю.
— Разница не столь существенная. Он наверняка знает вас либо о вас, — быстро поправился Арондел. — Не согласились бы вы выступить посредником в переговорах между королем и Боллом… Он не может не прислушаться к вам.
— Почему вы так думаете?
— Разве лолларды не разнесли ваши идеи по всей Англии?
— Я не в ответе за то, что говорят другие.
— Речь идет не об ответственности, — напомнил Арондел. — О доверии! Мы бы хотели видеть вас третейским судьей.
— Поздно! Если бы в свое время двор прислушался к моим просьбам и хотя бы на самую малость облегчил участь этого замечательного поборника правды, ваше предложение еще имело бы какой-то смысл… Впрочем, я и тогда бы не взялся. Чего вы хотите от Болла?
— Склонить к большей умеренности, только и всего.
— Умеренность, — протянул Уиклиф, как бы пробуя слово на вкус. — В выражении идеи следует идти до последней точки. Какая тут возможна умеренность?
— Наверное, есть различия между словесной проповедью и откровенным разбоем? Или вы не согласны?
— Вы извращенно трактуете мою мысль. Я хочу сказать, что Болл — человек идеи, а умерить идею нельзя, ибо это будет уже совсем иная идея.
— Пусть остается по-вашему, — сдался временный хранитель печати. — Я не силен в риторике. Есть еще один вопрос, который интересует короля. В народе много говорят о ваших проповедях против продажи папских индульгенций и вывоза денег из Англии… Вы намерены продолжать их?
— Безусловно. Индульгенции — бессовестный, мерзейший обман, а вывоз денег способствует обнищанию нации.
— Насчет индульгенций я с вами совершенно согласен. — Ричард Арондел решительно тряхнул головой. — Никто не покушается на ваше право проповедовать истину. Однако бывают в жизни минуты, когда интересы государства требуют известного самоограничения, если угодно, жертвы… Так вот, ваше великолепие, я прошу от имени короля временно воздержаться от обсуждения финансовой политики. Временно! До парламентских каникул.
— Скрывать истину безнравственно, милорд. Это равносильно обману. Я не меняю своих убеждений и ничего не могу вам обещать.
Не искушенный в дворцовой дипломатии, ученый дал ясно понять, что считает беседу законченной. Ему и в голову не пришло, что именно второй вопрос как раз был главным для королевского посла.
Арондел почувствовал себя глубоко уязвленным. Раздражение вызывал не столько сам отказ от сотрудничества, сколько безапелляционность ответа, враждебность, прозвучавшая в голосе. Для него слово было лишь средством выражения, а чаще сокрытия мысли. Ему трудно было понять, что возможно совсем иное восприятие. В нерасчлененном единении слова и мысли, когда исчезает грань между тайным и явным. Его так неприятно поразила непомерность претензий, несопоставимость самомнения с весьма заурядным рангом.
«Люди, которых якобы нельзя купить, суровы и прямодушны, — мелькнула мысль, — но вдобавок они еще и ограниченны, плоски, с ними совершенно невозможно иметь дело».
— Но ведь есть обычай, законы, наконец, которыми руководствуются христианские народы, — решился он проявить настойчивость, смирив гордость. — Что о нас подумают другие государи?
— Королевство вправе удержать в своих пределах денежные средства. Это законно, поскольку отвечает государственным интересам. Римский апостолик не должен распространять свои притязания на богатства английской церкви. Они принадлежат только Англии.
— Разве это не противоречит вселенскому характеру церкви?
— Экуменизм церкви в духовности. Прискорбно сознавать, что римский первосвященник предпочитает ей мирские блага. Он вправе притязать лишь на добровольные отчисления в форме милостыни. Притязать, но не требовать! Требовать милостыню противоречит самому понятию милостыни, которую подают из любви к ближнему. В нынешних трудных обстоятельствах Англия не может позволить себе подобной роскоши. Светские лорды нашего королевства пожертвовали в дар церкви все те владения, из которых папа незаконно черпает деньги.
— Но почему же незаконно, ваше великолепие? — Арондел не остановился перед лестью, титулуя Уиклифа как оксфордского канцлера.
— Я уже имел честь пояснить, милорд, что речь идет о владениях английской церкви, а не церкви вообще. Они предназначены лишь для благотворительности и обеспечения потребностей духовных лиц внутри королевства. Яснее дня видно, что, отсылая деньги в Римскую курию, наша церковь не выполнит своего предназначения. Светские лорды обязаны поэтому воспротивиться вывозу денег, что они и делают.
— Не все, — Арондел осторожно намекнул на Гонта, чьи позиции в этом вопросе претерпели внезапную перемену. — Взгляды меняются, подчас самым коренным образом.
— Мои взгляды не изменились, — Уиклиф проигнорировал намек. — Вывоз денег приведет к печальным последствиям: уменьшится население Англии, Римская курия, предавшись излишествам, совершит массу грехов, а наши враги получат перевес. Другие народы станут смеяться над нашей ослиной глупостью. В мирских делах у нас есть смелость противостоять недругу, так почему мы проявляем робость в божьем деле?
— Папа угрожает интердиктом.
— Трудно допустить, чтобы наш святейший апостолик подверг такому наказанию столь верный ему народ. Благочестивый отец обязан поддержать детей, оказавшихся в трудном положении. Причем не только духовно, но и материально. Иначе он любит не нас, а наше имущество. Любовь, которая способна исчезнуть из-за отказа от милостыни, не евангельская любовь, а мирская. Апостолик, которому известно, что Англия между другими странами самая христианская, не допустит такого соблазна.
— Ну а если?..
— Перед лицом бога такое несправедливое наказание не имеет значения, — сурово отвел Уиклиф и повторил по латыни: — Non abligat.
Глава двадцать девятая Тауэр
Король благодарит свои добрые общины за их верность ему и прощает им все их проступки, но он хочет и приказывает, чтобы вслед за этим все они поспешили домой и чтобы там каждый изложил свои жалобы и прислал их ему. И тогда он, посоветовавшись со своими лордами, измыслит такое средство, которое будет на пользу ему, и его общинам, и всему королевству.
Первая грамота короля Ричарда, оглашенная в пятницу 14 июня 1381 года в ТауэреБез всякого интереса кружили черные птицы над бесформенным прахом, свисавшим с зубцов. Призраки царственных узников, как белые чайки, метались в черных амбразурах. Стонали засовы, скрипели замки, хлопали тяжеленные двери.
Этой ночью не спали в Тауэре. Королева-мать распорядилась осветить каждый угол и закуток. Молчаливая стража в остроконечных шлемах и старинных кольчугах выстроилась на стенах. Вышколенные часовые заступили посты вдоль лестниц и коридоров. Тишина стояла такая, что было слышно, как потрескивают рассохшиеся половицы. Ветер с реки шатал жаркое пламя.
Отказавшись от вина и мяса, король ограничился яйцами всмятку, полагая по наивности, что их нельзя отравить. Сложная процедура проверки с помощью лангье — оправленных в золото змеиных зубов и рога нарвала, краснеющего от яда, заняла бы уйму времени.
Ричард всегда опасался тайных убийц. Теперь детские страхи грозили перерасти в манию. Смертельная опасность подстерегала на каждом шагу. Кружка с водой, разрезанный плод, свечка, ночная рубашка — всюду мерещилась изощренно замаскированная отрава. Вид вертела или даже простой кочерги мог довести несчастного юношу до истерики. Рассказы о жуткой кончине Эдуарда Второго, которому раскаленный прут засадили в прямую кишку, долго не выходили из головы. Каминные приспособления в королевских покоях были строжайше запрещены.
Перед началом совета Ричард уединился с Солсбери, чье влияние при дворе необычайно возросло. В руках проницательного вельможи, нащупавшего болезненную струну, юный король был подобен мягкому воску. Как следует, но не до потери сознания застращав воспитанника, эрл ловко подсунул ему спасительный выход.
— Обещания ничего не значат, — вкрадчиво поучал он, бесшумно ступая по длинношерстным веприным шкурам, сплошь устилавшим полы королевской опочивальни. — Изреченные, записанные чернилами, скрепленные подписью и какой угодно печатью. Они есть и останутся не более чем словами, и ничто в мире не способно изменить их изначальную суть. Когда дойдет дело до исполнения, отыщется и подходящий предлог.
— Но, насколько я понял матушку, они не удовлетворятся одними посулами. Меня вынуждают поставить подпись.
— И превосходно!.. Как только изменятся обстоятельства, вы, наверное, не откажете себе в удовольствии собственноручно разорвать ваши королевские обязательства на мелкие кусочки? Проклятье! — Солсбери неосторожно задел плечом витой столбик над ложем, и с балдахина на голову посыпалась черная паутина.
— Вы считаете, это возможно?
— Почему нет? Бумага не отличается особой прочностью, к тому же превосходно горит.
— Но есть закон, сэр!
— В самом деле, — Солсбери иронически прищурил глаз. — Questio quid juris.[99] Когда очень нужно, закон молчит.
— Попробовали бы вы сказать такое в парламенте!
— Я не спешу на виселицу, ваша милость. Для парламента у меня заготовлены другие рекомендации.
— Вы даете мне урок вероломства?
— Отнюдь. Я бы скорее назвал это государственной мудростью. Дипломатической уловкой, на самый худой конец.
— А люди, милорд? Как быть с людьми? Разве мы не обязаны защищать тех, кто нам безраздельно предан?
— Обязаны? В том-то и заключаются соблазнительные прелести власти, что она позволяет перешагивать через определенные пределы. Не через все, а лишь через определенные, ваша милость. И здесь важно уметь почувствовать зависимость этой, зачастую необозначенной, определенности от обстоятельств. Я выражаюсь достаточно ясно? Короче говоря, границы определяются обстоятельствами.
— И вы находите, что в нынешних обстоятельствах…
— Вот именно! — Солсбери поспешил укрепить короля в его пока еще робкой догадке. — Колебания делают честь вашему золотому сердцу, но они неуместны. Если спокойствие и благосостояние королевства могут быть достигнуты ценой столь незначительной уступки, то, не побоюсь сказать, за нас само небо.
— Вы на самом деле считаете ее незначительной? — Ричард смущенно порозовел.
— Бывший канцлер? — Притворно зевнув, Солсбери деликатно прикрыл рот пальцами, унизанными перстнями. — Незадачливый казначей?.. Кто там еще? На то и существуют подставы, чтобы вовремя сменить лошадей. Эту маленькую, но необходимую процедуру надо научиться выполнять с деловитым спокойствием. Иначе управление государством превратится в сплошную муку. Меньше думайте о собственной особе, ваша милость. Все ваши помыслы должны занимать Англия и ее народ. Мы, англичане, не только отважны, но и глубоко преданы королю. Нет большего счастья для подданных, чем отдать жизнь за своего сюзерена. Вы хорошо поняли меня, ваша милость?
— Значит, вы полагаете…
— Я абсолютно уверен, что у вас есть полная свобода маневра, мой добрый король.
— Мне следует заявить об этом на совете?
— Не вижу необходимости. Зачем предвосхищать события? Стоит ли напоминать, что окружающие вас верные слуги, мягко говоря, не страдают недогадливостью? Скорее, напротив… Все станет ясно без лишних слов… Впрочем, человеколюбие и деликатность подсказывают, что кое-кого следовало бы поставить в известность заранее. Вернее, не поставить, а лишь намекнуть.
— Правильно ли я вас понял, милорд?
— Полагаю, что так. Мне, например, окажись я в положении бедного Седбери, было бы неприятно присутствовать на совете. Зачем доставлять человеку лишние хлопоты?.. Ричард Арондел, к сожалению, прав, но как он несдержан в своих наскоках.
Королевский совет собрался незадолго до полуночи. Зал к этому времени основательно протопили, но так и не потрудились как следует вымести.
Архиепископ и лорд-казначей отсутствовали. После мессы, которую служил, по обыкновению, он сам, Седбери остался в капелле, а гордый госпитальер заперся у себя в спальне. О них даже не вспомнили. Арондел преспокойно занял еще не остывшее место во главе стола.
Мэр Уолуорс, чьи заведения пострадали не только в Саусуарке, но и по всему Лондону, горел жаждой мщения.
— Я предлагаю немедленно ударить по босоногим негодяям, — брызгая слюной, выпалил он, не дожидаясь приглашения временного хранителя печати. — Сити может выставить шесть-семь тысяч воинов. Вместе с гарнизоном это образует внушительную силу. Бунтовщики не успеют продрать глаза, как им снесут головы. Первым делом надо перерезать глотку этому Тайлеру. От такого удара они не скоро очухаются. Тем временем мы запрем все ворота и отрежем город от банды, расположившейся в Майл-Энде. Надо всыпать, чтобы внуки запомнили.
Грубость неотесанного мужлана несколько покоробила утонченных сановников; но его план пришелся им явно по вкусу. Стремительно, радикально и на удивление просто. Быть может, слишком просто, свербило тайно опасение.
Но Солсбери отверг предложение с ходу, не постеснявшись назвать Уолуорса опасным невеждой.
— Допустим, тебе удастся отправить на тот свет сотню-другую сонных тетерь. И что за этим последует? Переполох вскоре уляжется, повстанцы перестроят свои ряды и всей мощью обрушатся на Тауэр. Уверяю тебя, достопочтенный мэр, ярость их будет ужасна. Вот тогда-то и прольется настоящая кровь. Даже за безопасность королевских особ нельзя поручиться. Гарнизон в шестьсот копий не сможет долго противостоять натиску многократно превосходящего в силах противника. Бойтесь поранить спящего зверя. Если уж бить, то наверняка, но мы, к несчастью, такой возможностью не располагаем. Приняв подобный план, мы разом теряем все.
— «И тогда Англия превратится в пустыню», — насмешливо воспроизвел Эдмунд Ленгли знаменитую фразу Солсбери.
— Именно так, милорд, — без тени улыбки склонил голову эрл. — Мы совершим непоправимую ошибку, и с вами будет покончено навсегда. Я призываю вас крепко задуматься, прежде чем принять решение. Никогда прежде королевство и королевская власть не находились под такой угрозой, как ныне.
— Что же ты предлагаешь? — спросил Эдмунд, зараженный мрачной уверенностью нового фаворита. — У тебя есть другой план?
— Могу лишь вновь повторить: ни-че-го! Соглашаться и ждать. Обещать и копить силы. Наша задача — как можно скорее и по возможности подешевле ублаготворить чернь. Пусть они думают, что добились всего. Лишь бы поскорее убрались восвояси… Вы догадываетесь, куда я клоню, милорды? Как только определится перелом в нашу сторону, мы нанесем удар. Благо их силы к тому времени будут значительно раздроблены… Если угодно, вы можете называть мое предложение планом, а по-моему, это просто благоразумие. Здравый взгляд на неприятные вещи.
— Обстоятельства диктуют границы действий, — глубокомысленно изрек Ричард, покосившийся сначала на дядю, потом на мать.
Должного впечатления он, однако, не произвел. Всем было не до словесных изысков. Король разочарованно притих. В устах Солсбери эта же мысль наверняка прозвучала бы совершенно иначе.
— Ты обрекаешь нас на бездействие, милорд, — сокрушенно вздохнул Арондел. — Пассивное ожидание всегда сопряжено с риском. Сегодня у них одно на уме, завтра — другое. Они могут выкинуть такое, что нам и в голову не придет. Не знаю, удастся ли отделаться минимальными жертвами.
Король одарил матушку улыбкой превосходства. Имена не упоминались, а «минимальная жертва», как выразился с очаровательной небрежностью временный хранитель печати, была принесена. Только так и должен поступать государственный муж, способный укротить хищника ловкой подачкой. Выбор был сделан верный: из Арондела получится настоящий канцлер. Он все видит и понимает — прав Солсбери, прав! — без долгих речей.
— Ты прав, милорд, — подтвердил Солсбери, выпятив нижнюю губу. — Ждать всегда трудно. Но если ты надеешься на какие-то гарантии с моей стороны, то их не будет. Ни тебе, ни себе я ничего не могу гарантировать.
— Тогда какой смысл от твоих разговоров?
— От разговоров? Ни малейшего. Но мое предложение дает хоть какие-то шансы на успех. Выбора, повторяю, у нас нет. Милость и уступчивость короля, авторитет его власти и слова — единственная наша надежда. Удастся перехитрить — мы спасены, не удастся — готовься достойно принять кончину.
— Все было проиграно уже у Ротерхайта, — вздохнул Бекингэм.
— Кое-что проиграно, но, к счастью, не все, — возразил эрл. — Быть может, с божьей помощью его милости удастся вернуть потерянное. Завтра утром. На этой стене.
— Ты хочешь, чтобы король самолично выслушал их наглые просьбы? — спросила королева-мать. — Не окажется ли это унизительным для короны?
— Корона пережила столько унижений, что еще одно ей никак не повредит, лишь бы подействовало.
— Не забывайся, милорд эрл, — предостерег Эдмунд. — Ты говоришь слишком вольно! Короне Вильяма триста лет!
— Если бы покойный завоеватель, да пребудет его душа в райских кущах, случайно оказался в таком же положении, я бы дал ему тот же совет. Они желают говорить только с его милостью. И мы обязаны предоставить им эту возможность, иначе не миновать беды.
— И королю придется держать ответ перед чернью, одному за всех? Обещать, изворачиваться, возможно, лгать!
— Попробуй, милорд герцог, выйди вместо его королевской милости, — пожал плечами Солсбери. — Вдруг что и получится…
— Это дерзость, милорд!
— Лучше дерзость, чем глупость.
— К чему запальчивые споры? — поспешно вмешался Бекингэм. — Солсбери прав. Его план самый мудрый. У нас действительно нет иного выхода. Усыпить чернь обещаниями, расколоть ее силы, поскорее спровадить прочь. Что еще можно придумать, не имея достаточно войск?.. Однако, прежде чем связать себя обещанием, я бы попробовал их образумить.
Едва взошло солнце, на восточной стене протрубили герольды. Король поднялся на Малую башню, в ста футах от которой, сразу за рвом, всю ночь горели костры. Они все еще продолжали дымить, хотя угли давно прогорели и подернулись пеплом.
— Мои верные подданные! — он старательно воспроизвел второпях набросанное Солсбери обращение, которое выучил почти наизусть. — Мы просим вас спокойно разойтись по домам. Если вы добровольно покинете город, все ваши проступки будут забыты и прощены. Идите с миром. Ваши жены, ваши дети и ваши матери заждались в опустевших домах и проливают горькие слезы.
Люди, сперва слушавшие в настороженном молчании, понемногу заволновались. Образовалась толпа, которая быстро пришла в возбуждение. Крестьяне, до того мирно лежавшие на охапках сена, вскочили на ноги и схватились за самодельные мечи и дубинки. Задние напирали, началась давка. Отдельные гневные выкрики слились в общий нестройный хор, который по чьей-то подсказке превратился в могучее многоголосие, отчетливо выделявшее каждый звук. Теперь и глухому стало ясно, что они не сдвинутся с места, пока король не выполнит их требования.
— Смерть изменникам, засевшим в Тауэре! — вопили в первых рядах. — Грамоты! — летело над их головами. — Грамоты!
Король поднял руки, словно для епископского благословения и закивал кудрявой головкой. Пока толпа неистовствовала, он стоял и кивал, всем своим видом показывая, что готов на уступки. Даже улыбаться при этом не забывал, невзирая на ужас. Позвоночник заледенел и обратился в несгибаемую сосульку. Только шейные позвонки сохраняли подвижность.
Срочно изготовили грамоту, с незначительными вариациями воспроизводившую королевское обращение.
— Они, надо думать, будут немного разочарованы, но хотя бы час мы выиграем, — сказал Бекингэм. — Мне нравится документ. «Измыслит средство» — это прелестно.
Король подписал, не читая. Граф Арондел, не глядя, оттиснул печать. Оставалось выслать герольда и рыцаря, чтобы оповестить народ.
— Позвольте я все же взгляну, — дрогнул Солсбери в самый последний момент. — На слух как-то не воспринимается… Боюсь, мы чуточку перегибаем, милорд, — шепнул он Бекингэму. — Я бы не стал так дразнить раздраженный плебс.
— Выложить им все сразу на золотом блюде? Нате, мол, обжирайтесь? Нет, пусть хорошенько попрыгают.
— Зачем вам эти собачьи прыжки?.. Впрочем, в ваших соображениях есть известный резон. Они могут не поверить, если мы дадим сразу. Придется делать вид, что выжимаем по капле.
— Значит, отсылаем? — небрежным мановением Бекингэм подозвал рыцаря.
— С богом, — кивнул Солсбери. — Хотя на душе неспокойно…
Дурные предчувствия не обманули тонкого дипломата. Рыцаря, который, взобравшись на колченогий стул, огласил обращение, изрядно поколотили, а грамоту растоптали вместе с привешенными печатями.
Ворота крепости загудели под градом камней.
— Смерть изменникам! — прибывавшие к Екатерининскому холму отряды дружно подхватывали боевой клич.
— Если король не хочет говорить со своим народом, народу не нужен такой король! — Гнев рождал новые лозунги. — Смерть палачам!
Уот Тайлер придержал взбешенного Джека Строу, готового с голыми руками броситься на штурм цитадели. События развивались в нужном направлении, и следовало проявить выдержку. Пусть правительство разденется донага на глазах оскорбленного народа.
— Какая наглость! — процедил Уот Тайлер, жадно прислушиваясь к яростным выкрикам. — Но вот что замечательно: наши парни все понимают! Их не проведешь.
— Ничтожные властители, трусливые пустозвоны, — кивнул Джон Болл. — Они вздумали шутить с восставшим народом! Люди, способные на такой жалкий вздор, действительно заслуживают немедленной смерти. Вместе с изменниками и крючкотворами-законниками.
— Обуздаем свой гнев, друзья. — Тайлер жадно вздохнул всей грудью. — Право на нашей стороне. Пусть люди сами видят, как ведут себя изменники. Клянусь святым Христофором, это был поучительный урок.
Глава тридцатая Вождь
Да будет ведомо, что по особой милости мы отпускаем на волю всех верных подданных наших… и освобождаем от рабства каждого из них, и обеспечиваем им это настоящей грамотой, а также прощаем этим верным подданным нашим всякие преступления, измены, нарушения законов и вымогательства, ими или кем-нибудь из них каким-либо образом совершенные, и жалуем им и каждому из них полный мир.
Вторая грамота короля Ричарда, размноженная для раздачи в пятницу 14 июня 1381 года в Майл-ЭндеВека прошумели над Тауэром; века и сорок минут. Вновь протрубили рога на стене, пожелтевшей от времени. На башне, где только что видели короля, кивавшего, как китайская куколка, появился герольд. Солнце, всплывавшее над восточной стеной, било ему прямо в глаза, и он закрывался широким рукавом, на котором сверкали бегущие кошки.
— Король Англии и Франции Ричард приветствует славные общины и выражает милостивое согласие принять их представителей в Майл-Энде.
Вздох радости заглушил удивленные возгласы. Затаив недоверие, люди встревоженно искали друг у друга ответа.
— Почему в Майл-Энде? Не в Тауэре?
— Или снова обман?
— Уж не хотят ли они выманить нас из Лондона?..
Уот Тайлер знаком подозвал к себе командиров.
— Отсюда никуда не уходить. Усилить охрану ворот. Джек Строу и Джон Фарингдон останутся в городе, а мы с У илом поедем в Майл-Энд, — бросал он торопливые распоряжения.
— Не ловушка ли это, Уот? — встревоженно нахмурился Болл.
— Не вижу смысла в маневре, — подумав, ответил Тайлер и слегка пришпорил свою Златогривку. — Там люди Уила. Король сам окажется в западне.
С лязгом распахнулись ворота, медленно поехали вверх заостренные колья решетки.
— Смотрите, король! — словно ветер пронесся над площадью. — В самом деле король… Они едут в Майл-Энд.
Ричарда сопровождала небольшая свита придворных, рыцарская кавалерия и городские нотабли. По обе стороны за королем следовали карета матери-опекунши и оба дяди; приотстав на корпус, тряслись в седлах прочие августейшие родственники, ближайшие советники и друзья. Ни «разбойника Хоба», ни канцлера среди них не было. Церковь представлял Лондонский епископ Куртней.
Кавалькада определенно направлялась к Олдгейту.
Люди стояли плечом к плечу. Лишь перед самой грудью вороного испанца, на котором трусил бледный мальчик в бордовом камзоле, они вынужденно расступались, освобождая проход. Как повествует «Анонимная хроника», «король робко ехал к месту встречи; он был подобен ягненку среди волков, подобен человеку, находящемуся в величайшем страхе за свою жизнь, и он кротко убеждал стоявший кругом народ».
Этот участок пути от площади до Олдгейта, пожалуй, был наиболее опасным. Сотни рук хватались за стремя, ловили наборную уздечку, вцеплялись в парчовый чепрак. Конь взбрыкивал и храпел. Повстанцы осыпали потрясенного, почти теряющего сознание седока упреками и горькими жалобами.
Не лучше было и состояние свиты. Эдмунд Ленгли, прокусив до крови губу, затравленно озирался по сторонам. Бомонт поминутно тянулся к кинжалу и тут же, словно обжегшись, отдергивал руку. Даже Солсбери, несмотря на внешнюю невозмутимость, готов был провалиться сквозь землю. Он не столько боялся за свою жизнь, сколько страдал от мучительного позорного ощущения полнейшей растерянности. Он ощущал себя голым, связанным по рукам и ногам, точно какой-нибудь жалкий бродяга, выставленный на всеобщее поругание. Как медленно, с какой боязливой обреченностью продвигался блестящий поезд! Клеймом бесславия жег этот мишурный блеск.
Первым не выдержал Томас Холланд, кузен Ричарда. Миновав неподатливое скопление площади, он при первой возможности вильнул в сторону и поскакал к Чипсайду.
Воспользовавшись минутным замешательством, Томас Фарингдон ловко ухватился за гриву королевского скакуна.
— Как же будет с изменниками? — потребовал он. — Должна же восторжествовать справедливость?
— Да-да, справедливость, — пролепетал Ричард, кривя жалкой пульсирующей улыбкой.
— Вы слышали, братья? — Фарингдон подпрыгнул, выбросив вверх сжатые кулаки. — Король сказал, что с изменниками следует поступить по справедливости!.. За мной, в Тауэр!
Эрл Солсбери прошептал благодарственную молитву. Небо приняло жертву! Брошенные на произвол судьбы канцлер и казначей отвлекут разящую молнию. Так распорядилась судьба.
Проскочив Олдгейт, лошади перешли на рысь. И животные, и седоки словно почувствовали, как спали с них пригибающие к земле оковы. С разрядом невидимой искры что-то переменилось внутри и вокруг, какие-то рычажки перескочили и сдвинулись, освобождая колесики, вращающие светила.
«Глас свыше, — мелькало в мозгу Солсбери, когда он, не разбирая дороги, скакал по полям Уайтчепеля. — И никто не виновен: судьба».
Оставшись один в наполненной шорохами и гулом капелле святого Иоанна, Симон Седбери сорвал с себя церковное облачение: пахий с лентами, шитый в Риме и освященный на гробнице святого Петра, золотую епитрахиль, амикат с витыми шнурками.
На скорую руку обрядившись в суконную мантию олдермена, он повернул резную панель и шмыгнул в потаенную дверцу. Каменная узкая лестница крутым винтом уходила в подземелье. В лицо пахнуло застарелой плесенью.
Тайный ход выводил за крепостную стену к незаметному гроту, отделанному под водосток. Отсюда по толстому бревну с насечками вместо ступенек нетрудно было спуститься на причал, где на самом дальнем конце покачивалась закрытая гондола.
На беду примаса, рядышком полоскала белье дворцовая прачка, старательно елозившая коленами по мокрым доскам. Не успел Седбери отвернуться от полных икр и лиловых пяток, как она оборотилась, испуганно вскрикнула и вдруг заголосила, всполошив не только матросов, но и огородников на склоне холма. Мужество покинуло примаса. Проклиная глупейший случай, он покорился року. После злосчастной прогулки по Темзе нельзя было положиться даже на королевских гребцов.
В Тауэре уже хозяйничали повстанцы, которых пропустили через ворота от имени короля. В поисках попрятавшихся изменников они облазали все помещения и переходы, не остановившись даже перед запретной дверью королевской опочивальни. Кентские, эссексские, хартфордские поселяне и мечтать не смели, что смогут когда-нибудь очутиться во дворце помазанника господа бога. Вокруг была масса красивых, подчас совершенно непонятных вещей. Привлекала любая мелочь, каждая диковинка вызывала веселое любопытство или ожесточенный спор.
Они явились сюда не ради мести, никто и в мыслях не держал, что главный оплот тирании может гореть ничуть не хуже Савоя или Второго парадиза. Поэтому торопиться было некуда. И расслабиться, конечно, хотелось после тревог и волнений. Вот и нашлась минутка, чтобы попрыгать на необъятной постели коронованной опекунши, и полюбоваться на свое отражение в венецианских зеркалах, и с веселым смехом обрызгать кума водой из хрустальной миски, где плавали нежнейшие лепестки.
Июнь — месяц роз, волшебная пора радости и любви…
Стража не препятствовала невинным забавам и вообще никак не реагировала на кощунственное вторжение. Многие принимали неподвижно застывших воинов за чучела и даже делали робкие попытки слегка подергать бравых валлийцев за бороды.
Не везде подобная шалость сходила гладко. Капитан стражи так клацнул одного не в меру дотошного шорника, что тот едва не лишился пальца. Это маленькое происшествие вызвало дружный хохот, что и спасло отважного гвардейца. В общем-то никто из гарнизона не пострадал, хотя многим хотелось во что бы то ни стало растормошить солдат и даже заставить их присоединиться к движению. Теперь, когда король с минуты на минуту готовился даровать мир, это было почти законно.
Но что можно поделать со статуей? Одни бранили наемных истуканов, другие пытались с ними заигрывать, отпуская соленые шутки насчет интимных предметов, обнаруженных за ширмами спален, но те глядели только перед собой и сквозь завороженным, отсутствующим взглядом. Не отвечали на вопросы насчет попрятавшихся изменников, не гневались на упреки, не улыбались на добродушный смех.
Какую роль здесь сыграл страх? Об этом по сию пору не устают спорить историки. Вполне допустимо предположить, что кто-то из бравых вояк действительно поддался столь недостойному чувству. Но даже вселенский ужас и тот не способен вызвать одновременно паралич нескольких сотен самых разных людей. Не видеть, не слышать и до гроба молчать обо всем, чему станешь невольным свидетелем, — вот главная заповедь дворцовых гвардейцев.
Повстанцы явились вершить справедливость по воле монарха. И этого вполне достаточно, а уж как и что они станут делать, никак в обязанность охранников не входило. Мало ли существует дикарских обычаев в стране англов, не говоря уже об иных народах, чьи послы регулярно посещают дворец? Задача проста: стой и не шевелись, как будто тебя здесь нет.
Вот они и стояли…
Архиепископа Седбери нашли молящимся перед иконой святого Олбанса, изображенного без головы. Точнее — без головы на плечах, поскольку святитель-великомученик держал ее в руках вместе с Евангелием.
Встав за спиной коленопреклоненного примаса, Фарингдон и олдермен Хорн дали ему закончить молитву.
Потом Хорн сказал:
— Симон Седбери, ты арестован именем короля как государственный изменник.
За краткий для внешнего окружения миг полной душевной сосредоточенности опальный пэр укрепил потрясенный дух.
— Вы поступаете незаконно. — Вскинув заострившийся подбородок, он настолько резко тряхнул четками, что они с сухим щелканьем раскатились по мраморному полу капеллы. — Будучи князем римско-католической церкви, я неподсуден мирским властям.
— Тем не менее ты будешь казнен как изменник. — Томас Фарингдон кивком велел связать бывшего канцлера.
— Образумьтесь, несчастные! — Оттолкнув конвоиров, Седбери простер руку к алтарю, где стояло распятие и по три высоких свечи в обе стороны от него. — В случае моей смерти Англии грозит интердикт. Вы не сможете хоронить своих мертвых и крестить своих младенцев; таинства исповеди и святого причастия будут закрыты для вас, никто не сможет отпустить вам…
— Довольно! — оборвал поток угроз негодующий возглас. — Мы ничего не боимся! Ни папы, ни его отлучения. Настал твой черед лязгать зубами, нечестивый епископ.
Повстанцы со смехом обнажили мечи и вывели Седбери из капеллы. Они смеялись легко и беззаботно и ничуть не страшились мук в мире ином, ибо смогли одолеть сатанинское зло этого мира. Свободные перед законом и равные в мыслях своих прародителям-труженикам, они обрели неведомую прежде свободу духа.
И это было доподлинное чудо, рядом с которым выглядит забавным курьезом столбняк, поразивший валлийских солдат.
Во дворе крепости, куда вывели архиепископа, он увидел знакомые лица. В окружении вооруженных крестьян стоял, потупившись, гордый иоаннит-казначей, рядом с ним, прислонясь к стене, ждали неминучей развязки ключеносец Джон Легг и королевский духовник Эплдор. И у всех за спиной были крепко связаны руки.
Седбери было подумал, что казнь состоится здесь же, сейчас и вздрогнул от радости, когда его, а вместе с ним и других повели к воротам. Как привязчива оказалась суетная жажда жизни, как неподвластна уму и воле. Пусть осталось совсем немножко, на самом донышке, но и последняя капля была дорога.
— Прощай, сэр Симон, — услышал он оклик госпитальера, когда за углом стены открылось лобное место. — Прости за все.
— Прости и ты, милорд, и да примет господь твою душу.
Это были последние слова Кентерберийского архиепископа.
Впитывая очами небесную синеву, он легко взбежал по ступенькам, опустился на колени и прижался к бревну. Шершавое дерево ласкало лицо последним теплом.
Королевский палач отказался исполнить приговор, потребовав надлежащим образом оформленную бумагу. И эта последняя в жизни проволочка обернулась лишней каплей страдания.
Немилосерден оказался топор в непривычных руках.
Надсадным пронзительным воплем, вспугнувшим стаи птиц, встретила площадь голову, поднятую на древке. Даже привыкшие ко всему вещие старожилы Тауэра встревоженно захлопали черными крыльями, но так и не взлетели с зубцов.
Крик, впервые исторгнутый в маленьком Брентвуде, так похожий, по мнению летописцев-монахов, на завывание подземных жителей, повторился, когда взметнулось копье с головой Роберта Хелза. Мужественная смерть канцлера послужила лорду-казначею примером. Он лег под топор, как положено рыцарю-крестоносцу.
Затем настал черед Джона Легга, королевского ключеносца. Он сам вырыл себе могилу, когда надумал откупить у казны привилегию на сбор недоимок. Его комиссары драли с живого и мертвого, поэтому Англия не хотела видеть камергера живым, но только мертвым. И он умер. И люди опять закричали, когда заглянули в его лицо. Оно было мокрым от слез.
Последним склонился на плаху францисканский монах Уильям Эплдор, бывший лекарь Джона Ланкастера. Гонту стоило немалых трудов сделать своего человека поверенным тайных дум короля. Теперь и эта затея пошла прахом, как и все на земле.
И народ кричал, увидев выбритую тонзуру. Тяжелые остроклювые вороны не шевельнулись, и голуби не вспорхнули в зенит. Устали птицы, а люди затаили усталость.
Головы изменников, как водится, выставили на старом мосту. Чтобы всем было видно; архиепископа отметили красной шапкой.
В то утро совершилась еще одна казнь, но уже на Чипсайде. Лондонцы сами расправились с Ричардом Лайенсом, тем самым купцом, который вместе с пресловутым Летимером изрядно потряс казну. Обоих воров вытащила из петли Алиса Перрерс, а после приголубила королева-мать. Приговор, вынесенный Добрым парламентом, хоть и с запозданием на пять лет, все же свершился.
Справедливость восторжествовала, и закон не был нарушен, и обычаи соблюдены до тонкости. Лишь в одном разошелся народ с процедурой королевского правосудия. Никому не вспарывали живот и не трещали кости. Томас Фарингдон, а это именно он затаился прошлой ночью в исповедальной кабинке святого Мартина Великого, высматривая врагов, сказал чистую правду.
Справедливость неделима, она не ведает границ, для нее одинаково важно большое и малое: слеза ребенка и слеза мужчины, алмазы магната и медяк бедняка.
Пока Фарингдон выслеживал изменников, советник Хорн совершал привычный обход лондонских улиц, вернее, объезд, ибо ехал на коне с развернутым знаменем. Как олдермен и полномочный представитель восставшего народа.
— Если кто-нибудь хочет поведать о причиненной ему несправедливости, пусть сделает это немедленно, — выкликал он на всех перекрестках. — От себя лично и имени братьев своих обещаю суд скорый и справедливый.
И у него хватало забот. Разобрав тяжбу рыботорговца Джона Пека с Робертом Мартоном, он принудил последнего выплатить десять фунтов; Матильде Токи возвратил усадьбу, незаконно занятую москательщиком Ричардом Токи; заставил бывшего мэра Брембера возвратить пять серебряных марок пивовару Уильяму Трумену.
Хорн не судил изменников, не выносил суровых приговоров, но добрая слава о нем разнеслась по всему городу.
От Тауэра до Майл-Энда, загородной деревни, окруженной возделанными полями, не более двух миль. Когда король прибыл на место, экзекуция уже совершилась; и он, вероятно, об этом догадывался. Он сам и его приближенные ожидали встречи все с той же возбужденной стихией, которая окружала их на всем пути от Екатерининской площади к воротам Олдгейта. Но по краям огромного ячменного поля стояли строгие ряды войск. Стальные наконечники копий не шевелились и смотрели точно вверх. Знамена обоих королевств и хоругви святого Георгия ласково полоскал душистый ветерок.
Сладко обмерло сердце в безумной надежде на то, что каким-то чудом вернулись рыцари из Гиени. Ричард даже прищурился, чтобы разобрать гербы на треугольных щитах. Но чем ближе подъезжала королевская кавалькада, тем яснее вырисовывались приметы совершенно иного рода. Рыцарское оружие сжимали руки, приученные к сохе и лопате, заскорузлые пальцы выглядывали из продранных башмаков.
И от этой упорядоченной безмолвной силы исходила такая угроза, что все только что пережитое показалось далеким, как испарившийся сон. Сновидения всегда остаются в прошлом, а явь еще предстоит пережить. Гнет неотвратимой развязки перехватывал дыхание почище любого кошмара, потому что нет ничего страшнее ожидания беды.
«Вот оно, полное поражение, — думал король, продолжая скакать к группе всадников, остановившихся посреди поля. — И нельзя проснуться и невозможно ничего изменить».
Желчная горечь обожгла пересохшее горло.
— Обещайте, обещайте им все, что попросят! — кто-то жарко дохнул ему в самое ухо.
Ричард вздрогнул, непроизвольно дернул узду, и чуткий конь, взрыхлив землю, поднялся на дыбы. Проскакав на корпус впереди и развернувшись вполоборота, встали Ленгли с Бекингэмом.
Увидев, что королевский поезд останавливается, встречающие спешились и обнажили головы. Это послужило общим сигналом преклонить колени. По порядкам пробежала прерывистая волна, и вскоре вся повстанческая армия на рыцарский манер отсалютовала своему сюзерену. В седле кроме самого короля остался один-единственный всадник в зеленом наряде простого лучника.
Приятно удивленный, Ричард, превозмогая нервную дрожь, поехал ему навстречу. Он уже знал, как зовут этого человека, и с жадностью всматривался в его резкие, словно изваянные рукой каменотеса, черты. За королем почтительно следовал Бомонт, неся свернутое знамя с изображением оленя, коронованного ошейником. Деловитое похрапыванье лошади, которое Ричард слышал за правой лопаткой, действовало успокоительно, но горечь во рту не исчезла.
Уже отчетлива была улыбка, обнажившая два ряда крупных зубов, бедный образок на шее и лежащая на бедре рука с вышитым наручнем. Белая лошадка, мотая золотистой гривой, отгоняла наседавших слепней. Король поспешно улыбнулся в ответ и, сохраняя растерянно-заискивающее выражение, неловко поклонился войскам.
Тайлер с неожиданной легкостью выпрыгнул из седла, слегка пригнул колено и вразвалку приблизился к королю. Затем потрепал вороного за холку и неожиданно протянул руку. Ричард смущенно вложил в нее узкую ладонь. Пожатие получилось крепким до боли.
— Здравствуй, брат, — прозвучало резанувшее слух приветствие.
Откровенно оскорбительное по форме, оно как бы смягчалось своей евангельской простотой.
— Здравствуй, — через силу пробормотал король. — Ты — Уолтер Тайлер из Кента?
— Да, это я, хотя другие с не меньшим на то основанием зовут меня Тайлер из Эссекса.
— Как же тебе удалось одному повергнуть в хаос целую Англию, Тайлер?
— Одному? — Тайлер улыбнулся еще шире. — Видишь, сколько нас?
— Я думаю, мы сумеем договориться с тобой.
— И я так думаю. — Тайлер вынул из сумки перевязанный зеленой ленточкой свиток. — Выслушай наши претензии, король Ричард, и ничего не бойся.
Последние слова были проникнуты неподдельной теплотой. И они успокоили короля. Исчезла внутренняя скованность, и появилось окрыляющее предчувствие, что все дальнейшее пройдет очень легко.
— Это ваши петиции? — Он принял бумагу и передал ее через плечо Бомонту. — Здесь есть что-то новое, чего я не знаю?
— Нет, ты знаешь все.
— Тогда мы легко придем к согласию. Я уже обещал благосклонно рассмотреть ваши просьбы и сдержу слово. Твои люди могут спокойно возвратиться домой. Пусть останутся по два или три представителя от каждой общины.
— Они ждут твоей подписи. Им будет нелегко вернуться с пустыми руками. Наконец должно свершиться правосудие! Мы просим выдать изменников.
— Я немедленно прикажу изготовить надлежащие документы, и ты сможешь сам вручить их общинам. Но последнюю просьбу вынужден отклонить. Не забывай, Тайлер из Эссекса, что существует парламент и Королевский совет. Король обязан стоять на страже прав и вольностей своих подданных. Пусть суд решит, кто из них запятнал себя изменой, и вынесет приговор.
— Изменники не могут судить изменников. Судья Белкнап и судья Кавендиш занимают первые места в списке предателей.[100] Мы будем настаивать на их выдаче. — Тайлер упрямо нахмурился. — Общины сумеют постоять за себя, — добавил он с неприкрытой угрозой. — Ты сам это видел.
Король был готов уступить, но медлил с ответом. Теперь он знал почти наверняка, что примас и канцлер мертвы. Настал черед хорошенько припомнить наставления Солсбери, разложившего по полочкам все pro и contra.
— Я очень хорошо понимаю тебя, но ты желаешь невозможного, Уолтер Тайлер, — с показным смирением Ричард опустил головку херувима. — Король англов не может нарушить закон… Что было, то было. Старые грехи прощены, и бог вам судья. Но далее так продолжаться не может. Будем вместе решать участь тех, кого ты называешь изменниками. Мне ты веришь, надеюсь?
— Я верю тебе, — с непроницаемым лицом ответил Тайлер. — Но у тебя дурные советчики, которые недостойны доверия общин.
— Согласен, среди них действительно попадается немало фальшивых людей. От них мы будем постепенно избавляться. И здесь я рассчитываю на твою помощь. Мне кажется, что такой советник, как ты, Тайлер из Эссекса, мог бы украсить любой двор.
— Не гожусь я в придворные, но помочь установить справедливый порядок мы, представители общин, беремся.
— Вот и договорились обо всем, я не ошибся. А в знак моей признательности прими это знамя, — торжественно провозгласил Ричард и кивнул Бомонту.
— Так мы ждем твоих грамот. — Тайлер развернул вышитое шелком полотнище и вскочил в седло.
Повстанческая армия ответила одобрительным ропотом. Король, ощущая угрозу даже в приветственных возгласах, описал круг на нетерпеливо танцующем испанце и отдал прощальный поклон. Одежда на нем была мокрой от пота. Стало вдруг холодно и знобко.
— Едем, и как можно скорее, — бросил он Солсбери, с трудом сглатывая горькую как полынь слюну. — Но только не в Тауэр. Мне бы не хотелось возвращаться туда.
— Понимаю, — эрл почтительно склонил красиво седеющую голову. — И уже обо всем позаботился. Если вашей милости будет угодно, двор переедет в Куинс Уордроб. Там достаточно помещений, и мы разместимся с большими удобствами.
— Все осквернено! — Ричард не мог думать об оставленной крепости без содрогания. — Как я ненавижу этих омерзительных сервов! Да, да! — повторил он, словно прислушиваясь. — Я их ненавижу.
Ведя беседу с Тайлером, король не ощущал ненависти. Было что-то другое, не до конца осознанное, загнанное в потемки, где прятались давние ужасы и отголоски детских кошмаров. Ненависть пришла именно сейчас, когда посреди необъятного поля королевский поезд разворачивал лошадей. Она просочилась изнутри и извне вместе с липким холодком приклеившейся к телу рубашки. В ней сплавились осознанное и подсознательное, подавленная, но еще не отмершая воля, инстинкт. И у нее было лицо с резкими незабываемыми чертами.
— Милый сын, как же я боялась! Да у тебя ни кровинки в лице! — улучив минутку, шепнула королева. — Что он сделал тебе, этот вампир?
— Потом, матушка, потом я вам все расскажу! — Ричард что было сил вонзил шпоры. Благородный конь оскорбленно заржал и понесся наискосок через зеленый ячмень.
— Теперь я видел его, — процедил сквозь зубы Бомонт, пристраиваясь рядом с Солсбери. — Теперь все!
— Ты о чем? — не понял вечно озабоченный эрл.
— Я искромсаю его на куски, клянусь небом!
— Не богохульствуй, рыцарь. Лучше поезжай вперед. У нас очень мало времени, а работы предстоит уйма… Петиции у тебя?
— Да, милорд.
— Дай-ка гляну! — Солсбери действительно только глянул, потому что читать на скаку было непросто. — Лети в Тауэр, — приказал он, пряча свиток. — Заберешь всех переписчиков и быстрей в Уордроб. Сейчас самое важное — как можно скорее наляпать побольше этих чертовых грамот… Дела идут не так плохо, мой мальчик.
Глава тридцать первая Крысы
Псалтырь, виола и цевница Не могут с лебедем сравниться, Ему прекрасный голос дан. Беднее арфа и орган. В природе нет стройнее лада. Неизъяснимая услада В напевах лебедя для нас, Но так поют один лишь раз. Бестиарий любвиОтзвонили у святого Павла, отзвонили у Мартина. Пора закрывать кабаки. Есть король, нет короля, город живет по собственным законам. У него свой распорядок. Затаился в ночи, взбаламученный, недобрый, то ли спит, то ли притворяется. Чьи-то тени, крадучись, проплывают в лунной слякоти. Много их, не сосчитать. Кто такие, куда навострились? Ничего не известно. Не приведи господь спрашивать. Того и гляди, на бандита нарвешься. Повыпускали из тюрем всякую сволоту, вот и нет покоя ни днем ни ночью. Задвинуты засовы, замкнуты хитрые замки, которыми всегда славился Лондон, но бежит сон, к каждому шороху, к каждому лязгу прислушиваются добрые горожане.
— With whome haldes you?
— With kinge Richarde and the true cornons![101]
С этим паролем выходили из тюремных подвалов, он раскрывал городские ворота, давал койку в странноприимных домах. За молчание или неверный отзыв расплачивались головой. Но беззвучны скользкие тени. Ни оклика, ни ответа. И уверенного шага ночной стражи не слышно на мостовых. Олдермены и те куда-то запропастились. Где советник Хорн? Где почтенный мастер Сайбил? Почему не идут проверять питейные заведения?
Жиденький свет мерещится в доме Томаса Фарингдона, тревожные огни перебегают в высоких окнах замка на Картер-Лейн. Две власти — никакой власти. Давно за полночь, а в тавернах вокруг Людгейт гуляют, и возле Олд-Джюри дым коромыслом, и на мосту. Лишний заработок никому не помешает, но порядок все-таки должен быть. Да и денежки небось кончились у голытьбы.
Неслышно тучи сползаются в небе, а старые кости откликаются: к непогоде, к грозе. Так и теперь чует беспокойное сердце перемещение масс бесформенных, беспросветных, ловит зоркое око мельканье теней.
В богатом трактире «Zingende Zwaam», что означает на фламандском наречии «Поющий лебедь», на всех столах горели светильники. Прислуга не успевала подавать. Сам хозяин, не отходя от пивной бочки, разливал удвоенной крепости доббелкуйт.
Жареного лебедя под кислой подливкой, конечно, никто не спрашивал: дорого и не напасешься на всех лебедей. Но каплунов, колбасок да всяких жареных потрошков с гребешками было сколько угодно. Бедные поварята запарились у раскаленной печи. И хлестала густая клейкая пена, и уже кое-кто разбавлял доббелкуйт ла-рошельским вином.
Чем дольше продолжалась веселая попойка, тем меньше нравилась она достойному трактирщику. Он и сам не прочь был пропустить лишнюю кружечку с гостем, отчего и обзавелся необъятным животиком, но пьяные безобразия претили его фламандской душе.
Сперва он возрадовался, предвкушая солидную выручку, потом встревожился — кто будет за все платить, — а под конец и вовсе заляскал зубами от страха. Он никогда не прислушивался к чужим откровениям. Своих забот хватало. Но поневоле услышишь, когда принимаются орать во всю глотку. Особенно тот краснорожий, которого все кличут папашей Бучером. Напялил чужой камзол утрехтского сукна с малиновой перевязью и вообразил себя важным сеньором. Ладно уж если б просто пыжился и горлопанил, а то ведь что несет! Дрожь пробирает.
Застолье и впрямь приобретало опасный характер. Когда грузный трактирщик случайно обрызгал пеной главаря хмельной ватаги, тот обнажил кинжал и, обратясь к собутыльникам, поинтересовался с эдакой гнусной ухмылкой:
— Интересно пощупать, братья, сколько у нашего борова сала? На шесть пальцев или поболе? — И отмерил на клинке, подлец.
Фламандец сперва принял это за шутку и даже расплылся в угодливо-виноватой улыбке, чтоб не портить общего настроения. Но дальше — больше. Задиристые прибаутки сменились крикливыми угрозами спалить заведение и перерезать всех домочадцев. Особенно усердствовал сосед атамана, гнилозубый подлипала с испитым, желчным лицом. Косясь по сторонам, он все время что-то нашептывал краснорожему в самое ухо. Таких блудливых и скверных глаз трактирщик в жизни не видел. Словом, отборная подобралась компания. Один к одному, и все как есть висельники. Чем больше они шумели, требуя еще еды и питья, тем крепче укреплялся в своих подозрениях злосчастный хозяин. Мясистые, волосатые пальцы на вороненой стали так и прыгали у него перед глазами. Вдруг и вправду пырнет краснорожий бандит?
— Выпьем, братья, за нашего славного капитана Джека Строу! — предложил дородный молодец, по виду мельник, когда подоспела шкворчащая свиная печенка. — Жаль, он не с нами.
— То-то и оно, что не с нами! — Бучер стукнул пустой кружкой. — Это же надо, такого парня опеленать. Ну погоди у меня, Черепичник!
— Тише ты, — предостерег гнилозубый.
— А чего бояться? — Бучер рванул на себя перевязь. — Хватит, сегодня наш день! Верно говорю, братья? — Он грузно навис над столом. — Они, видите ли, совещаются там, короли наши ясноглазые, языками мелют.
— Уймись, Бучер, не накликай беду.
— Отстань, Рыбник! — Главарь оттолкнул гнилозубого: — Кончилась их власть! Мы сейчас получим последний должок — и по домам. Хватит, повоевали. Хартфордцы только грамоту получили — и сразу ноги в руки. И половины эссексцев как не бывало. Припустились, голубчики, к своим чумным красоткам, знай сверкают пятками.
— Боятся, что догонят и отберут, — поддакнул один.
— И не выпили за такое, — вздохнул другой. — Сам король подписал!
— Как же, выпьешь! — злобился Бучер. — Помните ребят, что сгорели в Савое? Так и сгинули без покаяния возле бочек с мальвазией. Черепичник наш стриженый после совсем разошелся! «Не позволю, вишь, пропить народное счастье»… А кто тебя спросит? У каждого свое счастье в жизни. Что хочу со своим, то и делаю. Верно?
Ответом ему был дробный перестук оловянной посуды, ор и свист. И полетело, и понеслось:
— Пропьем счастье!
— И горе пропьем!
— Гром и молния! Дьявол и смерть!
— Долой волынку! Все по домам!
— И верно, отвоевались!
— Виданное ли дело: вино в грязь выливать!
— А деньги в костер? Ишь лорд выискался!
— Не нужен нам такой король.
— И архиепископ не нужен. Посадили расстригу на нашу шею.
— Будь моя воля, я бы этих фландрских свиней…
— Вот и давай! Она твоя, воля. Никого не пожалеем!
— Кровососов-ломбардцев!
— Лягушатников-пикардийцев!
— Гасконских прощелыг!
Разделавшись с вонючими иностранцами и вассальными племенами, принялись костерить на чем свет стоит лордов и королевских судей. Тут вновь вниманием завладел Бучер.
— Эх, братья, братья, — попенял он с пьяной откровенностью. — Сваляли дурака, и будет. Ну чего вам не хватает? «Хоб-разбойник» и примас-злодей кипят в смоляном котле. А кого еще не нанизали на пику, с теми лондонцы без нас разберутся. Мы-то тут при чем? Дай бог со своими лордами управиться, — и заорал, выкатив полопавшиеся глаза: — Да здравствует король Ричард!
Пока бушевали заздравные клики, он, не отрываясь от кружки, лил в себя пиво.
— Король дал нам все, о чем мы мечтали, — борясь с икотой, мясник возобновил свой спич. — Простил все наши скромные прегрешения. Вон, глядите, — он выдрал из-за пазухи смятую буллу с красными восковыми печатями. — Наши души чисты! Эй, трактирщик!
— Трактирщик! — как эхо, откликнулся гнилозубый, пристукнув ладонью.
Не смея поверить в близкое избавление, хозяин на полусогнутых ногах подкатился к столу.
— Что господам угодно? — Он тяжело сопел, истекая потом.
— Поговори с ним, Рыбник, — зевнул Бучер, устало слюнявя кружку.
— Где ты прячешь свое серебро? — пакостно ухмыляясь, спросил гнилозубый. — Покажи нам, трактирщик.
— Добрые господа! — взмолился фламандец, но вдруг захрипел, тяжело и медлительно оседая на пол.
Нож вошел под ребро с удивительной мягкостью, почти нежно. Никто и мигнуть не успел, как Рыбник сделал выпад. Пьяный гогот и божбу словно ветром сдуло. В завороженном молчании отчетливо журчали струйки, стекавшие из опрокинутых кружек.
— Вот так, братья, — наставительно сказал гнилозубый и, оттолкнув привалившееся к нему тучное тело, выдрал узкое лезвие, которым потрошил рыбу. Промочив горло, он смыл кровь остатком доббелкуйта.
— А теперь гуляй! — скомандовал Бучер и ударом ноги опрокинул стол.
С тупым грохотом посыпалось тяжелое олово, из разбитых светильников расползалось масло. Шипя и потрескивая, продолжали гореть фитили.
— Нам фейерверков не надо, — мясник затоптал огонь. — Пошли глянем, где чего припрятано. Мы хозяева, а не босоногая шваль.
Выкатившись на улицу, орава претерпела некоторый урон. Завернув за ближайший угол, самые робкие предпочли дать деру. Ножичком орудовать — не языком молоть. Тут привычка нужна. Мясникам да рыбникам всяким оно, конечно, сподручнее. Но и те, кто остался с Бучером, засомневались, когда стало ясно, что надежды на богатую наживу не оправдались. В кривых переулках фландрского квартала уже шныряли шайки живодеров-налетчиков, которых заправилы ткацкого цеха подбили на скверное дело. Опьянев от крови, они бросались на первого встречного. Про короля и общины не спрашивали, но, приставив к горлу кинжал, заставляли повторять самые непритязательные слова. Например, «хлеб» или «сыр». Смысл глумливой игры был далек от забав беспечального детства. Если вместо bread и cheese получалось нечто похожее на brot и cawse, следовала незамедлительная расправа. Груды окровавленных тел устилали мостовые и пороги домов, а уж сколько безвинных людей было зарезано в своих постелях, одному богу известно. Вернее, дьяволу, чьи исчадия разлетелись, как легионы вампиров-нетопырей. Вся городская накипь всплыла на поверхность, весь мусор и гниль. Сводились давние счеты, должники тайком расправлялись с кредиторами, ученики нападали на мастеров. «Всякий, кто питал к кому-либо злобу или вражду, мог найти немедленное удовлетворение», — лаконично замечает хронист.
Словно кто-то, отпустив наперед грехи, оповестил об условном часе всю шваль, взбаламученную очистительным вихрем.
— Первым делом на Ломбард-стрит! — скомандовал Бучер, сообразив, что у фламандцев ему уже нечего делать.
Богатые купцы были начеку и даже выставили охрану, а беднота не интересовала старшину мясников. Фландрские сукноделы — не его конкуренты. Хорошо зная Лондон, он повел свою заметно поредевшую шайку кратчайшей дорогой. Остались самые стойкие охотнички за чужими деньгами. Гнилозубый Рыбник, как нетерпеливый пес, то забегал вперед, то жался к ногам.
Летописцы, перевидавшие столько зверств, глухо отзываются о подробностях той омерзительной ночи. Нельзя установить даже приблизительное число жертв. Ничего не поделаешь; что кануло в Лету, то кануло безвозвратно. И все же всегда отыщется какая-нибудь деталька, невесомая шелковинка, которая поможет связать времена.
Специальные таблицы и поправки на летосчисления позволяют установить фазу Луны. Поэтому достоверно известно, что в ночь на пятницу с четырнадцатого на пятнадцатое июня в полную силу светил серебряный диск. «От солнца — сера, ртуть же от луны», — как прозорливо заметил Джеффри Чосер, ставший невольным свидетелем погрома. Отдельных физиономий он, понятно, не разглядел, но угадал в общем верно. Его тайные записи либо вообще не дошли до нас, либо неузнаваемо преобразились в алхимическом горне стиха.
Джек Стро, наверно, так не голосил. Когда фламандцев в Лондоне громил И не шумней была его орава, Чем эта многолюдная облава.С разных концов пробирались на Картер-Лейн группки вооруженных людей. Одни, оказавшись в кромешной тени стен, вообще пропадали из глаз, другие, постояв зачем-то минуту-другую, спешили мимо, а кое-кто и проскальзывал в боковые ворота.
Звездно вспыхивали стальные наконечники, лязгал доспех, до самого рассвета метались огни в бессонных окнах дворца. Почему повстанцы не оцепили замок, подобно тому как это было сделано в Тауэре, дав правительству передышку в самый критический момент? Цветами сонного мака обернулись победные лавры. Ожесточенно спорили вожди, унося на груди вожделенные грамоты, покидали столицу отряды, а под покровом ночи вершилась зловещая подозрительная возня.
Словно откликаясь на предсмертный крик «Поющего лебедя», от Людгейта к замку пробирался Бошан Уорик. Хоть и не было шлема на нем, украшенного изогнутой шеей вернейшей птицы, но расшитый иерусалимскими крестами плащ с головой выдавал эрла. Алый бархат черным виделся в лунном свете, но зато сверкало шитье. Добрая сотня рыцарей следовала за лордом. Первым шел юноша в коротеньком джекке. Все обнажила луна: упрямые брови, дерзкие губы и меч на плече. Как рана, чернела пятилепестковая роза Ланкастеров на белом щите. Генри Болинброк не подвел отца. Из шелковинок связывались новые узлы. В калейдоскопе событий кристаллизовались зародыши Войны роз.
Спешили подкрепления и со стороны Сити. Однако верные Уолуорсу нотабли почему-то вели своих людей не в Уордроб, а в сторону Смитфилда, где по пятницам продают лошадей. Непонятный маневр. Разве что ради обмана? Но кого обманывать, если никто не следит!
К мосту приближалась кавалькада с рыцарем Нолзом во главе. Высадившись в Саутгемптоне, куда прибыл на галерах Венецианской республики, коннетабль беспрепятственно миновал все повстанческие заставы и скакал теперь через Саусуарк, оставив за спиной закопченные остовы тюрем. Они произвели должное впечатление, и сэр Роберт внутренне готовил себя к столкновению. Но его не задержали даже у мостовой башни. Как только взошло солнце и была снята замыкающая цепь, доблестный защитник без хлопот въехал в город.
Простодушные крестьяне, узнав значки Нолза, приветствовали его как героя. Так прошла эта гадкая ночь, случайным фрагментам которой еще предстояло сложиться в зловещую фреску. Пока все оттенки затушеваны ртутью и сажей, лишь тени мелькают вдоль домов и заборов да шмыгают жирные крысы, копаясь в отбросах.
Глава тридцать вторая Отлив
…Обуздывать злодеев, бунтовщиков и всех прочих злоумышленников, преследовать, арестовывать, хватать и наказывать их соответственно тому, совершили ли они преступление или укрывали преступника, заключать их в тюрьму и подвергать должным наказаниям… а также собирать сведения и разузнавать о всех, кто бродяжничает и не хочет работать так, как работал до настоящего времени.
Статут о рабочихНаступило субботнее утро, такое же погожее, как и вся промелькнувшая неделя. В пределах лондонских стен осталось менее половины повстанческой армии. Ее ядро составляли кентцы, постановившие держаться до конца. Они не слишком полагались на королевские патенты, выданные с такой подозрительной легкостью. Беглый капеллан Джек эт Ли, знаток юридических тонкостей, разъяснял всем и каждому, что без одобрения парламента грамоты не имеют законной силы. Одни прислушивались, другие сомневались, но большинство было заворожено монаршей подписью. Вера в божественную избранность и всесилие верховной власти оставалась непререкаемой.
На юг, на восток, на север от городских валов дороги были заполнены уходящими. Шли с песнями, веселыми шутками, не соблюдая строя. Вереницы крестьян напоминали развеянные ветром облачные гряды. Грозовая туча выпала благодатным ливнем, в венце радуг сиял омытый горизонт. И никого не волновало, куда плывут белые разрозненные барашки. Несмотря на оружие и знамена, то были уже не боевые отряды. Воцарился мир и в человецех благоволение.
Командиры, снабженные высокими полномочиями королевских советников, легко поддались общему благодушию.
Навстречу попадались посланцы из дальних графств. Окрыленные слухами о великих победах, спешили в столицу представители «Большого общества» из Норфолка, Хантингдоншира, Кембриджшира, Суффолка. И каждый хотел убедиться во всем собственными глазами, вызнать новости, потрогать болтающиеся на свитках печати. Грамотей попадался один на дюжину, но все, кто мог разобрать щедро украшенные завитками буквы, подтверждали: все правильно, все по закону.
Уот Тайлер, прикорнув на часок перед самым рассветом, пробудился с первым ударом колокола и сразу же выехал в Майл-Энд на совет командиров. Его сопровождали Болл, Джон Цирюльник из Кента и клейменый каменщик из Нортгемптона. Булочник Кейв и Джон Шерли находились при Хоукере, а Строу с Фарингдоном объезжали квартиры. Никто из них с достоверностью не мог сообщить, сколько осталось людей.
На подходе к Чипсайду опять пришлось пережидать крестный ход.
— Никак не угомонятся, захребетники, — проворчал Болл. — Наши дурачки пляшут от радости, а они знай себе воюют… Может, пугнем?
— Наведешь порядок, отец, когда примасом станешь, — посоветовал Тайлер. — У нас своих забот хватает. Подумай лучше, как народ остановить.
— Запереть все ворота и никого не выпускать, пока не добьемся полного удовлетворения, — выпалил мрачно настроенный Джон Каменщик. — Довольно цацкаться!
— За наших парней я ручаюсь, — обиделся Цирюльник. — Нас, кентцев, не проведешь. Где стояли, там и будем стоять.
— Правда не нуждается в красном воске, — сурово процедил Болл. — Зато обман сам закручивается в буллу. Мы хотели, чтоб все по закону? Вот нас и провели. Впредь будем умнее.
— Сами виноваты! — стоял на своем Каменщик. — А ворота я все ж бы закрыл.
Всю ночь он провел в трудных переговорах с братьями по цеху и горел в лихорадке бессонницы.
— Со своими воевать собираешься? — одернул его Тайлер. — Люди пошли с нами по собственной воле, и негоже чинить им препятствия. Мы — не лорды. Общины сами вправе решать, как и чего. Не принуждать нужно, братья, а убеждать. Раскройте людям глаза, объясните… Не верю, отец, — оборотился он к Боллу, — что все проторены тропы и нет больше слов, чтоб зажечь сердца.
— Тех, кто сбежал, поверив бумажкам, уже не вернешь, — горько вздохнул Каменщик, провожая глазами процессию. Печально и строго вели мелодию псалмопевцы.
— Они на сбежали. — Выжидая, пока пройдет последний минорит со свечой, Тайлер нетерпеливо позвякивал уздечкой. — Лондон — еще не Англия. Возвратившись домой, они скоро убедятся, что рано сложили оружие. Ты прав, Джон, мы сами во многом виноваты, а я больше всех. Сразу столько навалилось непонятного, нового, что ни глаз не хватало, ни рук. Поневоле оступишься. Но главная наша беда не в этом. Нас оглушил и расслабил успех. Никто не ожидал, что яблочко само свалится в руки. Вот мы и захмелели, дали себя увлечь. Думаешь, я верил Ричарду, когда принимал знамена? Или не видел, как мечутся перепуганные глазенки и трясутся поджилки под бархатным плащом? Но я знал, что наша взяла, и душа трепетала от счастья. Еще ничего не потеряно, мы получим свое.
— Послушай меня, Джон Правдивый, — вплотную приблизился к Тайлеру Каменщик, чиркнув о стремя звездочкой шпоры. — Мы простые люди, и нас легко обвести вокруг пальца. Ну что мы понимаем в законах, которые сутяги в богатых тогах толкуют вкривь и вкось? Эти петиции…
— Петиции ты не трогай, — предостерег Тайлер. — Несчастная Англия оживет, если будут полностью выполнены все наши требования. Правнуки и правнуки правнуков будут поминать твой подвиг в молитвах, Джон!
— Когда-то ты обещал, Уот Тайлер, что я буду с гордостью носить этот знак, — клейменый каменщик бегло коснулся широкой повязки на лбу. — Я поверил и пошел за тобой, как за святым апостолом.
— Жалеешь?
— О чем мне жалеть? О жизни своей неприкаянной? О рабстве? Нет, я ни о чем на жалею. Но вчера мне довелось повидаться в Сити с братьями, с простыми работягами, которым никогда не выбиться в мастера. И знаешь, мне стало стыдно. Мы совсем забыли о них. Что мы сделали для трудового люда, Тайлер? Статут как висел над его головой, так и висит. Разве мы не обещали добиться отмены? «Ни один человек не должен работать на другого иначе как по доброй воле», — твердили мы на каждом шагу. А что вышло? Всем раздали роскошные бумаги, а про них ни полслова?
— Не все сразу, Джон, не все сразу. Свободы, записанные в грамотах, распространяются на каждого англичанина. В том числе и на нашего брата, у которого, кроме умелых рук и голодных ртов, нет ничего за душой. Король согласился действовать только через общины, и будь уверен, что мы сумеем заставить его выполнить обещание.
— Как? Наши силы тают, точно мартовский снег. Урвав свое, каждый норовит забиться в нору, — в голосе Каменщика звучало отчаяние.
— Не каждый, брат. — Тайлер легонько пришпорил свою Златогривку. — Сейчас ты сам убедишься, что нам есть на кого положиться. За мной, друзья!
Окаймленная тополями равнина Майл-Энда дохнула в разгоряченные лица утренней свежестью и покоем. Фыркали кони, вспугивая кузнечиков. Взахлеб пели жаворонки. Еще нежаркое солнце вытапливало сладостный дух сена. Словно смерть никогда не ступала по этой благоуханной земле, не ведавшей ни заботы, ни горя. Золотисто-зеленая дымка скрыла полегший под копытами ячмень, и Тайлер не без труда обнаружил место, где поджидал короля. Это было совсем недавно, каждое слово бередило память, каждый жест, но вспоминалось почему-то расплывчато, как сквозь струи быстротекучей реки. Слишком многое вместила в себя пролетевшая ночь, слишком многое отгорело в пожаре бессонницы.
И как давеча Ричард, норовивший схватить глазами гербы, Тайлер принялся, беззвучно шепча, еще издали подсчитывать пасущихся лошадей. Но вскоре сбился.
Чтоб не помять лишний раз посев, У ил Хоукер выехал встречать на дорогу.
— Сколько людей ушло? — бросил, поравнявшись с ним, Уот.
— У меня? — вяло удивился невозмутимый йомен. — Я специально не проверял, но думаю, все на месте.
— А где горожане?
— Кто домой подался, кто переместился на поле Иоанна Клеркенвильского. Там сейчас Строу со своими кентцами, а эссексцы большей частью ушли.
— Не все, значит?
— Тысяч пять, думаю, есть. Они где-то за Уайтчепелем вместе с Шерли… В Смитфилде, говорят, рыцарская конница объявилась.
— Откуда они там взялись? — встревожился Тайлер. — Много?
— Не знаю, Уот. Люди видели. Говорят, Болинброк возвратился, Гонтов сынок.
— Ладно, потом разберемся. Видно, придется поговорить с его милостью по-другому. — Тайлер подозвал к себе Джона Каменщика. — Скоро увидишь, брат, что я не забыл про мастеровых, — уже весело пообещал он. — Поехали!
В лагере Тайлера дожидались посланцы из Суффолка и Хартфорда.
— Джон Роу, — представился сухопарый священник. — Седберийский капеллан.
— Здравствуй, святой отец, мы рады образованным людям. С чем пожаловал?
— В Листоне, что возле города Мелфорд, мы собрали отряд в полторы тысячи бойцов. Там не только наши суффолкские, есть немало эссексцев, хартфордцев и норфолкцев. Меня послали посоветоваться с тобой, Тайлер, как нам быть дальше. Народ все прибывает. Мы напали на манор Лайенса, которого, как я слышал, обезглавили на Чипсайде, а после посчитались с судьей Кавендишем. Все имущество я роздал беднякам.
— Дело хорошее, брат капеллан! — Уот выразительно посмотрел на Каменщика. — Молодцы, суффолкцы, не теряете времени даром. Возвращайся назад и подымай соседние общины. Я пришлю к вам потом гонца… Этот пастырь тебе под стать, — весело кивнул он Боллу. — Я же говорил, что Лондон — не Англия. Великан еще не расправил как следует плечи. Кто осмелится встать на пути? — По его наметкам выходило, что в столице и окрестностях находится тысяч тридцать. Самых стойких, самых испытанных. В распоряжении двора не было и десятой части.
— Раскрутилась мельница, — удовлетворенно кивнул Джон Болл.
— Что-то сутаны к нам зачастили, — Тайлер кивнул на молодого парня в затрапезном монашеском одеянии, который смущенно переминался на отдалении. — Тебя, кажется, Уильямом зовут?
— Уильям Грайндкоб, — обрадованно закивал странный монах без тонзуры и четок.
— С чем пожаловал, почтенный клирик? Подойди-ка сюда.
— Какой из меня клирик, — парень робко приблизился. — Я сирота и воспитывался в школе при монастыре Сент-Олбанс, но не принял пострига.
— Помню тебя, Уил. Ты разве не получил королевскую буллу?
— Тут она, — школяр удовлетворенно погладил торбу. — Дважды бегали переписывать. Зато получилась по всей форме. Так и записано: «Верным подданным из Сент-Олбанса в графстве Хартфорд». Но боюсь, наш вредный аббат выдумает новую каверзу. Второго такого грабителя надо еще поискать. Мало того что измучил всех поборами да повинностями, так еще запахал общинные земли и огородил лес. Даже мучицы намолоть у себя дома не смей. Поотбирал мельничные жернова и вымостил ими трапезную. Слыханное ли дело! За каждый чих гони монету. Нет больше нашего терпения. Самому-то мне ничего не надо, а добрых людей жалко…
— Вот и ладно, — Тайлер успокоительно помахал рукой. — Слышал я ваши жалобы, сент-олбанские братья. Нынче все зависит только от вас. Грамота при тебе, поэтому ничего не бойся. Действуй от моего имени. Если аббат не послушается, скажи, что я пошлю целое войско. Тогда он запляшет! Прощай, Уильям, у тебя честное сердце.
Грайндкоба окружили довольные односельчане. Теперь достойные сент-олбансцы окончательно успокоились. Если король и первый после него человек подтверждают права, дарованные пращурам со времен легендарного Оффы, значит, есть еще правда на многогрешной земле. И, преисполнясь отваги, они весело зашагали на восток. Вскоре угодья Майл-Энда остались у них за спиной.
Капеллан Джон Роу, чья дорога на юг пролегала через Лондон, пришпорил ленивого мула и затрусил к Уайтчепелу. Добравшись до границы городских поселений, он, вместо того чтобы въехать в Старые ворота, направился к госпиталю, решив прихватить Зосиму Грея, которого сам же послал искать Уота Тайлера на Клеркенвильском поле.
Но вместо верного подручного из прихода святого духа судьба послала капеллану другого земляка, видеть которого ему никак не хотелось. Пересекая Смитфилд, где возле походных шатров находилось множество рыцарей, Роу нос к носу столкнулся с госпитальером Стефаном Морлем, чей седберийский манор сгорел в числе первых. Сам Морль спасся чудом, отсидевшись в выгребной яме. Как иоанниту, а значит, прислужнику Хоба, ему угрожала верная смерть. Теперь роли переменились, как сплошь и рядом случается на войне. Опознав смертельного недруга, Стефан Морль поднял тревогу.
Капеллана стащили с седла и доставили к самому Бошану Уорику. Обвинителем выступил оскорбленный рыцарь:
— Ты видишь перед собой преступнейшего из пресвитеров, милорд. В канун праздника тела Христова он, не убоявшись греха, собрал толпу негодяев и стал науськивать их на именитейших граждан города Седбери. Они ворвались в мой дом, переломали, что под руку подвернулось, а после подпалили его с четырех концов. Мне удалось скрыться лишь по счастливой случайности. Грабители растащили припасы и утварь, а деньги поделили между собой. Я своими глазами видел, как этот богоотступник оделял моим серебром викария Парфи и служку Грея. Я требую смерти для недостойного служителя церкви.
Уорик смерил сухопарого попика пронзительным взглядом.
— Твои претензии справедливы, сэр рыцарь, — произнес он после длительного молчания. — Ты вправе требовать удовлетворения. Но кто мы такие, чтобы своей властью карать священника? Даже такого, как этот смердящий пес, поправший божеские заповеди и законы королевства? Связать разбойника и при первой возможности препроводить в тюрьму.
— Все тюрьмы разбиты, милорд, — осторожно подсказал Болинброк. — И никакой суд не сможет покарать злодея. Его милость король по бесконечной своей доброте простил сервам их ужасные преступления. Горстку пепла, — он коснулся медальона в вырезе джекка, — вот все, что мне довелось унести с пепелища Савоя. Поэтому я, как никто, понимаю рыцаря Морля. Только сам он и может быть судьей в этом деле.
— Отлично сказано, милорд! — Уорик церемонным поклоном поблагодарил молодого Ланкастера. — Забирай его, рыцарь, ты можешь делать с ним все, что захочешь, — и дал знак убрать пленника с глаз. — Повремени, — вдруг задержал он готового настигнуть добычу госпитальера. — Сколько спросишь за мозгляка?
— Он тебе нужен, милорд?! — воскликнул пораженный Морль. — Но зачем?
— Зачем? — Эрл задумчиво пощупал массивную серьгу с красным камнем. — Просто хочу уберечь от смертного греха милого моему сердцу рыцаря святого Иоанна Иерусалимского. Не пачкай рук, сэр Стефан. Если ты не против, я готов дать выкуп в сто фунтов.
— Да на что тебе такая дрянь, милорд?
— Так берешь сто фунтов?
— Он твой, милорд, — пожал плечами благоразумный Стефан де Морль, — хотя, видит небо, я потерял в тридцать раз больше.
— Наберись терпения, дружок, мы спросим все до последнего пенни. — Уорик кивком подозвал оруженосца. — Проследи за пленным, Оливье. Он нам еще пригодится.
На городской стене толпился народ, гадая о причинах нежданного сборища. Если готовится турнир, то почему нет трибун и не видно тяжелых доспехов. На военные приготовления тоже не больно похоже. Вроде бы и место неподходящее, и слишком мало людей. Сошлись на том, что будет праздник по случаю замирения. Значит, не сегодня-завтра из Лондона уберутся последние оборванцы. Наконец удастся вздохнуть спокойно и жизнь вернется в нормальную колею. Всем, кроме самой беспросветной голытьбы, осточертели ночные страхи и невольные утеснения. Работников, затравленных нуждой и облавами, не спрашивали. Им было не до прогулок. Трудовой день в мастерских длился с восхода и до заката.
Глава тридцать третья Вестминстерский собор
Все это увидят три века, пока не будут отысканы могилы королей, погребенных в Лондоне. Снова вернется голод, снова начнет свирепствовать смерть, и граждане будут скорбеть о разорении городов… В эти дни в лесах запылают дубы и на ветвях лип окажутся желуди… Лондон оплачет гибель двадцати тысяч людей, и Темза потечет кровью. Монахи начнут вступать в браки, и их выкрики будут слышны на альпийских вершинах.
В Гвинтонии-городе три родника вырвутся на поверхность, и ручьи, излившиеся из них, на три части рассекут остров.
Кто изопьет из первого, тот насладится долгой жизнью и не познает горести увядания; кто изопьет из второго, тот погибнет от неизбывного голода, и на лице его выступит бледность и печать ужаса; кто изопьет из третьего, того похитит внезапная смерть, и тело его нельзя будет придать погребению. Желающие избавиться от этой напасти будут стараться прикрыть источник чем-нибудь, но, какие бы груды ни наваливать на него, они лишь изменят свой облик. Ибо насыпанная поверх земля превратится в камни, камни в древесину, древесина в пепел, пепел в воду.
Гольфрид Монмутский. История бриттовСубботнее утро вновь было ознаменовано крестным ходом. Парящий над Сити шпиль собора святого Павла, казалось, дрожал от звона исполинских колоколов. Им вторила тяжелая бронза Варфоломея Великого, тревожно перебиваемая надтреснутым перебором звонниц Иль-Чэпел. Заупокойным набатом откликалась ротонда Темпла, где в базальтовых черных гробах мертвым сном спали последние командоры святого храма. Зубчатый парапет круглой церкви с узкими прорезями и ступенчатыми контрфорсами бросал удлиненную тень на крылатую химеру, позеленевшую от дождей и туманов. Сердцевидный язык геральдического чудовища яростно вибрировал, пустотелое нутро гудело.
Плакали грудные младенцы, тряслись припадочные, встревоженные горожане крестили лбы. Весело начинался денек, ничего не скажешь!
И слухи ползли, и множились ужасы. Черные птицы слетались к клоакам. Ватаги юродивых, попрошаек, калек, как стаи собак, догоняли монахов. Все язвы, бубоны, культи, лишаи тянулись за ними. Старухи вертели больную девчонку, чтоб стигматы были яснее видны на лбу, на ногах, на бессильных ручонках.
Процессия пересекла заливные луга, отделявшие Вестминстер от Лондона, и уже приближалась к руинам Савоя, когда из Ладгейта выскочили всадники королевского поезда. По знаку мэра, чье формальное дозволение требовалось всякий раз, когда двор проезжал через город, кортеж остановился.
Ричард спешился первым. Явив пример благочестия, он застыл, сойдя с дороги, в молитвенной позе. За ним последовали пэры и нотабли. В седлах остались одни гвардейцы. Склонив головы и сложив ладони, блистательная свита с показным смирением пропустила нищенствующую братию. Мир суетный склонялся пред миром вечным.
Епископ в лентах с крестами поднес распятие, и Ричард благоговейно приложился губами.
— Помолись за меня, святой отец! — воззвал он, глотая слезы. — Попроси божьего заступничества в деле, где бессилен человеческий разум.
Все, что только зависело от людей, было исполнено. Поэтому, как никогда, важна была поддержка свыше. Неудержимо приближалась развязка. Свидание с вождем мятежников надвигалось неумолимо, как рок.
Лорд Солсбери, который через городской совет вел переговоры, объявил, что встреча произойдет в Смитфилде, на пустыре, где уже загодя начали сосредоточиваться войска.
По совету Куртнея, замещавшего примаса, Ричард решил предпринять паломничество к могиле Эдуарда Исповедника.
Словно перед торжественной коронацией, он провел ночь в Белой башне Тауэра, где исповедался и причастился в капелле святого Иоанна. Разработанный Солсбери сценарий был знаком ему лишь в самых общих чертах. Несмотря на то что эрл принял меры на случай неожиданных осложнений, дело могло обрести крутой оборот, и король решил подготовиться к самому худшему. Истово веруя в охранительное могущество священных реликвий, он всеми помыслами рвался к веерным сводам, дерзновенно вознесенным в звездную бесконечность. Среди гробниц коронованных предков, в сумрачном мерцании золота и жемчугов, ему дано было пережить упоительное ощущение избранничества. Как хотелось повторить это волнующее преображение, этот взлет над бренностью естества, когда спадают оковы и освобожденный дух устремляется в запредельность.
Король, нежданно выказав ярко выраженную августейшую волю, оставил свиту и гвардию в Вестминстерском дворце. Пешком, словно бедный пилигрим, он в полном одиночестве явился к стенам аббатства. Преклонив колени у каменного барельефа святого Эдуарда, коснулся губами креста с четырьмя птичками в углах и постучался в ворота.
Тотчас распахнулась калитка, и настоятель в праздничной митре ввел долгожданного гостя под благодатную сень.
Для торжественной встречи выстроился весь капитул. Вновь целовалось чудотворное распятие, и щедрые благословения епископа следовали за возложением рук.
Ричард уже было забеспокоился, что церемония может затянуться, но аббат оказался человеком деликатным и умным. Своевременно оповещенный епископом Куртнеем, он на лету угадывал тайные влечения, предоставив венценосному юноше полную свободу.
Обойдя вдоль замкнутой галереи залитый солнцем клуатр,[102] Ричард проник в необъятный дормиторий — наполненный скрипами сводчатый зал, где глаза разбегались от изобилия деревянной резьбы и золотого шитья. Потемневшие полотнища, свисавшие с узорных консолей и балок, издавали вкрадчивый лепет. Отсюда винтовая, поющая под ногами лестница вела в капеллы.
Потеряв ощущение времени, король бродил по залам и коридорам, жадно вдыхая застарелые благовония, вслушиваясь в потаенный шепот веков. Собранные в пучки мраморные стволы раскрывались сказочными шатрами, спадавшими точеной кружевной сетью, где дробились, плавились, разбегались бьющие из розеток лучи. Всегда внезапные переходы от полутьмы к неистовству света кружили голову. Все повторялось в первозданности: ощущение распахнутой тверди и трепет ангельских крыльев. Ричард благоговейно замер, пораженный миражом гениально рассеченных объемов. Непомерная грандиозность собора раскрывалась именно отсюда, изнутри, словно бы прорываясь сквозь воздушность внешних, вдохновенно угаданных линий. Осязая себя ничтожнейшим из муравьев, маленький король радовался собственной малости, растворяясь без остатка в великом, трепеща и блаженствуя от близости неизреченных сил. В сопричастности с ними угадывалась надежда. Она звала ввысь, как лучистый треугольник, распахнувшийся среди туч. Во всем, куда ни глянь, проступало одухотворенное начало, отрицавшее уничтожение. Иначе зачем понадобились эти рвущиеся в зенит полнокровные тяги, эти своды, упругие, как натянутый арбалет? От изразцовых плит, которыми был вымощен зал капитула, веяло щекочущим холодком, а гладкий мрамор излучал живое тепло. Витражные окна полыхали чистой лазурью, тягучим медом, густым вином.
Король не заметил, как покатились слезы из переполненных блаженством и мукой очей. Ноги сами привели его в восточный придел, где на высоком мозаичном цоколе покоилась гробница. Двухъярусная аркада коринфского ордера сберегала золотой саркофаг. Каменный балдахин, изваянный лучшими итальянскими мастерами, подчеркивал его монолитную цельность. Здесь было средоточие божественной власти, частицу которой унаследовал он, отрок Ричард. Гложущая тоска оставила короля. Растопилась ледяная кора, что так больно сжимала сердце. Озирая надгробные памятники великих предшественников, он, воспарив духом, впервые увидел себя словно со стороны. Как бы ни сложилась судьба, в этом нетленном пантеоне всегда найдется для него место. Здесь он был коронован, здесь и успокоится навеки.[103] И все тревоги, раздиравшие его смятенную душу, все боязни и горести развеются без следа. Тайна, вечность и тишина.
Благодарно лобызая мозаичную смальту, Ричард распростерся на шахматных изразцах. Вот тут он и будет, когда дух, подобно мотыльку, покинет тесную кризалиду.[104]
Вспомнился слышанный в детстве рассказ про какого-то короля, который велел упрятать в сундук умирающего слугу. Когда бедняга затих, любознательный сюзерен повернул ключ и откинул крышку. На дне лежало скрюченное посиневшее тело. Душа улетучилась. Ричарду доводилось присутствовать при казнях и пытках. По-разному умирали люди. Но никогда он не видел, чтобы над растерзанной плотью хоть однажды взвихрился или хотя бы сморщился воздух и потек горячими слоями, как над пустошью вересковой, где садится в знойном тумане огромный солнечный шар. Преходящее существование теряло смысл без надежды на вечность. «Мы были такими, как вы, — днем и ночью стучатся в дверь мертвые кости. — Вы будете такими, как мы». Зачем страдания и утраты, бесцельная погоня, вожделение, суета? Хозяин земли сам превращается в землю. Ничего не надо жалеть. Беззаветная вера — вот единственный путь к спасению. Праведные дела, покаяние и молитвы. От Pater noster до Credo.
Пробыв около часа в молитвенном сосредоточении, король уединился с затворником, славящимся провидческим даром. Схимник, облаченный в грубую власяницу, говорил о вещах малопонятных и страшных, перемежая рассказ выдержками из Священного писания. Он долго распространялся насчет каких-то источников и камней, поминая пречистую деву. Далее последовал беглый экскурс в историю англов со ссылками на короля Артура и Эдуарда Исповедника. Из всей этой чудовищной мешанины в памяти осталось вскользь брошенное упоминание о Темзе, которая потечет кровью.
Под влиянием вставшей перед внутренним оком картины вновь пробудилось гложущее беспокойство. Все опять сосредоточилось на предстоящем испытании. Померкли краски, увяли ростки надежды, нахлынула муторная, всепоглощающая тоска. Голая келья с охапкой соломы сразу стала омерзительной. Бубнящий над ухом благостно-поучительный голосок вызывал раздражение. Оно поднималось откуда-то из склепа, укрытого плитами пола, и, поламывая суставы, разливалось тошнотворной изжогой.
Стиснув зубы и сжав кулачки, слушал король бессвязные речи. «Вот сейчас я встану, — убеждал он себя, — встану и удалюсь, едва обнаружится малейшая пауза». Но схимник все тянул на одной заунывной ноте, и король принуждал себя делать вид, что слушает. Терпеливо ожидая конца своей незаслуженной муки, он сжался, как обреченный на заклание агнец, и не смел пошевелиться. А затворник знай себе плел обморочную паутину:
— …И тогда послал святой Эдуард Исповедник вепря с клыками, как два острых меча, и выгнал его прямо на тропу, где уже натягивал лук коварный охотник. Вепрь напал на него сзади, вонзив клыки, и тот охотник упал, обливаясь кровью. Лук дрогнул в его руке, и пущенная вполсилы стрела пролетела мимо, а благородный олень спокойно удалился в свое зеленое царство. Так мудро распорядился святой Эдуард, твой небесный заступник.
По тому, как умолк выворачивающий нутро голос, Ричард понял, что пытка кончилась и он может уйти. Не слыша себя, король вежливо поблагодарил подвижника, низко поклонился ему и поспешно выскользнул из душной кельи.
За дверью его уже дожидался предупредительный аббат. Свита и капитул собрались к обедне. Тень на солнечном циферблате подбиралась к полуденной черте.
Упав в высокое кресло, Ричард повертелся, прилаживаясь к подложенной подушечке, и закрыл глаза. Музыка, пение и четко отмеренные цезуры латинской молитвы действовали успокоительно.
Но не успел он прийти в себя, как где-то сзади захлопали двери, послышался топот бегущих ног и гневные возгласы, раскатившиеся дробью отраженного звука. Службу пришлось прервать, прелаты и лорды обеспокоенно завертелись на скамьях. Нервы и без того были натянуты, и каждому не терпелось узнать, что же случилось. Сохраняя полнейшую невозмутимость, король устало закрыл глаза. Он готов был примириться с чем угодно, лишь бы его оставили в покое.
Каменные плиты все отчетливее разносили эхо приближающихся шагов. Аббат нерешительно попятился от алтаря со святыми дарами и нетерпеливо прищелкнул пальцами. Но не успел молодой монашек с гладко выбритой макушкой, которому предназначался знак, проскочить мимо исповедальной кабинки, как все увидели вбежавших ремесленников. Не обращая внимания на знатных прихожан и даже не притронувшись к чаше у входа, они кинулись прямо к священному саркофагу. По всему было видно, что знали, где нужно искать. Обнаружив в одной из кабинок забившегося в уголок беглеца, живо вытолкнули его на всеобщее обозрение, а затем увели.
По рядам пролетела шелестящая волна страха и возмущения.
— Бедняга! — воскликнул Бомонт с несколько запоздалым гневом. — Вот увидите, изверги потащат его на Чипсайд!
Король даже не повернул головы, хотя, конечно, узнал маршала Имуорса, начальника стражи и коменданта главной тюрьмы. Тюрьма лежит в развалинах, а маршалу скоро отрубят голову. Впрочем, как знать, вполне вероятно, что он, Ричард, умрет еще раньше. И он навсегда забыл Имуорса, которого тоже звали Ричардом.
— Дурной знак, — пробормотал граф Арондел.
— Замолчи, милорд, или одному из нас придется умереть, — тихо предостерег Солсбери.
— Я готов. — Граф схватился за меч. — Пора действовать, и немедленно, иначе будет потеряно все, ради чего стоит жить!.. — незаметно для себя он возвысил голос до крика. — Признайся, эрл, твой план трусливых оттяжек окончательно провалился!
— Напротив, он приносит плоды, и только слепой этого не видит! — Всегда выдержанный и строго корректный, Солсбери был вне себя от гнева.
— Образумьтесь, милорды, — вмешался Арондел-епископ. — Нашли где ссориться и когда!
Дневной распорядок был исчерпан до донышка.
Король преклонил колени, принимая последнее благословение, с трудом проглотил облатку.
— Пора ехать, — сказал Солсбери.
Уот Тайлер уже неторопливо трусил вдоль Чипсайда, направляясь в Смитфилд. Били фонтаны — шедевры водопроводного искусства. По широкой мостовой вдоль акведука торопливо сновали пугливые горожане. Рыночная площадь, Молочная и Хлебная улицы, как всегда в это время, были запружены озабоченным людом. Но не слышно было шумных приветствий, не видно улыбок. За два дня, всего за два долгих дня и две бессонные ночи, в настроении города произошел перелом. Даже преданные союзники, вроде Хорна и мастеров-ткачей, отшатнулись от новой власти. Потому так замкнуты, а то и откровенно враждебны были лица жителей Сити. Они готовы были примириться не только с Гонтом, но с самим дьяволом, лишь бы поскорее спровадить пришельцев. На углу Треднидл-стрит конных повстанцев окружила кучка молодых подмастерьев.
— Будь осторожен, Джон Правдивый, — предупредил рослый бородач в кожаном переднике. — Уолуорс затевает нехорошее. Слыхал я, что до света из Сити к Варфоломею Великому прошли вооруженные люди.
— Они натравливают на твоих парней купеческих сынков и пьяную шваль, которую собирают по кабакам, — сообщил огненно-рыжий ирландец, обвешанный мотками стальной проволоки.
— Я сам видел, как их покупали в «Таверне дьявола», — подал голос темнолицый стекольщик. — Старшина рыбников ставил эль, а на дне уже лежал пенс.
— И никто не подавился? — Тайлер с улыбкой похлопал стекольщика по плечу. — Спасибо, братья. Я буду начеку.
— Если они посмеют сотворить подлость, мы спалим город! — крикнул кто-то из молодежи.
— Уж мы им покажем! — каждому хотелось сказать ободряющее слово. — Только не уходите, братья. На вас вся надежда.
Со всех сторон набегали люди, чтобы принять участие в разговоре или просто поглазеть на знаменитого вождя бедноты. Поставив корзины с провизией, останавливались служанки и разодетые купчихи. Мадам олдерменша, подобрав шлейф, даже пустила в ход локти:
— Ну-ка, дайте пройти, а то ничего не видно!
И добилась своего, плюнув под ноги белой лошадке.
Только бедняжке Гвенделон не удалось пробиться сквозь враждебную стену ротозеев. Еще издали заметила она зеленого всадника и выбежала из лавки, где подбирала нитки для вышивания. Но коротенькая Треднидл была основательно закупорена.
— Пропустите меня, умоляю, мой дружок возвратился из дальних земель, милый рыцарь, убитый в крестовом походе!
Но в ответ она слышала лишь издевательский смех:
— В каком-каком походе?.. Да ты, видно, рехнулась, девчонка!
— Да она с пеленок такая, Безумная Гвен!
— Дура-колдунья.
— Спаси меня, милый! — Гвен испуганно вскрикнула и закрыла лицо.
Но Тайлер не слышал. Джон-оруженосец и Джек Строу с трудом расчищали дорогу.
Волновался народ, шумела вода, сбегая с лотка на лоток, из мраморных чаш вырывались три высокие струи.
Глава тридцать четвертая Западня
Уста Роланда кровью все покрыты, И на висках его глубок разрыв. Трубит он в рог, страдая, как на дыбе… …К оружию, и киньте клич призывный. Песнь о РоландеТот же июня пятнадцатый день в знойном мареве предзакатном. Над Смитфилдским полем, где ярмарки в праздник Варфоломея, а по пятницам торгуют скотом, нежно колышется пылевая завеса. Безмятежность, томление. Пахнет полынью, цветет ромашка, ящерки шныряют по горячим камням. В трещинах кладки угнездились молодые кленки, проросшие из принесенных ветром семян. Все проходит и возвращается вновь под эпициклами вещих планид. Взметнется вихрь и осядет, припудрив затоптанный подорожник.
За валами, поросшими густым бурьяном, коротко отзвонили к вечерне. Повеяло лаской родного дома, улеглись треволнения.
Повстанческие силы расположились вдоль городской стены, а на другом конце пустыря, возле госпиталя, темнел строй рыцарей. Это никак не походило на противостояние. Слишком уж очевиден был численный перевес народного войска. Рыцарский стан еле различался в пропыленной дали, но едва ли он насчитывал свыше двух сотен.
Слухи о готовящейся ловушке казались напрасными. Впрочем, никто из вождей и не принимал их всерьез. Точно так же не стоило придавать особого значения настроениям переменчивых горожан. Не отличаясь мнительностью, простодушные кентцы не обращали внимания на подобные мелочи. Пока есть кусок хлеба и охапка соломы для спанья, можно не волноваться. Пусть не бросают цветы, как в первый день, и даже злобно шипят за спиной, лишь бы не швырялись камнями. Даст бог, опомнятся и еще благодарить станут. Справедливость не ведает межевых знаков, она над всеми одна. Поэтому и спали они спокойно в оцепеневшем от страха городе, когда на залитых лунной ртутью улицах лилась кровь и скользили зыбкие тени.
В ожидании прибытия короля Уот Тайлер отбивал наскоки нетерпеливого Строу. Он был рад, что не поддался давлению крайних, когда общины массами начали покидать Лондон. Силой все равно никого не удержишь. Да и много ли проку от бойца, которого приходится подгонять палкой? Зато разлетевшиеся во все концы грамоты сослужили добрую службу. Люди осмелели, поверили в свои силы, решительнее ополчились против изменников и порочных порядков. И хотя то там, то здесь вспыхивающие очаги обычно не распространялись за границы района, восстание неудержимо охватывало юг и восток, продвигалось далеко на север. Точных его масштабов не знал никто: ни Тайлер, ни тайный совет королевства. Не то что с отдаленными, но даже с соседними графствами не существовало надежной связи. Но, судя по сведениям, поступавшим из Чизика, Хендона, Клепхема, Крайтона, восстание определенно одерживало верх.
На предложение Строу захватить короля Тайлер вновь ответил решительным отказом.
— Нельзя прибегать к обману, коль мы хотим, чтоб и дальше все было по правде. Сила на нашей стороне. Хочет король или нет, но ему снова придется уступить.
— В наших руках он станет еще сговорчивее.
— Очень может быть, кто спорит. Но соловей не поет из клетки. Кто станет слушать пленного? Вспомни Иоанна-франка, которого держал у себя Черный Принц. Мало он подписал бумаг? А что из этого вышло?.. Или ты желаешь, чтобы магнаты передали трон Гонту? Уверяю тебя, они это сделают.
— Нам ли бояться Гонта? — Строу презрительно сплюнул. — Я достану его из-под земли. Только скажи.
— Придет срок, достанешь, — степенно кивнул Тайлер. — А пока Гонт удерживает шотландцев. Зачем новая война, когда и без того забот хоть отбавляй? Побеждает тот, кто умеет ждать. Важно не ослаблять напор… Ты как считаешь, Джон Шерли?
— Я согласен с тобой. Мы не уйдем из Лондона, пока не добьемся своего, — как-то не очень уверенно поддержал Шерли. — Но Строу тоже по-своему прав. Зачем нам вообще нужен молодой Ричард, если мы решили дать англичанам справедливый закон?
— Сколько было говорено, а вы все о том же! Не вся Англия готова воевать с целым светом! Грамоте, подписанной королем, волей-неволей, но подчинится любой прелат или мэр. В руке Ричарда ключ ко всем замкам… Вот пусть он их и открывает. Один за другим. Сегодня мы пойдем в своих требованиях дальше, друзья. Это я вам обещаю.
— Почему не взять все сразу? Вырви ключ или отсеки руку, — хрипло бросил Джек Строу.
— Скажешь это на «Большом обществе», когда оно соберется, — остался непреклонным Уот Тайлер. — А пока будем действовать так, как решили. И не вздумай, Джек, самовольничать, иначе я не посмотрю на дружбу.
— Уот рассудил верно, — Шерли положил руку на плечо Строу. — Хватит спорить.
Нетерпеливо поглядывая в сторону ворот, Тайлер прошелся перед строем. Кентцы приобрели вид заправских вояк: боевое оружие, синие шлемы, стало больше добытых в походе щитов. Некоторые замазали чужие гербы белой краской, пририсовав алый крест. На белых флажках пламенели те же знаки Георгия Победоносца. Знамена с вертикальными прорезями по нижней кайме были развернуты.
Король запаздывал.
Но вот пронзительно прохрипели рога, и со стороны Вестминстера показалась взвихрившая пыль кавалькада. Никуда не сворачивая, она помчалась прямо к воротам госпиталя. В рядах послышался ропот. Тайлер недоуменно переглянулся со своими сподвижниками. Король определенно отказывался повторить церемонию встречи в Майл-Энде. Не искушенные в тонкостях протокола повстанцы принялись строить предположения.
Большинство склонялось к тому, что Ричард просто-напросто струсил, как тогда в Ротерхайте, и теперь за стенами госпиталя кипит ожесточенная перебранка между пэрами. И невдомек было, что разработан подробный план, где учтена каждая мелочь. Холодный ум Солсбери предусмотрел и этот стремительный пролет мимо строя, и солнце, зависшее над госпитальными шпилями. Ричарду, который всегда покорялся направляющей воле, не дано было права даже на страх. Он был не более чем деталью, впрочем существенной, рискованного замысла. Определенная роль отводилась и самим повстанцам, которые и сыграли ее, неведомо для себя, когда заняли предусмотренную для них позицию. Недаром всю ночь простояли шатры с навершиями в виде графских и баронских венцов, искусно разбросанные по всему пустырю. Встреча в Майл-Энде не прошла без следа. Напротив, была разобрана методичным Солсбери по косточкам и скрупулезно исследована. Теперь двор мог действовать с открытыми глазами.
Потянулись томительные минуты ожидания. Раскаленное светило, едва перемещаясь вдоль горизонта, все так же било в лицо. Взгляды были прикованы к госпиталю, и никто не обратил внимания на появление внушительного отряда лондонских ополченцев с Уолуорсом во главе.
Расставив людей по обе стороны от Ладгейта, мэр затрусил прямо через поле.
— Его милость король ждет Уолтера Тайлера возле Варфоломея Великого, — стрельнув заплывшими глазками, сообщил он. — Следуй за мной.
Тайлер пожал плечами и с независимой усмешкой вскочил в седло. Следом за ним поскакал Джон-оруженосец, крепко сжимая древко со знаменем.
С незначительными вариациями повторилось майл-эндское свидание. Повстанческий вождь спрыгнул с седла, преклонил на ходу колено и неторопливо приблизился к королю.
— Будь спокоен, брат! Скоро наши дела наладятся. Общины соберут для тебя пятнадцатую деньгу, и казна снова будет полна. Уж теперь-то никто не осмелится прикарманить.
— Здравствуй, Тайлер из Кента, — через силу улыбнулся король, позабыв, как именовал самозваного брата. — Зачем ты вдруг заговорил о деньгах?
— Да потому, что верные общины разделяют твои заботы.
— Я рад, если это действительно так. — Ричард оглянулся, пряча глаза. — Но мне странно видеть тут тебя и твоих друзей. Разве вы не получили всего, чего желали? Почему не ушли, как договорено было?
— Клянусь всем святым, что мы не уйдем, пока не будут отменены неправильные законы, — Тайлер упрямо тряхнул головой и, чтоб слышали придворные, громко прибавил: — Если лорды воспротивятся этому, то только для них будет хуже.
— Ты угрожаешь, Уолтер Тайлер?
— Говорю как есть. Или ты не обещал во всем советоваться с общинами?
— Я готов благосклонно выслушать ваши предложения.
— Прежде всего нужно разделить по справедливости землю, как то было при дедах, — начал перечислять Тайлер, стараясь ничего не упустить. — Кто сейчас распоряжается лесами, озерами, реками? Одни сеньоры. Разве честно? Пусть каждый, кто хочет, богатый или бедный, ловит рыбу, травит зайцев в полях, стреляет птицу. Если отменить все законы, кроме Винчестерского, все в королевстве будут равны и ты один встанешь над всеми.
— И это все? — Король был непритворно поражен. Даже до него, не слишком искушенного в государственных тонкостях, дошла поразительная наивность новых требований. Повстанцы пытались придать видимость закона патриархальным мечтаниям лоллардов.
— Это самое главное. Затем нужно немедленно даровать свободу вилланам. Человек не должен владеть другим человеком, словно бессловесным скотом.
— Разве не с этого начинались ваши петиции? Я согласен с тобой, Тайлер, и сам считаю вилланство наибольшим из зол.
— Подтверди свои слова в открытой грамоте, и верные тебе общины возрадуются еще больше. И все будут свободны и равны перед богом. Никто не может быть объявлен стоящим вне закона. Лорды не должны возвыситься над общиной. Даже епископы. Крестьян угнетает целая орда жадных клириков. Пусть в Англии останется только один епископ. На содержание священников и монахов нужно выделить столько земли, сколько необходимо для прокормления, а остальную раздать малоимущим.
— Все? — нетерпеливо переминаясь, спросил король и оглянулся, ища Солсбери.
— Тебе останется лишь покончить с разоряющим страну произволом, — подумав, кивнул Уот Тайлер. — Отмена неправильных законов, вроде Статута о рабочих, означает возвращение отнятых прав.
— Твои советники предусмотрительны и разумны, — облегченно вздохнул король и вновь оглянулся. — Все, что ты перечислил, я охотно вам пожалую, если только это совместимо с правами моей короны. Надеюсь, теперь вы сможете удалиться с легким сердцем?
Поверхностно внимая простой и суровой речи, Ричард не пытался вдуматься в суть. По сценарию, всех перипетий которого он и сам не знал, ему полагалось лишь соглашаться. Но даже то малое, что было уловлено слухом, показалось совершенно немыслимым. Босоногие, оказывается, мечтали возвратиться к обычаям столетней давности, словно при Эдуарде Первом не существовало ни рабства, ни сословных привилегий! Что ж, тем легче было обещать исполнить их бредни. Когда сумасшедшего собираются заковать в цепь, с ним не спорят. Ричард уже не чувствовал ненависти к вожаку помраченного сброда. Остро ощутив собственное недосягаемое превосходство, он испытал нечто вроде брезгливой жалости.
Эрл Солсбери, внимательно ловивший каждое слово, полагал, однако, иначе. Он сразу схватил главное. Этот Тайлер вовсе не стремился выправить негодный правопорядок, но, пользуясь законом, как рычагом, замыслил уничтожить его на корню. Честолюбец и интриган Арондел не ошибся. Дай им еще чуточку воли, и вокруг действительно не останется ничего, чем бы стоило дорожить. Невзирая на риск, следовало переходить ко второму этапу. Эрл вынул платок, встряхнул его и вытер шею. Он и в самом деле взопрел, напряженно ловя расчлененные расстоянием звуки.
Составившись в некую целостность, они прозвучали как приговор.
Раздвинув плотно стоявших рыцарей в долгополых шелковых плащах, на передний план выпрыгнул обряженный валетом Бомонт.
— Кого вы слушаете? — заверещал он ненатуральным шутовским фальцетом. — Это же первый вор и разбойник в Кенте! — И юркнул, показав нос, обратно.
Тайлер застыл на месте, чувствуя, как под ним закачалась земля. Оскорбление было столь чудовищно и вместе с тем смехотворно, что он на мгновение растерялся. Перед ним были издевательски гогочущие рожи и трясущиеся тряпки на животах, размалеванные зверями и птицами. Затерявшись в толпе, мальчишка продолжал изливать грязную хулу.
Тайлер сумел пересилить гнев и, обращаясь к королю, потребовал:
— Понося меня в твоем присутствии, брат Ричард, твой слуга наносит обиду тебе. Пусть он выйдет!
Но король, предусмотрительно отступив под защиту придворной челяди, тоже смеялся. Он едва держался на ногах, изливая в конвульсивном припадке пережитое напряжение. Понимал, что ведет себя недостойно, но ничего не мог поделать. А скорее всего, не понимал.
Его выход благополучно закончился, теперь перед ширмой кривлялся другой паяц, и можно было нахохотаться всласть.
— Я знал твоего деда и отца, — гадливо поморщился Тайлер, потянувшись к своей Златогривке.
Но ему не дали уйти. Растянувшись цепью, заключившей повстанческого вождя в круг, благородные кавалеры сами вытолкнули глумливого пажа. Была, была система в безумной игре. И правила были. Ущербность души и задавленный страх подсказывали лишь вариации поз и движений. Сбивали с толку ужимки сиятельных шутов, и не осталось времени разгадать, что за шулерскими пасами скрывалось злодейство.
— А я видел, как твоих сварили в котле. — Словно заправский фигляр, колесом прошелся королевский наперсник. — И сам ты сорвался с виселицы!.. Отрубите мне голову, ваша милость, если хоть в чем-то солгал, — подкатился он к королю.
Ричард, для которого такое соседство могло стать опасным, отошел еще дальше. Отсмеявшись, он готовил себя к следующему номеру.
Только сейчас Уот Тайлер догадался, что вокруг него сжимается петля смерти. Вытащив кинжал, то ли для того, чтобы покарать оскорбителя, то ли с целью защиты, он ринулся на ближайшего противника. Но чьи-то зоркие очи подстерегали каждый шаг. Плясуны отскочили назад, петля изогнулась восьмеркой, скрыв юного Бомонта и выставив Уильяма Уолуорса.
— Остановись, Уолтер Тайлер! — потребовал он и, пригнувшись как для прыжка, выставил меч. — Ты осмелился обнажить оружие в присутствии короля и подлежишь за это аресту.
Тайлер нанес удар снизу вверх, по-испански, но лезвие уперлось в кольчугу, надетую под плащом.
Уолуорс обеими руками обрушил клинок на склоненную голову. Тайлер попытался увернуться, и рукоятка рассекла ему висок. Коротко заржав, верная лошадка взвилась на дыбы, заслонив смертельно раненного хозяина. Ослепленный кровью, Тайлер на ощупь поймал стремя и в последнем отчаянном броске ничком свалился поперек седла.
Оруженосец Джон рванулся было на помощь, но его стащили с коня и закололи. Под геральдическим шелком таились мечи и рубахи из стальных колец и бляшек. Златогривая затравленно шарахалась из стороны в сторону и не могла выскочить из капкана. Всадники свиты с гиканьем полосовали окровавленное, еще способное содрогаться и корчиться тело, изливая клокотавшую в горле злобу, мстя за пережитый испуг.
Получив свыше двадцати ран, тело было мертво, но несгибаемый дух еще жил, питая искромсанную плоть неподвластной уничтожению силой. Искалеченный всадник сумел перебросить ногу через седло и, приподняв голову, бросил лошадь в узкую щель, промелькнувшую между чужими попонами. Златогривка вырвалась и полетела через пустырь, роняя маки средь белых ромашек. Солнце, зависшее над острым коньком госпитальной крыши, зажгло даль пунцовым пожаром. Тень обезумевшей лошади косо летела сквозь дым.
Уот Тайлер сделал попытку выпрямиться, перевесился на бок и рухнул в бурьян.
Повстанцы, с тревогой следившие за сверканием стали, заволновались. Лучники выхватили из-за плеча стрелы, йомены Хоукера подмяли отряд ополченцев из Мидлсекса, строй развалился. Отдаленность и это багряное полыхание скрывали черты.
Толком никто ничего не увидел, но тем сильнее потрясло разом овладевшее всеми предчувствие обрушившейся на голову непоправимой беды. Распались упорядоченные связи, превращавшие толпу в армию. Восстановить их могло только Слово. Не приказ, а именно Слово, неотделимое от беззаветной веры. В переломный миг, когда обратиться в повальное бегство столь же просто, как и в едином порыве опрокинуть врага, такое Слово равносильно чуду. Но командиры пребывали в растерянности. Потрясение, усугубленное неизвестностью, оказалось настолько глубоким, что люди потеряли себя. Это не было паникой в привычном смысле, а скорее затмением, параличом, порожденным тем особым типом сознания, которое назовут средневековым уже в иные времена.
Повстанцы, бросившие дерзновенный вызов жестокому и мрачному веку, оставались его детьми. Поборники Правды, они оказались беззащитны перед обманом.
Слово молвил король.
Скача во весь опор, он пронесся вдоль вала, затем осадил танцующего коня, стараясь не слишком приближаться к толпе, и прокричал нечто маловразумительное:
— Изменники наказаны по заслугам!.. Требования удовлетворены!.. Тайлер посвящен в рыцари!.. Он велел идти на Клеркенвельское поле… Все за мной! — И ускакал в указанную сторону, жадно хватая воздух.
Скрывшись из глаз, Ричард описал дугу и вместо поля святого Иоанна Клеркенвельского помчался в Сити, где его уже дожидался Уолуорс с отрядом наемников.
Не к рассудку были обращены надсадные выкрики короля. Скорее, к захлестнувшему разум инстинкту. Было ли то бурной импровизацией или заранее заготовленной речью, расчлененной волнением, спутанной скачкой? Но она хлестала, как кнут, гоня спотыкающихся людей на далекое поле. Чудом вынырнув из бездны отчаяния, они бежали, не чуя ног. Безудержный восторг поднял их на крылья. Неземное сияние объяло весь окоем.
Кто мог отвергнуть откровение свыше? Не принять на веру безоговорочно? Усомниться хоть в душе?
А король уже лежал на руках подобострастных нотаблей и никак не мог отдышаться. Щеку свела судорога, и глаза были белее лица. Готовое выпрыгнуть сердце трепыхалось у самого горла. На все расспросы он отвечал бессмысленным мычанием, сопровождавшимся хрипом.
Эрл Солсбери не жалел ставок.
План вступал в завершающую стадию.
Пока окрыленных повстанцев несло на север, где за пшеницами дотлевал Второй парадиз, герольды и скороходы спешили оповестить главных участников заговора. Сэр Роберт Нолз занял позиции близ Ньюгейта, будущий рыцарь Брембром и будущий рыцарь Филпот, возглавившие наемников, держали под прицелом кварталы Сити. Для тех, кто собрался в поле, это означало клещи, для оставшихся в городе — мышеловку.
Олдермены Хорн и Сайбил, устав прятаться, пробрались в башню на городской стене. Раздираемые противоречивыми чувствами, они равно не симпатизировали обеим враждующим сторонам. Но кровавая расправа произвела на обоих настолько гнетущее впечатление, что они едва устояли на парапете.
— Вот когда начнется настоящий кошмар! — пророчески бросил потрясенный Хорн. — Нужно действовать, пока можно хоть что-то спасти.
Заметив передвижение войск, они кинулись вниз, призывая стражу запереть все городские ворота.
Но всплеск сострадания оказался несколько запоздалым. Если Олдерсгейт еще удалось перекрыть, то возле Уэстчипа уже орудовали молодчики Уолуорса. Бегущие повстанцы представляли собой легкую добычу. Все было кончено.
Джон Хорн так и сказал об этом Сайбилу.
— Впору подумать о собственной шее, — ответил олдермен.
Рыцари коннетабля Нолза и завербованная Уолуорсом пьянь с двух сторон обтекали Клеркенвельское поле. Однако, дойдя до Смитфилда, отряды почему-то остановились.
Не чувствуя в душе полководческого дара, неутомимый мэр вернулся в Смитфилд за трупом Тайлера. Не обнаружив тела на месте, он, как гиена, отправился по кровавым следам, которые привели прямо в госпиталь.
Беспамятный, но, по всей видимости, еще живой вождь лежал в келье смотрителя. Уолуорс стащил его с постели и выволок во двор. Прицельно взмахнув несколько раз мечом, он в два приема отрубил голову и насадил ее на копье.
Проехав с трофеем через весь город, герой дня поспешил предстать перед королем, который уже оправился от потрясений.
Ричард смеялся, расхаживая вокруг древка, и вся его свита смеялась. Осмелевшие рыцари рвались в бой, подбадривая друг друга хвастливыми выкриками. Руки так и чесались окончательно разделаться с бунтовщиками.
Весть об убийстве, облетев Лондон, достигла Клеркенвельского поля. «И когда общины увидели, что их предводитель Уот Тайлер умер таким способом, они пали на землю среди пшеницы, как люди, убитые горем», — донес до нас свидетельство анонимный хронист из аббатства святой Марии в городе Йорке.
В тот достопамятный год Клеркенвельское поле было богато хлебом. Кто рыдал, закрывая лицо, кто в бессильном гневе катался по земле, вырывая подрастающие колосья. Люди ожидали встретить ликующего вождя, а им поднесли его голову. Король, которому верили почти как господу богу, оказался низким лжецом. Встав на сторону изменников против общин, он сам превращался в изменника.
Поруганная, оскорбленная вера взывала к мести.
Предвидя такую реакцию, эрл Солсбери, которого потом горячо поддержал Роберт Нолз, посоветовал не искушать судьбу и не преследовать бунтовщиков.
— Нужно вернуть рыцарей, — он подозвал герольда и, обернувшись к Уолуорсу, приказал: — Как только наши войдут в город, вели запереть ворота, достопочтенный.
— Сначала я растопчу негодяев! — фыркнул Уолуорс, не выпуская окровавленного меча.
Солсбери, не удостоив его ответом, поманил Бомонта.
— Скачи в Уордроб и займись писцами. К утру грамоты должны быть готовы.
— Как? — удивился ряженый рыцарь. — Разве…
— Да-да, — кивнул Солсбери. — Важно поскорее убрать сброд как можно подальше, а там мы найдем безболезненный способ восстановить первоначальное положение.
— Что за недостойная трусость, милорд? — воспротивился Ричард Арондел. — Наоборот, следует раздавить голодранцев, пока они не опомнились!
— Король обещал им свободу и безопасность, а слово короля — золотое слово. Не так ли, милорд? — Солсбери покосился на временного хранителя, как на неприятное насекомое. Наглеца, из-за которого чуть не сорвалась вся операция, следовало проучить. И крепко!
— Я никогда не поставлю государственную печать!
— Что ж, придется попросить кого-нибудь другого, — пожал плечами стареющий дипломат и обвел глазами придворных.
Арондел осекся, но быстро принял независимый вид и постарался поближе придвинуться к сюзерену.
Склоняясь на сторону графа, Ричард не участвовал в споре. Конечно же, ему не хотелось подписывать эти гадкие листы, но, если пэры решат, что так нужно, он подпишет.
Взгляд короля задержался на мэре.
— Подойди сюда, милорд, — ласково подозвал он. — И дай свой славный меч.
Раздувшись от гордости, Уолуорс схватился за клинок и рукояткой вперед почтительно подал оружие.
— Вот, милорды, кому мы обязаны сегодняшним торжеством! — провозгласил Ричард. — Кто-нибудь может одолжить шлем?
Бошан Уорик молча снял с себя украшенный лебединой шеей шлем.
— Надень это, — кивнул мэру король.
— Но зачем, ваша милость?! — не смея верить своему счастью, воскликнул Уолуорс.
— В знак благодарности за оказанную тобой услугу я возвожу тебя в рыцарское достоинство. Стань на колени.
Уолуорс упал как подрубленный и принялся дрожащими руками напяливать шлем.
— За что мне такая честь? — жалко лепетал мэр, с трудом справляясь с железной застежкой. — У меня ведь даже нет необходимого состояния, я простой купец и живу торговлей…
Он не прибеднялся. Дворянство в Англии могло предоставить только земельное держание, а веселые дома были не в счет.
Король не без удовольствия шмякнул по его согбенной спине, оставив на светлом сукне кровяной отпечаток.
— Жалую тебя рыцарем и дарю манор с доходом в сто фунтов… Теперь можешь встать, сэр Уильям.
— Прими мои поздравления, сэр! — Эрл Солсбери первым заключил в объятия новоиспеченного благородного рыцаря. — Англия никогда не забудет твой подвиг!.. Нам предстоит крепко потрудиться, — он элегантно перешел на буднично-доверительный тон. — Нужно без промедления огласить новый приказ короля. Дабы не нарушить привилегий и вольностей нашей столицы, я бы хотел обсудить с тобой проект.
Долго мудрить над текстом не представлялось возможным, но ошалевший от восторга Уолуорс и не думал цепляться к мелочам. Как было набросано на скорую руку, так и пустили без всяких поправок. Даже не заметили впопыхах, что употребили самый что ни есть голодранский термин: «королевский изменник».
Еще не закатилось солнце этого страшного дня, окрасившее небо над клеркенвельскими нивами в кричащий багрянец, а три олдермена, также удостоенные золотых шпор, уже читали на площадях и перекрестках:
— «Всякий, кто не принадлежит к лондонским уроженцам и кто не прожил в столице в течение целого года, должен немедленно оставить пределы города под страхом быть признанным королевским изменником и поплатиться головой…»
Приказ был оглашен и выслушан, никто не имел смелости его нарушить, и в ту же субботу весь пришлый люд удалился из города. Понуро брели на ночь глядя, а в небесах над еще не остывшим закатом всходила луна, ущербленная с правого края.
Возле церкви святого Мартина прихожане обнаружили мертвое тело со следами жестоких побоев.
— Это же Безумная Гвен! — узнал кто-то, заглянув в прекрасное даже в смерти лицо.
— Бесовка!
— Невеста того самого Джона Правдивого!
— Не может быть!
— Да она сама говорила! Все подтвердят…
— Бедная слабоумная, упокой господь ее душу.
Приходский священник отказался похоронить деву в пределах кладбища, и сердобольные люди тайно зарыли бедняжку на Смитфилдском пустыре.
Быть может, где-то поблизости от того места, где упал с Златогривки Уот Тайлер.
«Красивая и прекрасная», — отзывались о ней неравнодушные к синонимическим парам менестрели. «Он скончался и умер», — звенели их вещие струны, прославляя повстанческого вождя.
Они не знали друг друга в жизни, Тайлер и Гвенделон. Нельзя говорить даже о мимолетном пересечении судеб, поскольку встреча не состоялась. Так, случайная морщинка на мертвых водах Леты.
И легенда не соединила их имена.
Зато кое-какие черты Черепичника Джона, ставшего оруженосцем, перенесли на Уота Тайлера-вождя. Достоверно о нем почти ничего не известно. Даже точное написание имени, прославленного в веках, до сих пор вызывает споры. Хронисты запечатлели его на трех языках и в нескольких вариантах. Писанная на официальном французском Петиция общин в Седьмом парламенте Ричарда Второго называет его «Wauter Tylere del Countes de Kant» («Уот Тайлер из графства Кент»).
«Walterus Teghelere de Essex» («Уолтер Тайлер из Эссекса»), — осталась запись присяжных Даунгэмфордской сотни, что в графстве Кент.
Есть еще латинская версия: «Walteri Tegheler», английская — «Wat Tighter of Maidston» («Уот Тайлер из Мейдстона»), и вновь по-французски — «Walter Tegheler de Essex», поминает мемсберийский монах.
Сияющая комета, явившись из тьмы, девять ночей всходила на горизонте, затмевая другие светила. Закончился девятый день, и она больше не появилась.
Глава тридцать пятая Огненный сапожок
Король Вильгельм разослал по всей Англии судей и дал им предписание разведать, сколько акров земли в каждом поместье может быть обрабатываемо в год одним плугом и сколько нужно скота для запашки одного гида. Они были обязаны, сверх того, отобрать известия о годовом доходе городов, замков, селений, местечек, рек, болот, лесов и о числе вооруженных людей, находящихся в каждой местности. Эта опись была отправлена на хранение в Вестминстер в Королевскую казну
Книга страшного судаВождь убит и погиб — скорбь множит синонимы, его угасшие очи глядят на усмиренный Лондон с воротной башни моста, но живо восстание. Как выплеснулось наружу в маленьком городке, так и полыхает по деревням и сотням, подобно подземному жару, ползущему в торфяной толще.
Где мощнее пласты, где суше перегнившие волоконца, там и вспыхнет.
Не скоро еще расползутся известия о смитфилдском злодействе. Даже не слезая с коня, больше тридцати миль не проскачешь за сутки. Масштабов восстания, зримых его границ не знают ни власти, ни тем более оторванные друг от друга вожаки крестьянской и городской бедноты. Карта в новинку, и не в обычае втыкать флажки. Но если мысленно прибегнуть к такой процедуре, то получится замкнутое пространство, очень похожее на сапожок. Его огненный контур охватит всю Англию. Шпора в Норфолке, носок в Девоне, подошва огибает почти все южное побережье. Так же вдоль берега (восточного) поднимается вверх линия голенища. И на западе она следует вдоль кромки залива до самого Глостера, где, круто взмывая на север, прожигает Уорик, Страффорд, Дерби, Ланкастер и Йорк. Лондон в пылающем кольце, воедино сливаются жгучие очаги восточного приморья, но, чем глубже внутрь, тем реже пламя — где полыхает, а где только тлеет. И письма летучие Джона Болла, как чайки, жмутся поближе к волнам.
Граждане Денстебла в Бедфордшире, осадив монастырь, потребовали у аббата освободительных грамот. От имени восставших переговоры вел мэр Томас Хоббес.
— Король приказывает тебе, чтобы ты написал для его денстеблских горожан грамоту вольностей, какие они имели во времена Генриха Первого, — потребовал он и сумел настоять на своем.
Немало беспокойства доставил Королевскому совету непокорный Суффолк, где были казнены Джон Кембриджский, приор аббатства святого Эдмунда, и главный судья Королевской скамьи Джон Кавендиш, разбиравший дела о нарушителях рабочих статутов.
В Норфолке успешно действовали отряды во главе с Джеффри Листером, красильщиком из Фелмингема, и рыцарем Роджером Беконом из селения Беконтроп. Так, уже в понедельник семнадцатого июня, когда в Лондоне заседал чрезвычайный трибунал и спешно сколачивались виселицы, восставшие взяли Норич.
Смело и решительно устанавливали новую власть отряды Джона Хенча, Гальфрида Коба и Роберта Тенелла в Кембриджшире. В окрестностях самого Кембриджа была сожжена усадьба мирового судьи Томаса Хеселдена, ставленника Гонта, нападению подверглись также маноры госпитальеров и усадьба шерифа Инглиша. В упомянутый понедельник присудили к смерти мирового судью Эдмунда Уолсингема и штурмом взяли епископскую тюрьму жители острова Или.
Такого же рода события происходили в Хантингдонском и Нортгемптонском графствах, в Линкольншире и Дерби, Гемпшире и Дорсете, Беркшире и Сомерсете. В Йорке, где беспорядки начались еще прошлой осенью, восстанием руководили городские власти с бейлифами и мэром во главе.
Любопытный эпизод случился в столице графства Лестершир. Мэр Лестера, человек Гонта, сохранив верность короне и своему покровителю, с распростертыми объятиями принял прибывшего из Лондона хранителя гардероба, еще недавно всесильного герцога. Узнав, что тому поручено позаботиться об имуществе Лестерского замка, он предоставил в распоряжение посланца всех лошадей. Однако капитул монастыря, куда направились затем телеги с добром, наотрез отказался открыть ворота.
— Поворачивай оглобли! — крикнул в смотровое окошко сторож. — Аббат никого не велел пускать. Общины ненавидят твоего хозяина пуще дьявола. Мы не хотим, чтобы из-за него сгорела обитель.
Жаркие головни, искры, взлетевшие под обрушенной балкой…
Ожесточенно и упорно боролся Сент-Олбанс, куда вернулся с королевской грамотой торжествующий Уильям Грайндкоб, опередив герольда с письмом о гибели Уота Тайлера.
Война между городом и аббатством, то вспыхивая, то затухая, тянулась не менее сотни лет. Трижды сент-олбансцы брались за оружие, но каждый раз терпели поражение. Они писали жалобы, обращались с протестами в суд, но и тут решение выносилось в пользу аббата. Несправедливость смеялась над правом, ложь глумилась над истиной. Другие города давно имели привилегии, в которых упорно отказывали Сент-Олбансу: собственный муниципалитет, свободу торговли и, конечно же, патент на общинные угодья. А ведь была такая бумага! Пусть Генриха Первого. Нашлись старики, упомнившие даже расписанные ляпис-лазурью и золотом буквицы.
Получив открытый лист от самого короля, горожане вновь обложили гнездо тирании, горя нетерпением отомстить за все обиды. Первым делом они спустили пруд и выловили оттуда жирных карасей, щук и раков, затем перебили дичь в заповедниках, сломали изгороди, вырубили межевые посадки. В течение считанных часов были уничтожены все символы грабительских притязаний, а беззаконно распаханная земля возвращена общине.
Затем несколько дюжих молодцов, направляемых булочником Уильямом Кединдоном, вооружились толстенным бревном и принялись мерно долбить ворота. Первыми не выдержали замшелые каменные столбы. Обрушившись, они увлекли за собой и непробиваемые дубовые щиты, и тяжелый венец с изображением мученика Олбана, принявшего последние молитвы канцлера Седбери.
Ворвавшись в клуатр, где уютно журчал фонтанчик, также позеленевший от времени, повстанцы разбежались по галереям, ища трапезную. Но тут подоспел Грайндкоб и указал дверь, ведущую в выложенный отнятыми у дедов мельничными жерновами рефекторий. Попадав на колени, люди принялись целовать вмурованные в пол ноздреватые камни. Из всех притеснений самым обидным было именно это. Платить монастырскому мельнику за каждый помол казалось особенно унизительным.
Мельница находилась на подсобном дворе, окруженном стеной и отделенном от внутренней площади. Там же располагались и прочие службы: мастерские, амбары, конюшни.
Проникнуть туда удалось через примыкающее к трапезной помещение, где обычно жарилось мясо. Горожане разобрали мельничные механизмы и побросали их в тину, пузырящуюся на дне спущенного пруда. Совершив символический акт возмездия, они взяли кузнечный молот и принялись расколачивать дедовские жернова. Когда не осталось ни единого целого круга, каждый отколупнул по кусочку и благоговейно спрятал за пазуху.
Покончив давние счеты, сент-олбансцы, к которым вскоре присоединились и жители Барнета, всем скопом навалились на ворота тюрьмы. Заключенных, кроме одного — известного всему городу разбойника-душегуба, освободили. Не желая осквернять стены обители, преступника вывели за ворота и положили головой на бревно. Сам святой Олбан подавал пример, как поступать в таких случаях.
Когда аббатство, включая госпиталь и помещение для раздачи милостыни, уже находилось в руках восставших, появился аббат де Лa Мар, высокий, прямой старик с изможденным и хищным лицом фанатика.
— Зачем я вам нужен? — спросил он, озирая заполненный возбужденными горожанами клуатр. — Если вы пришли разорять — разоряйте, хотите грабить — я не чиню препятствий.
Вперед вышел именитый купец Ричард Уоллингфорд, которому Грайндкоб вручил привезенный патент.
— Перед тобой не грабители с большой дороги, эминенция, а честные граждане и верные подданные, — заявил он с достоинством. — Давай договоримся по справедливости, ибо мы не желаем войны.
— По справедливости! — размахивая георгиевскими знаменами, поддержали сент-олбансцы. — Верни нам наши права!
— Как я могу возвратить то, чего не было? — упорствовал настоятель, хотя понимал, что играет с огнем. — Вы самовольно присвоили не принадлежащие вам угодья и привилегии. Это большой грех, прихожане. От него адской серой попахивает!
— Не надо пугать нас, святой отец! — не выдержал Грайндкоб. — Лучше уступи добром. Ведь с народом шутки плохи!
Де Ла Мар, осведомленный об участи примаса Седбери и магистра Хелза, внутренне содрогнулся, но не подал виду.
— С тобой, щенок, я вообще не разговариваю! Пригрел на груди змею…
— Прочти, эминенция, — Уоллингфорд развернул перед настоятелем патент. — От имени короля мы требуем возвратить хранящиеся в монастыре документы.
— О каких документах ты спрашиваешь? Я уже устал твердить, что никакой грамоты короля Оффы у нас нет. Мы вообще знать не знаем языческих конунгов.[105] Вы бы еще вспомнили, что было до рождества Христова!
— Тогда верни грамоту доброго короля Генриха, утверждающую за общиной Сент-Олбанса права на поля, пастбище, лес и рыбную ловлю.
— Пойдем в церковь, поговорим. — Не глядя на окруживших его горожан, аббат направился к романской базилике. — Недостойно мне вот так стоять перед вами, — бросил он на ходу.
— Пусть будет по-твоему, — согласился Уоллингфорд. — Побудьте здесь, братья.
Переговоры продолжались в ризнице с глазу на глаз.
— Ты разумный человек, Ричард Уоллингфорд, — сказал настоятель, — и, вижу, не хочешь зла. Но рассуди сам, как я могу пойти навстречу явному беззаконию?
— Разве ты не видел подписи короля, эминенция?
— Подпись я видел, но это ничего не меняет. Требования сент-олбансцев, этих овец заблудших, не-за-кон-ны! — протянул Лa Мар. — Против них свидетельствуют хранящиеся в Вестминстере протоколы процесса, который ваши нечестивые отцы вели с монастырем. Постановление суда можно оспорить только в судебном порядке.
— Твои ссылки на закон и судебные постановления излишни. Власть перешла к общинам, и прежние законы потеряли значение. Вместо того чтобы цепляться за букву, советую тебе взглянуть людям в лицо. Они готовы на все, и Уот Тайлер обещал прислать им подмогу. Не бери на душу греха, эминенция.
Последний аргумент сломил стойкое сопротивление старца. Вождь был мертв и убит, но жило его грозное имя.
— Господь с тобой, Дик Уоллингфорд, — раздувая ноздри орлиного носа, прошипел Ла Мар. — Мы дадим вам новые грамоты, потому что прежних нет и в помине. Ты сам продиктуешь писцу ваши требования.
— Этого мало, эминенция. Народ требует документы и книги, принадлежащие архидиакону и викарию церкви святого Петра. Среди них должна быть и грамота короля Генриха, писанная золотом и лазурью.
— Такой грамоты нет. — Седой упрямец обреченно махнул рукой. — Впрочем, я поищу и, если найду, выдам после обеда.
— Но долговые расписки и прочие обязательства тебе лучше отдать сейчас, иначе я не поручусь за библиотеку.
Выйдя из церкви, Уоллингфорд сообщил ожидавшим о результатах переговоров. Все возвратились в город, чтобы сжечь кабальные пергаменты на площади возле креста.
После полудня народ вернулся к монастырским стенам. Под диктовку Уоллингфорда писец изготовил грамоту вольностей, которую скрепили затем личной печаткой аббата и буллой[106] монастыря.
Однако народ не успокоился, продолжая требовать возвращения патента с лазурью и золотом. В противном случае угрожали поджечь монастырь.
— Я искал ваши бумаги, но не смог ничего найти! Клянусь господом богом! — Аббат истово перекрестился. — Если это так важно для вас, то давайте сделаем копию. Вы сами можете перечислить ваши вольности, а я помечу их временем короля Генриха и тогдашнего нашего настоятеля… Ну, что еще мыслимо предложить?
— Не надо нам копий, — выступил согбенный старец, бережно ведомый Грайндкобом. — Возврати нашу, писанную лазурью и золотом, о которой рассказывал мой отец!
— Вот и отправляйся к нему, старый дурак! — взорвался Лa Мар. — Может быть, он скажет тебе, где видел эту проклятую грамоту!
Толпа угрожающе заволновалась. Уоллингфорду с трудом удалось восстановить спокойствие. После мучительных препирательств было заключено перемирие до следующего утра. Сошлись на том, что, коли грамота не отыщется, ее поисками займутся сами горожане.
Разрушив усадьбы наиболее ненавистных служителей монастыря-спрута, сент-олбансцы разошлись по домам. Вокруг аббатства были выставлены усиленные караулы. Под страхом немедленной смерти воспрещались всякие входы-выходы. Об этом было оповещено на перекрестках при развернутом знамени со львами и лилиями.
Мятежный город и растревоженная обитель погрузились в сон, погасив огни. Среди тех, кто не спал в ту ночь, был инок Томас Уолсингем, ведший строгий учет «деяний» аббатов монастыря святого Олбана. Список «деяний» благополучно дошел до потомков.
На другой день прибыл королевский герольд. Скоро уже весь город знал, что Тайлер убит, а вокруг короля собираются отряды карателей. В сумке курьера-рыцаря лежала и грамота Ричарда, помеченная пятнадцатым днем июня. В ней король просил подданных Хартфордского графства и всех соседних общин не причинять ущерба сент-олбанскому аббату, монахам и монастырю, обещая заставить оного настоятеля дать удовлетворение всякому, кто чувствует себя обиженным и притесненным.
Еще не проросла маками кровь на Смитфилдском поле, и король пока лишь просил.
Огорченные грустным известием, повстанцы посовещались и решили стоять до конца. Скорбя об убитом, они не ожидали для себя никаких особых невзгод. Разве король и право были не на их стороне? Впрочем, просьба его милости несколько поубавила пыл. О разгроме обители уже не было речи.
Глава тридцать шестая Пир победителей
О люди, гнуснейшие и ненавистнейшие на земле и на море, вы, недостойные жизни по сравнению с лордами, на которых вы напали, — вы достойны жесточайшей смертной казни, и вас казнили бы, если бы вы не были послами. Идите к своим товарищам и отнесите им ответ короля. Вы были крепостными и останетесь ими, вы останетесь в крепостном состоянии, но еще несравненно худшем и более тяжком. Пока мы живем и с божьей помощью правим нашим королевством, мы постараемся всеми силами, способами и возможностями примерно наказать вас, так, чтобы наследники вашего рабства имели вас перед глазами, как зеркало, и чтобы вы были для них постоянным предметом и проклятий и страха, и чтобы они боялись поступать так, как вы.
Ответ Ричарда Второго гражданам ЭссексаСильные мира сего не забывают услуг, особенно оказанных в трудную пору. Они платят неблагодарностью за пережитый страх и унижение. Положение Солсбери незаметным образом пошатнулось. Новые фавориты громогласно обвиняли его в том, что своими действиями он подверг особу короля неоправданному риску. Призывы эрла проявить дальновидность и не дразнить народ чрезмерно крутыми мерами не встречали должного понимания. Королева-опекунша и оба дяди выдвигали на ключевые посты своих конфидентов. Единственное, что успел сделать Солсбери, перед тем как окончательно утратить влияние на государственные дела, — это свалить Ричарда Арондела. Временный хранитель печати так и не получил вожделенное канцлерское кресло. Не преуспел в своих чаяниях и Томас Арондел, замахнувшийся на архиепископскую митру. На высшие посты выдвигались большей частью фигуры малоизвестные, а то и вовсе ничтожные. Самостоятельность, ум, глубина и оригинальность суждений оказались решительно не ко двору. Зато на все лады превозносилось усердие и восхвалявшая себя самое безудержная преданность.
Уильям Уолуорс, перехвативший лавры Солсбери, пребывал в большом фаворе. Поставленный во главе чрезвычайного трибунала, который уже с понедельника начал заседать в Гилдхолле, лорд-мэр не затруднял себя излишней судебной процедурой. Смертные приговоры сыпались как из рога изобилия. Палач в Чипсайде едва справлялся с работой. На плаху укладывали сразу по три, по четыре головы. То и дело приходилось менять изрубленное чуть ли не в щепки бревно. Впрочем, приговоренные к топору еще могли поздравить себя с удачей. Других ожидала смерть мучительная и медленная: кого подымали на дыбу или разрывали на части, а кому выпадали и оба ужасных жребия. Особенно усердствовали по части типично английской «квалифицированной» экзекуции, когда поочередно отсекают члены и сжигают внутренности.
Чудовищное колесо наращивало свои обороты. Вырвались наружу зверские инстинкты, ширился бред доносов и оговоров. Человека могли схватить на улице и вздернуть на первой попавшейся балке только за то, что он похож на крестьянина. Город захлестнула сладострастная спазма мести. Семьи фламандцев, павших под ножами ночных погромщиков, получили высочайшее дозволение собственными руками карать убийц. Безутешные вдовы и матери сплошь и рядом приводили в исполнение скоропалительный приговор.
— Vlaenderland tot eewig heid![107] — встречала улица каждую голову.
Золотой лев Брабанта плотоядно извивался на черном полотнище, а черный фландрский лев терзал золотую парчу.
Случалось, что под горячую руку попадали совершенно посторонние лица, платя за чужие грехи позором и мукой. Разбираться было некогда, оправданий не слушали, все быстрее вертелось кровавое колесо. Многие стали ожесточаться, отмечает свидетель, и опять возвращаться к заговорам, стали собираться в лесных чащах, и их сходки все увеличивались вновь прибывавшими, ибо они не видели иного средства избежать лютой смерти. Поэтому предпочли собрать свои силы и мужественно погибнуть от мечей своих преследователей, вместо того чтобы подставлять шею рабству под игом жадных сборщиков или кончить жизнь в петле на виселице.
Эрла Солсбери не столько огорчала опала, сколько всеобщее помрачение, чреватое окончательным крахом.
В угаре кровавого пира вознесенные к власти безродные временщики совершенно утратили чувство реальности. Лондон еще наводнен тайными пособниками повстанцев, положение в графствах отчаянное, а эти выскочки уже вообразили себя полными хозяевами и тешат низменные душонки людоедской забавой.
Вакханалия зверств беспокоила проницательнейшего из дипломатов отнюдь не по причинам морально-этического характера. Сему понятию суждено было появиться лет эдак через пятьсот. Морали Солсбери не касался, а вот несвоевременность широких карательных мер представлялась ему вполне очевидной. До полного умиротворения королевства не стоило поспешать с мелочной местью.
Свою точку зрения эрл изложил на Королевском совете, который собрался в Круглой зале Виндзора.
— Наконец, милорды, — он закончил речь изысканным жестом, — кто-то должен трудиться и в наших манорах, весьма пострадавших от смут, рожать детей и платить налоги. Работников и без того не хватает.
И вновь, как тогда, накануне событий, пэры не вняли самым очевидным доводам. Верх взяли сторонники «твердой руки», учуявшие настроение принцев.
Примас Куртней, получивший Кентерберийский диоцез за успешное сватовство, выразил мнение большинства:
— Сперва надлежит навести порядок. Пусть на собственной шкуре почувствуют, что значит бунтовать. Отвыкли бояться, вот и ослушничают, лодырничают. Придется учить.
Его горячо поддержал Бекингэм, а вслед за ним и новый канцлер Ричард ле Скроп, уже греющийся в лучах собственного величия, и новый лорд-казначей сэр Гугон Сигрейв, и главный барон казначейства Роберт Плессингтон, и хранитель тайной печати Джон Фордхем.
На все лады склоняли: вешать, рубить, карать.
— Все грамоты нужно немедленно аннулировать! — Сэр Уильям Уолуорс даже стукнул кулаком по столу. — И обложить еще большим налогом. Пусть расплачиваются за безобразия.
— Хотели свободу, получат рабство, — внес свою лепту Эдмунд Ленгли. — Они еще не раз поплачут, вспоминая прежние деньки.
— Я нахожу, что все сказанное здесь справедливо, милорды, — Ричард уже не лез за словом в карман, хотя собственного мнения по-прежнему не имел. Прислушивался к тому, что скажут другие.
На выручку Солсбери нежданно пришла военная сила. Коннетабль Нолз, которому были подчинены все стекавшиеся к столице отряды, мог позволить себе выразить суждение:
— Карать, конечно, надо, но только зачинщиков. Это послужит добрым уроком. Зато к мелкой рыбешке уместно проявить снисхождение. Пусть лучше работают на нас, чем слоняются по лесам. У нас и без того достаточно хлопот. Зачем нагнетать страсти?
— Шерифам и коронерам придется как следует постараться, чтобы выловить главарей, — славировал Бекингэм, менее всего желавший усиления позиций Гилдхолла. — Тут нужен тонкий подход. Рубить головы — дело нехитрое. Прежде чем казнить, не мешает немножко пощекотать пятки. Смерть еще следует заслужить. Пусть сперва назовут соучастников.
— А я о чем толкую? — оживился Солсбери. — В то время как верхушка ушла в глубину, мы довольствуемся именно мелкой рыбешкой. Где Болл, милорды? Шерли? Ужасный капеллан Роу, на котором кровь Кавендиша и Джона Кембриджского?
— Роу обвиняется в тягчайших преступлениях, ваша милость, — эрл Уорик обратился непосредственно к королю. — Но я возьму на себя смелость ходатайствовать за этого человека. Он раскаялся и горит желанием искупить свой грех. Его услуги могут оказаться чрезвычайно полезными.
— Всем, кто искренне готов помочь правосудию, должна быть обещана милость, — почувствовав наметившийся перелом, лорд Томас Перси решил примкнуть к коалиции «умеренных». Близкий по крови к царствующему дому, он сторонился нетитулованных выскочек.
— В силу различных обстоятельств к разбойникам присоединились люди, которых можно легко повернуть против вчерашних единомышленников, — поспешил докончить Уорик, с радостью сознавая, что настал его час. — Среди них мы видим именитых нотаблей и даже рыцарей. Торопливость в решении их судеб едва ли была бы уместна. Ведь в подавляющем большинстве они следовали за босоногими только из личной корысти. Томас де Корнуэрд, Роджер Бэкон, мальчишка Пол Солсбери — они нам еще пригодятся.
Прения продолжались до самой вечерни, не принеся перевеса ни той, ни другой стороне. Единодушно прошло лишь предложение о введении предварительных пыток. Но в том, что усмирение графств было возложено на Бекингэма, Нолза, Уорика и Перси, эрл Солсбери усмотрел косвенное одобрение своей дальновидной линии.
Раскол в Королевском совете ровно на сутки отсрочил казнь Джека Строу, уже осужденного трибуналом Уолуорса. Мэр вернулся в Гилдхолл, зараженный новыми веяниями. Срочно отыскали палача и писца для допроса.
— В то время, когда мы собрались на Блекхизе и решили позвать к себе короля, намерения наши были таковы, — показал Строу после прижигания каленым железом. — Всех рыцарей, оруженосцев и остальных дворян, которые придут, мы решили немедленно умертвить. Самого же короля думали водить с собой, воздавая ему положенную почесть. Мы надеялись, что все, и особенно простой народ, смелее присоединятся к нашему движению, если увидят во главе зачинщиков его милость.
— И все твои сотоварищи разделяли этот чудовищный план? — выпытывал Уолуорс.
— Про других ничего сказать не могу, но сам я думал именно так, — отвечал Строу и твердо стоял на своем, рыдая от боли.
— Ради спасения твоей заблудшей души призываю тебя открыть нам всю правду. — Помня упрек Бекингэма, мэр из кожи лез, чтобы предстать перед советом в ореоле тонкого инквизитора. — Обещаю заказать столько панихид, сколько потребуется, чтобы вырвать тебя из когтей ада… Что вы намеревались делать потом?
— Нет надобности, да и не годится мне говорить ложь, когда адское пламя уже лижет пятки, — отвечал Строу. — А намеревались мы уничтожить всех сеньоров, которые посмели бы оказать нам сопротивление. Мы хотели стереть с лица земли госпитальеров и духовных владык, оставив в живых одних нищенствующих монахов, которых достаточно для совершения таинств.
— А как вы собирались поступить с королем?
— Мы думали сами избрать себе королей, чтобы каждое графство управлялось по желанию общин. Я сказал тебе все, да поможет мне бог на исходе жизни.
Джек Строу не назвал никого и лег на плаху, и его голова была выставлена на воротной башне.
Ко вторнику восемнадцатого июня правительство уже располагало достаточной мощью, чтобы ударить по мятежным графствам. Основные силы под командой самого короля были брошены на подавление Эссекса. В канун Иоанновой ночи Ричард вступил в Уолтем, где водрузил свое знамя.
Повстанцы, однако, и не помышляли о сдаче. Депутация горожан смело потребовала подтверждения пожалованных прав и вольностей. От имени короля ответ «гнуснейшим и ненавистнейшим на земле и на море» прочитал молодой граф Бомонт.
Оскорбленные эссексцы спешно принялись сооружать завалы и копать рвы. Переворачивались скованные цепью повозки, вколачивались заостренные бревна.
Тяжелой коннице Бекингэма и ополчению местных магнатов пришлось штурмом брать позиции, неся ощутимый урон. Потери повстанцев только одними убитыми составили до пятисот человек. Отступив в районе Колчестера и Хантингдона, они призвали на помощь окрестных крестьян и пошли на соединение с отрядом Джона Роу. Каково же было их отчаяние, когда в условленном месте они вместо братьев из отважного города Седбери встретили гостеприимные объятия Фиц-Уолтера и Харлестона.
Всех, кто не полег на поле битвы, повесили на опушке леса, принадлежащего эрлу Уорику.
В тот же день были задушены очаги сопротивления в Норфолке, Кембридже и Нортгемптоне. Молодой епископ нориджской епархии Генри Спенсер, надев латы, сам повел в бой завербованных по всему графству наемников. Захватив красильщика Листера, укрывшегося в жнивье, он приказал подвергнуть его тройной казни: повешению, обезглавливанию и четвертованию. Напутствуя в жизнь вечную, кроткий пастырь был настолько предупредителен, что поддержал голову осужденного, когда того волокли к виселице. Части разрубленного тела были потом выставлены в назидание «нарушителям королевского мира» в Нориче, Ярмуте, Линне и Фелмингеме.
Повстанцев, искавших спасения в церкви, Спенсер приказывал убивать прямо на месте.
— Босоногие удостоились чести, — шутил он потом, — которой вовсе не заслужили. Но не будем мелочными.
— Церковь не мстит, — одобрительно соглашался архиепископ Куртней.
По его представлению король подписал указ о назначении главным судьей королевства Роберта Трезилиана.
— Лучшей замены бедному Кавендишу и придумать трудно, — примас дал своему протеже лестную аттестацию. — Сэр Роберт — опытнейший юстициарий, муж змеиной мудрости и великого ума.
О деяниях мужа сего подробно повествует Найтон, каноник Лестерский, которого никак не заподозришь в симпатиях к бунтарям:
«Разъезжая повсюду, он никому не давал пощады и произвел великое кровопролитие… Ибо над всеми, кто был обвинен перед ним в вышесказанном деле, справедливо, или из неприязни, он немедленно произносил смертный приговор. Одних он приказал обезглавливать, других вешать, иных велел волочить через весь город, затем обезглавливать, четвертовать и вешать в четырех концах города, у иных же приказывал выпускать внутренности и сжигать их на глазах у них, пока они еще были живы, а затем четвертовать их и вешать в четырех частях города, воздавая каждому по заслугам его».
Люди занимались привычным делом, ели, спали, грешили, каялись. Под резцом ваятеля оживал камень. В соборе Глостера была закончена гробница Эдуарда Второго, в Вестминстере не утихал восхищенный шепот у саркофага Эдуарда Третьего. Гениальный зодчий свел арки средокрестия в Уэльской церкви. Изысканные стихи о небесной любви слагал Джон Гаузер, одинаково свободно владея французским, английским, латынью. В Оксфорде и Кембридже решались тончайшие проблемы гносеологии духа, а рядом творились немыслимые гнусности. И все это как-то уживалось под одним небом.
Мерзость палачей обнажает ничтожество власти. В памяти народа преступный король неотделим от злодея судьи.
Прибыв в сопровождении Трезилиана в Челмсфорд, Ричард подписал патент, в котором объявлял недействительными все ранее пожалованные грамоты и отказывался от обещаний, данных в Майл-Энде. Документ был размножен и направлен во все графства. Утратившие силу бумаги предлагалось под угрозой конфискации имущества немедленно представить в Королевский совет для уничтожения.
Днем позже последовал новый указ, где Ричард доводил до всеобщего сведения, что Джон, герцог Ланкастерский, которого вместе с другими верными подданными облыжно обвинили в измене королю и королевству, вовсе не повинен в этих преступлениях, а, напротив, всегда был и остается верным короне, являясь главным ревнителем королевской чести.
Обведенный вокруг пальца, Болинброк повез отцу добрые вести. Он так и не понял, что с эрой Гонта покончено навсегда и двор не желает его возвращения. Самое время было бросить черни подачку.
Для усмирения Сент-Олбанса Бекингэм намеревался послать Уорика, однако в самую последнюю минуту выяснилось, что беспорядки в собственных манорах высокородного эрла требуют его безотлагательного вмешательства. В самых изысканных выражениях Бошан Уорик дал понять королю, что своя рубашка ближе к телу, и увел лучшую часть войска.
Пришлось Ричарду самому идти походом на непокорный город. В хвосте обоза тащился и Трезилиан вместе со всей канцелярией и заплечных дел мастерами. Главный палач по прозвищу Джон Ой-Ой важно трусил на осле. За две недели «боев» он успел составить себе приличное состояние. Его счета казна оплачивала в первую очередь.
Уильям Грайндкоб, завлеченный обманом в ловушку, уже сидел в монастырской темнице и дожидался суда.
С судом, однако, не получалось. Трезилиан натолкнулся на неожиданные трудности, не сумев преодолеть сопротивления присяжных. Ни один из двенадцати не захотел поддержать обвинение.
— Мы не можем никого обвинить в этом городе и передать суду, — заявили они через своего старшину. — В нашей среде нет преступников. Все преданы королю.
Завязались сложные переговоры. Трезилиан никак не соглашался остаться без добычи. Сент-олбансцы, напротив, во что бы то ни стало стремились выручить Грайндкоба. Они умоляли его возвратить грамоты королю и аббату и тем самым спасти жизнь.
— Сограждане, — ответил он сердобольным парламентерам, — завоевав свободу, вы уничтожили бремя вековой тирании. Держитесь же твердо, насколько хватит сил. Пусть ожидающая меня участь вас не тревожит. Нельзя ослаблять мужество. Мне предстоит умереть за нашу свободу. И я почитаю за счастье стать мучеником. Считайте, что моя голова уже скатилась, и продолжайте действовать так, как вы действовали.
Депутация удалилась, обливаясь слезами, а Трезилиан принялся обрабатывать присяжных, которые не умели ни читать, ни писать. В конце концов он вырвал у них приговор обманом. Грайндкоб и вместе с ним пятнадцать видных повстанцев были повешены. Среди них находились Джон Цирюльник и Джон Каменщик. Согласно специальному повелению короля, тела их должны были оставаться на виселице до тех пор, «пока смогут висеть».
Когда король отбыл на несколько дней поохотиться в лесах Эстхемстеда, кто-то тайно снял и захоронил трупы. Но ревностный судья, дрожа от усердия и ненависти, истыкал вокруг всю землю и, обнаружив свежезасыпанные ямы, велел разрыть.
О том, что произошло дальше, пусть скажет Томас Уолсингем, летописец монастыря святого Олбана и верный прислужник властей. Тем ценнее его невольное признание:
«Этот приказ превратил вилланов Сент-Олбанса, которые все еще боролись за свое раскрепощение, в рабов, обреченных на самое унизительное и тягостное рабство. Не имея никого, кто сделал бы за них это дело, они вынуждены были сами, собственными руками, повесить опять своих сограждан на железных цепях; их разлагающиеся трупы, кишащие червями и гниющие, издавали самый отвратительный запах. И это грязное дело было по справедливости поручено тем, кто не заслужил звания горожан, так как своими поступками они навлекли на себя вечный укор, который не может быть устранен. И те, кто предпочел скрыть и исказить правду, не выдавая нам изменников, не напрасно были присуждены тащить их сами; и собаки шли за ними следом. Не заслужили они быть господами».
Только через полтора года по особому ходатайству молодой королевы Анны жителям Сент-Олбанса было разрешено устроить погребальный обряд.
Джон Ой-Ой не ошибся в своих надеждах на выгодную работу. Сэр Трезилиан не давал ему сидеть сложа руки.
Под сильной охраной в Сент-Олбанс был привезен Джон Болл, арестованный в Ковентри. Неистовый пресвитер вел себя с поразительной стойкостью и благородством. Отказавшись отвечать на дальнейшие вопросы, всю вину за восстание он принял на себя:
— Больше мне нечего вам сказать. Я ни о чем не жалею, ни в чем не раскаиваюсь, ни от чего не отрекаюсь. Я и сейчас глубоко верю в святое дело Правды и не отказываюсь ни от единого слова. Все, что я писал и говорил, к чему призывал народ, — истина.
Суд приговорил его к «квалифицированной» казни. В надежде вырвать у осужденного хотя бы нотку раскаяния примас отсрочил исполнение приговора на два дня, но ровным счетом ничего не добился.
Пятнадцатого июля Джон Болл с дерзкой улыбкой поднялся на эшафот. Его разрубленные останки были разосланы во все четыре конца Английского королевства.
Спустя всего лишь день был выслежен по доносу предателя Роу и Джон Шерли. Его взяли в кембриджской харчевне, где он вел рассказ о мужестве и чистосердечии великих вождей — Джона Правдивого и Джека Возчика.
— Наше дело не пропало! — выкрикнул он на прощание.
Доставленный в Сент-Олбанс в цепях, он явил на суде образец чести и верности. И умер так же мужественно, как Болл.
Из всех руководителей восстания один Роу запятнал себя изменой. Представ перед судом, он сделал неуклюжую попытку свалить все грехи на мертвых героев. Вопреки данным ему обещаниям и охранной грамоте короля, суд приговорил капеллана Джона Роу к смерти.
Прошел почти целый год, прежде чем приговор был приведен в исполнение. Он отличался мягкостью. Роу всего лишь повесили.
Умиротворение продолжалось. Темза выносила в море раздувшиеся трупы.
Глава тридцать седьмая Прощание
Поэт: Время свершало свой цикл, на четыре деленья разбитый. Зазеленела земля, нарядившись в пестреющий пеплум. Спорят с гирляндами роз цветы млечно-белой лилеи. Роза ж раскрыла уста пурпурные с речью такою. Роза Пурпур — царство дает, и в пурпуре — царская слава; Белый же цвет нелюбим королями и весьма непригляден. Бледность на скорбном лице есть верный знак увяданья, Цвет же багряный всегда почитался во всей поднебесной. Лилия: Любит меня Аполлон, земли златокудрое диво: Он изукрасил лицо мое чистотой белоснежной. Что же блистаешь ты так, багрянцем стыда залитая, В тайном сознаньи вины? От нее ль твои щеки зарделись? Седулий Скотт. Словопрение Розы и ЛилииХронос, зажав под мышку косу, вращает свое колесо. Спят и розы, и лилии на куртинах Виндзора. Сонно перешептываются оцепенелые корни. Запеленала могилки вьюга, и ржавую кровь отбелили снега. Но и во сне вершится безостановочное движение. Дышит истерзанная земля, движутся соки, замороженные почки копят желчную горечь. Зачем опять растет трава? Спеши спросить: зачем мы жили? Зачем страдали и любили, шепча неверные слова? Не хочется начинать все сначала, и ничего не ждешь впереди. Опять весна, опять надежда. А вот запахло перезимовавшей травой, и подхватила пестрая карусель. Дрожит на зеленой проталинке мохнатенький беззащитный подснежник.
Боль затянувшихся ран, сомнение, томление, обман. Озноб и тревога. И старость стоит у порога, и тлением несет от земли. Противится, тоскует душа, но уже летит в общем цикле рядом с вылупившимся подснежником.
Джеффри Чосер заночевал в Саусуарке у Гарри Бейли. Припозднились за кружкой эля, и не захотелось возвращаться домой. Постели в «Табарде» мягкие, конюшни теплые, и кормит старина Гарри доброй английской едой. Пропустив под киппера кварту лондонского, поэт с удовольствием похлебал горячей овсянки, а затем и за яичницу принялся с беконом и маленькими колбасками. Ублаготворенный и бодрый, он шагнул за порог и чуть не ослеп от горячего света. За ночь все волшебно переменилось в природе. Святая Бригита, чей праздник приходится на первое февраля, и впрямь принесла весну. Опустила в море белую руку, и сразу дохнуло теплом.
Молчаливый звон, сумасшедший запах, ласковое сияние. Девушки в белых накидках уже несут ячменный сноп, обряженный в женскую котту. Распущенные косы, в глазах весенний хмель, но обернется золою коварное золото фей. Смеются бесовки, прыгают, вертятся, и стеклянное сердце у куклы горит. Заботливо убрали они свою Бригиту морскими ракушками, подснежниками да первоцветом. Даже венчик ей подарили из коралловых ягод рябины. Рдеет на белом, прожигает насквозь.
Значит, завтра день свечей. Если он окажется таким же теплым и солнечным, то зима еще возвратится.
Чосер попытался припомнить, как было в прошлом году. Кажется, именно в день свечей задул ветер с Канала и принес дожди, которые лили до самого Валентинова праздника. Снег потом так и не выпал, и больших холодов не было.
Жаркое лето, промозглая осень, тяжелый год.
Все деньги уходили на проценты ростовщикам и наряды Филиппы. Долги росли, а силы таяли. Вместо того чтобы наслаждаться игрой воображения, поэт чах у себя на таможне либо бегал по Лондону в поисках случайного заработка.
С отъездом Ланкастера дела пошли совсем худо. Примас Куртней вновь начал подкапываться под Уиклифа, а заодно при каждом удобном случае поминал писателей, чьи еретические измышления растлевают души. Хоть имя при этом не называлось, каждому было ясно, на чье поле падают камешки. Травля подрывала кредит, таможенное начальство смотрело косо. В довершение невзгод Эдмунд Йорк и Томас Бекингэм демонстративно закрыли перед четой Чосер свои двери.
От полного краха спасали только милости старой королевы, перепадавшие изредка по старой памяти. Случая приблизиться к Ричарду все не находилось. Просить, как другие, Чосер так и не научился, а пробиваться не умел. Трон осаждала молодая, жадная до званий и должностей свора. Как рыцарь он был слишком ничтожен, как поэт непозволительно горд и раним. О его заслугах на дипломатическом поприще и думать забыли. У всех на устах был волшебник Куртней, одним мановением разрешивший все заботы королевской семьи. Подготовка к бракосочетанию шла полным ходом, а папа Урбан свободно торговал своими индульгенциями. И никого не волновало, что нищает разоренная страна, и все забыли про графа фландрского, который готов отворить ворота врагу. Превосходная дипломатия.
Ожидаемый въезд в страну дочери императора Карла и свадебные торжества давали желанный повод напомнить о себе. Отодвинув еще дальше в грядущее манящие радужным переливом замыслы, Чосер решил поднести молодой королеве поэму, полную изысканных недосказанностей и остроумной игры. Нечто вроде чарующего «Романа о Розе», но выполненного на современный лад, легко и непринужденно. Тут будет все: провансальская куртуазия и добротный британский юмор, свободное дыхание, утонченная духовность и соленая шутка.
Сразу и название родилось: «Птичий парламент».
Анна Богемская желала въехать в замиренную страну. Ей грезились увитые розами арки с целующимися голубками, а не виселицы, окруженные вороньем.
По просьбе общин и письменному ходатайству невесты Ричард решил даровать прощение всем участникам прискорбных событий. Королевской амнистии не подлежали, однако, жители наиболее упорных городов, как-то: Кентербери, Эдмундсбери, Биверли, Скарборо, Бриджуотер и Кембридж. Не касалась она и отдельных лиц, перечисленных в особом списке зачинщиков, насчитывающем двести восемьдесят семь имен.
Все, получившие прощение и желающие им воспользоваться, приглашались в королевскую курию, куда следовало явиться не позднее праздника пятидесятницы. После уплаты пошлины за приложение большой королевской печати помилованным вручалась соответствующая грамота.
И впрямь время свершало свой цикл, на четыре деления разбитый. С пятидесятницы началось, пятидесятницей и заканчивалось. Тогда надеялись собрать подушную подать, теперь норовят содрать пошлину.
Но меняется многое, ибо закон перемен стоит над всем — венцами, царствами и самой природой.
Ричард обещал ненавистным на земле и на море еще худшее рабство, но не в его власти было исполнить угрозу. Слаба и непрочна была эта власть. Упоение кровавым пиршеством слишком скоро сменилось вновь пробудившимся страхом. Ощущая растущее сопротивление непокорной стихии, правительство осознавало свое полнейшее бессилие справиться с положением. О возвращении к рабству и мечтать было нечего. Тяжкие жернова времени крутились в одну сторону. Не было в мире силы, которая могла бы хоть на мгновение приостановить это вселенское круговращение, где слиты воедино и созидание, и гибель.
Крутилась мельница, поставленная Джеком Возчиком. Чьи-то новые руки переписывали старые письма.
Трезилиана и прочих кровохлебов пришлось сплавить куда-нибудь подальше. В королевской курии не хватало бумаги для амнистированных. Розыск зачинщиков спустили на тормозах. Судебная процедура производилась только через присяжных.
Отметив необходимость предпринятых против бунтовщиков суровых мер, парламент недвусмысленно осудил карательные расправы, которые совершались без соблюдения принятой процедуры, вопреки законам и обычаям страны.
Именно это, а не желание поскорее заключить в объятия влтавскую голубицу подтолкнуло Ричарда на столь широкую, отнюдь не в духе эпохи амнистию. Направлял короля воспрянувший духом Солсбери, чьи звезды снова переменились. Он и написал речь, которую прилежный воспитанник произнес на парламентской сессии.
— Принимая во внимание великое усердие и лояльность, проявленные верными подданными нашими — сеньорами и джентльменами, а также желая оказать им милость, которую они так заслужили, мы даруем всем, с согласия сеньоров и общин в этом парламенте, прощение, поскольку это касается нас и преемников наших.
Сказано было тяжеловесно, но убедительно. Восторг парламентариев не поддавался описанию, что и зафиксировали, в том же старомодном стиле, хронисты.
Долгожданный мир наступил, французы и шотландцы вели себя пристойно, Злата Прага готовила невесту к венцу.
В ожидании предстоящих торжеств двор счастливо затаил дыхание. О том, что было и милостью неба прошло, не хотелось даже вспоминать.
Джеффри Чосер отложил разработку манящей темы и принялся за стихи.
Они возникли легко, как дыхание.
Через меня проникнешь в дивный сад, Дарящий ранам сердца исцеленье; Через меня придешь к ключу услад, Где юный май цветет, не зная тленья, И где полны веселья приключенья. Читатель мой, заботы все забудь И радостно вступи на этот путь.Лично для себя он уже давно не ждал особых радостей. Так, влачил привычное существование, стараясь не выскользнуть из заведенного круга. Вопреки мрачным предчувствиям, жить оставалось долго.
Впереди были еще большие невзгоды, опала, унизительная должность смотрителя сточных канав и в конце мытарств — надгробная плита в южном трансепте Вестминстерского собора. Он удостоился этой чести не как величайший поэт, а всего лишь по должности, ибо закончил свой век скромным служащим при аббатстве.
Совсем не надолго он пережил Гонта и Ричарда Второго, а его гонитель Эдмунд, ставший герцогом Йоркским, сошел под вечные своды почти сразу за ним.
Перед наступлением нового столетия с особой спешкой расчищалась вечная сцена.
Но слава и здесь восторжествовала над смертью.
Уота Тайлера судьба обделила даже могилой. Зеленым флагом накрыла солдата земля, отметив жгучей маковой россыпью тайное место.
Лондон — Париж — Рим — Мадрид — Прага — Москва 1979–1986 годыПримечания
1
Написано, волы орали, и ослицы паслись подле них. Ибо дело избранных проповедовать, а простых — в молчании питаться, слушая святые слова. Сколько камней вы в наши дни бросаете в груду Меркурия (лат.).
(обратно)2
Английское название Ла-Манша.
(обратно)3
Шуточное искажение термина «астрономия».
(обратно)4
Алхимические сосуды.
(обратно)5
Публичный дом.
(обратно)6
Средневековая книга о животных.
(обратно)7
Сборник обычного права салических франков, записанный в VI веке.
(обратно)8
«От короля, моего прародителя, получил я кровь, имя и лилии» (лат.)
(обратно)9
Битвы, закончившиеся победой англичан.
(обратно)10
Монеты в 6 или 7 шиллингов, 20 шиллингов составляли фунт, шиллинг — 12 пенсов
(обратно)11
Здесь — оруженосец
(обратно)12
Антифеодальное восстание во Франции в 1358 году.
(обратно)13
Эти перья и девиз по сей день украшают герб принца Уэльского — наследника английского престола.
(обратно)14
Главнокомандующий (франц.).
(обратно)15
Легковооруженные ирландские воины.
(обратно)16
На святого Мартена открывай свое вино (франц.).
(обратно)17
Владелец замка (франц.).
(обратно)18
Благородный человек, дворянин (франц.).
(обратно)19
Когда Адам копал землю, а Ева пряла, кто был дворянином (староангл.).
(обратно)20
Монах.
(обратно)21
Башня и лев — геральдические знаки королевства Кастилии и Леона
(обратно)22
Римский поэт.
(обратно)23
Божья матерь! Будь проклята эта ночь (исп.)
(обратно)24
Буквально, «увеличивая», «в темпе» (итал.).
(обратно)25
Средневековое поместье
(обратно)26
Три грота составляли один старый шиллинг и являлись почти недельной оплатой мастерового
(обратно)27
Распространенный жанр латинской поэзии.
(обратно)28
Помещение для писцов
(обратно)29
Государственное казначейство
(обратно)30
Самая мелкая монета
(обратно)31
Приставы гражданского суда
(обратно)32
Народ (грен.).
(обратно)33
Владелец соки (свободной земли)
(обратно)34
Земельный надел от 16 до 20 акров
(обратно)35
Согласно королевскому ордонансу от 1305 года, к «дубинщикам» следовало относить любых «нарушителей закона»
(обратно)36
Члены городского самоуправления
(обратно)37
Виды феодальной повинности
(обратно)38
Я играю на виоле, я умею играть на свирели и флейте, на арфе и волынке, на скрипке, тамбурине, на лире и на роте
(обратно)39
«Моя вина, моя величайшая вина» (лат.).
(обратно)40
Неблагоприятное влияние планеты.
(обратно)41
В то время геральдическое одеяние с гербом и цветами сеньора.
(обратно)42
Титул, соответствующий графскому.
(обратно)43
Следовательно (лат.).
(обратно)44
Почтительное обращение к епископу римско-католической церкви.
(обратно)45
Монах одного из католических орденов.
(обратно)46
Епархия, епископальный круг.
(обратно)47
Указал нам досточтимый отец — начало формулы, произносимой при заточении отлученного от церкви (лат.).
(обратно)48
По вычислениям самого Чосера, солнце выходило из созвездия Овна во второй половине апреля.
(обратно)49
Безрукавка, которую надевали поверх шерстяной облегающей рубахи — котты.
(обратно)50
До полудня (лат.).
(обратно)51
Отсутствующий не будет наследником (лат.). В данном случае в смысле: опоздавший ничего не получает.
(обратно)52
«О власти божественной» (лат.).
(обратно)53
Господин (от латинского dominus).
(обратно)54
Лично-зависимым крестьянам.
(обратно)55
Непотизм — покровительство родственникам, непотам-племянникам
(обратно)56
В то время резиденция влиятельного лица.
(обратно)57
Судебные следователи.
(обратно)58
Жрецы древних кельтов.
(обратно)59
В 1376 году последний при Эдуарде Третьем так называемый Добрый парламент утвердил «Билль о рабочих».
(обратно)60
Tegular — кровельщик, черепичник (англ.)
(обратно)61
Плата за наследование держания.
(обратно)62
Цирюльникам воспрещалось отворять больным кровь в новолуние, а также при соединении Луны с другой планетой в знаке Водолея.
(обратно)63
На средневековых картах запад располагался внизу. В центре находился Иерусалим.
(обратно)64
Ивовый венок на шесте обозначал пивную
(обратно)65
Копченая сельдь
(обратно)66
Суда викингов
(обратно)67
Вид мужских штанов.
(обратно)68
Лондонский магистрат.
(обратно)69
Южное предместье Лондона.
(обратно)70
Это будет восхитительно
(обратно)71
Судейская тога
(обратно)72
Малоземельные держатели.
(обратно)73
«О презрении к миру» (лат.).
(обратно)74
Антипапская партия в Италии.
(обратно)75
«Звезде своей доверься…»
(обратно)76
Клянусь Вакхом (итал.).
(обратно)77
Чесальщики шерсти и другие наемные работники мануфактур Флоренции, восставшие в 1378 году
(обратно)78
Помни о смерти (лат)
(обратно)79
Кельтские горцы, в данном случае шотландцы.
(обратно)80
Древнекитайская книга гаданий по иероглифам — гексаграммам.
(обратно)81
Вид скрипки.
(обратно)82
Начальные слова заупокойного гимна «День гнева» (лат.)
(обратно)83
Вы герой, мой дорогой (франц)
(обратно)84
Дорогой, уважаемый (англ)
(обратно)85
Превосходно, принц (франц.).
(обратно)86
Яно, Яно, Ваяно, прилетела голубка рано (чешек.).
(обратно)87
По древним поверьям, дух в образе мужчины.
(обратно)88
Защитный амулет.
(обратно)89
Временное соглашение.
(обратно)90
Рыцаря (англ.).
(обратно)91
День летнего солнцестояния (англ)
(обратно)92
Члены городского совета
(обратно)93
Циркуль
(обратно)94
Камердинер (англ.).
(обратно)95
Придворные и фрейлины (англ.).
(обратно)96
Императоров Византии.
(обратно)97
Мифический основатель алхимии.
(обратно)98
Хорошая погода в июне — изобилие зерна (франц.).
(обратно)99
Что говорит закон (лат.) — формула, открывающая судопроизводство.
(обратно)100
В английском языке изменник и предатель часто обозначаются одним словом — traitor.
(обратно)101
— Вы за кого?
— За короля Ричарда и верные общины (староангл.).
(обратно)102
Внутренний двор монастыря.
(обратно)103
Надгробное изображение Ричарда Второго в Вестминстерском соборе запечатлело короля уже зрелым бородатым мужчиной. Выполненное с посмертной маски, оно поражает портретным сходством. Особенно глаза, похожие на месяц в последней четверти, повернутый рожками вверх.
(обратно)104
Куколку.
(обратно)105
Племенные вожди у древних скандинавов (норманнов) Отсюда, вероятно, происходит английское «кинг» — король
(обратно)106
В данном случае большая висячая печать красного воска
(обратно)107
Да здравствует Фландрия во веки веков.
(обратно)

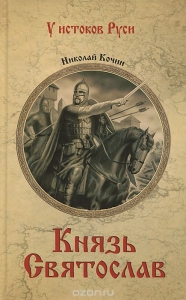
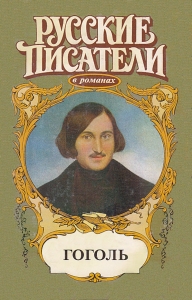



Комментарии к книге «Том 4: Под ливнем багряным», Еремей Иудович Парнов
Всего 0 комментариев